ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
I
Маленький городок был расположен в степи, и тому, кто, выйдя за околицу, вглядывался в марево дальних полей, в призраки отдаленных лесов, ползущих по горизонту, и в высокое бесстрастное небо, становилось ясно, что ничтожность кучки людей, живущих, страдающих и умирающих на земле, не красивая трагическая фраза, а простая и даже скудная правда.
Летом горячее солнце стояло над степью, зимой она одевалась холодным белым саваном, в жаркие ночи над нею вставали горы туч, и гром торжествующе прокатывался из конца в конец черного простора, но всегда она была одинаково уныла, загадочна и чужда человеку.
Когда подымался ветер, в степи вставала мелкая сухая пыль и мертвым полчищем серых призраков неустанно шла на город. Она бесшумно садилась на крыши и окна домов, ложилась на стоячие воды реки, покрывала весь город мягким безвольным налетом, и тогда он казался таким же старым и ветхим, как мир. Все было в нем однообразно и убою, как кучка праха, не развеянного ветром.
Именно в таком сером городишке прежде, чем среди зеленых дерев, розовых гор, синих морей и великолепных зданий, могла зародиться мысль, впоследствии вышедшая в мир и пронесшаяся по лицу земли, как бледный зловещий призрак смерти.
Скала, брошенная в море, исчезает бесследно, но маленький камешек на поверхности стоячего пруда далеко разгоняет неизбежные круги. И то, что каждый день незаметно свершается в грохоте большой жизни, здесь до дна всколыхнуло души и поколебало многие умы.
Позже искали и нашли причину в лице некоего Наумова, нового инженера на заводе местного богача Арбузова. Возможно, тень этого сумрачного человека легла на жизнь, и, действительно, в развитии событий, в их ускорении он играл большую роль. Но, глядя вокруг открытыми глазами, нельзя не видеть, что никакая человеческая воля не может ни на йоту прибавить, ни на йоту убавить того, что есть в жизни, что развивается из корня, вросшего в самую глубину земли, и что раньше или позже, так или иначе, должно привести к неизбежному концу.
В тишине обыденной жизни, в кропотливой суете вековечных укладов давно уже зрела эта странная и страшная катастрофа, но еще за три-четыре месяца до нее все казалось так обычно, и никто не сказал бы, что вокруг происходит иное, чем то, что было вчера. Городок изнывал от жары, тихо, мертво и скучно шла обычная жизнь.
Безнадежно и озлобленно скучал и маленький студент Чиж, торопливо бежавший с одного урока на другой.
Старый белый картуз с выцветшим синим околышем по самые уши сидел на его остром черепе, под которым неустанно суетились мысли. Вот уже два года, как, высланный из большого города, он застрял в этом городишке, без всякой надежды когда-нибудь выбраться, и потому ненавидел его всеми силами души, до тоски, до боли. Где-то, рассыпая миллионы искр, стоня и грохоча в муках и восторгах, куется великая боевая, человеческая жизнь, а здесь, точно от начала веков, никто не слыхал громкого слова, не видел открытого живого лица. Не то они спят, не то притаились, не то и не живут вовсе, а так, просто копошатся, словно кучка червей, брошенная в пыль у края дороги.
Солнце стояло прямо над городом, и воздух дрожал от жары, струясь вдоль заборов зыбкой угарной дымкой. Жалкие скелеты акаций на пустынном бульваре беспомощно свесили свои костлявые ветки, и под ними, чуть живая, лежала их убогая высохшая тень. Почти все окна были закрыты от солнца ставнями, и чувствовалось, как томительно задыхаются за ними от зноя и скуки потные, вялые, не думающие, не чувствующие люди. Все как будто вымерло, и даже воробьи не чирикали. Чиж, обливаясь потом, бежал по бульвару и ругался:
— Черти зеленые!.. Надо же было выстроить город в таком проклятом месте… Другого угла не нашли, подумаешь!.. Кто их тащил сюда?.. Ведь есть же на свете и леса, и реки… так нет же, точно назло… Идиоты несчастные!
Злоба душила его, и хуже всего было то, что злоба была беспредметна. Чиж лучше кого-нибудь другого понимал сложную сеть необходимости, которая тащит человека и не в такую пустыню. Если бы его спросили, Чиж, не задумываясь, ответил бы, что и не в этом дело, что человек может жить везде, оставаясь человеком в самом широком и богатом смысле этого слова. Но что-то давило его, становясь между ним и солнцем, вместо будущего показывало какую-то серую пустоту и вызывало в нем постоянную нервную злость, источавшую яд на все окружающее.
С другого конца бульвара навстречу Чижу шел человек в форменной фуражке. До того пусто и мертво было кругом, что даже неприятным казалось живое человеческое лицо среди пустой обширной базарной площади, на которой неподвижно стояли красные кирпичные лавки и белые, точно добела раскаленные солнцем церкви с огромными замками на тяжелых, словно навеки запертых железных дверях.
Несмотря на близорукость, Чиж еще издали узнал знакомого казначейского чиновника Рыскова. Рысков шел медленно, как будто совершенно беззаботно и даже легкомысленно помахивая палочкой. Чиж поравнялся, равнодушно взглянул на желтое длинное лицо с лошадиными зубами и маленькими бесцветными глазками, приподнял картуз и побежал дальше. Рысков, помахивая палочкой, пошел в одну сторону, а Чиж еще больше заторопился в другую. Им нечего было сказать друг другу.
Если бы маленький студент внимательнее вгляделся бы в лицо Рыскова, он поразился бы его выражению: маленькие тусклые глазки казначейского чиновника смотрели неподвижно, но в них застыла напряженная, окаменевшая мысль. И размеренное движение его длинных ног, и неподвижность приподнятого лица были мертвы и жутки, как у автомата. Казалось, он идет и вечно будет идти, как заведенная машина, пока чужая воля не остановит его и не уберет с дороги, как никому не нужную, глупую заводную игрушку.
Но Чижу все надоело в этом проклятом городе. Ему казалось, что ничего здесь не может быть, кроме самой мирной обывательской пошлости. Притом он искренне презирал Рыскова, как презирал всех людей, живущих вне круга его убеждений. Лицо казначейского чиновника только вызвало у него новый прилив скучающей злости.
«Ведь вот, живет тоже!.. — с машинальным раздражением подумал Чиж, вытирая пот с побледневшего лба. — И поди, подумаешь, что великое дело делает!.. Целый день в поту, с мухами, пишет черт его знает что, сгибается перед казначеем, уважает старшего бухгалтера… Потом гуляет по бульвару с девицами, пока не осчастливит одну из них и не родит полдюжины новых казначейских чиновников и даже — о, счастье! — одного старшего бухгалтера… А кой ему черт этот старший бухгалтер?.. И как он не удавится, черт его знает…»
Чижу казалось, что он не выжил бы и трех дней такой жизни.
А озлобленные мысли стремительно бежали дальше, и сам Чиж почти не замечал их: «Хоть бы что-нибудь!.. Хоть бы землетрясение, что ли!.. Ведь бывают же где-то землетрясения… Говорят, катастрофа… кой черт! Не катастрофа, а благодать: дома валятся, земля колышется, женщины бегут нагишом, все забывают о том, кто они и почему и в каких смыслах… Тут тебе и самопожертвования, и грабеж… там кого-то спасли, там кого-то под шумок изнасиловали… весело!.. Я землетрясению рад был бы, а не то, что бы там… Катастрофа! А это не катастрофа, что миллионы людей впадают в состояние трупов?.. Тьфу!»
Чиж даже плюнул от злости и неожиданно остановился.
«Рано еще к купеческим чадам… Зайти к Давиденко, что ли?»
И еще не решив, стоит ли, Чиж машинально свернул в переулок, отворил калитку и вошел в большой, заросший пыльной травой двор.
И сразу стало ему так скучно, точно перед этим было ужасно весело. Он даже хотел повернуть обратно, но так бывало каждый день, и, как всегда, Чиж тоскливо махнул рукой и по протоптанной в траве дорожке с брезгливым видом пошел к голубому облупленному флигельку, стоявшему в самой глубине двора. Где-то под амбаром залаяла собака, но не вылезла на жару. Три курицы и один петух, нахохлившись, сидели в тени под забором. За флигелем сонно торчали пыльные деревья сада.
Чиж вошел в темные сени, нашарил ручку двери и, не постучавшись, шагнул в большую грязную комнату, где было прохладно и тихо, как в погребе. Бросились ему в глаза две неубранные кровати с грязными скомканными простынями, бутылки пива на подоконнике, окурки, растрепанные книги и еще какой-то хлам, терпеливо выглядывавший из-под метлы, брошенной прямо посреди комнаты.
Два студента сидели за столиком и молча сосредоточенно смотрели на шахматную доску. Их косматые головы были низко склонены, широкие молодые плечи повисли от долгого сидения.
— Опять сидят, проклятые хлопцы! не то шутя, не то с искренним негодованием сказал Чиж, ставя палку в угол. — Не надоело еще?
Оба шахматиста подняли головы, не глядя, протянули руки и опять уставились в свои шахматы.
— Да и жара, черт ее возьми! Пива дадите? — спросил Чиж, снимая картуз и вытирая побледневший от жары и усталости лоб. Мокрые волосы слиплись и торчали у него на голове нелепым птичьим хохолком, как у настоящего чижика.
Один из игроков молча ткнул пальцем в бутылки на окне и что-то переставил на доске.
— Здорово! — ленивым басом заметил другой. Чиж налил себе полный, чуть не с верхом, стакан пива и долго, запоем, тянул вкусную холодную влагу. Даже в горле у него забулькало от наслаждения.
— Ух, хорошо! — сказал он, обтирая мокрые усы. — Давиденко, газеты получил?
— Эге, — не глядя, отвечал широкоплечий и красивый студент, на широких плечах которого полинялая ситцевая рубашка лежала как облитая. Точно под ней были не плечи человеческие, а могучие мускулы чугунной статуи.
— Мишка, где газеты? — настойчиво приставал Чиж, которому было скучно и досадно, что другие заняты, когда ему нечего делать.
Худой Мишка поднял светловолосую умную голову, посмотрел задумчивыми и немного грустными глазами в потолок и сказал:
— Под кроватью.
Чиж плюнул, демонстративно полез под кровать, вытряхнул из газетных листов окурки и сор, сел у окна и стал читать.
Было совсем тихо, и та громоздкая, крикливая жизнь, о которой кричали газеты, была далеко от этой пустой грязной комнаты. За окном шевелились ветки, зеленые тени ходили по потолку. Где-то близко вопросительно чирикнул воробей и, точно удивившись чему-то, замолчал. Чиж шелестел газетой, Мишка и Давиденко молча смотрели на шахматную доску. Маленькие точеные фигурки на доске имели странный и загадочный вид, и похожие, и не похожие на каких-то таинственных человечков, живущих своей особенной, серьезной, правильной и сложной жизнью.
Чиж читал сосредоточенно, привычной рукой ловко переворачивая большие листы. Иногда он наливал себе пива, медленно выпивал, глубоко погружая в пену усы, и опять углублялся в газету.
Перед ним в коротких печатных строках разворачивалась пестрая и тяжелая жизнь большого мира. Живому воображению Чижа, затерянного в маленьком сонном городке, она представлялась ярко и отчетливо. Читая, он как будто бы видел перед собой всех этих журналистов, которые пишут, крестьян, которые голодают, депутатов, которые спорят, палачей, которые вешают, и императоров, которые торжественно и чинно, как в балете, раскланиваются друг перед другом.
Все еще тянулась эта огромная шахматная партия, в которой победа переходит из рук в руки и в которой, как бы ни было безнадежно положение той или другой стороны, смутно, но неизбежно намечается постоянная вечная ничья.
Но маленький студент не видел этого серого итога. Ему казалось, что колесо истории не кружится, а катится вперед, все сокрушая по пути. Он был убежден, что жизнь человеческая только вчера и сегодня, может быть завтра, имеет такой хаотический безнадежный характер. А там придет какая-то великая волна, смоет без следа все старое и грязное, и воцарится стройное, математически справедливое счастье, в котором и он, маленький высланный студент, крохотный смертный человечек, имеет какую-то свою долю, свой смысл и свой долг.
И все, что совершалось в эту минуту, все, о чем с пеной у рта кричали газеты, волновало и возмущало его. — Черт знает что такое… Давиденко, ты читал: в Самаре… — громко и возбужденно начал Чиж.
— Э! Черт!.. Опять прозевал! — с досадой сказал Мишка и задвигался на стуле, ероша свои спутанные светлые волосы.
— А ты не зевай, не в бабки играешь, — заметил Давиденко.
Чиж с досадой и укоризной посмотрел на них, презрительно пожал плечами и налил пива.
— Что тут ему сделать хорошего? — раздумчиво говорил Мишка, делая мечтательные глаза. Он подумал, почесал за ухом, что-то переставил на доске и сказал очень нерешительно:
— Шах!
Чиж вздохнул. Ему вдруг показалось, что повешение в Самаре семи человек вовсе уж и не такое большое дело. Представились эти семь человек вроде Рыскова, Мишки и Давиденко. Уныло и скучно глянули на него их лица, и мелькнула почти неосознанная мысль, что если их повесили, то и черт с ними.
Маленький студент сложил газеты и встал с брезгливым видом.
— Ну, я пойду, — сказал он, ни к кому, собственно, не обращаясь, и взял из угла свою палку.
Игроки не подняли голов.
Синенький дымок вился над ними, напоминая струйки погребального ладана. Зеленые тени беззвучно ходили по потолку, точно колдуя.
Чиж опять перешел заросший пустынный двор, опять услыхал вялый собачий лай, посмотрел на трех кур и одного петуха под забором и, выходя на улицу, машинально подумал:
«А потеют ли куры?»
Эта мысль заняла его до странности. Он долго старался припомнить, мысленно перелистал кучу книг, попытался взять логикой, потом воображением, и только придя к выводу, что куры должны потеть, но потная курица-вещь совершенно нелепая, опомнился, с бешенством плюнул и выбежал из переулка.
II
Стало как будто еще жарче. Воздух дрожал и горел белым огнем. Казалось, вся земля притаилась, не смея пошевелиться под ужасным солнечным гневом. Чиж еще не успел выбраться из переулка, как пот уже назойливо и липко побежал со лба, повис на ресницах и едкими струйками покатился на губы и обвисшие усы. В глазах потемнело, в висках застучали твердые молоты. Чиж пришел в отчаяние.
— Удавиться, что ли, на время!
И решил зайти в клуб.
Белый двухэтажный дом клуба был пуст и прохладен. В раскрытые двери библиотеки стройными рядами виднелись как будто никому не нужные книги. За стеклами строго блестели их золотые названия и сурово смотрели в пустые залы. В карточной выжидательно зеленели ломберные столики. Было тихо, как в церкви, и только в буфете отрывисто звякали тарелки. Чиж повесил картуз на вешалку, где висела только одна, хорошо знакомая шляпа доктора Арнольди, и через зал, мимо тонконогих ломберных столиков пошел в столовую.
Доктор Арнольди был там. Графинчик водки стоял перед ним, и огромная, задыхающаяся от жары туша доктора в чесучовом просторном промокшем под мышками пиджаке поглощала что-то жирное, облитое сметаной и жидким хреном. Туго завязанные на затылке концы накрахмаленной салфетки торчали, словно кабаньи уши.
— Здравствуйте, доктор, — сказал Чиж. Доктор Арнольди что-то пропыхтел, подал толстую мягкую, как у архиерея, руку и спросил, показывая глазами:
— Водки?
— А ну ее!.. В такую жару да еще водку пить! — с негодованием отмахнулся Чиж.
— Одну? — пропыхтел доктор.
— Нет, спасибо! — с решительным отвращением покривился Чиж, взял стул и сел против доктора.
В открытое окно ему был виден обширный пожарный двор. Оттуда душно пахло разопрелым навозом и пыльным сеном. Под длинным навесом стояли бочки с беспомощно задранными оглоблями и, казалось, тоже изнывали от жары. Ярко блестел на столбе медный колокол, и длинная веревка висела из него, точно высунутый язык.
— Жарко, — произнес Чиж.
— Да, тепло… — пропыхтел доктор и постучал о тарелку.
Заспанный лакей, взлохмаченный так, словно его только что крепко оттаскали за волосы, метнулся было от буфета, но по дороге вспомнил, что требуется, и, вернувшись за стойку, принялся заливать сметаной новую порцию холодного поросенка.
— Скажите, доктор, — начал Чиж скучающим и даже придирчивым тоном, — неужели вам еще не надоела эта чертова дыра?.. Ведь вы уже лет десять тут торчите…
— Семнадцать, — поправил доктор, вываливая на тарелку ногу поросенка и обильно смазывая ее сметаной.
Чиж досадливо двинул скулами и отвернулся. Хотя ему вовсе не хотелось есть, но слюна все-таки защекотала во рту. Он посмотрел на пожарный двор, потом на огромного, задыхающегося от собственной тучности доктора и задумался. Беспредметная грусть шевельнулась в нем.
Доктор Арнольди налил рюмку водки, долго, прищурив один глаз, рассматривал ее на свет и сказал с непонятным выражением:
— Некуда идти…
— Как некуда? — взвизгнул Чиж. — Да отсюда хоть в Сибирь!
— Нет, в Сибири еще хуже, — равнодушно возразил доктор Арнольди.
Чиж смешался.
— Ну, не в Сибирь, конечно… Но… Ведь вы человек одинокий, в средствах, кажется, не нуждаетесь… поехали бы за границу, что ли.
— Чего я там не видел? — сказал доктор Арнольди, вытирая салфеткой жирные, бритые, как у старого актера, губы.
— Как чего? Ничего вы не видали!
— Все видел, — лениво пропыхтел доктор.
— Например?
— Да все, что есть… ну, людей, театры, железные дороги… я все видел.
— Надеюсь, вы не хотите сказать, что видели всю вселенную? — задорно спросил Чиж.
— Пожалуй, — хладнокровно согласился доктор.
— Вот те и раз! — с искренним удивлением воскликнул Чиж, любопытно посмотрел на доктора и засмеялся.
Доктор Арнольди отодвинул тарелку, аккуратно сложил салфетку и сделал в сторону буфета что-то, очень похожее на масонский знак. Должно быть, здесь все знаки доктора Арнольди были понятны, потому что лакей моментально подал бутылку пива.
— Выпьете? — спросил доктор.
— Пива выпью с удовольствием! — согласился Чиж.
Доктор налил два стакана, и, пока он наливал, оба внимательно смотрели, как в запотевшем стекле желтыми огоньками заиграла вкусная, холодная, как лед, влага. Даже как будто стало прохладнее.
— Так видели вселенную? — развеселившись, спросил Чиж.
Ему хотелось посмеяться над доктором.
— Видите ли… — с полнейшим отсутствием какого-либо оживления в маленьких, заплывших, но умных глазках ответил доктор Арнольди, — вселенную я, конечно, не обозревал… для этого надо слишком много времени и труда… Но у меня есть о ней некоторое представление, ну, и достаточно с меня…
— Ну, нет… этого слишком недостаточно! — уверенно и с чувством превосходства возразил Чиж. — Дело не в общем представлении, а в самых деталях жизни и природы… Красота именно в разнообразии красок, форм, обычаев… Вы этого не понимаете?
— Я все понимаю, — равнодушно возразил доктор Арнольди, — но только в моей фантазии и то больше разнообразия.
— Как?
— Да так… просто. Что же там? Море всегда синее или зеленое, а я могу представить себе море хоть во все цвета радуги… Есть вот такое поэтическое описание черного озера, в котором жили зеленые русалки… озеро было бездонное… что ж!.. Говорят, Эверест в восемь верст вышиной, а я могу себе представить гору в сто раз больше Эвереста… В сказках бывают хрустальные замки, молочные реки, говорящие птицы… что ж.
— Ну, сказки! — протянул Чиж брезгливо.
— Все равно… Радости мало, — махнул рукой толстый доктор. Чиж подумал.
— А люди?.. Другие порядки, нравы, типы… Вас это не привлекает?
Нет, — вяло ответил доктор Арнольди, — какие там порядки?.. Везде борьба за существование и тому подобное… знаю. Старая штука на новый лад, а я не ребенок… И везде одинаково скверно и по-своему скучно… да и не по-своему, а так, вообще скучно.
— Так что, для вас все одинаковы?
— А что ж? Конечно. Всякий человек смертей, и всякий не удовлетворен своей жизнью, а потом… ну, один носит цилиндр, другой лапти, третий нагишом ходит… не все ли мне — равно.
Чиж с негодованием слушал толстого доктора, и его острое птичье лицо выражало презрительное сожаление о мертвом человеке.
— Ну, хорошо… — как бы уже снисходя до продолжения разговора, сказал он, — а культура?.. Вон там уже летают… вы знаете?
— Летают?
— Да! — самодовольно ответил Чиж, точно успехи воздухоплавания от него зависели.
— Ну и пусть себе летают. Все равно далеко не улетят…
Доктор сказал это таким безнадежно скучным тоном, что Чиж потерял всякую охоту продолжать разговор.
Все это было ему совершенно чуждо и непонятно. Он даже не поверил искренности доктора.
«Просто лень российская, матушка, одолела!» — брезгливо подумал он.
Для маленького студента жизнь была кипение, а природа — неисчерпаемая сокровищница богатства и красоты. Как бедному человеку, не видевшему другого дворца, кроме полуразвалившегося дома разорившегося барина, кажется, что на свете не может быть ничего богаче и красивее, так Чижу казалось, что земля с ее голубенькими морями, кудрявыми деревцами и розовенькими горками есть венец красоты и величия. Мысль его ползала по земле и не могла подняться ввысь, туда, где безграничные пространства, вечный кристальный холод, миллиарды сверкающих светил и великая, могучая неподвижность вечности.
И унылая бессмысленная человеческая жизнь возбуждала в нем преклонение. Голова его горела, когда он думал о борьбе народцев с их крошечными, собственной глупостью воздвигнутыми деспотами, о науке, строящей кораблики и врачующей волдыри, об искусстве, изо всех сил старающемся приблизиться к природе. То страстное, в сущности мало понятное ему самому волнение, которое испытывал он, мечтая о новых формах жизни, обреченных в свое время так же уйти в туман прошлого, как миллионы прежде бывших, казалось ему истинной мудростью. Чиж думал, что, если бы не случайные обстоятельства, если бы он мог жить среди каменных домов, вблизи железных дорог и большого количества людей, в его существовании не было бы пустого места, не заполненного переживаниями высшего порядка и делами громадной важности на счастье человечества.
Теперь жизнь его была бесцельна, глупа и скучна, но в том, что она проходила, как туман над степью, по его мнению, была виновата не она, а маленький городок, жандармы, толстый доктор…
Чиж внимательно, точно увидев в первый раз, посмотрел на доктора Арнольди, сонно тянувшего холодное пиво, и подумал:
«А ведь был человек!.. Говорят, десять лет в ссылке провел… Где все?.. Толст, обжирается поросенком под хреном, пьет пиво и походя спит… Есть ли у него хоть мысли какие-нибудь, или это так, одно простое бормотание?.. Неужели несколько лет провинциальной тины могут так затянуть и исковеркать человека?..»
И Чижу вдруг стало жутко. Он припомнил, что порой ему самому все становится в высокой степени безразлично, и бывают дни, когда не хочется ни читать, ни говорить, ни работать, ни думать.
«Опускаться начинаю! — с внутренним холодком подумал он. — Надо взять себя в руки».
И вспомнил еще, что забыл передать Давиденко литературу для партийных рабочих с арбузовского завода.
Доктор опять налил пива, но Чижу вдруг опротивело все: и доктор, и пиво, и заспанный лакей, и пожарный двор, мирно дремлющий под солнцем. Он встал и протянул руку.
Просто вы соня, доктор, и больше ничего! Ему было приятно последнее слово оставить все-таки за собой.
Доктор Арнольди ничего не ответил, только поднял на него свои заплывшие умные глазки. В глубине их как будто мелькнуло что-то ироническое. Но так мимолетно и тонко, что Чиж даже не заметил.
Когда маленький студент опять бежал по бульвару, его обогнала пролетка доктора Арнольди. Толстый, грузный доктор неподвижно сидел на маленьком сиденье и, опершись обеими руками на палку, казалось, спал.
Пыль тяжелой тучей подымалась за колесами и долго не садилась.
«Все-таки к больным-то ездит! — машинально подумал Чиж, вспомнил, что все больные хвалят доктора и даже с нежностью вспоминают о нем, и примирение решил: — Несчастный человек, конченый чудак, а все-таки лучше многих».
III
Чиж ходил из угла в угол и усиленно курил толстые папиросы.
Комната была маленькая, душная, с одним окном, с голыми, грязными, точно заплеванными, стенами. Чижа оскорбляло то, что для классной была отведена комната самая плохая во всем обширном купеческом доме. И за это он глубоко презирал и этот каменный неуклюжий дом, и амбары, полные рыбой и дегтем, и безвкусную венскую мебель, и цветы на окнах, и самих хозяев, пузатых короткошеих людей, насквозь пропахших рыбой и медными пятаками.
В открытое окно вместо воздуха густо шел прелый запах воблы и дегтя. На большом, окованном крепкими амбарами дворе, точно на ярмарке, было пестро и крикливо: неповоротливо ворочались могучие лошади битюги, громоздкие телеги, широкоспинные, похожие на людей каменного века возчики, оглобли, бочки и пудовые кули с рыбой. Брань, крик и гул стоном стояли над двором, и казалось, что самому воздуху тут трудно, и он туго ворочается в пыли и жаре, скрипя, как огромное неподмазанное колесо.
Чиж со своими греками, физикой и географией казался здесь таким маленьким, чужим и ядовитым, как червячок, забравшийся в крепкую, пахнущую землей и навозом, ядреную репу.
Он нервно курил свои папиросы, злобно поглядывал в окно и, напрягая тонкий резкий голос, чтобы перекричать гомон на дворе, переводил:
— Леонид с тремястами спартанцев занял Фермопильское ущелье…
И с ненавистью смотрел на два розовых, круто выстриженных затылка с торчащими, прозрачными, как у поросят, ушами. Лицо его было бледно, истомлено, со старческими брезгливыми морщинками в уголках рта, а птичий хохолок на лбу смок и обвис.
И чернильные пятна на грязных мальчишечьих пальцах, и греки, и собственный ненужный голос — все ему надоело до чертей. Не то, чтоб он думал, а уж слишком ясно чувствовал, что греки с их творческой боевой жизнью интеллигентных дикарей совершенно чужды этому потному купеческому двору, где им отвели место много хуже, чем дегтю и тарани.
Пройдет время, розовые затылки станут жирными и плотно осядут на воловьи шеи, уши мясисто завьются, как у кабанов, выпачканные в чернилах пальцы осмолятся в заскорузлый кулак, и греки, носители культуры, мечтатели о грядущей славе человечества, с ужасом и отвращением не признают своих потомков в этих толстобрюхих, низколобых и злых животных.
И надорванный голос Чижа, старавшегося перекричать шум, как будто жаловался кому-то.
Он зашел сзади и через плечи учеников смотрел в их тетради. Там убого и грязно ползли расплывчатые каракули, и в них трудно было признать яркие, живые человеческие слова.
«Точно талантливые обезьяны пишут! — подумал Чиж с отвращением.
Кто-то постучал в дверь.
— Войдите, — отозвался Чиж.
Заглянула сестра его учеников, полная хорошенькая девушка с мягкими серыми глазами и пухлыми наивными губами.
— Можно к вам? — спросила она и вошла, не дожидаясь ответа.
— Пожалуйста! — сквозь зубы буркнул Чиж и продолжал заниматься.
Он не любил ее посещений, да и вообще не любил этой девушки, уже за одно то, что она — купеческая дочь. Чиж ненавидел купцов. Он даже не замечал, что она как бы чужая в этом доме, хотя и знал, что именно она и настояла на том, чтобы мальчишек отдали в гимназию.
Должно быть, ей пришлось вести долгую упорную борьбу со своим папашей, желавшим пустить парней прямо по торговой части. И теперь, очевидно полагая, что на ней лежит ответственность, она постоянно заходила в классную, тихо усаживалась перед окном, оперев голову на круглую белую руку, и задумчиво смотрела на широкий двор, часами высиживая в душной скучной комнате. Этот молчаливый и бесполезный надзор раздражал Чижа, и он с ненавистью смотрел на девушку.
«Черт!.. Быть бы тебе простой крестьянской девкой, ходить босиком по жнивью, жать да полоть, да жарко любить какого-нибудь здоровенного парня с волосами в кружок и со стальной гребенкой на веревочном пояске! — думал он о ней. — Там бы ты была на месте, здоровая девка, и работница, и роженица, а то на… Кончила, черт знает зачем, гимназию, прочла три десятка романов и сидит паразит паразитом, не зная, куда себя девать… Разопрет тебя, как дегтярную бочку… дура полосатая!»
И странно, именно потому, что у нее были такие наивные серые глаза, легкий загар на стройной свежей шее и губы, мило подымавшиеся над белыми зубами, когда она смеялась, Чиж раздражался еще больше.
Мальчишки сопели носами, ерзали на стульях и пачкались в чернилах. Чиж ходил из угла в угол, курил и злился. А девушка сидела у окна, смотрела в небо наивно-ласковыми серыми глазами и неизвестно, думала ли о чем.
Со двора уже съезжали последние подводы, и откуда-то потянуло свежим воздухом, точно там, на дворе, открыли форточку в тенистый сад. Наконец Чиж посмотрел на часы и сказал:
— Ну, будет…
Мальчишки ожили. Куда-то полетели грязные тетрадки, на столе моментально образовалась обширная лужа чернил, в которой сейчас же покончила жизнь какая-то глупая муха. Старший брат выскочил в окно, младший хотел что-то спросить, но только глупо разинул рот и скромненько убрался за дверь. Чиж собрал свои книги и, взяв старый картуз с синим околышем, подошел прощаться с девушкой, все так же задумчиво сидевшей у окна.
— До свидания, Елизавета Петровна, — сказал он. Девушка медленно протянула ему руку и подняла светлые глаза. К своему удивлению, Чиж увидел в них какое-то странное выражение: девушка как будто хотела что-то спросить и не решалась. Даже краска выступила на ее лице, отчего она вдруг стала юнее.
— Вы уже уходите? — спросила она, очевидно, совсем не то, что хотела, и покраснела еще больше.
— Да, — ответил слегка удивленный Чиж. И сейчас же рассердился.
— Не ночевать же мне тут!
Его нисколько не заинтересовала и не тронула эта девичья застенчивость, внезапно обнаружившая в этой полной спокойной женщине молоденькую, о чем-то мечтающую, чем-то взволнованную девушку. Чижу только досадно стало, что его задерживают. Ему смертельно хотелось на воздух, хоть немного отдохнуть от уроков, начинающихся ранним утром и кончающихся, когда солнце садится и из степи потянет вечером.
«Уж не влюбилась ли она в меня?» — насмешливо подумал маленький студент, и циничное представление об ее крепком, свежем теле родилось в нем.
— Я хотела вас спросить, — заторопилась девушка и вдруг совершенно спокойно и даже безразлично закончила: — Вы знакомы с художником Михайловым?
— Знаком, — с недоброй усмешкой ответил Чиж и подумал: «И эта туда же… Везет человеку!»
Но девушка как будто не заметила его нехорошей улыбки, провела рукой по волосам и, глядя прямо ему в лицо чистыми наивными серыми глазами, сказала:
— Говорят, это какой-то особенный, интересный человек. Правда?
— Особенных людей нет, а если и есть, так не здесь! — сердито ответил Чиж.
— Ну, все-таки…
— Да что ж… Молодой человек приятной наружности, в газетах пишут, что талантливый, глаза черные, Дон Жуан большой…
— Дон Жуан? — задумчиво повторила девушка.
Чиж внезапно рассвирепел.
— Для уездных барышень, конечно! Таких Дон Жуанов у нас пруд пруди! В каждом телеграфном отделении сидят… Им и название у нас есть более подходящее: сердцеед! Не столь красиво, но выразительно!
— А правда ли, что одна барышня застрелилась из-за него? — спокойно спросила девушка. Чиж взбесился окончательно.
— Может, и из-за него… Я почем знаю? Есть вещи более интересные, Елизавета Петровна, чем собирание городских сплетен на потеху скучающих дам! Мало ли дур на свете!.. Очень просто: сделал ей, извините за выражение, ребеночка, да и на попятный… Герои, черт их дери!.. Другого дела нет… А впрочем, черт с ними!.. До свиданья, — внезапно оборвал Чиж.
Он нарочно выражался так грубо и, если бы посмел, выразился бы еще грубее, чтобы испугать и оскорбить эту праздную здоровую девушку, ждущую любовных радостей, и всех праздношатающихся шалопаев, которые только и могут, что соблазнять наивных провинциальных девиц. Он ожидал, что девушка обидится, сконфузится, но она только чуть-чуть повела круглыми плечами и, спокойно глядя ему в лицо задумчивыми серыми глазами, сказала:
— А вы его не любите, однако!.. До свиданья.
— Мое почтение! — сердито рванул ее руку Чиж и выскочил из комнаты, как рассерженный воробей.
А девушка еще немного посидела у окна, задумчиво глядя на небо, уже загоревшееся яркими красками заката. Потом встала, сделала два шага и вдруг, далеко закинув за голову круглые, с розовыми локтями руки, потянулась долго и истомно. Наивные серые глаза чуть прикрылись, и под опущенными ресницами промелькнула странная лукавая искра. Но сейчас же и погасла. Девушка опустила руки и пошла из комнаты.
IV
Доктор Арнольди, тяжко опираясь на палку, вошел во двор.
Грузное большое тело его устало влеклось по земле, точно он нес на плечах непомерный груз. И в согнутой спине его, и в массивном тяжелом черепе было что-то трагическое, говорящее о законченной жизни и глубокой, до сердца дошедшей усталости. Казалось, ему не двор перейти, а, как вечному жиду, надо долго, долго идти по бесцельной дороге, без конца, без смысла и радости светлого отдыха. На обрюзгшем жирном лице не было иного выражения, кроме равнодушия, в котором, казалось, нет уже места ни тоске, ни желаниям, ни сожалениям.
Старая цепная собака, понуро сидевшая у своей будки, только почесалась и позвенела цепью при виде доктора Арнольди. Она привыкла уже видеть его каждый день и, должно быть, давно причислила эту медленную, грузную фигуру к вещам, не имеющим никакого значения в жизни.
Дворик был маленький, уютный, и ярко светило в него далекое солнце. В палисаднике пестрели пышные, с любовью и трудом взращенные клумбы, но цветы были запылены, переломаны и придавлены как бы громадной тяжкой ногой, неуклонно направившей свой страшный путь к этому дому. И у самого крыльца, загораживая дорогу, стояло на виду, очевидно, вынесенное проветриться, деревянное кресло-судно, выкрашенное грубой черной краской. Откровенно и цинично зияла его круглая дыра, точно бесстыдная глумливая гримаса. Доктор Арнольди машинально взглянул на него, но не остановился и поднялся на крыльцо.
Дверь была не заперта, и доктор, привыкший к этому, сам отворил ее. В передней, где было невыносимо душно и жарко, никто не встретил гостя. Доктор медлительно повесил шляпу на гвоздь, поставил в угол свою толстую палку и прошел дальше. Наивная старенькая гостиная обняла его унылым молчанием и запахом пыли. Везде было тихо, точно вымерло, только большая черная муха почему-то злобно вилась над круглым столом и во всем дворе разносилось ее грозное, тоскующее жужжание.
Доктор Арнольди заглянул в другую комнату. Там было только одно окно, и выходило оно, должно быть, в стену или на галерею, потому что в мягком сумраке тонули письменный стол, кресло и пыльные шкафы с толстыми книгами. Как будто какие-то смутные тени безмолвно колыхались по углам, а на белесом фоне тусклого окна черным силуэтом выделялась седая облезшая голова, глубоко ушедшая в кресло и опущенная на руки, закрывшие лицо.
— Иван Иванович! — негромко позвал доктор Арнольди, стоя на пороге. Голова не шевельнулась. Жидко просвечивали седые волосики, и мертвенно-синеватые блики блестели на тонких, до косточек высохших пальцах.
— Иван Иванович! — вторично, громче позвал доктор.
Жуткой тишиной повеяло от этой неподвижной человеческой головы с костистым мертвым затылком. Что-то страшное, похожее на смерть было в ней. Но это еще не было смертью, и когда доктор Арнольди пригляделся, он увидел, как жалкий седой пух на лысом черепе тихо шевелится от дыхания.
Доктор вздохнул и нерешительно повернулся прочь. Но в соседней комнате послышались скорые шажки, и маленькая женщина с седыми волосами и скорбным личиком вошла в гостиную.
— А, это вы, доктор! — сказала она, посмотрела в полутемную комнату и махнула рукой.
— Все то же? — спросил доктор Арнольди. Старушка опять махнула рукой, и бесконечная скорбь и усталость были в этом слабом, безнадежном движении. Но она все-таки подошла к сидевшему в кресле старичку и тронула его за плечо.
— Иван Иванович! Доктор пришел… Голова не шевельнулась.
— Доктор пришел, Иван Иванович, — повторила она.
Голова неровно и дрожа задвигалась. Повернулось заросшее седой небритой бородой лицо, и тусклые слезящиеся глаза взглянули на доктора.
— А-а!.. — раздался чуть слышный, похожий на стон голос, и больной, срываясь и дрожа, торопливо стал подыматься.
— Сидите, сидите, — сказал доктор Арнольди, но седенький Иван Иванович уже поднялся на ослабевших несгибающихся ногах, и его полумертвое лицо искривилось приветливой улыбкой.
Эта улыбка была страшна: в ней была за сердце хватающая борьба прежней, разумной деликатности с полной беспомощностью и жалким старческим стыдом за свою слабость и убожество.
Старушка бережно подхватила его под руку, и тонкие косточки, болтающиеся в старом черном сюртуке, дрожа, шагнули в гостиную. Так, как пошел бы, с жестоким комизмом облеченный в строгий профессорский сюртук, старенький скелет из анатомического театра.
Он сел в кресло, а толстый большой доктор грузно уселся перед ним на стул и смотрел внимательно и серьезно.
— Ну, как вы себя чувствуете?
Иван Иванович опять виновато и жалко улыбнулся.
— Как же мне себя чувствовать? Скверно. — Аппетит есть?
— Да, ничего… ем много.
— Какое там! — скорбно махнула рукой маленькая старушка.
— Нет, отчего… я ем… — вдруг обиделся старичок, и голос у него задрожал, как у обиженного ребенка. — Вот, ел сегодня суп и эти… как это называется… ну, вот… эти… первые цветочки…
Доктор Арнольди с недоумением посмотрел на старушку.
— Землянику, — подсказала она и улыбнулась не то конфузливо, не то страдальчески.
— Ну, да… землянику… поправился старичок и долго растерянно двигал пальцами худых рук, лежавших на коленях, стараясь показать, что это он так, только случайно спутал и не придаст этому никакого значения.
Доктор Арнольди молчал и пытливо смотрел на него, точно видел, как там, внутри, разрушается дряхлый человеческий организм, как идет таинственная работа смерти, как потухает мозг, слабеет зрение и тихо останавливается столько бившее старое усталое сердце. И вспомнил он при этом, как еще студентом он в первый раз наблюдал под стеклом микроскопа возникновение живого организма в разлагающейся ткани. Перед его внимательным, еще удивленным взглядом в маленьком поле микроскопа, окрашенном по краям странной радугой, что-то вертелось со страшной быстротой, все ускоряя и ускоряя свое безумное движение. Маленький мирок, вертящийся вокруг своей оси. Почему-то было жутко и хотелось остановить это страшное микроскопическое движение. И когда наконец полупрозрачный червячок разумно и живо задвигался под стеклом, червячок живой там, где только что была одна смерть, червячок, которого только что нигде не было, доктору Арнольди стало и страшно, и радостно, и грустно. Он не мог бы передать своего чувства, не мог бы объяснить его, но было в этом что-то больше его, нечто такое, перед чем собственная жизнь вдруг потеряла всякий смысл. В тот вечер студент Арнольди пошел и напился пьян мертвецки.
— Ну, что интересного? Это, как его… а, что? — вдруг заговорил Иван Иванович, и слезящиеся, плохо видящие глаза его поднялись на доктора со странным неестественным оживлением.
Доктор Арнольди понял этот тоскующий взгляд, понял, как хотелось умирающему человеку уцепиться за что-нибудь, хоть в любопытстве сохранить связь с неудержимо уходящей жизнью.
— Что ж, ничего интересного нет, все по-прежнему… — затрудненно и чересчур разделяя слова, ответил доктор.
Ему хотелось отвечать как можно естественнее и проще, завести обыкновенный пустой разговор, чтобы больной не заметил, что к нему относятся уже не как к здоровому и разумному человеку. Но слова не шли с языка, и голос звучал напряженно и фальшиво. Не было уверенности, что старик поймет, а в то же время было как-то страшно не ответить ему, старому профессору, имя которого не прошло бесследно и книги которого когда-то учили понимать жизнь и самого доктора Арнольди.
— Ничего? — повторил Иван Иванович и задумался, как бы с недоверием.
Доктор Арнольди внимательно смотрел и ждал. Но Иван Иванович вдруг суетливо и раздраженно задвигался.
— Что тебе, Иван Иванович? — спросила старушка, не спускавшая с него преданных, скорбных глаз.
— А что же мы с доктором… будем есть эти, как его… пер… трел… — старичок сделал страшное усилие, чтобы вспомнить, жалко-виновато взглянул на доктора и нерешительно докончил: — Лисички, кажется?..
Видно было, какой глубокой тоской и мучительным недоумением полно его старое умирающее существо, делавшее тщательные усилия овладеть костенеющим мозгом, и было и больно, и жутко, и смешно смотреть на него. По толстому лицу доктора прошла болезненная судорога.
— Землянику, — опять подсказала старушка.
— Да… вот… — и, подняв на доктора глаза, Иван Иванович сказал с непередаваемым выражением тоски и мольбы: — Вот видите, какая память стала!
— Чего там — память! — как будто с досадой возразила старушка. — Просто ты болен, жар у тебя, ну, и ослабела память. Вот поправишься…
— А, Боже мой! — раздраженно вскрикнул старичок. — Какое тут — поправишься… Я ведь не ребенок! — И с тоской добавил, обращаясь к доктору: — Не думал я дожить до такого состояния!
Наступило долгое и нудное молчание. В тишине опять стало слышно, как зловеще гудит над столом черная муха, и душно было так, точно груди не хватает воздуха. Иван Иванович сидел, подперев рукой свою облезлую голову, и чувствовалось, как мучительно и страшно крутится в этой умирающей голове бедная, слабая человеческая мысль, мигающий огонек, готовый погаснуть в вечном мраке. Доктор Арнольди молча смотрел на него, как будто старался проследить за этой мыслью до конца и понять, хоть раз, что же именно чувствует человек знающий наверное, что умирает с каждой минутой.
Старушка встала и тихо поманила доктора за собой.
Они неслышно прошли в другую комнату и сели там. Умирающий остался один.
— Четвертый месяц вот так! — заговорила старушка унылым безнадежным голосом. — Что же это такое, доктор?
Доктор Арнольди слабо пожал плечами.
— Что ж… имеет человеческая жизнь свой предел… — серьезно и устало отозвался он.
— Ну, да, я понимаю… Но зачем же именно так? Ну, заснул бы человек и не проснулся. А то ведь он мучается как!.. Ведь он, доктор, сознает прекрасно, только не говорит… Знаете, доктор, это, конечно, ужасно, что умирает близкий человек… ведь мы прожили вместе сорок два года… но я перенесла бы все… Самое ужасное, это то, что умирает… я не могу этого объяснить, но вы понимаете… Какое это унижение видеть, как любимый близкий человек обращается в… Вы представляете себе: у него появилась мания ездить по магазинам и делать какие-то покупки… И эти улыбочки приказчиков, эти сострадательные взгляды знакомых… Господи! Как странно теперь вспомнить, что я жалела тех, кто умирает молодым, и молила Бога, чтобы мой муж дожил до самой глубокой старости… Какие это были глупые, бессмысленные молитвы!.. Понимаете, мне странно это вспоминать! Понимаете, какой ужас… нет, я не умею этого выразить!..
— Я понимаю! — тихо ответил доктор Арнольди. Старушка остановившимися глазами долго смотрела прямо перед собой, крепко, почти конвульсивно сжав сморщенные руки.
— Господи, и кому нужны эти страдания! — выговорила она про себя.
— Не знаю… — машинально, как эхо, отозвался доктор Арнольди.
И в тишине, наступившей после его слов, как бы получилось властное дуновение чьих-то неисповедимых крыл.
Потом старушка начала опять, голосом слабым, похожим на дребезжание мухи, запутавшейся в паутине:
Устала я, доктор!.. И никто этого не может понять. Но ведь и я человек… и мои силы имеют предел!.. Она жаловалась на то, что никто не в состоянии понять весь ужас ее горя, горя женщины, обреченной изо дня в день, без надежды и просвета, жить с полутрупом, видя, как разлагается тот, кто наполнял всю ее жизнь, как существо высшее, единственное для нее во всем мире. Это была пытка, какой еще не выдумала человеческая жестокость; равно было бы положить живого в гроб вместе с трупом и оставить его там навсегда, чтобы он видел, как разлазится тело, как ползут жирные черви, как сочится гной, как обнажается череп и улыбается во тьму могилы. И никакие слова не могли выразить этот ужас, чтобы другие поняли ее и пожалели.
Скорбь ее была глубока и искрения, но странно, доктору Арнольди казалось, что она чего-то недоговаривает. Когда ей выражали сочувствие, она так же сердилась и раздражалась, как и тогда, когда равнодушно отворачивались от ее вечных и бесполезных жалоб. Чего-то нужно было ей. Чего-то, в чем она сама не сознавалась себе. И главный ужас был в том, что как бы ни было ей жаль умирающего, как бы ни обливалось кровью сердце при мысли о его близкой смерти, а измученное тело и настрадавшийся дух хотели покоя. И невольно, как бы даже тайно от нее, требовали, чтобы он скорее умер и дал ей отдохнуть. И она боялась этого чувства, торопясь уверить и других, и себя, что этого не может быть, что ей только больно, что ее оставили одну с больным.
— Главное, выхода нет, доктор… выхода нет!
— Выход всегда есть, — устало сказал доктор Арнольди. — На свете только-то и хорошо, что все так или иначе кончается… рано или поздно.
Старушка с испугом посмотрела на его равнодушное обрюзглое, как у старого актера, лицо.
— Ну, да… я знаю… — заторопилась она, чтобы он не сказал страшного слова. — Все кончится… Но зачем же страдания?..
— Не знаю… — так же односложно повторил доктор.
— Ведь то, что мы перестрадаем… Из гостиной послышался слабый короткий звук, точно сердито задребезжала лопнувшая пружина.
— Зовет! — с какой-то странной укоризной сказала старушка.
— Полина Григорьевна! — звал больной.
Они встали и пошли в гостиную.
Старичок-профессор сидел прямо, ухватившись за ручки кресла худыми пальцами, бессильно высунувшимися из широких рукавов сюртука. Он обиженно смотрел на них испуганным, подозрительным взглядом.
— Что, наговорилась? — с детской злостью спросил он.
— О чем я говорила? Так, о пустяках, Иван Иванович… — ласково и виновато возразила старушка.
Иван Иванович подозрительно смотрел на нее и жевал провалившимся ртом. Ему чудилось, что все смеются над ним, выжившим из ума стариком, и по углам толкуют, скоро ли он умрет. Что-то еще, самое страшное, мерещилось ему, но ослабевший мозг не мог понять что и страдал бессильным одиноким страданием.
— Тут кто-то был? — тревожно проговорил он.
— Кто же тут был? Доктор был…
— Доктор? А, это вы, доктор… А я не узнал. Скажите, доктор, вы были вчера на собрании нашего общества? Какие дураки! И все толкуют о бессмертии… Точно я прошу их об этом! Как вы думаете?
— О чем ты говоришь, Иван Иванович? — с тоской спросила старуха.
Но старичок не слушал ее и продолжал смотреть прямо на доктора возбужденным и как будто совершенно сознательным взглядом. Черный туман низко спустился на его мозг, и в нем, судорожно путая давно прошедшее с настоящим, металась ослабевшая мысль. Точно заблудившаяся птица в море, в тумане, то падая, то взлетая.
— Если они хотят, то я выйду на улицу, вот таков, как есть, и пусть все смотрят… Хорошо?.. А?.. Это хорошо, доктор?
— Да, это очень хорошо, — спокойно согласился доктор Арнольди. Выражение его лица было совершенно равнодушно, и тем ужаснее звучала невольная ирония его слов.
— Так хорошо? — повторил старичок и торжествующе засмеялся, подмигнув доктору, точно своему единомышленнику, который один понимает, какую хитрую штуку он придумал.
— Да, хорошо.
Доктор Арнольди с усилием понимал этот спутанный, как будто совершенно бессмысленный, но на самом деле полный ужасного смысла бред. Он смотрел на развалину когда-то умного, чуткого, мыслящего, гордого своей мыслью человека, в котором бессильно погасала последняя искорка духа, и видел, какою жалкою является мечта о человеческом бессмертии. Аляповатой, смешной картиной, самоучкой намалеванной на занавесе, за которым скрывается черная пустота, пестрели перед ним Бог, загробная жизнь, мировая душа. Кучка разлагающегося праха, догорающая свеча, и больше ничего. Можно было толковать о религии, верить в бессмертие, пока работал ум и тело жило полной жизнью. Но теперь, когда явно, на глазах, человек обращался в умирающее животное, в идиота, комок внутренностей и хрупких косточек, все эти мысли были так же комичны и нелепы, как бабьи сказки о чертях и домовых.
Старичок задумался, опустив слабую голову на руки и закрыв глаза.
Доктор Арнольди уже думал уходить, как вдруг Иван Иванович поднял голову и прямо, сознательно глядя, сказал:
— Ах, если бы немножко силы! Ну, немного, хоть неделю… чтобы только отдохнуть… чтобы все вспомнить, чтобы руки не дрожали, ноги ходили… я… пошел бы за ворота, посидел бы на скамеечке!..
Доктор Арнольди невольно улыбнулся. Так было неожиданно это скромное желание умирающего. И, уже улыбнувшись, он подумал о том, как должна сузиться жизнь, чтобы желание пойти посидеть на скамеечке за воротами составляло несбыточную, недосягаемую мечту. И почему-то доктору представилось, что если бы мог чего-либо желать Наполеон в своем Пантеоне, он мечтал бы, плакал и молился только о том, чтобы шевельнуть хоть одним пальцем навеки сложенных на груди мертвых рук. И опять судорога прошла по обрюзгшему лицу старого доктора.
Старушка смотрела, стараясь не мигать, полными слез глазами. И уже не было в них тайной мысли о скором отдыхе, а одна бесконечная трогательная жалость.
— Что ж, Полина Григорьевна, — заговорил доктор, вставая, — нового ничего. Продолжайте давать спермин… если будет жар, дайте аспирину… что ж…
Он хотел попрощаться со старым профессором, но старичок, склонив лысую дрожащую голову на косточки мертвых рук, уже опять закрыл глаза. Доктору показалось, что из-под опущенных дряблых век бессильно светится дряхлая тоскливая слеза.
Полина Григорьевна проводила доктора и, пока он брал шляпу и палку, опять говорила о том, что она устала, что у нее нет сил, что ей хочется уткнуться головой в землю, ничего не видеть, не чувствовать, не сознавать. И оба понимали, что все слова бесполезны. Все слова, какие может выговорить человеческий язык.
В это время в переднюю решительно и как будто вызывающе вошла нарядная, полная и, видимо, беременная дама, а за нею щеголеватый рыжеусый офицер.
— Что вы все толкуетесь, мама! — звонко и возмущенно заговорила дама, небрежно здороваясь с доктором Арнольди. — Что об этом говорить? Это ваш долг. Тяжело? А что же делать!
Старушка как будто испугалась. Страдание забило ее.
— Я знаю, Лидочка, что долг… А все-таки тяжело.
Дама решительно и небрежно развела руками, и легкие кружева ее платья, нарочито широкого, чтобы скрыть ее беременность, опахнули всю комнату запахом духов и здоровой молодой женщины. Доктор невольно покосился на ее выпуклый, бесстыдно вылезающий живот, и не подумал, а почувствовал мучительное недоумение и стыд: как могут люди при виде этого ужасного конца, который ждет всякого человека, зачинать, вынашивать и рожать новую человеческую жизнь, новое страдание? И еще гордиться этим, как исполнением какой-то великой миссии! Было что-то наглое в ее ярком платье с намеками на обнаженность, в круглом крепком животе и в близости здорового, настойчиво следующего за ней мужчины.
«А ведь они совершают страшное преступление!» — вдруг пришло в голову доктору Арнольди, но он не удержал и не додумал до конца этой случайной мысли.
— И зачем вы выставили у крыльца эту гадость? — полусмеясь и морщась не то с досадой, не то с кокетливой фривольностью, бросила беременная женщина. — Как бы там ни было, а распускаться до такой степени…
— А что? — испуганно спросила старушка.
Очевидно, забыла и не сразу поняла.
— Ах, до того ли мне! — сказала она. Доктор Арнольди тяжелым взглядом проводил беременную женщину и вышел на крыльцо. Уже со двора он услышал звонкий и чересчур развязный голос:
— Ну, здравствуйте, папа! Как вы себя чувствуете?
И подумал с внезапным приступом тоски и отвращения: «А ведь все мы будем, будем же умирать!»
Солнце светило ярко; в саду драчливо чирикали воробьи; далеко, над крышами и деревьями золотился легкий купол колокольни, и видно было, как у старых карнизов сверкали серебряные голуби.
И опять бросилось в глаза доктору Арнольди черное уродливое пятно у крыльца. От него в нудном запахе человеческих испражнений смрадно и глумливо веяло дыхание смерти.
Тут все было кончено: жизнь, наконец, откинула все прикрасы, нагло вывернулась наизнанку, и то, что стыдливо пряталось по углам, вдруг торжествующе выдвинулось вперед и по праву заняло первое место, загородив дорогу и раздавив нарядные цветы.
Доктор Арнольди приостановился и, машинально протянув палку, тронул отвратительное деревянное чудовище. Палка отскочила с тупым стуком. Круглая, зловонная дыра насмешливо смотрела в голубое небо.
Доктор Арнольди опустил палку, согнулся и медленно пошел прочь.
V
Следующий визит был на соседней улице, и доктор Арнольди пошел пешком. Рыженькая кобылка, возившая его по больным, шагом тронулась по улице, и беловолосый Никита чинно сидел на козлах, совершенно с таким же видом, с каким возил доктора в клуб и сам ездил за водой.
Еще не спала жара, и улицы по-прежнему пыльно дремали под солнцем. Все так же были закрыты все ставни, и дома имели нежилой, выморочный вид. Даже странно было подумать, что за каждой стеной копошатся, смеются, целуются, плачут, что, если бы снять вдруг все крыши и заглянуть сверху, испуганный глаз увидел бы бешено крутящийся муравейник, не знающий ни минуты покоя. По всем углам, в каждой щели шевелились живые существа, несчастные, страдающие, в муках рождающие своих потомков, чтобы те страдали теми же страданиями и в муках звали какого-нибудь доктора Арнольди, будто бы способного дать им избавление от неизбежного.
И сколько их, с тяжким трудом спасенных от смерти сегодня, умирали завтра, только лишний раз переживая те же муки и тот же ужас смерти. Доктор Арнольди ясно видел, как ничтожна и бессмысленна его тяжелая работа, и давно привык делать свое дело без особого волнения. Удавалось ли ему помочь или больной умирал у него на руках, доктор Арнольди был ровно спокоен и шел к другому больному, как часовой мастер, который, осмотрев часы, спокойно берется за другой механизм. Только голова его с каждым днем становилась тяжелее, да лицо более устало.
Запыхавшись больше от своей толщины, чем от жары, он завернул в калитку, перешел маленький мещанский дворик, пахнущий кожей, и вошел в дом, где его ждали, как Бога.
Еще не старая женщина, с лицом испуганным и высохшим от вечных забот, встретила доктора отчаянным взглядом, и по этому знакомому выражению доктор Арнольди понял, что ребенку хуже. Впрочем, он и ожидал этого: в городе была эпидемия, смерть неслышно ходила из дома в дом, и маленькие люди, еще не узнавшие, что такое жизнь, задыхались и костенели крошечными трупиками, которые десятками относили за город и зарывали в песок. Там посадили елки, и молодые деревца год от года становились зеленее.
— Ну, как дела? — спросил доктор Арнольди, оглядываясь, куда положить шляпу.
В маленькой грязной комнате, пропитанной чадом и мылом, везде были навалены кучи грязного белья. Корыто с мыльной пеной пускало в потолок клубы жирного сладковатого пара. Горе и нужда из каждой тряпки, из каждой кучи грязи довольно смотрели, как выбиваются из сил сбившиеся, замотавшиеся люди.
— Хуже, господин доктор, хуже! — почему-то шепотом ответила женщина и машинально перехватила шляпу из медлительных рук доктора Арнольди.
— Ничего, не волнуйтесь, матушка!.. Бог даст, все будет по-хорошему, — не глядя пропыхтел толстый доктор и, тяжело вздохнув, переступил порог душной полутемной комнаты, из которой доносился знакомый прерывистый хрип умирающего.
У кровати, большой, с огромной периной, может быть, той самой, на которой был зачат и рожден этот умирающий ребенок, стоял молодой мещанин с блестящими глазами. Он встретил доктора тем же лихорадочным взглядом надежды и страха, метну лея, сронил на пол подушку и подал доктору стул.
Доктор Арнольди тяжело опустился возле кровати, подумал, точно собираясь с силами, и взял маленькую горячую ручку, которая сейчас же инстинктивно и бессильно стала вырываться у него. Ребенок чуть-чуть повернул мутные, незрячие глаза, вздрогнул и заметался сильнее. Еле слышный плач, похожий на писк маленького зверька в когтях совы, раздался в комнате.
Доктор Арнольди опустил ручку и задумался.
Ему уже не нужен был какой-либо осмотр: по этому судорожному метанию, по мутности глаз, по звуку дыхания он сразу увидел, что надежды нет, и остается прибегнуть к самым героическим мерам, без расчета на успех, только для очистки совести.
В маленькой, нежной, как у цыпленка, пятнами покрасневшей груди что-то мучительно дрожало и билось, как будто все тело содрогалось не от боли, а от ужаса. Голова, казавшаяся огромной, точно чужая, перекатывалась на тоненькой, будто лишенной костей шее, а крошечное личико было вздуто и красно. Невидимая костлявая рука медленно, с непонятной жестокостью все сильнее, точно тешась, сдавливала щуплое птичье горлышко.
— Да-а… — пробормотал доктор Арнольди в глубокой задумчивости.
— Что? — кинулась к нему женщина. Доктор тяжелым взглядом посмотрел в ее испуганные молящие глаза.
— Ничего, сказал он. Приготовьте горячей воды и сбегайте на Сумскую к фельдшеру Швейзону. Знаете?.. Пусть сейчас же идет сюда. Я говорил ему, он знает. Да…
Молодой мещанин с отчаянным видом схватил картуз и метнулся к двери.
— Э… Постойте! — досадливо остановил его доктор Арнольди. — Там у ворот моя лошадь, возьмите ее. Скоро надо… Скорей!
Слышно было, как загремели колеса и стихли вдали.
Доктор Арнольди один остался над умирающим ребенком.
В комнате было тихо, душно и странно слышалось за окном дерзкое чириканье воробьев, не знавших, какое ужасное дело совершается в этой унылой, грязной комнате. Ребенок по-прежнему хрипел и катал по подушке свою тяжелую, каменную голову, со спутанными, слипшимися волосиками. Вздувшиеся легкие на части рвали его маленькую грудь; кровь, горячая, как кипяток, заливала мозг и давила кромешной болью; ручки и ножки судорожно корчились, точно он старался выбраться из какой-то ямы, не мог и бился в одном месте. Маленький человек не понимал, что с ним, и боролся, метаясь и стараясь вырваться, как котенок, придавленный бревном.
Иногда он как будто звал кого-то.
— Ма!.. — сдавленно и еле слышно пищал он, точно маленький воробей, выпавший из гнезда.
Должно быть, он ждал, что сейчас придет эта большая, добрая, теплая мать, которая все знает, повелевает жизнью и может защитить от всякой беды.
— Да, да… — машинально бормотал доктор Арнольди и то щупал пульс, то отходил к окну и долго стоял там, бессмысленно глядя на перелетающих воробьев.
Как всегда у кровати умирающих детей, чувства его были смутны и громадны.
Если бы доктор Арнольди, рискуя собственной жизнью, что он и собирался сделать, мог спасти или, по крайней мере, облегчить страдания, он не задумался бы ни на минуту и даже не придал бы этому особого значения. Если бы он знал, кто виновен в этой массе бесполезных страданий, он, старый доктор, с безбоязненным, открытым лицом, встал бы перед ним и проклял бы его. Ни смерти, ни суда, ни вечных мучений он не побоялся бы.
Но доктор Арнольди знал, что помочь нельзя и что ни проклятия, ни мольбы, ни доказательства не получат ответа никогда.
Так же будет всходить и заходить солнце, так же будет вертеться на гное расцветающая земля. Все бесполезно. Он, доктор Арнольди, может плакать или издеваться, просить или проклинать, может, наконец, разбить себе голову о стену, и все это будет так же бессмысленно, как вопли глухонемого в пустыне.
И было легче только от одной мысли: это маленькое существо, рожденное для страданий, умирает, еще не научившись бояться смерти, еще не познав прелести этой милой и проклятой человеческой жизни.
Доктор Арнольди посмотрел на этого странного паучка, корчившегося на постели, на его тоненькие червеобразные руки и ноги, кривую спинку, желтую налитую голову с тяжелым затылком и узким лбом.
— Да! — повторил он в раздумье.
Ясно, до мельчайших подробностей, представилась ему та жизнь, которую было обречено нести это жалкое, искривленное наследственными порчами существо. Какая это была бы бессмысленная, ничтожная, полная страданий жизнь, какое ужасное, обреченное на медленное вымирание должно быть его потомство!.. А эти странные паучки так живучи и плодовиты! Из этой комнаты, если бы смерть не вошла раньше, просочилась бы в мир струя такого гноя преступности, безобразия, тупости и бесконечного страдания, что доктор Арнольди даже сморщился от отвращения.
Вывод смутный и громадный назревал в тяжелом мозгу доктора, но сил не хватало довести его до конца. Другой человек, с умом ясным и смелым, сердцем твердым, потом сказал то слово, перед которым бессильно отступил доктор Арнольди.
Если бы у него, у старого доктора, была твердая воля, он поднял бы свою большую толстую руку и сказал:
— А Ты хочешь, чтобы это жалкое, не сделавшее тебе никакого зла, наивно радовавшееся каждому Твоему творению существо корчилось в неизбывных страданиях, пока муки не станут непереносимы и Ты не насладишься возможной мерой мучений, а я, разумный и свободный человек, воли которого даже и Тебе не сковать, могу одним движением вырвать жертву и разом оборвать Твою нелепую и злую потеху. Быть может, расчеты, не доступные уму человеческому, руководят Тобою… может быть! Но я не знаю и не признаю их!
Дверь тихо скрипнула, и бледная женщина робко вошла в комнату, как побитая собака, от порога устремив на доктора заискивающие, молящие глаза.
— Что? Фельдшер приехал? — очнувшись, спросил доктор Арнольди.
— Нету еще, не слыхать…
Доктор посмотрел на ребенка и вздохнул.
— Воду я приготовила, господин доктор, — тихо сказала она, не сводя с лица доктора своих странных глаз и не двигаясь с места.
— Ну, и прекрасно, — пропыхтел доктор Арнольди.
— Господин доктор… — еще тише проговорила она и чуть шагнула к нему. — Господин доктор!..
— Ну, что? — с тоской спросил доктор Арнольди.
— Как Гришенька… поправится? — уже совсем еле слышно выговорили ее высохшие губы, и голос дрогнул, точно она поперхнулась каким-то другим словом.
Маленькие глазки доктора беспокойно заморгали.
— Будем надеяться… — неестественно развязным гоном ответил он.
Женщина недоверчиво смотрела на него, и доктору показалось, что глаза ее становятся все больше, больше, заполняют весь мир и глядят ему в самую душу. Он невольно встал, отошел к окну и стал пристально смотреть в расплывающиеся перед глазами зеленые пятна листьев.
«Какие большие листья!» — почему-то подумал он.
— Вы уж постарайтесь, господин доктор… Бог вам заплатит!.. — долетел до него чуть слышный шепот. — Один ведь у меня Гришенька!..
— Гришенька! — прошелестело в комнате, точно осенний ветер тронул сухие листья на могиле.
И в этом шелесте было столько муки и любви, что доктору даже странно показалось, как это минуту тому назад он думал о несчастной судьбе и безобразии этого Гришеньки, который хорошо делает, что умирает вовремя! Каков бы он ни был идиот, урод, злодей — для нее это был только единственный Гришенька. В чуть слышном шепоте, в робких, молящих словах перед доктором встало такое колоссальное, такое могучее неодолимое чувство, что он почувствовал себя песчинкой перед ним и ужас ощутил в душе: в этой страшной ловушке навсегда была заложена неизбежность бесконечных мук, вечная живучесть страдания.
— Это ужасно! — пробормотал доктор Арнольди.
— Что?
— Да, ничего… вон, кажется, фельдшер приехал! — отозвался доктор и, словно убегая от вопросов, опять перешел к кровати.
А когда пришел фельдшер, он покорно снял пиджак, засучил рукава, забыл все свои мысли и опять принялся за тяжелую бесполезную работу, как каторжник, прикованный к тачке.
Он долго, внимательно и сосредоточенно мыл руки, клочьями разбрасывая мыльную пену, пыхтя и сопя. Бледная женщина подавала ему воду, и в каждом ее движении были видны робость и огромное уважение перед его великим знанием. Фельдшер, рыжий здоровый человек, ловко и деловито приготовлял инструменты, вату и бинты и делал это с таким видом, точно собирался показать какой-то замысловатый фокус.
Ребенок все хрипел и метался.
Наконец доктор Арнольди вымыл руки, пытливо осмотрел их, помахал в воздухе и подошел к кровати.
— Ну, вы!.. — пропыхтел он, качнув головой на мещанина и его жену. Мещанин сейчас же испуганно отскочил к двери, но худая заморенная женщина только повела на доктора молящими глазами. Такие глаза бывают у кошки, когда несут топить ее котят.
— Я вам говорю! — мгновенно раздражаясь, крикнул доктор Арнольди, но сейчас же опомнился и прибавил с глубокой жалостью: — Нет уж, голубушка, вы того… уйдите… А то я и сам волноваться буду… Дело такое. Пойдите, пойдите отсюда… Что можно будет, мы сделаем! — Тогда она покорно и тихо поплелась из комнаты. Только в дверях еще раз приостановилась и молча посмотрела на доктора, ловя его взгляд. Доктор Арнольди отвернулся.
Ребенок вдруг затих. Он словно почувствовал приближение чего-то страшного и в упор смотрел на доктора Арнольди мутными, невидящими, но как будто понимающими глазами. Даже дернулся в сторону, но сильные, покрытые рыжим пухом, как у мясника, руки фельдшера удержали его. Доктор медленно и осторожно коснулся тоненького, налившегося кровью, мучительно бьющегося птичьего горлышка. Узкое острие блестящего ножичка кольнуло, нажало и прорезало кожу. Мгновенно было омерзительное ощущение скрипящей живой ткани, и вдруг выступили красные бисерные капельки. Глубже врезался ножик, ловко минуя хрящи, и кровь струйкой потекла из-под толстых пальцев доктора Арнольди, обвивая шейку красным ожерельем. Ребенок замер, потом вздрогнул и весь задергался в мелкой дрожи, как кролик, которому просверливают череп. Маленькая трубка, пачкаясь кровью, легко вошла в темное, булькающее отверстие, и вдруг хриплое, свистящее дыхание прекратилось. Как будто во всем мире настала мгновенная тишина, и все замерло кругом в созерцании великой тайны.
Доктор Арнольди плюнул, и слюна, окрашенная кровью, густо и тяжко шлепнулась в воду.
Новое, ровное и спокойное дыхание, чистое, как воздух, послышалось в комнате, и было красиво и легко, как самая лучшая музыка, какую может слышать человеческое ухо.
Но доктор Арнольди был сумрачен. Глаза его смотрели пытливо и сурово. Он долго молча стоял над кроватью, потом коротко махнул толстой, явственно задрожавшей рукой.
Рыжий фельдшер быстро собирал инструменты.
Ребенок лежал смирно, вытянувшись, покойно, положив ручки. Но личико его было бледно, и синеватая тень проступала на нем. Тише и тише слышалось его освобожденное дыхание.
VI
Уже вечерело, когда доктор Арнольди, потный и замученный, выходил со двора.
Солнце село, и чистые мягкие краски желтели на небе. Сады потемнели и стали уже не пыльными и сухими, а зелеными, полными сумрака и свежести. Ветерок мягко налетел на горячее лицо доктора, и милым холодком обвеяло его мокрый лоб. Новые, облегченно радостные звуки слышались со всех сторон. Точно тяжесть свалилась с земли и стало легче дышать. Где-то смеялись, кто-то перекликался звонкими голосами, с церкви звонили ко всенощной. Все было красиво и радостно, как бывает только ясным вечером, после долгого, невыносимо жаркого дня.
Только за плечами доктора осталась душная темная комната, где в сумраке, быстро холодея, лежал маленький вытянутый трупик. Там уже, как черные мухи над падалью, юрко шныряли какие-то темные старушки, и в открытое окно слышался дикий, пронзительный, исступленный крик:
— Ой, Гришенька, мой Гришенька! Ой, матушки мои родненькие!..
И доктору Арнольди казалось, что везде тихо, тихо, и даже далекое небо со вниманием прислушивается к этому одинокому воплю.
У калитки его нагнал молодой мещанин. Его бледное, с клочковатой рыжей бородкой лицо было мокро, и глаза смотрели по-прежнему испуганно и отчаянно. Он, должно быть, даже не видел доктора и, что-то бормоча дрожащими губами, совал ему сжатый кулак.
— Вот… вот… вот… — бессвязно бормотал он. Доктор Арнольди машинально взглянул на его кулак и увидел зажатый угол бумажки.
— Э… зачем это! — с досадой сказал он, махнув дрожащей толстой рукой.
— Возьмите, возьмите… как же, трудились, мы понимаем… воля Божия… — совершенно бессмысленно повторил мещанин, продолжая совать свой черный, точно обугленный кулак.
Доктор Арнольди вдруг сердито насупился, урывком взял деньги и, быстро отвернувшись, пошел в калитку. Согнувшись так, точно боялся удара сзади.
Беловолосый Никитка встретил его глупой, заждавшейся улыбкой.
— Кончился? — спросил он, когда доктор уселся на заскрипевшее под его тяжестью сиденье пролетки.
— И ты, дурак, когда-нибудь кончишься… — машинально ответил доктор Арнольди и пихнул его в спину набалдашником палки.
Никитка весело засмеялся этой остроумной шутке и тронул рыженькую застоявшуюся кобылку.
Пыль тяжело поднялась за колесами, и, когда доктор быстро заворачивал за угол, в чистом вечернем воздухе еще долетел до него пронзительный, сверлящий небо крик: Ой, матушки мои родненькие!.. Ой, Пресвятая Богородица!
Пролетка завернула за угол, и все стихло, как не бывшее.
VII
Был совсем вечер, и далеко в степи погасала холодная зеленоватая заря, когда доктор Арнольди, усталый и угрюмый, заканчивал свои визиты.
Он давно уже перестал различать своих больных и равно уныло шел к детям, женщинам, старикам и молодым людям. Но месяц тому назад его позвали к больной актрисе, умирающей на родине, и как-то незаметно доктор Арнольди привык каждый вечер после всех визитов заходить к ней. Сначала он лечил ее, но болезнь была неизлечима, и он оставил. Только приходил, садился, как будто на минуту, не выпуская из рук шляпы и палки, и просиживал целые часы в тишине сумерек, под непрерывную тихую болтовню больной, мало-помалу привыкшей к нему и рассказавшей ему всю свою жизнь, бурную, нелепую жизнь актрисы.
И если что-либо важное задерживало его, доктору Арнольди уже недоставало этого тихого голоса, печальных глаз и той задумчиво-кроткой грусти, которая веяла на его усталую душу в комнате больной в тихие летние сумерки.
Как всегда, грузно опершись скрещенными руками на толстую палку и положив на них толстый, жирный подбородок, доктор сидел по одну сторону широко раскрытого в сад окна. По другую, в кресле, обложенная белыми подушками, сидела больная и тихо, торопливо, точно спеша высказать что-то неизмеримо важное, говорила:
— Какой вечер, доктор!.. Как хорошо!.. Мне бы хотелось умереть именно в такой вечер. Я больше всего боюсь, что умру ночью… Страшно будет, док-юр!.. Ведь там, в могиле… будет темно… темно… Мне уже смешно чего-нибудь желать, не правда ли, а все-таки хотелось бы, чтобы последнее, что я буду видеть, было бы вот такое тихое погасающее небо… Как-то легче будет: день потихоньку умирает, небо темнеет, ну, и я умру… Я уже примирилась с этой мыслью, доктор… Вы не бойтесь, милый, я не буду плакать, как в прошлый раз. Зачем плакать, когда этим все равно не поможешь!.. Мне только страшно: мне все представляется, как меня отнесут на кладбище и зароют… Потом все уйдут по домам, а я останусь одна, совсем одна… Придет ночь, кресты будут стоять кругом, может быть, подымется ветер, а вокруг будет темно. Страшно, доктор! Я, конечно, знаю, что уже ничего не буду чувствовать тогда, но теперь мне страшно. Доктор, вы такой милый, добрый… Обещайте мне, что когда все уйдут, вы останетесь на кладбище и немного посидите со мной… Обещаете? Если я буду знать, что вы это сделаете, мне не так страшно будет.
— Я посижу, — сказал доктор глухо.
— Ну, спасибо! Я знаю, доктор, что вы не так скоро забудете меня, как другие… Милый доктор, отчего вы всегда такой угрюмый? Впрочем, это я глупости спрашиваю: разве можно болтать и смеяться, когда чуть не каждый день провожаешь кого-нибудь в могилу. А вы будете меня вспоминать, доктор? Это тоже смешно, что я говорю: ведь вы столько людей, верно, проводили на своем веку в могилу, что где же вам помнить всех!
— Я всех помню! — также глухо ответил доктор, и лица его, толстого большого лица, не было видно в сумраке.
— Да?.. Вот оттого вы такой и печальный! Знаете, доктор, вы добрый, страшно добрый и мягкий человек… Только несчастный. Вас многие считают тяжелым и неприятным человеком, я и сама сначала вас боялась. Но теперь мне кажется, что я вижу всех людей насквозь… как-то иначе, чем прежде. Вот, говорят, что умирающие начинают видеть и понимать такое, что недоступно здоровым людям… И вот я вижу ваше большое доброе сердце и знаю, что вам очень тяжело жить. Зачем столько страданий на свете, доктор?
— Не знаю, — ответил доктор Арнольди.
— Не знаю, не знаю… Никто не знает! — тихо, как будто про себя, повторила больная и на минуту замолкла.
В сумерках лицо ее казалось совсем белым, и на нем чересчур отчетливо чернели темные глаза. Большие скорбные глаза, с непонятным выражением смотревшие вверх, на широкое чистое небо, погасавшее над садом. Отблеск зари бледно ложился на ее впалые щеки и тонкие, еще красивые руки, бессильно лежавшие поверх пледа, которым были укутаны ее ноги.
— Доктор, — заговорила она прежним тихим и торопливым шепотом, — теперь я думаю только об одном, о чем никогда не думала, пока была молодая и здоровая… Зачем я была такая злая, придирчивая и жестокая? У меня была какая-то мания преследования, и сколько напрасного горя причинила я даже тем людям, которых сама любила. Мне все казалось, что все поступают несправедливо, все меня оскорбляют, хотят мной просто воспользоваться для своих интересов, а в сущности, меня никто не любит… Я никому не верила и за каждым словом искала какую-то тайную и непременно гадкую мысль… Боже мой, сколько было ссор, неприятностей, обид… Страшно вспомнить, сколько крови было попорчено, а из-за чего? Теперь я ясно вижу, какие все это были пустяки! Если мне и лгали, то что ж из того… да и лгали больше потому, что я не переносила правды, если она была мне неприятна… И потом, меня просто боялись многие, потому что я была страшно несдержанна и когда разозлюсь, готова была черт знает чего наговорить… мучила всех. Кто меня больше любил, того я больше всех и мучила!.. Что я такая была за особенная, чтобы для меня все переделались?.. Ведь если кто-нибудь тебя любит, надо благодарить за это, а я смотрела на это, как на какое-то свое право!.. А ведь сколько радости погибло из-за этого, сколько мучений пережила я сама!.. Зачем все это, когда можно было жить так хорошо, ласково, любовно! Знаете, когда теперь мне уж так мало осталось жить, как мне больно за каждую минуту, потерянную так глупо! Мне кажется, что если бы я могла передать, как больно, стыдно, досадно бывает перед смертью за все то, что сделаешь глупого и дурного в жизни, много зла исчезло бы!.. Но я не могу этого передать. Только иногда так бывает больно, что готова голову себе разбить о стену… да не воротишь!.. Ужаснее всего, что не воротишь!
Повернув свою большую тяжелую голову к окну, доктор Арнольди смотрел в сад. Кто-то неслышно ходил там под тихими деревьями.
— Что вы там смотрите, доктор?.. Это Нелли… знаете?
Доктор молча смотрел в окно и о чем-то думал. Больная прислушалась к тихим шагам в саду и сказала так тихо, точно боялась разбудить больного ребенка:
— Несчастная она! Положение ее ужасное. Вы знаете сами, как у нас смотрят на эти истории. Впрочем, я и сама когда-то так смотрела. Только теперь, когда мало жить осталось, я много передумала, доктор, и понимаю, как несчастен человек, как мало у него радости и как жестоко осуждать его за что бы то ни было!
Она опять задумалась и тихонько перебирала край толстого пледа тонкими прозрачными пальцами, в которых осталось так мало жизни, что они казались восковыми.
Доктор Арнольди все молчал, и его грузная фигура черным пятном расплывалась в сумраке вечера.
— Бедная Нелли! — опять заговорила больная. — Ну, была минута увлечения… Кому она этим сделала зло?.. Можно подумать, что людям просто завидно видеть счастье и они хотят всеми силами добиться, чтобы все испортить и чтобы счастливых не было!.. Ну, сошлась, ну, родит ребенка… ну, и слава Богу. Так нет же… Выгнали ее отовсюду, из учительниц прощали… Что ж она будет делать, чем жить?.. На улицу идти?.. Этого, что ли, надо было? Ну, хорошо — я ее взяла, а если бы меня не случилось!.. Несчастная девочка. Целый день возится с чем-то, работает, за мной ухаживает, а по вечерам ходит в саду… ходит и молчит, все молчит. Иногда поет про себя потихоньку. Так грустно бывает слушать ее. Иногда я плачу и думаю: ну, вот умру я, умрет Нелли, умрут все, кто ее презирал и преследовал, будут жить другие люди, которые даже не будут знать о нас… Зачем же такая коротенькая, маленькая жизнь еще отравляется грязью и злостью? Мне бы так хотелось ее утешить, приласкать… Но она гордая страшно, даже от меня, умирающей, сторонится. Тяжело ей, доктор!
Доктор Арнольди издал какой-то короткий странный звук, точно у него в горле что-то пискнуло, и еще тяжелее опустил подбородок на руки. Больная взглянула на него скорбными, блестящими даже в темноте глазами, но ничего не увидела и опять заговорила:
— Грустно, доктор, жалко… Жалко себя, жалко Нелли, жалко этого неба, жалко умирать, доктор! И еще тяжелее, доктор, умирать одной. Когда я была на сцене, вокруг была масса людей, а теперь все забыли. Я не жалуюсь, к чему!.. И опять-таки — сама виновата: я всегда хотела, чтобы меня любили такой, как я есть… пусть злая, пусть подлая, какая угодно! Ну, и любили только за то хорошее, что у меня было, — за красивое тело. А тело вот умирает, и у меня не осталось ничего, чем я могла бы привлечь к себе… Если бы вы знали, как я злилась, когда меня пробовали переделывать, просили, чтобы я не была такой раздражительной, требовательной и злопамятной… Ну, вот и расплата!.. Я даже не упрекаю Арбенина, что он меня бросил, когда я заболела. Он здоровый, веселый человек, любящий жизнь и женщин. Ему нужна любовница, а не пара умирающих печальных глаз… Что ж, я ведь не старалась, чтобы он полюбил мою душу, чтобы эта душа была достойна любви. Ну, и умру, как собака… Пусть. Когда-нибудь будет и он умирать, тоже, верно, забытый всеми… тогда он вспомнит обо мне и пожалеет… И ему будет так же тяжело, и он тоже поймет, что вся его жизнь была ошибкой!.. Ну, что ж, ничего не поправишь теперь… Одна так одна!.. Вот приехала на родину умирать. Никого у меня тут нет, а так, просто захотелось умереть на старом месте. Все мне здесь так знакомо, как будто я уже и не одна. Слишком было бы тяжело где-нибудь в санатории или гостинице… А я ведь, доктор, здесь в гимназии училась! Больная тихонько засмеялась.
— Как странно, что человек никогда не угадает своей жизни: думала ли я, когда ходила здесь девочкой, гимназисткой, с книжками и в черном фартучке, что буду лежать у этого самого окна, где учила уроки, такой большой, длинной, чахоточной бывшей актрисой!.. Или… А впрочем, я не умею этого высказать. Будет! Я все болтаю, все болтаю, а вы, доктор, должно быть, устали, да и тяжело вам слушать мою болтовню. Идите, милый, я, может быть, скоро засну. Идите.
Доктор Арнольди тяжело встал.
— Заходите же ко мне. Я знаю, что вы меня больше не лечите… Где уж тут, а так заходите, милый доктор…
Доктор Арнольди огромными пухлыми пальцами взял протянутую ему легкую слабую руку и вдруг, наклонившись всем своим неповоротливым, грузным телом, поцеловал бледные, умирающие пальчики.
Больная не удивилась, только засмеялась ласково и печально.
— За что?.. Ну, идите, милый… Бог с вами!
Доктор Арнольди тихо побрел из комнаты, а она осталась у окна, и все бледнее таяло ее лицо в белых подушках, при слабых отсветах потухающей зари. Точно стирался и бледнел какой-то нежный драгоценный рисунок.
На дворе было гораздо светлее, и как всегда, когда из темной комнаты выходишь на двор, доктор удивился, что еще так светло. Небо вверху только стало глубже, и первые звезды засветились робким, прозрачным блеском, как золотые льдинки. Из сада, пряно и сыро, плыло дыхание каких-то печальных, точно больных цветов, а под деревьями столпились первые молчаливые жуткие тени.
У самой калитки доктор Арнольди столкнулся с молодой женщиной. Она пугливо посторонилась, и доктор, проходя мимо, успел рассмотреть только темные глаза, жестко сдвинутые брови и блестящий, не то испуганный, не то грозный взгляд. Она неподвижно стояла под деревьями, в тени, пока доктор прошел, и проводила его странным взглядом, прижав к груди, к темному платью бледные тонкие руки.
«Это, верно, и есть Нелли…» — подумал доктор.
В калитке он невольно оглянулся.
Она все еще стояла на том же месте и, казалось, ждала, когда, наконец, он уйдет.
Доктор Арнольди поскорее закрыл калитку.
Вечер принарядил городок веселыми живыми огнями. Далеко, в городском саду, как каждый вечер, играла музыка, и в ту сторону то и дело проходили белые в сумраке барышни в светлых платьях и молодые люди с огоньками папирос и развязными, громкими голосами. В конце улицы был виден огромный, изнутри освещенный полог бродячего цирка и гирлянды разноцветных фонариков у его входа. Везде казалось весело и беззаботно.
VIII
Дома доктор Арнольди зажег свечу, снял пиджак и устало сел к столу, на котором уже кипел маленький самоварчик и одинокий стакан ждал своего старого господина.
В комнате было пусто и неуютно, как в номере плохой гостиницы. В голых стенах стыл затхлый запах старого холостяка. Кровать была слишком узка для такого большого толстого человека. На подоконнике мокли от сырости папиросные окурки, а пыль мягким слоем окутывала этажерку с толстыми зелеными книгами. В открытое окно влетали и вылетали ночные бабочки. Они стремительно кружились у огня свечи и ползали по скатерти, бессильно трепеща тонкими крылышками. Их непомерно большие тени, словно нетопыри, бесшумно мелькали по стенам, а за спиной доктора, перегнувшись на потолок, стояла его собственная огромная тень. И было похоже, будто кто-то черный и близкий наклонился над ним в безмолвном ожидании.
Из окна чуть плыл ночной холодок. Вытянутое пламя свечи колебалось, и в ее желтом восковом свете казалось, что усталое, обрюзглое лицо доктора делает странные гримасы.
Издалека долетали звуки музыки. И хотя, должно быть, там играли что-нибудь такое же бойкое и пошлое, как блеск разноцветных фонариков и закрученные усики полковых писарей, гуляющих с модистками, здесь, в комнате старого доктора, казалось, что музыка возвышенна, печальна и красива. Изредка громче долетал одинокий медный голос трубы, забирал все выше и выше и замирал где-то под звездным небом тоскливой зовущей нотой.
Доктор молча слушал эти звуки, стакан за стаканом пил крепкий чай со сладким вишневым вареньем и устало смотрел то на огонь свечи, то на свои толстые пухлые руки, то на ночных бабочек, кружащихся в неистовом танце.
Их было много, и все новые и новые прилетали из тьмы, стремясь к ослепительному, жестокому свету. Зеленые, белые, желтые и пестрые, маленькие, как лепестки крошечных цветов, и толстые, мохнатые, они то сидели на скатерти неподвижно, как бы в напряженном созерцании, то порывисто взлетали и страстно кружились в нестерпимом блеске страшного огня, то упорно описывали по столу странные, болезненные круги, с безумной быстротой колотя крылышками, которые уже не могли летать. Их напряженное неустанное движение создавало странную, таинственную суету, полную неслышного страдания и бесшумных порывов. А на стеарине свечи, слегка оплывшей от дыхания раскрытого окна, изуродованные и заплывшие, прилипли их крошечные трупики. Ни одного звука не было слышно в этой исступленной борьбе за жизнь с непонятным влекущим и сжигающим огнем.
Или, может быть, их просто не слушал зажегший свечу доктор Арнольди, каменное лицо которого молча смотрело на них сверху.
Кто-то быстро взбежал на крыльцо и с шумом распахнул дверь. Вспыхнула и заметалась свеча, и тревожно шатнулась гигантская тень на стене.
Доктор Арнольди, должно быть, хорошо знал, кто это, потому что не тронулся с места и только через протянутую за вареньем руку неторопливо посмотрел на дверь.
— Здравствуйте, доктор! — громко и весело сказал гость, и голос его, точно целый аккорд звуков молодости, силы и радости, раскатился в тишине унылой комнаты.
— Чаю хотите? — вместо приветствия спросил доктор Арнольди.
— Еще бы! — так же громко и весело ответил гость, бросил на кровать белую шляпу и сел на стул против доктора. Сел, откинулся на спинку, засмеялся и молча уставился на доктора таким блестящим и возбужденным взглядом, точно видел его в первый раз и был поражен этим интересным курьезом. Что-то неудержимо играло и сверкало в больших темных глазах его.
Доктор Арнольди с привычностью старого холостяка достал новый стакан, основательно и медлительно вымыл и, налив крепкого, как пиво, чаю, подвинул гостю.
— Берите варенье… вишневое… — пропыхтел он.
— Вишневое? О, непременно! — ответил гость с комическим пафосом.
Доктор Арнольди угрюмо покосился на темные блестящие глаза, на белый лоб, на мягкие вьющиеся волосы, на все это мужественное и милое лицо и вдруг стыдливо и ласково улыбнулся.
— Чего вы радуетесь, доктор? — сейчас же подхватил молодой задорный голос.
Доктор опять посмотрел и медленно пропыхтел:
— Пейте чай, Михайлов.
Он хотел сказать совсем не то: как хорошо быть таким красивым, молодым и беззаботным и как мне, старому угрюмому человеку, завидно и приятно смотреть на вас!
Но он не сказал этого. Вялый, унылый язык не повернулся.
Михайлов засмеялся.
— Ах, доктор, доктор!.. И не стыдно вам быть таким сычом?.. На дворе вечер, звезды, женщины смеются, а он сидит себе один, чай с вареньем пьет…
— Поживите с мое, — ворчливо возразил доктор Арнольди, — а тогда приходите на это место и потолкуем.
Михайлов посмотрел на доктора пытливым задумчивым взглядом, и прекрасное лицо его вдруг потемнело. Неясная тревога тенью прошла по блестящим глазам, и чуть-чуть дрогнули, как бы в темном предчувствии, красивые губы. Но он сейчас же тряхнул головой, засмеялся, и лицо его опять засверкало молодостью и жизнью, точно весенний ветер сдул случайную тучку.
Доктор Арнольди молча наблюдал эту мгновенную и резкую смену выражений, в быстроте и яркости которой была какая-то непонятная, влекущая прелесть, и подумал, что не в этой ли способности мгновенно и ярко отражать самые тонкие и глубокие движения души и кроется секрет того страшного обаяния, которым пользовался этот человек над женщинами. И вспомнил при этом доктор печальную Нелли: как она стояла в тени деревьев, крепко прижав к груди тонкие бледные руки, точно стараясь удержать в ней какую-то драгоценность. Вспомнил ее не то испуганный, не то грозный взгляд.
— О чем вы задумались? Что вы сегодня делали, доктор? — спросил Михайлов и неожиданно громко запел: — … Что день, несем в могилу мертвеца!..
И прежде чем доктор успел ответить, заговорил быстрым и как будто не совсем уверенным тоном:
— Вот вы все упрекаете меня… А вам бы, казалось, и понять… что как ни живи, а конец один!.. Назад не придешь. Ну, и живи так, чтобы вся кровь кипела, чтобы ни одна минута даром не пропала, чтобы потом не пожалеть: вот, мол, мог взять от жизни и не взял. Э, доктор.
— А разве жизнь только в этом?
— В чем?
— Ну, в женщинах… — опуская глаза, пояснил доктор Арнольди.
— При чем тут жизнь! — засмеялся Михайлов. — Жизнь это факт, и притом довольно-таки скверный факт… А я говорю о радостях жизни, тех радостях, без которых вряд ли бы кто и терпеть стал эту штуку. А вы знаете, доктор, сколько радости может дать женщина?
— Ну! — неопределенно промычал толстый доктор.
— Не ну, а да!.. Вы этого просто не знаете и не понимаете, доктор, а то вы не были бы таким замкнутым, угрюмым человеком… Да вы что думаете?.. Не в самом половом акте тут наслаждение. Это только естественный конец, без которого было бы чувство незаконченности, неудовлетворенности. Это так, конечная степень близости, и все… А главная прелесть не в том.
— А в чем? — уныло спросил доктор Арнольди.
— Ну, как я вам, мертвому человеку, это объясню… Вот вы встречаете молодую красивую женщину… Сначала она для вас такая холодная, совершенно чужая, холодная… Вы можете ею любоваться, но коснуться не смеете. Все в ней для вас еще загадка — ее перчатки, ее голос, цветы на ее шляпе, шелест ее платья, глаза, в которых прячется теплая глубина, но которые смотрят на вас, как сквозь ледяную стену… Ее красота не для вас, вы для нее — ничто, а с другим она не такая… теплая, полная ласки, страстная… И вот, повинуясь какой-то странной власти вашего желания, это таинственное, гордое и холодное существо начинает теплеть… С каждым мигом она становится ближе, понятнее, милее. В неуловимо тонкой игре, где вы нападаете, а она отчаянно защищается, то приближаясь, то удаляясь, она увлекает вас, наполняет всю вашу жизнь одним смыслом, одной целью. С каждым днем она раскрывается перед вами, как цветок, лепесток за лепестком, раскрывается навстречу солнцу, во всей своей бесстыдной прелести… И вдруг, в какой-то миг, которого никогда вы не поймете и не вспомните, она вся загорается, исчезает ее стыд, падает гордое, целомудренное платье, и во всей красоте остается перед вами одно горящее, горящее от счастья и муки нагое тело… Доктор, вы знаете прелесть и красоту женского тела?.. И оно сливается с вашим в таком безумном, бешеном наслаждении, что весь мир отступает куда-то… вас только двое, вы для нее, она для вас… Ведь на этой игре основана вечная, прекрасная сказка о Галатее!.. А какая, доктор, глубина чувств и переживаний!.. Вы то плачете от ревности, то поете от радости, то готовы ее замучить на медленном огне, то ноги ей целовать!.. Пусть это и сумасшествие, но сумасшествие восторга!.. Какая красота — каждая молодая красивая женщина. Когда она вас любит, все окрашивается в тона ее любви. Весь мир кажется вам другим. Только тогда вы истинно живете, только тогда вы в самом деле видите, как солнце светит, как луна красива и таинственна, как хороши летние теплые ночи… Вы знаете, когда я был влюблен в первый раз, была весна… Только что начал таять снег… И вот, Бог знает уже, где эта девушка, а на всю жизнь осталось одно впечатление: бывало, я провожал ее домой ночью… и светло, и темно, где-то звенят ручьи, пахнет талым снегом и весенним упругим ветром… сколько лет прошло, а когда ночью я услышу запах талого снега, у меня сердце сжимается от невыносимо сладкой трогательной грусти… Хочется увидеть ее, приласкать, молча идти с нею по темным улицам… И плакать хочется, и молиться, и благодарить жизнь за то минувшее, далекое счастье!
Михайлов широко раскрыл глаза, точно видя перед собой что-то невидимое доктору, и молча загляделся на пламя свечи.
— Так-то оно так, сказал доктор Арнольди. — Только больно за эти радости платиться приходится…
— Ну, сказал Михайлов, — в жизни за все приходится платить… Было бы хоть за что!
Доктор помолчал и опять вспомнил бледную Нелли.
— А вы знаете, кого я сегодня видел? — нерешительно проговорил он. — Кого? — спросил Михайлов быстро, и по лицу его мелькнуло сосредоточенное, упрямое выражение.
— Эту вашу, как ее… Нелли… — не глядя, сказал доктор Арнольди и в замешательстве потянулся за вареньем.
Михайлов молча смотрел на него, точно хотел проникнуть в самую глубину его души.
— Девушка-то ведь погибла!.. — тихо докончил доктор.
Михайлов ответил не сразу, как будто борясь с чем-то.
— А, доктор! — почти со злостью сказал он. Ну, и погибла!.. Что значит, погибла?.. Мы были счастливы, ну, и слава Богу! Что ж, лучше было бы, если бы она засохла старой девой, без радости и воспоминаний, или вышла замуж за… какого-нибудь чиновника?.. Подумаешь, какую драгоценность потеряла!..
Доктор Арнольди молчал. Ему в самом деле показалось, что лучше уж было принадлежать Михайлову, красивому, любимому, страстному, интересному человеку, чем кому-либо другому.
— Да и кто в этом виноват? — опять заговорил Михайлов со странным ожесточением. — Я ее не обманывал, вечной любви не обещал… Она знала, на что шла…
— Увлеклась… заметил доктор осторожно.
И я увлекся! — бешено крикнул Михайлов. — Это жертва не моя, а всего уклада жизни!.. Будь другая жизнь, ничего, кроме радости, в этом и не было бы… Пусть люди устроят себе иные порядки, если хотят быть счастливыми, а не требуют у меня снисхождения! Не ждать же мне, пока я сам умру?.. Я не понимаю и не хочу признать этою!..
— Вы ж ее бросили… еще тише заметил доктор Арнольди.
— Я ее не бросал… Мне хочется жить. С какой стати я принесу свою жизнь кому бы то ни было в жертву?.. Женщин много, все они красивы, мне хорошо с ними, а я буду мучить, коверкать, притворяться, кого-то обманывать!.. Ей нужна была какая-то вечная любовь, у меня ее нет… ну, и разошлись… Вы знаете, доктор, я даже и теперь люблю ее, и мне больно, что она несчастна… Я никогда не забываю женщин, с которыми жил, и на всю жизнь сохраняю к ним нежность, но мне не по силам, да и не вижу я смысла убить свою душу, чтобы одна из них была счастлива… Да и какое счастье в этом?.. Зубами держать человека на привязи! Странное дело! Всю жизнь люди стараются связать себя попарно, ничего, кроме гадости, из этого не выходит, ни одного счастливого брака, ни одной вечной любви еще не получилось, а непременно надо и всех заставить так жить!.. Что мы, хотим, чтобы как-нибудь, прости Господи, ненароком, счастья не получилось где-нибудь, что ли?
— Ревность ведь тут играет большую роль…
— Ревность? — задумчиво переспросил Михайлов. — Да, конечно… Но только и рабство играло большую роль в человеческой психологии, да ведь победили же!.. А это хуже рабства! Это систематически калечило и будет калечить человечество… А тех, кто идет против этого рабства, самого скверного из рабств, потому что это одновременно рабство и души, и тела, и чувства, и всего, что есть в человеке… тех считают чуть не злодеями… Да что об этом говорить!.. Я хочу жить так, как живу, и буду!
Доктор понурил голову и позвенел ложечкой в стакане. Он ничего не мог возразить, потому что все возражения были мелки и пошлы. Какая-то смутная правда была в этом, и с нею спорить было нельзя. Только бесконечная цепь страданий представлялась ему, и странно было подумать, что такое светлое, яркое, живое чувство, такое захватывающее, вечное наслаждение ведут только к страданиям.
Михайлов молчал, и по его красивому лицу ходили мрачные ожесточенные тени.
Доктор Арнольди украдкой взглянул на него.
— Ну, хорошо, — сказал он, — пусть это все так, но ведь радость всегда будет отравлена чужими страданиями…
— А вы думаете, я не знаю этого? — странно спросил Михайлов, и явная судорога боли искривила его губы.
— Да… — пробормотал доктор Арнольди. — Можно ведь жизнь наполнить чем-нибудь другим…
— Чем?
Мало ли деятельности… Вот у вас искусство… Михайлов криво улыбнулся.
— Жизнь, должно быть, так устроена, доктор, что все, что ни делай, — одно страдание!
Лицо его мгновенно и резко изменилось, глаза потухли и в них мелькнуло выражение грусти и боли.
— Вы знаете, что такое искусство? Нет?.. А я знаю!.. это одно сплошное страдание… Сколько раз мне приходилось слышать от больших художников, что они хотели бы быть самыми простыми ремесленниками, чиновниками двадцатого числа… Это, конечно, моменты упадка духа, но представьте себе, что надо переживать и сколько страдать, чтобы мечтать о пошлости, как о счастье! Вы понимаете это?
— Я понимаю, — кивнул головой доктор Арнольди.
— Ведь для того, чтобы быть художником, надо быть сумасшедшим, — продолжал Михайлов, и в его темных глазах загорелась искра маньяка, — потому что только сумасшедший и может жить в таком вечном напряжении, до капли высасывая свой мозг, ради какой-то странной, в сущности мало понятной идеи. Ох, это ужасная штука!.. Когда вы работаете, вы горите на медленном огне. Все, что вы сделаете, кажется вам отвратительным, вам стыдно своей работы и страшно, что кто-нибудь увидит се, когда она так еще мала, ничтожна и слаба. Вы начинаете презирать себя: как это я могу быть таким ничтожным, бесцветным? Хочется плакать иногда. — Почему другие могут, а я не могу? И ужаснее всего то, что вы никогда и не поверите всем сердцем, всерьез, что вы сделали хорошую вещь. Какая-то странная раздвоенность получается: если вас хвалят, вам кажется, что это из деликатности, когда бранят, вам кажется, что это ваши враги, что они просто вас не понимают или нарочно притворяются, чтобы уязвить лично вас. И так всегда, до самой могилы… А еще ужаснее, если до падения таланта! А сколько таких примеров на глазах!.. А для чего в конце концов все эти страдания?
Доктор Арнольди хотел что-то возразить, но не успел.
— Я знаю, что вы мне скажете, — перебил Михайлов, с горящим лицом и напряженными до исступления глазами, — вес знаю, что можно сказать в возвеличение искусства и тому подобное… А все-таки это только бред какой-то!.. Не то истерическое самолюбие, не то еще что-то хуже… Вот я два месяца сидел над своим «Лебединым озером»… Что это за озеро? Почему?.. Ну, пусть, не в том дело… Вы знаете, когда передо мной, как живой, и прекраснее, чем живой, отразился, наконец, в темной воде белый лебедь… Вы понимаете? Такой гордый, чистый, холодный белый лебедь, над холодной темной глубиной… я чуть с ума не сошел от восторга! Мне хотелось бежать на улицу и всем рассказывать о важности того, что я сделал… Кажется, если бы я увидел своего лебедя в действительности, я стал бы на берегу на колени, сложил бы руки и заплакал от умиления и гордости. А когда кончил, посмотрел, стало мне грустно, больно, доктор.
— Почему же? — с недоумением спросил доктор.
— Не знаю… не могу объяснить… Тут-то и заложено что-то… Это такое странное чувство… Ну, как если бы оторвал кусок сердца с кровью и бросил бы его… Я вдруг почувствовал, что между мной и моей картиной, над которой я столько перестрадал, ровно ничего нет! Все мои восторги и страдания растаяли в какой-то безнадежной пустоте. Написал лебедя, и кончено… только и всего… Я должен жить сам по себе, картина сама по себе… И кажется мне: будет мой белый лебедь висеть в какой-нибудь большой холодной зале музея… С одной стороны будет «Слово о полку Игореве», с другой какой-нибудь «Скотный двор», «Богатырь на распутье», «Иван Грозный»… все будет висеть в ряд. Я буду далеко, буду жить и с тем же мучительным напряжением писать еще что-нибудь… Потом еще, потом еще… пока не умру… И если умру на сотой картине, для меня это будет все равно, как если бы умер и на десятой! А в музее все будет холодный ровный свет, молчаливые картины… Посетители будут бродить с больными от внимания шеями… сто лет пройдет, а мой лебедь все будет отражаться в темной воде…
— Ну, что ж… это и хорошо… — заметил с недоумением доктор Арнольди.
— А… — с досадой вскрикнул Михайлов. — Вы не понимаете!.. Ведь он будет жить без меня! Как будто сквозь меня пройдет что-то нужное, а может быть, и ненужное кому-то, а я останусь сам по себе, какой-то забытой тряпкой на мусоре… Понимаете, это не я сам, а… понимаете… Нет, я этого выразить не могу!
Михайлов вскочил и заходил по комнате. Огромная тень, перегибающаяся на потолке, такая же, какая стояла за плечами доктора Арнольди, пошла за ним и неотступно ходила из угла в угол, сгибаясь и кривляясь. Ни доктор, ни Михайлов ее не заметили.
Михайлов долго ходил молча, и по лицу его было видно, как стремительно продолжали нестись в его мозгу разбуженные, страдальческие мысли. Потом он неожиданно остановился, тряхнул, по своей привычке, головой и засмеялся так звонко и резко, что доктор даже вздрогнул.
— Все это чепуха, доктор!
— Чепуха? — как эхо, машинально повторил доктор Арнольди.
В эту минуту ему представился белый холодный зал музея, ряды картин, холодок торжественной тишины и, как могильный памятник над чьими-то страданиями, белый лебедь, навеки застывший над темной таинственной глубиной.
— А? Что вы сказали? — переспросил он, опомнившись.
— Пойдемте в клуб, доктор, вот что я говорю, — весело, но с каким-то надрывом сказал Михайлов.
— В клуб? — повторил доктор Арнольди и вздохнул.
— Да не вздыхайте вы, доктор, ради Бога! — закричал Михайлов и, схватив доктора за толстые плечи, потряс с ласковой угрозой.
Он уже опять стал прежним, веселым и беззаботным, точно эго и не он вызывал из тьмы мертвенно прекрасное холодное видение вечного лебедя.
— Ну, пойдем, посмотрев на него, согласился доктор Арнольди и грузно поднялся.
Михайлов схватил свою белую шляпу, доктор Арнольди натянул на толстые плечи неизменный парусиновый пиджак и, потушив свечу, мгновенно погрузил комнату во мрак, в котором бесследно, как не бывшие, исчезли и черные тени, и безмолвные бабочки.
Они вышли во двор.
Огромное звездное небо раскинулось над ними и обняло холодом вечного простора. Вверху все искрилось и сверкало. Млечный путь серебристой, морозной пылью тянулся по темно-синему куполу, уходящему в недосягаемую высоту. На земле же все было черно и темно, и Михайлов едва не полетел с крыльца.
— Осторожнее, тут ступеньки… — запоздало предупредил доктор.
— Вы бы еще завтра сказали! — весело отозвался из темноты Михайлов.
Они не успели еще отойти от крыльца, как кто-то подъехал к воротам. Слышно было, как задребезжали колеса и зафыркала невидимая лошадь. Какая-то белая тень показалась в калитке.
Доктор Арнольди здесь живет? — спросил оттуда женский молодой голос.
— Вот тебе и раз! — досадливо пробормотал Михайлов, которому не хотелось идти без доктора.
— Я здесь, — отозвался доктор Арнольди. Женщина в белом подошла к ним. Она, видимо, торопилась и колебалась во тьме, как туман над водой.
— Простите, доктор, пожалуйста, я за вами! — быстро заговорила она, стараясь впотьмах рассмотреть доктора.
— Чем могу служить? — спокойно и медленно спросил доктор.
— Я за вами… — волнуясь, повторила молодая женщина, делая такое странное движение, как будто хотела положить руки на грудь доктору. Отцу очень плохо… не знаю, кажется, удар… Я сама поехала за вами… Пожалуйста, скорее!
Доктор Арнольди с высоты своего огромного толстого тела наклонился к се лицу и рассмотрел в темноте казавшиеся совсем черными глаза, пухлые губы и белый платочек, небрежно, наспех накинутый на волосы.
— С кем удар? — спросил он.
— Я Грегулова, — торопливо пояснила та самая девушка, с братьями которой занимался маленький студент Чиж.
Но доктор Арнольди уже узнал ее.
— А, это вы, Елизавета Петровна! Так с вашим отцом нехорошо? Что же это… давно?
И, не сообразив неуместности момента, доктор по привычке пропыхтел:
— Позвольте вас познакомить… Михайлов… В колеблющемся мраке при неясном отблеске звезд на Михайлова взглянуло незнакомое, хорошенькое личико с большими глазами и пухлыми наивными губами.
Девушка, почти не расслышав, подала ему руку и быстро повернулась к доктору:
— Едем скорее, ради Бога!
— Пожалуйте, — тяжело вздохнув, согласился доктор Арнольди.
Девушка пошла вперед, точно увлекая его за собой. Она шла легко и быстро, а грузный доктор тяжко поплелся сзади, как каторжник, опять прикованный к вечной тачке.
Михайлов молча проводил их за ворота, подождал, пока улеглась пыль, поднятая рослой купеческой лошадью, и пошел один вдоль темных улиц.
Ощущение мягкой женской руки и быстрый безразличный, как ему показалось, взгляд незнакомых глаз, таких чужих и равнодушных, опять пробудили в нем то странное, жгучее любопытство, которое властно влекло его к женщине. Он шел по темной улице, смотрел на усеянное блестящими звездами черное небо, и перед ним, во мраке, как будто колебалось смутное очертание круглых плеч, обтянутых светлым платьем, равнодушные темные глаза на белом лице, высокая грудь, все гибкое, манящее тело незнакомой девушки.
И почти больно и грустно было, что опять он стоит перед загадкой, что опять его влечет и манит неразрешимое, неутолимое чувство.
IX
В клубе были зажжены все огни, и он горел, как игрушечный домик со свечкой внутри. Широкие полосы веселого света ложились из открытых окон на темную улицу и освещали подножие мрачной церкви, уходящей к звездному небу своими таинственными куполами.
Передняя клуба была полна шляп, пальто, зонтиков и палок. Из карточных комнат уже плыл синий табачный дым, откуда-то доносились взрывы многоголосого смеха и сухой треск биллиардных шаров.
Михайлов не глядя повесил свою белую шляпу и спросил старого, с седыми солдатскими усами, швейцара:
— Кто есть, Степан?
— Да кто, — с фамильярной учтивостью принимая палку и ставя ее в угол, ответил швейцар, — народу много… Исправник тута, офицера… Захар Максимович…
— Арбузов? — быстро переспросил Михайлов и на мгновение как бы запнулся на пороге.
— Так точно, приехали с компанией. Корнет Краузе, штаб-ротмистр Тренев, студенты… народу много.
Михайлов, не слушая, пошел в библиотеку. Там было тихо, и от опущенных абажуров ламп казалось темно. Ярко белели только газеты и книги на зеленом сукне большою стола. Студент Чиж, поставив колено на стул и локти на стол, низко пригнулся к газетам. Незнакомый, не то поп, не то дьякон, углубившись в кресло и разметав по плечам обильные рыжие волосы, комфортабельно рассматривал иллюстрированный журнал.
— А, здравствуйте! — сказал Чиж, подняв голову. — Что это вас не видно?
— Работал, — нехотя ответил Михайлов. Он стеснялся Чижа, потому что чувствовал его презрительно-враждебное отношение к себе.
Рыжеволосый батюшка из-за края журнала косо посматривал на Михайлова. Чиж перебирал пальцами край газеты и, видимо, не знал, что еще сказать. Михайлов взял со стола книгу, посмотрел заглавие и положил.
— Да… неопределенно, — сквозь зубы сказал он, чувствуя себя неловко, точно в стане врагов.
Чиж молчал. Дьякон, не спуская глаз, выглядывал из-за своего журнала.
Михайлов не знал, что ему делать: встретиться с Арбузовым было тяжело, а уйти казалось унизительным. Вышло бы, как будто он испугался. И Михайлову стало и грустно, и досадно: он любил Арбузова искренно и тепло, учился вместе и долго жил с ним.
Теперь они должны были встретиться врагами, и Михайлова томило чувство вины, хотя он не признавал ее.
«В конце концов это дело самой Нелли!» — подумал он, морщась, как от боли.
Сквозь ярко освещенную дверь столовой доносились голоса, стук тарелок и раскатистый мужской хохот. Кто-то вышел оттуда и заслонил свет.
Невысокий широкоплечий человек, со спутанными кудрявыми черными волосами и черными, воспаленными от пьянства и бессонных ночей глазами шагнул в библиотеку.
— А… Сергей! — хриплым разудалым голосом крикнул он, неожиданно увидев Михайлова. — Здорово!
Немного пошатываясь, но все-таки твердо и широко шагая лакированными сапогами, он двинулся прямо к Михайлову. Эти лакированные сапоги, красная шелковая рубаха под расстегнутой синей поддевкой и взлохмаченные волосы придавали ему бесшабашный и угрожающий вид.
Михайлов поднялся навстречу, но стал как-то странно, точно настороже, и казался удивительно стройным и изящным в сравнении с грубоватой разухабистостью подходившего человека.
— Не узнаешь, что ли? — странным тоном вызова, насмешки и грусти сказал тот. — Или боишься меня?
Чиж поднял голову, и рыжий поп, опустив на колени свой журнал, во все глаза смотрел на них. Весь город знал подкладку этой встречи, знал, что Михайлов увлек и бросил девушку, которую пьяно, но насмерть любил Арбузов.
— Не говори глупостей, — презрительно и холодно ответил Михайлов, высоко подняв гордую красивую голову.
Арбузов, засунув руки в карманы поддевки, на мгновение приостановился и своими жгучими воспаленными глазками исподлобья смотрел на Михайлова. Одну секунду, даже, может быть, меньше, продолжалось жуткое напряженное молчание. Арбузов тяжело дышал широкой грудью и, как бык, когда он роет землю перед ударом, все ниже и ниже опускал тяжелую лобастую голову со свесившимся клоком черных волос.
Михайлов по-прежнему стоял у стола, опершись на него рукой, и ждал. Он был спокоен и даже улыбался презрительно и холодно. Но тонкая белая рука его чуть дрожала на столе.
Что-то страшное, как предчувствие безобразного нелепого убийства, нависло в воздухе. Все сильнее дрожала белая рука на столе и все тяжелее, с хрипом, дышал Арбузов.
Чиж, сам того не замечая, отодвинулся от стола. Рыжий поп что-то хотел сказать, но только пошевелил побелевшими губами и вдруг вскочил.
Но в эту самую минуту Арбузов тряхнул спутанными кудрями, криво усмехнулся, показав из-под черных усов белые широкие зубы, и сказал надорванно веселым голосом:
— Ну, ладно… Здравствуй… Давно мы не виделись!
Михайлов медленно протянул задрожавшую руку, но Арбузов шагнул к нему и крепко обнял, как самого лучшего дорогого друга. Они поцеловались, и, когда поп и Чиж увидели их лица, Михайлов был бледен и смущенный, как униженный, а на мрачно красивом лице Арбузова было странное выражение тяжелой больной грусти.
— Ну, что ж, пойдем выпьем?.. А?.. — неестественно беззаботно заговорил Арбузов, крепко беря Михайлова под руку. — Там все наши… Пью, Сережа!.. В Париже был… Пью! Выпьем, а?.. Где наше не пропадало!.. Где бывал?
— Пойдем, тихо, не подымая глаз, ответил Михайлов. — В Москву ездил, картину отвез… Потом у себя в усадьбе сидел, работал… Ты как живешь?
Мрачные воспаленные глаза Арбузова со странной нежностью смотрели на него, пока он говорил. И когда Михайлов замолчал, он еще крепче сжал его локоть железными пальцами.
— Славный ты парень, Сережа!.. Картину возил, говоришь?.. Что ж мне не показал? Я твои картины люблю… Может, купил бы… Или не понимаю, а?.. А я, брат, все то же: пью, безобразничаю… только и всего! Нашему брату, купеческому сынку, так и полагается… Ну, пойдем!
И так же твердо и размашисто ступая крепкими, немного согнутыми, как у кавалериста, ногами в лакированных сапогах, он повел Михайлова под руку в буфет.
Успокоившийся Чиж проводил их пренебрежительным взглядом.
Рыжеволосый батюшка, подождав, пока они скрылись за дверью, улыбаясь, сказал Чижу:
— А я, признаться, испугался… думал мордобой будет! Вы знаете, этот художник у него барышню отбил… Барышня-то теперь в интересе, а он ее бросил… Скандал великий! Весь город говорит.
— Вы бы, батюшка, — медленно и зло, едва двигая тонкими губами, заметил Чиж, — поменьше бы сплетнями занимались… Оно духовному лицу как будто и не к лицу… Право!
Рыжий батюшка совершенно добродушно захихикал.
— Какие сплетни? Истинная правда!.. Все знают. А что язык у вас, Кирилл Дмитриевич, злой, это мы тоже давно знаем… Все острите!
Чиж бросил газету и пренебрежительно посмотрел на него.
— Вы, отец Николай, даже надоели мне своим добродушием… На вас и рассердиться толком нельзя… Комический персонаж!
Рыжий батюшка так и залился.
Чиж плюнул, спустил ногу со стула и пошел в буфет.
Там было ярко и шумно. Буфет сверкал сотнями разноцветных бутылок, и метавшиеся лакеи придавали всему тон праздничной суеты.
За одним столом сидела компания офицеров и каких-то очкастых и бородатых людей, которые, очевидно, были сильно пьяны. Они кричали наперебой бестолковыми зычными голосами и раскатывались громовым смехом, в котором выделялся генеральский рокот исправника, толстого, огромного человека с большими усами. Михайлов заметил среди них знакомого адъютанта с белыми аксельбантами и тонким наглым лицом. Он что-то негромко, но уверенно рассказывал, и, когда все хохотали, его красивое лицо с выдающимся подбородком только подергивалось холодной усмешкой.
— Вот, господа, поймал сокола! — все не выпуская крепко сжатого локтя Михайлова, разудало закричал Арбузов. — Славный парень и выпить не дурак, хотя, между прочим, и большой художник… Не так ли, Сережа? Правильно ли я говорю?.. Со всеми знаком?
Михайлов высвободил руку и подошел здороваться, ему хотелось поскорее уйти от Арбузова, в бесшабашном крике которого, сквозь напускную веселость, ясно слышалась надорванная, больная нота.
Навстречу Михайлову приподнялись длинный, с лицом презрительного Мефистофеля, корнет Краузе, штаб-ротмистр Тренев — бледный усатый офицер, какой-то купеческий сынок и незнакомый мрачный господин с всклокоченными волосами и дикими, почти ненормальными глазами.
— Наумов, — отрекомендовал его Арбузов, — мой новый инженер.
— Садись, Сережа, выпьем! Михайлов сел между корнетом Краузе и Наумовым.
— А студиозы где? Неужели удрали? — с неестественным оживлением забеспокоился Арбузов.
— Они пошли играть на биллиарде, — точно и вежливо отвечал корнет Краузе.
— Опять? Ну, черт с ними!.. Пей, Сережа! — закричал Арбузов, наливая и разливая на скатерть водку. — Мешает? Дай сюда, — заметил, что Михайлов локтем отодвигает нагайку, брошенную прямо на стол, среди стаканов и тарелок.
Он взял нагайку и швырнул на стул.
— А мы новую тройку вспрыскиваем, Сережа, — продолжал Арбузов так же лихорадочно. Его как будто все время что-то дергало. Таких лошадей купил, беда!.. От завода сюда в два часа домчали!
— Новую тройку купил! — принужденно спросил Михайлов. — А старая где?
— Старая? — задумчиво переспросил Арбузов. Зарезал! — мрачно и жестко докончил он и на минуту замолк.
— Итак, вы говорите, — вежливо и негромко заговорил корнет Краузе, обращаясь к Наумову и вопросительно приподнимая свои тонкие мефистофельские брови над длинным белым лицом.
— Я говорю, — неожиданно и так резко, что Михайлов невольно взглянул на него, перебил Наумов, — что человек имеет право доводить идею до абсурда, до жестокости, до тирании, до чего хотите!.. Какая речь может быть о праве?.. Что такое право?.. Оно предполагает расчет с чем-то или с кем-то… С кем же расчет? Во имя чего? Я могу хотеть? А если могу, то, следовательно, могу и исполнить свое хотение… Если мне противна жизнь, я имею право уничтожить ее, безразлично, в себе ли самом или в другом живом существе, ибо кому же я дам отчет? Другим людям? Но они могут меня убить, это одно, а запретить мне стремиться к выполнению своего «хочу» не могут!.. А когда человек думает о самоубийстве и начинает допытываться, имеет ли он на это право, то это просто смешно и жалко!.. Имеющий силу да делает, вот вам единственная из всех заповедей!
— Правильно! — горячо крикнул Арбузов. — Какое тут право!.. Мой тятенька царство ему небесное! — всю округу на откупах споил, а я заводом придавлю так, что и не пикнут!.. Все один черт!.. Тягайся со мной, кто может!.. Какие там права и гуманности! Живодером был человек, живодером и останется… И правильно: бей, души и дери, пока тебя самого черти не задушили!.. Говорят, капиталов в гроб не возьмешь… а гуманность возьмешь? А любовь возьмешь?.. Пей, Сережа! Что не пьешь? — дико закричал он. — Стой, я с тобой выпью… чокнемся, брат!
Михайлов протянул свой стакан. Арбузов пристально посмотрел на него черными воспаленными глазами, и опять тень нежности и грусти затуманила их.
— Люблю я тебя, брат… Люблю, и всегда любить буду… И убью, пожалуй, а все любить буду… Ну, пей!
Пьяный угар уже висел над столом. Длинный Краузе был бледен как смерть, и странно чернели на его остром лице косые мефистофельские брови. Молчаливый штаб-ротмистр Тренев безмолвно, понурив голову, крутил длинные усы и пил стакан за стаканом. Наумов смотрел вокруг дикими глазами, напряженными, как у маньяка, и пил только крепкий чай. Чиж, появившийся из библиотеки, подсев к краю стола, поставил перед собой бокальчик шампанского и презрительно улыбался всему, что слышал кругом. Ему было скучно среди пьяных, но уходить не хотелось: слишком было тяжело от света и шума перейти в свою голую маленькую комнату с тусклой лампой и смятой скатертью. Арбузов пил незаметно, но кричал больше всех, он, видимо, был страшно пьян, и его черные глаза становились все мрачнее, и на щеках выступали белые пятна.
Пришел рыжий батюшка и, бочком подобравшись к буфету, мигнул пальцем, чтобы ему налили рюмочку водки. Он притворялся, что не интересуется компанией, и скромно тыкал вилкой в селедку. Арбузов сейчас же заметил его.
— А, отец Николай!.. Гряди сюда! Что там водка… дуй шампанское, отче, во славу Божию!
Рыжий батюшка, польщенно улыбаясь, оставил свою селедку и подошел, на ходу оправляя рукава рясы, точно собирался для начала благословить всю пьяную компанию.
— Привет, господа! Позволите присесть? Штаб-ротмистр Тренев, не переставая крутить усы, подвинулся.
— Но, собственно, в жизни каждого человека должно же быть какое-нибудь мерило дозволенного и недозволенного, — продолжал говорить Краузе так вежливо и тихо, как будто не спорил, а спрашивал совета. — Ибо иначе произойдет хаос в жизни каждого, не говоря о жизни всех вообще… »
— Брось философию! — крикнул Арбузов.
— И нельзя будет жить, — так же спокойно докончил Краузе, как будто ничего не слыхал.
— А вам очень нужно жить? — спросил Наумов резко.
— Вы не живете! — насмешливо и даже ехидно заметил со стороны Чиж, которому не нравился Наумов.
— Что? — вдруг крикнул Арбузов голосом, от которого все вздрогнули, и даже лакеи выскочили из буфета.
Чиж оскорбление оглянулся, думая, что крик относился к нему, но Арбузов, приподнявшись и опершись на стол, смотрел через его голову. Теперь лицо его было совсем бело и даже губы посинели.
За соседним столом все повернули головы.
— В чем дело? — холодно спросил адъютант, высокомерно прищурившись на Арбузова.
— Молчать! — крикнул Арбузов и, опрокинув стул, чуть не сбив на пол Чижа, кинулся к адъютанту. Он не мог продолжать, так сильно затряслись у него губы.
— Зоря, — крикнул Михайлов, чего ты взбеленился!..
В дверях показались любопытные лица. Краузе, Наумов, Чиж и Тренев встали, не понимая, в чем дело. Рыжий батюшка опасливо подобрал рукава, точно собирался дать тягу.
Красивый адъютант тоже встал, немного побледнев. Остальные отшатнулись и смотрели испуганно. Они, очевидно, сразу догадались, что вызвало скандал. Только толстый исправник махал руками и старался вставить что-то успокоительное.
— Позвольте, милостивый государь… Вы мне говорите? — тихо, но выразительно проговорил адъютант и кошачьим движением незаметно опустил руку в карман рейтуз. — Что вам угодно?
— Я слышал, что ты говорил, мерзавец! — крикнул Арбузов, треснув нагайкой по столу и вдребезги разбив рюмку, так что осколки стекла обрызгали всех. — Нелли? Какая Нелли?.. Прохвост! Да ты понимаешь ли, о чем говоришь… а?
И, повернувшись к Михайлову, Арбузов четко и даже как будто спокойно сказал:
— Сергей, он говорил, что пошлет извозчика за Нелли, и держал пари, что она приедет, потому что ей все равно терять нечего… — а?
Михайлов быстро шагнул вперед. Но Арбузов не дал ему подойти.
— Слушай, ты! — крикнул он адъютанту. — Если ты еще хоть раз имя это назовешь, я… я тебе этой нагайкой всю морду разобью! Что?.. Молчать! У этой Нелли ты недостоин руку поцеловать… скотина… Молчать! Я говорю!
И вдруг, бешено взмахнув нагайкой, Арбузов сбил всю посуду на пол. С треском и звоном полетели осколки тарелок и стаканов. Все вскочили.
— Если вы хоть слово… я этой нагайкой всех вас по мордам смажу! Мерзавцы! — хрипло, задыхаясь, кричал Арбузов.
Адъютант неожиданно как-то изогнулся и выскочил из-за стола. В руке его мелькнуло уродливое черное дуло револьвера. Многие зажмурились.
— А… — сквозь зубы мычал он.
— А, браунинг? — весело крикнул Арбузов, как бы в каком-то светлом восторге. — Ну, что ж… пали! И он со страшной силой взмахнул нагайкой. Но в это время Михайлов заслонил его всем телом, а кто-то сзади быстро ударил адъютанта по руке, и тяжелый браунинг, разбивая тарелку, грузно шлепнулся на стол.
— Шоб мини цего не було! — басом сказал выбежавший из биллиардной студент Давиденко. — Господа, возьмите ту штуку… вот так!
Длинный Краузе, шагнув через всю комнату, флегматично взял револьвер и положил его в карман.
— Если вы пожелаете, я могу дать удовлетворение за этот свой поступок, — негромко сказал он адъютанту.
— Ничего! Пускай! — весело и пьяно кричал Арбузов, вдруг совершенно успокоившийся. — Сережа, плюнь! Пойдем выпьем!
Сцепив зубы, с побледневшим лицом, адъютант молча боролся с Давиденко. Но студент держал его как в тисках и не переставая говорил хладнокровным басом:
— Мишка, возьми саблю… Успокойтесь, господин ахвицер! Шо хорошего, что он вам морду набье, что вы ему пузо прострелите… Та не вертиться кажу!
Вдруг адъютант оттолкнул Давиденко, презрительно усмехнулся и проговорил:
— Мы с вами еще встретимся, господин Арбузов!
— Ладно, — отвечал Арбузов мрачно. — Нагайка всегда при мне!
Адъютант опять презрительно усмехнулся и, ни на кого не глядя, цепляясь шпорами за стулья, вышел из буфета.
Остальная компания его растерянно переглядывалась, не зная, что делать. Исправник салфеткой счищал масло и хрен с сюртука и возмущенно бормотал:
— Этого нельзя себе позволять… Думает, как миллионер…
— А ты молчи, старый воробей! — весело крикнул ему Арбузов. — Тебя это не касается… Иди лучше сюда!
— Я понимаю… Я, конечно, тут ни при чем… — успокаивая самого себя, сказал исправник. — Но нельзя же так, Захар Максимович, ей-Богу!
— Да полно… брось! — досадливо махнул рукой Арбузов. — Ну, господа… за одоление супостата!
Михайлов сидел, потупившись, и тонкая рука его, лежавшая на столе, сильно дрожала, как давеча.
— Сережа, — вдруг тихо, перегнувшись к нему через стол, сказал Арбузов. — А ведь твой грех… ведь жалко?
Михайлов быстро взглянул на него и опять потупился.
Арбузов несколько времени смотрел на него влажными воспаленными глазами. Потом махнул рукой и как будто про себя пробормотал:
— Э… кто тут виноват? И вдруг закричал на весь клуб:
— Человек! Шампанского! Волоки… живо! Лакеи молча торопливо убирали разбитую посуду, не смея переглядываться, и по их лицам нельзя было угадать той грязной и липкой сплетни, которая завтра просочится по городу из лакейских уст. Товарищи адъютанта тихо переговаривались и, оглядываясь на Арбузова, расплатились и ушли. Исправник подсел к его столу и, машинально потирая салфеткой масляное пятно на мундире, говорил:
Много за вами грешков, Захар Максимович, но такой истории я не ожидал… Знаете, могут выйти неприятности… Но все же превосходно! Откровенно говоря, что же это такое! Я сам хотел ему заметить… Барышня, правда… он смущенно оглянулся на Михайлова. — Но нельзя же так. Я сам был возмущен, откровенно говоря…
— Будя врать! грубо сказал ему Арбузов и мрачно повел глазами. — А, впрочем, скучно тут… Едем, господа, ко мне на завод, л?
В дверях показалась огромная грузная фигура доктора Арнольди с его бритым, как у старого актера, лицом и умными заплывшими глазами.
Доктор! — восторженно закричал Арбузов. — Милый человек!.. Едем с нами!
— Пожалуй, — равнодушно согласился доктор Арнольди.
И скоро все, гремя стульями и шумно переговариваясь, пошли из буфета. Чиж подумал и пошел за ними с брезгливым видом. В буфете остались только сдвинутые столы, залитые, забрызганные скатерти, осколки тарелок и бутылок. Лакеи шумно заговорили и засмеялись.
На дворе была темная ночь. Небо так и горело звездами. Слышно было, как где-то во мраке позванивала бубенчиками арбузовская тройка.
— Так кто едет, господа? — кричал в темноте хмельной Арбузов. — Сережа, садись со мной… и доктора возьмем… Наумов!
— Я, право, не могу… — брезгливо говорил невидимый Чиж. — Завтра на урок надо рано…
— Какой там урок! — закричал Арбузов, хватая его за руку. — Врешь, не пущу! Поедем с нами!
— Ну, ладно! — так же брезгливо, сам не зная зачем, согласился Чиж.
Слышно было, как забренчали, заговорили бубенчики первой тройки.
— Вы на новых лошадях? — пунктуально осведомился длинный Краузе.
— Да… Стой!.. Сережа! — закричал Арбузов. — Хочешь посмотреть?.. Красавцы!.. Стой!.. Павел, придержи… Сережа, иди сюда!
Вспыхнул трепетный огонек спички. Из черного мрака выдвинулись в ряд, как на триумфальной арке, три умные прелестные лошадиные головы с темными агатовыми глазами и сторожко шевелящимися ушами.
— Смотрите, ведь не выезжены, испугаются… — равнодушно предупредил поручик Тренев.
Арбузов не ответил. Он ходил под самыми мордами лошадей и освещал их спичкой, спокойно и любовно разговаривая не то с Михайловым, не то со своими лошадьми.
— А, что? Правда, красавцы?.. Они у меня так и называются: это вот Красотка, эта — Красавица, а коренник — Красавец!..
Вороная Красавица чутко косила агатовым круглым глазом. Коренник прял ушами и переступал с ноги на ногу. Видно было, как нервно двигается тонкая, перепутанная сетью точеных жил, блестящая кожа. Тройка стояла как вкопанная.
Спичка потухла.
— Ну, едем! — сказал Арбузов, швырнув в сторону красный уголек. — Садись! Сережа, ну, готовы?.. Попа не забыли?
— Я тут, тут я! — ответил из темноты голос рыжего батюшки.
— Можно ехать, все сели! — огласил корнет Краузе.
— Ну, Павел, трогай!
Невыезженная тройка, не видимая в темноте, шарахнулась куда-то в сторону, выровнялась, натянула вожжи и со смехом, говором и стоном бубенчиков тронула по темной, бархатной от пыли дороге.
Все ускоряя бег, гремя и звеня на всю улицу, взбудоражив собак, экипажи один за другим завернули за угол, и быстро замелькали по сторонам неявные очертания заборов, белые пятна домов, церковные ограды, призраки черных деревьев с распростертыми руками.
— Пускай, Павел! — неожиданно крикнул Арбузов.
Задним не поспеть, Захар Максимыч! — не оборачиваясь, солидно ответил кучер, спина которого неясно маячила во мраке. Но, должно быть, он пустил вожжи, потому что внезапно земля рванулась назад, комья сухой глины больно засыпали ездоков, а воздух, сливая все в черту, загудел и застонал кругом. Непрерывно и дико залились бубенчики.
Город спал, и белые дома с закрытыми ставнями, казалось, с недоумением и осуждением смотрели на бешеную скачку. На повороте красной точкой мелькнуло освещенное окно и исчезло.
Х
Там, на столике у кровати, горела лампа, и, вытянув поверх одеяла сухие руки, лежал старый профессор Иван Иванович.
Лампа тускло светила на кровать, а дальние углы тонули в зеленоватом сумраке, и, казалось, что в этих мглистых углах с тихим непрерывным шепотом тянется какая-то странная, таинственная работа, не видимая людям.
Иван Иванович неподвижно смотрел в угол, и, если бы не этот взгляд, странно сознательный среди всеобщего сна и молчания, его можно было бы принять за труп: бессильно лежали высохшие, покрытые на суставах мертвыми узлами руки, голова, лицом вверх, тяжко придавила подушку, и острыми углами выдавались из-под простыни кости скелета.
Маленькая старушка с белыми волосами тихо спала на соседней кровати и сладко похрапывала во сне. Иван Иванович смотрел и думал. Голова его была ясна. Мысль напряженно и неустанно работала все в одном кругу. Память подставляла не те слова, но Иван Иванович не замечал этого. Когда надо было говорить и передавать людям о своих страданиях, было мучительно, если память заскакивала, и слово, которым хотелось выразить страшную муку, говорило странную, смешную нелепицу. Было стыдно своей дряхлости и убожества, больно, что его не понимают, что невыносимое чувство тоски не передается, и на лицах окружающих видно только слабое, тусклое сожаление. Но теперь никто не слушал его, никто не притворялся, что понимает его лепет, и мысль, без слов или первыми попавшимися нелепыми словами, работала с железной силой.
Смерть была тут. Иван Иванович знал, что жить осталось уже немного. Правда, он не представлял себе, что это будет через день, два. Он думал только, что ему не дожить до сентября, в крайнем случае — до зимы. Но в сравнении с жизнью эта страшная туманная осень, казалось, была уже за дверью. А жил он так долго! Оглядываясь назад, Иван Иванович видел безначальную вереницу лет. Он одновременно помнил себя мальчиком и студентом, и старым профессором, чинно всходящим на кафедру. В туманный и громадный узор путались миллионы мелких и важных фактов: женитьба, единица, полученная на экзамене, каникулы в деревне, защита диссертации, встреча с Марксом, поездки за границу, туманные очертания Лондона, Парижа, Нью-Йорка… Не было конца и счета словам, встречам, мыслям и лицам. Это была какая-то колоссальная панорама, двигавшаяся в памяти со страшной быстротой взад и вперед. И нельзя было представить, что через несколько дней вдруг все оборвется и исчезнет, как лопнувшая лента кинематографа. Наступит вот что-то непонятное и ужасное, и его не станет. В мире образуется какая-то нелепая, незаполненная пустота. Будут похороны, могила и разложение… полное небытие, не вмещающаяся в разуме абсолютная тьма.
Все останется по-прежнему, так же будут дни и ночи, будут говорить и ходить люди, будут войны, великие открытия, новые пророки, будет все, что было, только его одного не будет никогда. Неужели и тогда кто-нибудь будет смеяться! Иван Иванович вспомнил, нарочно вспомнил, как умер его отец, старый отставной полковник.
Это было страшно давно. Иван Иванович жил тогда на даче под городом и был молодым, здоровым, жизнерадостным человеком. Он приехал на родину отдохнуть и, главное, побыть при последних минутах отца. Но видеть выжившего из ума старика, несколько лет сидевшего в кресле и вообразившего себя полководцем в то время, как его кормили с ложечки манной кашкой, было слишком скучно и тяжело. В домике отца была затхлая, душная атмосфера болезни и ожидания близкого конца. Мать плакала целый день, отец кричал командные слова и бранился, брызгая слюной. Иван Иванович, с женой и маленькой дочерью, поселился на даче и в городок наезжал редко, больше из приличия.
Ах, эта дача!.. Лунные ночи, зеленые пятна, красненькое платьице дочери, мелькавшее в кустах… Понимал ли он цену этого счастья? Нет, не понимал!.. Оно казалось ему так просто и естественно. Думал Иван Иванович только о том, чтобы скорее прожить эти два, три месяца и ехать в Москву, где он готовился занять кафедру. И когда призрачно сияла синяя луна, когда ярко и радостно грело золотое солнце, когда они с женой гуляли в поле между рожью, глядя на ясно погасавшую и точно благословляющую землю тихую зорю, Иван Иванович думал не о солнце, не о луне, не о жизни, которая есть и которой когда-то не будет, а о программе своих лекций, в которых должна была развернуться яркая картина давно погибших эпох.
Ах, эта дача!.. Вернуться назад, каким-то чудом сбросить эти сухие руки, эту страшную маску седин и морщин, которую кто-то напялил на него, пойти в лунную ночь между темных лиц и всей грудью, изо всех сил вдыхать ночную свежесть, дышать жадно, страстно, без конца. Ничего не надо: ни книг, ни истории человечества, ни известности, ни туманных городов Европы… только бы эти ноги ходили, эти руки не дрожали, не слезились глаза и не стояла бы в темном углу за плечами неотвратимая смерть.
Глоточек чистого воздуха, веселое громкое слово, одна минутка без страданий и напряженного ожидания конца, и это было бы такое счастье, перед которым ослепительное солнце — ничто.
«Нет, кончено… все кончено… умираю…» — думал Иван Иванович, тускло глядя в темный угол, где с таинственным шепотом что-то строилось, строилось без конца.
Но разум отказывался понять, что это так просто, как говорили опыт и знание. Конечно, организм перерождается, мертвеют ткани, сердце останавливается, и человек умирает. Это просто, когда умирает другой, но он, Иван Иванович, я, как может умереть?
Опять выплыл день, когда приехавшие из города лошади привезли известие, что отец умирает. Иван Иванович вспомнил, какой странный холодок оживления пробежал возле сердца. Как будто кровь побежала быстрее и ярче почувствовалась жизнь своего тела. Сразу стало не то что весело, а как-то жутко любопытно. Как будто чистой, холодной водой смыло в мозгу все мелочи жизни, и она предстала перед ним во весь свой громадный рост.
— Отец умирает! — сказал Иван Иванович жене. Потом была быстрая езда, ветер в поле, всевозрастающее чувство жуткого ожидания, знакомый городок, старые дома, пыль и люди, идущие куда-то по своим делам. И во дворе встречает старенькая родственница с заплаканным сморщенным личиком:
— Умер!
И ему становится больно, страшно, даже хочется плакать при мысли, что он опоздал и никогда уже не увидит отца. Стареньким, добреньким, бесконечно милым и близким представляется он. Больно колет в сердце, что почти две недели он откладывал поездку, а ведь мог еще столько видеть его.
Иван Иванович входит в темную комнату с почему-то закрытыми ставнями. Еще в зале он видел, что какие-то люди с дядей его, теперь уже давно умершим, убирают диван. Зачем? — мелькает в мозгу Ивана Ивановича, но, не успевая сообразить, он торопливо входит в спальню. И входит в тот момент, когда знакомый, тоже теперь уже умерший и забытый, но тогда еще молодой жизнерадостный доктор отходит от кровати с бессильным жестом: ничего не поделаешь… конец!
Иван Иванович жадно смотрит сквозь слезы, застилающие глаза, и в сумраке видит на смятой мокрой подушке запрокинутую знакомую, но как бы и не знакомую голову, с закрытыми глазами и черной дырой рта, подвязанного белой салфеткой.
Потом память показывает Ивану Ивановичу труп отца, сидящий в живой, только немного бессильной позе на полу, рядом с кроватью и корытом теплой воды. Седая голова свесилась на грудь и качается. Какие-то бабы всовывают руки в рукава старенького полковничьего мундира, и руки загнуты, как у живого старого человека, которому трудно пролезть в узкие рукава. И нельзя допустить, что он уже не человек, что если его пустить, то он шлепнется затылком об пол, как мешок, что это только труп. Почему труп, когда это-отец, старый, вечно знакомый отец? Он просто притворяется, что ничего не чувствует, но с закрытыми глазами, с мертвым телом, покорно переваливающимся в чужих руках, все видит, слышит, что-то знает.
Потом стол, сухонькое тело, ноги, связанные чистой салфеткой, мертвое, непонятной важностью важное лицо, тихое потрескивание оплывающих высоких свечей, ночь за окном и монотонное чтение старинных слов… Смерть.
Тошно. Это даже не страх, это странная, все тело вытягивающая тошнота. Кажется, наступает такая тоска, что Иван Иванович не выдержит. Мысли мечутся во все стороны, гонят, стирают, как попало, эти страшные образы. Вот их уж как будто и нет, но сквозь обманчивую суету мысли, нарочно и тщетно прыгающей на пустяки, на то, как спит Полина Григорьевна, который час, как лампа горит, что-то чувствуется, просвечивает, как глаза мертвеца сквозь саван, и вот опять выступает, ширится, растет, наполняет весь мир… становится душно, страшно, невыносимо. Смерть.
Она тут, не отступит, не уйдет; это раньше можно было не думать, можно было надеяться, теперь все кончено, с верностью машины подходит она все ближе и ближе, точно открытая могила медленно сама ползет к кровати, на которой корчится от ужаса Иван Иванович.
Тоска подымается все выше и выше, охватывает с головой, нечем дышать, наконец!.. Все тело, вся душа, каждый нерв тянется и дрожит. Надо скорее что-то вспомнить, что-то сделать.
Но что вспоминать? Что смерть — обычное физиологическое явление, что все умрут, что когда-нибудь этот момент все-таки пройдет, что это еще не сейчас, что об этом не надо думать?.. Что, вопреки здравому смыслу, такому железному и ясному, есть все-таки спасение: вечная, бессмертная жизнь души… Бог!
И страшная, скачущая мысль вдруг падает. Призрак смерти отступает, растворяясь в какой-то певучей, усыпляющей мечте.
«Бог! — думает Иван Иванович, задерживая дыхание, чтобы не вспугнуть робкую, слабую, как паутинка, надежду. — Боже мой, Боже!.. Ну, что Тебе стоит! Я знаю, что смешно и глупо мне, старому умному человеку, профессору, верить в Тебя, как деревенская баба… Я знаю, что это только малодушие мое. Но, может быть, Ты все-таки есть… Так пожалей же меня! Мне страшно! Видишь, как я мучаюсь, а я старый больной человек, такой жалкий, жалкий старичок!»
От жалости к себе мутные слезы заливают тусклые глаза Ивана Ивановича, и он нарочно повторяет это слово, как можно жальче, как можно униженнее, чтобы разжалобить кого-то.
«Ну, что Тебе мучить меня?.. Хоть бы узнать! Хоть немного! И стало бы так хорошо… Я умер бы, но не так же, не так ужасно!.. И никто не понимает!.. Полина Григорьевна… она жалеет меня… как страшно и грустно будет ей остаться одной и никогда больше, никогда не видеть меня. А ведь мы прожили вместе столько лет и любили друг друга. Но и она не понимает всего… ей даже тяжело со мной. Может быть, я сумасшедший, как отец? Может быть, мне только кажется, что я думаю, а на самом деле это только нелепый, глупый бред?»
И вдруг гнетущая мысль начинает овладевать Иваном Ивановичем: никому не жаль его, всем надоел он, жалкий, выживший из ума полутруп.
Но ведь он столько сделал для науки. Теперь он, конечно, давно отстал, перезабыл многое, но было время — имя его пользовалось почетом. Остались его книги, обширные исследования по истории человечества. Люди должны и будут его помнить. И таким образом он все-таки не умрет.
На мгновение как бы открывается из тьмы дверь в яркое солнечное утро: да, тело умрет, но душа его будет жить вечно в его книгах, в его влиянии. Да, вот оно и есть, это бессмертие!
Но тяжелая дверь захлопывается с глухим стуком. Опять пустота и ужас: да, будут жить книги и мысли, но не он сам. А он умрет. Что за дело Сократу, что имя его повторяется кстати и некстати какими-то ему не известными людьми, а сам он давно сгнил где-то в земле? Разве это бессмертие? Это насмешка! Иван Иванович еще не умер, он только стар, а уже и теперь какая связь между ним и его книгами? Лучше бы он и не писал их совсем, не думал, не жег жизнь над бумагой, а дышал, смотрел на солнце, которого он никогда, никогда уже не увидит больше.
А может быть, и Полина Григорьевна, этот самый близкий человек, только старается показать, что ей жаль его. Но на самом деле между ними уже нет никакой связи: он умрет, а она будет жить, думать и чувствовать что-нибудь свое, новое, в чем он уже не примет никакого участия. И через два года она будет вспоминать его, как полузабытый сон.
И в эту самую минуту, когда он страдает и всем существом своим молит о жалости, она думает…
«Что думает? Хоть бы он умирал поскорее?.. Но этого не может быть! Разве может кто-нибудь думать, чтобы он умер!.. И думает, наверное, хоть иногда, да, думает. Я еще не настолько выжил из ума и не настолько испуган, чтобы не понимать, как я всем надоел, как тяжело со мной возиться. Ведь я наполовину умер и никому уже не нужен… Мне пора… умирать! Боже!.. Да Господи! Что же Ты делаешь? Ведь Ты же видишь! Неужели ты не чувствуешь, что Ты делаешь со мной!.. Какое ужасное, злое дело! Ведь я умираю, умираю, умираю…»
Иван Иванович лежал тихо-тихо, как мертвый. Тусклые глаза неподвижно смотрели в одну точку, но в этой неподвижности, в этой тишине, никому не слышная, бешено крутилась то ослабевающая, то проясняющаяся до хрустальности, то вырастающая в кошмар мысль. Целый хаос слов, бредовых представлений, ужасающий вихрь безумных криков, жалоб, проклятий.
«Зачем Ты дал мне жизнь? Значит, все это была только ловушка?.. И молодость, и лунные ночи, и надежды, и любовь, и наука… все это только приманка, чтобы затянуть, заманить и прихлопнуть неизбежной мучительной смертью!.. Да не хочу же я! Кто имеет право так издеваться надо мной? Будь же Ты проклят со всей своей вселенной, звездами, вечностью и солнцами! Ты просто жалкая, злобная дрянь, которой доставляет наслаждение мучить и издеваться над слабыми, беззащитными людьми, которые ничего не могут сделать Тебе!.. Я ненавижу и проклинаю Тебя! Ты этого хотел, когда потел над своим мирозданием?.. Ну, и получай… радуйся!»
Вдруг Иван Иванович испугался. И в этом испуге было опять что-то, похожее на надежду.
«А вдруг в самую последнюю минуту окажется, что все это, в сущности, вовсе не так страшно, а просто, разумно и хорошо!.. Может быть, надо проклясть этот подлый разум, отказаться от него и простой глупой верой верить в попов, в иконы, в воскресение из мертвых и жизнь бесконечную?.. Боже, ну, хорошо… пусть! Я буду верить, буду молиться, буду делать все что угодно, только не умирать… Или умереть без этой муки! Ведь она-то уж совсем Тебе не нужна?.. Ты посмотри на меня, какой я жалкий, слабый старичок, совсем больной!.. Я и плакать могу… просто буду плакать и просить: Господи, помилуй меня по великой милости Твоей!..»
Жалкая, бессильная слезинка выкатилась из-под дряблого старческого века. И в полном сознании, что все это напрасно, что никто не поможет, никто не смилуется и не услышит, Иван Иванович застонал тоненьким бессильным стоном.
— Иван Иванович, что тебе? — сейчас же прозвучал странный живой голос, и маленькая старушка с седой головой приподнялась на своей кровати.
Ивану Ивановичу стало жаль ее. Всю ночь она не спит, десятки раз встает, помогает перевернуться, подает горшок, укладывает. Жаль ее, страшно жаль!.. И стало больно: все-таки она спит, может спать, когда он мучится, потому что все же не она умирает, а он.
— Спи, спи, пожалуйста! — злобно и капризно сказал Иван Иванович, и сухонькие костяшки его пальцев сжались в бессильном, вовсе не на нее направленном раздражении. — Я просто хочу вс… устать!.. А ты спи, я тебя не трогаю…
— Что ты выдумываешь, Иван Иваныч!.. Ночь!.. Спи лучше. Тебе спать надо.
— Какое тебе дело!.. Оставь меня в покое!.. Ты рада бы, чтобы я совсем не… не просыпался!
И Иван Иванович, чувствуя, что говорит неправду, что мучит и оскорбляет ее, когда им уж недолго осталось жить вместе, и не имея сил удержать безумное мучительное раздражение, заплакал. Слезы горько катились по старенькому, с провалившимся ртом лицу. Беспомощно обвисли седенькие волосики.
И та самая мысль, которой боялся Иван Иванович, мелькнула в голове самого близкого ему человека, седой старушки, которая прожила с ним сорок лет, любила его, как мать, жена и любовница, жалела всем сердцем и готова была отрубить руку свою, чтобы помочь ему хоть немного.
Мысль эта была тем мучительнее, что исходила не из сердца, сжатого бесконечной жалостью, не из разума, который стыдился ее, а из всего тела, измученного бессонными ночами, капризами больного и всей обстановкой грязной старческой смерти.
«Господи, да когда же конец этому!» — подумала Полина Григорьевна, и ей захотелось просто прикрикнуть на него, на этого бессильного старикашку, который почему-то считает себя вправе мучить ее.
«Ну, пусть он болен, пусть он страдает, но ведь и я же не виновата в этом!.. Ведь я могу толкнуть, крикнуть, и он испугается, будет лежать смирно, как побитый ребенок, и плакать от страха… Как бы то ни было, как бы он ни страдал, а должен же он понимать, что мне тяжело, что я всем жертвую для него!»
Но странно, именно потому, что Иван Иванович не понимал, сердился, брюзжал и даже сунул сухоньким и совершенно бессильным кулачком, сердце ее смягчилось.
— Да не мучь ты меня, ложись! — с тоской сказала Полина Григорьевна.
— Да, ты хотела бы, чтобы я скорее умер!.. Чтобы ты могла идти к любовникам!.. А я не умру… возьму и не умру… Назло!.. Вот, видишь, — ответил Иван Иванович со злобным старчески-идиотским издевательством и вдруг, торжественно вытянув руку, показал ей кукиш.
Это было так неожиданно, смешно и жалко, что Полина Григорьевна почувствовала, как горячие слезы заливают глаза. Она чуть не зарыдала громко, на весь дом и, забывая свои злые измученные мысли, терпеливо и молча стала подымать его. Только в самой глубине души, в том темном и жестоком тайнике, куда боится заглянуть разум, продолжала упорно и болезненно ныть нетерпеливая мысль: «Хоть бы уже умирал скорее!»
— Ну, пойдем, я тебе помогу, Иван Иванович! — сказала она, стискивая зубы.
Иван Иванович неожиданно присмирел. Какой-то скверный туман слетел с его мозга, и вдруг он ясно увидел и свое убожество, и свое беспричинное, безумное раздражение, и ее такое же одинокое, бессильное и покорное страдание. Он весь сгорбился, кротко опираясь на нее, поднялся и, шатаясь, весь белый, в одном белье, маленький и слабый, повлекся через темный зал в переднюю, где на ночь ставилось судно.
Он был сухонький и легонький, как ощипанный цыпленок, но старушке все-таки было непосильно тяжело. Задыхаясь, она волокла его по комнатам. В руке ее призрачно шаталась и мерцала свеча, а за ними, уродливо кривляясь в каком-то мрачном веселье, точно два огромных, черных паяца, шли по стенам две их тени.
В передней Полина Григорьевна поставила свечу на стол, ниже перехватила его костлявое легкое тело и хотела расстегнуть белье.
Горячее до слез чувство любви и жалости к ней и к себе самому больно сжимало старое умирающее сердце Ивана Ивановича, когда он, опираясь на нее, волочился через зал. С мучительной силой понял он, как она любит, жалеет и страдает и как они оба несчастны. И ему захотелось приласкать се, сказать ей что-то нежное, такое, какого давно уже не говорил он, старый сухой человек, ей, седой старой женщине. Прижаться к ней и заплакать горькими, горькими слезами.
С тяжелым укором поднялась его старческая мысль куда-то, в таинственную недосягаемую высь. И если бы можно было словами выразить его чувство, темное небо услышало бы слабый, еле слышный человеческий голос:
— Боже мой, Боже, за что мы страдаем… Посмотри, если не на меня, так на нее… И волосики у нее уже седые, и маленькая она, и слабенькая, а вот тащит меня… любит и жалеет!.. Неужели Тебе не жалко нас?.. Что же мы сделали Тебе?.. Помнишь, мы были молодые и здоровые, и так же, обнявшись, ходили по комнатам… Я тогда был сильный, высокий, а она маленькая и прижималась ко мне, точно я мог от всего спасти и защитить… И вот она стала еще слабее, и головка у нее поседела, и она уже не милая Поля, а старая, старая старушка, и теперь она тащит меня, а я слабее ее… Боже мой, Боже мой!
Но бессильно и ничтожно замирала эта, никем не слышимая жалоба перед темным неподвижным лицом вечного мирового закона, имени которого никогда не узнает человек.
Ивану Ивановичу захотелось не быть таким жалким, встряхнуться, зашагать сильными крепкими ногами, все сделать самому так просто и лето, как делал когда-то. И когда Полина Григорьевна, шатаясь от усилий поддержать его скользящее вниз тело, старалась расстегнуть его белье, Иван Иванович пробормотал, дрожа от слабости:
— Пусти… я сам… пусти…
Он цеплялся дрожащими пальцами за руки, путал и мешал. Глухое раздражение опять поднялось в ней. Голова болела, ноги и руки дрожали, а он тянул.
— Да где тебе, Господи! — еле сдерживая желание бросить его, говорила Полина Григорьевна.
Иван Иванович не давался, бестолково совал руками и страдал от стыда за свою слабость и убожество. И раздражение мучило его.
— Да сам, сам… ну, оставь, ради Бога!.. Что я тебе сделал, что ты меня мучишь? — бормотал он, чуть не плача.
— Для тебя же, Господи! — с болью вырвалось у Полины Григорьевны.
Наконец он уселся на судно и затих, маленький, седенький и жалкий.
Полина Григорьевна стояла над ним и ждала, с тоской уставившись в угол воспаленными усталыми глазами. Свеча тихо вспыхивала на столе, было тихо и глухо, и казалось, что за стенами этой душной маленькой комнаты никого и ничего нет. Там вечная ночь и молчание, и на всем свете только их двое, с их последним безысходным страданием.
А Ивану Ивановичу было стыдно, что она стоит над ним. Старая мужская корректность, смешная и нелепая в умирающем человеке, мучила его.
— Уйди, пожалуйста… Ну, чего ты стоишь… Уйди! — раздраженно бормотал он.
Полина Григорьевна тяжело вздохнула и отступила назад, чтобы ему не видно было, но чтобы не упустить момента, когда что-нибудь понадобится.
Желтые неровные пятна ходили по стенам. Тишина стояла кругом, было душно и горько. Иван Иванович бессильно сидел на судне, и острые голые колени его торчали узловатыми мертвыми костями. Изредка он кряхтел, напрягая вялый омертвелый желудок, и кряхтение его было комично и жутко.
Полина Григорьевна задумалась. Она думала о том, что вот уже несколько месяцев, как началось это медленное умирание, и она бьется в мертвом кругу, оставленная всеми, растерявшаяся и бессильная.
«В конце концов и я свалюсь… А что тогда будет? На кого он останется?.. У Лиды своя жизнь, чужим нет дела…» — с холодным ужасом думала она и как бы угрожала кому-то. Но сейчас же вспоминала, что угрожать некому: пусть и она свалится, пусть ему будет еще хуже, пусть умрут оба, пусть мука перейдет все вообразимые пределы, будет невыносима, кромешна, хуже сдирания кожи с живого, и все-таки она будет, и придется перенести ее. Все перенести!.. И тот, кто сделал это, не отзовется ни одним звуком из своего вечного молчания.
— Да как же это? Да что же это такое, наконец! — спрашивала она, тупыми от ужаса глазами вглядываясь в темный угол за шкафом.
И вдруг вспомнила, что все проходит: рано или поздно теперешнее страдание станет уже прошлым. Конечно, жалко… но зато, как она выспится, потом как будет ходить по улицам, пойдет в гости, будет дышать легко, говорить громко… Ах, как будет хорошо. Хоть бы скорее!
Вдруг Иван Иванович задвигался. И, прежде чем она успела угадать, он, торопясь, чтобы она не помогала, стал вставать. Хотел подтянуть кальсоны, уронил их и с голыми ногами, цепляясь за судно и едва не повалив его, тяжко рухнул коленами на холодный твердый пол. Хотел встать, не смог и шлепнулся на четвереньки, звонко шлепнув ладонями по полу.
— Иван Иваныч! — пронзительно крикнула старушка и кинулась подымать. Она подхватила его под мышки, но сил не стало, и она опять упустила. Иван Иванович упирался руками в пол, бессильно хватался за нее, за ножку стола, скользил голыми коленами и жалко-жалко, с мучительным стыдом бормотал:
— Ни… Ничего… я сейчас… пусти… я сам… это ничего…
И вдруг Полина Григорьевна визгливо, как будто лая, заплакала. Страшное горе завыло в этом ужасном бессильном плаче. Она обхватила его старенькую голову обеими руками, прижала его к себе, опустилась рядом на колени и застыла.
Иван Иванович, стоя на четвереньках, с голыми ногами и голым, старчески высохшим задом, тоже прижался к ней и заплакал неслышными дряхлыми слезами.
В щели окна уже пробивалось синее предрассветное сияние. Точно кто-то светлый наконец подошел к этому дому и заглянул в него печальными непонятными глазами.
XI
Все было сине на дворе, а в поле уже яснели далекие горизонты. Небо светлело, и звезды таяли в нем прозрачными серебристыми слезинками, готовыми исчезнуть, растопиться в торжествующей лазури, когда над гранью земли покажется светлое золотое солнце.
Тройка Арбузова, далеко обогнав другие экипажи, все еще скакала по мокрым от росы полям.
Лица Михайлова, доктора Арнольди и самого Арбузова были серы и бледны от бессонной ночи. Взрыв пьяного оживления уже проходил, и всем хотелось спать, и никто не понимал, зачем, вместо того чтобы лежать в чистой теплой постели, они скачут на какой-то завод, страдая от усталости и едкого предрассветного холода, от которого лица подергиваются мелкой рябью и мучительно ежится все тело.
Далеко впереди, позади, справа и слева гигантским кругом расстилались поля и вес убегали; кружась, назад. Побитый росой хлеб неподвижно застыл, точно спал чутким предутренним сном, и казался седым от росы. Где-то синел бесконечный лес, и оттуда, тяжело махая отсыревшими крыльями, уже летели вороны, странно живые, когда все еще спит кругом.
— Ну, что… скоро ли? — раздраженно спросил Михайлов из-под обвисших полей белой шляпы, тяжело глядя усталыми, но все еще прекрасными глазами.
— Сейчас, как лесок проедем, тут яром… версты три осталось, — отвечал кучер, поворачивая к нему усталое, но до странности равнодушное лицо.
— Черт его знает, и зачем мы поехали! — брезгливо заметил Михайлов, и ему стало казаться, что Арбузов нарочно выдумал эту поездку, чтобы помучить его.
Доктор Арнольди молча, положив скрещенные руки на палку, сидел, как каменный, и только от толчков экипажа неровно качал большой тяжелой головой. Арбузов тоже молчал и пристально вглядывался в поля своими черными воспаленными глазами.
Но когда в воздухе разлились розовые краски утра и поля еще больше побелели от росы и туманов, когда воздушной чертой засинел, прежде черный, лес и где-то далеко, на краю горизонта, золотой звездочкой загорелась главка какой-то церковки, Арбузов вдруг засмеялся, поднял голову и крикнул удалым бесшабашным голосом:
— Что ж вы, черти, приуныли?.. Павел, вали, жарь… пристяжные, вскачь!.. Ого-го, жарь!
Он повернул к Михайлову странным блеском загоревшиеся глаза и крикнул:
— Эх ты, художник… гляди, а ведь это все мое!.. Вон, пока глазом хватит… и лес, и поля, и степь — все мое!.. Наша земля, арбузовская!
— Ну, так что ж? — презрительно спросил Михайлов, чувствуя, что Арбузов чем-то хочет задеть его.
— Да, брат, пиши картины, старайся… памятник поставят… а земля-то моя… на которой памятники стоять будут! — как будто дразня и в самом деле, продолжал Арбузов. — Все мое… только счастья нет! — неожиданно прибавил он и бешено закричал: — Павел, стой! Не видишь, дурак, отстали… подождать надо!
Тройка, взрывая землю и садясь, остановилась. Хором завопили и долго не могли успокоиться обиженные бубенчики. От лошадей столбом валил пар, уже розовый от зари.
Сзади поспевали два других экипажа, уже слышны были крики, и кто-то, красный в первых лучах восходящего солнца, махал фуражкой.
Экипажи налетели сзади, сцепились колесами и стали. Все громко заговорили, закричали, засмеялись. Стало вдруг весело и легко опять. Усталость мгновенно исчезла. Яркое свежее утро вошло в души молодой удалью.
Только рыжий батюшка, совершенно измученный, с повисшими, размокшими кудрями, брюзжал и жаловался:
— Напрасно поехали… И попадья будет беспокоиться… Бог знает, что выдумали… вовсе даже не остроумно!
— Что? — спросил Арбузов, тяжело поворачивая к нему мрачные жгучие глаза.
— Напрасно, говорю, поехал я, и попадья…
— А, попадья? — бешено заорал Арбузов, налив кровью воспаленные белки, — а какого черта ты ввязался?.. Попадья? Ну, и ступай к попадье!.. Пошел, вылазь!
Рыжий батюшка испугался и обиделся.
— Да что ж я… только говорю…
— А, говоришь? — с непонятной злобой орал Арбузов, никого не слушая. — Ну, и ступай… марш!.. Павел, гони его в шею!
— Вы позвольте, с духовным лицом так об…
— Я тебе говорю! — бешено не крикнул, а взвизгнул Арбузов и поднял нагайку.
Батюшка побледнел и, смиренно, беспомощно оглядываясь на всех умоляющими глазами, полез из экипажа и остановился на краю дороги.
— Павел, трогай! — крикнул Арбузов.
— Ну, что ты делаешь! — недовольно заговорил Михайлов.
— Купеческое самодурство… — брезгливо пробормотал Чиж.
Арбузов мрачно и как будто выжидающе смотрел на Михайлова.
— А кто не хочет… — медленно и грозно проговорил он.
И все замолчали. Только доктор Арнольди быстро взглянул на Арбузова и Михайлова своими умными глазками, да Наумов равнодушно пожал плечами. Остальные смотрели в сторону.
Лошади тронулись. Рыжий батюшка столбом стоял у края дороги и с полным недоумением смотрел, как удалялись экипажи и таяли в ярком свете восходящего солнца.
Потом он растерянно развел руками и пошел следом. Потом остановился, снял шляпу и провел рукой по волосам, точно прихорашиваясь перед исповедью. Потом опять пошел назад, потом вперед и, наконец, медленно побрел по старой дороге, смешно подымая рясу и пожимая плечами.
— Скандал! — сокрушенно вздыхал он. — Говорила попадья: не связывайся… Вот по ее и вышло!.. Позор!
Уже когда совсем взошло солнце и загорелись огнями, розовыми, голубыми и желтыми, омытые росой плетни, крыши и колодцы, он вошел в какую-то деревню, которой ночью даже не приметил.
Рыжий батюшка был страшно измучен. На мокрые сапоги насела густая серая дорожная пыль. Ряса до колен была мокрая, хотя он старательно, как барышня платье, подбирал ее одной рукой. Лицо его, с обвисшей бородой и волосами, грязное и серое, было сконфуженно и растерянно.
Баба, бравшая воду в колодце, остановилась и смотрела на него.
«Ко святым местам пробирается, видать!» — подумала она с благоговением. Кучка мужиков сняла шапки.
Только к полудню он добрался в город на крестьянской телеге и сейчас же слег в постель от усталости и обиды. А к вечеру весь город только и говорил, что о новых арбузовских скандалах.
ХII
Был тот веселый час, когда жара еще не наступила, и летнее солнце светит ярко и чисто, как весной. В саду было еще раннее утро, радостное, легкое, как будто взволнованное светом и пряным, росистым теплом.
Больная сидела в кресле у окна, раскрытого во всю ширину. Вместе с чистым, еще не жарким воздухом широкой волной лился в комнату золотой свет. В своем белом платье на белых подушках с бледным лицом и темными глазами больная казалась хорошенькой и принаряженной, как на празднике. Она чувствовала себя хорошо. Ночные боли утихли, и слабое измученное тело нежилось в мягком утреннем тепле. Солнце клало золотые играющие пятна на чистый пол, на белые подушки, на белые стены, и даже прядь волос, мягких и слабых, какие бывают только у смертельно больных молодых женщин, казалась золотой.
Больная тихо шевелила пальцами, точно наигрывала какой-то, ей одной слышный, мотив, и бледной слабой улыбкой отвечала не то своим мыслям, не то яркому синему небу, широко и высоко раскинувшемуся над садом. Ей хотелось встать, забыть о болезни и слабости, надеть легкое веселое платье и со смехом убежать туда, в глубь зеленого сада, где непрестанно играли тысячи солнечных зайчиков, сверкала роса и, еще влажные, но уже прозрачные, таяли тени. И странно, в этом желании, которому она сама улыбалась кроткой, словно извиняющейся улыбкой, какую-то роль играла грузная угрюмая фигура доктора Арнольди.
С тех пор как, больная, она приехала умирать на родину и отошли яркие воспоминания прежней бурной жизни, страшно и тихо сузился ее маленький мирок. Постель, кресло у окна, доктор, аккуратно и молча просиживающий с нею целые часы, наполнили ее существование и стали так же значительны и важны, как прежде сцена, шум, говор, треск аплодисментов, пьяный воздух балов и ресторанов. Больной казалось, что это было страшно давно. Гораздо раньше, чем то далекое время, когда еще гимназисткой в коричневом платье она ходила по этому саду, готовила уроки у этого окна и по вечерам бегала на бульвар с какими-то, теперь уже совершенно забытыми, гимназистами. Как иногда после спектакля, успеха, бурного ужина с шампанским, криками и комплиментами, наутро она не могла вспомнить, что было вчера, и все представлялось ей только каким-то ярким пятном, так и теперь, очнувшись больной, одинокой, умирающей в старом доме, она не могла ясно представить себе прежнюю жизнь и скоро почти забыла ее. Только иногда в грустные вечера, когда над садом гасла печальная заря и в холоде тихого вечера явственнее звучал шепот смерти, она начинала вспоминать.
Выступали из вечернего сумрака и наклонялись к ней какие-то лица, зажигались бледные призраки огней, издалека доносились еле слышные взрывы аплодисментов, неясные звуки музыки без мотива… кто-то черный беззвучно выступал из толпы теней и, кланяясь, протягивал венок… Ярче вспоминались какие-нибудь мелочи: то как она едва не упала, когда, завернувшись в красный плащ нагой Джиованны, входила в картонный шатер, то поездка на острова, то звон разбитого бокала, то угодливая улыбочка старого антрепренера, к каждому слову приговаривающего: голубушка моя, да разве я… Какой-нибудь жест, какое-нибудь слово… Все разбито, рассеяно, как клочья разорванного яркого веера.
Все это прошло и никогда не вернется. Только так странно и непонятно, что столько шума, блеска, движения лиц и страстей забылось так скоро и не имело ничего общего с тем, что делалось теперь, на пороге близкой и страшной смерти. И как-то дико было представлять себе, что именно это больное, слабое, насквозь прозрачное тело то самое, которое вызывающе обнажалось, отдавалось, бесстыдно содрогалось в грубых животных ласках и ломалось на подмостках сцены.
«Как будто все это было не настоящее, думала больная, — как будто какая-то другая, дерзкая, сладострастная и пустая женщина брала напрокат мое тело и трепала его по сцене и кроватям. И я не могу теперь даже понять, зачем в конце концов она это делала, какая радость могла быть в этом? Зачем было столько страдать, волноваться и радоваться, если теперь, в последние минуты, оказывается, что это был только шальной бред, а самое важное, единственное, что значительно и серьезно, вот оно — подушка, боли, мучительные позывы, тихие вечера у окна, мрачный доктор… смерть! Стоило бы жить так, если бы именно теперь весь этот блеск и шум собрался бы в один оглушительный фейерверк, ослепительно сверкнул и унес из жизни, без грусти и боли, чтобы и не заметить ничего!..»
Вы знаете, доктор, сказала она однажды молчаливому доктору Арнольди, — ведь это и была жизнь… Жить же!.. Значит — все!.. Для этого-то я и родилась, для этого росла, мечтала, боролась, из девочки превратилась в женщину, в актрису… Сколько потрачено сил!.. А теперь оказывается, что… Знаете, как будто я собиралась ехать куда-то, хлопотала, укладывалась, сердилась, а потом приехала на вокзал, и поезд сейчас отойдет, а я все забыла, набрала каких-то пустяков, и самых важных, совершенно необходимых вещей со мной и нет… И не то я говорю!.. Это гораздо ужаснее, и вы не поймете меня!
Нет, я понимаю, — как всегда, тихо и уныло, ответил доктор Арнольди.
И при воспоминании о нем тихая улыбка трогала губы больной. Ей казалось, что неразговорчивый, угрюмый доктор действительно понимает ее, как никто никогда не понимал. И чудилось, что именно в этом понимании и кроется то, чего никогда не было в ее жизни.
Ей приходила в голову шаловливая, трогательная в такой прекрасной, умирающей женщине мысль, что если бы она была, как прежде, здорова и весела, она разбудила бы эту угрюмую душу, увлекла бы его и дала бы ему все то счастье, которое по кусочкам раздарила многим, пустым и ничтожным людям. Он, скромный провинциальный доктор, и не знает, как обольстительна, нарядна, интересна бывает женщина и какие наслаждения она может дать. Яркими огнями загорелась бы его одинокая жизнь. Как бы он любил ее!.. И не для себя ей было жалко, что тело ее уже не прекрасно, что нагота его не ослепительна, а страшна.
— Поздно!
Но вдруг больная подумала, что тогда она сама бросила бы его, потому что не удовлетворила бы ее скромная жизнь и любовь без блеска и поз. Это только теперь, потому что смерть близко, она думает о том, мимо чего прежде прошла бы с презрительным смехом.
— Так, значит, я и должна была жить так, как жила… Странно!.. Я же ясно вижу, что та жизнь была не настоящей жизнью… а выходит, что другой и быть не могло. Почему же это? Какая страшная путаница!
Только что так ясно представлялось, что если бы можно было начать жить сначала, все было бы по-другому, а стоило только вдуматься в каждый момент отдельно, и оказывалось, что все было так, как не могло не быть. И ей стало жаль и себя, и доктора, и всех людей, путающихся в каком-то тумане, где правда кажется ложью именно потому, что никогда не обманывает, что всегда приходит в свой черед — смерть.
Больная подняла на свет свою прозрачную руку и с грустной улыбкой смотрела на бледно-розовые, только чуть теплые просветы между исхудалыми пальцами.
— Хорошо! — тихо проговорила она.
Но кругом было так ярко и весело, так много солнца было в мире, так страстно дрожало в его блеске голубое небо, так могуче разросся зеленый сад, что нельзя было остановить мысли на смерти, темноте и молчании. Больной было тепло, покойно и беспричинно весело, тихим, кротким весельем умирающего, и мысли бежали, как легкий ветерок в поле под солнцем.
Все прошло, и все неважно. Хорошо то, что солнышко греет, что на пальцах искрится и дрожит золотое пятнышко. Все-таки она еще не умерла, еще видит солнце, чувствует теплоту его, дышит вольным ветром зеленого сада. Ей хотелось поймать каждый клочок этого солнца, запомнить каждую дрожащую точку голубого неба, в котором точно шевелятся бесчисленные перышки невидимых, счастливых, голубых крыл. И еще было радостно думать, что вечером придет доктор Арнольди и еще долго, страшно долго она будет видеть его, сидеть тут у окна и тихо говорить ему все, что взбредет в голову, но все самое ласковое, хорошее.
Кто-то подъехал к дому. Больная услышала дребезжанье извозчичьих дрожек и прислушалась. Чей-то знакомый, но чей, она не могла вспомнить, женский голос спрашивал:
— Скажите, пожалуйста, здесь живет Раздольская… Мария Павловна?
— Здесь, — отвечала откуда-то Нелли…
Страшное волнение охватило больную при звуках этого голоса, назвавшего ее полузабытой сценической фамилией. Тысячи невозможных возможностей вихрем набежали со всех сторон. Она вся вытянулась, приподнялась на своих слабых руках, повернулась к двери и замерла.
— Кто это? Кто это?..
И когда на светлом фоне двери показалась высокая женская фигура, в красном, плотно обтянутом костюме, большой шляпе и белых, точно выточенных, ботинках, больная тихо ахнула, вытянула навстречу бледные прозрачные руки и вскрикнула:
— Женечка!
Черные брови, высокая грудь, румяные губы, черные волосы мелькнули ярким стремительным пятном, и гибкие сильные руки крепко и нежно обняли больную. И вместе с запахом духов, дорожной пыли и еще чего-то, чем пахнут только нарядные, дорогие женщины, ее опахнуло воздухом сцены, кутежей, балов, музыки, смеха, веселья. Точно вся прежняя жизнь, с ее шумной и нарядной красотой, ворвалась в тихую комнату вместе с этой яркой молодой женщиной.
— А я думала, что это!.. — плача и смеясь, говорила больная, хватая мягкие теплые руки Женечки, — я думала… впрочем, нет… пустяки… Но никак не ожидала, что это ты… Милая Женечка моя!.. Как же это ты?..
— Очень просто! Меня приглашали в Казань, а я не поехала… Надоело метаться, да и тебя увидеть захотелось… Ну, как ты тут?
На этом слове Женечка как будто запнулась немного, и взгляд ее черных глаз быстро скользнул по лицу больной. Она сейчас же овладела собой, изменила выражение и заговорила так же бойко и весело. Но больная уже поймала этот взгляд, и что-то больно дрогнуло в ее сердце. Точно в этих черных испуганных зрачках, как в черном зеркале, она увидела, наконец, свое настоящее — мертвое, страшное лицо. Никогда ни приговоры докторов, ни боли, ни слабость не говорили ей так ясно и неотразимо о близости смерти, как этот быстрый испуганный взгляд, мимолетная судорога жалости, скользнувшая по розовым губам, и, главное, именно та быстрота, с какой Женечка отвела глаза, и та неестественная веселость, которая забила в се голосе. И стало холодно, страшно и больно так, что больная едва не вскрикнула.
Но солнце наполняло комнату золотом света, в окно смеялся ласковый летний ветер, Женечка была так нарядна и красива со своими черными глазами и черными бровями, вся сверкающая молодостью и здоровьем. И боль прошла… Черный призрак смерти еще раз отступил и растворился в радостном сиянии жизни. Больная уже опять смеялась, расспрашивала, обнимала Женечку, и в смехе ее звучали те милые бархатные нотки, которыми когда-то она неотразимо привлекала к себе мужчин.
— Ну, расскажи мне о себе. Надолго ли?.. Поживи со мной немножко!
И болтовня разгоралась всеми красками молодости и веселья двух легкомысленных прекрасных женщин. Казалось, что нет больше болезни, нет смерти, все полно солнцем и смехом, и вот они обе, наполняя воздух веселым криком, как две вольные красивые птицы, вспорхнут и улетят далеко от этой печальной комнаты, от болезни и горя.
Трудно было разобрать, о чем говорили они, и молодые женщины сами не могли бы передать своей болтовни, но все казалось им страшно интересным, полным живого смысла. В ярких звуках стремительной женской суеты мелькали то новые шляпы, то обрывки ролей, то имена, то любовь, и все это напоминало беспорядочно наваленную кучу разноцветных бумажных цветов. Только раз что-то черное мелькнуло в этом пестром хламе:
— А знаешь, Петров умер…
Представилось добродушное, комическое лицо старого толстого актера, который всех молодых актрис звал дочечками. Странно и страшно было подумать, что это простое, умное, доброе лицо теперь лежит в могиле, навеки смежив глаза и скрестив толстые неподвижные руки.
— А как же смех, а как же остроты, а где же любовь к хорошеньким женщинам, где же талант?.. Как будто ничего и не было!.. Мишура, которая слетела, точно рассыпанные конфетти после бала. И только?
Но черное мелькнуло, как тень скользнувшей в небе черной птицы, и пропало без следа. А слова сыпались, смех, восклицания и шутки звучали далеко в саду и разлетались, как блестки, легкие и веселые.
Мария Павловна с улыбкой нежной жалости смотрела на Нелли и думала: «А ведь и правда, какое милое и странное лицо!»
Нелли сидела прямо, сморщив брови, как будто думая какую-то напряженную думу. Тяжелые волосы были свернуты косой вокруг головы, точно темная змея. Тонкий излом губ сжимался твердо и определенно, и усталой скорбью веяло от ее молодого, но такого старого лица, точно она прожила не свои девятнадцать-двадцать лет, а целые столетия.
— Ну, хорошо, — болтала Женечка, — вот я приехала… а что же, общество у вас есть?.. У тебя кто-нибудь бывает, Маша?
— Никто у меня не бывает, — с покорной грустью ответила Мария Павловна, — только доктор один, Арнольди… А то мы с Неллечкой одни…
— Арнольди? — переспросила Женечка. — Красивая фамилия!.. Что же он, молодой, интересный?
Мария Павловна засмеялась, и трогательно-нежное выражение промелькнуло у нее в глазах.
— Нет, пожилой уже и совсем не интересный в том смысле… Да вот, ты его увидишь… Он каждый день у меня бывает… Угрюмый такой… Только добрый, страшно добрый… я такого доброго человека еще и не встречала.
Женечка, пристально и лукаво кося черными блестящими глазами, посмотрела на Марию Павловну. Больная поняла взгляд и мило, как девушка, застыдилась. Легкая краска набежала на бледные щеки, и на прекрасных, расширенных болезнью глазах выступили слезы.
— Напрасно так смотришь… сказала она с печальной шутливостью. — Мне уже поздно думать об этом.
И она машинально, точно показывая, приподняла и опустила свои прозрачные восковые руки.
Здесь много интересных людей, вдруг неожиданно заговорила Нелли, не то для того, чтобы отвести разговор, не то тая какую-то свою мысль. — Доктор Арнольди вас познакомит, он всех тут знает.
Мария Павловна с испугом следила за Нелли. Как-то разом и она, и Женечка поняли, о ком она говорит. По лицу Женечки скользнуло немного жестокое любопытство. Мария Павловна протянула руку, словно хотела сказать:
— Милая, бедная моя девочка… Не надо об этом! Но Нелли еще больше сдвинула тонкие брови и с бледным напряженным лицом продолжала:
— Пусть он вас познакомит с Сергеем Николаевичем… Михайловым.
— А это кто? — спросила Женечка.
Мария Павловна страшно заволновалась, и на щеках у нее загорелись зловещие пятна.
— Нелли, зачем вы…
— А почему и нет? — мрачно глядя перед собой горящими глазами, жестко возразила Нелли и, повернувшись прямо к Женечке, с вызовом докончила: — Это человек, которого я любила… Вот, познакомьтесь с ним… Мне интересно.
— Что же тут интересного?
— Так.
Нелли произнесла это слово тоном неопределенной угрозы. Женечка посмотрела на нее с недоумением и улыбнулась гордой презрительной усмешкой. Мария Павловна взглянула на ее черные блестящие волосы, на черные брови, на румяные губы, на всю ее гибкую и сильную фигуру, остро обрисованную красным платьем, и подумала: «Ну, этой не страшен никто… Бедненькая Нелли!»
— Вы напрасно смеетесь! Это будет интересный опыт! — совершенно серьезно, но недобро заметила Нелли.
Женечка засмеялась, встала и потянулась, заломив гибкие руки.
— Какая вы странная! — протянула она лениво и загадочно. — Вы, кажется, хотите мной для каких-то своих целей воспользоваться?.. Это любопытно. Ну, что ж… покажите мне своего Сергея Николаевича, хотя это, право, смешно… В первый раз меня видите…
Нелли, упрямо сдвинув брови, молча смотрела на нее.
Женечка, выпрямившись во весь рост, сильная и гибкая, как натянутый лук черного дерева, стала посреди комнаты и хотела что-то еще сказать, как дверь тихонько отворилась, и на пороге показалась громадная грузная фигура доктора Арнольди. Женечка остановилась на полуслове и так и осталась посреди комнаты.
— А вот и доктор! — радостно вскрикнула Мария Павловна и вся расцвела нежной улыбкой, похожей на последний лепесток опавшего цветка.
Входите, милый… А у меня радости. Женечка приехала! Вот познакомьтесь, доктор Арнольди, Евгения Самойловна Уздальская… С Нелли вы уже знакомы.
Доктор Арнольди поздоровался и сел. Лицо его было еще более угрюмо и обрюзгло, чем всегда.
Сразу не нашлись, о чем говорить. Доктор Арнольди внимательно и серьезно рассматривал трех жен-шин, Мария Павловна кротко улыбалась своей бледной умирающей улыбкой. Нелли сидела неподвижно и прямо, скорбно сдвинув тонкие брови, Евгения Самойловна отошла к окну и села. Она все еще немного волновалась, не знала, сердиться ей на Нелли или нет, часто дышала высокой грудью и блестела черными, всегда как будто влажными глазами.
— Надолго приехали? — спросил доктор Арнольди.
Она оглянулась на него и улыбнулась: доктор ей понравился.
— На все лето, если Маша не прогонит… Надоело мне по кулисам болтаться, пора и отдохнуть…
— Это ваша сценическая фамилия?
— Нет, настоящая…
— Вы полька?
— По отцу полька, по матери еврейка… жидовка! — сказала Евгения Самойловна и звонко рассмеялась.
Старый доктор невольно ласково улыбнулся ей.
— Вот, доктор, — сказала Мария Павловна, — вы должны позаботиться, чтобы моя Женечка здесь не скучала. Познакомьте ее с вашими приятелями, у вас ведь их много!
— Это можно, — согласился доктор Арнольди равнодушно, потом опять посмотрел на Евгению Самойловну и повторил дружелюбно: — Можно… Пусть Евгения Самойловна придет к нам в клуб, там много народу бывает.
— Как же я одна пойду? — весело спросила Женечка.
— Зачем одна?.. Я за вами зайду.
— Я могу пойти с вами, — неожиданно отозвалась Нелли.
И доктор, и Мария Павловна одновременно взглянули на нее и переглянулись.
— Ах, да… — буйно захохотала Женечка. — Ведь вы же хотите со мной какие-то опыты производить… Ну, так вы же меня и вывозите в свет!
— Да, — коротко ответила Нелли, не меняя сурового выражения лица и голоса.
«Это, наконец, странно… Чего ей надо?» — подумала Евгения Самойловна и высокомерно посмотрела на Нелли.
Но лицо молодой беременной женщины не тронулось, точно оно было высечено из камня в одном вечном выражении жестокой и тайной мысли.
«Какой-то сфинкс!» — с невольным жутким чувством подумала Евгения Самойловна и отвернулась. Несколько времени она сидела молча, задумавшись.
Доктор Арнольди переводил глаза с одной на другую и невольно сравнивал их.
Евгения Самойловна, вся в свете и движении, точно рвалась вперед, к неведомому счастью, которое должна дать ей зовущая и манящая жизнь. В предчувствии его все ее тело, сильное, молодое, богатое, томилось и дрожало, ни одной темной черты не было в ней, все было ярко и бурно. Рядом с нею бледная Нелли казалась темной, как сама скорбь. Она сидела прямо, крепко сжав на груди тонкие руки, точно что-то удерживая в ней. Должно быть, все впереди и позади казалось ей сплошным страданием и росла в ней неутолимая ненависть. И тихим светом свечи, зажженной перед неисповедимым престолом судьбы, вся кроткая и светлая в своей покорной печали горела Мария Павловна. Для нее уже все было кончено: жизнь, с ее счастьем и горестями, давно ушла от нее, и, должно быть, она уже понимала, как слабы и жалки и бурная жажда жизни, и неистовое проклятие ей, потому что одинаково печально улыбалась и буйной Женечке, и суровой Нелли, и старому унылому доктору Арнольди.
Евгения Самойловна не могла сидеть спокойно. Она встряхнула головой, точно отгоняя от себя какие-то неприятные мысли, и принялась беззаботно болтать с доктором и Марией Павловной. У нее был красивый веселый голос, блестящие глаза, от нее веяло свежестью молодости, силы и удали, и даже угрюмый доктор немного оживился.
А Нелли сидела молча и о чем-то напряженно думала. Тонкие брови ее шевелились, как две черные пиявки на белом песке, и в углах сжатых губ ходила неуловимая судорога. О ней почти забыли, когда вдруг она заговорила, глядя на Марию Павловну и на доктора Арнольди:
— Почему вы удивились, что я хочу идти с Евгенией Самойловной в клуб?.. Разве вы думаете, что мне нельзя показываться?
Глаза ее смотрели пытливо и зло.
Такой мысли не было ни у доктора, ни у Марии Павловны, но почему-то оба смутились.
— Нет, почему же, — уныло сказал доктор Арнольди.
— Нелли, как вы можете это говорить! — вскрикнула Мария Павловна.
— Нет, вы это думали! — жестоко возразила Нелли, встала и пошла из комнаты. Оставшиеся долго молчали.
— Боже мой, какая она несчастная! — сказала больная.
— И странная какая-то. Она ненормальна! — отозвалась Евгения Самойловна.
Доктор Арнольди тяжело вздохнул и встал.
— Мне пора идти, — сказал он. — А она — только несчастна. Когда люди в ее положении, загнанные и затравленные, бывают нормальны и расчетливы, то это или погибшие, или глупые люди…
— И вашему Михайлову не простится это! — сказала Мария Павловна.
Доктор Арнольди поискал в своем старом сердце суда, ничего не нашел и только пожал плечами.
Вместо него отозвалась Евгения Самойловна.
— Странно, право, ты рассуждаешь, Маша! — с какой-то даже злобой, жестко возразила она. — Она не девочка, и сама должна была знать… а он был бы глуп, если бы занимался обереганием девичьих сокровищ… Это ее дело.
— Да… А теперь что ей делать?..
— Ах, Маша… что делать!.. Ну, утопиться, если ни на что больше сил нет!..
— Эго не так просто, Женечка! с ласковой укоризной возразила больная.
Евгения Самойловна не отвечала, но в ее черных глазах сверкнула жестокая ко всякой другой женщине и все прощающая мужчине молодая жадность. Казалось, что она ревновала, еще не зная к кому, за одно то, что какая-то другая, красивая и молодая, знала любовь.
Доктор Арнольди взял шляпу и подошел прощаться с Марией Павловной.
— Сегодня я еду за город к больному… до завтра, — сказал он и с кривой улыбкой прибавил тихо, чтобы не слыхала Евгения Самойловна: — Предупредите Нелли, что сегодня хочет быть у нее Арбузов.
Мария Павловна со страхом посмотрела на него.
ХIII
Евгения Самойловна проводила доктора до калитки. Они шли медленно, и она весело и даже несколько игриво расспрашивала его о городе, об интересных молодых людях и развлечениях. Но когда они отошли настолько, что из дома нельзя было слышать, Женечка остановилась и тронула доктора за рукав пиджака таинственным, тревожным жестом:
Скажите, доктор, в каком, собственно, положении Маша?
Доктор Арнольди помолчал, точно обдумывая.
— В отчаянном, коротко и уныло ответил он.
— И никакой надежды?
— Никакой, — резко, почти сердито оборвал доктор Арнольди.
Евгения Самойловна схватила его за руку, и красное, как будто всегда возбужденное лицо ее выразило испуг. Но, должно быть, ей все-таки не совсем были понятны слова доктора в их решительном и ужасном смысле: ей, молодой, здоровой, взволнованной жизнью, сразу было трудно почувствовать близость смерти.
— А вы не ошибаетесь, доктор? — как будто прося не пугать ее, жалобно возразила она. — Неужели же никакой?.. А может быть, она еще поправится?.. Она так молода… Вы посмотрите, как она смеется… и глаза у пес совсем живые… Ведь чахоточные иногда долго живут… Я знала одного художника…
Доктор Арнольди упрямо покачал головой и сказал совсем глухо:
— Она и месяца не проживет.
Потом с жалостью посмотрел в ее живые блестящие глаза, которым так не хотелось видеть страданий и смерти, и потупился.
Евгения Самойловна долго испуганно глядела на него. Глаза у нее стали круглые, как у кошки, когда она видит что-то страшное.
Вдруг толстое лицо доктора Арнольди странно исказилось. Как будто всегдашняя маска равнодушия спала, и под нею оказалось живое, страдающее, плачущее лицо человеческое. Он несколько времени упорно смотрел ей прямо в глаза, и нижняя челюсть его дергалась, точно с неимоверным усилием он старался что-то выговорить и не мог. Потом коротко махнул рукой и, не прощаясь, быстро пошел в калитку.
Евгения Самойловна осталась на месте и долго смотрела ему вслед, все так же испуганно округленными глазами.
XIV
В сумерки, когда потемнело небо, полегла пыль, с громом и звоном подкатила арбузовская тройка.
Мария Павловна одна сидела у окна и смотрела вверх, туда, где верхушки деревьев тихо темнели в догоравшем небе. Бог знает, о чем она думала в эти минуты, и никому никогда не узнать и не понять печали умирающей молодой жизни.
Евгения Самойловна ушла гулять и смотреть городок. Целый день она просидела с больной и устала. Потянуло на свежий воздух, посмотреть на здоровых веселых людей.
Арбузов вошел во двор, пошатываясь, широко и крепко расставляя ноги в лакированных сапогах. Красная рубаха, поддевка нараспашку и белая фуражка на затылке придавали ему вид удалого кулачного бойца. Только черные — воспаленные глаза были невеселы.
Мария Павловна видела его, но ничего не сказала, только покачала головой. Она не знала Арбузова, но сразу догадалась, что это он.
Арбузов постучал в дверь комнаты Нелли. Она не отозвалась. Тихо было за дверью, и напряженное молчание стояло кругом. Сгущались сумерки, жуткие тени ползли из сада на ступени крыльца.
Арбузов постучал опять. Что-то тихо шевельнулось за дверью и замерло. И Арбузов почувствовал, что она не только знает, кто это стучит, но даже как будто видит его сквозь дверь. Странное бешенство овладело им, он крепко рванул дверь. Она не была заперта и мягко отворилась.
Нелли стояла у стола. В сумраке было видно ее бледное лицо с темными бровями и белые руки, беспомощно опущенные вдоль черного платья, сливавшегося с темнотой. Она не двинулась, не сказала ничего, даже не опустила головы и сурово смотрела прямо в лицо Арбузову.
— Нелли! — хрипло проговорил он. — Нелли!.. — повторил еще тише и замолк, точно горло перехватило.
Нелли не ответила и по-прежнему молча смотрела на него.
Арбузов постоял на пороге, потом тряхнул головой, лицо его исказилось уродливой усмешкой, и он вдруг шагнул в комнату. Нелли вздрогнула и опять замерла. Только лицо ее совсем побелело.
— Здравствуй… Не ждала? — криво усмехаясь, спросил Арбузов. — Давно мы не видались!.. Что ж, не рада мне?
Нелли молчала.
Арбузов засмеялся.
— Может быть, я некстати?.. Скажи, я уйду… Я только повидаться хотел. Что ж, Михайлов бывает у тебя?.. Нет?.. Еще бы!.. А я вот пришел… Нелли… Трудно было решиться, три дня без просыпу пил, а все-таки пришел. Глупо… Противно… А пришел. Что ж ты молчишь?.. Я ведь ничего… Я же не оскорбил тебя тем, что пришел… Так, просто захотелось… Ты не бойся, я ничего такого не скажу… Что тут говорить! Что с возу упало, то пропало. Только больно, что полгода тому назад ты меня совсем не так встречала… Помнишь? Забыла, конечно!.. А я все помню!.. Да что же ты молчишь, говори, ну!
— Мне нечего говорить, — тихо ответила Нелли. Арбузов опять хрипло и коротко рассмеялся. Когда он шел к Нелли, он думал, что не будет говорить о прошлом, не будет упрекать и обижать ее. Но то слепое пьяное бешенство, которого боялись все, кто знал его, начинало подыматься с неожидаемой силой. При виде этих знакомых, таких милых и таких изменчивых глаз, этих губ, этих волос и всего ее тонкого, гибкого тела, опять ярко, как в прошедшие бессонные ночи, когда он боялся сойти с ума, Арбузову представилось, что другой обнимал ее, брал, как вещь, как проститутку. Почему-то ему казалось именно так: как проститутку. И от этой мысли, от представления ее нагой в руках другого мужчины, в голове его поплыл зловещий кровавый туман.
— Ну, конечно, ничего! — с нечеловеческим усилием удерживая желание со всей силы ударить ее по лицу, сквозь зубы проговорил Арбузов. — Дело простое… У женщин это просто: сегодня одного целовала, завтра с другим спать пошла… Пустяки!.. А что я… что у меня… вот тут горит… какое тебе дело!
Арбузов уже не знал, что говорит. Он только с ужасом чувствовал, что катится в какую-то пропасть, что оскорбляет ее, что между ними уже навсегда вырастает стена. И в то же время невыносимое жгучее желание оскорблять, мучить, унижать ее, как последнюю тварь, точно толкало его. Он говорил медленно, точно подбирая слова и страдая, что нет слов еще оскорбительнее, грубее и гаже.
— А?.. Ну, и что же?.. Как у вас… Много удовольствия ему доставила?.. Хорошо ли обнимались?.. Доволен остался?.. Что-то уж очень скоро бросил. Должно быть, любовница из тебя не очень-то… может быть, и я зря мучился… Не стоит?.. Надо у него спросить… Это интересно… а?
Нелли молчала, и было что-то страшное в этом издевательстве, когда она не защищается, не отвечает, молчит и стоит, беспомощно опустив тонкие белые руки.
— Молчишь? — хрипло продолжал Арбузов, почти задыхаясь от ненависти. — Ну, что ж, молчи!.. И в самом деле, что тут скажешь!.. Ну, и ладно… Ты молчи, а я буду говорить… Я все-таки долго молчал… Так я говорю, а?
Нелли молчала.
— Да, — медленно, со страшной жестокостью терзая себя и ее, говорил Арбузов, — тебя, я слыхал, поздравить надо, а?.. Надо поздравить?.. Да говори же!
Нелли молчала.
С минуту Арбузов ждал. Перед глазами у него крутились какие-то красные пятна, в груди не было воздуха, руки сжимались для страшною удара. Казалось, что он не вынесет уже ни одной минуты этой муки, что произойдет что-то ужасное, непоправимое. И вдруг он увидел, что Нелли плачет.
Она стояла тонкая, бледная, опустив руки, со странным, напряженным и суровым лицом. И по этому лицу катились слезы. Тихо, без звука.
В глазах Арбузова потемнело, что-то со страшной силой сжало его сердце, и, забывая все, чувствуя, что нет в нем ни ненависти, ни ревности, ни злобы, он, шатаясь, как пьяный, сделал два шага, протянул руку и тяжко рухнул на колени, хватая ее за руки. В эту минуту он все простил, все забыл, видел только ее, любимую, несчастную девушку, обиженную и оскорбленную всеми, которую оскорбил еще и он.
— Нелли! — хрипло крикнул Арбузов и воспаленными губами прижался к ее руке. — Прости, я с ума сошел… прости!
Нелли не вырвалась, не отшатнулась, только губы ее задрожали. Она подняла глаза и с непонятным выражением боли, ужаса и какого-то безумного восторга смотрела прямо перед собой.
— Не могу… — бормотал Арбузов как помешанный. — Не могу больше… Прости… пожалей же!..
Нелли молчала.
Арбузов, шатаясь, поднялся. Лицо его было бледно, черный клок волос повис на лбу, глаза смотрели с пьяной, нечеловеческой скорбью, с мольбой.
— Может, забудем?.. Ничего не было… все по-прежнему… Нелли? — проговорил он с отчаянием.
Нелли вдруг подняла обе руки ко лбу, заломила пальцы, и лицо ее с закрывшимися глазами исказила такая судорога боли, что даже зубы оскалились и блеснули в сумраке.
— Зачем это… Боже мой, зачем! — сказала она тихо, так, что Арбузов едва слышал.
— Слушай, Нелли, — мрачно и как будто торжественно заговорил он, — не могу я жить без тебя… Ненавижу, презираю, а… не могу! Понимаешь, не могу!.. Думал, забуду, пьянствовал, безобразничал, скверно жил… гадости делал… За тебя другие пропали… Деньгами, силой брал… Сколько жизней изуродовал… Пропали ни за что!.. Все зря… Опять к тебе пришел. Что это такое? Сумасшествие, что ли?.. Не могу… Все забуду, все прощу, только…
— Это невозможно! — с усилием ответила Нелли.
— Почему?.. Думаешь, не забуду?.. Забуду!.. Вот так сердце сожму и забуду… Буду любить, ласкать, как ребенка… Нелли моя!.. Милая, солнышко мое!.. Или, может, ты его любишь еще?..
Нелли вздрогнула, губы ее шевельнулись в какой-то мучительной судороге.
— Нет, — ответила она и повторила почти со злобой: — Нет!
— Правда? — радостно крикнул Арбузов. — Я знаю, ты никогда не лжешь… Правда?.. Так что ж… едем… Нелли… со мной?..
— Нет, — глухо ответила Нелли.
— Да почему же?.. Меня не любишь?.. Ну, так друзьями будем, вместе жизнь кончать будем… Ведь ты своего сердца не знаешь… Ведь ты… ты пропадешь так, а я за тебя…
— Этого никогда не будет, — ответила Нелли.
— Да ты сумасшедшая, что ли? — как будто со страшной ненавистью крикнул Арбузов. — Чего ты ломаешься… чего хочешь?.. Чтобы я себе пулю в лоб пустил, что ли?.. Ведь это на смерть толкать!..
Нелли вдруг коротко и нехорошо засмеялась.
— Глупее этого вы ничего придумать не могли?.. Немного не с того конца начинаете!..
Арбузов вздрогнул и отшатнулся. Ему показалось, что он ослышался, или не так понял, или она с ума сошла.
— Что ты хочешь сказать?
Нелли продолжала смеяться тихим загадочным смехом.
Арбузов шагнул к ней, приблизил свою тяжелую лобастую голову к ее лицу и впился в самые зрачки темных немигающих глаз. Близко-близко смотрели на него такие огромные, странные и страшные вблизи, эти круглые, черные зрачки, в которых прячется душа человеческая. В глубине их что-то шевелилось неуловимыми, ускользающими движениями, точно на дне пропасти, во мраке, скользко шевелилась притаившаяся змея.
— Ну, договаривай, ну? — хрипло пробормотал он.
Нелли совсем расхохоталась, звонко и весело, оттолкнула его, отошла к окну и села. Уголки ее сжатых губ подергивались, глаза смеялись мрачным, злым смехом.
— Ничего я не хочу!.. Оставьте меня все в покое… Я никого не трогаю.
Арбузов остался на месте, низко опустив голову и свесив крепкие сильные руки.
— Слушай, Нелли, — заговорил он, глядя в сторону, — тут шутить нечего… Я понимаю… Может, и в самом деле раскроить ему башку на месте… да и себе кстати… Лучше не придумаешь… Да ведь что ж из того? Все равно этим не поправишь… Да и ты, пожалуй, меня же возненавидела бы тогда… У, проклятая женская душа!..
Нелли молчала.
Арбузов неровно тронулся с места, подошел к ней и опять опустился на колени, как маленький, положив на ее черную юбку свою большую кудрявую голову. Под жесткой материей задрожали мягкие теплые женские колени. Прошло несколько минут, и вдруг ласковая легкая рука любовно и нежно стала гладить его спутанные упрямые волосы. Он только вздрогнул и еще крепче прижался щекой к ее коленям.
— Милый, бедный мой, славный!.. — тихо, точно баюкая, шептала Нелли, и странен был ее печальный ласкающий шепот, еле слышный в сумраке и тишине вечера.
Она смотрела поверх его головы широко открытыми темными глазами, и невидимые слезы опять тихо побежали по ее бледным щекам.
— Любимый!
Арбузов быстро поднял голову. Слезы бесконечной жалости и любви залили его сердце. Губы его, как бы против воли, встретились с мягкими, горячими от слез женскими губами. Что-то запело кругом, пошатнулись стены, пол медленно поплыл из-под колен. Все пережитое, ревность, горе, злоба, все, что было, куда-то ушло, осталось только это милое, сладкое, беззащитное тело женщины, мягко и покорно поддававшееся в его железных руках.
— Милая, золотая моя, любимая!.. — шептал Арбузов, целуя ее горячие губы, мокрые щеки, мокрые глаза, волосы, грудь.
— Так ты меня любишь?.. Любишь?.. Простишь?.. За все?.. — тихо, как в бреду, несвязно говорила Нелли, прижимаясь к нему всем телом.
И вдруг Арбузов почувствовал щекой ее пухлый, большой живот, круглый, отвратительный. Страшная судорога отвращения оттолкнула его. Мучительным усилием, почти сходя с ума, чувствуя, что губит все, Арбузов хотел заставить себя обнять ее опять, обнять еще крепче, сжать до боли, задавить и ее, и свое отвращение в этих объятиях, и не мог.
— А-а! — застонал он.
Нелли, уронив руки, соскользнувшие с его шеи, смотрела на него блаженными непонимающими глазами и вся тянулась к нему. Арбузов схватился за голову. И вдруг страшная бледность разлилась по ее лицу, глаза стали понимающими, острыми, гордое и злое выражение прошло в них. Нелли медленно встала.
— Уйдите! — холодно проговорила она. В бешеном порыве отчаяния, чувствуя, что все рушится, Арбузов кинулся к ней, хотел силой обнять.
— Нелли, прости… Но ведь я не могу… сразу забыть… Ты должна же понять… Нелли!
— Нет, этого никогда не прощают, Захар Максимович, — холодно возразила Нелли. — И вы не такой человек… Уйдите, оставьте меня в покое… Мне же больно! — с отчаянием крикнула она.
— Никогда! — ответил Арбузов, и голос его дико разлетелся по всему дому.
— Э, полноте… — с усмешкой возразила Нелли. — Это все говорят.
— Все не я!
— А вы не такой, как все?.. Я сама подумала, а теперь вижу, что ошибалась… Чего вам нужно от меня?.. Моего тела?.. Да берите его вес, будь оно проклято!.. Только оставьте меня… Ну, что?.. Вы хотите, чтобы я была вашей любовницей?.. Хорошо!.. Берите! Берите же!.. Сейчас!.. Ах, Боже мой, хоть бы умереть скорее!
Арбузов хотел что-то сказать, но голос его сорвался. Вдруг всем существом своим он понял, что на этот раз все кончено.
Нелли ждала. Быть может, в эту минуту довольно было бы одного его слова, одной маленькой ласки, чтобы сердце ее, ожесточенное и больное, растворилось в бесконечной любви. Но Арбузов молчал. И Нелли услышала, что он плачет.
Арбузов сидел у окна, на том месте, с которого встала она, и, положив голову на руки, плакал. Хрипло и сипло, как собачий лай, вырывались звуки странного мужского плача. Нелли, как безумная, кинулась к нему, но остановилась и заломила руки.
— Да перестаньте вы! — крикнула она в отчаянии. — Как вам не стыдно… Я вас когда-то не таким… Вы, Арбузов, плачете оттого, что женщина любит другого…
— Что? — машинально переспросил Арбузов. В глазах Нелли мелькнула какая-то отчаянная мысль.
— Ну, да, любит…
Она помолчала, как бы собираясь с силами, и вдруг рассчитанно и жестоко докончила:
— Любит! Все-таки любит!.. Слышите, это я лгала вам, что разлюбила… Слышите?.. Люблю!.. Ненавижу, а люблю… Одного его люблю… А вы… мне смешны… Слышите? Смешны! Он взял все и бросил… это мужчина! А вы плачете, как баба… Я люблю его, слышите, люблю!.. Захочет он, я от вас к нему на коленях поползу!.. Как собака!.. Слышите же, ну?
Сильная рука в страшной судороге сжала се горло. В глазах Нелли помутилось, красные круги поплыли куда-то мимо.
— А-а… — бешено хрипел Арбузов. — Так ты еще издеваться… Убью… блядь несчастная!..
Нелли не сопротивлялась. Темные волосы ее рассыпались по худеньким, хрупким плечам, вся она изогнулась, как тростинка, инстинктивно стараясь удержаться на ногах. Лицо посинело, глаза вылезли из орбит, оскаленные зубы блеснули в темноте. Она захрипела.
Вдруг Арбузов страшным толчком отбросил ее в сторону. Нелли ударилась боком о стол, схватилась за скатерть, поскользнулась и, стянув все со стола, упала на пол. Арбузов кинулся к ней. В ужасе, жалости, любви и стыде едва не разорвалось его сердце.
— Нелли! — отчаянно крикнул он. Ему представилось, что он убил се.
Нелли приподнялась и села, как будто спокойно, подняв руки и подбирая волосы. Она что-то сказала, но так тихо, что Арбузов не расслышал.
— Что?.. Нелли, прости, прости… я с ума сошел!.. — бормотал он, плача и стараясь поднять ее.
— Жаль, что не задушил! — тихо проговорила Нелли и засмеялась.
Арбузов схватился за голову и без шапки бросился вон из комнаты.
— Зоря! — крикнула Нелли как потерянная и на коленях поползла за ним. Но Арбузов не слыхал.
XV
Тройка ждала его, но Арбузов не заметил и прошел мимо, охватив голову руками, шатаясь. Впотьмах он наткнулся на тротуарный столбик, в кровь разбил колено, но не заметил и этого.
Кто-то окликнул его:
— Захар Максимович!.. Куда вы… без шапки?.. Что случилось?..
Арбузов поднял голову, узнал белый китель и длинную серую шинель корнета Краузе и засмеялся как сумасшедший.
— Что с вами? — серьезно спросил корнет.
— Ничего, друг!.. А шапки не надо… В жизни, оказывается, можно и без сердца обойтись, так что уж тут — шапка!..
Корнет Краузе внимательно и серьезно выслушал этот исступленный бред.
— Пойдемте ко мне, — сказал он. Арбузов опять рассмеялся…
— Думаешь, с ума сошел?.. Нет, брат, такие люди, как я, в том-то и горе, никогда с ума не сходят… Все вытерпят, подлецы, все перенесут, а… Пойдем, что ж… Водка у тебя есть?
— Есть вино, — сказал корнет Краузе, внимательно приглядываясь к Арбузову.
Какое тут, к черту, вино!.. Водки надо!
— Будет и водка, — согласился корнет Краузе.
— Ну, идем.
— За вами лошади едут, — заметил Краузе, — их надо отправить домой.
— Лошади? А, да, пусть едут к черту! — махнул рукой Арбузов.
— Нет, это неудобно, — возразил корнет, подошел к тройке и приказал кучеру другой улицей подъехать к своей квартире. Потом вернулся к Арбузову.
Арбузов стоял у забора, прислонившись к нему лбом.
— Готово, можно идти, — сказал Краузе, трогая его за плечо.
— А?.. Да, можно, можно, брат… — ответил Арбузов, и вдруг, бессмысленно улыбаясь, сказал: — А я, брат, сейчас чуть человека не убил…
Корнет Краузе выслушал внимательно.
— Хорошо. Это потом. Все-таки не убили?.. Идем. Он взял Арбузова под руку и повел. Арбузов шел послушно, спотыкаясь на каждом шагу.
— Тут столбик, не ушибитесь… Теперь сюда… Ну, вот и пришли… Недалеко… — говорил корнет, отворяя калитку и пропуская Арбузова вперед.
В сенях флигеля, где жил корнет Краузе, было темно, пахло солдатским борщом и шинелью. Корнет нашарил ручку двери, впустил Арбузова, нашел спички, зажег лампу и, на ходу снимая шинель, вышел опять в сени.
— Захарченко! — крикнул он кому-то и потом шепотом долго говорил.
— Слушаю, ваше благородие, так точно… — отвечал солдатский голос. Краузе вернулся.
— Сейчас будет водка, — сказал он.
Арбузов стоял посреди комнаты, там, где его оставил корнет, и смотрел в пол. Краузе подумал, взял его за плечи и посадил у стола. Арбузов сел покорно и, точно в первый раз увидев, со странной, болезненно любопытной улыбкой оглядывал комнату.
— А у тебя тут хорошо, — добродушно сказал он.
— Да, я недурно устроился, — согласился корнет Краузе, — я люблю комфорт.
Комната была большая, даже чересчур большая для одного человека. Кровать стояла за перегородкой, у стены был широкий турецкий диван, большой письменный стол блестел превосходным мраморным прибором, была качалка, волчья шкура на полу и ковер над диваном. На ковре металлическим полукругом висели шашки, ружья и револьверы, тускло отсвечивая никелированными частями. В углу стоял пюпитр с нотами, и странная, длинная шейка виолончели загадочно выглядывала из чехла. Пахло духами и табаком.
Вернулся денщик, принес водку, рюмки, тарелки с какой-то соленой закуской, поставил на стол и ушел.
— Сейчас подадут самовар, — сказал корнет Краузе.
— Самовар?.. А, ерунда!.. Выпьем вот лучше водки, — возразил Арбузов, налил и выпил. Краузе к своей рюмке не притронулся. Арбузов выпил еще и еще.
— Слушай, корнет, ты в любовь веришь? — вдруг спросил он, криво усмехаясь.
— Я никогда не любил и потому ничего определенного сказать не могу, — ответил Краузе.
— Не любил? Ну, твое счастье!.. А так, вообще, веришь, допускаешь?
— Конечно, я не могу не допустить этого чувства, — сказал корнет Краузе. — Это, должно быть, очень сильное чувство! — подумав, рассудительно прибавил он.
— А я, брат, любил… Выпьем, а?
— Выпьем… Я знаю. Вы очень несчастный человек, — заметил Краузе.
Арбузов уставился на него, прищурив один глаз.
— Знаешь?.. Ну, ладно… А несчастным мне, Арбузову, не бывать!.. Это просто блажь, Краузе… Пройдет!.. Вот выпьем и пройдет!
— Каждый человек может быть несчастным, — рассудительно возразил корнет. — Хоть вы, Арбузов, и богатый человек, но можете страдать, как и всякий другой человек. И этому нельзя помочь выпитой водкой.
— Говоришь, все несчастные?.. Да верно ли?.. Нет ли счастливых?.. Ну, те, кому все в руки дается?.. И талант, и успех, и… к кому любимая женщина на коленях ползет, только свистни…
— Это еще не счастье, — возразил корнет, — талант — больше, я думаю, страдание, чем счастье, успех-дело относительное, а одна женщина не может наполнить всю жизнь.
— А мою вот наполнила.
— Это вам только кажется так. Потому что вы избалованы с детства и абсолютно праздны. Вы привыкли, что все ваши желания удовлетворяются, и когда вам не дали того, чего вы хотели, вам уже кажется, что все погибло и счастье только в этом… в этой женщине. Но это только так… а если бы эта женщина вас полюбила, она бы уже не значила для вас так много и, может быть, даже мешала бы вам жить.
Арбузов слушал, понурившись, свесив на лоб клок черных волос.
— Я, конечно, не любил, как вы, но я много думал над жизнью и любовью и пришел к заключению…
Арбузов вдруг засмеялся.
— Ах ты, немчура, немчура… аккуратная!.. Размышлял, к заключению пришел, сложение и вычитание произвел… что же получилось?.. Тут, брат, не придешь к заключению… Тут не размыслишь, вычитания не произведешь… когда тебя самого вычитают вон… А ты знаешь, что такое любовь?
— Я уже сказал вам, — начал было корнет Краузе.
— Стой, подожди! — перебил его Арбузов, хватая за руку и пригибая книзу. Я тебе скажу… Любовь, это, брат… когда ты разум теряешь, когда сердце болит, вот тут горит… Когда ты и ревнуешь, и ненавидишь, и презираешь, и жить не можешь без нее… Когда ты полюбишь, ты на весь свет начнешь смотреть сквозь нее… Будешь целые ночи под окнами стоять, будешь ноги целовать, все простишь, все перенесешь… даже будешь желать, чтобы тебе еще больней было!.. По ночам будешь плакать, если женщина брови нахмурит и не приласкает, будешь сам петь и смеяться, если ласково поцелует при прощании… Будешь пить, развратничать, проституток мучить, а потом умоешься, причешешься, придешь чистенький, тихонький и будешь в глаза смотреть, как собака!.. За горло схватишь, не задушишь… будешь бить и мучить, а потом плакать от жалости, каждое ушибленное тобой место целовать… а потом…
Я не знаю… что вы говорите?.. Это какое-то сумасшествие! — сказал корнет Краузе с отвращением. Арбузов еще крепче схватил его за руку.
— Ах ты, бедная немчура! Да ведь в том-то и счастье, что сумасшествие… Если бы ж совсем сойти с ума!.. Если бы самого себя на кусочки резать, а она чтобы смеялась и в ладошки хлопала!
— Какое же это счастье, это страдание!
— А в страдании разве наслаждения нет?.. Ничего ты не понимаешь!.. Размышляй, брат, приходи к заключениям… все равно не поймешь!.. А ты знаешь, когда ты стоишь в темном углу, а она мимо проскользнет, накинув платочек, к другому… Ты стоишь и видишь, сквозь стены видишь, вот она входит, стыдится, краснеет… знает, зачем пришла, зачем она ему нужна…
А он торопится, платье рвет, комкает… Ты, может, во всю жизнь только и видел, что руку ее, а для него она вся голая, бесстыдная. Что хочет, то с нею и делает… валяет по кровати твою святыню, как проститутку… в выдумках изощряется… И она всему подчиняется, благодарит за счастье, что он над нею удостоил натешиться всласть… Руку ему целует!.. Потом он устанет, отвалится, папиросу закурит… больше не нужна!.. На дворе светает, она опять мимо тебя проскользнет, как тень… Волосы распущены, платье измято, криво надето… усталая, замученная… А ты все стоишь… все стоишь… Пей, Краузе! — крикнул Арбузов.
Он говорил, как в бреду, и в его бессвязных, прыгающих словах нельзя было поймать смысла.
— Можно выпить, — сказал корнет Краузе, — но все, что вы рассказали, — ужасно. И я не понимаю, как можно это пережить…
Арбузов радостно рассмеялся.
— А, не понимаешь?.. И я не понимаю… Ничего не понимаю, милая ты моя немчура… А вот видишь, пережил…
— Неужели вы…
Арбузов посмотрел на него тяжелым пьяным взглядом.
— Я… — коротко ответил он и крикнул: — Пей, брат, что там… пей!
Краузе налил, и оба выпили. Арбузов задумался, подпер голову рукой. Длинный Краузе сидел молча и внимательно смотрел на него.
— Да, — заговорил Арбузов медленно, как будто приходя в себя и в глубоком раздумье, — это не математика, Краузе… И счастье, и сострадание, и вся жизнь — не математика… Никогда, никогда людям все к одному знаменателю не привести… А следовательно, следовательно… Стой, подожди!.. Я, кажется, совсем пьян… Я три дня в бардаке пил… Впрочем, выпьем еще…
— Можно, — согласился Краузе и налил.
— Слушай, Краузе, — заговорил Арбузов медленно и с расстановкой, — что, если бы я человека убил?..
— Это было бы убийство, — сказал корнет Краузе. Арбузов засмеялся.
— Верно!.. А ты умный немец!.. Конечно — только убийство… больше ничего… То обед, то в ватерклозет пойдешь, а то убийство… только и всего. И не над чем тут мучиться, голову ломать… Убийство, и больше ничего!.. Я однажды собаку убил… из револьвера застрелил… Потом долго спать не мог… Забывать стал, а вдруг среди ночи и вспоминаю, как она вертелась на снегу и ногами дергала. А потом и ничего, забыл… Помню, раза два даже с удовольствием про свои ощущения барышням рассказывал… Даже некоторую гордость чувствовал: убил, мол, и ничего… смотрите, какой твердый человек!.. На охоте тоже… неприятно еще живой птице голову свертывать, а свернешь, и забыл. Пустяки все это, Краузе… убьешь, и никаких… А человек лучше собаки, Краузе?
— Не знаю… не думаю, — ответил корнет.
— И я не думаю… Может, и убью. Вот кого убивать, не знаю: ее, его или себя?.. Как ты думаешь?
— Разумнее всего, по-моему, его… — подумав, сказал корнет Краузе.
— Браво!.. Именно — разумнее!.. В том-то и дело, что разумнее. А если и его любишь, Краузе?
— Тогда ее… себя…
— Так кого же? — с безумной настойчивостью приставал Арбузов. Глаза у него были мутные.
— Я думаю, себя.
— Почему?
— Потому что если вы ее убьете, то всю жизнь будете страдать от жалости.
— Верно!.. Разве я забуду, как она посмотрела на меня в последнюю минуту!.. Маленькая, слабенькая будет представляться мне… а я ее убил! Лучше себя, Краузе.
— Да, пожалуй, лучше.
— Ну, а если я себя убью… В последнюю минуту не представится мне, что она через мою могилу к нему пойдет? Я буду в земле гнить, а он ее раздевать будет, какой-нибудь сладострастный номер выдумает. Я помню, Краузе, мне было лет двадцать… была у меня любовница, молоденькая барышня… а гам у нас, на кладбище, был похоронен один офицер, самоубийца. Так я ночью с нею пришел на кладбище и на его могиле… там была большая мраморная плита с горькой надписью… долго мучил ее, на все лады… на холодной, мраморной плите горячее голое тело… ты понимаешь, Краузе?.. И особенное то и было, что вот тут, под нами, лежит мертвец и гниет, а я развратничаю, что ни час гаже, грязнее!.. Она плакала, боялась могилы… религиозная была… а я от этого еще больше в зверство входил. Даже и теперь дрожь берет, когда вспоминаю эту ночь, голое розовое тело на белой холодной плите… Плакала, а не смела противиться… любила… Так вот.
— Да, это ужасно, — сказал Краузе.
— Ничего ужасного на свете нет, немчура… Все пустяки!.. Что ему, мертвецу?.. Там, брат, крышка!.. Какой ужас, какой грех, когда — помрешь, и квит? Вон я помню, отец умер. Лежит на столе, лицо такое важное, серьезное, седая борода кверху смотрит… Стою я и смотрю, плачу… я очень отца любил… Монахиня читает, свечи трещат… ночь. И вдруг думаю: а что, если я его за нос потяну?.. И взял меня ужас… Со стены древняя икона смотрит, только белки блестят… Чувствую, как ноги слабеют и руки немеют… Кажется, что-то ужасное произойдет… с ума сойду, встанет мертвец в саване и проклянет, небо дрогнет, и завеса в храме раздерется… А руку так и толкает… Страшно, сердце замирает, холодный пот на лбу… а рука тянется… Потяну!.. Нет!.. Потяну… Потянул.
— Ну, и что? — с любопытством спросил корнет Краузе.
— Нос холодный был… — вяло ответил Арбузов и замолчал.
Краузе помолчал тоже. Потом вдруг прыснул. Арбузов с удивлением посмотрел на него.
— Чего ты?
Но Краузе залился еще больше. Все его длинное лицо сморщилось, тонкие мефистофельские брови съежились, рот растянулся до ушей. Арбузову почему-то стало неприятно.
— Перестань, — сказал он, — перестань, ну!.. Но Краузе не слушал. Он вскочил с места, зашагал по комнате, нагибаясь и приседая. Все тело его тряслось от смеха.
— Да что ты! — в пьяном смехе крикнул Арбузов.
— А-ха-ха… а-ха-ха… — заливался Краузе. Он весь посинел, кашлял, сморкался, махал руками.
Странный ужас овладел Арбузовым. Ему вдруг показалось, что это вовсе не Краузе.
— Да замолчи ты! — заорал он, хватая корнета за плечи. — Убью.
Краузе вдруг стих, вытянул физиономию, с достоинством приподнял свои косые брови, сел и сказал совершенно спокойно:
— Может быть, мы еще выпьем?
Теперь Арбузов смотрел на него с любопытством.
— Ну, и немчура проклятая! — сказал он. Наступило молчание. Лампа тускло горела на столе, на скатерти, мокрой от водки, было грязно, как в кабаке, мертвенно поблескивало оружие на ковре. За стеной стояла чуткая ночь, и тоненький синий месяц с грациозной печалью блестел в чистом небе.
XVI
Рано утром денщик разбудил Краузе. Арбузов еще спал на диване, в той комнате, где они пили ночью и где на неубранном столе еще стояли грязные тарелки, стаканы и бутылки. Было душно, пахло водкой, сапогами и перегаром. Арбузов, одетый, лежал лицом вниз на диване, и одна рука его, странно вывернувшись, точно сломанная, свесилась до полу. В щели ставень проходил узенький золотой луч солнца, и радужный пыльный столбик весело дрожал и крутился в сумраке комнаты. Золотая полоска косо лежала на столе, и ярко горела белая звездочка на краю разбитого стакана.
Краузе, тихо двигаясь, чтобы не разбудить гостя, надел чистый китель, серебряную перевязь, шашку и вдруг стал красивым и нарядным, даже немного излишне великолепным.
На дворе было голубое небо, чистый радостный воздух, солнце и громкие, точно омытые утренней росой, звуки.
Было еще очень рано. Солнце светило ярко и низко, под заборами и деревьями лежали голубые сырые тени. В домах почти все ставни были закрыты, и по улицам шли только бабы, с кувшинами и корзинами, на базар. Взапуски, точно передравшись от радости, что так светло и хорошо, чирикали воробьи. Из города долетали редкие однозвучные удары колокола. Звонили к ранней обедне.
Рыжая кобыла Краузе лоснилась и сверкала на солнце кованым золотом. Сзади ехал вестовой солдат, и две непомерно длинные тени, путаясь бесконечными ногами, ползли за ними по пыльной дороге. Все было ярко, отчетливо и свежо в своих утренних красках.
Учение было за околицей, прямо на большой пыльной дороге. Два солдата, пешие, стояли у низкого барьера, соломенные чучела для рубки торчали вдоль дороги, комически-трагично раскинув свои растрепанные руки, точно пугала на огородах. Ученье уже началось, и солдаты гуськом ехали по кругу. Лошади качали головами и махали хвостами.
Штаб-ротмистр Тренев, бледный и усатый, поздоровался с Краузе.
— Хорошая погода, — сказал он, посмотрел мрачными глазами на солдат и отъехал на середину круга.
Широким кругом, медленно, точно старательно вытанцовывая и щеголяя легкостью шага, шли одна за другой большие рыжие лошади. Их длинные тени, переплетаясь и мелькая, ползли по взбитой земле.
— Налево кругом! — коротко прокричал Тренев. И вдруг все лошади одновременно грациозно протанцевали на месте, повернули и пошли в обратную сторону, опять по кругу, так же махая головами и хвостами.
— Налево кругом!
И опять короткий танец на месте, и опять круг мерно движется в обратном направлении. Каждая лошадь как будто привязана к хвосту той, которая идет впереди.
Солнце стало подыматься. Под вербами, на краю дороги, стояли тени. Там сидели бабы в красных платочках и кучи мальчишек, как воробьи. Они смотрели на солдат и смеялись.
Потом на середину дороги поставили барьер, и длинная шеренга солдат растянулась поперек, далеко впереди. Краузе взял лошадь на короткие поводья и стал у правого фланга.
Издали отрывисто долетела команда Тренева.
И, будто помимо воли Краузе, лошадь его тронулась, подобрала ноги, и само собой расстояние между ним и барьером стало быстро таять. Мелькнула внизу, под ногами, длинная жердь, сердце качнулось, и барьер остался позади. Краузе повернул лошадь, свел на рысь, потом на шаг и стал рядом с Треневым. По другую сторону стоял бородатый вахмистр на толстой старой лошади и сердито смотрел на солдат.
С правого фланга Шеренги отделился один молодой белоусый солдат, и видно было, как его лошадь все крепче и чаще забирает ногами песок. Комья сухой глины полетели в Краузе, мелькнули белая рубаха и рыжая лошадь с поджатыми передними и вытянутыми задними ногами. И один за другим, отделяясь от неподвижной шеренги, скакали солдаты с напряженными суровыми лицами, легко подымались вместе с лошадьми на воздух и, перемахнув барьер, строились далеко впереди.
Один, на золотистой лошадке, налетел на самый барьер, и вдруг, смешно задирая хвост, лошадь запрыгала в сторону.
— Назад! — сердито крикнул Тренев. Солдат поехал обратно. Под вербами смеялись. Потоптавшись на месте, солдат опять тронул лошадь и, все чаще и круче забирая передними ногами песок, она понеслась к барьеру. Уже казалось, что она легче ветерка перенесся на другую сторону, как ноги ее сбились, запутались и тем же смешным, скачущим галопцем, задрав хвост, она запрыгала вдоль барьера. Жердь свалилась.
Мелькнуло испуганное лицо солдата, и опять он поехал назад. Мальчишки под вербами загикали от восторга.
— Болван! — коротко сказал Тренев и жестко посмотрел на вахмистра.
Бородатый вахмистр тронул лошадь и поехал за солдатом.
Краузе еще издали видел бледное лицо солдата с дрожащей нижней челюстью, видел, как неуверенно, слишком тяжело, скакала его лошадь в третий раз. Видел, как, прижав уши, она подскакивала к барьеру, как солдат злобно дернул руками, увидел на мгновение беловатое брюхо, вытянутые ноги солдата и вдруг какая-то тяжелая безобразная куча, переворачиваясь и вздымая облако пыли, шарахнулась на землю. Белая рубаха мелькнула в воздухе и далеко впереди тяжко поехала по дороге.
Длинный Краузе, Тренев, вахмистр и солдаты бежали к нему.
Солдат приподнялся, уперся на руки, странно выгнул спину и свалился набок, задергав ногами. Лошадь била копытами, потом, как собака, села на зад, приподнялась, встряхнулась и встала, вся дрожа. Она сразу сделалась какой-то худой, грязной и жалкой, как кляча. Солдата, бившегося, как подстреленная птица, подняли и понесли.
— Я тебе говорил! озлобленно кричал Тренев.
Главная причина, ваше высокоблагородие, испуганно оправдывался в чем-то бородатый вахмистр, — заскочило… сам пробовал — пальцем тронул… а тут…
Краузе подошел к барьеру, хотел посмотреть, легко ли сходит жердь, но вместо того пошел дальше в поле.
Дальний горизонт синел и таял, небо было голубое, но все теперь казалось странно и зло в своем великолепии, как жестокая ирония. Красная, точно ободранная, голова с испуганными глазами и кровавыми струйками во всех морщинках и то неловкое, поломанное движение, с каким разбившийся солдат хотел встать и падал, стояло посреди солнца, голубою неба и тающих ласковых горизонтов.
XVII
Тренев приехал домой запыленный и озлобленный. У ворот он соскочил с лошади, отдал ее вестовому и пешком пошел через двор, неловко шагая кривыми кавалерийскими ногами. В прихожей, принимая шашку, денщик доложил ему:
— Так что, ваше высокоблагородие, дожидаются…
— Кто?
— Их высокоблагородие штаб-ротмистр Августов и поручик Тоцкий.
Тренев поморщился. Как и все в полку, он терпеть не мог адъютанта Августова, его красивое наглое лицо и выдающийся высокомерный подбородок.
Адъютант, поручик и жена Тренева сидели в гостиной. Еще из другой комнаты, умываясь, Тренев слышал приторно-кокетливый смех жены и холодный до оскорбительности, учтивый голос адъютанта.
— А вот и вы… А мы ждем вас… — сказал адъютант, подымаясь навстречу.
— Ты сегодня запоздал, — улыбаясь, заметила жена.
— Вы как, по делу или так просто? — притворно и криво осклабляясь, спросил Тренев, не отвечая жене.
Они поссорились сегодня утром, и Тренев знал, что это только при чужих она так ласкова, а после их ухода еще будет нелепое и тяжелое продолжение утренней ссоры.
— По делу. Одну секунду… — слегка кланяясь, ответил адъютант.
Тренев молчаливым жестом пригласил их в кабинет.
Когда дверь затворилась, поручик Тоцкий сел у стола и закрутил усики с видом чрезвычайно важным, совсем не похожим на его обычное, надуто-глупое выражение налитого кровью толстяка. Тренев тоже сел. Адъютант заходил из угла в угол.
— Видите ли, Степан Трофимович, — начал он ровно и холодно, точно читая приказ по полку, — вам известна история в клубе с этим Арбузовым?
— Я там был, — неопределенно заметил Тренев и сумрачно стал крутить усы.
— Так вот, — продолжал адъютант, — я тогда на другой же день уехал по известному вам делу, но вы, конечно, понимаете, что этого так оставить нельзя, и, конечно, если поединок будет признан необходимым, не откажете быть моим секундантом.
Тренев молчал. Он с ненавистью смотрел на лакированные сапоги адъютанта, мерно ступавшие по ковру, и думал, что Арбузов напрасно и в самом деле не разбил нагайкой эту холодную высокомерную физиономию.
Вот поручик согласен… оказать мне эту товарищескую услугу, — так же ровно и холодно продолжал адъютант. Вы сделаете мне честь поехать к господину Арбузову и передать ему мой вызов.
Тренев молча поклонился.
— Мое желание, чтобы поединок был совершенно серьезен… в этом смысле вы сделаете все возможное.
Тренев опять молча и угрюмо кивнул головой.
Я вообще так думаю, — неожиданно заговорил поручик Тоцкий важным голосом. — Если драться, так драться, а иначе, что же это… мальчишество!
Он весь налился кровью, надулся и закрутил белые усики на красном, точно от мороза, лице.
Адъютант с холодным и вежливым вниманием выслушал его.
— Совершенно таково же и мое мнение, — сказал он.
Поручик еще гуще налился кровью и грозно повел маленькими глазками.
Тренев сумрачно покосился на него и подумал: «Болван!»
Адъютант остановился перед Треневым и, покачиваясь на обтянутых, крепких ногах, заговорил:
— Я, как вам известно, Степан Трофимович, отношусь к вам с величайшим уважением и, конечно, мне было бы приятно знать ваше мнение: прав ли я, требуя удовлетворения?
Тренев быстро и мрачно взглянул на него и потупился.
Ему хотелось ответить, что адъютант подлец и негодяй, который никакого права не имеет требовать какого-то удовлетворения. Все грязные, гнусные и жестокие истории с женщинами, в которых был замешан адъютант, вспомнились ему. Но Тренев не сделал этого, как не делал никогда тою, что хотелось: служил в военной службе, которую не любил, жил с надоевшей женой, не останавливал товарищей, когда они били солдат, не говорил того о людях, что думал. Всю жизнь он страдал от недостатка воли, жестокий и прямой, и теперь, с мучительным сознанием своей неискренности, ответил:
— Да, конечно… что об этом говорить.
Адъютант немного походил по комнате, выкурил папиросу, болтая о полковых новостях, и взялся за фуражку. Тренев проводил гостей в переднюю, мучительно хотел, чтобы они ушли, и тянул разговор, чтобы не уходили. Он боялся остаться вдвоем с женой.
— У меня сегодня солдат убился, — сказал он.
— Да? — холодно переспросил адъютант, отворяя дверь.
— Сегодня увидимся в клубе? — с тоской продолжал Тренев.
— Весьма вероятно, — ответил адъютант и затворил за собой дверь.
Тренев вернулся в кабинет. Ему хотелось спрятался куда-нибудь, и он чувствовал, что больше не в состоянии вынести ни одного злого слова жены. Какою ненужной и глупой казалась ему и та ссора, вызванная какими-то пустяками, о которых он уже почти и позабыл. Тоска овладела им, и, когда за дверью послышались знакомые мягкие шаги, лицо Тренева исказилось такой болью и ненавистью, что стало совсем другим. Степа… — сказала жена, появляясь в дверях.
Голос ее звучал виновато и ласково, почти жалобно. Она, должно быть, недавно умылась, и следы слез еще были видны в ее утомленных, немного опухших глазах. За те несколько часов, которые прошли со времени их ссоры, она успела успокоиться и так же, как и он, понять глупость и нелепость ее. Она забыла все те грубости, все злые и несправедливые слова, которые он наговорил ей, и помнила только, что обидела его. Ей страстно хотелось одного — примирения, и она смотрела на мужа молящими, покорными глазами.
Тренев понял выражение глаз жены, но именно потому, что она первая признала себя виноватой, он сейчас же забыл, что виноватым считал себя, забыл, что готов был просить прощения у нее, что ему было жалко жену, и подумал, что надо же, наконец, доказать ей, что она неправа и несправедлива к нему. — Что? — нарочито холодно спросил он.
Жена вошла, полная, с розовыми голыми руками. Она нарочно причесалась к лицу и напудрилась, с бессознательным кокетством рассчитывая на свою прелесть больше, чем на слова. И это трогательное желание понравиться, своей красотой искупить вину, вместо того, чтобы смягчить, дало Треневу силу быть холодным и жестоким.
«Ага… теперь так!» — пронеслось у него в голове с торжеством.
Ты сердишься? — спросила жена, кладя обе руки ему на плечи и виновато заглядывая в глаза.
От знакомого прикосновения голых рук и близости милых темных глаз сердце Тренева мгновенно смягчилось. Но он подумал, что надо же хоть раз выдержать характер и наказать ее.
— А как ты думаешь, имею я на эго право? — язвительно спросил он.
Мгновенное раздражение мелькнуло в ее глазах. Но прежде, чем он успел испугаться и раскаяться в своих словах, вызывающих новую ссору, она сдержала себя и настойчиво, как бы заставляя перестать, обняла его.
— Ну, будет, будет… — сказала она и сквозь насильно ласковый тон ее голоса ясно слышалось страдание и раздражение.
Тренев испугался.
— Да, будет… — сказал он.
Она зажала ему рот поцелуем мягких, слишком знакомых губ.
Тренев улыбнулся. Это была кривая улыбка нежности, скуки и недоверия. Он знал, что это примирение ненадолго, ему надоели эти вечные примирения.
«Сначала расстроит, измучает, а потом целует… иудины поцелуи!» — подумал он.
Она снизу посмотрела ему в глаза, потом взглянула на голубую ямочку на сгибе своей полной розовой руки и опять на его глаза и губы.
— Что тебе? — с тоской спросил Тренев.
— Ну, поцелуй же, противный! — капризно протянула она.
Тренев покорно коснулся губами мягкой холодноватой кожи.
— Еще! — прошептала она над его ухом тем взволнованным, кокетливым шепотом, который когда-то звучал для него как музыка, а теперь был самым обыкновенным человеческим шепотом. Он нагнулся и поцеловал еще.
И опять было это противное чувство, которое лишало его воли и обрекало тянуть эту каторгу на всю жизнь: знакомый сладострастный холодок выхоленной женской кожи, запах ее тела возбудили его. Возбудили холодным, привычным возбуждением. Он невольно сжал пальцами эту голую руку повыше локтя и стал целовать ее, закрыв глаза, одновременно чувствуя и нежность, и влечение, и скуку.
«Опять!» — мелькнуло у него в голове.
И как всегда, представилось ему, что еще десятки лет будет он целовать все эту же руку, возбуждаться тем же привычным желанием, в котором все до последнего жеста было уже тысячи раз пережито и известно до последних мелочей. Смутно, точно где-то в страшном, недосягаемом отдалении, мелькнули перед его закрытыми глазами бледные образы каких-то других, неизвестных, молодых, таинственных женщин. И острая тоска сжала его сердце.
— Ты устал, бедненький? — говорила жена, прижимаясь к нему своим мягким полным телом. — Посидим.
Она тянула его к дивану и смотрела в лицо страстными, умоляющими о ласке глазами.
Все ее слова, все жесты были известны Треневу. В этом страшном, отчетливом видении того, что и как произойдет, была тоска. Он почти с отвращением уступил ей.
— Что ты такой печальный… Скучаешь со мной? — ласкаясь, говорила она.
— Чего ради, просто голова болит, — неискренне ответил Тренев, мигая глазами.
— Ах, мой бедный мальчик!.. И очень болит?
Она положила на его лоб мягкую теплую руку и прижалась грудью к его груди.
Это женское тело, всегда доступное, горячее и мягкое, терлось возле него, женские глаза смотрели страстно и любовно. Он стал целовать ее руку, потом плечи, потом грудь.
«А все-таки я никого не люблю, кроме нее!» — подумал он.
И от этой мысли слезы нежности выступили у него на глазах. Зачем они ссорятся, зачем мучают друг друга, когда любят? Если бы только немного свободы, если бы не эта проклятая ревность, связывающая по рукам и ногам и отрезающая от него всякую возможность нового, свежего чувства. Потом он опять бы вернулся к ней…
И, стараясь вызвать в себе былую страсть, забыть о том, что есть другие женщины, он расстегнул ворот ее широкого капота и стал целовать мягкое холодное тело, нежной волной охватывающее лицо. Она обняла его, подставляла свою грудь под поцелуи, прижималась и отдавалась.
На минуту показалось, что действительно не умерла старая огненная страсть, что все эти ссоры и тоска по новому счастью могут быть забыты, как недоразумение. Тренев мягко повалил жену на диван, привычным движением обнажая знакомые до последней голубой жилки полные ноги в высоких черных чулках.
Потом он встал и, чувствуя, что удовлетворенное желание уже погасло, что опять скучно и даже немного противно, старался не смотреть, как она, запыхавшись, вся красная и растрепанная, оправляла юбки и прическу.
Какой ты сегодня… сильный! прошептала она и потянула его к себе для благодарного, успокоенного поцелуя.
Но Треневу хотелось закурить папиросу, уйти куда-нибудь. И прежняя тоска опять сжала его сердце.
«Все одно и то же, все одно и то же… — мелькало у него в голове. И так навсегда!»
— Пусти, — сказал, не сдержавшись, — у меня голова болит, пойду в сад, пройдусь…
Глаза женщины потемнели. В уголках рта показалась жесткая ревнивая складка. Для нее уже не было тайн в его душе. Каждое, самое мимолетное чувство его она понимала прежде, чем он сам отдавал себе отчет в нем. Каждый раз, когда остывшая чувственность удовлетворялась, были у них эти ужасные бессознательные сцены.
— Можешь идти, куда хочешь! — жестоко сказала она и встала, оскорбленная и злая.
Тренев испугался.
— Ну, вот… чего же ты сердишься опять? — робко, готовый на какое угодно унижение, лишь бы не было ссоры, сказал он, с мучительным усилием бесполезно стараясь придать голосу наивное удивление. — Если в самом деле голова болит…
— Ну, да, конечно… я не сержусь, с чего ты взял… Ну, иди… пройдись.
В голосе ее звучала сдерживаемая изо всех сил ненависть. И оттого, что она, по-видимому, спокойно сказала «иди» и соглашалась с ним и отрицала, что сердится, сердце у Тренева упало. Он знал, что самые ужасные сцены начинались всегда с этого неискреннего, спокойного голоса и темного выражения непрощающей ненависти в глазах. Представилось то, что будет, как почти каждый день за последние годы: слезы, молчание, его просьбы, крики, истерика, мольбы перед запертыми дверями, от которых почему-то нет сил отойти, потом приступ гнева, ломание двери, драка… потом опять примирение… потом опять то же. Он готов был сделать все что угодно, лишь бы этого не было. Замученная душа требовала хоть минуты покоя.
— Да послушай, ведь это же глупо!.. Ну, вот… слезы… чего же ты плачешь? Я, кажется, не сказал ничего обидного?.. Я не понимаю… Это, наконец, черт знает что такое! крикнул он.
Жена, не отвечая, пошла из комнаты. Ну, послушай… Катя!
Тренев шел за нею, горько упрекая себя, что не скрыл своих чувств, и ему хотелось не то ломать руки, не то рвать волосы, не то ударить се изо всех сил. И последнее желание было нестерпимо и ужасно: сколько раз оно прорывалось, и какая жалость к ней, какое презрение к себе было потом.
— Господи… И когда же конец этому? вскрикнул он, не зная, что говорить, боясь уже каждого своего слова.
Холодное жестокое лицо с заплаканными чужими глазами повернулось к нему.
— Не беспокойся, скоро! со страшной ненавистью сказала она.
Что-то оборвалось в груди Тренева. Этой угрозы, которой он боялся, которой не верил ни на одну минуту, он не переносил. Чувствуя, что еще мгновение, и он ударит жену, Тренев быстро повернулся, рванул себя за волосы и выбежал из комнаты.
В саду было светло и жарко. На дереве синели сливы и, казалось, нежились сладострастно и томно. Тихая жизнь шла в высокой траве. Какая-то толстая букашка в жестком камергерском мундирчике, тяжело переваливаясь, ползла вверх по травинке и все обрывалась и падала. Минуту она лежала неподвижно, ошеломленная таким неожиданным исходом своего похождения, потом осторожно шевелилась, пробуя, не сломано ли что, решительно расправляла фалдочки и опять терпеливо, со странным упорством, ползла вверх.
Тренев сидел на скамейке, смотрел на букашку, а в голове его, черные и разорванные, как дым, неслись мысли.
Сколько раз он давал себе слово быть твердым и жестоким до конца. Смутно, но радостно рисовалась перед ним новая жизнь на свободе. Грезились молодые, белокурые, чернокудрые, нежные женщины, к которым он будет подходить, как пчела к цветку, легко и радостно, без страха выпивая наслаждение и уходя дальше, вольный, как ветер в поле.
Бесконечно широк мир, и радость в нем — голубое море. Со страстью, с безумным восторгом мечтал Тренев о свободе. Безнадежно, как вечный каторжник. И сколько раз она была уже близка. Сколько раз после этих ужасных, бессмысленных сцен, во время которых два любящих человека старались как можно больнее оскорбить друг друга, вызвать ненависть, причинить нестерпимое страдание становилось ясно, что еще одно, последнее слово, и станет, наконец, невозможно, и они разойдутся. Каждый в свою сторону, чтобы взять от жизни свою полную долю счастья. Но слово это никогда не было сказано: когда разлука становилась уже почти фактом, когда в комнатах, среди разбросанных чемоданов и выдвинутых ящиков комодов уже холодом веяла пустота оконченной жизни, эта проклятая и милая любовь вдруг опять загоралась жгучим пламенем. Нестерпимо было представить себе, что они уже чужие люди, что десять лет, прожитых вместе, с общими горестями и радостями, уже ненужное воспоминание, и вот завтра они уже будут далеко, далеко друг от друга, и никогда один не будет иметь никакой доли жизни другого. Жалость терзала сердце, и за последним словом «прощай» начинались слезы, трогательные пожелания счастья, мольбы о прощении, поцелуи, и примирение сливало их тела в бурном, одуряющем приливе страсти. Тела свивались в самых утонченных, беззаветных ласках, и губы, мокрые от слез, казались огненными. Потом наступало нежное, влюбленное чувство.
— Отчего мы ссоримся? — говорила она, прижимаясь к нему своим мягким трепетным телом.
И Тренев успокаивал ее, говорил, что это только временное безумие, и казалось, что это действительно так, что теперь все кончено, и жизнь пойдет обновленная, светло и радостно, полная ласки и любви. Несколько дней, иногда недель, проходило, как в первые дни любви, и ему казалось, что десять лет совместной жизни — сон, а она та же молодая влюбленная женщина, из-за которой он когда-то столько страдал, ссорился с родными, мечтал и плакал.
Солнце светило в их дом ярко и радостно, и дети с веселым криком бегали по комнатам. Это было счастье, настоящее счастье той вечной идеальной любви, о которой столько говорили и мечтали люди.
А потом наступало удовлетворение, и прежняя, тонкая, как лезвие подрезывающего жизнь ножа, скука подымалась опять. И было непонятно:
«Ведь я же люблю ее, люблю! — хватаясь за голову, думал Тренев. — Ведь никакая другая женщина не заменит мне ее… Ведь я никогда не забуду ее… Разве я могу представить, что она будет принадлежать кому-нибудь другому!»
Он старался вообразить это: ее знакомое нежное тело, каждое пятнышко которого было ему мило, было обласкано им, в объятиях другого мужчины. От этой мысли кровь приливала к голове и становилось душно. Нарочно терзая себя, он старался довести кошмарное представление до мельчайших, самых циничных подробностей и не мог — так это было ужасно.
«Так в чем же дело?.. Неужели мне просто нужно дешевое развлечение, новое женское тело для разнообразия?.. Да на кой черт!.. Будь они все трижды прокляты!..»
Выходило так, что их любовь и есть самая настоящая любовь, и другой не бывает, что она должна дать счастье, а счастья нет, что именно нужно только временно другое тело, что и она имеет право желать разнообразия. Надо пойти развлечься на сторону, а ей позволить гоже на время завести любовника. А этою он не может даже и представить.
И Тренев падал духом, приходил к решению принести себя в жертву, старался забыть о женщинах, видеть только жену.
Ему удавалось это на неделю, две, а потом были неожиданные сцены, еще ужаснее и грязнее, когда становилось стыдно прислуги, детей, стен своей квартиры. И в этих сцепах они взаимно попрекали друг друга уступками, вспоминали, кто кого первый просил о прощении, и издевались над слабостью друг друга.
Так шли дни и годы, полные тоски о каком-то светлом счастье, которого никогда не будет, а которое могло бы быть.
И никто, ни товарищи по полку, ни солдаты, которых он пугал, как детей, своим громким голосом и жестким взглядом, не подозревали, что этот решительный усатый человек так несчастен и жалок.
«Боже мой, Боже мой!» — думал Тренев, крутя усы и внимательно наблюдая ползущую букашку.
Ему было мучительно приятно видеть, как она карабкается на высоту и снова падает в пыль. И чувство это было похоже на то болезненное наслаждение, с которым ковыряется саднящая злокачественная рана.
XVIII
Чиж сидел дома и набивал папиросы. Солнце уже садилось, и за садом золотилась оседавшая на ночь пыль. За открытым окном легко и радостно опускался прохладный вечер. Внизу, под деревьями сада, зелень уже темнела и наливалась росой, но вверху, высоко, еще летели прозрачные светлые лучи солнца, и в них задумчиво замерли верхние веточки дерев. Чиж не смотрел в окно. Он стоял у окна и, прижимая к груди машинку, одну за другой выталкивал на стол толстые гильзы с крепко пахнущим, мохнатым табаком.
Комнатка у Чижа была маленькая, с одним окном и голыми белыми стенами. На столе, покрытом старой газетой, на стульях и даже на кровати валялись книги, журналы и разноцветные брошюрки. Это придавало всей комнате такой же растрепанный вид, какой был у самого Чижа, с его острым подвижным лицом, злыми нервными движениями и сердито встрепанным хохолком на лбу.
Сбоку, у стола сидел длинный корнет Краузе и, приподняв косые брови, внимательно следил за проворными пальцами Чижа.
— Мне просто противно эго слышать, — говорил Чиж резким озлобленным голосом, этого хныканья я не могу понять!.. И не хочу даже!.. Вы можете выкладывать передо мной какие угодно теории о никчемности жизни, а я все-таки скажу, что это только ваша собственная дряблость и больше ничего… Черт возьми!.. Подумаешь, жизнь — любовница, которой можно очароваться… Черта с три!.. Прежде всего она вам ничего и не обещала, эта жизнь!.. Она предоставила вам устраиваться, как угодно… Вы можете из нее сделать и мастерскую, и храм, и будуар скучающей барышни… Удивительно, ей-Богу!
— Думаете ли вы, что она так безлична? — шевельнув мефистофельскими бровями, спросил Краузе.
Взлохмаченный Мишка, лежавший на кровати поверх каких-то брошюр, приподнялся, взял только что упавшую из машинки папиросу, оборвал табак, закурил и опять лег, положив руки под голову.
Чиж притворился, что не видит этой безалаберности: ведь гораздо удобнее взять готовую, обрезанную папиросу, чем обрывать табак пальцами.
— Она не безлична… у природы есть свое резко очерченное лицо, но человек в борьбе с нею свободен выбирать приемы этой борьбы, а именно этот выбор и создает то, что мы называем жизнью. Значит, если тебя тяготит и не удовлетворяет твоя личная жизнь, ищи других способов бороться… если посчастливится найти, наступит, конечно, удовлетворение, появится смысл и все что угодно… Только надо бороться и искать, а не хныкать!
Так что же делать все-таки? — спросил Мишка равнодушно.
— Как что?.. Ничего! — со злобной иронией крикнул Чиж, машинально уравнивая рассыпанную Мишкой ровную горку папирос. Разумный человек сам знает, что ему делать… а если и не знает, так нечего у других спрашивать… Какого черта!.. Мир не богадельня!.. Черт его знает… кругом борьба, страна защищает свободу, искусство ищет новых путей, наука работает не покладая рук… вот-вот человечество подымется на воздух, и весь строй жизни изменится… а вы лежите, задравши ноги, и невинно спрашиваете, что делать… Да в шахматы играть, черт!
Мишка робко мигнул и притворился, что внимательно следит за дымком своей папиросы.
Может быть, вы и правы… Во всяком случае, это очень любопытная теория, что счастье фактически заключается в выборе способов борьбы с природой, заговорил Краузе с достоинством. — Но имеем ли мы право вменять человеку в обязанность непременно искать этих способов…
Он высоко поднял брови и вопросительно посмотрел на Чижа.
Чиж с негодованием швырнул новую папиросу.
— Допустим, продолжал Краузе, не дождавшись ответа, что я совершенно не желаю искать никакой борьбы… даже не желаю искать счастья, а предпочитаю совершенно отказаться… являюсь ли я тогда преступником, виноватым перед кем бы то ни было?..
— Не преступником, а просто чурбаном! — крикнул Чиж. — Так может говорить только человек, которому важно только свое собственное брюхо и которому нет никакого дела до того, будет ли человечество сильным и счастливым или…
— Допустим, что мне это совершенно безразлично, — спокойно заметил корнет Краузе.
Чиж немного смешался. Он сам до такой степени верил в обязанность человека во что-то верить, к чему-то стремиться, что говорил эти слова уже просто как ругательство. Сказать «человек, который ни во что не верит, человек, который думает только о своем брюхе» было для него равносильно если не подлецу, то идиоту, и ему казалось, что от этого обвинения каждый прежде всего постарается как-нибудь отчураться.
— Я, во-первых, этому не верю… а во-вторых, тогда… вы просто… больной человек.
— Это все равно, — с достоинством возразил корнет Краузе. — Можете называть и так. Мертвый человек!
— Нет, я живой человек… — с тем же достоинством опять возразил Краузе.
— Да… дышу, значит, существую! — насмешливо засмеялся Чиж, выбрасывая на стол новую папиросу. — Но существую еще не значит живу… Если вы не клевещете на себя, то, значит, в вас иссякла та живая струя, которая преемственно тянулась из поколения в поколение и была источником жизни… Вы сами можете дышать, говорить, ходить, думать, но вы уже не носите в себе жизни, а носите смерть… Та струйка, которая сочилась через миллионы людей, высохла в вас и вами кончилась… А так как конец есть уже начало разложения, то это значит — быть разлагающимся трупом среди живых… Вы извините, Краузе, но таких людей человечество в своих интересах должно было бы уничтожать!
— Это его право, — пожал плечами длинный корне!.
— Ну, это ты уже слишком! — заметил Мишка примирительно.
— Ничего не слишком, — огрызнулся Чиж, положительно со страстью, — человечество положило массу труда, принесло неисчислимое число жертв, с неимоверным трудом заложило фундамент огромного, колоссального здания… на кровавых волнах донесло нас до этой точки и передало нам всю свою великую работу… в надежде, что мы благодарно примем это драгоценное наследие и понесем дальше, а тут… извольте видеть… какие-то разочарованные субъекты на свой риск и страх начинают ныть: ничего не нужно, все ерунда, и вы, великие умы, принесшие себя в жертву, были просто-напросто идиоты!.. Идиоты! — засмеялся Чиж этому абсурду, но смех его был невесел.
Он не мог бы сказать, почему тоскливая нотка прозвучала в его озлобленном, ироническом и уверенном смехе, но это была мысль, скользнувшая где-то в самой глубине его сознания, почти не сознанная им: а вдруг и правда — идиоты!
— Я этого не говорю, — заметил Краузе, — со своей точки зрения они были правы, но я со своей…
— Если уж так… — продолжал Чиж, не слушая, — так не трогай других, сохни сам по себе… Делай так: не веришь ни во что, человечество тебе не нужно, в душе пустота, жизнь не интересна, так сделай одолжение, пусти себе пулю в лоб и убирайся ко всем чертям!.. По крайней мере, честно… хоть воздуха гадить не будешь!
— А кто вам сказал, что не такова и моя мысль? — коротко отозвался Краузе, шевельнув бровями.
Чиж невольно взглянул на него. Но длинное лицо с косыми бровями было, как всегда, полно спокойного достоинства. Невольный холодок пробежал по спине маленького студента, но всем существом своим он не поверил, что сказано это не для красного словца, не ради аргумента в споре.
Мишка повернул голову и тоже посмотрел на корнета.
— Что ж, вы собираетесь покончить жизнь самоубийством? — деланно усмехаясь, спросил Чиж.
«Чего доброго… с этой немецкой морды всего станется!» — подумал он мельком.
Может быть, — еще короче ответил корнет Краузе, и лицо его стало таким холодным и замкнутым, точно он застегнул его.
Чиж опять смешался. Но, не желая уступить и чтобы до конца быть логичным, сказал:
— Ну, что ж… тогда вы будете, со своей точки зрения, правы…
Сказал и испугался своих слов.
«А вдруг?» — опять мелькнуло у него в голове, и опять он не поверил.
— Вы так думаете? — серьезно спросил Краузе.
Чиж рассердился, потому что это было похоже на вымогание последнего слова. Как будто Краузе припирал его к стене.
— Ну, да… думаю! — с усилием, но со злостью ответил он.
Корнет Краузе помолчал, упорно и пытливо глядя ему в глаза. Чиж невольно отвернулся и стал доставать гильзу из коробки, хотя одна уже была надета на машинку.
— Да… — со странным выражением сказал Краузе, встал и взял свою маленькую кавалерийскую фуражку.
— До свидания.
— Постойте, куда вы?
— Мне надо побыть одному, — холодно возразил корнет Краузе и пошел к дверям.
— Послушайте, — насильно смеясь, крикнул Чиж, — вы, пожалуй…
Он хотел сказать: «и вправду застрелитесь!..» Но это показалось так неожиданно, странно и глупо, что слово застряло в горле.
— Постойте, Краузе, ведь это… Но Краузе, не отвечая, запер дверь.
— О, чтоб его черт!.. — бешено крикнул маленький студент, растерявшись. — Сумасшедший какой-то!
Взлохмаченный от долгого лежания, Мишка приподнялся и сел, упершись руками в кровать.
— Напрасно ты ему это говорил, — заметил он.
— Что говорил?
— Да он постоянно толкуется о самоубийстве, а ты как-то такое, точно подтолкнуть хотел.
Чиж окончательно рассердился.
— Пошел к черту!.. Да я… Ну, и черт с ним!.. Туда и дорога. Только кто много толкуется о самоубийстве, тот никогда не застрелится… это факт!.. Пойдем лучше гулять.
— Что ж, пойдем, — флегматично согласился Мишка.
Видно было, что ему совершенно все равно: спать ли, гулять идти или просто ничего не делать.
XIX
Мягкой синей печалью вечера окуталась земля и стала красивой и загадочной, как задумавшаяся девушка. Над нею ярко блестели крупные чистые звезды, и небо казалось особенно глубоким и широким.
Чиж и Мишка медленно, без цели, шли пустынным бульваром.
Чижу было скучно; Мишка безмолвно шагал рядом, и нельзя было понять, о чем он думает; городок затих, и дома с темными окнами слепо ползли мимо, небо было далеко, холодно и чуждо, блестящие звезды тихо шевелились в сердце маленького студента. Перед ним, в сумраке, все еще стояло длинное белое лицо корнета Краузе, и, казалось, слышался его медленный напыщенный голос.
«Черт его знает, — в странном томлении раздраженно думал Чиж, — поживи еще годик, другой в этой проклятой дыре, и сам на гвоздик пристроишься в лучшем виде».
Но привычке Чиж хотел выругать городок, хотел возбудить в себе представление о той большой шумной жизни, о которой мечтал, но почему-то показалось это скучным, даже как будто глупым и совершенно неуместным. Тихий синий вечер таинственно навевал непонятную грусть, будил какие-то смутные, печальные мысли. И неотступно, с непонятным раздражающим призывом, стояло перед глазами длинное белое лицо с холодно приподнятыми косыми бровями.
— О чем ты думаешь, Мишка? — с тоской спросил Чиж.
— А? — как будто издалека отозвался Мишка.
— О чем ты молчишь? — повторил маленький студент.
— Да так… как-то такое… о шахматах… — машинально ответил Мишка.
— Тьфу! — сердито плюнул Чиж и встопорщился, как обиженный воробей. — С этими дурацкими шахматами ты, Мишка, когда-нибудь с ума сойдешь!
— Может быть, равнодушно согласился Мишка. Они опять пошли молча. Чиж, глядя на звезды, думал о том, что жизнь полна необъяснимых загадок, огромная и величаво торжественная картина мироздания вставала перед ним в этих таинственных небесных знаках вечности, высоко и светло начертанных в темной бездне. Мишка думал о шахматах: неуловимо тонкая, ажурная сеть комбинаций плелась перед его глазами, он тоже смотрел на звезды и машинально соображал, что будет, если той крупной синей звездой дать шах крайней звездочке из созвездия Большой Медведицы; коромысло этого величавого созвездия странно напоминало ему ход шахматного коня.
Они шли рядом, иногда даже толкаясь в темноте. Но каждый думал о своем, и если бы поставить их вдруг на такое расстояние друг от друга, на каком шли их мысли, Чиж и Мишка, идущие вместе, оказались бы так же далеки друг другу, как эти далекие одинокие звезды.
— Добрый вечер, Кирилл Дмитриевич, — окликнул кто-то маленького студента.
Чиж поднял голову, узнал Михайлова с какой-то женщиной в белом платье и кисло отозвался:
— Добрый вечер.
Потом узнал девушку — сестру своих учеников, — зло проводил ее глазами и брезгливо подумал: «И эта туда же…»
Он хотел вернуться к своим мыслям, и ему казалось, что только что он думал о чем-то очень важном и интересном. Но никак не мог вспомнить о чем и вместо того задумался о промелькнувшей мимо девушке. Чиж представил себе ее наивно удивленные серые глаза, полные крепкие плечи, всю фигуру, свежую и сильную.
«Здоровая девка!» брезгливо и цинично подумал он.
И почему-то маленькому студенту вдруг стало досадно, что она познакомилась с этим Михайловым.
— А, черт с ней! — раздраженно сказал он себе. Мне какое дело!
И опять вернулся к своим мыслям, но они были уже не те. Вместо величавых картин человеческой жизни, вместо гневно протестующих соображений о ее нелепостях Чиж стал думать о своей собственной жизни, и в первый раз она представилась ему как-то особенно серо и тускло.
Был он гимназистом, бегал по урокам, был студентом, опять бегал по таким же урокам, сидел за лекциями, слушал профессоров, спорил с товарищами и партийными врагами о деталях программ и тактики, таскал на заводы нелегальную литературу, агитировал среди каких-то, давно потерянных из виду, в сущности, совсем не интересных людей. Было много труда, волнений и хлопот, а в общем все безнадежно сливалось в одну серую длинную дорогу, но которой он добрел до тридцати лет и так и не узнал, зачем, собственно, брел. Правда, одно время, когда на улицах стреляли, толпы народа ходили с красными флагами и все выбилось из колеи, казалось, что цель достигнута, и начинается новая жизнь, ради которой и делал он все, что делал. Но это был один момент, а потом все пошло по-старому, и даже хуже. Люди и в моменты подъема оказались такими же скотами, как и всегда, и, может быть, больше, чем всегда: до революции их хоть связывала и приподымала общая ненависть, а в самый решительный момент они все перессорились из-за каких-то очень туманных разногласий в программах. Точно программа это — жизнь. Потом Чиж долго сидел в тюрьме и уже не грезил о торжестве пролетариата, а просто томился от скуки, считал дни и протестовал против лишения прогулок. Вся его жизнь свелась к четырем стенам камеры и крошечным интересам жалкого, урезанного существования. Потом его выслали на родину, а жизнь пошла своим чередом, совершенно забыв об отставшем где-то на дороге маленьком бедном студенте.
И теперь, когда все прошло и оставалось опять жить надеждой на лучшие времена, прошлое вспоминалось так бледно, ничтожно и глупо, что у Чижа защемило сердце: а что, если он, маленький жалкий микробик, совершенно напрасно так суетился и прыгал, а в конце концов был просто смешон.
И отчетливо, точно подчеркивая безнадежный приговор, отмечалось в мозгу, что всю жизнь он прожил, переходя от одной надежды к другой: сначала надеялся кончить гимназию и поступить в университет, потом ждал революции, потом лелеял мечту о выходе на свободу, теперь ждет не дождется конца своей поднадзорности, а там будет опять ждать чего-то и умрет все с той же надеждой, что вот завтра, наконец, начнется настоящая жизнь.
Бледно, почти не захваченная сознанием, мелькнула мысль, что, пожалуй, и лучше, минуя все эти бесполезные этапы, перейти прямо к конечной цели. Белое длинное лицо корнета Краузе опять выплыло из сумрака и поплыло впереди, точно маня куда-то за собой.
XX
Михайлов и Лиза Трегулова тихо шли по темной улице.
Слабые отсветы звезд ложились на лицо девушки и придавали ему ту задумчивую прелесть, которая тысячи веков манит обещанием какого-то нового, необыкновенного счастья. Сколько теплых летних ночей, сколько волнующих весенних вечеров были обвеяны легкой загадкой женской молодости, как сказка, исчезающей при свете трезвого дня.
Михайлов смотрел на это белое, с темными бровями и большими наивными глазами лицо, наклонялся к нему в сумраке вечера, и ему казалось, что еще никогда не было так легко и радостно жить, и хотелось только одного, чтобы эта молоденькая, красивая, свежая девушка обнимала и ласкала его. Он так привык к этим ласкам, так легко и быстро достигал их, что уже теперь дрожал от нетерпеливой жажды первого поцелуя, и ему даже было странно, что надо еще о чем-то говорить.
— Отчего же вы так хотели познакомиться со мною? — тихо спрашивал он, наклоняясь к лицу девушки и вкладывая в свой горячий, вздрагивающий от волнения шепот всю ту таинственную силу желания, которую понимали только женщины.
Лиза только что призналась ему, что давно мечтала познакомиться с ним, но с инстинктивным лукавством молоденькой девушки ответила просто и равнодушно, как будто бы:
— Мне много говорили о вас.
— Кто?
— Да многие… Вы сами, может быть, не подозреваете, как интересуются вами здесь. Да оно и понятно.
— Почему понятно? — притворяясь непонимающим, чтобы заставить ее сказать больше, спросил Михайлов.
— Ну, еще бы! как бы даже возмутилась Лиза. Вы — художник, о вас пишут… и притом… Она неожиданно замолчала.
— Что — притом?
— Смотрите… звезда упала!
— Ну, и пусть ее! — шутливо махнул рукой Михайлов, улыбаясь ее наивной хитрости. — Что притом?
Лиза притворилась, что не слышит.
— А какая теплая ночь сегодня!
Она испугалась того, что чуть было не сорвалось с языка, хотя именно это интересовало се и об атом ей хотелось говорить. Страстно хотелось, волновало, пугало и манило, как запретная завеса. Здесь была какая-то тайна, которая тянула ее наивную молодую душу и сильное девичье тело. Ей хотелось спросить о его связях с женщинами, о Нелли, о той гимназистке, которая в прошлом году пыталась застрелиться и которую родные увезли куда-то далеко на юг, о красивой актрисе из Петербурга, которая прожила в городке две недели и исчезла, оставив в памяти обывателей, точно аромат темного, лукавого греха, тайну жгучих смелых глаз, роскошных, вызывающих костюмов и какой-то никому не ведомой трагедии.
Лиза взглядывала на Михайлова, на его темные глаза, сильные руки, резко очерченные губы, и они сливались в ее представлении с туманными образами каких-то таинственных, любивших и страдавших женщин. Этими губами он целовал их, этими руками обнимал и обнажал, и, глядя на него, Лиза как бы чувствовала свое женское тело, непонятный страх и еще что-то, какое-то неуловимое желание, от которого краснели ее щеки и билось сердце.
Михайлов чувствовал, о чем она хочет и не может говорить и, чтобы удержать девушку у этого темного греховного пути, настаивал:
— Ну, не хитрите, — говорил он повелительно и нежно, близко заглядывая в наивные смущенные глаза, которые она прятала от него. — Ведь я же знаю, что вы нарочно хотите переменить разговор… Скажите, что говорят обо мне такого, что вы не хотите сказать?
Он помолчал и нарочно рассчитанно прибавил:
— А то я подумаю, что говорят что-то уж очень гадкое!
Лиза растерялась.
— Нет, что вы!.. Ничего особенного… так…
— А все-таки?
— Ну, говорят, что вы… что у вас было много историй с женщинами и что вы… дурно смотрите на женщин… решившись, точно бросаясь в глубокую воду, сказала Лиза.
Михайлов пристально и жадно смотрел на нее, и его тонкие ноздри раздувались, а глаза блестели. А вы как думаете… это правда? спросил он.
Лиза взглянула на него прозрачными чистыми глазами.
— Я не знаю… Мне кажется, что правда! — выпрямившись, как оскорбленная, ответила она.
— Что правда?
— Что вы смотрите на женщину только как на женщину.
Молодость и чистота дали ей силу, и она смотрела прямо ему в глаза.
— Что значит, как на женщину? лукаво спросил Михайлов, точно толкая ее на путь темных, греховных представлений.
— Ну, вы понимаете… — неловко, вспыхивая и чувствуя, точно сама обнажается перед ним сказала девушка.
Он смотрел на нее и странно улыбался. И под этой улыбкой Лиза остро почувствовала, что она и сама женщина, что у нее круглые плечи, красивая грудь, стройные и сильные ноги, нагое молодое упругое тело, которое он видит сквозь непрочную преграду легкого светлого платья.
— А что же другое надо видеть в женщине? — дерзко спросил Михайлов.
— Как что! Разве женщина не человек?.. Разве в ней только и есть, что это?.. — волнуясь и смущаясь, возразила девушка.
— При чем тут человек? — так же дерзко ответил Михайлов. — И разве любовь к женщине, как к женщине, исключает уважение к ней?.. Надо слишком презирать женщину, чтобы видеть в этом оскорбление!
— Нет, не то… — смутилась Лиза. Но вы уж чересчур односторонне смотрите…
Она чувствовала, что он завлекает ее в темный спор и преследует какую-то свою цель, но не могла, не умела остановиться и уклониться от волнующего и пугающего ее разговора.
— Это, во-первых, зависит от самих женщин, — возразил Михайлов, — и те, на которых я так смотрел, другого и не заслуживали… Женщина всегда сможет добиться того отношения, какого захочет… А что касается меня, то я ищу в женщине то, что мне нужно именно от женщины. Если мне захочется человека, я пойду тогда к кому бы то ни было, даже наверное к мужчине, потому что в конце концов, по крайней мере, теперь они все еще умнее, и развитее, и опытнее женщины. Зачем я буду говорить с женщиной об искусстве, науке, политике и тому подобных вещах?.. Для этого я найду художников, писателей, ученых, которые больше скажут мне… А в женщине я ищу ласки, красоты, наслаждения… я люблю ее за женственность, красоту, за тело…
Он говорил со странной влекущей силой, и слово «женщина» звучало в его голосе как горячий грешный крик.
Его жаркое дыхание скользило по щеке девушки, и ей казалось, что возбужденный шепот кружит ей голову, окружает ее каким-то пряным душным туманом.
— Это очень дурно! — сказала она с последним протестом наивной девичьей чистоты и взглянула на него строгими целомудренными глазами.
— Что дурно? — вызывающе возразил Михайлов. — Каждая женщина, и вы в том числе, родилась для того чтобы любить… Это закон природы, чистое и красивое наслаждение, из которого глупость и пошлость хотят сделать какую-то грязь. Потом, вы можете делать, все, что хотите… заниматься науками, искусствами, чем угодно, но вы будете любить, потому что вы молодая, здоровая и красивая женщина… Кого-нибудь вы будете любить, будете ласкать, кому-нибудь сдадитесь, и, конечно, я имею право желать и добиваться, чтобы это был я!
Он незаметно стал говорить уже прямо в ней, и Лиза не скоро поняла его. Заметив, она густо покраснела и склонила голову, увенчанную светлыми пушистыми волосами, растерянная и оглушенная. И не давая ей опомниться, рассердиться и с силой гнева поставить между ними неприступную черту холодности, Михайлов докончил:
— И в эту минуту мне хотелось вовсе не философствовать с вами о женщинах, а просто обнять и поцеловать вас!
Лиза испуганно отшатнулась. Краска густо залила не только щеки ее, но даже крепкую стройную шею, обнаженную легким платьем. Михайлов почувствовал, что слишком поторопился и она может уйти от него.
— Вы рассердились? — мгновенно меняя голос, тепло и ласково спросил он, наклоняясь и стараясь заглянуть в глаза, неподвижно и оскорбленно смотревшие мимо него.
— Вы сердитесь?.. Ну, простите… я вовсе не хотел обидеть вас… милая девушка!
Лизе вдруг стало немного смешно: у него был такой виноватый, просительный и даже жалобный голос.
— Нет, смягчаясь, сказала она, только зачем вы все это говорите?
— Как зачем?.. Затем, что это правда! — с силой ответил Михайлов.
Лиза растерянно пожала плечами.
— Ведь мечтать об этом я имею право? Имею?.. Ведь мечтать можно о чем угодно…
Она почувствовала, что он ловит ее, но не сумела увернуться.
— Ну, да… право, конечно, имеете… — машинально ответила она.
— А если имею право мечтать, то почему мне и не говорить правды?.. Зачем же я буду лгать и притворяться?.. Это смешно!.. Мне хочется вас поцеловать, и я говорю это…
— Ну, и говорите! — с беспомощным усилием свести все на шутливый тон пробормотала Лиза.
— А придется мне это сделать? Придется? — вдруг спросил Михайлов шепотом над самым ухом девушки.
Она почти почувствовала ласку его горячих губ, и ей показалось, что какой-то жаркий туман надвинулся и голова кружится. И сильнее испуга и гнева поднялось темное запретное любопытство. На мгновение даже показалось, что это так просто, интересно, и захотелось, чтобы он сделал это. Точно захотелось заглянуть в глубокую пропасть.
— Я не знаю… — бессознательно сорвалось с ее губ, и, вдруг почувствовав, что сейчас он поцелует ее, девушка вся забилась, не то порываясь бежать, не то отталкивая его.
Михайлов почти грубо сильной рукой обнял ее молодое гибкое тело, скользнул горячими губами по бархатистой щеке, нашел ее губы и закрыл их бешеным поцелуем. Она еще боролась, упираясь обеими руками ему в грудь, но он охватил другой рукой ее мягкий пушистый затылок и с мучительной силой прижал ее губы к своим, так что почувствовал ее холодноватые влажные зубы. Лиза задохнулась, чуть не потеряла сознание, отчаянно рванулась и вырвалась, отскочив к забору.
— Это дерзость… Как вы смеете! — вскрикнула она, ухватившись за забор, чтобы не упасть от стремительного движения.
Шляпа ее сбилась назад, волосы растрепались, все лицо горело, все тело дрожало, и сердце билось так, точно хотело разорваться. Она тяжело дышала и готова была заплакать.
И опять Михайлов не дал ей времени опомниться и стать снова холодной и чужой.
— Простите меня! — проговорил он ласково, покорно и тихо. Я вас оскорбил… Простите!.. Я не виноват, что вы такая… Ну, хорошо, я уйду…
Он еще что-то говорил, наивное, почти смешное, казался таким убитым, покорным, что Лиза не могла рассердиться.
— Я не сержусь… Это смешно. Я сама виновата… Но только не надо этого… больше… — с трудом проговорила она, и слезы выступили на ее светлых наивных глазах.
— Простите, — еще печальнее и нежнее сказал Михайлов и снизу смотрел ей в глаза, точно уже спрашивая опять о чем-то. Эта настойчивая сила обезоружила ее, сбила с толку и сделала все гневные слова совершенно бесполезными.
— Ну, хорошо… растерянно сказала она, — я не буду сердиться… только довольно… Прощайте.
И тут только заметила, что они уже давно стоят у самой калитки ее дома.
— Но мы еще увидимся?.. Ведь вы же простили меня. Докажите же свое прощение! Увидимся, да? — с мольбой и властно сказал он, заглядывая ей в глаза. Да, да… не знаю… хорошо… почти страдальчески вскрикнула девушка, чувствуя, что у нее кружится голова, и вдруг, подхватив платье, кивнула головой и убежала во двор, стукнув калиткой.
Михайлов остался один, несколько мину! простоял на месте, странно острыми глазами глядя ей вслед, потом улыбнулся и пошел назад.
Он уже знал, что они увидятся и что она будет любить его.
XXI
Доктор Арнольди добросовестно выполнил возложенную на него задачу развлекать Женечку. Он попросил Арбузова устроить пикник в березой роще за городом, и в назначенный день перед вечером сам заехал за Евгенией Самойловной.
Он застал Женечку уже совсем готовой. Она, как и всегда, была в красном, но теперь платье было легкое и прозрачное, отчего еще ярче выступала выпуклая красота се гибкого богатого тела. Даже угрюмый равнодушный доктор невольно посмотрел на округлые чистые линии ее плеч, белевших в широком вырезе платья.
— Ну, что ж, едем? — спросил он.
— Я готова! — радостно объявила молодая женщина, надевая шляпу.
Ей все-таки было тяжело в этом печальном доме, с двумя бледными женщинами, из которых одна мучительно умирала, а другая ходила суровая и строгая, без улыбки и привета. Полное жизни тело просилось на свободу, к шуму и движению, под горячие, возбуждающие взгляды мужчин.
Она, как ребенок, радовалась поездке, зная, что пикник устраивается именно для нее, что гам будет много интересных молодых людей, и в гордости своей смелой яркой красоты не сомневалась, что все будут заняты только ею.
Пока она надевала шляпу перед зеркалом, Мария Павловна, тихо и кротко улыбаясь, смотрела на нее.
Больная уже привыкла, что для нее эти радости умерли, и не завидовала Женечке. Только немного было грустно и не хотелось показать этой грусти.
«К чему, — думала она печально, кому до этого дело!»
— Ну, доктор, — сказала она, поручаю вам свою Женечку. Повеселите се. Смотрите, какая она хорошенькая!.. И мне будет веселей, если я буду знать, что ей весело… Она, бедненькая, настрадалась тут со мной.
— Не говори глупостей, Маша… вот не люблю! — отозвалась Евгения Самойловна.
Ей как будто было неловко, что она так молода, красива и здорова, когда та умирает. Чувство какой-то непонятной виноватости мучило ее, и она старалась скрыть свою возбужденную улыбку, невольно трогавшую розовые губы и блестевшую в черных глазах. Даже притворялась, что ей вовсе не так хочется ехать, а едет она только потому, что неловко обмануть хлопотавшего доктора Арнольди.
— Ну, ты ж не будешь скучать. Смотри! сказала она, целуя Марию Павловну. А то я лучше не поеду…
— Нет, не буду, не буду!.. Поезжай, родная… Ты этим доставишь мне удовольствие! — ответила больная, насильно улыбаясь.
Евгения Самойловна незаметно вздохнула, и на одну секунду ей стало прямо тяжело думать о поездке. Но когда двери за ними затворились и печальная комната больной осталась позади, Женечка не могла сдержать радостного возбуждения, охватившего ее, точно свежая вода на купанье, до самых кончиков пальцев на ногах. Она забыла, что доктор Арнольди — старый унылый человек, схватила его под руку и заставила сбежать со ступенек.
— Скорей, доктор, скорей!.. Едем, едем!.. Ах, как хорошо!.. Я сегодня буду пить, петь, бегать, танцевать… Ой-ра, ой-ра!.. И чего вы такой скучный?.. Как вам не стыдно?.. Ну же, доктор, развеселитесь, хоть на сегодня!
Толстый грузный доктор только тяжело пыхтел, торопясь за нею, а она всю дорогу, обвеваемая полевым ветром, блестела черными глазами и черными бровями, смеялась и поддразнивала своего молчаливого спутника.
Солнце уже было низко над горизонтом и плавилось в красном пожаре заката. На белых березках у опушки лежали огненные пятна и ярко золотилась зелень, а в глубине рощи уже синели тоненькие стволы и зеленели сочные темные чащи. Там, где березы редели и алели на солнце, крутой обрыв валился в реку, и на песчаной отмели тихо всплескивала широкая спокойная река. За нею зеленели кудрявые камыши и, словно растрепанные гнезда, пестрели крыши деревни. Тихо и гладко лежала река, не колебля ярких отражений, и только по отмели чуть поблескивала серебристая каемочка незаметной волны.
Кучера Арбузова раскидывали походные столы и покрывали их белыми скатертями, в стороне кипели самовары, курился маленький костер, отгоняя комаров, и валялись развороченные прямо на траве ящики с закусками и бутылками. За кустами стояли распряженные лошади и мирно махали хвостами и головами. Лучи солнца тоненькими прозрачными золотистыми стрелками тянулись вверху между веток и, как паутинки, плелись в глубине рощи.
Чиж, Мишка и Давиденко ушли купаться под обрыв, Арбузов, Тренев, корнет Краузе и Наумов пили пиво на траве, а Михайлов один сидел над обрывом и смотрел на противоположный берег, на белые пятна деревенских хат, на спокойную гладь реки, розовевшей от солнца, и на голые тела студентов, молодо блестевшие в кругах воды.
Он бросил шляпу на траву, всей грудью дышал речной прохладой, и ему казалось, что все тело его наполняется бодростью и легкостью рощи, точно молодым вином.
Задумчиво и счастливо улыбаясь, он наблюдал яркие краски заката, а перед глазами его стояло хорошенькое смущенное личико влюбленной девушки с наивными серыми глазами и легкими светлыми волосами. Вспоминались ее еще неумелые поцелуи, дрожь молодого тела, попытки уклониться от его ласк.
С того вечера они встречались почти каждый день, и уже девушка знала, что любит его, позволяла обнимать и целовать себя, только изредка как-то смешно, по-детски, целуя сама. Каждый раз после свидания Михайлов уходил от нее возбужденный и неудовлетворенный ее робкими чистыми ласками. Хотелось близости, хотелось полного обладания, и, не задаваясь вопросом, что будет дальше, он думал только об одном, чтобы привести ее к себе. Там, среди его обстановки, наедине, он был уверен, она не устоит перед его ласками и просьбами. При мысли об этом все тело его сладко томилось в нетерпеливой сладострастной истоме.
Девушка долго отказывалась идти к нему и, наивно глядя чистыми светлыми глазами, спрашивала:
— Ну, зачем?
И когда он искренне уверял, что ему только хочется увидеть ее одну и показать свою мастерскую, Лиза пытливо смотрела ему прямо в глаза, и в какой-то непонятной ей самой грусти на ресницах ее выступали слезы.
Наконец удалось уговорить ее, и завтра Лиза обещала прийти.
При мысли о том, что она придет, что никого не будет вблизи, Михайлову уже представлялось ее молодое, еще ни для кого не обнажавшееся тело, круглые руки, стройные ноги, затуманенные стыдом и первым сладострастием глаза. Он судорожно сжимал пальцы, и во всем теле его, от корней волос до сладко ноющих колен, было тягучее страстное чувство.
Он сидел над рекой и думал о ней, представляя ее то голую, то полураздетую, то на кровати, то на коленях у себя, и всем телом ощущал мягкое тепло вечернего солнца и речную влажную прохладу.
Послышались громкие голоса, движение, стук колес, и вдруг высокий звонкий женский смех прорезал вечернюю тишину рощи и улетел далеко на простор задумавшейся реки.
Михайлов оглянулся с любопытством.
Среди пестрой группы мужчин на зеленой лужайке резким красным пятном вырезывалась стройная женская фигура. Усатый Тренев, нагнувшись, целовал ее протянутую руку, другая была в лапах огромною студента Давиденко, и, как бы распятая между ними, гибкая, в красном, остро охватившем тонкую талию, платье, она стояла на зеленой траве и смеялась, блестя черными глазами и черными бровями на оживленном розовом лице.
— Оказывается, я одна! — весело говорила она, нисколько не смущаясь, что вокруг столько мужчин и ни одной женщины.
Огромный доктор Арнольди в парусиновом пиджаке, промокшем под мышками, уныло стоял сзади нее. Он представил Евгении Самойловне подошедшего Михайлова.
Молодая женщина окинула его быстрым любопытным взглядом блестящих, точно влажных, черных глаз и сейчас же отвернулась, засмеялась, куда-то побежала, едва не упала, запутавшись в своем длинном красном платье, и объявила, что она будет купаться.
— А вы не утонете? Тут ведь глубоко! — осведомился длинный Краузе.
— Ну, вот еще!.. Я плаваю, как рыба… Только что ж, здесь и купальни нет?..
— Можете надеяться на нашу скромность, — сказал Тренев, и его сумрачные глаза заблестели.
— Ох, не надейтесь, Евгения Самойловна!.. — подхватил Давиденко. Ведь вы туг в нашей власти!
— Ой-ра, ой-ра! — лукаво закачала черноволосой головой Женечка, погрозила ему пальцем и, смело отвечая на шутки и вольности, посыпавшиеся со всех сторон, подхватила платье и побежала к обрыву.
Ее быстрое появление, красное платье, белые плечи, блеск глаз ошеломили всех, и когда она исчезла за обрывом, мужчины долго молчали друг перед другом, насильно и слишком уж старательно отворачиваясь от реки.
Потом мало-помалу успокоились и сели у стола. Наумов начал прерванный разговор:
— Вы говорите, — резко и как будто озлобленно сказал он Чижу, мгновенно нахохлившемуся, точно перед боем, что самоубийство — малодушие и явление ненормальное. Я не согласен с этим. Правда, мне кажется, что так же нельзя восторгаться самоубийством, как и осуждать его. Но, во всяком случае, много надо силы воли, чтобы покончить с жизнью, и из всех смертей, какие есть на свете, самая естественная — самоубийство.
В его резком голосе фанатика, неприятно дергавшем по нервам, что бы он ни говорил, было нечто такое, что заставляло всех прислушиваться. А дикие, почти ненормальные глаза его блестели сумрачно и непреклонно.
— Это парадокс! — брезгливо заметил Чиж, подвигая себе стакан чаю.
— Ничуть, — резко оборвал Наумов, — всякая смерть противоестественна, хотя бы она была сто раз законом природы!.. Всякая смерть есть насилие над человеком, и только самоубийство свободно. Нельзя сказать, что это естественно, если я хочу жить и умираю, но нельзя сказать, что я поступаю нормально, сели я умираю добровольно, когда мне незачем и не для чего жить, когда мне просто не хочется жить!
— Как вы не хотите понять? — брезгливо, точно толкуя избитую истину непонятливому собеседнику, возразил Чиж: — Ненормальность не в нелогичности исхода… Конечно, если вам не хочется жить, то вполне естественно покончить с надоевшей историей… Но ненормально то, что живому человеку является желанной смерть… Это противоестественно, и я думаю, что не больному, не сумасшедшему и не малодушному, выбитому из колеи человеку никогда не придет в голову пустить себе в лоб пулю или черт его знает зачем лезть в петлю!..
Все слушали маленького студента и молча и с любопытством ждали, что возразит Наумов. Только корнет Краузе, высокомерно приподняв косые брови, смотрел холодно и важно, да задумавшийся о шахматах Мишка вперил глаза в рощу, ероша свои светлые спутанные волосы.
— А мне кажется ненормальным, что человечество, убедившись горьким опытом, что жизнь по существу несчастна, — сказал Наумов, дергая губами, как от боли, — до сих пор не догадалось понять, что смерть — лучшее, что оно может предпринять, чтобы раз навсегда прекратить эту бесполезную и вечную пытку. Почему вы думаете, что человеку естественно хотеть жить?.. Естественно бояться смерти, потому что она загадочна и мучительна, но хотеть жить!.. Я этого не понимаю. Вы видели когда-нибудь счастливую жизнь? Нет?
— Почему же! — недоверчиво заметил Давиденко, пожимая своими могучими плечами.
— А вы видели? — криво усмехаясь, обратился к нему Наумов. — Я не видал. Я не видал счастливой любви, не видал счастливого брака, не видал человека, удовлетворенного своей судьбой, не видал человека, никогда не болевшего, не страдавшего, не плакавшего… Вы видели? Покажите мне… покажите, и я пошлю к черту всю свою идею…
— А у вас есть идея? Это любопытно, — насмешливо сказал Чиж.
Его возмущали слова Наумова и, забывая почему-то, что он сам несчастен, что нет дня, когда бы он не страдал и не мечтал, маленький студент думал, что его долг осмеять и оспорить этого странного нелепого человека с его опасными дикими теориями.
— У меня есть идея! — с почти неуловимой иронией поклонился ему Наумов. — Если вам угодно, я скажу, в чем она заключается.
— Это было бы любопытно! — насмешливо хмыкнул Чиж.
— Идея моя есть уничтожение человеческого рода, — совершенно серьезно и уверенно, как будто не замечая усмешки маленького студента, продолжал Наумов.
— Овва! — вскрикнул Чиж и даже вскочил от негодования. — Черт знает что такое!
Длинный Краузе, еще выше подняв брови, быстро обернулся к Наумову.
— Вы говорите серьезно?.. Во имя же чего? Наумов пытливо и как-то странно, точно видя в белом длинном лице корнета что-то, чего не видели другие, посмотрел на Краузе.
— Я говорю то, что думаю, в истину чего верю. Во имя чего?.. Во имя прекращения бесполезных страданий. Человечество прожило тысячи лет. Тысячелетия его питала и поддерживала глупая надежда на счастье, которого не может и не должно быть по самому смыслу человеческой жизни. Счастье — это полное отупение. Человек, который не страдает, не нуждается и не боится, не станет бороться, не станет в муках стремиться вперед и вперед… Он будет бродить и лежать, как боров. Страдание двигает все, и это старая, всем известная истина. Дайте счастье сюда, и мы никуда не пойдем; мы гонимся за счастьем, и в этом вся жизнь. А во имя чего же человечество будет страдать бесконечно? Вспомните: вся история земли — сплошная кровавая река… Горе, страдания, болезни, тоска, злоба, все, что есть черного в фантазии человеческой, вот жизнь людей!.. Людям пора понять, что это ужасно, что они не имеют права обрекать грядущие бесконечные поколения на то же страдание, которое пережили миллиарды прежде бывших!.. Люди сошли с ума! Корчась в муках, проклиная свое существование каждый день, они изо всех сил стараются, чтобы оно никогда не кончилось!.. Что это? Дикость, глупость или чей-то наглый чертовский обман?..
— Это просто инстинкт жизни, который неодолим и, к счастью, противостоит всем вашим теориям! отозвался с решительной злостью Чиж.
— К сожалению, это правда! — твердо сказал Наумов. — Какая-то скверная хитрая сила вложила в нас этот инстинкт, в котором наше проклятие… Но человечество недаром боролось с массой инстинктов, если это инстинкт, его надо уничтожить!
— Но для этого вам придется переделать род человеческий! — заметил взволнованный Давиденко.
— Если надо, то и переделаем, — спокойно ответил Наумов.
Чиж брезгливо рассмеялся.
— Но для чего? — раздраженно крикнул он.
— Я сказал: для прекращения напрасных страданий.
— Ну, это вам, поверьте, не удастся! — торжествующе сказал маленький студент.
— Почему вы так думаете? — медленно спросил Наумов, глядя исподлобья.
— Потому что инстинкт жизни неистребим, он живет в каждой травинке, в каждом дыхании!.. Его не истребят самые хитроумные фразы!
— Это не фразы. Да его и не придется истреблять. Он погибнет сам.
— Черт знает, что вы говорите! — воскликнул Чиж в решительном негодовании.
— Все умирает! — с какою-то мрачной верой ответил Наумов. — Все растет, достигает полного расцвета и умирает. Таков закон. Почему дух человеческий вы исключаете из этого закона?.. Рано или поздно настанет время, когда ум человеческий, достигнув зенита, пойдет вниз и станет, мак туман над болотом. Все надоест человеку!.. Неужели вы думаете, что можно вечно тешиться борьбой друг с другом, вечно менять свои крошечные правительства, вечно малевать картинки, вечно лечить больных, вечно писать книжки, вечно лепить статуэтки, вечно строить театрики, вечно влюбляться, вечно копать землю, вечно лепить кирпичи… вечно жить и жить!.. Поймите, ведь прежде всего это скучно и глупо!.. Наступит момент, когда опустеет поле человеческой деятельности… Люди для развлечения начнут стрелять в цель друг в друга, будут массами топиться, вешаться, бросаться со скал… Матери станут с тоской зачинать и вынашивать младенцев, никому не нужных, никому не интересных… ни одна не поверит, что ее ребенку предстоит какая-то необыкновенная красивая судьба… в колыбели, ею наполненной, она будет видеть только грядущее несчастье, будущие муки, болезни, идиотизм, вырождение!.. И они апатично откажутся рожать или будут бросать рожденных на том месте, где родили!..
Голос Наумова звучал резко, с мрачной торжественной силой. Дикие глаза его горели черным огнем и смотрели через головы слушателей, как будто где-то вдали они видели черную судьбу человечества. Так должны были смотреть пророки, грозившие гневом Божиим мятущемуся человечеству.
Холодом прошло над сердцами всех присутствующих. Стало жутко и тоскливо. Даже Чиж, брезгливо морщась, замолчал. Какая-то правда, не так, быть может, высказанная, не с той силой произнесенная, с какой должна была прозвучать на земле, встала перед ними. Каждый оглянулся на свою собственную жизнь, и тусклой безнадежной полосой выявилась она перед глазами.
— Я объявляю войну жизни, — твердо говорил Наумов, — я не признаю ее, отрицаю и проклинаю… Я буду кричать о прекращении этой кровавой бессмыслицы… До сих пор вся деятельности человека была направлена к сохранению и продлению жизни в бесконечность… Те, кто пел ей гимны, кто клал душу свою за нее, признавались благодетелями человечества, им строились храмы и возносились памятники. Я считаю их врагами людей, представителями без чести и совести!.. Они не могли не видеть, не могли не знать, что ведут человечество на убой!.. На бесконечные пытки, на страдание и смерть!.. Будь они прокляты, все ваши мыслители, пророки, поэты и ученые!.. Они научили человека мечтать о счастье, научили закрывать глаза на страшную очевидность. Они заставляли нас верить, когда надо было только раскрыть глаза, чтобы мы увидели и отшатнулись с омерзением и ужасом раз навсегда от жизни!..
— Слушайте! — почти болезненно вскрикнул Чиж. Кто вы, что говорите, точно пророк, черт возьми!.. Ведь это смешно!.. Объявляете войну, проклинаете… Кто будет слушать вас?.. И кто вам поверит?.. Зачем вы будете носить эту дикую идею?
— А хотя бы для того, чтобы представить себе, что я проснусь через тысячу лет и увижу на этой горке бойню войск, там, на реке, заводы, полные изморенных людей, здесь, в роще, кладбище, или больницы, или дом сумасшедших, и тогда буду иметь право сказать людям: а я говорил вам! Вы не послушали… ну, пеняйте на себя!.. Впрочем, в одном вы правы: я увлекся, мы собирались здесь для развлечений, а не для споров. Ну, довольно…
Наумов замолчал.
Молчание было долго и напряженно. Тысячи образов и представлений, судорожные мигания мысли возбудили эти мрачные дикие слова. Может быть, никто не соглашался с ним, может быть, все видели в нем только маньяка или рисующегося человека, но было что-то в словах его, что встревоженные мысли вихрем, как сухие листья осенью под ветром, взмыли в душах побледневших людей.
— Как назвать эту идею?.. — первый прервал молчание Чиж.
— Величайшей гуманностью, — быстро перебил его Наумов.
— Хороша гуманность, — злобно крикнул маленький студент. — Гуманность, советующая истребляться всему человечеству!.. Тьфу!
— В данный момент на земле живет много людей… пусть их будут миллиарды… Но представьте, какое ужасное количество несчастных еще ждет своей очереди в веках будущего!.. Можно ли представить себе все это колоссальное страдающее стадо! Они идут сюда, может быть, от края вселенной, и негде яблоку упасть среди их голов… Во имя их я говорю о прекращении рода человеческого и думаю, что моя идея — самая гуманная идея, какую мог выносить когда-либо мозг человеческий!
Чиж растерянно развел руками.
Тысячи возражений копошились в уме его, и каждое казалось совершенно уничтожающим все эти бредовые, болезненные идеи. Но слова как-то не навертывались. Все, что Чиж знал о грядущем торжестве социализма, о братстве, равенстве и свободе, не подходил сюда. Впервые он почувствовал, что в его идеях есть какая-то теоретичность и нет живого тела человеческого. А здесь надо было возражать только от тела, только от радости самой простой животной жизни. И таких слов не нашлось у маленького студента.
— Правильно! — вдруг крикнул Арбузов, до сих пор молча глядевший на лицо Наумова своими мрачными воспаленными глазами. — Ах, поджечь бы всю эту дурацкую землю с четырех концов, да и пустить по ветру… Надоело!.. Будь она проклята!..
— Это фразы, — едва шевеля тонкими губами, возразил Чиж. — Вы все проклинаете жизнь, а каждый из вас, если горло заболит, побежите к доктору. Нечего тогда и слова даром терять.
— Мне кажется, — холодно заговорил корнет Краузе, высоко подняв косые брови, — что это не возражение…
— Конечно, — отозвался Наумов устало, с потухшим блеском в глазах, — я говорил уже, что смерть страшна. Это закон, и потому я, когда-то раньше впадая в крайность увлечения своей мыслью, старался пробудить в людях стремление к самоубийству… Нет, самоубийство слишком тяжело, слишком мучительно… Нужны другие способы, и они будут найдены… От нас, уже живущих, достаточно, если мы не будем производить новых несчастных и обманывать людей, обещая им золотое будущее.
Чиж заспорил опять. Он решительно злился, точно слова Наумова попадали ему в больное, тщательно скрываемое от самого себя место. Наумов молчал. Корнет Краузе, шевеля бровями, возражал Чижу, доктор Арнольди молча смотрел то на одного, то на другого своими непонятными умными глазками, спрятавшимися в жирных мешках, и нельзя было уразуметь, на чьей он стороне.
XXII
Михайлов задумался под спор Наумова с Чижом. Когда Наумов замолчал, он перестал слушать Краузе и маленького студента, кидавшегося на своего противника, точно разъяренный чижик, и с недоумением стал прислушиваться к тоске, внезапно зашевелившейся в его душе. Что-то больное пробудил в нем этот странный маньяк. И стало страшно: какой-то черный призрак вдруг выглянул из-за зеленой рощи, ясного вечернего неба, спокойной реки.
Голоса спорящих резко и бестолково звучали под вздрагивающими тоненькими веточками березок.
Мишка, сидевший рядом с Михайловым и смотревший в сторону реки, вдруг вздрогнул, заерзал на месте и покраснел. Невольно следуя по направлению его взгляда, Михайлов оглянулся и почувствовал, как, мгновенно потушив все мысли, кровь стукнула ему в голову.
Между белыми стволами березок отчетливо, как на картине, была видна песчаная отмель, гладь реки, розовевшей в последних лучах солнца, красное платье Женечки, брошенное на песок, и она сама, совершенно нагая, во весь рост стоявшая на берегу.
Должно быть, она не знала, что ее видно, и спокойно стояла на песке, легко озаренная солнцем вечерним, видная от черных волос, скрученных на затылке, до кончиков розовых пальцев ног, легко стоявших у самой воды. Тонкие белые руки были закинуты за голову, пальцами запутавшись в черных волосах, гибкая, с мягкой сладострастной линией посредине, спина была выгнута в легком и красивом усилии, а голова откинута, как будто она загляделась на что-то далекое на том берегу.
Михайлов почувствовал, что все темнеет и сдвигается кругом, все исчезает и остается перед глазами, воспалившимися от мгновенного возбуждения и восторга, только она одна — голая розовая женщина с черными волосами на гладкой песчаной отмели.
Он опомнился, почувствовав, что на него смотрят. Черные мрачные глаза Арбузова с каким-то странным выражением смотрели на него.
— Ишь, засмотрелся художник! — сказал он громко, точно для того, чтобы все услыхали.
Михайлов вспыхнул. Что-то обидное почувствовал он в голосе Арбузова, почему-то стало противно, что все увидят ее.
Но когда Краузе и Тренев, следуя за его глазами, оглянулись, уже никого не было на берегу. Тихо погасая, темнела река, успокаивались круги на воде, и туманился дальний берег. Солнце село.
Скоро показалась Женечка. Она шла уже в своем красном платье, розовая от холодной воды, улыбающаяся. От нее пахло свежестью, и в широкий вырез платья видна была верхняя часть освеженной упругой груди, мягко исчезавшей в красной материи.
— Ах, как хорошо здесь купаться, если бы вы знали! еще издали весело кричала она. Чаю мне, чаю! Умираю от жажды…
Ей дали стакан. Евгения Самойловна пила его мелкими глотками, низко нагнувшись к столу и исподлобья смотря на всех черными влажными глазами.
— О чем вы тут спорили так громко? — спросила она.
— О судьбе человечества! — иронически ответил Чиж и насмешливо оглянулся на Наумова.
— Ну, о человечестве! — засмеялась Евгения Самойловна. — Это слишком громадно!.. Давайте лучше спорить о своей судьбе… Вы знаете, моя мать была цыганка… я гадать умею!.. Хотите, погадаю?
— Я вам сам погадаю! — возразил Давиденко. — Давайте руку.
— А вы умеете?
— Да уж умею, коли берусь! сказал студент, беря ее маленькую розовую руку с отточенными маленькими нитями. Все невольно стали смотреть на эту крошечную розовую ладонь, на которой пухло и мило виднелись какие-то забавные линии.
— Замуж не выйдете, — тоном прорицателя говорил Давиденко, хмурясь, — проживете до ста лет… любить будете… мужей у вас будет…
— Как мужей! — хохоча, крикнула Женечка. Вы же сказали, что я не выйду замуж!
— Так то замуж, — с невозмутимым хохлацким акцентом возразил Давиденко. — А мужей будет у вас… раз! два! три… четыре… семь… десять… пятнадцать… двадцать два…
— Это дерзость! — вырвала руку и захохотала как безумная Женечка.
— А хиба я виноват, когда линии так показывают!..
Длинный корнет Краузе подошел к молчаливо шагавшему по лужайке Наумову.
Уже темнело, и костер, прежде только дымивший, бросал неровный скачущий свет на нижние ветки задумавшихся березок. В этом неровном красном отблеске длинное бледное лицо корнета, казалось, гримасничало одной, красной, половиной лица.
— Будьте так добры, — холодно сказал он Наумову, — мне бы очень хотелось подробнее поговорить с вами о вашей идее.
Наумов вторично пытливо взглянул на него и о чем-то подумал.
— Что именно угодно вам знать? — твердо спросил он.
— Не теперь. Потом… — возразил корнет и отошел.
Наумов задумчиво посмотрел ему вслед.
Все темнело и темнело. Березки слились в одну жуткую массу, и безобидная веселая рощица сдвинулась дремучим темным лесом. Странно мелькали освещенные лица у столов, черные силуэты заслоняли свет свечей, бледно горевших в стеклянных колпачках.
Евгения Самойловна бегала по лужайке, хохоча, звонко вскрикивая, дразня мужчин. В тени ее красное платье становилось черным, на свету костра вдруг вспыхивало кровавым пятном. Смех и шутки далеко разносились в тихой роще.
— Смотрите, смотрите! — закричал откуда-то из темноты Мишка.
С крутого берега, где он стоял, видны были костры на деревне. Через реку доносились голоса. Что-то пели, и песня отсюда казалась красивой и грустной. Какие-то черные тени мелькали на далеком пламени костров, и огни то исчезали, то вспыхивали яркими звездочками.
— Что это такое? Ах, как красиво! — вскрикнула Евгения Самойловна, подбежав к самому краю обрыва.
Отблеск дальних костров через темную, казавшуюся холодной и странно большой реку чуть освещал ее красное платье и блестящие черные глаза на белом лице.
— Да сегодня Купала! — вспомнил Давиденко. — Давайте и мы через костры прыгать!.. Мишка, вали!..
— Нет, знаете что… — повелительно и звонко кричала в темноте Женечка. — Вот если бы пойти на деревню… я никогда не видала… огней Ивановой ночи!..
— Прыгайте через реку! дурашливо предложил Давиденко. — Ну, раз… два…
— На пароме можно, — предложил Арбузов мрачно. — Тут паром есть.
— Идемте, идемте… миленький… Я вас любить буду! — схватилась за его руку Женечка в решительном восторге.
— Смотрите ж, любите, — мрачно улыбнувшись, сказал Арбузов. — Павел! — крикнул он на всю рощу. — Зови паром.
Слышно было, как кучер, обрываясь и булькая в воде песком и мелкими камешками, спустился к реке.
— Па-ром… Да-вай па-ром! — закричал он где-то внизу.
— О-ом… ом… — заголосило далеко по реке.
— Давиденко, а ну, ты! — предложил Мишка. Громадный студент подошел к краю обрыва, приложил обе руки ко рту и заорал так, что загудело на том берегу.
— Гоп-топ!.. Бувай, бувай!..
— А ну вас… оглушите!.. — хохотала Женечка.
— Ай-ай-ай! — голосило где-то звонкое перепуганное эхо.
— Голосина! — с мрачным одобрением заметил Арбузов.
На том берегу продолжали тихо петь, мелькали и исчезали огненные языки. Река безмолвно и темно веяла холодом простора и загадочной силы. Что-то черное отделилось от берега и медленно стало пересекать, как будто посветлевшую воду.
— Какой страшный! сказала Евгения Самойловна.
Паром чернел все больше и, как будто не двигаясь, все рос и рос, а полоса светлой воды между ним и берегом становилась все уже. Заскрипел канат, и послышались грубые переклики паромщиков-мужиков.
Стали спускаться к воде. Евгения Самойловна, хохоча, чуть не свалилась с откоса.
— Держите меня… упаду! — кричала она.
— Давайте руку, — басил невидимый Давиденко и лез на нее, как медведь.
— О, чтоб тебя! — где-то вскрикнул Тренев и, должно быть, съехал вниз, потому что посыпалась земля и забулькали в воде камешки.
Черная масса парома, скрипя, качалась у берега. С хохотом, шутками и остротами взобрались на трухлявые, качающиеся под ногами доски. Черные безличные мужики налегли на канат. Паром заскрипел, и между ним и берегом, все расширяясь и расширяясь, показалась светлая полоса воды.
А мы не утонем? — спрашивала Евгения Самойловна, с жутким любопытством глядя на холодную бездну, колебавшую красные отблески костров, и синие, крутящиеся в глубине звезды.
Все громче и громче слышалось пение, и уже можно было разобрать нелепые и поэтичные слова малороссийской песни. Гудели басы, и высокий бабий голос заливисто забирал все вверх. Костры горели ярко, выбрасывая свирепые языки, и розовые хаты стояли на берегу, глядя в темную воду.
Когда компания подошла к самым кострам, пение вдруг смолкло. Десятки странных от огня лиц со всех сторон смотрели на господ, неведомо откуда появившихся, и отовсюду из мрака блестели любопытные, даже как будто враждебные, глаза.
— Ну, что ж это… — разочарованно протянула Евгения Самойловна. — Они испугались нас!..
Брошенные костры быстро догорали, трещал и корчился черный хворост. Парубки и девки, казавшиеся очень хорошенькими и дикими, в своих пестрых венках, молча во все глаза смотрели на господ. Те столпились кучкой, нарядные и тоже странные среди дикой, ночной обстановки, не знали, что им делать, и чувствовали себя неловко. Первый нашелся Давиденко.
— Ну, что ж вы стали, господа… — закричал он. — Давайте прыгать… Евгения Самойловна… ну!
Молодая женщина смеялась и пряталась за мужчин. На ее красивое, с блестящими глазами лицо падал красный свет костра, и оно тоже казалось каким-то диким. Точно это была вовсе не городская барышня, наряженная в красное узкое платье и стальные светлые ботинки, а какая-то странная красивая ночная женщина.
— Ну, что ж вы… ну!.. Мишка, вали! — кричал Давиденко.
Начинай ты, — скромно отозвался откуда-то сзади Мишка.
Громадный студент разбежался, подпрыгнул и перескочил через огонь. Совершенно неожиданно откуда-то вынырнул маленький Мишка и, легче пуха, перелетел костер…
— Ну же, Евгения Самойловна!.. Да что вы, право! Так нельзя! — кричал запыхавшийся Давиденко, возвращаясь откуда-то из мрака.
Она смеялась, и глаза у нее блестели желанием и застенчивостью.
Длинный Краузе выдвинулся вперед, с важным видом подошел к костру, с недоумением поднял косые брови и перешагнул огонь, как журавль.
В толпе засмеялись.
Вдруг, точно кто-то толкнул ее, Евгения Самойловна, высоко подобрав платье, так, что видны были ботинки и черные стройные чулки, легко побежала к огням. Взметнулось красное пятно, огонь припал к земле, мелькнула полоска розового тела над чулком, и она исчезла в дыму, по ту сторону огня, опять вспыхнувшего ярким торжествующим смехом.
— Браво, браво, браво! — закричали Давиденко, Тренев, Мишка и другие.
Точно это прорвало какую-то преграду. Девки, развевая юбки и показывая голые ноги чуть не до пояса, одна за другой полетели за Женечкой. Прыгнул какой-то парубок, Давиденко тяжело перескочил опять, и за ним, как прикованный, мелькнул маленький взлохмаченный Мишка. Какой-то сумасшедший восторг охватил всех. Евгения Самойловна, раскрасневшаяся, растрепанная, страшно красивая, бегала и прыгала, падала и хохотала. Парубки подвалили хворосту, и огонь запылал высоко и радостно. Двое мальчуганов, разбежавшись с обеих сторон, налетели друг на друга и чуть не попали в огонь. Хохот стоял над лужайкой, дым и искры валили кверху. Какой-то веселый шабаш стоял среди темной ночи, и сверху смотрели на него холодные неподвижные звезды, а снизу веяла сыростью молчаливая темная река.
Наконец, устали. Евгения Самойловна, тяжело дыша и блестя глазами, повалилась прямо на траву.
— Не могу больше!.. — простонала она.
XXIII
Опять плыли на пароме через темную холодную воду. Тускнели вдали костры, и ширилась светлая полоса воды. Опять послышалось пение и постепенно замирало.
После пережитого возбуждения, шума и движения, блеска костров и дико красивых, прыгающих через огонь фигур странно красивой и торжественной казалась ночь. Звезды мерцали тихо, плескала таинственно и плавно река, охватывала торжественная вольная тишина.
На берегу уже фыркали невидимые запряженные лошади и позванивали бубенчиками арбузовской тройки.
— Пора и домой, — сказал доктор Арнольди, подымаясь навстречу возвращавшимся, усталым и счастливым молодым людям. — Ну, что… весело? — ласково спросил он Евгению Самойловну.
— Ах, доктор, как хорошо!.. Отчего вы не поехали?.. Вот, ей-Богу!
— Ничего, я тут пива выпил, — равнодушно ответил старый толстый доктор.
— А мне не хочется домой! — говорила молодая женщина жалобно, точно ребенок, которого ведут спать.
— Знаете что, — предложил Давиденко, — пусть лошади за нами едут, а мы пройдемся по дороге.
В темноте было трудно идти через рощу. Темные деревья призраками вставали там, где их не ожидал глаз, какие-то ямы оказывались там, где казалось ровно, спотыкались на корни, смеялись. Потом вышли на опушку и пошли полем. Степной ветер тихо и вольно подул в лица.
— Ах, как хорошо! — все повторяла Евгения Самойловна, идя впереди с Давиденко и Михайловым. — Так хорошо, что лучше и не надо. — А знаете, — сказала она, подумав, — давайте говорить, для кого из нас что лучше сегодняшней ночи… Самое лучшее!.. Чего кто хотел бы от своей жизни…
— Я… — начал Давиденко положительным басом.
— Нет, постойте, я сама буду говорить! — перебила его Евгения Самойловна. — Для вас… Вы бы хотели, чтобы быть сильным, сильнее всех на свете, класть, как это называется, на обе лопатки…
— Ну, вот, — обиженно возразил Давиденко, — вы меня уж очень того…
— Ах, да! — захохотала Женечка. — Простите… Вы хотели бы торжества революции и освобождения народа… так? Угадала?.. Как это я не догадалась сразу?.. Мосье Тренев хотел бы, чтобы усы у него выросли, как вот та береза!..
Все засмеялись. Тренев сконфуженно дернул себя за усы в темноте. И горько подумал: как она далека от правды!..
— Доктор Арнольди хотел бы, чтобы его все оставили в покое, мосье Чиж, чтобы все стали социал-демократами, Захар Максимович — съесть весь мир живьем… Сергей Николаевич… хотел бы…
— Вас! — вдруг тихо, так, что слышала только она, шепнул Михайлов.
— Это дерзость, — нисколько не смущаясь, ответила ему Женечка быстро.
— Что он сказал? — любопытно осведомился Давиденко.
— Ничего… глупость, — скороговоркой ответила Евгения Самойловна, но в голосе ее прозвучало что-то странное. Как будто ей было приятно то, что сказал Михайлов.
— Мосье Наумов, — продолжала Женечка, — хотел бы…
— Чтобы все люди передохли! — насмешливо отозвался из темноты Чиж.
— До некоторой степени — правда, — сказал спокойно Наумов.
— Ну, это уж очень жестоко! — засмеялась Женечка. — Зачем? Когда так хорошо жить!
— А Краузе застрелиться хочет! — крикнул вдруг откуда-то Мишка дурашливо.
В темноте все говорили как-то странно, как будто не своими голосами и не свои слова. Было легко, хотелось дурачиться и смеяться. Кто-то заспорил, некоторые отстали. Другие ушли вперед. Далеко в поле разносились крики и смех.
Михайлов шел немного сзади Давиденко и Женечки. Перед ним неясно маячила в темноте ее тонкая, волнующаяся на ходу талия, красное платье теперь казалось совсем черным, белела под черными волосами шея. Пахло от нее духами и каким-то еще оживленным волнующим запахом.
Михайлов смотрел на эту белевшую шею, на тонкую талию, и ему хотелось обнять ее. Хотелось сказать что-нибудь острое, что взволновало бы ее, эту красивую смелую женщину. Он чувствовал, что сейчас многое можно сказать ей. Когда Давиденко заспорил о чем-то с Чижом, Михайлов догнал Евгению Самойловну и сказал тихо, невольно вздрагивая от возбуждения:
— Евгения Самойловна, а вы не боитесь, что кто-нибудь видел вас, когда вы купались?
— Что за вопрос? — быстро обернулась она. Черные глаза со странным выражением посмотрели прямо в глаза Михайлову. Михайлов не отвел взгляда, и минуту они молча смотрели друг на друга. Потом что-то мелькнуло и пробежало в черных глазах. Должно быть, она покраснела немного. Женечке показалось, что в его глазах она вдруг увидела, как в зеркале, себя самое, голую, не скрытую от его бесстыдного желающего взгляда.
— Я ничего не боюсь! — вдруг сказала она с вызовом, слегка покачала головой, засмеялась и побежала вперед.
— Доктор, доктор! Где же вы… что ж вы меня бросили! — услышал Михайлов ее странный, чересчур звонкий голос, и ему почему-то почувствовалось, что глаза ее ярко блестят, ноздри раздуваются.
У экипажей, пока садились и спорили, кому с кем ехать, Михайлов догнал Женечку. Толстый доктор, кряхтя, как старик, усаживался и не обращал на них внимания.
— Сергей, ты со мной… иди сюда! — крикнул издали Арбузов.
— Сейчас, — ответил Михайлов. — Ну, до свидания, — сказал он Евгении Самойловне, улыбаясь и протягивая обе руки.
Она пристально посмотрела на него, точно запоминая это мужественное и красивое лицо, потом улыбнулась и решительным жестом тоже подала обе руки.
— До свиданья!
Михайлов задержал эти маленькие, крепкие и теплые руки долгим, что-то говорящим пожатием и смотрел прямо в черные, даже в темноте блестящие глаза.
— А все-таки я вас видел! — выразительно сказал он.
Евгения Самойловна чуть покраснела.
— Ну, и стыдно! — вызывающе ответила она, как бы борясь против слабости стыда.
Волна смелости и дерзости подхватила Михайлова.
— Ничуть не стыдно… ничуть! — показывая белые зубы, возразил он. — Если бы вы знали, какая вы были красивая… вся… нагая… — докончил он задрожавшим от сдержанного волнения голосом.
— Ой-ра, ой-ра! До свиданья!
Лошади тронули.
Михайлов, весь наполненный кружащим голову ощущением силы, молодости и неясной надежды, чувствуя каждый нерв своего тела, побежал к звавшему его Арбузову.
XXIV
В белом легком платье, с обнаженной шеей, с кисейным шарфиком на светлых волосах, Лиза стояла посреди мастерской и, наивно приподняв брови, смотрела на картину.
Первый раз она видела эту обстановку, первый раз была одна у мужчины, и ей было чего-то страшно, интересно и неловко. Она старалась быть серьезной и смотреть только на картину, не замечая Михайлова, но руки ее застенчиво крутили концы шарфика, а на щеках то появлялся, то исчезал легкий взволнованный румянец.
Михайлов стоял у нее за спиной, и близость ее здорового свежего тела, закрытого только легкой, почти прозрачной материей, волновала его.
Близко перед глазами была ее голая крепкая стройная шея с легким загаром, а там, где кончался вырез платья, виднелась и таинственно скрывалась белая полоска незагорелого здорового тела. Глаз невольно скользил по этой маленькой наготе и томился, что не видно дальше, там, где все тело, упругое и свежее, скрыто в своей молодой прелести. Когда Лиза двигалась, видно было, как под платьем мягко ходили изгибы спины, мягкой талии и круглых плеч. Свежий, точно после купания, запах молодого женского тела веял от нее.
Иногда, точно чувствуя на себе его жадный бесстыдный взгляд, Лиза оглядывалась, встречалась с ним глазами и отворачивалась, краснея. Тогда она казалась такой милой и доброй, что хотелось просто поцеловать ее.
— Ну, что, нравится вам? — спрашивал Михайлов. Лиза повернула к нему через плечо свое смущенное порозовевшее лицо и с наивным восторгом ответила:
— Еще бы… Как хорошо! Какой вы счастливый! Михайлов близко смотрел на ее двигавшиеся румяные свежие губы, и сладострастно-нежное желание поцелуя стало почти нестерпимо. Должно быть, в его темных глазах загорелся какой-то опасный огонек, потому что Лиза вдруг невольно посмотрела на его глаза, на губы, опять на глаза и торопливо отвернулась к картине. Михайлов увидел только, как покраснели се маленькие уши, прикрытые пушистыми светлыми волосами.
— Ну, что ж… будет вам смотреть… садитесь, — сказал он. — А то я начну вас ревновать к своей картине.
Ему казалось, что если девушка сядет, здесь у нею, на его диван, снимет свой шарфик, то будет ближе и доступнее. И Лиза, должно быть, тоже чувствовала это, потому что боялась, не садилась и избегала смотреть в глаза.
— Нет, я только на минутку… надо уходить… — робко защищаясь, возражала она.
— Неужели вы только для того и пришли, чтобы сказать мне это? — близко заглядывая ей в лицо, шутливо и нежно спросил Михайлов.
Лиза смущенно засмеялась.
— Нет… Но дома могут хватиться… я сказала, что сейчас вернусь…
— Папы и мамы боитесь? — шутил Михайлов, и в звуках его ласкающего голоса слышалось: «Ведь все равно не уйдешь от меня, глупая девочка. Так лучше скорее».
— Никого я не боюсь! — возразила Лиза и покраснела.
— Никого и ничего? — прищуривая глаза, спросил Михайлов.
— И ничего! — с полудетским упрямством ответила девушка и опять покраснела.
— Будто бы! — так же загадочно протянул Михайлов. — Ах вы, моя смелая девушка!.. Ну, и докажите… посидите со мной!
Он протянул руку и коснулся легкого шарфика на се волосах. И как будто путаясь его прикосновения, уступая только, чтобы держать его дальше, Лиза сама, путаясь, сняла свой шарфик.
— Ну, хорошо… что же мы будем делать теперь? — сказала она, садясь на кушетку.
Сказала машинально, чтобы что-нибудь говорить, и, видимо, не придавая своим словам того темного и бесстыдною значения, которое придал им Михайлов, когда улыбнулся.
Не отвечая, он сел рядом и тихо взял ее за руку. Горячая мягкая рука тихо задрожала в его жадных пальцах. Она хотела высвободить руку, но не посмела, и сама взяла его за руку не то, чтобы приласкать, не то, чтобы удержать ее. И когда Михайлов настойчиво и нежно обнял ее, она вдруг вся забилась, не сумела вырваться и, уклоняясь от его горячих губ, ищущих ее улыбающегося свежего рта, спрятала розовое лицо у нею же на плече. Было в этом движении что-то беспомощное, чистое и трогательное, но Михайлов не тронулся им. Настойчивая мысль, все об одном, владела им, и когда она не могла видеть его лица, Михайлов улыбнулся сам себе циничной торжествующей улыбкой. Он скрыл это жестокое выражение давно привыкшего к женской застенчивости жадного самца, ласково попытался поднять ее голову, но не смог и поцеловал сзади, в открытую крепкую шею под пахнущими завитками светлых волос.
— Ну, не надо! — прошептала она растерянно, глубже пряча лицо на его плече и невольно прижимаясь к нему.
— Почему не надо? — тоже шепотом, сам не замечая этого, спросил Михайлов и грубо, жадно стал целовать эту голую шею, как бы выпивая губами в прикосновении холодноватой свежей кожи ту наготу, которая еще недоступна была для него.
— Так… не надо… — шептала Лиза.
Михайлову стало жарко. Он почувствовал, как напрягается все тело и горит голова от близости и запаха ее. Рука его незаметно, нарочито незаметно, скользнула по ее плечу и, как бы только крепче обнимая, нечаянно коснулась пальцами начала мягкой круглой груди.
Девушка не поняла смысла этого прикосновения и не отстранилась, но когда Михайлов с внезапной смелостью и грубостью бесстыдно сжал пальцами всю ее мягкую подающуюся грудь, вдруг высвободилась и спросила серьезно и печально:
— Зачем это?..
Досада охватила Михайлова за ее упорство. Эта простенькая, наивная девушка сопротивлялась дольше, чем он ожидал. Он знал, что рано или поздно все кончится так же, как и с другими, и ему даже странно было, что она еще тянет и отталкивает его.
— Я вас люблю, — сказал он, придавая голосу всю нежность и силу, на какую был способен, зная, что не в словах дело, а в этой власти, которая была в самых звуках голоса.
— Зачем вы это говорите? — еще печальнее, но с робкой надеждой, быстро взглянув на него, сказала Лиза. — Ведь это неправда!
— Нет, правда! — не обращая внимания на это робкое, трогательное выражение, возразил Михайлов. Охваченный одной мыслью, одним желанием, он почти не замечал, что говорит, и только старался незаметно, под шум слов, опять овладеть се телом. Рука его настойчиво снова коснулась ее груди.
«Какая у нее маленькая грудь!» — сладострастно подумал он.
— Вам просто хочется еще одного лишнего наслаждения… — пряча лицо, проговорила Лиза.
— Почему же только это… — сказал Михайлов, подымая ее голову и ища губ. С тайной жестокой радостью он заметил, что она уже не боится его руки, жадно сжимавшей эту маленькую упругую грудь. Ему удалось приподнять ее лицо, и, прежде чем она успела вырваться, горячие губы прижались к ее свежему влажному рту. Лиза дернулась, но губы с силой прижались к ее губам, сильные руки охватили ее тело, как тисками, сжали и скомкали грудь наглым и бесстыдным движением, и, покоренная этой силой и настойчивостью, девушка перестала сопротивляться и, закрыв глаза, замерла под его долгим жадным поцелуем.
Губами нагибая ее голову все дальше и дальше назад, перегибая все тело, Михайлов незаметно почти повалил ее. И девушка вдруг почувствовала, что его сильное, твердое тело почти лежит на ней, а рука касается платья у ног. Панический ужас охватил ее. Она быстро вырвалась и встала. Михайлов, красный, с прилипшими ко лбу волосами, тоже встал.
У него потемнело в глазах и была ярость, точно у зверя вырвали уже полузадушенную добычу.
— Мне пора… — срываясь, торопливо сказала она, ища свой шарфик.
Михайлов понял, что слишком поторопился, что она испугалась и может уйти совсем.
— Значит, вы меня не любите? — грустно сказал он.
Лиза посмотрела на него, и во взгляде ее наивных серых глаз засветилась такая покорная, нежная и печальная влюбленность, что у Михайлова опять закружилась голова.
— Не любите, конечно, не любите! — нарочно повторил он, хватая ее за руки у круглых обнаженных локтей.
Она тихо вырвала руки и взглянула на него с укором.
Потом медленно стала надевать шарфик.
— Вы как будто обиделись? — сказал он.
— Разве я могла бы целовать человека, которого не люблю! — сказала она гордо и вдруг стала как будто другой: не наивной молоденькой девушкой, а большой и сильной женщиной.
Михайлов не нашелся, что ответить.
— Зачем вы это сказали? — продолжала девушка, как будто не могла успокоиться и забыть обиды. — Ведь вы же знаете, что это неправда!
— А зачем вы меня мучаете? — мстительно ответил Михайлов.
— Чем? — подняла на него наивные глаза Лиза.
— Разве вы не знаете, что если мужчина любит, он хочет обладать всей женщиной… ее телом… всем!.. — стискивая зубы от желания, сказал Михайлов. — Знаете?
— Знаю… — опуская голову, тихо ответила девушка.
— Ну? — выговорил Михайлов с силой. Лиза не ответила сразу. Она смотрела вниз, как бы в жестокой борьбе, стыдясь тех слов, которые дрожали на ее розовых губах.
— Ну? — повторил Михайлов.
— А потом? — еле слышно спросила девушка и закрыла лицо руками.
Михайлов жестоко и жадно смотрел на нее. Что-то насмешливое промелькнуло у него в темных глазах. Сколько раз он слышал этот вопрос.
— Вы боитесь… последствий? — осторожно выговорил он.
Девушка кивнула головой и еще ниже склонилась на руки.
— Если я не захочу, этого не будет, — выразительно и откровенно сказал он, как бы нащупывая слова, которые не могли бы испугать ее своей грубостью и цинизмом.
Девушка вдруг вся задвигалась, заметалась, точно ей стало невыносимо жарко и душно.
— Я пойду… не могу… пустите меня… — растерянно бормотала она, стараясь проскользнуть мимо него к двери.
— Ну, идите… совсем… — жестоко ответил Михайлов, зная, что она уйдет ненадолго.
— До свидания, — сказала Лиза, точно бросаясь куда-то и на все, и вышла в дверь.
Михайлов проводил ее горящим взглядом, потом подумал и пошел за нею.
В саду их охватила свежесть и зеленая тень. Небо заголубело, свободное и прекрасное. Показалось, что они вышли на воздух из какой-то невыносимо душной, жаркой печи. Волнение улеглось. Лиза, улыбаясь, оглянулась на него, взглядом прося прощения за свое упрямство. Михайлов тоже улыбнулся ей.
— Ну, до свиданья, упрямая девочка! нежно сказал он, взял ее руку и поцеловал.
Как бы вознаграждая его за уступку, она не отнимала, как обыкновенно, руки.
— Слышите? — сказала она, подымая голову.
Михайлов прислушался.
— Звонят! — сказал он, расслышав мерный перезвон.
— Но мертвому… кто-то умер!.. — сказала девушка с мгновенно мелькнувшей торжественностью в глазах.
— Ну и пусть!.. А мы будем жить! — беззаботно ответил Михайлов.
Лиза взглянула на него и улыбнулась, влюбленно и нежно.
— До свиданья… — шепнула она и совсем неслышно прибавила: — Милый…
Потом повернулась и, придерживая шарфик на волосах, побежала к калитке сада.
XXV
Умер старый профессор Иван Иванович. Дня за три до смерти он замолчал, и ни приход доктора Арнольди, ни заботы перепуганной Полины Григорьевны не могли заставить его отозваться. Казалось, что между ним и всей жизнью встала какая-то невидимая стена и уже навсегда отделила его от живых людей. Там, за этой стеной, совершалась последняя, никому не понятая борьба жизни и смерти.
Когда его спрашивали о чем-нибудь, старичок отвечал коротко и вполне разумно, почти не путая слов. Можно было подумать, что он опомнился, понял, наконец, что-то и затаил в душе эту страшную тайну, боясь заговорить, чтобы не выдать себя. Целыми часами, никого не беспокоя, он просиживал в кресле, опустив на руки дрожащую облезлую голову, странно окаменевшую, и думал, закрыв глаза.
Полина Григорьевна суетилась вокруг. Как бы в предчувствии близкого конца, она вдруг позабыла все свои мысли, всю усталость и стала кроткой, полной любви и жалости. И когда по ночам Иван Иванович вставал и садился на кровати, маленький, весь белый, она только следила за ним, притворяясь спящей, но ничего не говорила, не укладывала, не приставала к нему.
И молчание жутко и торжественно сгущалось в их домике, точно входили первые волны вечной тишины.
Стоило Полине Григорьевне пошевелиться, чтобы Иван Иванович торопливо, как будто украдкой, спешил лечь. Но стоило ей закрыть глаза и притаиться, он опять подымался, таинственно оглядывался на нее, садился и начинал скоро шевелить провалившимися губами, точно жуя какую-то торопливую бесконечную жвачку.
Только потом Полина Григорьевна догадалась, что он молился.
Это было так неожиданно и страшно, что ей показалось, будто весь мир изменил свое лицо.
Сорок лет прожила она с ним и никогда не видала, чтобы Иван Иванович молился. Никогда он не ходил в церковь, смеялся над религией, издевался над попами, писал о церкви с разъедающим сарказмом. Когда-то она, неумная, религиозная женщина, даже пугалась его выходок против Бога и религии, думала, что Бог накажет, и спорила с ним. Но потом привыкла, сама утратила остроту веры, подчиняясь его влиянию, и религия, с ее попами, церквами, крестами и молениями, отошла от их жизни, как чужая, нелепая забава, до которой им нет никакого дела.
И когда она сама бывала больна, когда умирали близкие люди или знаменитые друзья старого профессора, даже теперь, когда началось это ужасное, медленное умирание, никому и в голову не приходило призывать Ивана Ивановича, с его тонким и трезвым умом, к вопросу о молитве, загробной жизни и Боге.
Но теперь это был другой человек. Какой-то маленький сухонький старичок, в одном белье, сидел на кровати Ивана Ивановича и в тишине ночи, так, чтобы не видела ни одна живая душа, наедине со своими непонятными мыслями, молился Богу.
И Полина Григорьевна видела однажды, как он оглянулся кругом и тайком, торопливо, путаясь в движениях, перекрестился. Перекрестился раз, подумал и перекрестился опять. И как бы уразумев что-то, начал часто креститься, крепко прижимая ко лбу, груди и плечам дрожащие косточки мертвых рук. Губы его шевелились, голова тряслась, и Полина Григорьевна услышала торопливый, тайный шепот:
— Господи, помилуй меня по велицей милости Твоей… Господи, помилуй меня…
Должно быть, он ничего больше не мог вспомнить. Ослабевшая мысль с беспомощными усилиями старалась вызвать из тьмы прошлого утерянные памятью слова наивных горячих молитв детства. Но они забылись и умерли. С тоской, с дряхлыми бессильными слезами Иван Иванович повторял все одни и те же слова: Господи, помилуй меня по велицей милости Твоей!..
На другой день она ничего не сказала ему. Какая-то странная тайна, которой не смела коснуться чужая рука, чувствовалась в этих ночных молитвах. Ужас овладел ею, и она только робко поглядывала на него.
Ночью же, за два дня до смерти, повторилось то же самое, но с силой страшной, непонятной и печальной.
Тускло горела лампа, давно уже не тушившаяся по ночам. Тьма стояла в соседних комнатах и, казалось смотрела оттуда жуткими подстерегающими глазами. Полина Григорьевна тихо притаилась под одеялом.
Часа два Иван Иванович лежал совершенно неподвижно, лицом вверх, глубоко вдавив в подушку свою тяжелую голову и вытянув поверх одеяла кости мертвых рук. Страшно и угловато рисовалось под одеялом его длинное тонкое тело с провалившимся животом и приподнятыми острыми коленами. Спал он или думал, она не могла понять, но чувствовала, как что-то приближается и растет, наполняет комнату и давит грудь. Полина Григорьевна замирала от страха, не смея шевельнуться. Какой-то холодок полз по ее ногам, подходил к сердцу, сжимал его и длинными холодными пальцами касался мозга. Ей хотелось закричать, позвать Ивана Ивановича, но слова гасли в горле и только сердце колотилось с исступленной быстротой.
Вдруг Иван Иванович шевельнулся. Тихо, как из гроба, поднялась дрожащая седая голова и повернулась к Полине Григорьевне тусклыми мертвыми глазами. Повернулась и замерла. Лампа прямо освещала его, и дико было это лицо мертвеца, встающего из могилы, с тусклыми, но живыми, как будто хитрыми и злыми глазами.
Полина Григорьевна не шевелилась, но чувствовала, как волосы тронулись на ее голове и мурашки побежали по телу, вдруг ставшему потным и липким.
Долго и неподвижно смотрел Иван Иванович. Чутко сторожила тишина каждую минуту, и казалось, что им нет конца. Потом он тихо отвернулся. Как голова воскового чучела, медленно повернулась его седая, заросшая седой щетиной голова, и он поднялся на кровати. Поднялся и опять замер, прислушиваясь. Все было тихо, только звенело и пело что-то в ушах.
Полине Григорьевне казалось, что она сойдет с ума, но не было сил пошевельнуться, позвать его, крикнуть.
Тогда Иван Иванович со страшным усилием приподнял и спустил с кровати тонкие костлявые ноги с синими суставами и желтыми, обмершими пальцами. На тоненьком костяке, смешно и страшно облаченном в белое бельецо, с его тесемочками и пуговками, казалась громадной мертвая голова.
Он что-то делал со своими ногами и не мог. Упирался руками в кровать, качал головой, дрожал и падал. Наконец, нашел пол, укрепился и стал подыматься. И тут Полина Григорьевна увидела, куда он смотрит: в углу, давно забытая, но оставленная в память прошлого, висела икона и лампадка перед нею зеленого граненого стекла, никогда не зажигавшаяся. Полина Григорьевна знала, что внутри там пыль и дохлые мухи.
Иван Иванович встал во весь рос г на дрожащих, подгибающихся ногах, еще раз оглянулся на кровать жены, хотел опуститься на колени, но не сдержался и тяжко рухнул вниз, рухнул и замер, ухватившись костлявыми пальцами за стул.
Та же тайная сила удержала крик в горле Полины Григорьевны. И почему-то, точно почувствовав, что никто не должен видеть этого, она крепко закрыла глаза.
Иван Иванович тихо шевелился. Странный костяной стук долетел до ее ушей, но она не поняла его. И вдруг страстный полубезумный шепот раздался в комнате:
Отче наш, иже еси на небеси… да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, яко на небеси и на земли… хлеб наш насущный даждь нам днесь и остави нам долги наши, яко же и мы… оставляем должникам нашим… во имя Отца, и Сына, и Святого Духа… Господи, помилуй меня по велицей милости Твоей… оставь мне долги мои… помилуй, Господи, помилуй… помилуй меня!..
Дико и страшно звучали эти бессмысленные слова, и страшной силой неизбывной муки, непереносимым страданием дребезжал старческий срывающийся шепот.
И опять долетел странный костяной удар. Полина Григорьевна открыла глаза, но за слезами ничего не могла разобрать, кроме расплывчатого белого пятна на полу.
Иван Иванович молчал. Белое пятно шевелилось, странно выгибаясь и как бы стараясь ползти, но ни одного звука не было слышно. Полина Григорьевна сама не замечала, что уже не лежит, а сидит на кровати с широко открытыми глазами, распустившимися седыми волосами и протянутыми руками.
Послышался опять слабый костяной стук, потом он повторился. Казалось, Иван Иванович часто-часто, неровно кладет поклоны и стукается лбом о пол. Немного было тихо, и опять он ударился черепом о пол. Несильно и гулко, и тогда застонал. В одно мгновение с ясностью молнии Полина Григорьевна поняла наконец, что он старается подняться, не может и ерзает по полу, колотясь головой о доски, в тщетных, скользящих усилиях.
С отчаянным криком она бросилась к нему, охватила, подняла и посадила на кровать с неведомой ей силой. Иван Иванович растерянно бормотал что-то, шевелил руками и смотрел на нее жалкими виноватыми глазами.
— А я, видишь… помолиться хотел… Так, шутя… давно не молился… думал попробовать… — бормотал он, и голова его тряслась. Ему было мучительно стыдно, но прежняя гордость ясного и сильного ума уже пала и растаяла в нем. Мал и слаб был его дух. И как маленький ребенок, он плакал, прижавшись к жене, точно ища у нее защиты.
— Страшно мне… страшно, Полечка… умираю я!.. — бормотал он.
Они сидели рядом на кровати, и оба плакали старчески бессильными слезами. Оба маленькие, седые, в белом белье. И вдруг горячая волна надежды радостным светом озарила ее.
— Знаешь… позовем мы завтра чудотворную икону… отслужим молебен… Бог даст, ты поправишься!.. — говорила она и ласкала его по облезлой трясущейся голове нежными, любящими, жалеющими пальцами.
И на другой день с утра их дом наполнился светлым ожиданием. Вымыли и вычистили комнаты, приодели Ивана Ивановича в свежий сюртук и ждали с трепетом и робкой надеждой.
И когда икона, темная, суровая икона древности, водрузилась на белой скатерти, зажгли перед нею трепетные свечи, и рыжий поп, тот самый, которого Арбузов высадил в поле, облаченный в светлую епитрахиль, стал читать и петь, Иван Иванович сполз с кресла на колени и заплакал.
Солнце светило в окно и золотом света, радостным и милым, наполнило все углы комнаты. Гулко звенели голоса попа и дьячка, тихо вился дымок кадильный. И в свете дыма и сиянии чернела икона с суровым безрадостным ликом, почернелым от времени.
Плакала Полина Григорьевна, плакал Иван Иванович, плакала беременная Лида, и была радость и надежда в светлых слезах. Как будто только теперь все поняли, что нет иной надежды, нет иной защиты, кроме той светлой и всемогущей силы, которая откуда-то, из сияния великого солнца, из голубых высот, тихо сходила к лику черной иконы.
Иван Иванович, широко раскрыв слезящиеся глаза, смотрел снизу на темный лик, и слезы ручьями текли но морщинам его страшной мертвой маски. Всю последнюю силу своей догорающей жизни, весь ужас и всю тоску последних темных ночей выливал он в этом безмолвном, молящем взгляде. Никакая сила не оторвала бы его в эту минуту от черного странного пятна на снежно-белой скатерти.
И когда голоса попов, фальшиво переплетаясь и дребезжа в дикой исступленной мелодии, наполняли комнату, слезы быстрее бежали по щекам Ивана Ивановича.
В эту минуту он отказывался от всей жизни своей, от своего гордого ума, от науки, опыта и дерзости разума, обманувших его. И в скорбно-светлом смирении, без слов, одними слезами, он просил эту неведомую силу пощадить его, спасти и помиловать.
Икону увезли. Рыжий отец Николай, крякая и оправляя рукава, поговорил о городских пустяках с Полиной Григорьевной, пожелал больному выздоровления и ушел. Синенький дымок еще вился и тоненькой перекрученной струйкой тянулся в открытую форточку.
Иван Иванович сидел на диване чистенький, беленький. Губы его еще дрожали, но в слезящихся глазках был свет напряженной, детской, чистой веры. И все его старенькое личико светилось внутренним светом. Солнце добралось до головы его и благословляющим светом, грея и лаская, осенило ее. Он, радостно, бессмысленно улыбаясь, смотрел на Полину Григорьевну и дочь Лиду, точно первый раз увидел их.
— Ну, вот и слава Богу… Теперь ты поправишься… — ласково, как ребенку-имениннику, говорила старушка и брала его за худые руки, лаская их, вся светлая от надежды и любви.
Иван Иванович смотрел на нее светлыми глазами и улыбался, а на щеках его еще дрожали прозрачные, чисто детские слезы. Весь он был светлый, точно осветился изнутри.
Пришел доктор Арнольди, тяжелый и громадный, с угрюмым обрюзглым лицом. И ему Иван Иванович сказал:
— А я того… помолился… как это называется… причастился… А, доктор? Хорошо, а?
— Это очень хорошо! — сказал доктор Арнольди, и в его заплывших умных глазках нельзя было прочитать, смеется или верит он.
Так они сидели долго и разговаривали. Говорили, собственно, только доктор, Лида и Полина Григорьевна. Иван Иванович сидел на диванчике, обложенный белыми подушками, и радостно-светло смотрел на них.
Потом он утомился и попросился лечь. Доктор внимательно посмотрел на него и ушел, сказав Лиде:
— Я буду дома до четырех часов, а после у Раздольской… если что понадобится, пошлите за мной туда.
Лида не поняла страшного смысла его предостерегающих слов и весело ответила:
— Хорошо, хорошо, только вряд ли понадобится… папе гораздо лучше.
Иван Иванович заснул. Лида и Полина Григорьевна сидели в соседней комнате и тихо говорили между собой. Спал Иван Иванович долго, часа два. Ровно и тихо лежал он поверх одеяла. Лида обратила внимание, что он спит слишком долго и совсем не слышно дыхания. Смутная боязнь овладела ею.
— Не разбудить ли?.. Не надо… пусть спит… а, по-моему, лучше разбудить…
Две женщины с растерянными лицами стояли над ним и смотрели. Их спокойная тихая радость исчезла, как не бывшая. Но лицо спавшего было спокойно, ровно лежали, недавно причесанные, седые волосики и смешно топорщились на макушке. Сюртук на груди не шевелился.
— Что это… что? — не веря себе, спрашивала Полина Григорьевна.
— Надо разбудить! — тревожно шептала Лида. — Страшно… Надо за доктором.
— Разбуди, разбуди…
— Или не надо?.. Пусть спит?.. Что это такое… Я разбужу!
Странная суета поднялась вокруг неподвижно лежащего тельца в чинном профессорском сюртуке. Ужас, предчувствие чего-то страшного охватили двух женщин. Прислуга побежала за доктором. Лида, наконец, решилась и тронула синюю мертвую руку, чтобы пощупать пульс. Рука была холодная и подалась, как резиновая. Тогда в стихийном ужасе она начала тормошить сухонькое малое тельце.
— Папа, папа… — кричала она. — Проснитесь… папа!
Молчание было ответом.
— Иван Иванович!
И вдруг Иван Иванович открыл глаза. Все тело и лицо его оставались неподвижны, но глаза взглянули широко и странно. Это уже не были глаза живого человека. Они были прозрачны и смотрели внутрь. Как будто он не видел ничего, как будто его вернули силой откуда-то, куда ушла уже его душа. Лида в ужасе отскочила от этого страшного взгляда.
— Ай! — закричала она. — Мама!
— Иван Иванович, что с тобой! — крикнула Полина Григорьевна, кидаясь и охватывая его руками, точно стараясь удержать над бездной.
Мертвые глаза медленно, тихо повернулись в ее сторону и остановились на ее лице, тем же прозрачным, видящим что-то ужасное взглядом.
— Иван Иванович! — завопила старушка, не в силах уже вынести этого ужаса.
Она тормошила его, дергала, обнимала, мочила слезами мертвое лицо.
Вдруг так же неожиданно рот Ивана Ивановича раскрылся черной впадиной. Костенеющий язык дрогнул и высунулся в бесполезном и последнем усилии. Ужасом, имени которому нет у живых, исказилось его лицо, широко выперли из орбит глаза, и он засмеялся…
Этот смех был так дик и ужасен, что обе женщины отскочили в ужасе.
Несколько мгновений Иван Иванович со страшной быстротой водил глазами по комнате, скользя и не задевая взглядом ничего. Потом выпятил грудь, втянул живот, запрокинул голову, захрипел и замолчал.
Мгновенно переменилось его лицо: тупая важность трупа каменно одела губы, закрыла глаза и заострила нос, отвалился подбородок и отверзлась черная страшная дыра рта.
И уже нигде, ни среди зеленых деревьев, ни в лунном свете, ни в ветре, ни в голубых морях, ни в солнечном сиянии, ни среди великих человеческих городов не было того, кого звали Иваном Ивановичем, кто жил, страдал, верил, мыслил и любил себя.
Билось и кричало у трупа маленькое седое существо, суетились люди, торопливо копошился прибежавший доктор Арнольди, но труп лежал торжественно и неподвижно, и голова качалась, как будто упрекая людей в их бессмысленной и смешной суете.
Тяжко и гулко ударил колокол на соборной колокольне. Мрачно, черным гулом покатился удар и замер далеко в степи, за домами и садами, где живые люди на мгновение оставили свои заботы, разговоры, смех и ссоры, подняли головы и сказали:
— Кто-то умер!
Потом мелодично и жалобно зазвонили маленькие колокольчики. Дребезжа, перезвякнули средние колокола, жалуясь серебристыми слезами… И опять ударил тяжелый черный колокол.
XXVI
Длинный корнет Краузе и маленький студент Чиж стояли у дверей мастерской Михайлова, когда в конце садовой дорожки показалась светлая торопливая фигурка Лизы. Чиж первый увидел ее и узнал. Он быстро взглянул на Михайлова, потом отвел глаза и торопливо заговорил:
— Ну, одним словом, до свиданья… А это, что говорит этот сумасшедший, ерунда!.. Черт знает что такое!.. До свиданья!
— Вы говорите так потому, — важно возразил длинный корнет, не заметивший ни Лизы, ни волнения Михайлова, ни странной поспешности Чижа, — потому что не понимаете его идеи… Я нахожу в ней кое-какие нелогичности, но считаю, что это великая и важная идея…
— Ну, ладно, ладно… потом поговорим… Идем!.. — неловко перебил его Чиж, невольно оглядываясь назад.
— Нет, позвольте… это очень интересно, — продолжал Краузе. — Если отбросить то, что он не признает самоубийства, что, по-моему, только малодушие, то мысль его…
— Да ну вас… идемте же! — с досадой вскрикнул Чиж и торопливо попрощался с Михайловым, немного покрасневшим и отводившим глаза.
Краузе, наконец, заметил что-то странное. Он важно перевел глаза со смущенного лица Чижа на бегающие глаза Михайлова, высоко приподнял брови и сказал:
— Ну, пойдемте.
Михайлов преувеличенно ласково прощался с ними, в душе чуть не столкнул их с крыльца и, вернувшись в мастерскую, стал ждать, волнуясь и дрожа. Слышно было, как что-то презрительно и холодно спрашивал Краузе и как тихо, брезгливо отвечал Чиж. Потом стукнула калитка, и все стихло. Лиза, должно быть, спряталась или вернулась, потому что голоса ее не было слышно.
Михайлов посмотрел на часы. Было пять, а в шесть должна была прийти Евгения Самойловна, и при мысли, что две женщины встретятся у него, жестокая сладострастная дрожь охватывала Михайлова. Он нарочно устроил так, чтобы они встретились.
Эти две женщины злили его: одна, молоденькая наивная девушка, не отдавалась, потому что боялась последнего шага, от которого ограждала ее девственная чистота, другая — страстная опытная женщина, мучила и тянула из какого-то упрямства. Бог знает, для чего. Эти вечные «не надо этого» одной и предостерегающе насмешливое «ой-ра» другой отталкивали уже в самые последние минуты, когда женщина казалась уже взятой, и все тело напрягалось в нестерпимом желании. Еще никогда Михайлову не приходилось встречать такого длительного сопротивления, и это раздражало его. Порой ему даже становились противны обе и хотелось просто махнуть на них рукой. Но мужское самолюбие избалованного женщинами тела не позволило бросить начатого, и тогда Михайлову пришла в голову жестокая мысль свести их лицом к лицу. Он сам не знал, что из этого выйдет, но инстинктом чувствовал, что это будет красивая и жестокая сладострастная игра.
Лиза не шла. Михайлов уже хотел выйти в сад, когда на крыльце послышался робкий дробный стук женских каблуков, и в дверь постучались.
— Войдите, — хриплым от волнения голосом крикнул Михайлов.
Вошла Лиза.
Она была бледна и оглядывалась растерянно и жалко. Когда проходили Чиж и Краузе, она спряталась за кустом и отвернулась. Должно быть, они видели ее, потому что девушка ясно расслышала, как корнет сказал цинично и презрительно:
— Новенькая?.. Везет человеку!
А Чиж неловко ответил:
— Да, везет… идем, идем… Их к нему много шляется…
В его голосе слышалось что-то такое, что испугало Лизу, и она не знала теперь, узнал ли он ее. В первую минуту она хотела уйти и никогда не приходить, но не могла и, задыхаясь, бледная и жалкая, побежала к Михайлову.
Она хотела только войти и сказать, что не может перенести такого ужаса и стыда, что никогда больше не придет к нему. Но когда увидела его прекрасные глаза, милый белый лоб и мягкие темные волосы, когда услышала знакомый волнующий голос и руки его сняли с нее шарфик, Лиза вдруг ослабела, заплакала и прильнула к нему всем телом, точно хотела сказать:
«Не могу я больше так!.. Избавь меня от этого стыда, страха и презрения к самой себе!.. Ведь любишь же ты меня хоть немножко?.. Так пожалей, мне больно же!.. Ах, если бы ты любил меня, как я тебя!.. Разве у меня есть хоть минута сомнения, что остаться с тобой навсегда — счастье!»
Но она не смела сказать этого и только застенчиво улыбалась, как бы прося прощения за слабость, когда он целовал ее мокрые заплаканные глаза и розовое от стыда лицо. И все-таки по-прежнему она прятала лицо от его поцелуев, прижимаясь к его же плечу.
Михайлов усадил ее на кушетку, целовал в глаза, губы, подымал прячущееся лицо и уговаривал:
— Ну, полно… ничего тут такого нет… они вас не узнали… Мало ли кто ко мне приходит!
Лиза успокоилась понемногу. Она подняла заплаканное лицо и сказала, виновато улыбаясь:
— Я так испугалась… Что, если б меня узнали!..
От ужаса она опять закрыла лицо руками. Потом вдруг открыла его, страстно и вместе восторженно взглянула на него и сказала, задыхаясь от страдания:
— Боже мой… когда же я буду всегда вместе с вами!..
Неверный блеск мелькнул в глазах Михайлова. Он невольно нагнулся и стал целовать ее руки.
— Это зависит от вас, — сказал он, — я уже говорил вам, что не могу связать своей жизни с женщиной, пока не знаю ее… По-моему, настоящая любовь начинается только при полной половой близости… Оттого так много несчастных браков, что люди сходятся, только издали зная друг друга…
— Вы меня не любите — сказала Лиза, страдальчески сжав пальцы.
— Нет, люблю!.. Но я не признаю половинчатой любви, я слишком опытный человек, я слишком много знал женщин, вы это знаете, чтобы кидаться на все очертя голову…
— А почему же я… — с проснувшейся гордостью, инстинктивно чувствуя, что он обманывает ее, сказала Лиза.
— Вам девятнадцать лет! — ответил Михайлов. Это не было возражением и не убедило ее. В ее первой, чистой и полной любви она не могла допустить, что когда-нибудь она может разлюбить его и что какое бы то ни было сомнение может удержать ее от счастья навсегда соединиться с ним. Но ей было неловко спорить на эту тему. Это было слишком унизительно.
Михайлов продолжал говорить, волнуясь и наслаждаясь этой жестокой игрой, что она упорствует просто потому, что не любит его, что он привык обладать любимой женщиной вполне, и она только отталкивает его своим сопротивлением.
— Вы доведете меня до того, что нарочно, чтобы забыть вас, я брошусь к первой попавшейся женщине!
Лиза подняла голову с затуманенными оскорбленными глазами.
— Значит, вам все равно, я или другая? «Это довольно верно!» — невольно подумал Михайлов, но сказал так:
— Если бы это было все равно, я и не настаивал бы так на своем!
Лиза бессильно опустила голову. Она и верила, и не верила, и ей страстно хотелось поверить.
В это время раздался быстрый уверенный стук в дверь. Лиза хотела вскочить, но Михайлов поспешно крикнул:
— Войдите!
Лиза с ужасом взглянула на него, хотела встать, опять села, чуть не схватила его за руки, но Михайлов, притворяясь, что не замечает ее волнения, повторил:
— Войдите, — и встал.
На пороге показалась высокая стройная женщина в светлой шляпе и длинном красном платье. На мгновение она приостановилась при виде Лизы, но Михайлов быстро пошел ей навстречу.
— Ах, это вы, Евгения Самойловна! — сказал он чересчур удивленным тоном. — Какими судьбами?
И сделал глазами движение, показывающее, что встреча неожиданна для него самого.
Евгения Самойловна чуть-чуть прищурила черные блестящие глаза. Ревнивая искорка скользнула в них, но она сделала презрительно-холодное выражение и решительно вошла в мастерскую.
В эту минуту у нее был вид презрительной королевы, которая входит к осчастливленному рабу и для которой соперницы не существует. Когда Михайлов познакомил молодых женщин, Лиза была смущена и растеряна, Евгения Самойловна спокойна и снисходительно дружелюбна.
Михайлов напряженно следил за их лицами, и особое, сладострастно жестокое волнение охватывало его. Было страшно интересно и казалось, что он их обеих обнажил себе на потеху. Но Евгения Самойловна даже не взглянула на него и ласково, как старшая, обратилась к Лизе:
— Вы, кажется, здесь живете?.. Не скучно вам?.. Тут все такие неинтересные, серые люди…
— Я привыкла, — робко ответила Лиза, не зная, что делать со своими руками.
Евгения Самойловна критически оглядела ее фигуру, платье, руки, волосы, точно оценивая опасность, которую могла представить эта простенькая уездная барышня. Она продолжала говорить на какие-то пустячные темы, но так легко и ласково, точно у себя дома принимала какую-нибудь нуждающуюся в ее помощи и покровительстве провинциалку. Михайлов слушал их разговор и невольно удивлялся, как могут женщины так играть собой. Чувство неудовлетворенности и какого-то неловкого стыда начинало волновать его. Он предложил Евгении Самойловне посмотреть его работы.
— Ах, да… покажите!.. — снисходительно согласилась Женечка.
Как бы заражаясь у нее спокойствием и актерством, Лиза тоже встала и подошла к картинам. Они обе осмотрели этюды, начатую картину и все время спокойно и дружелюбно обменивались замечаниями. Михайлова как будто обе и не замечали. Потом опять сели и минут пять говорили об искусстве. И тут только с торжеством Михайлов заметил то, чего хотел: разговор иссякал, но его тянули, как будто женщины ждали чего-то. Он понял, что они подстерегают одна другую и выжидают, какая уйдет первая.
Очевидно, Лиза чувствовала, что уйти надо, что это становится некрасивым и чересчур понятным. Но какая-то сила удерживала ее Евгения Самойловна иногда быстро взглядывала на нее и продолжала легкий пустой разговор. Лиза чувствовала эти взгляды, но ноги как будто не могли поднять ее.
— Ну, я пойду, сказала, наконец, Евгения Самойловна и встала. — До свиданья, — повернулась она к Лизе с преувеличенной уничтожающей вежливостью.
Лиза тоже встала и протянула руку, растерянно и неловко. Ей было мучительно стыдно, что она останется, хотелось сказать, что она идет тоже, но отчего-то слова не выходили из горла. Михайлов со странной жадностью смотрел со стороны, как пожимали друг другу руки, затянутые в перчатки, эти две красивые женщины, ненавидящие друг друга, притворяющиеся любезными и обе готовые принадлежать ему, хотя бы назло одна другой. В эту минуту их стройные, склоненные в вежливом поклоне тела казались ему уже обнаженными. Это было так красиво и остро.
Одна, в красном узком платье с длинным хвостом, ловкая, сильная, изящная и дерзкая, с черными волосами, черными глазами и узкой рукой, затянутой в черную перчатку. Другая, светловолосая и светлоглазая, с растерянным взглядом, с легкой краской стыда на щеках, слабая и простая, как милая хорошая жена.
На мгновение Евгения Самойловна задержала свои черные глаза на ее покрасневшем лице, и лицо это склонилось. Лиза растерянно стала перебирать пальцами край своего кисейного шарфика. Евгения Самойловна отвернулась и странно равнодушно посмотрела на Михайлова.
— Проводите меня, — небрежно кинула она через плечо и, как бы подчеркивая свою власть, сейчас же пошла к двери.
В прихожей она остановилась и, покачиваясь, насмешливо и холодно спросила:
— Ну-с… Кажется, я уже лишняя?.. Теперь я могу быть спокойна! Она, право, очень мила… Только простовата, как провинциалка. До свиданья.
Никогда она не была так красива, как в эту минуту, Неодолимая потребность овладеть ею закружила голову Михайлову. Он задержал ее руку.
— Вы все меня дразните и мучаете, а…
— А эта нет?.. Но теперь все мучения кончились, — прищурившись, возразила она тоном глубокого сочувствия, — ну, проводите меня.
— Вы больше не придете? — дрожа от желания и тайной боязни, что она в самом деле ускользнет навсегда, спросил Михайлов, не выпуская руки в черной, туго натянутой перчатке.
— Зачем? — насмешливо возразила Евгения Самойловна.
— Как зачем!.. Ведь я люблю вас! — сказал Михайлов, близко надвигаясь к ее лицу и стараясь понять что-то в этих черных блестящих, как будто холодных, глазах.
Она помолчала, чуть заметно покачивая головой.
Михайлову показалось, что она колеблется, что она ждет, что можно. Он тихо и осторожно, как бы спрашивая, приблизил свои губы к ее розовым свежим губам.
— Ой-ра! — предостерегающе сказала она, отодвигая голову. — До свиданья.
И Михайлов почувствовал себя бессильным. Злоба, доходящая до ненависти к ней, охватила его. Растерянно, страдая от желания ударить ее, схватить, смять и швырнуть на траву, он проводил ее до крыльца.
Она шла рядом, подхватив красное платье черной перчаткой, и ему казалось, что теперь она уходит навсегда.
Спустившись на одну ступеньку, Евгения Самойловна вдруг остановилась и повернула к нему улыбающееся насмешливо и лукаво лицо.
— Глупый вы, мой милый! неожиданно сказала она, отвернулась и стала спускаться с крыльца.
Смутная надежда мелькнула в голове Михайлова.
— Что… Почему?.. — быстро спросил он. Но Евгения Самойловна покачала головой.
— Ой-ра! — загадочно сказала она. — Глупый, потому что глупый!
Она звонко и вызывающе засмеялась и быстро пошла по дорожке.
Михайлов смотрел ей вслед, пока она не скрылась за калиткой. Потом вернулся и нечаянно поймал себя на досаде, что там сидит и ждет Лиза. Пресной и неинтересной показалась она ему в эту минуту в сравнении с тонкой, лукавой ушедшей женщиной.
Она стояла у зеркала и надевала шарфик. В зеркало он увидел, что щеки ее горят и глаза красны, точно она сейчас плакала.
— Лизочка! — сказал он с мгновенно пробудившимся желанием и хотел обнять ее.
— Я ухожу… — тихо произнесла Лиза, не отвечая. Но Михайлов взял из ее рук шарфик, и она не сопротивлялась. Он положил шарфик на столик и взял ее за обе руки. Руки дрожали. Она не смотрела на него.
— Ну, что с нами? — таким тоном, точно он говорил с капризным ребенком, спросил Михайлов. — Лизочка!
— Зачем вы столкнули меня с этой женщиной? — с болью произнесла она. — Что это?.. Издевательство?..
— В чем же тут издевательство? — притворяясь удивленным, спросил Михайлов. — Разве нельзя вас знакомить с моими знакомыми?.. И притом я не ожидал, что она придет…
Лиза быстро взглянула на него и отвернулась.
— Зачем вы меня обманываете?.. Это ваша… любовница…
Михайлов засмеялся.
— Чего ради… Я ее всего только с месяц знаю… Вы уж очень ревнивы. Просто знакомая… Я люблю вас!
Он ласково потянул ее за руки, но Лиза сопротивлялась. Ее легкое красивое тело изгибалось со слабым усилием.
— Это неправда! — сказала она, но голос ее дрогнул надеждой.
— Правда!
Она опять быстро взглянула на него.
— Правда?.. Впрочем, мне все равно… Можете идти к ней.
— Вы ревнуете? — с нежной насмешкой спросил Михайлов, заглядывая ей в глаза.
— И не думаю!.. Какое мне дело?.. Я даже не имею никакого права на это.
Быстрая и жестокая мысль мелькнула в голове Михайлова.
— Конечно, не имеете! — жестоко сказал он и выпустил ее руки.
Лиза испуганно взглянула ему в глаза.
— Да, конечно… — повторила она упавшим голосом. — Я пойду… мне пора…
И она опять протянула руку за своим шарфом. Михайлов быстро отодвинул шарф дальше.
— Не имеете! — жестоко повторил он, наслаждаясь своей властью над нею. — Вы не хотите быть моей, а я не могу иначе!.. Я вас люблю, но я мужчина, и мне нужна вся женщина… Меня мучает, что вы так близко, и я не могу… взять вас… Вы не знаете, какое это страдание!
Лиза слушала бледная. Губы ее задрожали.
— Разве нельзя… без этого… любить? — едва выговорила она.
— Я не могу! — с неуклонной силой сказал Михайлов. — Я во сне вас вижу… всю… представляю ваше тело… нагим…
Краска залила все лицо Лизы. Она сделала попытку закрыть лицо руками, но не могла поднять их. Стыд сжал ее сердце до боли. Ей показалось, что она уже стоит перед ним голая. И никогда еще она не любила его так.
— Нам надо кончить! — говорил Михайлов, наклоняясь к ней, и его темные глаза, казалось, смотрели в самую глубину ее души. От него веяло кружащим ей голову жаром, и что-то неодолимое тянулось между ними.
— Я больше не могу так… Или вы сегодня же, сейчас, — изменившимся, срывающимся голосом, почти сквозь зубы, договорил Михайлов, — будете моей или я… она не будет меня так мучить, как вы!..
Последний проблеск гордости на мгновение дал ей силы.
— Как хотите, — гордо сказала Лиза.
Она твердой рукой взяла шарф и стала его распутывать. Она не смотрела на него и, казалось, сейчас наденет шарф и уйдет, чистая и холодная, оскорбленная женщина.
Михайлов сел на стол и смотрел на нее. Жестокое, острое чувство сладострастия вызывала в нем ее склоненная мягкая спина, рука, путавшаяся в шарфике, изогнувшаяся белая шея и ее нерешительность.
Он жадно смотрел, ловя каждую чувственную подробность ее движений и мягкого тела воспалившимися глазами, точно они приобрели способность видеть сквозь платье. Был страх, что она уйдет, что опять зашел чересчур далеко, но какая-то сила удерживала его. Он смотрел и молчал.
Лиза долго, страшно долго надевала шарфик. Движения ее становились все медленнее, точно она искала, нельзя ли еще что-нибудь сделать, каким-нибудь предлогом задержать себя здесь. Но шарфик был надет, перчатки тоже. Лиза, сжав пальцы и прижав их к губам, стояла перед зеркалом и думала. Было так много беспомощности в этой женской фигурке, склоненной в мучительном раздумье, так красив и печален был жест этих скрещенных пальцев, прижатых к губам, что сердце Михайлова сжалось от жалости. Но он все сидел и молчал, не спуская глаз.
Наконец она тихо шевельнулась. Сделала два шага, опять подумала и решительно пошла к двери.
Михайлов молчал. Он сам весь дрожал от страшного напряжения, точно из него исходила какая-то тайная сила.
Лиза остановилась у двери. Потом быстро повернулась и взглянула на него. Михайлов в упор смотрел на нее и молчал. Это была жестокая игра, и ему было и жалко ее, и стыдно, и интересно, как никогда в жизни.
— Прощайте, — тихо произнесла Лиза, не подымая головы.
— До свиданья! — каким-то чужим голосом, жестоким и спокойным, ответил Михайлов.
Она ждала и, видимо, едва стояла на ногах. Но он не сказал ни слова.
— Прощайте! — повторила она с такой болью, что сердце его дрогнуло, и повернулась к двери.
Он все-таки молчал.
Тогда Лиза вдруг опустила руку, которой взялась уже за ручку двери, и согнутые плечи ее задрожали.
Какая-то зверская сила толкнула Михайлова. Он быстро кинулся к ней, сорвал и куда-то бросил шарф, грубо и вместе нежно схватил ее и повел назад в комнату. Лиза вздрогнула, попробовала сопротивляться, но руки ее опустились. Он целовал ее в губы, в глаза, мокрые от слез, в плечи, грудь. Она не боролась и покорно шла. Только увидев кушетку, вдруг забилась, как будто только теперь поняла, что пропала, стала рваться и хватать его за руки.
— Ради Бога… не надо… потом… потом… — шептала она как безумная.
И с ужасом видела свои голые руки, потом грудь, ноги, еще раз рванулась в паническом ужасе и замерла.
Он сжимал ее с бешеной яростью, рвал платье, обнажая все больше и больше сладострастное голое тело. Она только крепко держалась обеими руками за его руки и мешала ему. Он хотел вырвать руку, поскользнулся и упал лицом на голую мягкую грудь, охватившую нежностью горящее лицо, утонувшее в ее теле. Она выпустила руку, хотела схватить ее опять и не успела. Со страшной силой, почти с яростью он завладел ею.
Тогда, точно поняв, что все кончено, она закинула голову так, что волосы упали через валик кушетки, и застонала, судорожно охватив его шею голыми руками.
XXVII
Лиза ушла.
Михайлов остался один, машинально привел в порядок подушки кушетки, поднял валик, упавший на пол, положил его на место и задумчиво оглянул мастерскую.
Он был измучен, счастлив и сыт жизнью. Последняя сцена этого свиданья, такого жданного и все-таки неожиданного, тронула его. Когда Лиза уходила и он провожал ее к двери, Михайлову уже хотелось, чтобы она ушла. Тело устало от страсти, от ласк, до безумия распаленных ее покорностью, девственностью, стыдом. Душа утомилась от сильного напряжения. Не хотелось ничего, кроме покоя, было трудно думать, что она придет опять и снова будут те же ласки, то же голое, покорное тело. Хотелось только побыть одному, покурить, выйти на чистый воздух, в сад, из этой пропитанной духами и запахом женщины мастерской.
Но Лиза не уходила. Остановилась у двери и задумалась, как давеча, прижав к губам скрещенные пальцы. Михайлов стоял сзади и ждал, устало глядя на ее светловолосую, растрепанную, задумчиво склоненную голову. Он даже чувствовал тот страшный хаос мыслей, ужаса и отчаяния, который крутился в этой женской голове, подавленной стыдом и страхом. Должно быть, она даже не могла представить, что будет дальше, и тщетно старалась понять, что все кончено, что в жизни ее произошла громадная непоправимая перемена. Ему и жаль было ее, но усталое тело просило покоя, и Михайлов ждал почти с нетерпением. Притом ему казалось глупым неподвижно стоять за ее спиной и смотреть на ее затылок в немом ожидании.
Он уже хотел заговорить, когда Лиза вдруг оглянулась через плечо, и губы ее дрогнули слабой, молящей улыбкой.
— Что? — не поняв ее выражения, спросил Михайлов.
Но она не ответила. Только глаза ее засветились вдруг такой преданной, покорной нежностью, что все лицо осветилось. Лиза тихо нагнулась, взяла его сильную мужскую руку и поцеловала. Тихо, благодарно и робко, точно прося не сердиться, что она такая слабая, и выражая свою покорность своей судьбе и его воле.
И странно, Михайлов не отнял руки, не удивился, не сказал ничего. Он почувствовал, что так надо ей. Надо, чтобы верила в то, что он сильнее ее и от всего спасет и защитит ее.
Потом Лиза ушла.
Михайлов устало оглянул мастерскую.
Приближался вечер. Огромное окно мастерской было на севере, и хотя дальние деревья на том конце сада еще золотились на солнце, здесь, в тени, зелень была изумрудно бледна и прохладна. В мастерской мягко и глухо сгущались тени. В их синеве померкли яркие краски этюдов, пестрые полосы драпировок, и огромное чучело филина над камином потемнело. Оно даже стало казаться живым, и его желтые искусственные глаза смотрели сверху жутким неподвижным взглядом.
Опять Михайлов вспомнил этот немой покорный поцелуй, и ему стало не по себе.
Первый раз в жизни после упоения ласками, голым телом, покорностью женщины смутное недовольство нашло на него. Вдруг показалось, что мгновенная радость обладания вовсе не стоит тех страданий, которыми кто-нибудь да расплатится за них. Он подумал, что это оттого, что он ведь не любил Лизу, а взял ее только из простого полового влечения. Если бы это было иначе, если бы это было то огромное светлое чувство, которое называют любовью, случившееся казалось бы радостно, светло и прекрасно. Захотелось этой любви, захотелось отдаться одной женщине навсегда, видеть в ней весь мир, успокоиться на ее груди, груди вечно любимой и любящей жены, а не случайной любовницы.
«Глупости, — подумал Михайлов с досадой. — Разве я перестану видеть, как прекрасны и обольстительны другие женщины?»
Он вспомнил Евгению Самойловну, и глаза его загорелись темным огнем. А сколько их, этих Евгений, в мире. Черноволосые, белокурые, тонкие, полные, гибкие, страстные, покорные, своевольные, бойкие, как кошки, и кроткие, как серны. Весь мир наполнен их сладострастными прекрасными телами, вся земля опутана сетью их ласкающих нежных голых рук. Не видеть их, отказаться навсегда, всю жизнь слить с одной, почему-то выбранной из всех, было бы глупо и скучно. А между тем росла и ширилась тоска именно по единой вечной любви. И два непримиримые чувства окружали Михайлова смутным хаосом, из которого не было выхода.
Это странное чувство, в котором было грозное предчувствие какой-то ужасной катастрофы, было так неожиданно и странно, что Михайлов не мог оставаться в большой, окутанной таинственными тенями мастерской, взял шляпу и вышел в сад.
Но, выходя, на минуту приостановился перед своей картиной и пристально вгляделся в темнеющие краски.
Мягкими тонами легли на холст вечерние поля. Легкий туман полосой тянулся над скошенной травой меж высокими, задумчивыми стогами. И на горизонте, красный и таинственный, подымался полный месяц.
Михайлов смотрел, и странное удивление, почти умиление, росло в его душе. Горделивое чувство восторгом подняло сердце.
«А ведь это я сделал! — пронеслось у него в голове. — Как хорошо!.. Вот оно-счастье!.. Везде грязь, тоска и скука, а здесь, в этом огромном и милом искусстве, как хорошо, чисто и прекрасно!»
И почему-то ему опять стало жаль Лизу.
«И зачем она поцеловала мне руку!» — с тоской подумал Михайлов.
Он вышел в сад, снял шляпу и стал ходить под тихими влажными деревьями. Тут было еще совсем светло, но уже пахло вечером и сыростью. Понемногу он стал успокаиваться. Тело отдыхало, голова прояснилась, улетала тихая грусть.
Михайлов сел на скамейку под деревом и запел. Потом замолчал, провел рукой по вьющимся мягким волосам и уже радостно посмотрел кругом прекрасными, еще немного утомленными глазами.
«А все-таки хорошо!» — подумал он.
Точно благодарил кого-то, доброго и светлого, за вечернее небо, за зеленый сад, за молодых женщин, за свою молодость и талант, такой глубокий и красивый.
Какая-то незнакомая девушка в синей юбке и платочке шла к нему по дорожке от дома. Должно быть, заходила в мастерскую и, не найдя его там, пошла искать в саду.
«Это еще что?» — дурашливо сделал сам себе забавную гримасу недоумения Михайлов, и вдруг вспомнил, что это горничная Марии Павловны, у которой жила Евгения Самойловна. Легкая любопытная радость забилась в сердце.
— Что вам? — спросил он, не вставая.
— Барышня приказали вам письмо передать, — свежим простым голоском ответила девушка.
С волнением, любопытством и неясным торжеством Михайлов разорвал маленький твердый пакетик.
«Сергей Николаевич, прогоните, пожалуйста, свою вульгарную провинциалку, если она еще у вас, и приходите к нам. Неужели вы не понимаете, что мое эстетическое чувство страдает, видя вас с этой гусыней. Мне, конечно, все равно, но это не идет к вам, мой глупый друг».
Горничная стояла и ждала, крутя концы платочка.
Михайлов еще раз перечитал письмо Женечки. Маленькая милая женская ревность сквозила в каждом слове. Ее черные блестящие глаза, розовые, насмешливо улыбающиеся губы глядели из-за этих размашистых уверенных строк. Михайлов радостно и торжествующе улыбнулся. Образ Лизы мгновенно потускнел и показался жалким и бледным. Другая, кокетливая, смелая, яркая женщина представилась ему во всей своей дерзкой красоте. Вся усталость куда-то исчезла, и Михайлов почувствовал себя свежим и сильным, точно после холодного весеннего купанья.
— Ответ будет? — спросила горничная и почему-то улыбнулась и застыдилась.
Михайлов взглянул на эту хорошенькую, здоровую и простенькую девушку. Ей очень шел гладкий белый платочек, из-под которого лукаво блестели черные, как вишни, глазки. Он видел ее много раз и совсем не замечал, а теперь вдруг почувствовал, что это женщина. Веселое желание мимолетного обладания, обладания без слов, без дум и всяких ухищрений легко мелькнуло в душе. Ему захотелось обнять ее и крепко поцеловать.
Должно быть, это желание ярко сказалось в его взгляде, потому что девушка вдруг застыдилась и улыбнулась. И почему-то ясно почувствовалось, что она не будет защищаться.
XXVIII
Ночь была темная, и нельзя было, даже отвернувшись от света, рассмотреть, где кончались деревья и начиналось темное, как бездна, небо. Верхушки, казалось, уходили в недосягаемую высоту, и где-то, еще выше, блестели яркие звезды. Лампа ярко горела на столе под деревьями и, как всегда на воздухе ночью, придавала всему необыкновенный праздничный вид. Оттуда, где стояли Евгения Самойловна и Михайлов, видны были черные силуэты тех, которые сидели за столом спиной к ним, и ярко освещенные лица бледного, с косыми бровями, корнета Краузе, апатичного доктора Арнольди и возбужденного, чего-то размахивающего руками Чижа. Долетали голоса, громкие и возбужденные. Они о чем-то спорили.
А здесь, под деревьями, были мрак и тишина. Только ветки в темноте качались расплывчатыми мохнатыми лапами.
— Не верю, не верю! — говорила Евгения Самойловна, покачивая головой и дразня его.
Лицо ее слабо было освещено отблеском лампы и загадочно белело в темноте.
— А не все ли вам равно! — пожимая плечами, возражал Михайлов. — Ведь вы же сами не согласились бы остаться со мной на всю жизнь. Вы слишком смелы и умны, чтобы не понимать этого и чтобы вас надо было обманывать… И как это все женщины, даже самые смелые и оригинальные, любят шаблон!.. Ну, допустим, она моя любовница! По-моему, это только должно придавать остроту ощущению!..
— Я не поклонница сильных ощущений во вкусе мормонов! — насмешливо вставила Евгения Самойловна.
— Вы сами виноваты… будете, если я сойдусь с ней… — обманчивым, дразнящим тоном продолжал Михайлов: — Вы не девочка и знаете, что в наш просвещенный век мужчина не станет без толку вздыхать у ног женщины. Увы, это прошло безвозвратно!.. Не нам воскрешать сладкие пасторали пастушков и пастушек!.. Вы сами, конечно, хотите только наслаждений и сами не остановитесь на одном счастливом обладателе. Не будем же обманывать друг друга и дадим себе то, что нам нужно… Вы смелая женщина!..
Голос его, горячий и возбужденный, ласкал ее, звал, вился вокруг ее тела нескрываемым желанием. Но Евгения Самойловна покачивала головой и смеялась.
— Знаете, вы опытный Дон Жуан, — сказала она гоном явной насмешки, показывая, что прекрасно понимает его.
— Почему? — притворно удивился Михайлов и немного покраснел в темноте.
— Ой-ра, ой-ра! — укоризненно и дразняще пропела Евгения Самойловна. — Вы сами сказали, что я не девочка… Наивно, Сергей Николаевич!
В тоне ее было что-то такое, что Михайлову вдруг пришла невыносимая мысль, не смешон ли он в самом деле, лукавя и стараясь обмануть женщину, которая сама лучше его может рассказать о всяких уловках.
«Сколько раз, быть может, она уже слышала все это…» — мелькнуло у него в голове.
— Что вы хотите этим сказать? — все-таки тем же тоном, чтобы окончательно не стать в глупое положение и переупрямить ее, спросил он.
— Да… — загадочно проговорила Женечка. — Немного раньше этот призыв к свободному наслаждению мог бы подействовать на меня… А теперь поздно, Сергей Николаевич!.. Изберите другой способ, посложнее!
Михайлов сжал зубы. Она казалась ему такой прелестной с ее гибкой выпуклой фигурой, с этим насмешливым «ой-ра», в котором было столько лукавства и недоступности. Он готов был броситься на нее, повалить, смять и уничтожить яростными ласками. В эту минуту весь мир сосредоточивался для него в ее теле, которое было так близко и так далеко.
— А, может быть, попроще? — грубо и двусмысленно, почти оскорбительно, сказал он, теряя голову.
— Может быть! — загадочно ответила Евгения Самойловна.
Ему показалось, что глаза ее блеснули в бесстыдном ожидании, и, стиснув зубы, Михайлов схватил женщину в объятия, грубо, без слов, как звери хватают свою лукавую самку.
Она мгновенно откинулась назад, упираясь ему в грудь руками, но не вырываясь, и смотрела прямо в лицо странным лучистым взглядом черных глаз.
— Так?.. Так? — хрипло, задыхаясь, бормотал Михайлов, сгибая ее талию, гибкую и податливую. Он тянулся к ней воспаленными губами, дыхание его вырывалось почти со стоном. Но когда губы его коснулись ее груди, Женечка вдруг легко, почти без усилия, вырвалась.
— Довольно! — холодно сказала она. Он не понял, почти не слыхал и сделал движение схватить ее опять, но она отскочила шага на два и предостерегающе сказала:
— Ой-ра!
Это сводило его с ума. Земля уплывала из-под ног, бесполезное, обманутое напряжение было болезненно. Он качался и тянулся к ней жадными руками, в которых было еще ощущение теплого гибкого тела, нагота которого ласкала даже сквозь шелк кофточки. На губах было пьяное прикосновение мягкой груди, подавшейся за жесткой холодной материей.
Михайлов застонал, как зверь, у которого вырвали добычу.
Но Евгения Самойловна уже стояла в нескольких шагах и, как будто совершенно спокойно, поправляла растрепавшиеся волосы.
— Однако! — слегка дрожащим голосом сказала она. — Вы становитесь опасным… Хотя мне это нравится!
Она звонко засмеялась, сверкнула ему в лицо блестящими черными глазами и побежала к столу.
Михайлов медленно пошел за нею. Тело его горело и дрожало, темные деревья медленным кругом плыли перед глазами.
«Проклятая…» — подумал он грубым уличным словом.
Еще издали был слышен резкий приподнятый голос Наумова и визгливый раздраженный голос Чижа. Они спорили, как всегда, и Михайлов, успокаиваясь, невольно подумал: «И как им не надоест!..»
И в то же время уже прислушивался к словам Наумова. Этот странный человек имел в себе что-то, что заставляло всех слушать, когда он говорил. Чувствовалось, что в его полубезумных речах нечто большее, чем простое мудрствование умничающего человека. В то время Михайлов еще не отдавал себе отчета, что в этих речах заставляет его душу сжиматься и углубляться в зловещем внимании. Но каждый раз, когда Наумов говорил, он слушал, не спуская глаз с этого дикого, с горящими ненормальными глазами, лица.
— Когда Виктор Гюго, — разобрал, подходя, Михайлов голос Чижа, — был на баррикадах, кто-то протянул ему ружье… у вас нет оружия, гражданин Гюго, — сказал он. На это Гюго ответил: гражданин Гюго умеет умирать за свободу, но не убивать!
— Глупый, непродуманный ответ, — резко, но равнодушно возразил Наумов.
— Может быть, — со злобной иронией ответил Чиж и пронзительно, явно нарочно, рассмеялся.
— Конечно, — продолжал Наумов, — я понимаю, бороться за свободу, хотя бы и до последней капли крови бороться, но умирать за свободу — это глупо.
— Ну, это случайность!
— Да, если случайность!.. Быть убитым за свободу — это не то, что умереть за нее. Масса людей шла на смерть из-за этой хваленой свободы, которая никакого счастья людям дать не могла и не дала еще ни разу с тех пор, как существуют революции и войны. Мне тяжко слышать эти глупости из уст таких больших людей, как Виктор Гюго, — сказал Наумов, — я понимаю это в устах толпы, стада овец, и когда такие слова произносит какой-нибудь студент, они звучат даже красиво… Идти со всеми, это хорошо для стада!.. Если одна овца прыгнет в море, и все стадо прыгнет за ней, это я понимаю; но если стадо прыгнет в воду, и вслед за ним еще и пастух прыгнет, это уже и некрасиво, и неостроумно, а даже просто глупо.
— На этом основании вы на баррикады не полезете? — язвительно заметил Чиж, дрожа от злости.
— Нет, отчего же!.. — равнодушно возразил Наумов. — Можно и на баррикаду взлезть, можно даже и выстрелить, только не надо думать, что этим выстрелом луну с небес собьешь!
— Вы изволите шутить все! — брезгливо заметил Чиж.
Наумов посмотрел на него в упор.
— Я никогда не шучу и не умею шутить. Я говорю то, что думаю, и всегда говорю одно и то же!
— Что? Что все — суета сует?
— Этого повторять не стоит. Это уже сказано, и в глубине души и вы сознаете эту истину, недаром же у вас такое нервное измученное лицо. Я говорю о том, что раз и навсегда надо понять, что ни революция, ни какие бы то ни было формы правления, ни капитализм, ни пролетариат, ничто не даст счастья человечеству, обреченному на вечные страдания. Что нам в вашем социальном строе, если смерть стоит у каждого за плечами, если мы уходим во тьму, если люди, дорогие нам, умирают, если все, что бы ни делали мы, носит в себе вечные задатки страдания и неудовлетворенности? Не будем говорить о смерти, в конце концов, можно смотреть ей прямо в глаза… Возьмем самую жизнь: вы можете свести к одному уровню состояние, вы не сведете на одну линию бесконечное разнообразие стремлений, характеров и случайностей… Эликсир бессмертия уничтожится камнем, размозжившим вам голову, равенство погибнет в муках недостижимых желаний… Если вы уравняете людей в богатстве, правах и удовольствиях, вы не сравните глупцов с мудрецами, красивы» с некрасивыми, больных с сильными… Кто не имеет любви, тот страдает о ней и мечтает, как о величайшем счастье, чтобы его полюбила и приласкала хоть одна женщина, кто имеет одну жену, тот погибнет в однообразии, кто будет иметь сотни женщин, тот начнет тосковать о единой страсти… Так и во всем, человек не удовлетворится ни единым положением, и самое бессмертие представляется ему невыносимо скучным… Сегодня бессмертен, завтра бессмертен… он будет молить о смерти!..
— Так что же делать, наконец? — с бешенством спросил Чиж.
— Лучше всего умереть, конечно… Все равно этим кончится. Так лучше скорее.
— Да вы согласны теперь с этим? — вдруг отозвался длинный Краузе, высоко подымая косые мефистофельские брови.
Наумов посмотрел на него.
— Да… Но это не важно. Надо рассеять в людях суеверие в жизни, надо заставить их понять, что они не имеют права тянуть эту бессмысленную комедию… Когда я вижу беременную женщину, мне хочется ее убить… Если плод ее выживет, и рост ее потомства пойдет естественным порядком, только представьте себе, какая ужасная река страдания вытечет из ее тела. Среди ее потомства будут миллионы калек, миллионы злодеев, убийц, самоубийц, миллионы будут убиты на войне, миллионы раздавлены поездами, миллионы сойдут с ума… Какое ужасное преступление против миллиардов будущих несчастных делает она, рожая… В муках родит она одного крошечного страдающего человека, в муках и сомнениях воспитает его, будет дрожать над каждым его дыханием, умрет сама в мучительной думе о его будущем и, донеся этот слабый огонек до своей могилы, оставит его в мире… для чего?.. Для того, чтобы несметное потомство прокляло бы ее память, вопия в муках нестерпимых: будь проклят день, когда мать моя зачала меня, будь прокляты груди, меня питавшие, и руки, меня носившие… лучше бы мне не родиться!..
— Ну, это уже от писания! — брезгливо заметил Чиж.
— Нет, это не от писания, — крикнул Наумов в величайшем волнении, — это правда жизни, которую вы, сами несчастные, каждый миг мечтающие о какой-то невероятной перемене в жизни, умирающие каждый день, зачем-то скрываете от людей, вдалбливаете в их глупые головы мечты о будущем человечестве… о золотом веке справедливости!.. Ее нет, справедливости!.. Нет и не будет, потому что вселенная выпустила нас не в наших интересах и ей нужны наши страдания!.. Когда-нибудь вы все поймете, что слова мои были истиной и рано или поздно сведете концы своей жизни, корчась в муках!..
Наумов замолчал и долго шевелил худыми пальцами на краю стола. Все молчали и как будто ждали чего-то. Чиж злобно обвел глазами присутствующих и визгливо засмеялся.
— Однако вы напугали всех!.. Черт возьми, точно нас всех завтра вешать собираются!.. Черт знает какое малодушие!.. Вы сами, господин хороший, совершаете ужасное преступление: если вам судьба дала ум и способности действовать словом на людей, вы должны были бы вести их вперед, дать надежду на лучшее будущее, укрепить в борьбе, когда они падут духом… а вы… черт возьми, точно клуб самоубийц собираетесь основать!.. Я не могу этого слышать… Черт знает что такое!
Наступило долгое молчание. Слышно стало, как ветер шумит в саду. Какая-то неясная тревога овладела всеми. Каждый прислушивался к голосам своей души и слышал там тот же мрачный дикий голос. Тускло и темно представлялась жизнь. Угрюмо и тяжко тосковал доктор Арнольди, холодно скучал длинный корнет, без веры в какую-нибудь, хотя сколько-нибудь привязывающую к жизни мечту, раздраженно спрашивал себя о чем-то Чиж и не мог найти ответа, со странным страхом смотрел в ту пустоту, которая мало-помалу разверзлась в душе его, Михайлов. Там, за стеной дома умирала бледная печальная женщина и где-то пряталась раздавленная жизнью Нелли. Только Евгения Самойловна смотрела на Наумова с недоумением, и в ее блестящих черных глазах сверкала недумающая, стихийная, еще не столкнувшаяся со своим ужасом жизнь.
— Клуб самоубийц! — пробормотал Чиж. Евгения Самойловна встряхнулась, как бы очнувшись от тяжелого сна.
— А где же Арбузов? — спросила она.
Доктор Арнольди и корнет Краузе переглянулись.
— Что такое? — заметив их выражение, спросила Евгения Самойловна. — Какая-то тайна?.. Длинный Краузе помолчал.
— Теперь это не тайна, — важно шевельнув бровями, сказал он. — И не может быть тайной, раз суд офицеров разобрал это дело.
— Значит, дуэль состоится? — с жутким любопытством спросила Евгения Самойловна.
— Да, — ответил Краузе и встал, прямой, как палка.
Евгения Самойловна смотрела ему в лицо широко открытыми жадными глазами.
— А ведь это может очень печально кончиться! — заметил Чиж с таким брезгливым негодованием, точно ему была противна и самая дуэль, и дуэлянты.
— О, да! — согласился корнет Краузе важно. — Конечно! Августов — лучший стрелок в полку, Арбузов же вряд ли когда держал пистолет в руках. Он его убьет… Да, он его убьет. Притом, это холодный и жестокий человек.
Корнет Краузе помолчал, словно обдумывая, хватит ли у адъютанта Августова жестокости убить Арбузова. Все смотрели на него с ожиданием, и тихо было так, точно следили за ходом его мысли.
— Да, это несомненно, — опять заговорил корнет Краузе, точно проверив все свои соображения, опять пришел, и на этот раз уже непоколебимо, к тому же выводу. — Он его убьет!
Он произнес эти слова с такой торжественностью и важностью, с такой убежденностью, что все вздрогнули и жутким холодком повеяло кругом. И почему-то при этих словах Евгения Самойловна оглянулась на Михайлова. Это было толчком — все машинально посмотрели в его сторону.
Михайлов один, когда все уже встали, сидел за столом, опустив голову. Он был бледен, и оттого его темные глаза казались почти черными, но он упорно смотрел в скатерть, и нельзя было понять выражения его лица.
В это время кто-то со стороны подошел к столу и облокотился на него. Как ни были легки шаги и легко прикосновение, все почувствовали их и обернулись с испугом.
Нелли стояла, опершись обеими руками на край стола, и лампа ярко освещала ее бледное суровое лицо со сдвинутыми бровями. Она смотрела на Краузе в упор, точно хотела сказать:
«Я слышала все… Это правда?»
Был момент страшною напряжения. Михайлов вскочил почти с ужасом. Он не знал, что Нелли здесь, она никогда не выходила, когда они собирались у Евгении Самойловны. Женечка сделала порывистое движение броситься на Нелли, но та чуть шевельнула в ее сторону тонким изломом бровей, и Евгения Самойловна замерла, изогнувшись в своем стремительном движении.
Тонкие губы Нелли шевельнулись.
— Когда дуэль? — спокойно и напряженно спросила она.
Именно этого Краузе еще не сказал, и всем показалось странным, что забыли спросить. Корнет важно и холодно посмотрел на Нелли с высоты своего длинного роста. Казалось, он взвешивал последствия своего ответа. Нелли ждала, не сводя с его лица воспаленных неподвижных глаз, не то испуганным, не то грозящим взглядом.
— Послезавтра! — вдруг коротко и важно выговорил корнет Краузе, поклонился Нелли и отошел от стола, сразу утонув во тьме.
Нелли осталась стоять в той же позе, опершись пальцами на край стола и глядя в ту сторону, куда исчез корнет.
Михайлов, бледный как смерть, шагнул к ней. Он сам не знал, что хочет сделать и сказать. Но Нелли взглянула на него жестоким ненавидящим взглядом, и он остановился растерянный, уничтоженный.
И сразу все заговорили робкими, тревожными голосами, стараясь не глядеть на Михайлова, нелепо и смешно оставшегося на полдороге.
— Собственно говоря, — сказал Давиденко, — на дуэли не всегда убивает лучший стрелок… Были случаи, что совершенно не умеющие стрелять убивали записных бретеров…
— Конечно! — подхватила Евгения Самойловна и, невольно доканчивая начатое движение, схватила Нелли за руку.
Нелли не тронулась с места, не вырывала руки и продолжала опираться ею на стол.
— О, да!.. — неловко поддержал Тренев, в замешательстве теребя усы. — Одно дело стрелять в цель, а другое — целить, когда в тебя самого направлено дуло пистолета… Это громадная разница!
Поднялась нелепая суета. Все говорили сразу и как будто хотели уверить Нелли в чем-то, во что не верили сами. Вдруг Нелли коротко засмеялась, оттолкнулась от стола и пошла к дому.
Наступило молчание, и все растерянно стали прощаться.
— Сергей Николаевич, — позвала Евгения Самойловна, — мне надо сказать вам два слова…
Михайлов остановился, не подымая головы. Он знал, о чем она будет говорить. Остальные поспешно отошли. Было слишком тяжело и неприятно. Евгения Самойловна стояла перед Михайловым, покачиваясь на носках. Лицо ее было жестоко и насмешливо.
Михайлов молчал. Что-то давило ему горло, и он чувствовал себя таким маленьким и ничтожным, что в эту минуту не мог бы сопротивляться самому грубому оскорблению, самому наглому вторжению в свою душу.
— Скажите, пожалуйста, — дерзко и властно начала Евгения Самойловна, понимая его состояние, чувствуя его беспомощность и мстительно наслаждаясь, — не кажется ли вам, что ваша роль в этой истории не из красивых?
Михайлов дернулся всем телом, точно силы мгновенно вернулись к нему. Кровь залила ему лицо, в глазах потемнело.
— Я никому не даю права… — хрипло выговорил он.
Евгения Самойловна дерзко засмеялась.
— Я и не прошу его у вас!.. Вы можете выпрямляться как угодно, я не испугаюсь!.. Я хотела вам сказать и скажу, что…
Михайлов сделал движение к ней. Он был как безумный, и, может быть, скажи она еще одно слово, он ударил бы ее по красивому дерзкому лицу. Но Евгения Самойловна вдруг откинулась назад, звонко и насмешливо засмеялась ему в лицо и, быстро повернувшись, побежала назад.
Михайлов остался на месте, и ему казалось, что он с головой погружается в какую-то липкую зловонную грязь.
Толстый грузный доктор Арнольди уныло взял его под руку и увел.
XXIX
Тренев и поручик Тоцкий стояли в прихожей и прощались с адъютантом. Тренев был бледен и мрачен, поручик надут и важен. Все было переговорено, и адъютант, покачиваясь с ноги на ногу, очевидно, ждал, когда они уйдут. И Тренев это чувствовал. Как всегда, он ненавидел этого красивого, с холодным и наглым лицом, офицера, ненавидел его высокомерный тон, его металлические глаза, его твердый, крупный подбородок. Но почему-то трудно было уйти.
— Да, так завтра мы заедем к вам ровно в половине шестого… — сказал он, мрачно покручивая усы.
— Главное, не робейте и хорошенько выспитесь, чтобы рука не дрожала, — важно заметил поручик Тоцкий, и толстое красное лицо его надуто задрожало. Он даже оглянулся на Тренева — слышит ли тот, как мужественно и спокойно сказал он эти страшные слова.
— Да, выспаться, это главное… — машинально пробормотал Тренев, злясь на то странное непонятное чувство, которое мешало ему уйти.
Широкоподбородый адъютант молча покачивался с ноги на ногу. Его красивое и наглое лицо смотрело с таким холодным презрением, что все слова застревали в горле.
— До свиданья, — сказал наконец Тренев и протянул руку во второй раз.
— До свиданья, — спокойно ответил адъютант. Тренев и поручик Тоцкий направились к двери. Поручик взялся за ручку. Адъютант остался на месте, и в сумерках его лицо бледно смотрело им вслед. В комнатах было уже темно, он стоял один, и Треневу вдруг резнуло по сердцу. Ему вдруг ясно стало, что этот человек, негодяй и мерзавец, завтра умрет. И вот в последний вечер своей жизни он остается совершенно один, в пустых и темных комнатах. Тренев вспомнил, что во всем городе не было ни одного человека, который любил бы его. У него даже не было приятелей. Одни собутыльники, втайне ненавидящие его.
Какая-то сила удержала Тренева на пороге. Он быстро вернулся, подошел к адъютанту и сказал коротко и взволнованно, задыхаясь:
— До свиданья, голубчик!
Ему захотелось просто обнять и поцеловать его.
— До свиданья, — опять повторил адъютант, не двигаясь с места, и Треневу в сумраке показалось, что он насмешливо улыбнулся.
И мгновенно теплое дрожащее чувство, которое согрело его сердце, потухло. Тонкое острие обиды кольнуло Тренева. Ему вдруг стало понятно, что он просто смешон со своим чувством, глуп и сентиментален.
И, выходя, с нарочитой грубостью он подумал:
«Собаке собачья и смерть!..»
И всю дорогу домой, отделавшись от чванливо, по-петушиному разглагольствовавшего поручика, думал о двух вещах:
«Почему я так уверенно подумал, что будет убит именно он, а не Арбузов, когда Августов, холодный и жестокий человек, лучший стрелок в полку?.. И почему, несмотря на то, что он явно негодяй, так больно и тяжело вспомнить, как он стоял один и смотрел нам вслед, в полутемной пустой комнате?..
Может быть, ему очень хотелось, чтобы я просто, по-товарищески, пожал ему руку, посидел бы с ним, поговорил… Может быть, он только из привычного молодечества старался быть таким холодным и наглым… А может, и вообще его наглость только маска, которой он всю жизнь старается скрыть свое настоящее лицо от людей, оттолкнувших его чем-то ужасным…
Прав Наумов… Несчастные люди!.. Несчастен и он, и Арбузов, и я… Мы все бросаемся друг на друга, как бешеные собаки, от боли!.. Ну, к кому я пойду рассказать о своих страданиях?.. Самый близкий человек, Катя, оскорбится, устроит сцену ревности… другие посмотрят на это, как на похотливость испорченного, боящегося жены мужа… а я… Как тяжело жить!»
Тренев мрачно шел по улице, и ему было тоскливо, скверно и одиноко.
Не заходя домой, от самых ворот, зная, что завтра будет ужасная сцена ревности, он повернул и пошел в клуб. Там он играл до утра, много пил и, не спавши совсем, в пять часов поехал за поручиком Тоцким.
Адъютант, оставшись один, вернулся в кабинет, сел за стол и, положив голову на красивую белую руку, стал смотреть в окно.
Он совершенно не боялся завтрашнего дня. Ясно и просто было для него, что убит он был не может. Сердце его билось ровно и спокойно. Только в самой глубине души лежало что-то тяжелое и раздражало его мстительным жестоким раздражением.
Ему пришла в голову холодная и злая мысль:
«Когда я убью этого дурака, надо будет так или иначе взять эту девку».
Он представил себе тонкую женскую фигуру, ее слабое тело, тонкие брови, темные глаза. Было что-то холодное, жгучее в том, что без возбуждения, без желания он представлял себе эту женщину в унизительной позе, покорную его грубому сладострастию. И ему хотелось, чтобы она отдалась ему в тот же день, завтра после дуэли. Это не была чувственность, это было какое-то странное, совершенно холодное желание издевательства. Но оно было так сильно, что широкий подбородок его почти с яростью сжал твердые крупные зубы. И в этом движении было что-то звериное. Кто-то вошел в комнату.
— Кто там? — спокойно спросил офицер и тут только заметил, что сидит в темной комнате. Черная фигура денщика мялась на пороге.
— Там, ваше высокоблагородие, какая-то барышня пришли… Вас спрашивают.
Из-за его спины выдвинулась другая фигура, тонкая, колеблющаяся в сумраке.
Адъютант с удивлением встал.
— Чем могу служить? — спросил он.
— Мне надо с вами поговорить, — ответил тихий женский голос.
Денщик тихонько затворил дверь.
Адъютант стоял у стола, женщина у двери. Он вглядывался и не мог узнать.
— Что вам угодно? — спросил он еще раз холодно. Тоненькая фигура тихо шевельнулась, но осталась у двери. Тогда адъютант подошел к ней и, нагнувшись, всмотрелся в бледное лицо с сурово сдвинутыми тонкими бровями.
— А! — удивленно вскрикнул он. — Вы!.. Я… — тихо ответила Нелли.
Злорадное выражение мелькнуло на холодном наглом лице с твердым каменным подбородком. С минуту он колебался, потом шагнул и взял ее холодную слабую руку, бессильно повисшую вдоль тела. — Вы… — повторил он и замолчал.
То, что он думал, сидя один у стола, вдруг придвинулось в страшной и неожиданной близости. Ему даже не пришло в голову, зачем и для чего она пришла, только жестокое холодное звериное чувство с ужасающей силой охватило все его сильное крепкое тело. И в эту же минуту Нелли почувствовала, что она не уйдет от него так, как пришла.
Но она не испугалась. Ей было все равно. Одна мысль давила ее мозг, и все остальное казалось ничтожным.
— Я пришла, — проговорила она, — я пришла просить вас…
— О чем? — оскаливая белые, как у волка, широкие зубы, блеснувшие даже в сумерках, спросил адъютант и взял ее за другую руку.
Нелли сделала слабое усилие освободиться.
— Потом… — как во сне, ответила она его движению. — Я хочу говорить.
— Ну, говорите! — не выпуская ее руки и блестя зубами, сказал адъютант.
— Вы завтра… деретесь с Арбузовым?
— Может быть.
— Я знаю… Это из-за меня… — медленно, как сонная, говорила Нелли. — Этого не надо…
Адъютант выпустил ее руки и засмеялся.
— Нельзя ли узнать почему?
— Потому что я причиной…
Адъютант засмеялся.
— Мало ли чего причиной не бывает хорошенькая женщина!
Нелли, сурово сдвинув брови, смотрела на него. Она, кажется, не поняла, да и не слыхала его слов. Напряженная мысль смотрела из ее темных глаз.
— Виновата я, а вы… убьете его… — повторила она.
— Очень возможно, — насмешливо согласился офицер.
Глаза у него были жестокие и холодные, с уверенным наглым выражением.
— Я не хочу этого! — с силой отчаяния крикнула Нелли, и голос ее высоким звуком разлетелся по всей квартире. Она даже топнула ногой.
— Ого! — удивленно и насмешливо протянул адъютант.
Она стояла перед ним, и волосы, развалившись, падали вниз, закрывая ей щеки и придавая грозную красоту бледному тонкому лицу.
Металлические глаза офицера сверкнули серым! серебристыми искрами, но улыбался он так же спокойно и насмешливо.
— Я знаю, — заговорила Нелли с трудом, — вы говорили обо мне гадко и подло… я, может быть, и заслужила это… я… Но его вы не должны… Неужели вы не понимаете, что это будет ужасно?.. Это преступление! Это не должно быть!
Адъютант слушал, покачиваясь с носков на каблуки и обратно. Казалось, все это очень забавляло его.
Нелли с тоской заломила пальцы.
— Слушайте, ведь вы же человек! — устало проговорила она. — Ведь вы же должны понять, что если что-нибудь случится… это будет ужасно!..
Адъютант молчал и качался. Это молчание, холодное и непроницаемое, как каменная стена, давило Нелли. Она путалась в словах и чувствовала, что говорит не то. Когда она бежала сюда, ей казалось, что она скажет только одно слово, и ничего не будет. Она ненавидела этого человека и думала, что она выскажется ему словами, полными ненависти, бьющими в лицо, как раскаленная проволока, и он не посмеет не выслушать, не посмеет возразить ни одним словом. И вдруг все эти слова куда-то исчезли. Она почувствовала, что ей нечего сказать, нечем придавить этого человека, что она может только заплакать и просить его.
— Это вовсе не так ужасно, как вам кажется… — медленно, немного в нос проговорил адъютант.
Холодная насмешка блестела в его серых глазах. Он, видимо, забавлялся ею, и вдруг Нелли почувствовала, что он осматривает ее всю, с головы до ног, скользит по рукам, по груди обнажающим смакующим взглядом.
Ужас овладел ею. Она вдруг поняла, о чем он думает, и поняла, что в опасности. Забытый девичий стыд овладел ею. Нелли едва не бросилась к двери. Но мысль о том, что если она уйдет, то дуэль состоится, удержала ее. Слова корнета Краузе «он лучший стрелок в полку» ярко и отчетливо встали перед нею, точно написанные белыми буквами на черной стене. И, сама не зная, что делает, инстинктивно прибегая к последнему, опустилась перед ним на колени.
— Я вас прошу! — пробормотала она, не понимая, что говорит, и хватая его за руку горячими пальцами.
Странная и страшная улыбка скользнула по тонким губам офицера.
— Вы просите?.. Это другое дело!.. Только ведь за просьбу надо платить, — сказал он с дрожью в голосе.
Нелли как будто не поняла.
— Что?.. Как?..
Адъютант холодно улыбнулся.
— Вы — хорошенькая женщина… — сказал он со страшным выражением.
Нелли медленно встала, глаза ее были грозны и лицо бело, губы дрожали.
— Это подло! — сказала она, задыхаясь и делая руками такое движение, точно хотела найти ручку двери и не могла.
— Может быть.
Нелли минуту молчала, не сводя глаз с его холодного и красивого лица.
Адъютант ждал, уверенно улыбаясь.
— Вы подлец! — хрипло сказала Нелли и шагнула к двери.
Едва заметная судорога скользнула по широкому подбородку, и глаза, серые и твердые, невольно мигнули. Но он не ответил, оперся спиной о стол и заложил руки в карманы рейтуз.
Нелли повернулась и быстро пошла к двери. Адъютант смотрел ей вслед. И под этим взглядом серых глаз Нелли как будто слабела. Движения ее стали неуверенны и слабы, ноги подкашивались. Она взялась за ручку двери и не отворила ее. Ей показалось, что дверь страшно тяжела, что она вся из железа. Она оглянулась с непередаваемым выражением тоски и мольбы.
Твердое, холодное и жестокое лицо смотрело на нее. Офицер постукивал ногой о пол, точно в нетерпении.
Неожиданно Нелли, как в тумане, ничего не помня и не сознавая, сделала к нему несколько колеблющихся шагов, пошатнулась и, как бы падая, опять опустилась на колени.
— Ради Бога! — прошептала она пересохшими губами, протягивая к нему руки.
Адъютант холодно покачал головой.
Нелли медленно встала. Волосы прядями лежали у нее на плечах, плечи дрожали, глаза смотрели мутно, как у безумной.
Она опять пошла к двери.
Адъютант поднял руку и посмотрел на кончики ногтей.
Нелли что-то проговорила хриплым невнятным голосом.
— Что? — спросил он.
Нелли подошла к нему близко и стала, опустив тонкие бледные руки. Все лицо ее было покрыто пятнами, глаза смотрели ему прямо в лицо со страшной, потрясающей ненавистью.
— Хорошо… — как будто ворочая страшную тяжесть, выговорила она.
И вдруг две сильные, железные руки обхватили ее. С последним проблеском жгучего стыда Нелли рванулась прочь, но руки сжали сильнее, и она, точно падая в пропасть, покорилась. Как в бреду, она видела его холодное, но страшно изменившееся лицо, чувствовала, как дрожат его руки, увидела перед собой кровать, еще раз рванулась с безмолвным криком отвращения и ужаса и упала на постель, брошенная с грубой жестокой силой.
— Ложись же! — хрипло, точно в страшной ненависти, крикнул он.
Нелли закрыла глаза и сжала зубы. Она чувствовала, как чьи-то руки перевернули ее на спину, как они скользнули по ее ногам, грубо обнажая тело до пояса.
— Скорее… скорее… только скорее!.. — не то думала, не то бормотала Нелли.
И вдруг почувствовала себя свободной.
Разбитая, оглушенная, ничего не понимая, Нелли открыла глаза, увидела свои голые ноги и живот, вздрогнула, отбросила на колени юбки и села.
Адъютант стоял возле, и лицо его было растерянно и странно.
— Вы… вы беременны?.. — дрогнувшим голосом спросил он.
Страшный стыд охватил Нелли, какой-то другой стыд, горячий, полный жалких слез. Она закрыла лицо обеими руками и наклонилась до самых колен, так что распустившиеся волосы почти закрыли ее.
— Я… я не знал!.. — хрипло проговорил адъютант. Нелли заплакала. Она плакала горячими беспомощными слезами, как обиженный, избитый, несчастный ребенок. Вся горечь пережитого, вся ее заброшенность, одиночество, слабость, неизвестность страшного будущего были в этом неслышном, отчаянном плаче.
Адъютант растерянно стоял перед нею, и широкий подбородок его дрожал. Потом он кинулся к столу, схватил графин, налил воды и поднес Нелли.
— Успокойтесь… выпейте… выпейте… — бормотал он.
И голос его был новый, теплый, полный жалости, страха за нес и стыда за себя.
И вдруг головка Нелли поднялась, доверчиво взглянула она ему в лицо, и личико ее улыбнулось детски беспомощно и стыдливо, как будто она у лучшего друга просила прощения за свою слабость.
Адъютант отвернулся. Горячие пальчики женщины взяли его за руку. Он вырвал руку, отошел два шага и, стоя к ней спиной, проговорил:
— Я вам обещаю… не буду стрелять… Простите, что я…
Нелли слушала, широко раскрыв глаза, боялась верить, и что-то огромное и светлое ширилось и росло в ее измученном сердце.
— Идите! — хрипло повторил офицер. — Я обещаю.
Нелли встала.
— Вы… — начала она радостным просветленным голосом и протянула к нему руки.
— Идите… ради Бога, идите! — страдальчески повторил адъютант, сел у стола и положил голову на руки.
Долго было тихо. Нелли стояла у кровати и смотрела на него. Личико ее, горящее, мокрое от слез, дрожало. Потом она неслышно подошла и кончиками пальцев тронула его за плечо.
Адъютант не обернулся.
Нелли постояла, потом наклонилась и тихо, нежно поцеловала его в голову. Потом подумала, медленно повернулась и пошла. В дверях она еще раз остановилась, потом отворила дверь.
Адъютант слышал, как закрылась дверь, и не шевельнулся.
Денщик вошел в комнату, что-то взял и ушел. Адъютант все сидел, и в душе его, страшно напряженной, затаившейся в каком-то новом громадном чувстве, что-то пело и дрожало.
Ночью, когда все спало, он начал писать письмо сестре в Московскую губернию, не кончил и лег на диван, одетый, лицом вниз.
XXX
Еще не всходило солнце, но уже было светло, и небо за рощей золотилось. Далеко в полях таяли туманы, блестел крест на церкви в городе, и оттуда долетал чистый, точно омытый утренней свежестью, молодой звон. В роще суетливо кричали птицы. Березки стояли тихие и кроткие, как невесты, вышедшие встречать своего светлого жениха. Только черный дуб величаво хранил свое вечное спокойствие, и высоко над всей рощей смотрел громадной зеленой головой.
На ровной зеленой лужайке тревожна и пестра казалась кучка двигавшихся людей.
Арбузов ходил взад и вперед по траве, глубоко вдавливая каблуками лакированных сапог в мягкую землю. Он шагал ровно и широко, только лицо его было более, чем всегда, бледно, а мрачные воспаленные глаза смотрели как у невыспавшегося человека.
Каждый раз, доходя до опушки, откуда сквозь тоненькую решетку березовых стволов широко и вольно разворачивалась ширь дальних полей и высокого неба, Арбузов останавливался и долго мрачно смотрел. Но смотрел он не на поля, уже тронутые розовыми красками утра, не в яркое небо, а вниз, в землю. Казалось, какая-то невыносимая тяжесть давила его большую лобастую голову и не давала ему поднять ее, чтобы увидеть весь этот прекрасный радостный мир.
Длинный корнет Краузе, как журавль, высоко поднимая ноги, тоже ходил, но в другой стороне от Арбузова. Его косые мефистофельские брови были подняты, как бы в мучительном раздумье, но лицо, как всегда, полно достоинства и важности.
Другой секундант, молоденький офицерик, сидел на пеньке и курил. Докуривая папироску, он швырял ее далеко в сторону, стараясь попасть в ствол березы, и сейчас доставал другую из новенького кожаного портсигара. Ему было тяжело и жаль чего-то. Не Арбузова, которого он почти не знал, не адъютанта, которого не любил, а чего-то другого. Может быть, той жизни человеческой, которая хрупка, как хрусталь.
Вначале, когда они ехали из города, молодой офицерик пытался говорить, напуская мужества, что ему казалось необходимым перед дуэлью, но ему почти не отвечали, и слова выходили пустыми, ненужными. Теперь все трое молчали, каждый думал о своем, непонятном другому, и томительно, минута за минутой, тянулось время.
Молоденький офицерик, хотя сердце его дрогнуло, даже обрадовался, когда между деревьями замелькали фигуры подходивших офицеров. Он тотчас же встал и пошел им навстречу с особенным видом, изо всех сил стараясь скрыть дрожь, охватившую колени. Толстый, с белыми усиками на красном надутом лице, поручик Тоцкий поздоровался с видом до крайности важным и сердитым. Ему как будто было неприятно, что не он один участвует в таком важном деле. Он, видимо, захлебывался сознанием своего значения и хотел сделать так, чтобы церемония прошла по всем правилам искусства. Тренев поздоровался мрачно и сейчас же отошел в сторону, покусывая длинные усы, с таким видом, точно хотел сказать:
— А, черт с вами… ну, и делайте, что хотите!..
Молоденький офицерик испуганно посмотрел на адъютанта. Тот был в белом, даже слишком белом кителе и в серой длинной шинели нараспашку. Его холодное наглое лицо было гладко выбрито и свежо, как будто он только что умылся холодной водой. Серые металлические глаза смотрели прозрачно и светло. Молоденького офицерика поразило их выражение. Как все в полку, он не любил и боялся адъютанта. Но эти глаза были глазами другого человека: казалось, какой-то внутренний восторг светился в них.
«Или он будет убит, или… нет, он, должно быть, чувствует, что убьет!» — подумал молоденький офицерик.
Солнце медленно и торжественно поднялось на край земли. Белые стволы березок загорелись розовыми и красными пятнами. Воздух стал еще чище, и от всей рощицы повеяло стыдливой молодой радостью.
Все мялись, не зная, как начать, и каждому было стыдно заговорить первому. И как всегда, самый глупый и пустой человек нашелся скорее всех. Поручик Тоцкий покраснел, надулся от важности и сказал громким торжественным голосом:
— Ну-с… Пора, я думаю!
Длинный Краузе молча выдвинулся вперед, прошел на середину полянки и, повернувшись боком к восходящему солнцу, длинными журавлиными ногами начал мерять землю. Все смотрели на него внимательно. На том месте, откуда он начал, слегка качаясь в траве, точно поднявшая голову змея, торчала его упругая тонкая сабля. И было почему-то странно видеть, как остро и жадно впилась она в зеленую сырую землю. Дойдя до конца, Краузе оглянулся. Никто не понял его, тогда он с недоумением поднял косые брови и сказал:
— Дайте кто-нибудь…
Раньше чем он договорил, поручик Тоцкий быстро выхватил взвизгнувшую саблю и подал ему. Корнет Краузе почему-то осмотрел ее, внимательно раздвинул сапогом траву и воткнул острие в землю. Другая сабля зашаталась в двадцати шагах от первой. Теперь казалось, что две змеи поднялись на хвостах высоко над травой и хитро и зло смотрят друг на друга. И всем стало страшно, что пятнадцать шагов так малы.
— Глупо, глупо, глупо… — пробормотал про себя Тренев и отвернулся.
Поручик Тоцкий суетился. На его белом от козырька фуражки лбу появились капельки пота.
— Прошу стать на места! — крикнул он повелительно, как будто со злостью, что они сами не догадываются, и он обо всем должен позаботиться.
Арбузов резко повернулся и пошел. Но адъютант первый взял свой пистолет и встал на место. Арбузов косо и мрачно посмотрел в ту сторону, увидел светлые, как будто что-то говорящие глаза, рывком выхватил из рук молоденького офицера пистолет и тяжелыми шагами, не подымая головы, пошел к своему месту.
Никто не поручал руководящей роли поручику Тоцкому, но он так добросовестно суетился, столько прилагал стараний к тому, чтобы все было по правилам, что никто ему и не мешал. Поставив противников, он встал посредине, как бы загораживая одного от другого, и важно, торжественно сказал:
— Мне кажется, что мы, секунданты, должны приложить все усилия…
Адъютант светло глядел на него и улыбался одними глазами. Арбузов мрачно дернул головой. В этом движении было столько решительности и выразительности, что поручику прямо показалось, будто он сказал:
— Да ну тебя к черту… знаем… не тяни! Не забыв все-таки вздохнуть и беспомощно, чуть-чуть развести руками, как полагается в таких случаях, поручик задом отскочил на несколько шагов, как раз от середины расстояния между двумя противниками, и поднял ладоши.
С того места, где взволнованной кучкой столпились другие секунданты и военный доктор, видно было его красное вздутое лицо и две неподвижные фигуры с нелепо длинными пистолетами в руках. Должно быть, солнце вышло из утреннего тумана, потому что усилился птичий гомон вокруг, и стало вдруг страшно светло, так что видно было даже непонятно светлое выражение глаз адъютанта и мрачно сжатые брови склоненной головы Арбузова.
— Раз… — отрывисто крикнул поручик. Арбузов быстро поднял голову и взглянул вперед. Прямо перед ним, как-то чересчур близко, в упор, смотрели светлые немигающие глаза и, как ему показалось в это короткое мгновение между криками раз, два и три, смотрели ласково и даже любовно. Они что-то говорили, тянулись к нему двумя светлыми лучами, но Арбузов не понял их. Он насупился еще больше и вдруг побледнел как смерть.
— Три! — отчаянно крикнул поручик и невольно отодвинулся на шаг.
Адъютант выстрелил.
Резким треском, дробясь между стволами березок, разлетелся выстрел. Качнулись и замерли тоненькие веточки, тревожно загалдели грачи и взвились над зеленой верхушкой дуба.
В одну секунду, почти не задержав выстрела, тысячи мыслей пронеслись в голове Арбузова:
«Мимо… Он нарочно выстрелил… Издевательство, что ли?.. В таком случае, и мне надо выстрелить в сторону?..»
Вся страшная ненависть, которую столько дней и вовсе не к этому офицеру питал он, вся тяжесть его муки, ревности и злобы мгновенно вылились в порыве зверского, безумного бешенства.
Адъютант уже медленно опускал пистолет, не спуская с него светлых немигающих глаз.
«А… — еще успел подумать Арбузов, — издеваться?.. Ты… лучший стрелок… На же!..»
И, целясь прямо в грудь белого кителя, он выстрелил.
За громом выстрела он не слыхал испуганного крика в стороне, под деревьями, где стояли секунданты, и не видел, что сделалось с противником. Он только увидел, что все бегут к тому месту, и у всех округленные испуганные глаза на белых лицах.
«А, попало!» — мгновенно пронеслось в его мозгу холодом ужаса и злобной радости.
Адъютант с белым лицом, странно улыбаясь, сделал несколько шагов к нему, потом согнулся, точно раскис, и, оседая всем телом, сел на зеленую сочную траву. Его окружили спины секундантов, и Арбузов ничего не видел дальше. Он сунул длинный пистолет в карман, потом вытащил его, бросил в сторону и пошел назад, к лошадям, как ему казалось, а на самом деле совсем в другую сторону.
Кто-то догнал его и тронул за плечо.
Арбузов обернулся.
— Идите… зовет вас!.. — как-то торжественно и странно проговорил Тренев. Его лицо было бледно и дрожало, как от холода.
— Идите… вы его убили.
— Собаке собачья смерть! — жестоко и мрачно ответил Арбузов.
Тренев вспомнил свои собственные слова и потупился.
— Да, теперь уж что… пойдите, ну!.. — проговорил он.
Арбузов с недоумением посмотрел в его просящие растерянные глаза, пожал плечами и, круто повернувшись, быстро пошел назад.
Адъютант сидел на земле, вытянув обе ноги. Худой доктор в мешковатом военном кителе и фуражке на затылке, сидя на корточках, что-то делал с его животом, и Арбузов из-за его рук прежде всего увидел красно-грязную мокрую рубашку.
«В живот», — машинально подумал он, и дрожь прошла у него по спине, а колени вдруг сладко, мучительно заныли.
Потом он увидел лицо.
Оно было бледно, даже с синеватым отливом, и странно болезненно блестели широкие зубы из-под светлых усов. Глаза, прозрачные и как будто веселые, смотрели в упор на подходившего Арбузова. Поручик Тоцкий и корнет Краузе держали его под руки, и оттого они были протянуты вверх и в стороны, как у распятого.
Увидев Арбузова, адъютант улыбнулся, и еще больше, еще болезненнее блеснули его белые зубы. Но широкий подбородок прыгал и дергался.
— Умираю!.. — хрипло проговорил он навстречу Арбузову. — Руку… теперь все равно!..
Арбузов стоял как вкопанный.
— Руку просит… руку пожать… — шепнул ему кто-то сбоку.
Он с удивлением оглянулся и увидел молоденькое, почти безусое лицо незнакомого офицера с полными слез, совсем жалкими глазами.
Адъютант тянулся к нему, и светлые глаза его становились все светлее, точно в них уже проступала глубина смерти.
— А знаете, эта… ваша Нелли… — проговорил он странным, непонятным тоном, все улыбаясь и блестя зубами, — вчера была у меня… вечером…
Вся кровь прихлынула к голове Арбузова. Бешеное движение броситься и, как собаку, доконать его, ряд страшных, кошмарно омерзительных образов пронеслись у него в мозгу.
— Я ей обещал не стрелять в вас!.. — проговорил еще тише адъютант, и лицо его озарилось таким восторгом, таким не понятным уже никому выражением, что оно все светилось изнутри.
— Мне жаль стало… она несчастная!.. — докончил адъютант, посинел, забился и завизжал, вырываясь, как заяц.
В непроницаемом красном тумане Арбузов чувствовал, что его куда-то повели. Холодный голос корнета Краузе что-то говорил ему, но что, нельзя было понять, и сквозь его слова только слышался дикий страшный крик:
— Больно… больно… ай!
На опушке солнце больно ударило в глаза и ослепило ярким могучим светом. Как бесконечно широк мир, и как прекрасны его голубое небо, белые облака, залитые светом зеленые поля!
XXXI
Близко стала к земле бледная полоса зари, а в черных силуэтах домов, среди слившихся в одну черную массу деревьев тревожными звездами засветились огни. Дул ветер, вечерний взволнованный ветер, как перед грозой, и глухо шумели деревья в саду.
Лето близилось к концу, и в шуме сада уже не слышалось прежних мягких спокойных звуков. Листья шелестели жестко и жутко, холодом и пустотой веяло оттуда.
На балкон вышла Нелли с лампой, поставила ее на стол и села, подперев руками голову. Книга лежала перед нею, но строгие глаза смотрели поверх книги во тьму сада, точно видели там что-то, что надо внимательно обдумать и обсудить.
От яркого света лампы вокруг казалось совершенно темно и черно. Только отклонившись от света, можно было видеть, что небо светлее земли, как вверху быстро и дымно идут тучи, гонимые ветром, и как мечутся в испуге вершины деревьев.
По временам ветер налетал на лампу, и она вспыхивала, точно в ужасе, обдавая Нелли копотью и погружая во мрак. Потом опять горела ярко и светло.
Нелли серьезно и строго, сдвинув тонкие брови и сжав руками виски, смотрела в темноту. Такие же быстрые, дымные и разорванные, как тучи в небе, неслись мысли в ее неподвижной голове с бледным, каменно-напряженным лицом.
Евгении Самойловны не было дома. Нелли знала, где она, подозревала больше, чем было на самом деле, но это уже не возбуждало в ней прежних мучительных, ревнивых представлений. Ей было все равно. Когда после дуэли и смерти адъютанта, этого странного человека с холодным и наглым лицом, о котором у нее осталось светлое святое воспоминание, куда-то исчез Арбузов и пошли слухи, что он пьянствует без просыпу, буйствует, зверствует с проститутками и явно гибнет, в душе Нелли произошел какой-то перелом. Она ушла в себя, затаилась, точно омертвела, и уже не было в ней острых страданий, дум о будущем, а только мрак и пустота. Она как будто ждала какого-то конца, в полном равнодушии и отупении, предоставляя жизни делать с ней все, что угодно, хотя бы самое позорное, самое ужасное, самое грязное.
Кто-то, грустно ступая на ступеньки, поднялся на крыльцо. Нелли подняла голову, но за светом лампы не увидела ничего.
— Это я, — сказал во мраке доктор Арнольди и поднялся на балкон.
Нелли молча протянула ему тонкую бледную руку. Доктор Арнольди, большой и грузный, внимательно посмотрел на ее напряженное лицо, на сдвинутые изломы бровей, на строгие неподвижные глаза и ничего не сказал.
Нелли тоже молчала, и слышно было только, как ветер гудел, и, казалось, что это с шумом бегут тучи в вышине. Доктор Арнольди сел у стола, поставил палку перед собой и скрестил на ней толстые руки.
— Доктор, — вдруг позвала Нелли. Доктор Арнольди поднял голову.
— Что?
— Скажите… если жизнь запутается так, что нельзя распутать ее и жить нельзя, что делать? — странным мертвым голосом спросила Нелли, так машинально, точно это был не вопрос, а часть ее мыслей, которую она выговорила вслух, не ожидая ответа.
— Не знаю… — ответил доктор Арнольди и опустил голову.
Нелли крепче сжала руками виски и опять уставилась в темноту. Доктор молчал. Шумел ветер, и все беспокойнее становилось вокруг, в полном движения и смятения мраке. Точно земля готовилась к чему-то страшному, и оттого в паническом ужасе бежали дымные тучи, метались и жаловались деревья, торопливо носился ветер, не находя себе места.
Какой-то слабый звук раздался из комнаты, и за шумом нельзя было разобрать, что это такое.
Доктор и Нелли подняли головы, прислушиваясь.
Звук повторился.
— Нелли! — разобрали они.
— Мария Павловна вас зовет! — сказал доктор Арнольди, и почему-то голос его дрогнул.
Нелли быстро встала и двинулась к двери, но вдруг остановилась, близко нагнулась к доктору Арнольди и спросила стремительно и жестоко:
— Она умирает?
Судорога прошла по толстому лицу доктора. С минуту он не отвечал ничего, потом шевельнул губами, не мог произнести какого-то односложного слова и только кивнул головой.
Нелли долго молча смотрела ему в лицо, потом неожиданно вскрикнула:
— О, проклятая жизнь! — и стремительно пошла на зов, оставив в ушах доктора это проклятие, полное такой злобы и отчаяния, что он содрогнулся.
Больная лежала на кровати и протянула навстречу Нелли слабые руки.
— Неллечка, мне страшно чего-то… ветер шумит!.. Посидите со мной?.. С кем это вы там говорили?
— Там доктор, — ответила Нелли серьезно и просто, как будто это и не она сейчас прокляла жизнь таким отчаянным криком.
Глаза больной раскрылись. Слабая, умирающая радость осветила ее лицо, и оно вдруг стало таким хорошеньким и милым, что Нелли тоскливо отвернулась.
— Хотите, я позову его сюда? спросила она глухо.
— Зовите, конечно!.. Доктор! — сама позвала больная.
Послышались грузные шаги. Нелли стояла посреди комнаты и смотрела то на дверь, то на больную. Мария Павловна, не спуская глаз со входа, тихо и радостно улыбалась, и вдруг, когда шаги доктора Арнольди послышались у самой двери, подняла руки и тонкими слабыми пальцами поправила волосы.
Нелли видела это.
Доктор Арнольди вошел.
— Здравствуйте, милый! Я так за вами соскучилась! — сказала больная и засмеялась. — Люди, даже когда жить осталось три дня, ухитряются скучать!.. Сядьте, посидите со мной.
Доктор Арнольди положил шляпу и палку, приставил стул к кровати и сел.
Больная светлыми счастливыми глазами следила за ним, и когда доктор Арнольди отвернулся, кладя шляпу, она опять приподняла руки и поправила волосы. Нелли тихо вышла на балкон.
Там, опять сжав руками виски и неподвижно глядя в шумную тьму сада, она задумалась.
Думала она о том, что Мария Павловна любит доктора Арнольди и скоро умрет. С каким отчаянием должна она умереть, как должна бороться за жизнь, цепляться за нее в бесполезных бессильных усилиях! Никто никогда не узнает и не поймет этой муки. Она уйдет в могилу, как не бывшая, а на земле останется старый унылый доктор с разбитым сердцем и опустошенной душой. Каким сказочно прекрасным и светлым будет представляться ему то счастье, которое прошло так близко и исчезло навсегда, точно кто-то с безумной жестокостью подшутил над его унылой жалкой жизнью. А если бы она не умерла, прошли бы дни скучной обыкновенной человеческой жизни: через полгода они стали бы ссориться, понемногу погасла бы страсть, может быть, они стали бы тяготиться друг другом… может быть, она бросила бы его… Счастья нет, есть только призрак счастья!.. Как та морская царевна, которая пела на волнах, протягивая прекрасные руки, манила сладострастной грудью и таинственными чарующими глазами, а на берегу превратилась в отвратительное чудище с рыбьим хвостом и лягушачьим брюхом…
В комнате Марии Павловны горела лампа под густым абажуром. На кровать, на снежные простыни, под которыми мягко рисовалось ее худенькое слабое тело, на бледные руки падал яркий свет, а ее белое личико, светлые мягкие волосы и большие глаза были в тени. В этом прозрачном зеленоватом сумраке не видно было ни ее исхудалых щек, ни синих кругов под глазами, и больная казалась молоденькой и хорошенькой, как влюбленная девочка. Она смотрела на доктора светлыми сияющими глазами и говорила:
— Мне теперь гораздо лучше, доктор! Знаете, мне иногда кажется, что я могу поправиться!.. Странно, прежде мне бывало и лучше, но я была уверена, что скоро умру… А теперь, хотя я и слаба, как ребенок, без Нелли и Женечки не могу даже с кровати встать, а мне все кажется, что я выздоровлю. Стыдно признаться, доктор, — застенчиво улыбаясь, сказала она, и слезинки блеснули у нее на глазах, — но я видела один сон и с тех пор начала надеяться…
Доктор широко открыл свои умные маленькие глазки и в упор смотрел на нее. Он давно знал, что она умрет и никакой надежды нет. Он даже свыкся с этой мыслью, но теперь сердце его сжалось с такой силой, что он едва не вскрикнул. Он смотрел на нее, чистенькую, светлую на белой кровати, на ее счастливые глаза, слушал ее стыдливый и радостный шепот поверившего в чудо человека и с ужасом понимал, что в этом сияющем лучистом блеске глаз, в счастливой улыбке приходит смерть.
«Кончено!» — подумал он.
И старое сердце его томительно забилось в новом, почти невыносимом чувстве отчаяния. Только в эту минуту он понял, как она близка к смерти, как скоро ее не будет и как он любит ее.
Зеленая тень абажура ложилась на его обрюзглое, побледневшее лицо, и в нем не было видно страшных судорог скорби и любви, исказивших человеческое лицо в ужасную маску.
Доктор Арнольди с невероятной силой воли сдавил свое сердце, удержал крик и спокойно спросил:
— Какой сон?
Больная опять улыбнулась тихой, бледной и стыдливой улыбкой.
— А мне снилось, что я ночью, чтобы не видали Женечка и вы… почему вы? — засмеялась она со слезами, — тайком убежала из дому. Было страшно темно, одиноко и пусто, и жутко… И страшно, чтобы кто-нибудь не узнал… А потом, ну, вы знаете, как это бывает во сне, сразу стало легко и все засветилось кругом, и это уже не ночь, а легкое радостное утро… Небо все в свете, кругом поле и цветы! Красненькие, желтые, голубенькие… Вы знаете, такие простые, милые цветы полевые… Я иду и думаю… Впрочем, не знаю… — смутилась и покраснела больная, торопливо взглянув на доктора и опустив глаза, — о чем-то хорошем, хорошем я думала!.. Думала еще: Боже мой, да ведь я совсем не больна… мне еще никогда не было так хорошо и легко!.. И действительно, стала такой легкой, как туман… Посмотрела себе на платье и вижу, что я совсем прозрачная и сквозь меня видны цветы… Потом стало как-то странно… такой восторг охватил меня, что, казалось, сердце не выдержит! Я заплакала от радости, схватила целый букет цветов, прижала его к груди и совсем исчезла… То же поле, те же цветы, утренний свет, солнце всходит, а меня нет совсем… Я тут, я все вижу, все чувствую, но меня нет…
— Как? — дрогнувшим голосом переспросил доктор Арнольди.
— Ну, как!.. Не знаю… Ну, просто нет… И такое счастье, такое!.. И тут; кто-то сказал мне: ну вот ты и выздоровела… смотри, как это хорошо и просто!.. Тут я проснулась, и мне было так хорошо, что я стала плакать от радости… Женьку разбудила, перепугала… И с этого дня я стала надеяться… Это не смешно, доктор?
— Что ж тут смешного? — стискивая зубы от страшной боли, сказал доктор Арнольди и положил подбородок на скрещенные на спинке стула руки. — Дело возможное… Вам и в самом деле стало лучше… Лето прекрасное, сухое, воздух тут отличный… Покойная жизнь…
Больная следила за ним восторженными глазами, и ей казалось, что он говорит какие-то необыкновенные мудрые слова.
— А как будет хорошо, доктор, если я выздоровлю! — со светлой тоской сказала она, всплеснув прозрачными руками. — Я так много пережила за это время… Теперь во мне ничего не осталось из прежнего… Я уже не та глупая, испорченная женщина, которая кидалась во все стороны и портила жизнь и себе, и другим… Я все знаю теперь, доктор… Я, я стала умная-умная!
Она засмеялась.
Доктор Арнольди слушал с тоской. Прозрачные, наивно радостные, почти детские нотки в ее слабом голосе резали ему душу.
— И на сцену не вернетесь? — спросил он, и голос его тоже изменился: не угрюмый, как всегда, он звучал наивно, точно говорил не доктор Арнольди, старый унылый человек, а притворяющийся веселым легкомысленный ребенок.
Больная в радостном ужасе замахала руками.
— Ни за что! — вскрикнула она с детской радостью. — Я теперь знаю, что мне делать!.. Милый доктор!.. Вы такой хороший, милый… Вы знаете? Вы знаете это? Знаете?
Она обеими руками схватила его толстую большую руку и вдруг притянула и прижала к своей груди. Маленькой, худенькой, как у подростка, груди, скрывающейся под тонкой белой кофточкой. Доктор вздрогнул от этого прикосновения. Он в первый раз почувствовал, что это молодая, все-таки прекрасная женщина. Это чувство было так неожиданно, так сильно и так не вязалось с твердой и определенной мыслью о ее смерти, что доктор едва не вырвал руки. Стыд, радость, какие-то неизведанные или давно забытые чувства охватили его.
Она смотрела близко, близко, прямо ему в глаза открытыми светлыми глазами, в которых не было ни лукавства, ни смущения, ни страха, ни стыда: она прямо и чисто говорила ему о своей любви.
И это было так прекрасно и так ужасно, что доктор Арнольди наклонился к ее тонким слабым рукам.
— Доктор! — тихо, счастливо и с недоумением вскрикнула она. — Что с вами?.. Я огорчила вас?.. Разве… Вы меня не…
Ужас охватил доктора Арнольди. Он почувствовал что она произнесет и это последнее слово, прямо назовет то счастье, которого никогда не было в его жизни, которое так близко и которого все-таки не будет никогда. И тогда он не вынесет.
— Я так… постойте… — торопливо и глухо перебил он. — Я устал сегодня… изнервничался… серьезная операция… И я так рад, что вам лучше… Стар стал, слаб стал! — шутливо и криво выговорил он и встал.
Она продолжала держать доктора за руку и чуть-чуть тянула к себе. Глаза ее смотрели на него снизу, на щеках горел огонек, губы раскрылись, как для поцелуя, и под тонкой простыней обрисовалось ее гибкое, даже и теперь стройное, женское тело, изогнувшееся в невозможном желании ласки.
— Ну, до свиданья… поправляйтесь! — торопливо сказал доктор Арнольди, поцеловал ее руку и быстро пошел прочь, чувствуя на себе ее счастливый, полный любви и ласки взгляд.
На крыльце он столкнулся с Евгенией Самойловной. Она была в шляпе и широком красном манто, высокая, стройная и яркая. Свежесть ветра и ночи пахнула от нее на доктора, выскочившего из душной комнаты, и она улыбнулась ему своей смелой яркой улыбкой.
— А, это вы, доктор?.. Куда же вы уходите?.. Как моя Маша? — звонко и весело спросила она, вся под каким-то острым и сильным впечатлением, от которого сверкали ее черные глаза.
Доктор остановился, с силой схватил ее за обе руки, прижал к стене, точно удерживая ее шумную, живую радость, и сказал, почти крикнул:
— Умирает!
Евгения Самойловна дико отшатнулась от него, открыла рот и ничего не могла сказать. Лицо ее, яркое, красивое, с черными глазами и бровями, побледнело, как стена.
— Что вы, доктор?
— Умирает… конец! — дико повторил доктор. — А…
Он не кончил, отбросил ее руки, грузно стукнулся о перила и исчез в темноте, среди порывов ветра.
Евгения Самойловна дико смотрела ему вслед. Потом вдруг подхватила платье и кинулась к больной. Ей представилось, что она уже умерла, и там, в комнате, только труп.
Мария Павловна встретила ее радостным криком.
XXXII
Наступили последние летние лунные ночи, в ярком свете которых уже стыл холод близкой осени.
Луна, большая и белая, стояла за черными деревьями и блестела между ветвей, протягивая во тьме длинные полосы таинственного холодного света. Мрак и свет мешались в волшебной игре, и когда Михайлов шел с Евгенией Самойловной по широкой ровной аллее, лицо молодой женщины то скрывалось во мраке, когда только по звукам се лукавого голоса можно было догадаться, что она смеется, то вдруг все обливалось холодным голубым светом, и тогда загадочно блестели ее черные глаза и резко чернели брови на белом лице. Что-то дикое и русалочье было в этом лице. Оно манило и дразнило, и Михайлов чувствовал, что почти ненавидит ее.
Он шел рядом и нервно колотил хлыстом по ноге.
Первый раз в жизни он чувствовал себя бессильным. Эта смелая до дерзости, яркая лукавая женщина мучила его, как мальчика, то смеясь, то почти отдаваясь, то отталкивая, то прикасаясь всем своим гибким и стройным телом. Были моменты, когда ему казалось, что он достиг цели, но в самую последнюю минуту ловко и легко она ускользала из жадных рук с дразнящим смехом и своим вечным предостерегающим:
— Ой-ра!
Временами Михайлова охватывала такая злоба, что он готов был грубо оскорбить ее и уйти.
— Может быть, вам и доставляет удовольствие эта игра, — говорил он неровным, неестественным, насмешливым голосом, в котором дрожали злоба и желание, — но я не охотник до таких игр… Это мне уже и не к лицу и не по летам!.. Я не привык…
— Надо ко всему привыкать, Сергей Николаевич, — ласково отвечала Евгения Самойловна из мрака.
Михайлов быстро взглянул на нее, но густая черная тень скрыла ее лицо, и он только догадался, что она улыбается.
— Не вижу в этом никакой надобности! — возразил он сквозь зубы, бледнея и чувствуя себя смешным.
— Это сделает вас не таким самонадеянным!
Мне это не нравится! — через силу, стараясь попасть в тот же тон легкой игры и насмешки, сказал он.
Почему? — наивно-удивленным тоном вскрикнула Женечка и вдруг появилась в лунном свете, вся, с головы до ног, высокая, стройная, с выпуклой грудью и тонким станом. Луна отчетливо обрисовала ее до носков ботинок, легко ступавших по гладкому песку дорожки, на которой серебряными искорками блестели песчинки. — А мне очень нравится!.. Что ж делать!.. Вы привыкли, чтобы все делалось по-вашему, попробуйте делать так, как нравится мне!.. В этом есть свое удовольствие!.. А очень не нравится?.. Бедненький, мне вас жаль.
Михайлов быстро взглянул в ее белое яркое лицо и увидел, что розовые губы дрожат от смеха.
— А знаете, — вдруг торжественно и серьезно, как бы переставая шутить, заговорила она, — ведь вы становитесь иногда ужасно смешным… Вы не замечаете?
Михайлова обдало холодом, зубы его заскрипели от гнева. Это было уже открытое издевательство.
— Вы, кажется, думаете, что смеетесь надо мной? — зловещим голосом, но сдержанно заметил он.
— Я? — удивленно вскрикнула Евгения Самойловна и скрылась в темноте, как русалка. — Разве я смею смеяться над Дон Жуаном, над покорителем сердец… я, слабая, готовая пасть в его объятия женщина!.. Неужели вы так скромны?.. Я думала о вас лучше, Сергей Николаевич!
В ее лукавом голосе неуловимо сплетались насмешка и что-то еще, чего не выговаривали слова. Она и сама не знала, что с ней такое. Временами, когда Михайлов становился дерзким, голова Женечки начинала кружиться и гореть. Земля плыла под ее ногами, и все тело охватывали жгучая истома и слабость. Но голос против воли звучал так же звонко и лукаво, выговаривая дразнящие, оскорбительные слова. Иногда любопытство и желание охватывали ее с такой силой, что она слабела и страстно хотела, чтобы он воспользовался этой слабостью. Она чувствовала, что уже не может сопротивляться. Но стоило Михайлову коснуться ее тела, какое-то странное, холодное и гордое чувство, похожее прямо на ненависть, отталкивало ее.
Белая луна холодно смотрела в темный сад. Где-то далеко был город, люди и вся остальная жизнь. Здесь было только их двое, молодых, желающих друг друга, мучающих, ускользающих в веселой, опасной игре. И он, сдерживая желание схватить ее, повалить и овладеть насильно, чувствуя в двух шагах от себя такое близкое и такое недоступное женское тело, старался скрыть это и говорил злым, дрожащим, сухим голосом, точно у него пересохло во рту. А она, с растрепавшимися черными волосами, с глазами, затуманенными желанием, вся напряженная, как струна, упрямо боролась и с ним, и с собой, защищала свое прекрасное тело и хотела, и не хотела, и смеялась над ним высоким зовущим смехом.
Они дошли до конца сада и остановились. Здесь деревья были реже и меньше. Белые от луны, недвижно стояли кусты, и лежали черные тени. Широкое небо открылось над ними, и белое лицо луны ярко и властно залило все: далекий купол колокольни с мерцающим крестом, побелевшую траву, темные деревья, звездное небо, их две темные фигуры, черневшие на лужайке.
— Ну, пора и домой, Маша ждет! — говорила Евгения Самойловна и не уходила.
Михайлов стоял перед нею и смотрел прямо в белое, яркое от луны лицо с черными глазами и резко вычерченными бровями. Опять она вся, от светлой легкой шляпы до кончиков ботинок, рядом стоявших на низкой траве, была видна ему. Ее гибкая талия колыхалась, точно прося объятий, грудь изгибалась, маня, смеялись яркие свежие губы.
Михайлову казалось, что он нестерпимо смешон и жалок в своем неразделяемом желании, которое только забавляет ее. В эту минуту обычное сознание своей власти над женщиной оставило его. Он не чувствовал, как прежде, своего сильного стройного тела, своего бледного, с горящими глазами лица.
— Ну, что ж… До свиданья, хрипло проговорил он, может быть, я и очень забавляю вас, но это мне не по силам!.. Довольно. Вам надо поискать кого-нибудь другого. Я не из тех, которые служат развлечением для скучающих актрис.
Евгения Самойловна загадочно смотрела на него, как будто ей доставляло огромное удовольствие, что он сердится. Что-то странное, напряженное было в ее тонкой, облитой лунным светом фигуре.
— Прощайте! повторил Михайлов и повернулся.
— Куда же вы?.. Проводите меня домой! Вот это мило! — сказала она тихо, как бы с удивлением.
— Вы в своем саду, — грубо и дерзко ответил Михайлов, — найдете дорогу и сами…
Ему хотелось оскорбить ее, обидеть, сорвать ту жгучую физическую злобу, от которой дрожало все тело и судорожно стискивались зубы. Он был бледен и как будто спокоен.
Евгения Самойловна молчала.
Михайлов приподнял шляпу и пошел назад.
Она стояла на траве, вся облитая холодным лунным светом, точно скованная им, и молчала. Она не сделала ни одного движения, чтобы удержать его. Михайлов уже вошел в тень дерев.
— Постойте! — вдруг странно, почти строго, крикнула молодая женщина. Михайлов остановился.
Отсюда уже не было видно выражения ее глаз, и вся она от лунного света казалась воздушной и легкой, как лесная фея, вышедшая колдовать при свете полной луны на лесную поляну.
— Идите сюда! — позвала она.
Михайлов не повиновался.
— Вы слышите? Идите сюда… Ну?.. Я хочу! Слышите?
Страстные, зовущие ноты звучали в ее негромком, властном призыве. Она сама не знала еще, зачем зовет его, но все плыло перед нею, было душно, и казалось, что луна близко-близко подошла к полянке и жжет ее своим белым колдовским светом.
Она не слышала, как Михайлов очутился возле нее. Его руки охватили ее талию, перегнули назад все тело и прижали к сильной твердой груди. Близко-близко они видели глаза друг друга, и эти глаза смотрели, подстерегая каждое движение, как будто они были враги, схватившиеся в смертельной схватке. Но она не давалась. Перегнувшись назад, бледная, с затуманенным взглядом, она упиралась руками ему в грудь и молчала. Михайлову показалось, что выражение ее лица грозно, почти злобно.
— Ну? — хрипло выговорил Михайлов, почти бросая ее на землю. Но она извернулась, как кошка, и устояла на ногах, продолжая упираться руками, не допуская его с упорством, почти с ненавистью.
— Я хочу тебя… хочу! — сдавленно проговорил Михайлов, не слыша своих слов. — Ну?..
— А я не хочу! — вдруг выговорила она злобно и жестоко. — Оставьте меня! Как вы смеете!
Он почти не слышал ее слов, он уже не сознавал ничего, только чувствовал в своих руках ее тело, сгибал его и грубо тащил на траву. Какой-то стон вырывался из его сцепленных губ.
Она вывернулась.
— Ой-ра! — раздался торжествующий, предостерегающий голос, и женщина уже стояла в двух шагах от него, опять свободная и насмешливая, а его руки остались в воздухе, а губы, вытянутые для поцелуя, который должен был сжечь, поцеловали пустое место.
Все потемнело в глазах Михайлова. Бешенство охватило его. Невольно он, не помня себя, поднял хлыст и взглянул на ее круглые стройные плечи. Женщина перехватила этот взгляд и приподняла руку для защиты с жалобным испуганным вскриком. Подхваченный какой-то силой, остро чувствуя, что она ждет удара и что ударить надо, Михайлов взмахнул хлыстом и жгучей болью опоясал ее нежные круглые плечи. Какие-то огни вспыхнули у него перед глазами.
— Ай! — болезненно и жалко вскрикнула женщина, пошатнулась и схватилась за хлыст. — Больно! Не надо!
В ту же секунду, швырнув куда-то хлыст, он схватил ее ослабевшее, падавшее тело, смял, бросил на траву и овладел ею, покорной и слабой, как раба, властно и грубо раздвинув коленом прекрасные, не сопротивлявшиеся голые ноги.
Она вскрикнула еще, почувствовав огненное прикосновение, боль и жгучее, все закружившее кругом наслаждение. Охватила его руками и ногами, прижала, почти обвилась вокруг него, полуголая, бесстыдная, жадная.
— Хочу… хочу… — сквозь зубы проговорила она, закрыв глаза, и замерла под его могучими, раздавившими ее, мявшими и толкавшими движениями. Луна бело и кругло смотрела на полянку, освещая голые прекрасные ноги женщины и ее бледное, с закрытыми глазами и стиснутыми зубами лицо.
ХХХIII
В этот день Евгения Самойловна проснулась поздно, и долго лежала на кровати, широко и лениво раскинув свое пышное тело. Черные волосы распустились и залили всю подушку и голые круглые плечи. Скомканная простыня сползла на пол, и на белой кровати смугло розовели стройные маленькие ноги. Женечка закинула руки и запутала их в волосах. Странная нега томила ее тело. В руках и ногах ныло чувство сладкой усталости, хотелось потянуться, раскинуть ноги, сбросить простыню совсем и лежать неподвижно, голой и бесстыдной, закрыв глаза.
Она не думала о том, что случилось вчера, не боялась, не грустила, как будто взяла что-то свое, и никто на свете не мог отнять это что-то, не мог помешать наслаждаться отзвуками пережитого ощущения.
Странно то, что Михайлов даже не представлялся ей. Точно не в нем было дело, точно наслаждение было только ее, и даже этот удар хлыстом, который покорил ее, был ее. Евгении Самойловне не хотелось, чтобы любовник пришел опять, не хотелось думать, что это может повториться и что со вчерашнего дня она — любовница, на которую он имеет какие-то права. Хотелось только лежать, нежиться, как можно шире и свободнее раскинуть свое пышное молодое тело на мягкой чистой постели.
«Ах, как хорошо!» — без слов, в каком-то забытье думала она, но мысль эта была беспредметна и вся была в ее собственном богатом теле.
Она чувствовала свою красоту и в ощущении этих круглых смуглых рук и ног, упругой напряженности груди, гибкости мягкого стана, бесстыдстве обнаженного розового живота, оттененного черными волосами у разрыва ног, всей своей прекрасной, бесстыдной и грешной наготе, жила полной, захватывающей жизнью.
Но когда наконец она встала, умылась холодной водой, от которой окрепло и напряглось все тело от розовых пальцев ног до блестящих круглых плеч, плотно охватила себя любимым ловким красным платьем и вышла из комнаты, Евгения Самойловна была так же весела, легка и беззаботна, как будто ничего не случилось.
Солнце светило ярко. Все было залито светом, и в открытые окна смотрел радостный нежаркий день.
Озабоченная, суровая Нелли встретила ее в столовой.
— Пойдите к Марии Павловне. Ей плохо, — сказала она, пристально, что-то знающими глазами окинув ее розовое улыбающееся лицо.
— Разве? — испуганно спросила Евгения Самойловна, и ей чего-то стало стыдно. Не то пытливого взгляда Нелли, не то, что она совсем забыла больную.
Мария Павловна сидела на кровати и темными блестящими глазами смотрела ей навстречу. Казалось, она была такой же, как всегда, но что-то страшное почудилось Евгении Самойловне в ее темном странном взгляде.
— Что с тобой? — с испугом спросила она. Мария Павловна криво улыбнулась, и бледная улыбка мгновенно стаяла и растопилась в страдальческом ужасе глаз.
— Тебе хуже? Болит что-нибудь? — растерянно спрашивала Женечка.
Мария Павловна беззвучно пошевелила губами.
— Что? — не расслышав, переспросила Евгения Самойловна.
— Посмотри… что это? — сказала больная. Евгения Самойловна опустила глаза за ее взглядом и увидела обнаженные бледные ноги больной. Они были белы странной изжелта-восковой бледностью. Кожа лоснилась болезненно и неприятно, и все черты этих ног расплылись в круглых налитых формах, точно обтянутые каким-то зловещим пузырем.
— Что это? — не поняла Евгения Самойловна, с испугом глядя на страшные ноги.
— Я не знаю… — чуть слышно, точно прося о пощаде, пробормотала больная, судорожно и бессмысленно водя тонкими пальцами по гладкой, натянутой, как на пузыре, коже. — Это!.. Кажется, водянка… конец!..
— Глупости, — вскрикнула Женечка, и холод прошел у нее по спине. Почему-то ей в эту минуту стало ясно не разумом, а как-то всем существом, что это действительно конец.
— Нет… все кончено… умираю… — тихо сказала Мария Павловна, вдруг легла навзничь и заплакала.
— Может, доктора позвать? — растерянно спрашивала Женечка, чувствуя ужас беспомощности. — Позвать?.. Я сейчас!
— Я послала за доктором… — спокойно отозвалась Нелли, вошедшая в комнату. — Доктора Арнольди нет в городе, он приедет только к вечеру… я послала за другим.
Она подошла к кровати, сурово посмотрела на Марию Павловну и стала тихо гладить ее по голове. Больная вздрогнула, взглянула на нее и, судорожно уцепившись обеими руками за ее руку, зарыдала.
Неллечка… Неллечка! шептала она сквозь горькие бессильные слезы. Не давайте мне умирать… я жить хочу… Боюсь, боюсь!.. Неллечка!..
— Ну, что ты… — растерянно говорила Женечка, — можно ли так… милая Маша… не плачь!..
— Женечка! протягивая к ней руки, плакала больная. — Что же это!.. Я не хочу умирать!.. Да спасите же меня!.. Помогите!.. Ведь я еще молодая, мне жить хочется… за что?..
Она плакала все сильнее, вес громче, хватала Нелли и Женечку за руки, обнимала их, целовала им руки. Казалось, если бы она могла, она сползла бы на пол, билась бы головой, хватала бы их за ноги, целовала. Невероятный ужас, страшная предсмертная тоска били ее. Она уже не понимала, что все бесполезно, хваталась за все, звала всех, ждала спасения от людей и опять падала лицом в подушку, мокрую от слез, как будто прячась от смерти, неуклонно и быстро приближавшейся к ней.
— Если она будет так плакать, она умрет сейчас! — тихо шепнула Нелли Евгении Самойловне. — Хоть бы доктор скорее!.. Я уже давно послала!..
Час прошел в этом страшном кошмаре. Нелли и Женечка бестолково метались возле умирающей. Ее плач перешел в страшный душераздирающий смех. Она блестящими открытыми глазами смотрела в лица то Женечке, то Нелли, точно хотела что-то увидеть на их перепуганных жалких лицах. Она хохотала все громче и громче, точно смеялась над тем, что смерть так ужасна, так невообразимо нелепа. Женечка не могла слышать этого хохота, зажала уши руками и выбежала в соседнюю комнату. Там она прижалась к стене, закрыла глаза и замерла.
«Это ужасно… это ужасно… это ужасно…» — бессмысленно крутилось в ее обезумевшей от жалости и страха голове.
Хохот вдруг превратился в сплошной визг, вырос в дикую пронзительную ноту и смолк.
Женечка остолбенела, опустила руки, прислушалась и опрометью бросилась туда.
Больная лежала тихо-тихо, положив ладони обеих рук под щеку, и смотрела перед собой невидящим взглядом. Казалось, она поняла, что все напрасно, что ей никто не поможет, когда жизнь кончится.
— Маша! — позвала Женечка. — Маша! Больная не отвечала и продолжала смотреть на нее страшным непонятным взглядом.
Женечка почувствовала, что она сходит с ума. В это время послышался ровный спокойный шаг, и толстенькая круглая фигурка в черном сюртуке показалась в дверях.
— Доктор! — с восторгом отчаяния крикнула Женечка. — Маша, доктор пришел.
Больная вздрогнула, приподнялась и устремила на доктора взгляд, полный напряженной безумной надежды.
— Ну, что случилось? — сухо и деловито, как человек, дорожащий каждой минутой, спросил доктор, подходя к кровати и пожимая слабую, сейчас же упавшую руку больной. Слегка раздвинув фалды своего черного сюртука, он сел на стул, торопливо подставленный Женечкой, и оглянул комнату неторопливым взглядом серых холодных глаз, блестящих из-под очков.
Женечка со страхом и надеждой смотрела на него и больную, стоя в ногах кровати. Нелли отошла к окну.
— Нельзя ли вымыть руки? — повелительно обратился доктор к Женечке.
Он долго мыл короткопалые твердые руки, медленно вытер их полотенцем, аккуратно повесил его у умывальника и все время смотрел не то себе под ноги, не то на стену комнаты. Это было так долго и странно равнодушно, что Женечка начала возмущаться.
— У нее, доктор, с ногами что-то… — сказала она, чтобы поторопить его.
— Кто лечит? вместо ответа спросил доктор, не глядя на нее.
— Доктор Арнольди.
— А… — сказал доктор и посмотрел на стену. Лицо его ничего не выражало, и Женечке наконец стало казаться, что это не живой доктор, а какая-то страшная мертвая кукла, в которой есть что-то зловещее.
Вымыв руки, он подошел к кровати и сказал:
— Подымитесь… Так. Снимите рубашку… Женечка помогла больной, и упавшая рубашка обнажила бледные костлявые плечи и маленькие вялые груди с синеватыми сморщенными сосками. Больной было холодно и стыдно. Она горбилась, вздрагивала от прикосновений его холодных твердых пальцев и инстинктивно закрывала руками свои бедные маленькие груди, в которых уже не было ничего стыдного.
— Так… дышите… еще… еще… — отрывисто и холодно выговаривал доктор. — Можете лечь… Оденьтесь…
Потом поднял простыню, обнажил страшные распухшие ноги, долго, равнодушно, как будто и не видя, смотрел на них. Потом опустил простыню. Больная лихорадочно следила за ним огромными блестящими глазами. На щеках ее горел зловещий румянец, и руки дрожали.
Доктор спрятал трубку в карман, молча пожал ее руку и повернулся.
Больная побледнела.
— Что же… доктор? — тихо, чуть слышно и со страшным усилием выговорила она.
Доктор медленно повернул к ней свое холодное лицо и блеснул очками.
— Здесь надо не доктора звать, а священника! — равнодушно выговорил он.
Женечка и Нелли, думая, что ослышались, кинулись к нему. Но больная не вскрикнула, не вздрогнула, даже не пошевелилась. Несколько секунд она молча напряженно смотрела в его холодное равнодушное лицо. Потом криво усмехнулась.
— Ну, знаете, доктор… это уж слишком жестоко! — сказала она с непонятным выражением. Доктор чуть заметно пожал плечами.
— Как хотите… я говорю правду, — сумрачно ответил он и, кивнув головой, пошел в комнату.
Долго было молчание. Больная лежала с закрытыми глазами. Нелли и Женечка, разбитые, оглушенные, не понимая, что случилось, не в состоянии обнять его во всем ужасе и нелепости, бледные, сидели у кровати. Им показалось, что прошло несколько часов в этом ужасном молчании. Женечка хотела плакать и не могла, хотела возмущаться поступком доктора и тоже не могла: это было выше ее сил. Нелли сурово смотрела на распустившиеся волосы больной, на ее закрытые глаза с чуть вздрагивающими по временам веками, и мучительно силилась следить за мыслями, которые должны были со страшной, непонятной живому человеку силой крутиться в этой умирающей бледной голове.
«Что она думает теперь?..» — вертелось у нее в мозгу и бессильно замирало.
Вдруг больная зашевелилась.
— Что тебе, Маша? — кинулась Женечка. Больная посмотрела на нее прозрачными немигающими глазами.
— Дай зеркало… — сказала она тихо и спокойно.
Женечка не поняла. Нелли быстро встала и подала зеркало.
Больная приподнялась и села. Движения ее были свободны и странно легки. Только по напряженному нечеловеческому взгляду ее огромных глаз Нелли поняла, что это была сила уже не жизни, а смерти.
Больная взяла зеркало и долго, молча, смотрела на страшное, бескровное, полумертвое лицо. Казалось, она хотела что-то понять, что-то рассмотреть и унести с собой воспоминание об этом своем лице, которое должно исчезнуть.
Нелли сурово следила за ней. Женечка ждала, замирая от ужаса и жалости и чувствуя, что сейчас заплачет.
Наконец, больная вздохнула, опустила руки и тихо отдала зеркало. Потом попросила умыться, сама умылась, причесала в последний раз свои спутанные слабые волосы и легла лицом к стене.
Так пролежала она несколько часов, и нельзя было понять, заснула она или притаилась, чтобы никто уже не мешал ей обдумать что-то последнее, уже никому не доступное и не понятное.
Страшное молчание стояло во всем доме. Женечка и Нелли неподвижно сидели у кровати, прислуга затихла на кухне. Долетали только звуки улицы, тихие, чужие, как из другого мира, не имеющего ничего общего с тем последним ужасом жизни и смерти, который совершался здесь.
В сумерки больная пошевелилась, попросила пить, напилась и, ложась, опять спросила, беззвучно и как будто безучастно:
— Доктор Арнольди не пришел?..
— Он скоро придет… ему уже послали сказать на квартиру… — поспешно ответила Женечка, пугаясь своего громкого голоса, странно гулко раздавшегося в молчаливых сумерках, сгущавшихся в квартире.
— Хорошо, — тихо ответила умирающая и опять отвернулась к стене.
Когда совсем свечерело, она стала метаться, поворачиваться, смотреть страшными блестящими глазами на дверь.
— Он сейчас придет… сейчас… — торопливо говорила Женечка.
Ужас конца приближался. Он навис в воздухе, неслышно входил с тенями вечера, становилось трудно дышать, хотелось закричать и бежать куда глаза глядят.
Наконец, когда уже совсем свечерело, где-то далеко на дворе послышались тяжелые поспешные шаги.
Умирающая мгновенно поднялась и села. Глаза ее расширились так, что как будто залили все лицо. Вся жизнь, то немногое, что оставалось в ней, напряглось в этом последнем взгляде. Шаги быстро приближались. Голос доктора Арнольди послышался на крыльце. Слышно было, как он бегом подымался по ступенькам, потом бежал через комнаты…
Вдруг больная подняла руки с жестом непонятного отчаяния. Тонкие губы ее страшно открылись, глаза расширились, страшная дрожь прошла по телу.
— Прощайте, доктор! — дико, на весь дом, со страшной тоской, любовью и безнадежной печалью закричала она.
XXXIV
Свечи горели высоко и ярко. Тихо оплывал их желтый воск, и тени ходили по углам. Высоко и неподвижно, мерещась сквозь белую кисею, воздымались на столе сложенные мертвые руки, казалось, судорожно сжимавшие, как последнее, крест. Там, где пышной грудой были навалены красные, синие и белые цветы, почти скрытое ими, виднелось заострившееся, синее мертвое лицо и закрытыми навеки глазами молча и непонятно смотрело вверх.
Доктор Арнольди сидел в углу и неподвижно смотрел перед собой. Его толстые руки, как всегда, были сложены на палке, и шляпа лежала на коленях, точно он присел на минуту отдохнуть. Но проходили часы, наступила глубокая ночь, а старый доктор один сидел в своем углу, и только голова его опускалась все ниже.
В соседней комнате сидела Нелли. Евгения Самойловна, устав от слез, спала у себя, и во всем доме было тихо и глухо. Иногда Нелли тихо входила в комнату с серьезным и суровым лицом, сдвинув брови, подходила к столу и долго молча смотрела в лицо покойницы, точно хотела спросить у нее о чем-то. Потом тихо оправляла кисею, перекладывала цветы и уходила. Она не смотрела на доктора, как будто не видела его, и он не шевелился, когда она входила.
Все спало кругом. Темно и тихо было везде, и по временам доктору Арнольди казалось, что он один остался живым во всем мире, полном мертвой тишины и неподвижности.
Изредка потрескивали свечи, и треск раздавался по всему дому, оглушительно резкий в этой тишине. Иногда свет неровно колыхался, и тогда казалось, что мертвое лицо шевелится, открывает глаза, улыбается. Радостное полубезумное чувство охватывало старого доктора: ему начинало чудиться, что она жива, видит его, слышит его страшное, бесполезное горе, хочет ободрить и успокоить. Но время шло, по-прежнему неподвижно возвышался темный профиль под белой дымкой кисеи, и не шевелились руки, сжимавшие крест.
Доктор Арнольди смотрел.
Это была она. Та женщина, которая явилась в его жизни, когда он думал, что жизнь кончена и, кроме мертвого доживания бесполезных и скучных дней, у него ничего впереди. Она явилась, бледная и прекрасная, милая сердцем, согревшая его своей лаской, чистой лаской умирающей, в любви которой уже нет ничего, кроме печальной нежности.
Доктор Арнольди припоминал все мелочи, все ее слова, взгляды, движения слабых прозрачных рук. По временам ему казалось, что он еще слышит ее голос, тихий, ласковый. И, прислушиваясь изо всех сил к мертвой тишине, он как будто бы разбирал, что она говорит ему:
— Зачем я умерла?.. Я была еще такая молодая, мне так хотелось жить и любить, я так много счастья еще могла дать… Все светит ваше живое солнце, все греет оно живых и веселых людей, а для меня настала уже вечная темная ночь. Помни же обо мне всегда, не забывай!.. Как ужасно знать, что пройдут года, и даже память обо мне исчезнет из мира и уже нигде, ни в свете солнца, ни в зеленых лесах, ни в голубых морях, нигде ничто не будет напоминать о том, что я жила, что я страдала… и я любила, и у меня были свои радости и горе… Зачем я умерла?.. Боже, ведь я умерла тогда, когда поняла всю прелесть жизни, поняла, что все прошлое было ошибкой, и хотела возродить жизнь новую, прекрасную и светлую, без грязи, горечи и разочарований, в тихой, страстной и чистой любви…
Доктор Арнольди слушал этот тихий голос и думал о том, как прекрасна могла быть эта любовь, какое великое счастье показала ему жизнь, всегда давившая горем, для того, чтобы отнять и еще тяжелее, еще безотраднее и пустее навалить на него долгие годы бессмысленного существования.
Уже не было у него сил протестовать, проклинать и плакать. Только спина гнулась и голова опускалась ниже под холодом вечного одиночества, перед призраком долгих лет без радости и смысла.
Ночь шла, и где-то далеко протяжно и предостерегающе перекликались петухи.
За кисейными занавесами засерело утро. С мертвого лица сползли желтые отблески свечей, и холодный синий свет положил на него неподвижные зеленоватые пятна. Страшно вытянулся холодный труп, притухли огни свечей.
Кто-то зашевелился в доме, где-то стукнула дверь, кто-то сказал слово, и голос, живой и странный, раздробился в комнатах. Бледная и серая, вошла Нелли, молча взглянула на доктора, поправила свечи и ушла. Послышался тихий говор, на дворе продребезжали колеса, начинался новый день, последний день для нее на земле.
Тогда доктор Арнольди тихо встал, подошел к столу и остановился в изголовье. Так близко-близко, последний раз, взглянуло на него закрытыми глазами милое, совсем не страшное ему лицо. И вдруг желтое бледное пламя свечей тихо закружилось и расплылось в одно желтое марево, отодвинулись стены, окна, все исчезло, и перед доктором осталось одно ее лицо. Тихо застонав, старый доктор наклонился всем телом и последний раз в жизни тихо поцеловал бледные мертвые холодные пальчики скрещенных рук. Потом быстро повернулся, согнулся и тяжело вышел из комнаты. За окнами уже был полный светлый день.
XXXV
Отстучали колеса последних дрожек, слышно было, как сторож затворил тяжелые ворота, и на кладбище стало тихо той прозрачной печальной тишиной, какая бывает только в последние летние вечера, когда в чистом, тронутом холодом воздухе уже слышно дыхание близкой осени. Неподвижно стояли кресты, и зеленели ряды земляных бугорков, под которыми навсегда скрылось столько радостей и горя забытых людей. Тоненькой, ажурной тканью, перевитой узорами хмеля, сквозили железные решеточки. Кое-где последние лучи солнца клали желтые полосы, и в тени зеленых елок вдруг ярко сверкали золотые буквы чьего-то, никому уже не нужного, имени.
Доктор Арнольди, грузный и большой, черным пятном бродил по пустынным дорожкам в аллеях крестов и каменных памятников. Иногда шаги его гулко раздавались по каменным плитам и взвизгивала тяжелая палка, упираясь в остатки чьего-то разбитого и заросшего монумента.
Буйно и зелено росли в щелях камней бурьяны и травы, мощно раздвигали могильные развалины корни молчаливых молодых елок, победно возносивших свои остроконечные вершинки над гнилью прошлого.
И тишина, вечная тишина смерти неслышно ходила за доктором Арнольди.
На белом кресте, над могилой едва слежавшейся желтой глины, обложенной увядающим дерном, светились золотые буквы, и доктор Арнольди в тяжелом раздумье остановился над ними.
«Здесь покоится прах ординарного профессора Харьковского университета Ивана Ивановича Разумовского. Господи, помяни мя, когда приидешь во царствие Твое».
Наивной жалобой, затаенной надеждой звучали в ушах старого доктора эти безмолвные буквы, и ему, казалось, слышался тихий голос, плакавшийся неисповедимой судьбе:
Боже, предстою Тебе!.. Здесь кончилась моя жизнь, полная страданий и надежд. Тяжко и трудно было мне идти по пути, начертанному Тобой, и вот я у цели… Да не будет же мне уделом вечная могильная тишина. Радости и отдыха прошу я у Тебя!.. Я заслужил их своими муками, имени которым не знают живые. Ты один знаешь, Ты один видишь! Господи, неужели голос мой замолчит и мысли мои исчезнут из мира, который я так любил, и не увижу я никогда Твоего светлого солнца, в мраке и печали сокроюсь, как не бывший: Да не будет сего, Господи!
Кучка желтой глины безмолвно лежала перед доктором Арнольди, но из-под нее явно звучала тишина бесполезных жалоб, молитв и проклятий. Страшное страдание, наполнявшее мир, темной тучей подымалось из этой земли, напоенной гноем и слезами. Оно скрывало солнце, черным туманом затягивало голубое небо, душило радость жизни, уродовало прекрасную яркую землю, и тяжко было дышать в нем живому.
Ярко это солнце, ласково и призрачно светит прекрасная луна, зелены деревья, голубо море, величавы горы, радостна любовь, и весело и живо ее дыхание. В них, этих светлых радостях жизни, невидимо и тайно расползается черный туман смерти. Каждое мгновение кто-нибудь умирает. Когда смотришь на яркое солнце, на зеленые поля, эта простая и единственно верная из всех человеческих истин не представляется человеку и кажется призрачной и лживой, как марево над степями в жаркий день. Смерть непостижима, и мысль не воспринимает ее даже тогда, когда горбатый гроб медленно сползает в черную яму. Но если бы обладать таким нечеловечески острым слухом, чтобы сразу слышать все звуки земли, сквозь стук строящихся машин, сквозь шорох миллиардов шагов, сквозь шум лесов и прибой моря, сквозь шепот любовников и крики рождающих матерей, сквозь выстрелы, музыку, крики, свист и смех можно было бы разобрать непрерывный, нудный, ни ночью, ни днем не смолкающий голос смерти. Стонут и хрипят задыхающиеся, вопят горячечные в страшном огне, дико вскрикивают убитые, визжат снедаемые язвами, и все это — крик, стоны, визг, хрипение, рыдания и треск костей — сливается в одну тягучую, непрерывную ноту, основную ноту жизни.
Доктор Арнольди стоял над могилой и думал.
Память его воскрешала, как в тумане, лицо старого профессора, его голос и черный сюртук. Так вот и лежит он здесь, чинно сложив руки на груди, закрыв глаза, длинный и чопорный в своем старом профессорском сюртуке. Доктор Арнольди вспомнил свой последний визит к нему: старому профессору было как будто лучше и память его работала ясно; мозг был светел, как у всякого человека, немного слабый, он сидел на диване, улыбался и поглядывал на доктора, рядом сидели его жена и дочь, смеялись и говорили. Как легко забывают люди свои страдания и свой неизбежный конец. И никто, ни доктор, ни жена, ни сам старый профессор не знали, что сегодня, через три часа, наконец, наступит время, и на месте, где был живой улыбающийся старичок, останется только страшный и безобразный труп.
«Что он думал в последние минуты?.. Чему засмеялся, когда его разбудили?..» — думал доктор Арнольди.
Вот он лежит тут, чинно сложив руки, в старом черном сюртуке. Старый профессор Иван Иванович, проживший на земле восемьдесят лет, писавший книги, читавший лекции, переживший всех своих современников, революцию и войны и думавший, что жизнь его так же важна и велика, как солнце, небо и земля.
Сырой, жирный прилип старый сюртук к костям. Смокли от гноя воротники и манжеты крахмальной рубашки. Обнажились прогнившие челюсти. Во мраке узкой и тесной деревянной кельи, глубоко под черной и жирной землей, где ни зги не увидит человеческий глаз, тихо и безмолвно копошатся белые черви: толстые и жирные ризофаги медленно шевелятся в дыре живота, полной гноя, на груди, где остались жиры, и, бешено свиваясь колечками, жрут голодные тонкие могиляки чернь этой страшной могильной жизни. День за днем обнажаются белые обглоданные кости, череп улыбается во тьму. Меньше и меньше становится червей. Уже только кое-где вяло шевелятся последние жители могилы, и вот лежит уже голый сухой скелет. Последний гной медленно впитывается в землю и тянется наружу, к солнцу, зелеными иголками травы, сильной и тучной. Потом тихо шевельнется кость, упадет прижатая к груди рука. Как будто жизнь возрождается в движении. Еще шевельнется грудная клетка, качнется освобожденный от позвоночников череп и скатится с кучки праха, которая когда-то была белой подушкой, любящей рукой положенной для удобства трупа. Треснут доски гнилого гроба, и медленно осядет все хоронящая земля… А над нею уже пройдут новые дороги, возвысятся неведомые здания…
Доктор Арнольди тяжело отошел от могилы старого профессора.
«Наумов прав! — с необычайной силой подумал он. — Все мысли, все дела людей должны быть направлены к одному!.. Но глупость человеческая бессмертна… А впрочем…»
Солнце уже село, и дальние кресты тонули в надвигавшемся сумраке. Потемнели зеленые ели, растаяли узоры решеток и слились с темными углами камней. Доктор Арнольди, волоча палку, опять прошел туда, где сегодня столько пели, кадили и навсегда скрыли от него то самое дорогое, что слишком поздно узнал старый доктор в своей жизни.
Могила Марии Павловны была в отдаленном углу кладбища, где не было вычурных купеческих памятников с претензией на бессмертие. Там росли только тоненькие березки, осыпался каменный забор и среди забытых крестов тихо дотлевали полусгнившие мостки. Зеленые безгласные синички прыгали с забора на качающиеся веточки и пухлыми комочками падали куда-то за ограду.
Уже смеркалось. Потемнело небо за оградой и как будто спустилось ниже. Одна за другой исчезли безгласные птички, и тишина кладбища стала сдвигаться таинственной жутью нездешнего мира. Кресты, памятники, деревья слились в тяжелую страшную массу, и только где-то далеко красной таинственной точкой мерцал огонек чьей-то неугасимой лампадки.
Доктор Арнольди, грузный и тяжелый, сидел на мягкой от сырости старой скамейке и, положив подбородок на скрещенные на палке руки, пристально и горько смотрел на могилу.
Серый холмик, убранный зеленой елкой, уже незаметно сливался с синевой холодного вечера, и вместе с ним таял и отлетал от старого доктора милый печальный образ.
— Когда я умру, доктор, и все уйдут… посидите со мной немного!.. — как будто звучал этот голос где-то близко-близко над ухом.
— Я посижу… — ответил доктор Арнольди без слов.
Далеко, между узорными веточками берез, холодно гасла зеленая заря. Тьма надвигалась со всех сторон. И когда уже совсем стемнело, и сдвинулись тени, и между старыми крестами заходили черные призраки, поднялся холодный ветер и глухо зашумел в деревьях.
Конец первой части
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
I
Лужи блестели клочками белого неба; мокрые акации с поникшими ветками, дрожа, отражались в них, и желтые листья, сбитые ночным дождем, плавали, поворачиваясь от ветра, как живые. После дождя казалось особенно светло и пусто кругом.
В худенькой шинельке и маленьких калошах Чиж бежал по бульвару и ругался:
«Не даст денег чертов толстосум!.. А тут, того и гляди, воспаление легких набегаешь… Тьфу, гадость!»
При мысли, что он может простудиться, заболеть и умереть в этом унылом мокром городишке, совершенно один, далеко от той жизни, о которой так долго и страстно мечтал, Чижа охватила положительная тоска. Таким маленьким, заброшенным и несчастным казался он сам себе, что слезы подступали к горлу.
«Всю жизнь вот так… Черт его знает!»
Маленькому студенту даже странно казалось: ведь не для того же в конце концов родился он, чтобы бегать по урокам, шлепать по грязи рваными калошами, бесплодно и тоскливо мечтать и умереть без смысла и следа?.. В этом было что-то уж слишком нелепое. Ведь он же человек!
Почему все думают и говорят, что жизнь для думающих, чувствующих, умных людей?.. А вот он, Чиж, интеллигентный, мыслящий человек, должен, голодный и холодный, дрожать за завтрашний день, а тут же рядом именно самые глупые, не только ничего не дающие жизни, но даже вредные ей, живут в свое удовольствие и плевать хотели на все прекрасные идеи!.. Всю жизнь он, Чиж, будет мыслить и страдать, а они спокойно наслаждаться… И те блага, которых своими страданиями добьются подобные ему, Чижу, прежде всего будут использованы этими толстокожими животными… Очень просто!.. Лучшие люди, пророки, которым лицемерно молится человечество, герои, не отступающие ни перед какою жертвою, гибнут и гибнут, а по их трупам идет вперед тупое многоголовое стадо!.. Они только для того и живут, чтобы своею кровью спаивать кирпичики общего счастья, а в каждом ими воздвигнутом этаже поселяются торжествующие и на них же презрительно похрюкивающие свиньи!.. Разве не так?.. Вся история человечества есть история гибели мучеников мысли и слова, и каждая эпоха — апофеоз торжествующей пошлости!.. Им, тупым животным, все: богатство, новые изобретения, красивые здания, прекрасные женщины, почет, роскошь… а горе, мучительные раздумья, нужда и страдания — удел Чижей, маленьких и больших Чижей!.. Было так, так будет и всегда!.. Всегда?.. Это страшное слово!.. В нем конец и смерть всему!.. Но ведь тогда все нелепость!.. Тогда кто же прав, кто разумнее? Христы или Ротшильды?..
Но маленький студент храбрился. Он не мог допустить даже вопроса, потому что вопрос-это уже сомнение, а одна минутка сомнения сводила насмарку всю его жизнь, все, во что он привык верить, чему поклонялся.
«Ну, что ж… — убедительно думал он, — свинья, конечно, счастливее меня, но ведь не поменяюсь же я со свиньей?..»
Какой-то внутренний, равнодушный ко всему голос подсказывал ему, что это только потому, что он уже привык к своей шкуре, возлюбил ее и в утешение себе научился верить в ее величие. Но Чиж отогнал эту злую мысль.
«Не всегда так будет! — не сдаваясь тоске, подбадривал он себя и калошами разбрызгивал холодную грязь. — Когда-нибудь да придут же новые времена… Будут жить иные люди… Ум и талант станут хозяевами жизни… Тогда будет хорошо!.. Будет же, будет!.. Тогда и в голову никому не придет вообразить существование вот такого несчастного, голодного, вечной нищетой раздраженного студента… Тогда не будет тоски и… рваных калош!.. Люди будут свободны, счастливы и светлы лицом!»
И с упорством фанатика, сжимая зубы, Чиж повторил вслух:
— Будет же, будет!..
Это прекрасное будущее рисовалось Чижу каким-то светлым днем под куполом высокого, свободного неба. Даже как-то не представлялось возможным, чтобы и тогда мог идти дождь, быть холод и грязь и чисто физические страдания… Далекое сияние радостного дня оттуда, из вечности, озаряло душу, и в свете его таяла тоска, поднималось бодрое, боевое настроение. Даже брызги из-под калош летели веселее. Но когда маленький студент представил себе короткошеего, узколобого купца Трегулова, а рядом с ним неведомого человека будущего с ясным лицом художника и мудреца, ему вдруг так понятно стало громадное расстояние между ними, так отчетливо представление о целых тысячелетиях борьбы и страданий, что душа упала, точно взлетевшая и подстреленная птица.
Будет, не может не быть, конечно… но когда?.. Где будет тогда маленький студент с его раздраженным сердчишком, рваными калошами и плохоньким пальто?.. Его не будет вовсе и нигде. Даже смешно будет вспомнить о нем! «Смешно!» Чиж с горькой укоризной посмотрел на белое небо, по которому незаметно ползли бесконечные серые тучи. Посмотрел и криво усмехнулся.
Внезапно вспыхнула в нем злоба.
«А стоит ли еще все это хваленое счастье, весь этот золотой век, все грядущее человечество вот этих незаметных страданий одного маленького, голодного, обиженного студента?.. Ведь вот… какой он жалкий и несчастный, как плохо ему живется, а он думает о вашем счастье, люди будущего!.. Так думает, так мечтает, точно в этом единственное счастье его самого. Он не заботится так о себе, а ведь он мог бы быть гораздо счастливее, если бы меньше думал о вас и больше о себе… А вы, счастливые люди будущего… каковы еще будете вы?.. А не будете ли вы чужды и противны маленькому студенту?.. Стоите ли вы его страданий, оправдаете ли его мечтания?
И сколько еще понадобится таких маленьких, незаметных мечтателей, сколько крови и мук, чтобы вы, будущие, наслаждались жизнью!.. Не слишком ли дорогая цена, не слишком ли велики жертвы для вас… счастливые свиньи будущего?..»
Эта дерзкая мысль так внезапно возникла, так была чужда ему, что Чиж даже испугался. Точно он смертельно оскорбил самое дорогое, точно скощунствовал над святыней. И маленький студент заторопился назад:
«Рассантиментальничался, Кирилл Дмитриевич!.. Черт его знает, от сырости у меня и душа, кажется, размокла! Тоже захотелось кусочек счастьица и в свой собственный карманчик!.. Не открыть ли торговлишку какую, или вот тоже хорошо — в охранное отделение!.. А идейки о человечестве оставить тем, кто посильнее, кому не лень… о, черт!.. Будьте вы все трижды прокляты!»
Неизвестно, к кому было обращено это трагическое проклятие, но сердце маленького студента положительно затрепыхалось от злости.
Вода хлюпала в калошах, противная липкая сырость забиралась в сапоги и за воротник. Чиж готов был плакать от злости и обиды.
Он дошел до конца бульвара. Мутный ручей, унося желтые листья, бурля и крутясь, стремился в тот проулок, где летом жили студенты Мишка и Давиденко. Задумавшийся Чиж едва не свернул туда, но вспомнил, что товарищи давно уехали, и насупился.
«Счастливцы!» — с горькой завистью подумал он.
Представился ему большой город, вереницы извозчиков, черная толпа, непрерывно текущая вдоль тротуаров, старое здание университета, подъезды Большого театра, гул трамваев, вечернее небо, озаренное живым отблеском миллионов огней… Как далеко все это от него!
Под ногами хлюпает холодная вода и чавкает в дырявых калошах, ветер гнет жалкие акации, блестят мокрые крыши и заборы. Скучно и тоскливо!
Так тоскливо, что хочется хоть чем-нибудь утешиться. И невольно, сам того не замечая, Чиж стал уверять себя:
«В сущности, что ж такое:… В чем дело?.. Книги есть и тут, театры одно развлечение, а ведь не в скуке же дело!.. Люди?.. Все равно всех людей не увидишь и не узнаешь… Да и на кой черт?»
Мысленно Чиж выстроил перед собою в ряд всех знакомых профессоров, литераторов, студентов и художников, внимательно пересмотрел их обыкновенные скучные лица и озлобленно выругался:
— А ну их к черту!.. Сволочь!..
И это породило еще большую тоску. Стало совсем пусто в мире.
«Нервы развинтились, — подумал Чиж. — В клуб, что ли, зайти?»
Ему захотелось поговорить хотя бы с доктором Арнольди, увидеть хоть и сонного, но живого человека. И не то чтобы очень захотелось, а так… надо же было что-нибудь предпринять.
Но в прихожей клуба было пусто и темно. Мокрое окно с мутными струйками дождя на стеклах скупо и бледно пропускало белесый свет. За перегородкой швейцара пахло солдатским борщом, махоркой, портянками и старым грязным человеком. На вешалке не было ни одной шляпы. И это подействовало на Чижа как положительное несчастие. Он даже не поверил и заглянул за перегородку. Швейцар спал, уткнувшись лицом в грязную ситцевую подушку с голубенькими цветочками и выставив навстречу Чижу голые пятки грязных ног с желтыми кривыми пальцами.
Как виноватый, на цыпочках Чиж отошел от перегородки, отворил и тихо закрыл за собою дверь. Ему как будто стало стыдно, что швейцар проснется, увидит его и догадается, как ему скучно и как хочется ухватиться за кого-нибудь.
Опять Чиж зашлепал по грязи, высоко подняв плечи, чтобы сырость не лезла за воротник. Ничего больше не оставалось, как идти на урок.
II
В классной было темно и грязно. Мальчишки, должно быть, недавно бегали по дождю: на полу было наслежено свежей грязью, и от их сырых шерстяных блуз пахло мокрой собакой. Чиж курил, качал головой и вяло тянул что-то из истории средних веков, до которых ни ему, ни мальчишкам не было ровно никакого дела.
Иногда маленький студент ловил себя на том, что мысли его убежали за тысячу верст, встряхивался, озабоченно повышал голос и горячился. Но тупоумные мальчишки так явно были равнодушны, что горячность сейчас же переходила в раздражение, а потом быстро наступала прежняя апатия.
Если бы кто-нибудь со стороны послушал, как Чиж излагает грандиозные события крестовых походов, наверное, подумал бы, что маленький студент просто читает псалтырь над чужим покойником.
Тихо и бледно, как тень, вошла Лиза.
— Здравствуйте, — сказал Чиж, обрадовавшись ей, — скучаете?
Лиза странно, даже как будто испуганно взглянула на него, слабо пожала руку и села на своем обычном месте.
Чиж продолжал урок и украдкой посматривал на девушку, молча сидевшую у окна.
Бледный, водянистый свет падал на ее похудевшее лицо; светлые наивные глаза тоскливо смотрели в белое скучное небо.
«А плохо ей!» — подумал маленький студент.
Все грязные сплетни, которые злорадно и цинично, точно какие-то срамные уродцы нагишом, ходили по городу, заплевывая и душу и тело Лизы, вспомнились ему. Еще сегодня хозяйка, толстая, неопрятная, но молодящаяся и развратная баба, говорила ему:
— Ну, конечно, она в положении!.. Ужасно!.. Молоденькая девчонка ведь!..
И при этом улыбалась плотоядно и злорадно, точно Лиза была ее личным врагом.
Зло взяло маленького студента: тупые, бессердечные люди!.. Вместо того, чтобы пожалеть девушку, они торопились с головой потопить ее в грязи.
«И утопят!» — с жалостью и болью подумал Чиж.
Странное дело, с тех пор, как она отдалась человеку, которого от души презирал маленький студент, то есть сделала именно то, чему он не знал оправдания, вместо прежнего презрительного отчуждения Чиж почувствовал к Лизе глубокую жалость и даже как бы какое-то нежное уважение. Точно в падении своем она возвысилась. И прежде казавшиеся ему только глупыми, наивные глаза ее теперь стали казаться маленькому студенту святыми, как детски-чистые и детски-печальные глаза мученицы.
И ему было положительно больно, когда он ловил себя на нехорошем взгляде на се красивое, уже не невинное тело. Это тоже было странно: он, умный, чуждый предрассудкам человек, никогда не смотрел так на замужних женщин: те не возбуждали в нем такого нечистого и дурного любопытства. Ловя себя на циничных представлениях, Чиж со стыдом становился особенно предупредителен и ласков, оказывая Лизе даже несколько преувеличенное уважение.
Но вообще ему очень хотелось хоть чем-нибудь помочь ей. И было досадно, что он не умеет этого сделать.
— Ну, как поживаете? — спросил он. Лиза испуганно взглянула на него. Она, должно быть, теперь боялась всех, в каждом обращении чуя особый, страшный и циничный смысл.
— Ничего… — поспешно ответила она.
— Хоть бы уж зима скорее… Надоела слякоть проклятая! — всей душой желая сказать ей что-нибудь хорошее, продолжал Чиж.
— Да… — тихо ответила Лиза и отвернулась к окну, точно умоляя оставить ее и пряча в белом осеннем небе свои печальные, ищущие ответа глаза.
Чиж замолчал и ожесточенно затянулся папиросой. Тоненькая безнадежная тоска, как паутина, плелась вокруг его сердца.
«Какие мы все чужие друг другу!.. Даже приласкать и утешить не умеем! Все одиноки, каждый по-своему несчастен, а горя своего не можем разделить с другими».
В дверь заглянуло расплывшееся жирное лицо, и певучий голос пропел:
— Ли-за, отец зовет, иди…
В этом зове не было ничего особенного, но почему-то и Чиж, и Лиза, и даже мальчишки сразу что-то почувствовали. Чиж растерялся и уронил папиросу, мальчишки оставили свои тетрадки и с любопытством уставились на сестру. Лиза не тронулась с места. Только руки у нее задрожали.
— Иди скорей! — повторила мать и скрылась за дверью.
Несколько времени прошло в томительном молчании. Чиж боялся взглянуть на девушку, мальчишки не спускали с нее любопытных и даже как будто злорадных глаз. Лиза продолжала, очевидно, в страшном внутреннем напряжении смотреть на белое небо. За окном уже опять журчал дождь и быстрыми кривыми струйками сбегал по стеклам. Наконец девушка шевельнулась, на мгновение замерла в нерешительности, встала и, ни на кого не глядя, медленно, через силу, вышла из комнаты.
Чиж растерянно проводил ее глазами и в непонятной злобе бешено крикнул на мальчишек:
— Ну, решили?.. Я жду!
Мальчишки испуганно оглянулись на его мгновенно и страшно изменившееся лицо с грозно поднятым хохолком на лбу и торопливо уткнулись в тетрадки.
Долго было тихо. Потом откуда-то из третьей комнаты стали доноситься глухие голоса. Чиж в смутной тревоге прислушивался и, стараясь, чтобы мальчишки не слышали, преувеличенно громко диктовал условие новой задачи. Душа его ныла, и было ему мучительно стыдно, точно он присутствовал при истязании ребенка и не решался заступиться за него.
Вдруг что-то гулко прокатилось по всему дому. Было какое-то смятение, потом мгновенная тишина, и, полный испуга и боли, пронзительно вскрикнул отчаянный голос Лизы.
В ту же минуту, подхваченный какой-то светлой силой, не сознавая, что делает, маленький студент кинулся из комнаты, а за ним, побросав книги, сломя голову поплелись мальчишки.
В зале Чиж столкнулся с Лизой, которая, закрыв руками лицо, бежала навстречу, и взъерошенный, как ужаленный воробей, страдающий и возмущенный, налетел на купца Трегулова.
— Что вы делаете!.. Как вам не стыдно! — с гневом и тоской пронзительно закричал Чиж.
В эту минуту вся душа маленького студента была потрясена.
Толстый короткошеий Трегулов, без пиджака, в засаленных помочах, задыхаясь и качаясь, как бык, ополоумевшими, налитыми кровью глазами тупо уставился на внезапно появившегося перед ним маленького студента.
С минуту они молча стояли друг против друга, не понимая, как это случилось. Потом лицо купца посинело, вздулось, глаза выкатились из орбит, губы задрожали и запрыгали.
— А… а тебе что?.. — на весь дом хрипло заорал он. — Ты тоже ее?.. Вон, сволочь!.. Чтоб духу твоего… убью!..
Перед самым носом Чижа очутилась показавшаяся ему огромной, как в кошмаре, вздутая багровая бешеная морда. Он только успел вскрикнуть, инстинктивно заслонив лицо локтем:
— Вы не смеете меня…
Что-то хряснуло, заревело… какая-то лавина смяла его. Еще раз жалобно, как заяц, вскрикнул маленький студент и, почти потеряв сознание, ничего не видя и не понимая, в паническом ужасе вылетел в переднюю. Бешеный рев висел над ним… кто-то толкал его, тряс, не давал попасть руками в рукава шинельки… Он чувствовал себя во власти неодолимой силы, как котенок мотался в чьих-то лапах и вдруг очутился на дворе, прямо посреди лужи, об одну калошу, другую держа почему-то в руках. Вдогонку вылетела его фуражка, покатилась и, подпрыгнув, шлепнулась прямо в грязь. Дверь захлопнулась, и Чиж остался один под белым небом, с которого неустанно моросил холодный мелкий дождик.
Он опомнился.
Руки и ноги дрожали, все тело тряслось и ныло. Было ужасное сознание позора, страшной обиды и полной беспомощности. Никогда в жизни так остро и безнадежно не чувствовал маленький студент своего физического ничтожества. Почему-то в памяти выскочила могучая фигура Давиденко и до боли захотелось, чтобы каким-то чудом он очутился здесь.
Совершенно оглушенный, жалкий и дрожащий, Чиж поставил свою калошу прямо в воду, кое-как надел ее, трясущимися руками поднял фуражку и долго вытирал ее рукавом худенькой шинельки. Почему-то именно эта старая единственная его фуражка, совершенно мокрая и испорченная, вдруг резнула его по сердцу такой бесконечной жалостью к самому себе, что губы Чижа запрыгали, и горькие слезы выступили на глазах, все застилая кругом.
Он бессильно сжал кулаки, закусил губы и опрометью побежал со двора. Прислуга Трегуловых, кучей столпившаяся на крыльце кухни, проводила его злорадным смехом и тюканьем.
III
Лиза лежала на кровати, уткнувшись лицом в мокрую от слез подушку и разметав по ней растрепанные светлые волосы. С одной ноги ее свалилась туфелька, и нога в черном обтянутом чулке, не доставая до полу, висела с кровати, красивая и жалкая в своей беспомощной прелести.
Маленькая комната с одним окном в мокрый пожелтевший сад казалась неуютной и бедной. Смешно и трогательно выглядели книжки на столе, зеркало, наивно убранное кисеей, и открытки на стенах. Все такое простенькое, обыкновенное, говорящее о маленькой девичьей жизни, с ее наивными думами и мечтами, с ее невинным кокетством.
И страшным горем веяло от гибкой женской фигурки, скорчившейся на кровати в безмолвном отчаянии.
Никто не входил к ней. Отец чувствовал себя плохо и, багровый, потный, с разорванным воротом сорочки, горой лежал на кровати. Мать с испуганным мокрым лицом, совершенно раскисшая от горя, заглянула в дверь и ушла, разводя руками. Она совсем растерялась от непоправимой беды, нежданно свалившейся на голову, ничего не понимала, бестолково ходила по дому, толстая, простоволосая, крестясь на иконы, всплескивая руками и причитывая вполголоса:
— Господи, Матерь Божия, что ж это такое!.. Что теперь бу-у-дит!.. Лиза, моя Лизанька!..
И ярко вставало перед нею то время, когда она рожала, кормила и носила на руках маленькую розовенькую Лизаньку, таращившую на мир глупые голубые глазенки, пускавшую пузыри и хлопавшую крохотными ручонками по ее полному, тогда еще молодому и красивому лицу. Думала ли она тогда!..
— Господи!
Лиза плакала, уткнувшись в подушку, ничего не видя и не сознавая кругом. Все лицо ее было мокро и саднило от удара по щеке. Но боли она не чувствовала. Все умерло в ней. Был только какой-то безумный кошмар, и в нем беспомощно кружилась ослабевшая мысль.
Перед закрытыми глазами, в красном тумане, стояло огромное вздутое, совершенно чужое лицо отца, которого она почти не узнавала. Лиза смутно помнила, что случилось. Она даже не поняла, как узнал отец. Она не слышала его слов, помертвев от ужаса и стыда. Ей только казалось, что ее вдруг всю обнажили и хлещут по голому телу. И потом, когда отец, задохнувшись, на мгновение затих и молча, выкатив бешеные глаза, смотрел на нее, точно не зная, что с ней сделать, Лиза не тронулась, не отшатнулась, стояла, как связанная. В эту минуту, казалось, ее можно было бы убить, и она не издала бы ни одного звука… Но вдруг одно позорное страшное слово — безобразное уличное ругательство — хлестнуло ее по лицу. Девушка широко открыла глаза, ахнула и отшатнулась.
— Ай, не надо!.. — жалко, по-детски, как потерянная, крикнула она, обезумев от ужаса.
И как будто этот крик подтолкнул его: отец, широко и жестоко размахнувшись, изо всей силы ударил ее по лицу.
На мгновение Лиза почти потеряла сознание. Потом обеими руками схватилась за лицо, крикнула и опрометью бросилась бежать, сама не зная куда, слыша за собой бешеный крик и град омерзительных ругательств, летевших вдогонку, как комья грязи.
Она очнулась у себя в комнате, и нескоро. Может быть, и час и два прошли в состоянии какого-то тупого забытья. Потом, точно поняв, наконец, весь ужас случившегося, Лиза дико оглянулась кругом, всплеснула руками и повалилась лицом в подушку, трясясь в безумной истерике. Она хваталась за спинку кровати, выгибалась всем телом, рвала волосы, кусала руки и подушку, потом пронзительно вскрикнула и замерла.
Рыдания опустошили душу. Она лежала неподвижно в странной тишине. Туман стоял вокруг нее, и во всем мире для нее оставалось ярко только одно сознание, что все кончено.
Она ничего не представляла себе, не знала, что будет дальше, видела только, что погибла и что уже нет возврата к мирному прошлому. Впереди была мертвая пустота.
«Больше нельзя жить!» — сказала себе Лиза в тупом спокойствии, и это показалось так просто и ясно.
Откуда-то выплыла перед закрытыми глазами желтая, разлившаяся от дождей мутная река с подмытыми берегами и крутящимися струйками водоворотов. Лиза даже почувствовала холод, точно тело ее уже погружалось в желтую холодную глубину. Отчаянно тихо стало на душе, вспомнилось, как во сне, все прошлое, тысячи мелочей, далекое солнце, зеленый сад, что-то милое и дорогое, чего уже никогда не видать ей… и вдруг она вспомнила Михайлова.
Страшный толчок в сердце потряс ее. Лиза вся сжалась в безумной тоске. Она поняла, что уже никогда не увидит и его. И при мысли об этом отчаяние и потрясающая нежность охватили душу Лизы. Она судорожно прижала руки к груди и замерла в приливе любви, почти невыносимом.
«Из-за него!» — мелькнула яркая, совершенно отчетливая мысль. И страшная радость, что она так пострадала и так несчастна именно из-за него, милого, любимого, потрясла ее.
Пусть так!.. Она готова страдать еще больше, готова дойти до края унижения и позора, лишь бы из-за него!.. Ведь она же любит его!.. Ей даже показалось, что за такое огромное счастье, как его любовь, она мало пострадала. И Лиза подумала еще, что если бы он был тут и все видел, то ничего бы и не случилось.
Захотелось броситься к нему, прижаться всем телом и отдать всю себя его воле. На секунду у нее появилась почти бессознательная надежда, что он пожалеет, приласкает и возьмет к себе, и она уже навсегда будет с ним, только с ним, вся его, только его!.. С нежностью, проникающей все тело, раскрывающей душу до глубины, Лиза вспомнила, как он ласкал ее! И где-то в сердце дрогнула затаенная, робкая, но светлая, как маленькое дрожащее солнечное пятнышко, мысль о ребенке от него. Это было так неожиданно и захватывающе, что Лиза вся залилась румянцем сладкого, радостного стыда и на мгновение забыла все, что есть.
Но сейчас же ей стало прямо страшно, что она смеет мечтать о таком счастье!.. Он такой прекрасный, необыкновенный, а она такая маленькая, глупенькая, простая…
Горько сжалось кроткое маленькое сердце, полное такой огромной любви и такой преданной, покорной печали. И выросла, ширясь и подымаясь, одна мысль:
«Ну, пусть… пусть она не может и никогда не будет счастлива… пусть он не любил и не может любить ее… пусть бросит… Пусть ее заплюют, подвергнут нестерпимым унижениям и побоям… пусть!.. Когда он бросит ее — она умрет. Это так просто и понятно. Но пока она хоть немного будет нужна ему, она будет жить, всему покоряться, все терпеть!..»
И, прижавшись к подушке, обливая слезами замученное распухшее лицо, Лиза думала:
«Милый, милый… милый мой!..»
И больше ничего не могла придумать.
IV
Чиж бежал по бульвару, задыхаясь, что-то бормоча и стараясь удержать невыносимо колотившееся сердце. Его острое птичье лицо горело, глаза смотрели растерянно, все тело дрожало.
Уже смеркалось. Синие мокрые сумерки, морося неустанным дождем, затянули бульвар и, поникнув, словно чахлые призраки тоски, расплывчато мерещились в сырой мгле тощие акации. По ту сторону площади, утонувшей в жидкой грязи, блестели огоньки и дрожа отражались в лужах, широких, как море. Редкие прохожие, спрятавшись в воротниках и шлепая калошами, шли навстречу. Чиж не замечал никого. Он был один во всем свете, никому не нужный, униженный и несчастный.
Все обычные представления разом вылетели у него из головы. Как в кошмаре, ему со всех сторон чудились смех, улюлюканье, оскорбления и побои. Точно все перевернулось и утратило всякий смысл. Было ярко только одно невыносимое сознание, что его схватили за шиворот, ударили и вышвырнули, как котенка, и со своим геройским порывом он был просто жалок и комичен. С каким жгучим наслаждением он схватил бы этого толстого купца за горло, прижал к стене и бил бы прямо по роже, — бил бы до тех пор, пока не устали руки!.. И с безнадежным сознанием своего бессилия, с физическим отвращением ко всяким словам и утешениям у него была острая тоска по грубой простой силе, по здоровым кулакам.
Сколько раз эта грубая сила становилась ему поперек дороги, но еще никогда никто не вышибал из него светлых порывов так просто и — парою подзатыльников.
Это было смешно, безобразно и глупо. Это так не вязалось с тем красивым самоотверженным чувством, которое толкнуло его на защиту несчастной девушки, что рождалось впечатление какого-то скверного анекдота.
Чиж задыхался. Он был как в бреду, кусал дрожащие губы, сжимал кулаки, шлепал прямо по лужам, ничего не соображая и только повторяя бессмысленно:
— По лицу… по липу… меня по лицу!.. А-а! — в отчаянии простонал он, и в эту минуту кто-то его окликнул.
Чиж вздрогнул, остановился и долго, не понимая, вглядывался в длинную серую фигуру казначейского чиновника Рыскова, стоявшего перед ним.
— Здравствуйте, Кирилл Дмитриевич! Куда это вы? — спрашивал Рысков, стараясь любезно осклабиться своим длинным лошадиным лицом с обвисшими мокрыми усиками и унылыми глазами. Под нелепым капюшоном непромокаемого плаща в синем сумраке вечера оно вытягивалось, как лицо мертвеца.
— Я? — машинально переспросил Чиж. — Я… домой.
В другое время он удивился бы, что Рысков остановил его: они были знакомы мало и не сказали друг другу двух слов. Но теперь ему было все равно, и, пожимая холодную мокрую руку Рыскова, он машинально остановился посреди тротуара.
— А не зайдете ли вы ко мне на минуточку?.. Я тут недалеко живу… — торопливо продолжал Рысков, как будто обрадовавшись случаю.
«Это еще зачем? Что такое?» — подумал Чиж, плохо соображая и думая все о своем.
— Мне было бы, право, очень приятно… и мамаша… Мы ведь с вами давно знакомы… Чайку бы выпили… право! Я давно хотел, да все боялся помешать…
«Чего он пристал? Какого черта?» — с тоской подумал маленький студент, перед глазами которого, не исчезая, стояла та же картина: как его, точно щенка, схватили за шиворот и вышвырнули вон, выбросив в грязь его старенькую единственную фуражку. И ничем, ничем он не может отомстить!.. И все видели, все будут знать, что его били!..
— Мне бы очень хотелось… право… ваше мнение! — о чем-то говорил Рысков и все не выпускал руки Чижа из своих холодных мокрых пальцев.
Чиж хотел сказать, что занят, но странное равнодушие охватило его. И почти машинально он согласился.
— Пожалуйста, я тут недалеко, два шага!.. Очень рад, очень… вы не поверите, как мне приятно… — заторопился Рысков в самом деле с такой радостью, что Чиж даже удивился.
Почему-то ему стало стыдно, что Рысков так заискивает в нем, но в то же время и легко, точно маленький студент вдруг увидел, что есть такие люди, для которых и он, униженный и оскорбленный, все-таки существо высшее.
Они пошли. Говорить было не о чем, да Чиж и не мог. Он все вновь и снова в тысячах самых невыносимых подробностей переживал свое унижение. Ему казалось, что случившееся — незабываемо и непоправимо: сколько бы лет он ни прожил, факт жалок и смешон!.. Эта мысль была невыносима, и временами Чижу казалось, что дальше и жить невозможно. Но так как мысль о самоубийстве была ему чужда и противна, то и растерялся он в каком-то тумане, боясь думать о том, что делать дальше.
Рысков забегал вперед, видимо страдая за каждый шаг, чтобы Чижу не показалось слишком далеко. Он нелепо шагал прямо по лужам, предоставляя маленькому студенту сухие места.
Уже совсем стемнело и посинело кругом, когда они дошли. Маленький покосившийся флигелек с унылым и жалким лицом смотрел подслеповатыми окошками на пустынную, разлившуюся в сплошную лужу, кривую улицу. Под мокрыми заборами уныло никли мокрые бурьяны, неумолчно шелестел дождь, вдали маячила чья-то одинокая мокрая фигурка. Все сыро, убого и скучно было кругом. В темных окошечках домов не видно было света, и казалось, что по всей улице никто не живет.
И невольно, не в такт мыслям, пришло в голову Чижу, что в таких жалких захолустных улицах, среди заборов и бурьянов, под дождем, в темных домишках с низкими потолками только и могут жить вот такие убогие, обреченные на бессмысленное прозябание люди: какие-нибудь казначейские и почтовые чиновники, многодетные дьячки с вечным флюсом, отставные чиновницы с трехрублевой пенсией, неведомо чем живущие бездоходные мещане… а человек с ясным умом и большим сердцем лучше поселился бы где-нибудь на выгоне, в бочке, чем здесь.
Пока Рысков зажигал лампу, торопясь и все в чем-то извиняясь, Чиж машинально снял промокшую шинельку, положил ее на какой-то ларь и стал посреди комнаты, не зная, что делать дальше. Лампа разгоралась медленно, и из копотного мрака постепенно выступали, как бы не без достоинства представляясь гостю, красные допотопные стулья с рваной ситцевой обивкой, пузатый шкапчик, за пыльным стеклом которого виднелись расписные чашки, занавески с разводами, ощипанные цветы на подоконниках и чьи-то многочисленные коричневые фотографии в тоненьких фольговых рамках. Прело и густо пахло периной, пылью и лампадным маслом. Низкий потолок с накопченным на балке страстным крестом висел над самой головой. Убогая, ощипанная жизнь выступала кругом.
— Садитесь, пожалуйста, — торопился Рысков, — а я сейчас… вот только самоварчик… в одну минуту!..
Он стремительно убежал, а Чиж, все еще не пришедший в себя и не совсем понимающий, как он сюда попал, принужденно уселся у стола и стал оглядываться. Даже попробовал взглянуть на фотографии, но с них смотрели такие выцветшие однообразные лица каких-то чиновников и мещан с руками на коленях и тощими женами за спиной, что маленький студент отвернулся с настоящей судорогой в лице.
Рысков с кем-то шептался в соседней комнате. Где-то с жестяным грохотом повалилась самоварная труба, запахло горелыми щепками. Чижу стало тошно и еще больнее, еще безнадежнее представилось случившееся. Особенно ужасно было вспомнить, как он не попадал руками в рукава и не только не пробовал защищаться, но даже не подумал об этом… точно это уж было так естественно, что если его начнут бить, то он не может ничего сделать!.. Но почему-то еще ужаснее, уже совсем несмываемо позорно, казалось ему, как глупо стоял он посреди лужи с калошей в руках и бессмысленным взглядом на свою катившуюся в грязь фуражку… Каждый раз, когда этот момент всплывал в памяти, маленький студент замирал в таком позоре, что у него в голове мутилось.
Наконец торопливо появился Рысков с кипящим позеленелым самоваром и в сопровождении длиннолицей тощей старухи с бессмысленными рыбьими глазами и чайным подносом в руках.
Чиж пришел в себя и нерешительно привстал. Рысков, ставя самовар на стол, неловко и вскользь заметил:
— Моя мамаша… вот…
И нельзя было понять, что именно — вот?.. То ли, что вот какая у него мамаша или что другое.
Чиж так же нерешительно поклонился, подумал, что надо подать руку, и не подал. Старуха, испуганно вылупив глаза, ответила на поклон и села, не спуская с Чижа странного, точно навеки удивленного взгляда.
Чиж счел нужным заговорить с нею.
— Вот зашел к вашему сыну… — почему-то преувеличенно громко, точно глухой, сказал он. Старуха поморгала тусклыми глазами.
— С вами говорят, мамаша! — не глядя, заметил Рысков.
Старуха так же испуганно взглянула и на него.
— Очень приятно, покорнейше вас благодарю… — вытягивая лицо, сказала она.
И вдруг неожиданно ее глаза стали осмысленнее. Нечто вроде выражения появилось в их рыбьей мутности.
— И Сашеньке моему удовольствие. Он у меня все один да один. Товарищей-то нет… Вы уж извините!..
Она ни к селу ни к городу поклонилась и, подняв голову, испуганно заморгала.
— Нет, что ж… мне тоже очень… — пробормотал Чиж.
Живой огонек в тусклых рыбьих глазах разгорался все больше: старуха уже смотрела на маленького студента искательно и жадно, продолжая таким тоном, точно собралась говорить часа три:
— Живем не парадно, гостей не принимаем очень. Ничего не поделаешь: жалованье маленькое… Двенадцать рублей ведь Сашенька получает. Обещали прибавку, да, видно, не угодил… А Сашенька-ангел: вот кормит меня, старуху, а ведь сам человек молодой — и с товарищами, и погулять хочется… Здоровье у него слабое, вот… Так и живем!.. Что с голоду не померли — и то слава Богу!..
Старуха тускло смотрела прямо в глаза Чижу и говорила так, точно он затем и пришел, чтобы выслушать всю историю их безотрадной жизни. Было тяжело слушать и почему-то неловко, точно Чиж был виноват в их нищете. Рысков сидел у стола понурившись и не глядел на гостя.
— Отец, покойник, царство ему небесное, тридцать семь лет бегал на службу… Дождь ли, мороз ли, подвяжет уши платочком — простуда у него была, — да и бежит!.. Очень до службы аккуратен был. И начальство его уважало, а помер — три рубля пенсии дали.
Чиж не понял, с гордостью или укором говорит старуха об этих трех рублях. В самом деле, много это или мало за жизнь казначейского чиновника?.. Ему показалось, что он воочию видит этого вечного мизерного писца, тридцать семь лет по дождю, по морозу с подвязанными ушами бегавшего в одно и то же казначейство, всю жизнь просидевшего на одном стуле, не мечтавшего о другой судьбе и умершего без следа… Точно его и не было никогда нигде, кроме юмористических журналов!.. Нечто страшное было в этой человеческой — все-таки человеческой — жизни, которая вся уместилась на протертом казначейском стуле.
— Так вот и живем… А жить нонче дорого стало!.. До чего ни подойди, прямо приступу нет!.. Местечко бы Саше какое!.. Вот бы вы похлопотали через своих знакомых!
Старуха опять поклонилась и выжидательно-жадно уставилась на Чижа. Чиж готов был сказать, что похлопочет, но вспомнил, что хлопотать ему решительно негде. Он смутился, отвел глаза, как виноватый, и преувеличенно сочувственно пожал плечами.
Неожиданно Рысков его выручил:
— Вы, мамаша, того… им неприятно… — пробормотал он, не поднимая глаз.
Старуха испуганно оглянулась на него, потом посмотрела на Чижа и умолкла, моргая глазами. Рысков растерянно водил пальцами по бахромке скатерти и не смотрел на гостя.
Вообще в его движениях, то излишне развязных, то рассеянно-медлительных, было что-то странное, и он вовсе не походил на того Рыскова, который, помахивая тросточкой, гулял по бульвару и нестерпимо презирал мир с высоты своего непонятого величия. Какая-то назойливая мысль, очевидно, сидела у него в голове.
Несколько минут все молчали. Чиж помешивал ложечкой в жидком чае и зачем-то старательно ловил кусочек размокшего лимона.
Наконец Рысков, видимо, решился. Он преувеличенно развязно задвигался, улыбнулся и голосом, срывающимся от волнения, сказал:
— А у меня к вам, Кирилл Дмитриевич, маленькая просьба!
— В чем дело?
— Видите ли… я тут… как-то такое… написал один маленький рассказ… Хотелось бы ваше мнение… Знаете, много свободного времени, и вот…
Он сорвался и замолк, густо покраснев. Чиж, почему-то мгновенно сконфузившись, тоже покраснел. Но в лице Рыскова было столько стыда, страха, надежды и мольбы, что Чиж, насколько мог мягко, хотя и принужденно, ответил:
— Что ж… я с удовольствием… Только какой же я критик?
Рысков, оживившись, замахал руками.
— Нет, как же… что вы говорите!.. Вы столько читали… и притом — студент!.. А тут не к кому обратиться… Читал я тут своим сослуживцам… им понравилось!..
Рысков на мгновение приостановился, но, взглянув на Чижа и заметив, что одобрению казначейских чиновников маленький студент не придавал никакого значения, торопливо продолжал:
— У меня, знаете, с детства было влечение… И потом все-таки свободное время… Мне очень хотелось, чтобы вы…
— Ну, давайте, прочту… — неловко согласился Чиж.
Рысков покраснел еще больше: ему хотелось прочесть самому, чтобы оттенить места, казавшиеся ему особенно потрясающими… Он так ждал этой минуты!.. И притом у него мелькнула совершенно нелепая мысль, что Чиж может воспользоваться его рассказом сам.
— А может быть, вы сейчас?.. Извините, что я так!.. Я бы вам сам и прочел… у меня там не очень разборчиво… Знаете, времени на службе мало, чтобы переписать…
— Ну, хорошо… — согласился Чиж, видя, что все равно не отвяжешься.
Рысков вдруг весь встрепенулся, расстегнул пиджачок и вытащил из кармана свой рассказ, который постоянно носил с собою. Это была тоненькая школьная тетрадка, синенькая, с белым квадратиком на обложке.
Чиж посмотрел на тетрадку и почему-то ему стало ужасно стыдно.
— Так я начну? — почти умоляюще, словно все еще не веря позволению, спросил Рысков и задохнулся.
— Пожалуйста!
Рысков стремительно придвинул лампу, поправил скатерть, развернул тетрадку дрожащими пальцами, несколько раз глотнул слюну и срывающимся голосом прочел:
— «Любовь»… рассказ Александра Рыскова. Маленький студент поспешно опустил глаза и уже не поднимал их до самого конца.
Рысков страшно волновался: голос его прыгал, губы пересыхали, красные пятна и пот выступали на лице. По-видимому, туман застилал ему глаза, и трудно было читать. Он постоянно путался, махал рукой и бросал как бы вскользь, с насильственной небрежностью:
— Тут у меня еще не совсем…
Читал он о том, как один бедный казначейский чиновник, невыносимо благородный юноша с высоким белым лбом, на котором вились мягкие каштановые волосы, полюбил прекрасную дочь графа Н., которая почему-то жила в уездном городе. Благородный юноша встречался с ней и поражал ее своим вдохновенным лицом и величием души. Убийственным сарказмом он бичевал пошлость ее великосветской жизни и окружающих ее аристократов, в которых Чиж без труда, но с великим конфузом узнал всех именитых обывателей городка: исправника, казначея, Арбузова…
Прекрасная графиня готова была полюбить благородного героя, но пропасть разделяла их, и она не поняла, какое счастье ожидало ее, если бы она бросилась в объятия этого прекрасного юноши, и предпочла выйти замуж за старого князя Н. Н.
И вот однажды каким-то малопонятным образом прекрасный юноша получил приглашение на обед к графу Н., за которым граф объявил о помолвке своей дочери. Графиня, сияющая красотой и белым платьем, поцеловала своего жениха, даже не взглянув в сторону героя. Невыносимым презрением и болью переполнилось сердце благородного юноши, не выдержало и разорвалось… И тогда все догадались, мимо какой великой души проходили, не замечая ее, а графиня в слезах раскаяния упала на труп бедного юноши и дала ему единственный и последний поцелуй… Такой поцелуй, что автор едва не оживил своего героя, а сам заморгал глазами, на которых выступали слезы.
Рассказ кончался тем, что на могиле прекрасного юноши как-то чересчур скоро выросли плакучие ивы, и прелестная незнакомка в трауре каждый день приносила на нее цветы и плакала о счастье, которое могло быть и не было.
— А ивы шептали ей грустную песню… дрожащим голосом закончил Рысков и, точно сорвавшись, умолк.
Чижу было страшно стыдно.
Он почувствовал, что щеки его горят, и с ужасом видел, что рассказ близится к концу. По тому, как дрожал голос Рыскова, как, ничего не видя, смотрели его напряженные глаза, как судорожно облизывал он пересыхающие губы, маленький студент понимал, что рассказ этот для казначейского чиновника есть нечто громадное, мерило всей жизни, ее крах или торжество… Очевидно, сердце его было переполнено страхом и стыдом, гордостью и надеждами… Одного слова было достаточно, чтобы вознести его на невыносимую высоту или совсем уничтожить.
Было видно, что рассказ написан кровью сердца, что в нем воплотилась страстная и безнадежная мечта о том, чего никогда не было и не будет в бессмысленной жалкой жизни казначейского чиновника. Это он сам, в своем проплеванном казначействе, над грошовыми квитанциями и сберегательными книжками сельских попов, тайно от всего мира мечтал о какой-то прекрасной жизни, о невыносимо поэтической любви, о каком-то сияющем счастье!
Чижу даже странно стало, что такое громадное и искреннее напряжение человеческой души могло породить такую убогую пошлость. Ведь как бы там ни было, а эта душа болела, страдала, рвалась из мелочной трагедии своей казначейской жизни, в могучем и страстном напряжении вынашивала свои заветные мечты… И вот с мукой и восторгом вылилась она на бумагу, и какой жалкой и глупой оказалась вся ее трагедия!..
Маленький студент чувствовал, что надо что-то сказать, что каждая минута молчания терзает Рыскова и усложняет положение. Но ничего не приходило в голову.
«Черт знает что такое!» — только и вертелось в мозгу.
Чиж чувствовал, с каким страшным напряжением, умирая от страха и надежды, ждет его приговора Рысков, чувствовал, что в одном его слове теперь больше значения, чем во всей жизни Рыскова, и у него не хватало духу нанести удар.
Он машинально взял рукопись… перечел заглавие… Хотелось оттянуть момент, что-нибудь придумать… Чиж притворился, что ему необходимо перечесть некоторые места, переглядел начало и конец… Потом посмотрел в середине и опять перелистал конец… Ничего не лезло в голову! А тянуть было явно невозможно. Еще немного, уже совершенно нелепо поблуждав по страницам, с невероятным усилием в третий раз перечитав конец, маленький студент весь в поту, осторожно, как стеклянную, отложил рукопись и закурил папиросу, не глядя на Рыскова.
Краем глаза он видел бледное, с красными пятнами на скулах лицо Рыскова и его вспотевший лоб, на котором прилипли жидкие прямые волосы.
Пока маленький студент перелистывал рукопись, душа Рыскова переживала все, что может пережить человек: страх, стыд, гордость, надежду и отчаяние. Сначала, когда он кончил чтение, ему показалось, что случилось что-то непоправимое, позорное… собственный рассказ показался глупым, отвратительным. Потом вдруг стало ясно, что сейчас Чиж поймет, с каким великим человеком имеет дело, — поймет, что благородный герой рассказа и есть сам Рысков, и преисполнится к нему невыносимым уважением. Ему даже приходили в голову слова, с которыми взволнованно и восторженно сейчас обратится к нему Чиж:
— Неужели это вы?
Или:
— Неужели это вы написали?
И при этом маленький студент, прекрасный и чуткий человек, который один способен понять и оценить Рыскова, начнет жать ему руку, а Рысков скромно и горько улыбнется, покачав головой.
— Да, теперь вы видите это!.. А сколько страданий, сколько одиночества было в моей жизни!.. Что ж, мы (он, конечно, не скажет — великие люди) не должны ждать признания, и награды!..
Сердце Рыскова готово было разорваться от гордости и счастья…
Вот Чиж задержался и перечитал одно место… Конечно, он поражен, он остановился в изумлении… Начал читать дальше… Как же он может читать дальше, если он поражен?.. Значит, не поражен?.. Сердце Рыскова ухнуло куда-то вниз, а лоб покрылся холодным потом. Он горел на медленном огне, и душа его, как маятник, моталась между крайним восторгом и полным отчаянием.
— Да-да… — неопределенно протянул Чиж. При звуке его голоса Рысков вздрогнул, обомлел и умер. А умерев, ожил в страшном напряжении всех чувств: все тело его, вся душа вытянулась навстречу, чтобы не пропустить ни одного слова, ни одного движения лица.
Но Чиж молчал.
— Ну, к-как вы находите? — запнувшись, омертвелым языком спросил Рысков и в ужасе стыда, совершенно неожиданно для самого себя, прибавил очень развязно: — Это, конечно, так… пустячок, проба пера, как говорят… Хотелось бы ваше откровенное мнение.
Он усиливался сделать равнодушное лицо, но оно горело пятнами, точно шла ставка на жизнь и смерть. Маленький студент отчаянно затянулся папиросой и, сделав невероятное усилие, сказал:
— Видите ли… тут, конечно… есть кое-что… Душа Рыскова натянулась как струна, готовая лопнуть при малейшем неосторожном прикосновении.
— Вот, например… то место, где он встречает графиню на прогулке, и… вообще…
Рысков стремительно закивал головою. Он ярко представил себе это место-лучшее место в рассказе, конечно!..
— Но вообще рассказ слаб… — не найдя другого слова, неожиданно сказал маленький студент.
Все завертелось перед глазами Рыскова, и вся кровь бросилась ему в лицо. Ему показалось, что он стремительно полетел в какую-то холодную пропасть.
— Видите ли, для того, чтобы быть писателем, — говорил где-то далеко маленький студент, — надо прежде всего быть человеком литературно образованным, а вы, должно быть, даже и читали мало… Вы пишете так, точно ничего, кроме бульварных романов, не знаете. И зачем вам понадобилась эта графиня?.. Писатель должен писать о том, что он знает, а вы ведь ни одного аристократа и близко не видали…
Серая бледность быстро и ровно стлалась по длинному желтому лицу Рыскова. Хотя маленький студент старался говорить мягко и убедительно, но казначейский чиновник уже понял все: рассказ его никуда не годится, никакого таланта у него нет, никогда он писателем не будет, а должен жить и умереть таким же убогим и ничтожным писцом, каким и был. Рухнули все мечты, которыми так долго жила душа его; за ними открылось плоское серое лицо правды, и с этого вечера Рысков как камень, чудом державшийся на краю обрыва, сорвался и неудержимо покатился вниз.
Он плохо понимал, что говорит Чиж, но сознавал одно, что совершенно напрасно с такой гордостью носил в кармане этот рассказ, с таким презрением посматривал на всех окружающих, не подозревавших, что среди них ходит великий человек!.. Сколько надежд, сколько дум и планов было пережито, и все это было ни к чему, совершенно глупо и смешно!
И с последним усилием, цепляясь за что-то, сам хорошенько не понимая за что, Рысков робко и глухо спросил:
— А вот вы похвалили то место…
Чиж покраснел. Ему стало стыдно, что давеча он так глупо и бесцельно смалодушничал. И вдруг он вспомнил, что и сам несчастен, что и его жизнь ужасна, что его самого сегодня тяжко обидели.
— Это я сказал так, из деликатности… — резко, точно вымещая на Рыскове, оборвал он, — а на самом деле и это так же плохо, как и все остальное… Нет, быть писателем — дело трудное… Не всякому дано!.. Бросьте вы эту музыку!..
Рысков низко опустил голову.
А маленький студент в непонятном раздражении схватил рукопись и, безжалостно трепля ее, стал читать вслух отдельные места, выяснять все их убожество, даже почти издеваться над ними.
Рыскову казалось, что маленький студент треплет в руках его собственное окровавленное сердце. Бледный и безмолвный, опустив длинное желтое лицо, слушал он, ничего не понимая. Теперь он сам видел, что все это безнадежно глупо и жалко, и каждое слово из собственного рассказа било его по лицу, как пощечина. Он только вздрагивал и ниже опускал голову.
А маленький студент уже увлекся. Он бросил рукопись Рыскова и забыл о ней. Говорил он уже о литературе вообще, говорил с любовью страстной и восторгом.
— Эх, батенька!.. Талант — это такая сила, такая красота!.. — кричал он и вдруг заметил, что с Рысковым делается что-то странное.
Маленький студент с размаху остановился и внимательно посмотрел на казначейского чиновника.
Длинное, совершенно бесцветное лицо его, прыщеватое и длинноволосое, было понуро и опускалось все ниже и ниже. Страшное отчаяние смотрело из маленьких, упорно устремленных вниз глаз. Руки судорожно теребили скатерть, точно цепляясь за что-то.
— Да чего вы так огорчились, черт возьми? — сказал Чиж, смутившись. — Неужели вы серьезно думали… Ну… разве только и свету, что в литературе? Не всем же быть писателями!.. Точно в жизни другого дела нет. Много хорошего и помимо литературы… Жизнь страшно богата, и каждый может сделать ее по-своему интересной. Нельзя же падать духом… странно, ей-Богу!.. Если бы я знал!..
Рысков поднял свое серое лицо, посмотрел на Чижа и тупо, даже как будто бы совершенно спокойно, сказал:
— Какая там… жизнь… для меня!
Маленький студент осекся опять.
Как будто увидав его в первый раз, он уставился на Рыскова, почему-то удивился, что у него так много прыщей, и вдруг понял, что и вправду все эти прекрасные слова о красоте и смысле жизни здесь совершенно неуместны. Какая красота, какой смысл для Рысковых?.. Хорошо гибнуть во имя жизни героям, ибо в геройстве гибели есть свое счастье, но медленно и незаметно гнить, чтобы удобрить почву будущего… кто смеет предложить это человеку?.. А между тем миллионы пошляков, ничтожеств и бездарностей так же необходимы для жизни, как и герои: не будь их тусклого, убогого и бессмысленного существования, не было бы и красоты!.. Из их трупиков герои и вожди складывают величавое здание!.. Они должны гнить, чтобы на их перегное ярче расцветали прекрасные цветы человеческого величия… И сколько их, рожденных для унавожения земли!.. Чем их вознаградить?.. Да, это — правда: жизнь громадна и прекрасна. Но она вовсе не для Рысковых.
С жалостью и стыдом Чиж посмотрел на Рыскова и вдруг, как бы со стороны, увидел и самого себя: голодного, холодного маленького студента, бездарного и заурядного, без смысла и радости копошащегося в навозе, чтобы зачем-то не умереть с голоду… Холодок прошел по душе Чижа, и он замолчал, растерянный и ошеломленный.
Рысков тоже молчал и упорно смотрел на скатерть. Синенькая тетрадка лежала перед ними, наивно развернувшись.
«За что? — подумал маленький студент горько. — Прекрасны таланты, могучи вожди, грандиозна борьба титанов, но ведь мы, маленькие, хотим быть прекрасными, могучими и талантливыми!.. Кто сделал между нами выбор, кто имел право именно меня и Рыскова употребить под фундамент великих?.. Глупая случайность?.. Но мы не хотим случайностей!»
Душно и тяжко стало маленькому студенту, что-то схватило его за горло.
И вдруг среди тишины раздался робкий и жадный голос:
— А много Сашеньке заплатят за это сочинение? Чиж вздрогнул и оглянулся.
Прямо на него смотрело длинное желтое лицо с тусклыми глазами, круглыми, бессмысленными и жадными, как у рыбы.
Она ничего не поняла.
Когда Рысков читал, она только умилялась тому, что ее Сашенька так много написал; когда говорил Чиж, она думала только, хорошо или худо для Сашеньки то, что он говорит…
Чиж с недоумением и каким-то страхом смотрел на нее. Эти глаза поразили его: все, о чем писал и мечтал ее сын, все, что было кругом и над нею, весь мир с его звездами, тайнами, величием и трагедией, все было бесконечно далеко от нее… А ведь и она была человеком. В этом была какая-то страшная бессмыслица. Одно существование такого человеческого лица было смертным приговором всей созданной человеком гармонии между его разумом и вселенной. Что-то тихо тронулось в мозгу Чижа, и, не в состоянии еще осмыслить этого движения, чувствуя только животный ужас перед этими тусклыми жадными рыбьими глазами, маленький студент порывисто вскочил с места. Рысков медленно поднялся тоже.
V
На дворе было темно и черно, как в могиле. Дождь недавно перестал, и дул порывистый сырой ветер. Невидимый, он налетал на Чижа, рвал его за полы шинельки, брызгал холодными каплями в лицо и толкал в грязь на углах улиц. В трех шагах ничего не было видно. Где-то далеко, у полицейского правления, блестел одинокий фонарь и только слепил глаза. Дома чуть белели во мраке, и по сторонам вырастали какие-то громадные черные призраки, бешено размахивающие лохматыми руками. Они как будто наклонялись над маленьким студентом, бежавшим в темноте, угрожающе размахивали над его головой и глухо шумели. А по крышам домов бегали невидимки и страшно гремели железом.
Городка не было видно. Перед глазами как будто натянулась какая-то черная пелена, и временами казалось, что они ослепли. Никаких признаков жизни не было кругом, и странно было думать, что везде люди, что всюду спят они, укрывшись стенами и потолками душных комнат от этой страшной, черной, дующей и шумящей ночи.
Чиж бежал домой и чувствовал себя таким одиноким, точно он был один на всей громадной поверхности черного земного шара. И в первый раз маленькому студенту представилось совершенно ясно, что он бежит не по чему-либо неподвижному, навеки укрепленному, а по какой-то невероятной громаде, со страшной быстротой бешено несущейся куда-то в пустоте и мраке бесконечности.
«А все-таки… страшно на земле!» — почему-то подумал он, стараясь удержаться среди порывов ветра на грязном, скользком тротуаре.
И неожиданно ему припомнилось, что сегодня утром он читал в газетах описание торжественной коронации английского короля…
Ветер, дождь и слякоть были кругом; под ногами неслась земная громада; вверху, черный и бесконечный, висел мрак… И с гало как-то странно: где-то там, в страшном далеко, что-то теперь движется, копошится, что-то делает, важно и торжественно… среди полного мрака, потому что трудно было представить себе, будто где-то светит солнце, есть маленькая освещенная точка, клочок земли, ограниченный и ничтожный… Там, как в театре марионеток, выступают крохотные фигурки короля, королевы, лордов и пэров, индийских раджей, правителей Австралии, Новой Зеландии, Канады, африканских колоний, идут еле приметные куколки в мишурных, затканных блестящими камешками одеждах, волоча малюсенькие шлейфики и изо всех сил задирая булавочные головки… Кукольные личики исполнены достоинства и сознания важности момента… Куколки делают чрезвычайно важное и большое дело: они сажают на крошечное креслице крошечного королика, в смешной, с ноготок, коронке!.. Там на карликах-колокольнях игрушечного аббатства неистово, но совершенно неслышно звонят игрушечные колокола, стреляют пушечки, толпится народец лилипутов, воображающих себя мировым народом!.. А кругом, здесь и везде на необъятном пространстве, царят вечный мрак и величавое непостижимое движение… Все это где-то есть, и уже сел на трончик маленький королик, но здесь ветер, дождь и слякоть, и это не имеет никакого отношения к королику… Земля крутится в пространстве, и ей нет дела ни до смешной церемонии лилипутов, ни до маленького студента, бегущего во мраке…
«Коронации… король Великобритании… Фу, как, в сущности, все это глупо! — машинально, с непонятной тоской думает Чиж, придерживая фуражку и скользя по грязи. — В конце концов, что же не глупо?.. И я — глупо, и… и не в этом дело!.. А в чем?.. Черт его знает, но страшно на земле!..»
Среди черной тьмы внимание маленького студента привлекли освещенные щели в ставнях домика, где жил корнет Краузе. Они блестели во мраке, как громадные тонкие огненные знаки. Чижу представилось, что там, в освещенной комнате, совершенно один сидит и о чем-то думает длинный нелепый корнет.
Должно быть, нервы Чижа сильно расходились в этот день: ему вдруг стало страшно, и это… вот, сидит там человек с белым лицом, на котором чернеют шевелящиеся косые брови… он о чем-то думает, что-то соображает. И по всей земле, в каждом уголке, в темноте или при свете, сидят сейчас миллионы таких же странных существ с белыми масками, сквозь прорези которых смотрит кто-то загадочный и всем чужой. Все они о чем-то думают, но Чиж никогда не узнает о чем… Из того, что думают эти загадочные существа, только бесконечно малая частица выражается словами и буквами, а остальное живет один миг и в тайну уходит навсегда…
— Тьфу, черт! — выругался в темноте Чиж, со странной боязнью вглядываясь в темную бездну, полную сырым ветром и шумом, со всех сторон окружившую его, маленького человека, куда-то бегущего во мраке.
VI
В квартире корнета Краузе горели две свечи. Были они расставлены несколько странно — на двух углах раскрытого ломберного столика, точно здесь только что играли в карты.
Сам корнет, прямой и длинный как жердь, сидел у столика, а Наумов ходил по комнате, и его взъерошенная тень быстро бегала по стенам. Он все время поворачивался боком к свету, и оттого был виден только его профиль с блестящим глазом. Это придавало ему жуткое и злое выражение.
— Я не понимаю вас, — холодно и высокомерно говорил корнет, — если вы сами находите возможным жить, то почему же не жить и всем остальным? Я согласен с вами, что жизнь вздор, но все равно… вы живете, хотя и понимаете, пусть живут, если не понимают.
Наумов посмотрел на него.
— Я!.. Я живу потому, что идея моя сильнее меня!
— Что вы хотите этим сказать?
— Я говорю, что я во власти своей идеи: я не могу умереть так просто, пока не скажу последнего слова, пока не сделаю всего, что от меня зависит, чтобы провести свою мысль в мир!.. Если бы мне просто тяжело жилось, если бы жизнь не удовлетворяла меня лично, но вообще казалась полной прекрасных возможностей, тогда — дело другое. Будьте уверены, что я раздумывал бы не более пяти минут!.. Огромное большинство людей, очень несчастных и решительно недовольных своей жизнью, именно потому и живет, что верит, будто жизнь сама по себе прекрасна… Им кажется, что это только им не везет, а раз жизнь полна прекрасных возможностей, то ведь может в одно прекрасное утро и повезти!.. Каждый думает, в конце концов, удачей или силой восторжествовать над злом и завоевать блага жизни. Этой глупенькой, ни на чем не основанной надеждишкой и живут… Всю жизнь страдают и жалуются; тонут в грязи и крови, но все живут и живут, уповая, что вот-вот, не нынче завтра, все переменится, и они попадут прямо в рай!..
— Да, это правда! — неожиданно и очень раздумчиво сказал корнет, видимо, что-то отмечая для себя.
Наумов, кажется, не обратил на его восклицание никакого внимания и продолжал, стремительно ходя из угла в угол:
— Так и умирают с надеждой на это завтра!.. И, может быть, в этой вечной надежде на лучшее завтра, в этой бессмысленной вере в жизнь, которая рано или поздно должна показать свое настоящее прекрасное лицо, и кроется разгадка мечтаний о бессмертии, о рае, о Боге воздающем!.. Ведь надо же, зная то наверное, что рано или поздно умрешь, оставить своей надежде лазейку и на последний миг: наступит же этот последний день, когда уже не на что будет надеяться здесь, на земле… и вот тут-то и появится этот новый завтрашний день где-то «там»… И даже не только день, а целая вечность!.. Ибо если мечтать — так уж мечтать вовсю: что день-вечность!.. Что такое прекрасное лицо жизни?.. (В конце концов — обманула же проклятая!..) А тут прямо — Вечный лик, Бог, рай!..
Наумов остановился, как бы что-то вспомнив.
— Да, я отвлекся!.. Вы спрашивали?.. Да!.. Я к тому, что если бы все дело было в том, что мне плохо живется, то я бы уж не стал утешаться сладкими надеждами на завтра, а прямо и очень мирно пустил бы себе пулю в лоб, даже не оставив завещания и приличной случаю записочки. Плюнул бы и на том успокоился!.. Но я не могу умереть, ибо не жизнь свою, а жизнь человеческую ненавижу, и пока этот враг мой жив, я не могу уйти!.. Я должен бороться с ним до последнего издыхания!.. Я буду кричать, головой о стену биться, звать и толкать…
— Толкать? — зачем-то переспросил Краузе с лицом, совершенно и даже до странности равнодушным.
Наумов быстро взглянул на него и остановился. Взгляд его как бы заострился, стараясь проникнуть в самую глубину души корнета. Но лицо Краузе было окончательно непроницаемо в своей высокомерной холодности. Можно было подумать, что его даже вовсе не интересует то, что говорит Наумов, а думает он о чем-то своем. Наумов смотрел долго и пристально. Потом чуть-чуть прищурился и нехорошо усмехнулся. Даже с наглостью усмехнулся, как бы и не желая скрывать цели своего разговора с Краузе.
— Конечно же! — вызывающим тоном сказал он. — У меня достаточно веры в свою идею и решительности, чтобы не испугаться быть и жестоким!.. Не дрогнет же у меня рука отправить на тот свет хоть одного из тех идиотов, которые, корчась от боли, вопиют — осанна тебе, жизнь прекрасная!.. Одним человеком меньше шаг вперед!..
— Но кто дал вам право принять на себя живую кровь? — холодно спросил корнет.
— Кто?.. Я сам!.. Я верю, и этого достаточно, чтобы, если и весь мир вопит осанну, крикнуть: будь ты проклят!.. Я выносил свою веру слезами и кровью, в подпольной борьбе за лучшее будущее, когда был так же глуп, как все!.. Эта идея впервые и пришла мне в голову, тогда еще, впрочем, смутно, когда я сидел в крепости, ожидая неизбежного смертного приговора… Она явилась внезапно, не как логический вывод, а только как предчувствие вывода. Когда я уже окончательно, всем существом своим понял, что все кончено и завтра меня повесят, я вдруг увидел, что вовсе не боюсь смерти… А до того страшно боялся. Смерть — да, казнь — да, ужас — да, но все это не важно! А что же важно?.. Я ходил из угла в угол по камере и думал… Никогда в жизни мой мозг не работал с такой страшной и отчетливой быстротой. Я чувствовал, что со мной происходит что-то особенное, что я отделяюсь от земли, становлюсь легким, как бы прозрачным, и оттого все чувства мои утоньшаются до крайнего предела. Я стал видеть и слышать, стал замечать то, на что прежде не обратил бы никакого внимания: глаз мой видел каждую мелочь и открывал в ней нечто, до сих пор скрытое от моего внимания… Помню, сначала внимание мое привлекла мертвая сухая муха на подоконнике. Должно быть, там была щель, куда проходил воздух, потому что мертвая муха все время ритмически шевелилась, точно хотела перевернуться на другой бок и не могла… Она решительно шевелилась, как живая, хотя была мертва и суха, как прошлогодний листок. Потом я увидел ворону на крыше соседнего крепостного корпуса… Мне только кусочек этой крыши да клочок белого неба и было видно… Я долго и упорно следил за нею… Смешная такая была птица: крыша покатая, в снегу, снег мягкий, а птица большая, неуклюжая… подпрыгнет, сядет на снег и торжественно съедет вниз, подпрыгнет, взберется наверх и опять съедет… и все это с таким важным, даже самоуверенным видом, точно Бог знает, какое великое дело делает!.. Черт его знает, но в ту минуту я и в мертвой мухе, и в глупой вороне видел что-то громадное… Потом я даже не мог вспомнить, что думал, когда следил за ними, но помню, что ход мысли был удивительно резок и глубок, и в нем вся жизнь оборачивалась ко мне другой стороной… Я смотрел на какую-то ворону, а тысячи мыслей, планов, догадок и соображений со страшной быстротой пронизывали мой мозг!.. Мне казалось, что он сделался как бы хрустальным, так что в нем не было уже ни одного темного, загадочного пятнышка… Мне казалось, что еще одна минута, и мне все откроется, я узнаю все начала и концы!.. Потом это прошло, было отупение и усталость страшная, но такого ужасного подъема я никогда больше не переживал. Я лег спать и спал очень долго, во сне видя себя то мертвой мухой, шевелящейся совершенно механически от какого-то непонятного движения, то глупой вороной, воображающей, что ей непременно надо куда-то взлететь… А когда проснулся, всем существом своим почувствовал, что старое во мне умерло, а родилось что-то новое. Я уже не думал о подвиге, о самопожертвовании, об успехе революции и торжестве пролетариата!.. Я видел только то, что завтра меня повесят, и я даже не узнаю, что из этого вышло. Я понял нелепость этого с ужасной яркостью и сразу оторвался от всего мира и стал один!.. А в одиночестве возненавидел в самом величайшем отвращении!.. Помню еще один момент: когда я вышел из крепости и стоял на мосту, который ведет к городу, я посмотрел кругом, и вдруг мне показалось, что это только так кажется, что я жив и на свободе, а на самом деле я умер, потому что меня повесили сегодня утром на намыленной веревке… Это было похоже на галлюцинацию, я даже явственно ощущал эту веревку вокруг своей шеи! И я стоял, широко открытыми глазами глядя на все, как бы уже со стороны… Все было так же: проходили пароходы по реке, голубело весеннее небо, зеленела первая травка на острове, шли и ехали люди с самыми обычными лицами, выражающими какой-то идиотский смысл… Особенно поразило меня их общее выражение радости весне, солнцу, теплу и зеленой траве!.. Они были даже как будто немного пьяны от радости!.. А то, что я умер, что меня сегодня отвратительно повесили в намыленной петле, что я пережил ужас предсмертной агонии, этого вовсе нигде не было!.. Смерть моя распылилась в солнечном свете, растаяла в радости жизни… я умер совершенно один!.. Умер я, а жизнь осталась такая же, как и была!.. Я не могу выразить той ненависти, которая потрясла меня с головы до ног… Я едва не бросился на людей, не стал кусаться, биться о землю и плакать!.. И тут же поклялся посвятить все силы свои на борьбу с этой проклятой и наглой жизнью, которая не хотела считаться с человеком!..
— И вы верите в успех своей борьбы? — спросил Краузе равнодушно.
— Нет!.. Я сам — нет!.. Но я все-таки верю, что раз в мозгу хотя бы одного человека зародилась какая-нибудь идея, она уже не может исчезнуть, ибо вошла в мир и должна дойти до конца!..
Краузе взглянул на него и странно пошевелил бровями.
Наумов помолчал, стоя на месте и покачиваясь с каблуков на носки и обратно. Его блестящие, как у маньяка, глаза пристально смотрели на огонь свечи, но как будто ничего не видели. Должно быть, взбудораженные воспоминаниями мысли судорожно и стремительно продолжали работать в его голове. Вдруг он засмеялся. Краузе вопросительно взглянул на него.
— Знаете, Краузе, когда во мне появилась эта идея, одно останавливало меня… именно то, о чем вы спрашиваете: могу ли я?.. Только еще глубже. Сознание своего ничтожества перед громадностью жизни угнетало меня, связывало, лишало сил!.. Я представлялся себе чем-то вроде песчинки, которая забунтовала против урагана, уносящего ее. Это было слишком смешно: песчинка и ураган!.. Мне необходимо было найти в себе силы, найти опору, поверить в громадность своего «Я» так, чтобы противопоставить его всей вселенной!.. Вселенной, мировой воле, Богу… что бы там ни был»!..
Я долго не мог найти и мучился сознанием, что я — пылинка, и больше ничего. А между тем я чувствовал, что это не так, что я не ничтожество, а Я!.. И однажды нашел забавную мысль!..
Краузе пошевелил бровями, но ничего не сказал. — Помню, я рассуждал как раз перед этим так: конечно, все, что есть, должно находиться в строгой и неразрывной связи, ибо если допустить хотя в одном месте разрыв, то это уже пустота, и тогда все рушится!.. Ибо тогда все — вздор, а вздора не может быть, потому что если все вздор, то тогда и вздора вовсе нет, а есть опять-таки гармония… гармония всеобщего вселенского вздора!.. Следовательно, все связано, все находится в зависимости одно от другого, и даже моя якобы свободная душа, моя воля, самые тайники моей мысли, все — только звенья одной неразрывной цепи. Толчок здесь должен отозваться на противоположном конце пространства и времени, ибо каждое звено тянет за собою всю цепь от обоих концов!.. Значит, если я проклинаю, мое проклятие просто вытекает из всего хода мировой необходимости, если благословляю — тоже!.. И если пущу себе пулю в лоб, то к этому притянет неразрывная цепь, и я не мог, именно я, и именно в этом месте, не пустить себе пули в лоб!.. Сначала это повергло меня в отчаяние, ибо обращало уже не то, что в раба Божия, а прямо в какого-то сверхъестественного автомата!.. Но тут же мне пришла в голову эта забавная мысль и очень меня утешила и развеселила: а если так, — подумал я, — то уже не пылинка и не ураган, а одно и то же!.. Я и вселенная, я и Бог, я и вечность, все равно между собою!.. Ибо если я только звено в неразрывной цепи мировой необходимости, то, значит, природа или Бог, что бы там ни было, не могла создать меня! Ведь не допустить же с их стороны ошибки или шалости? Это было бы уже чересчур нелепо и всякое уважение подорвало бы!.. Значит, я необходим, значит, как я не могу обойтись без вселенной, так и она не могла обойтись без меня. Я и мир со всеми его тайнами — равны!.. Нет тут ни верха, ни низа, ни малого, ни великого, ни песчинок, ни ураганов!.. Все равно, и мировой закон равен моему плевку, ибо если я не мог не плюнуть, то и он не мог обойтись без того, чтобы я не плюнул!.. Смешная мысль?.. Правда?..
Наумов спросил это с выражением явной насмешки.
— Нет, хотя вы и нарочно, но все-таки это очень любопытно, — сказал Краузе равнодушно и высокомерно.
Наумов засмеялся.
— Нет, это — вздор!.. Тут и ужас весь в том, что вздор, а этого вздора нельзя не принять!.. Что же это: человеческая логика не может не принять явного вздора?.. Тогда ведь и логика — вздор и разум — вздор?
— Да, — сказал корнет.
Наумов помолчал, пристально глядя на огонь свечи.
— А вы очень странный человек, Краузе! — другим тоном совершенно неожиданно сказал он. Краузе пошевелился и поднял брови.
— Я вас не понимаю… У вас есть что-то свое, но вы никогда не выскажетесь!.. И я думаю, что вы очень несчастный человек, Краузе… Только не могу понять, почему?.. На вид вы такой спокойный и даже равнодушный человек.
— У меня большая голова и маленькое сердце, — вдруг сказал корнет Краузе.
— Как? — удивленно переспросил Наумов.
— Большая голова и маленькое сердце, — спокойно и с достоинством повторил корнет, точно снисходя до желания Наумова еще раз услышать эту замечательную фразу. — Я все это думал, что вы… Только я не любил говорить… Вы слишком много говорите, по-моему!.. Мне не интересно столько говорить. Я тоже когда-то ненавидел, но теперь мне все равно… Пусть!.. Вздор?.. Пусть. Смысл и красота?.. Пусть!.. Пусть будет все, как есть… Мне все равно!.. Но когда-то я очень страдал от жизни и решил, что все страдания от слишком чувствительных человеческих чувств… Это я нескладно, но вы понимаете. И вот я решил вытравить в себе все чувства и выработать спокойствие ко всему. И я стал уничтожать в себе чувство и воспитывать спокойствие. Сначала было трудно, и все меня волновало… а потом стало все равно. Голова у меня стала расти, а сердце все меньше… Вы понимаете?.. И теперь у меня большая голова и совсем нет сердца. Я ничего не чувствую… Я думал, что так будет лучше, но вижу, что все равно… Просто стало пусто, но еще хуже: я умер, а все-таки живу… глупо!
Наумов смотрел на него заинтересованными, блестящими и даже жадными глазами.
— А вы когда-нибудь и в самом деле застрелитесь, Краузе! — сказал он вдруг с хищным выражением.
— Очень может быть, — равнодушно ответил корнет.
Наумов смотрел на него, не сводя глаз и как бы подстерегая каждое движение его лица.
Краузе, должно быть, неприятно почувствовал его взгляд. Он пошевелился беспокойно, переложил ногу на ногу и взглянул Наумову прямо в лицо. С минуту он только молча шевелил бровями, потом по его холодной, высокомерной физиономии что-то скользнуло — неожиданно хитрое и насмешливое.
— А знаете, — заговорил он очень медленно, с расстановкой, — вся ваша идея — вздор… и вы не верите в свою идею, а просто у вас громадное самолюбие, и вы готовы уничтожить мир только потому, что этого никто не смел еще думать, а вы посмели!..
По лицу Наумова скользнула какая-то судорога.
Краузе продолжал так же спокойно:
— Вам нравится говорить и думать, что вы смеете то, чего никто не смеет… Но это только слова!..
— Вы думаете? — со злобной иронией спросил Наумов.
— Я уверен… Только слова!.. А… а если бы вам пришлось привести эту мысль в исполнение, вы испугались бы и отказались бы от идеи.
— Вы думаете? — повторил Наумов, прищуриваясь.
— Да… Ну, вот если я спрошу вас: застрелиться ли мне?.. Тут, на ваших глазах?
Наумов нахмурился.
Ему показалось, что Краузе просто издевается над ним, и злоба вспыхнула в нем с потрясающей силой.
Это правда, что я долго и постоянно думал о самоубийстве, продолжал Краузе хладнокровно, — и вот я вас спрашиваю… действительно ли лучше застрелиться… Можете ли вы это сказать мне прямо, в глаза… Сейчас!
— Могу! — злобно ответил Наумов. — Прекрасно сделаете!
— Да?.. Хорошо… — сказал Краузе. Я сейчас… подождите…
Медленно и спокойно он опустил руку в карман рейтуз и вытащил, вытянул одну ногу, черный уродливый револьвер. Наумов криво улыбнулся и не двинулся с места. Он ни на одну минуту не поверил, что это серьезно, и чувствовал себя в глупом, смешном положении.
— Мальчишество, корнет! — сказал он с деланным спокойствием.
Краузе вдруг страшно побледнел и сжал зубы с такой силой, что скулы обозначились двумя острыми углами. В его спокойных холодных глазах засверкало настоящее внезапное бешенство.
— Я никогда не шучу! — сквозь зубы хрипло проговорил он, не сводя с Наумова такого острого ненавидящего взгляда, что инженеру показалось, будто корнет сошел с ума.
И вдруг сразу всем существом своим он понял, что Краузе не шутит. Холод прошел у него под волосами, но со страшным усилием над собою он остался неподвижен и наружно спокоен.
Краузе еще с минуту смотрел на него с тем же страшным непонятным бешенством. Они смотрели прямо в глаза друг другу, и эти два напряженные взгляда слились с такой силой, что все задрожало в обоих.
Но вдруг глаза Краузе потухли, брови опустились, он уронил судорожно сжатую, приподнятую с револьвером руку, встал и отвернулся к стене.
Наумов, все еще дрожа и бледнея, острым взглядом следил за каждым его движением. Потом нехорошо засмеялся.
— Так-то лучше! — сказал он злобно. — Спрячьте-ка вы свой револьвер и ложитесь спать… поздно!.. Да… многое легче сказать, чем сделать!
Краузе не ответил и стоял по-прежнему лицом к стене.
Наумов подождал, все так же злобно кривя губы, но, видя, что Краузе не обращает на него внимания, пожал плечами и стал одеваться.
— Пора домой, — сказал он. — До свиданья. Наумов надел пальто, шляпу, калоши, подошел к двери и отворил ее, но на пороге остановился, повернулся и сказал страшно медленно, мстительно отчеканивая каждое слово:
— А знаете, вы, может быть, и правы, но все-таки вы застрелитесь!.. Застрелитесь!.. Слышите? Рано или поздно, но вы застрелитесь… У вас такое лицо! До свиданья!.. Покойной ночи.
Краузе пошевелился, но не ответил.
Наумов, как будто весело и торжествующе засмеявшись, закрыл за собой дверь.
Слышно было, как денщик выпустил его на крыльцо. Волна свежего воздуха прошла по комнате. Свечи вспыхнули ярче, заметались и опять мертвенно вытянули свои желтые языки.
VII
Та же черная, волнующая и гудящая ночь встретила и охватила Наумова, как только он вышел на крыльцо.
Ветер бешено летал кругом и брызгал в лицо невидимыми каплями. Наумов ощупью спустился с крыльца и быстро пошел в темноте, ничего не видя кругом, кроме смутных силуэтов деревьев, бешено размахивающих головами.
Перед ним все еще стояло длинное белое лицо с косыми бровями.
«Идиот», — с непонятной злобой думал Наумов. Ноги его сами собой шли по грязи, ветер налетал словно всех сторон, но Наумов не замечал ничего. Голова его горела, сердце билось тревожно. Теперь он был убежден, что Краузе и сам не знал в ту минуту, шутит или нет. Это был волосок, на котором висела человеческая жизнь. Одного слова, одного движениям — например, если бы Наумов поверил и кинулся отнимать револьвер, — было бы достаточно, чтобы волосок порвался и Краузе выстрелил. И еще стало ему ясно, неопровержимо ясно, что Краузе застрелится, может быть, даже в эту же ночь.
«На этом человеке и в самом деле — печать смерти… Прирожденный самоубийца… Большая голова и маленькое сердце!.. Может быть, маленькая голова и слишком большое сердце!..» — подумал Наумов и язвительно улыбнулся в темноте.
Он сам замечал, что думает о Краузе с мстительной ненавистью, что ему хочется, чтобы нелепый корнет и в самом деле застрелился в эту же ночь. Наумов слишком хорошо знал, что Краузе поднял край завесы, за которой была его подлинная душа и которой он сам не смел поднять. Да, это так!.. В нем два человека: один верит в свою идею с упорством фанатика, хочет уничтожения и смерти, другой боится ее, задыхается от злобы, мстит всему за свою собственную трусость и свое собственное отчаяние. Даже в эту минуту, когда он подумал, что, может быть, как раз сейчас нелепый корнет приставляет револьвер к виску, он едва не побежал назад.
Но это было одно мгновение, в следующее Наумов высоко поднял воротник, нахлобучил шапку на глаза и быстро зашагал дальше.
Ему хотелось одного: хотя бы крошечного торжества своей мысли и власти. Если бы он мог, сам вложил бы револьвер в руку корнета, первой жертвы своей исступленной мысли и безграничного самолюбия.
При мысли, что Краузе умрет, и в этом виноват он, смутное торжество поднималось в груди Наумова. Он уже видел перед собою всех людей… Миллионы несчастных и глупых существ, которые еще не знают, кто народился среди/них и здесь, во мраке, идет неведомый, но страшный! Наумов, казалось, чувствовал, как вырастает, как черной тенью встает над спящей землей. Минутами ясно до болезненности было ощущение своей громадности, и с горделивой злобой становилось жутко от нее. Он смотрел во тьму и как бы видел в ней чье-то благое и величавое лицо, перед которым вставал с вызовом и насмешкой.
— Подлинно ли Ты сильнее меня? — спрашивал он, усмехаясь бестрепетно и зло, и сам чувствовал странность того, что, не веря в Бога, говорит с Ним.
Как будто бы откуда-то сверху он увидел, что мрак ночной кишит людьми: сидят и мыслят великие умы, красивые женщины в сладости зачатия новой жизни отдаются мужчинам, работают на благо будущего миллиарды суровых рук, пишутся гениальные книги, создаются статуи и здания… Колесо человеческой жизни, смазанное кровью, со скрипом и стоном вертится во весь мах, опоясывая землю!.. Жизнь кипит и, кажется, будет вечно кипеть… Но в ней есть некто, во мраке идущий, он, Наумов, одним восставший на нее!.. Он несет свою великую страшную мысль, и она не умрет уже, не может умереть!.. Если бы они знали, что делается в душе этого человека, с каким ужасом и визгом разбежались бы прекрасные женщины, как всплеснули бы руками мудрые мужи, с какой поспешностью кинулись убивать, уничтожать его!..
«Идиоты! — злобно думал Наумов. — И услышат — не поймут!.. Будут рассматривать как курьез, как манию величия, будут изучать, оспаривать, высмеивать… И сами понесут мою мысль в будущее, где когда-то встанет она, грозная и зловещая, во весь рост, как конь блед!..»
Тьма была перед ним, и размах его мысли долетал до темного будущего, пролетая через головы поколений… Там, в тумане, ему мерещилось бледное море исступленных лиц, вздымающихся рук, крови и слез… И над этим туманным морем, как смерч, вставал величаво трагический образ великого пророка, принесшего избавление исстрадавшемуся в тщетной борьбе миру!.. Это — он, Наумов!..
Это было похоже на безумие, и если бы кто-либо во тьме ночной увидел лицо Наумова, в ужасе отпрянул бы от него: таким сумасшедшим восторгом, такой безумной гордостью, неодолимой решимостью и злобой сверкали глаза фанатика на бледной маске с оскаленными в искривленной усмешке зубами.
У себя в номере плохой, хотя и лучшей в городе гостиницы, где в коридоре чадила керосиновая лампочка и спал швейцар, Наумов зажег свечу, сел за стол и стал писать.
VIII
Краузе стоял неподвижно, пока не хлопнула дверь за Наумовым и протопал тяжелыми сапожищами в свою каморку солдат-денщик, потом медленно оглянул комнату. И это лицо испугало бы робкого: это была длинная белая, совершенно картонная маска с наклеенными косыми бровями, сквозь прорези которой смотрели чьи-то живые глаза, со страшным напряжением оглядывавшие комнату.
Точно кто-то чужой, замаскированный корнетом Краузе, тайно вошел в его странную комнату с ее пестрым ковром, блестящим оружием на стенах, таинственной шейкой виолончели в углу и двумя свечами на столе, за которым, казалось, только что шла последняя игра… Вошел в отсутствие хозяина и медленно, пристально и безмолвно изучает в ней каждую мелочь, замышляя недоброе.
Длинная нелепая фигура корнета двигалась по комнате. Было тихо, страшно тихо, и казалось, что в глубоком молчании среди ночи под тоскливо монотонный шум дождя за стенами, в полном одиночестве совершается какой-то странный и жуткий ритуал.
Краузе что-то делал, что-то переставлял, неслышно двигаясь взад и вперед, сопровождаемый черной тенью на стене, — тенью, стерегущей и повторяющей каждое его движение.
Где-то, должно быть, жили люди, смеялись, говорили, пели, смотрели на живые лица друг друга. Здесь, точно в глубине своей души, совершенно один, в глубоком молчании думал о чем-то корнет Краузе.
Не было во всем мире человека, который в эту минуту вспомнил бы о нем, но он думал обо всех. Холодно и жестоко, точно разрезая анатомический препарат с целью найти истину и проверить какой-то решительный опыт, Краузе вспоминал каждого человека, пристально вглядывался в его лицо и холодно забывал. Ничего, что бы пробудило в нем светлую искорку. Пусто и холодно было в его душе, как в ледяной могиле.
И было при этом у корнета Краузе отчетливое представление, что сердце у него и в самом деле маленькое, а голова громадна. Так громадна, что наполняет всю комнату, давит на сердце, на стены, на потолок, гасит свечи, душит, выходит за пределы комнаты, и вот… среди мрака ночи, горя светом изнутри, стоит эта чудовищная голова на пустой и черной земле. Стоит и смотрит.
Медленно поворачиваются страшные, все видящие мертвые глаза, и все, на что смотрят они, умирает, распадается в прах.
Становится очевидно, что в мире существует только она одна — громадная голова корнета Краузе, а кроме нее нет ничего. Она закроет глаза, и все исчезнет.
Этот странный кошмар продолжался минуты две-три. Краузе стоял посреди комнаты и молчал. Потом тихо шевельнулся опять.
Дождь усиленно зашумел за стеной. Корнет взял виолончель, выдвинул на середину комнаты стул, сел и начал играть.
Долго и странно пела виолончель ровным торжественным голосом. В кухне проснулся денщик и подумал, что его благородие опять зачудил! Дождь шумел, и было что-то общее в его непрестанном шорохе, которому, казалось, нет конца, и ровном торжественном голосе виолончели.
Краузе смотрел в угол, не сводя глаз с какой-то, ему одному видимой точки. Косые брови не двигались, длинное лицо стояло, как маска. В душе была пустота, и казалось, что оттого так неподвижно лицо и так застыли глаза, что из угла на него смотрит другое такое же непонятное и неподвижное лицо — лицо смерти.
Виолончель пела, шумел дождь. Два голоса сливались в тягучую жуткую мелодию. Было страшно от этих торжественных звуков пустоты.
Виолончель замолкла. Краузе сейчас же встал и аккуратно поставил ее в угол. Потом потушил свечи на столе и зажег одну возле кровати, в спальне. Черная тень украдкой выбралась из темной комнаты за ним в спальню и села на кровать за его спиной. Краузе стал раздеваться.
Сняв сапоги, он несколько минут неподвижно сидел и смотрел на огонек свечи. Желтое пламя горело ровно и светло, но вдруг стало колебаться, расплываться, обратилось в сверкающий оранжевый круг… Краузе медленно перевел глаза на длинную серую шинель, висевшую в углу на гвоздике. Она висела неподвижно, пустая и серая. Но только что взгляд его сосредоточился, как длинная серая штука заколебалась, стала стягиваться… и растягиваться… Краузе отвернулся и лег. С минуту он лежал неподвижно и тихо шевелил бровями, как бы в недоумении. Потом потушил свечу.
Мгновенно налетел мрак, и скрылось длинное лицо с косыми бровями, и от него скрылось все. В темноте страшно было слышно, как дождь шумит; точно он вдруг подошел к окну и затянул свой могильный шепот настойчиво, в самое ухо. Жуткие тени ходили по комнате. Все мертвые тени… Они озабоченно и суетливо ходят в темноте, что-то делают, сходятся и расходятся, подходят к корнету Краузе, наклоняются над ним и опять отходят. В трех углах, видных Краузе, неподвижно стоят черные и высокие, до самого потолка.
Знакомые лица плавают в черном тумане перед широко открытыми невидящими глазами Краузе. Внимательно и серьезно он всматривается в них.
Да, все они существуют, живут, страдают, радуются… Они — живые! Что это значит — живые?.. Они думают, что видят солнце, ощущают его светлую благодать, думают, что мыслят, любят друг друга, делают множество больших и малых дел… Но все это потому, что их заключили во время, и вне его они не могут мыслить и чувствовать. Они не принимают вечности, которая есть пустота и мрак… Время это только биение их сердца… заставь замолчать сердце, и время исчезнет, наступит вечность, а с нею абсолютная пустота. Если времени не будет — и ничего не будет!..
Вот в темноте перед корнетом Краузе мелькают светлые точки, мерещатся какие-то тени, кто-то стоит по углам… но ничего этого нет! Мир не населен этими загадочными существами, они только мерцание от сетчатой оболочки. Вот слышатся какие-то звуки, шепот и долгий тоскливый звон, вытягивающийся в тоскливую бесконечную мелодию… но звуков нет никаких, это просто дрожание нервов барабанной перепонки самого корнета Краузе. А может быть, напротив, вселенная полна непрерывным ужасающим ураганом звуков: темные колоссальные массы планет с неведомой силой, гулом и свистом режут пространство… но их не слышит и никогда не услышит корнет Краузе, потому что ухо его не воспринимает больше или меньше известного числа колебаний… Бьется его сердце и вот — время; организм меряет его ударами артерий… Можно остановить его…
— Я уже думал об этом! Корнет Краузе тоскливо пошевелился. Ну, да… вот стоит огромная голова корнета Краузе. В ней живет и страдает разум, его разум… В нем его несчастие и его боль!.. Отнимите разум, и Краузе оторвется от мира, уйдет в странный, в фантастический мирок, одному ему видимый и понятный, и вселенная всей своей громадой не в состоянии будет обратить на себя его внимание. Но разум Краузе — только его разум!.. Это строение клеточек только его мозга!.. Случайно разрушилась или случайно сохранилась, случайно просто недоразвилась одна клеточка, и вот — разум другой!.. Весь мир представляется другим!.. Исчезнет грань между умным и глупым, между здравым и сумасшедшим. Может быть, он, корнет Краузе, мудрейший из людей, может быть — самый глупый. Этого никто не знает, потому что этого и нет; нет ни разума, ни глупости, есть только строение мозга, и оно — закон для того, кто им владеет. И когда весь мир скажет, что на основании того или другого Краузе — идиот, Краузе может ответить: это потому, что клеточки вашего мозга сложились не так, как у меня… Для вас разумно то, что аккуратно укладывается в ваши клеточки, но почем вы знаете, что та клеточка, которая у меня есть или которой нет у вас, — не важна?.. Может быть, именно в ней и заключается истина? И тогда вся ваша логика, вся стройная система ваших умозаключений, все доказательства моего безумия только потому кажутся вам неопровержимыми и торжествующими, что они ровно укладываются во все клетки вашего мозга, а среди них есть лишняя или нет необходимой!.. И с вами согласятся и назовут Краузе идиотом вовсе не потому, что логика ваша неопровержима по существу, а потому, что в мозгу слушающих вас — те же клеточки, что и у вас, и ваша логика аккуратно разместилась в них. А тогда и разума вашего нет!.. Он — вздор, как сказал Наумов… Допустите хоть на минуту, хоть на одну малую секунду, что это возможно, и уже все рассыплется прахом, потому что все, в чем возможно сомнение, — уж не истина!.. Это — только вопрос, а к кому пойдете за ответом?..
Краузе опять пошевелился. Мысли летели у него в голове с бешеной быстротой. Казалось, что у него не мозг, а какой-то раскаленный крутящийся шар.
Опять выступили из мрака знакомые лица, и холодно, без гнева и сочувствия, вглядывался в них корнет Краузе.
Они думают, что живут, а их нет вовсе!.. Вечность не имеет измерений, а существует только то, что измеряется. Вечность и бесконечность съедают и распыляют даже время и пространство… В этом черном провале нет ничего!.. Есть страшная загадка, но она никогда не будет известна людям, потому что вес, что они увидят, услышат, помыслят и почувствуют, будет не то, что есть на самом деле, а только продукт устройства их воспринимающих и перерабатывающих органов. Сколько органов, столько возможностей… У собаки другие органы, и весь мир для нее другой… Может быть, деревья ей кажутся розовыми, а звуки — бегающими волчками. Ничего нет, кроме вечности и бесконечности, а в них нет определенного места, которое мог бы занять человек.
И потому не жаль и не нужно ничего. Ни солнца, ни любви, ни людей, ни разума, ни жизни… Все это есть я, и изменяется, и появляется, и исчезает вместе со мною…
Незачем страдать о судьбах мира, незачем хранить его, незачем разрушать… И разрушающие, и созидающие могут созидать и разрушать только свой мир, а настоящий — неизмеримо громадный, вечный и бесконечный мир — вне их!
Люди? Человечество?.. Что в них!..
Вот проходят мимо призраки ненавидимых и любимых… ни ненависти, ни любви уже нет к ним у корнета Краузе… Вот девушка, которую он любил больше всего на свете, от любви к которой рвалась на части его душа… он ждал се, задыхаясь от любовной тоски в весенних садах, в каждой складочке ее платья видел чистоту и красоту, каждому движению тела и души ее умилялся до слез… Но она умерла, и любовь исчезла без следа: она не создала нового солнца, не озарила мир, не осталась жить… След ее, в виде тоненькой болезненной черточки, остался только в душе самого корнета Краузе… Зачем же любовь?.. Перед любовью должен быть восторг, а восторга не может вызвать крошечная саднящая ранка в сердце одного человека!..
Были люди, которых корнет Краузе ненавидел, но они где-то затерялись, и ненависть растаяла в воздухе… Зачем трудиться ненавидеть и страдать, когда достаточно просто забыть?
Смерть!.. Вот выдвигается из тьмы черный гроб… Допустим, что это-гроб корнета Краузе, который застрелился оттого, что у него была слишком большая голова и слишком маленькое сердце…
Веют черные перья катафалка, медленно ползет гроб, звенит мерным строем эскадрон и блестят звонкие трубы… Печально и торжественно поет погребальная музыка, идут люди с печальными лицами… Потом яма, гроба нет, и за оградой кладбища, как на похоронах адъютанта Августова, убитого Арбузовым, — на похоронах, которыми распоряжался корнет Краузе, с треском, сухо и коротко, разрываются прощальные залпы…
Краузе недоуменно пошевелил бровями.
Вот умрет корнет Краузе, никогда уже не увидит солнца, не услышит живых голосов, не узнает, как жалели его люди… А самому ему жаль? Нет.
Солнце?.. Он, корнет Краузе, двадцать семь лет смотрел на это солнце, и оно надоело ему. Жизнь?.. Она доставила ему столько страдания, а когда исчезли страдания, превратилась в пустоту и бессмыслицу. Люди?.. У них были не те клеточки мозга, которые у корнета Краузе, они не понимали его, а он не понимал их… Вся жизнь только в том и состояла, что они старались понять друг друга в любви, разуме, чувствах и страданиях!.. Ничего они ему не дали, ничего не объяснили, в муках и сомнениях не могли поддержать… И, умирая, он должен умереть один: пуля, которая пронижет его мозг, не коснется их голов… Разрушатся его клеточки, их — останутся… Он жил и умирает один.
Умирает?.. Да.
Нет страданий, но все ни к чему: ни к чему начинать новые дни, ни к чему одеваться, ни к чему пить и есть, ни к чему говорить, ни к чему думать… Не то, чтобы опротивело все, а просто вот именно так — ни к чему.
Сейчас закроется черная форточка, и наступит, наконец, мрак.
Знает ли кто-нибудь, что в руках Краузе револьвер?.. Во тьме даже сам он не видит… есть он или его нет, в конце концов?
Что-то холодное прикоснулось к виску. Память Краузе рисует черное дуло… чувствуется, как сморщилась под стальной тяжестью тонкая кожица виска. Еще одно движение, еще…
Страшная темная тень, похожая на громадную руку, с невероятной быстротой пронеслась во тьме и остановилась над корнетом Краузе. Чудовищные скрюченные пальцы поднялись и ждут… Маленький Краузе с крошечным револьверчиком в руке прижимает дуло к малюсенькому височку, а над ним громадная, весь мир сжимающая рука с черными пальцами, искривленными в мертвой жадности… Мрак и холод поднимаются откуда-то снизу, отделяют его от мира, пустота и ужас кругом… Сейчас он исчезнет, растворится в этой пустоте, во мраке, и ужели…
Вот она… смерть!..
— О-о! — дико и пронзительно закричал корнет Краузе.
С тяжелым топотом сапожиц и со свечкой в руке, колебля по стенам пятна желтого света и разгоняя уродливые тени, которые в страхе разбежались по углам, как жадная шайка трусливых убийц, прибежал из кухни солдат-денщик.
— Ваше благородие!
Длинный, в одном белье, с безумным лицом и выпученными глазами, над которыми в диком изумлении вздернулись косые брови, корнет Краузе стоял посреди комнаты и смотрел на испуганную рожу добродушного солдата.
— Ваше благородие!.. Да, ваше бла…
Корнет молчал и в упор, точно разглядывая с непонятной ненавистью, смотрел прямо в глаза денщику. В руке у него был револьвер, и рука эта куда-то дергалась, как в судороге. С минуту они смотрели друг на друга. Свеча колебалась в руке солдата, и желтый свет мрачно кидался из угла в угол. Вдруг солдат не выдержал, охнул, повернулся и кинулся бежать.
Ему показалось, что его благородие гонится за ним. Дикий, тупой ужас объял его темный мозг. В эту минуту ему почудилось, что это вовсе и не их благородие, а кто-то страшный и непонятный… черт!..
В кабинете он налетел на стол, ухватился за него, чуть не выронил свечу и заголосил:
— Ой, батюшки! Шо ж це таке?.. Ратуйте!..
Но из дверей спальни показалась важная, высокомерная фигура корнета Краузе, смешная потому, что в одном белье. Он холодно посмотрел на денщика и недоумевающе пошевелил бровями.
— Давай одеваться, — спокойно сказал он. На дворе уже посерело. В щели ставней тоненькими полосками заглядывало осеннее утро.
IX
Поле, холод и серый свет.
Дождь перестал, но от высоких белых туч тяжело и холодно тянуло сыростью, и чувствовалось, что вот-вот польет опять, серой зыбкой пеленой затянет поля и будет лить без конца весь день и долгую темную ночь. Все будет пусто в поле, тьма и холод одни будут в нем, и никем не зримый, никому не нужный, с тихим шепотом будет лить и лить дождь.
Под необъятным белым небом, посреди необозримого серого поля странной кучкой, маленькие и одинокие, неровной цепью вытянулись солдаты. Далеко впереди крохотными кружочками пестрели мишени, и желтые мгновенные огоньки с сухим треском перебегали с одного конца цепи на другой. Отрывисто, с отдачей, щелкали сухие выстрелы, и с коротким певучим свистом сочно хлопали пули по далеким мишеням. Иногда коротко и уныло пела отбой медная труба, и тогда на валу, далеко, показывались крошечные махальные и кланялись красными флажками, показывая число попавших пуль.
Корнет Краузе, длинный и серый, путаясь в полах кавалерийской шинели, шагал прямо по сырому полю, и странно отчетливо маячила его серая с серебром офицерская фигурка посреди необъятного ветреного поля. Холодный осенний ветер задувал полы шинели и шумел в ушах.
Краузе смотрел прямо перед собою и недоуменно шевелил тонкими бровями, точно усиливался найти что-то и не мог.
Он ушел далеко от стрельбы, и отсюда нельзя было разобрать лиц солдат, а лошади их казались игрушечными лошадками, зачем-то расставленными по пустому полю. Видно было, как Тренев, которого можно было узнать по офицерской шинели, озабоченно ходил взад и вперед по линии огня. Красными точками мелькали флажки махальных, и еще дальше, чуть видные, стояли на лошадях одинокие сторожевые солдаты.
Пережитая ночь стояла в голове корнета Краузе.
Было ужасно, что мысль, доведенная до конца, — мысль, которой, как казалось, уже ничего нельзя было противопоставить, бессильно отступила в последнюю минуту. Жизнь — ни к чему, смерть — не страшна, а та сотая доля секунды, которая должна пройти между нажатием курка и концом, оказалась неодолимой. Животный ужас оказался сильнее всего, все разбилось, как карточный домик… Он испугался!
Ясно и твердо смотрели холодные глаза, неуклонно работал мозг, вся воля устремилась в одну сторону, а силы не хватало перешагнуть почти незаметную последнюю черту.
Значит, во всем была какая-то ошибка. Значит, жизнь была драгоценностью!.. Пустая, ненужная, полная очевидного бессмыслия, она оказалась дороже своего внутреннего «я», и оно смирилось, трусливо завопило и зубами уцепилось за эту, им же проклятую жизнь!
Но не может же быть, чтобы это была только гаденькая животная трусость!.. Значит, не было настоящей веры в необходимость смерти… Да, все надо передумать сначала, найти то ничтожное, но самое главное, что он выпустил из виду.
Краузе длинными ногами шагал по сырому вязкому полю, наступая на щетинки давно скошенной и загнившей травы. Ветер мешал ему идти, шинель путалась вокруг ног, в ушах шумел беспокойный, куда-то несущийся воздух.
На маленьком глинистом бугорке, похожем на чью-то заброшенную посреди степи могилку, чернело обугленное пятно давнего костра. Полусгоревшие палочки и стебли сухого бурьяна еще лежали правильным кругом, черными, седыми от золы концами внутрь. Краузе остановился, внимательно и серьезно осмотрел это место, потом машинально сгреб носком сапога оставшееся топливо, устроил крошечный костерик и поджег.
Весело вспыхнула сухая бумага, затрещали соломинки, закурились отсыревшие палочки. Одну минуту казалось, что костер потухнет, но снизу, вокруг толстой палки, упорно стал виться и хитрить жадный жестокий огонек. То падая, то поднимаясь, выбрасывая желтые змейки и серый дымок, пугливо прижимаясь к земле при приближении ветра, костер загорелся.
Краузе, широко расставив длинные ноги, стоял возле и внимательно смотрел.
Вьется и хитрит жадный, жестокий огонек… корчатся пожираемые сучья… Нужно или не нужно их жечь огню?.. Нужно, потому что в этом — его жизнь. Откуда он пришел?.. Сучьям больно… они сгорят, и огонек умрет. Почему же он так торопится?.. Не может: закон породил его таким… Он живой и жестокий, ему все равно, — дай пищу — и разовьется в страшное, всепожирающее пламя, которое может сжечь весь земной шар… Может сжечь, но никогда не восторжествует, потому что в последнюю минуту, когда догорит последняя щепка, умрет и огонь… Побеждая, погибает!.. Догорит, и останется пустое место… Одно не существует без другого и не может оторваться!.. И жизнь, и смерть не могут быть отдельно… Смерть побеждает, но, победив, исчезает сама, ибо ужас смерти есть только до тех пор, пока есть жизнь!
— Ну, конечно!
Краузе холодно усмехнулся и отошел.
Только и всего: если бы не было этого ужаса, не было бы и самой смерти… Если бы не драгоценность, не было бы и нужды разбить!.. Ужас будет, его не может не быть, но его надо преодолеть, надо перехитрить…
Как?.. Не во мраке, где ужас царствует, где он неодолим, — надо собрать вокруг себя жизнь, живые лица, шум… Люди ничего не дали ему в жизни, но зато они помогут ему умереть!..
— Так! — сказал сам себе Краузе.
Чмокая копытами по сырой земле, на большой рыжей кобыле подъезжал к нему Тренев. Стрельба кончилась, и видно было, как построенный эскадрон, медленно вытягиваясь, сворачивает на дорогу к городу.
— Краузе, домой! — еще издали кричал Тренев и странными глазами смотрел на корнета и его нелепый костерик. — Что вы тут делаете?
В последнее время он все присматривался к корнету: эти дни Краузе был какой-то странный. А сегодня утром денщик его прибежал к Треневу и рассказал, путаясь и чего-то боясь, о том, что случилось ночью. Мысль, что Краузе сходит с ума, болезненно шевельнулась в голове Тренева.
— Что вы тут делаете? — повторил он, останавливаясь возле корнета и осторожно махая солдату, чтобы он подъезжал с лошадью Краузе.
— Ничего, — ответил Краузе, — вот костер…
— Зачем?
— Так… — недоуменно пожал плечами корнет. Тренев покачал головой.
— Знаете, что я вам скажу… вид-то у вас неважный!.. Взяли бы вы отпуск, да поехали отдохнуть… Хотите, я скажу Давидычу, — приглядываясь к длинному серому лицу и непонятно прозрачным глазам, сказал он.
Краузе внимательно выслушал, кивнул головой с очень важным и серьезным видом. Потом неожиданно приложил руку к козырьку, отошел к своей лошади, поднялся на седло и рысью поехал догонять эскадрон.
Тренев в недоумении затрясся за ним.
«Надо доложить Давидычу!» — подумал он о полковом командире.
А Краузе ехал все скорее и скорее, переходя в галоп, холодно и торжествующе улыбаясь сам себе. Он все понял и нашел то, что ему было нужно.
Х
Слезая с лошади у крыльца своего дома, Тренев беспокойно посмотрел в окна. Возвращаясь домой, он никогда не знал, как встретит его жена, и мучительно боялся увидеть ее холодное, злое лицо с прозрачными, затаившими нудную женскую месть глазами. Только убедившись, что она спокойна и ласкова, он становился весел и развязен сам. При этом он сознавал, что похож на собаку, которая, робко поджав хвост, подходит к хозяину и, убедившись, что ее не бьют, вдруг приходит в неистовый восторг, начинает скакать, припадать к земле и визжать от радости. Это было унизительно, и, может быть, в эти минуты он больше ненавидел жену, чем во время самых ужасных ссор.
Но потребность ее ласки так глубоко вошла в душу и тело его, что он уже не мог жить без нее. Эта ласка была нужна ему как воздух; только в ее тепле душа его становилась живой и деятельной, а потому он готов был на все, лишь бы она всегда была ласкова, лишь бы каждую минуту и секунду не переставая ощущалась ее близость.
А она, замечая его ищущий взгляд, думала, будто он боится ее, что это — не любовь, а только страх, оскорблялась, точно он считал ее каким-то тираном, и презирала его за это. Отсюда вытекало напряженное, неестественное отношение друг к другу и ссоры без конца. И чем глубже была любовь, чем неразрывнее их тела и души, тем тяжелее связь. Они задыхались в ней оба.
— Где барыня? — спросил Тренев у денщика, принявшего от него шапку и пальто.
— Так что по хозяйству занимаются, — успокоительно ответил хитрый хохол, отлично понимавший все, что происходило в доме, и жалевший барина.
Треневу было мучительно стыдно, что солдат как бы успокаивает его, но все-таки он вздохнул легче и, позванивая шпорами, беззаботно прошел в комнаты.
Как раз накануне вечером они поссорились совершенно неожиданно во время какого-то пустого разговора только потому, что им слишком было мучительно расходиться даже в пустяках. Была ужасная, безобразная сцена — одна из тех сцен, когда Треневу хотелось биться головой о стену, пустить себе пулю в лоб, убить жену…
Потом, поздно ночью, произошло обычное примирение. Все ссоры кончались тем, что они мирились, измучив и истерзав друг друга до полного изнеможения. И унизительно было то, что примирение должно было произойти во что бы то ни стало: как бы они ни оскорбили друг друга, как бы ни унизили, как бы ни возненавидели, но должны были примириться, ибо иначе нельзя было лечь в одну кровать, а это казалось уже разрывом, при мысли о котором у обоих леденело сердце.
И Тренев просил прощения, в чем-то уверял, унижался, плакал и готов был на все, лишь бы кончилась эта мука, лишь бы, хотя бы и оплеванным и гадким самому себе, но успокоиться. Он больше любил, чем жена, а потому и страдал больше, с большим ужасом думал о разрыве и первый шел на уступки. Она же чувствовала свою власть, и это давало ей силы до конца издеваться над ним, вымещать все самым упорным и жестоким образом.
Тренев несколько раз подходил к жене, но она отталкивала его, прятала в подушку мокрое от слез лицо и упрямо, с такой злобой, точно перед нею был ее лютейший враг, повторяла:
— Оставь меня!.. Уйди вон!.. Чего тебе нужно от меня, идиот!..
Тренев, в рубашке и рейтузах, ходил взад и вперед по комнате, сжимал кулаки и чувствовал, что сходит с ума. Лицо у него опухло, усы повисли и растрепались. Он был жалок и безобразен.
По временам такая страшная злоба охватывала его, что Тренев стремительно подходил к лежащей жене, бешено смотрел на ее мягкую полуобнаженную спину и испытывал неодолимое желание ударить изо всей силы. В голове у него уже поднимался туман, кулаки сжимались, он чувствовал, что еще минута — и он полетит в какую-то бездну, откуда уже не будет возврата… Он схватывался за голову и отходил прочь почти со стоном.
— Это невозможно!.. Что же это такое!.. Лучше уж смерть!.. Лучше разойтись!..
— Пожалуйста, я только этого и хочу!.. Если бы ты не был такой тряпкой, ты бы давно ушел, а не мучил меня! — презрительно ответила жена.
Она постоянно говорила это, и всегда эта фраза приводила его в мучительное бешенство. Он прекрасно чувствовал, что это говорится нарочно, именно для того, чтобы помучить его, но они так сжились, что даже самые слова эти были ему невыносимы до безумия. И при этом нелепая сумасшедшая ревность охватывала его: сначала было просто ударом в сердце, что она, такая любимая и близкая, может так просто и спокойно говорить о разрыве, когда он без ужаса и подумать о нем не может, а потом вдруг представлялось, что они уже чужие люди, что она забудет о нем, полюбит другого, будет ласкать, как ласкала его… Омерзительные картины цинично представлялись ему, он видел все движения ее тела в объятиях кого-то другого и готов был действительно убить ее.
Моментами странная усталость охватывала его. Треневу становилось все равно: казалось, что ссора никогда не кончится, что он сойдет с ума от этой невыносимой пытки. И в полном изнеможении он начинал с мучительным наслаждением думать о том, что она ведь может же умереть… Ее не будет тогда совсем, не будет ревности, а он будет свободен, как ветер!.. Он, конечно, сохранит о ней самую благоговейную память и никогда уже не полюбит так, но как легко будет дышать!..
Но когда это будет?.. Она моложе его… может быть, он сам умрет раньше… А тогда что?..
Как страшно и тяжко станет ей одной!.. Как она будет вспоминать о нем, как будет страдать сознанием, что отравила ему жизнь!.. И это показалось ему так ужасно, что Тренев подумал, будто ей лучше умереть самой, чем пережить его смерть!..
Ну, хорошо… Пусть она умрет… И вдруг он ясно увидел ее мертвое холодное тело, то самое красивое, милое, теплое тело, которое он так знал и любил!..
И уже нельзя будет прижать ее к себе, ощутить знакомую теплоту, услышать ее ласкающий голос… Такой страх охватил Тренева, что волосы зашевелились у него на голове.
А ведь рано или поздно так и будет!.. Или он, или она, кто-нибудь умрет раньше другого… И как ужасно будет сознание, что столько дней и ночей, которые они были вместе, они потеряли так глупо и безобразно в этих бессмысленных ссорах и взаимных мучительствах!.. И уж не вернешь никогда!.. Надо торопиться, не упускать ни одного мгновения, потому что жизнь коротка и дается один раз!.. А они ссорятся, мучат друг друга… Ведь жизнь уходит!.. Что они делают?..
«И неужели она никогда не подумает об этом? Неужели ей самой не жаль?.. Ведь должна же она понимать!» — думал Тренев, судорожно пожимая плечами, с отчаянием в душе.
Ему захотелось сейчас же, немедленно подойти, сказать какое-нибудь настоящее, все объясняющее слово и помириться. Неужели это так трудно? Что за безумие!.. Ведь он же любил ее, мучающую его, злую, гадкую, милую до боли!.. Как она не понимает, что делает?..
Но Тренев боялся, что, если подойдет, она встретит его каким-нибудь оскорбительным словом, опять будет отталкивать и вырываться. Он чувствовал, что тогда окончательно у него помутится в голове… и все-таки подошел, опустился на колени и осторожно прижался губами к ее холодноватой гладкой спине.
И сразу, еще не веря себе, почувствовал, что ссора кончена, что она сама устала и мучительно хочет примирения. Как они знали друг друга! Только по тому, что вздрогнуло голое плечо, только по тому, что она не ответила, Тренев понял, что она уже простила его.
Жена любит его, готова сделать все что угодно, она только еще упрямится своим милым женским упрямством… И это же упрямство, которое минуту тому назад казалось бессмысленным и приводило в неистовое бешенство, вдруг стало забавным, милым, умилительным до слез. С горящими глазами, с глубочайшей нежностью, от которой было положительно больно сердцу, Тренев покрыл поцелуями голые плечи жены и проговорил:
— Ну, будет… прости меня… старого дурака! Почему это пришло ему в голову, он и сам не знал. Так иногда, во время самой ужасной сцены приходило ему в голову какое-нибудь нелепое шутовское слово, и оно неожиданно оказывалось настоящим, тогда как все неотразимые доводы и увещания только разжигали злобу.
И теперь две голые мягкие руки вдруг нежно и порывисто охватили его за шею. Он почувствовал, как от любви и умиления слезы подступают к глазам, с бешеной страстью прижался к ее горячим от слез, немного распухшим губам и повторил, радуясь удачной шутке:
— Прости старого дурака!
— Глупый!.. Еще что! — шепнула она, и в слезах раскаяния, в исступленных ласках, близкие друг другу, как два обнаженные сердца, они помирились.
А ночью, когда оба усталые и счастливые лежали рядом, глядя в темноту, она шептала ему о том, как страдает от сознания, что отравила ему жизнь, как невыносимо мучит ее совесть по ночам, как она любит его.
— Я сумасшедшая, прости меня, — говорила она. И опять, как сто раз прежде, повторяла, что это в последний раз, что теперь все кончено, она переменится, все будет прощать ему, все позволять.
— Сколько раз ты обещала! — с тоской вырвалось у Тренева.
Она начала обнимать его судорожно и почти отчаянно, видимо, не веря себе. И обоим страстно хотелось поверить.
— А как бы мы были счастливы! — проговорил Тренев, со жгучей нежностью и безнадежной грустью принимая ее ласки.
— Но отчего мы ссоримся?.. Отчего?.. Ты же сильнее меня, ты — мужчина… ты должен удерживать! — с отчаянием сказала она.
Тренев так же отчаянно пожал плечами. Он сам не знал, как это случалось. Даже не мог заметить момента, когда пустой разговор переходил в ссору. Отчего при посторонних они могли спорить, не соглашаться друг с другом, а наедине без раздражения не могли слышать один другого?.. Надоели друг другу?.. Неужели только и всего?.. Но ведь они же жить не могут друг без друга!..
И в мучительном недоумении, бессильно теряясь в этой страшной драме, которую не могли понять сами, они с отчаянием в душе и с бессильной дать счастье любовью прижимались друг к другу, молча глядя в темноту открытыми спрашивающими глазами.
Утром, когда Тренев встал и тихонько, чтобы не разбудить жену, одевался, она еще спала, свернувшись комочком на согретой постели, разметав по подушке спутанные светлые волосы и положив руки под щеку.
Тренев смотрел на нее, и какой милой, бесконечно дорогой казалась ему эта женщина, измучившая его!.. И голые руки ее, и пушинки волос, приставшие к наволочке, и поджатые, как у ребенка, ноги… маленькие ножки, босые!.. Все казалось милым и бесконечно прелестным. Ему хотелось разбудить ее, взять на руки, мягкую, сонную, теплую от сна, и целовать без конца и счета ее руки, ноги, грудь, все!.. Тренев не посмел сделать этого и тихонько вышел, улыбаясь, с глазами, мокрыми от нежности и любви.
И во все время учения он думал только о ней. Радостно и легко было знать, что дома ждет его ласка и спокойствие, а не вечные ссоры, но иногда мелькал страх: а вдруг опять что-нибудь!.. Но он старался не думать об этом, точно боялся прикоснуться к затянувшейся ране.
Но она встретила его радостной улыбкой и пошла навстречу, протягивая обнаженные до локтей розовые ласковые руки.
За обедом Тренев рассказывал жене о Краузе, о маленьком столкновении с заведующим хозяйством, о том, что в шестом эскадроне жеребец убил солдата… Ему часто приходило в голову, что они ссорятся потому, что она скучает, и он старался рассказывать с нарочито оживленным видом. Они и вообще дорожили каждой мелочью, потому что так мало было о чем говорить после долгой совместной жизни, исчерпавшей души до дна. Она слушала, также стараясь изо всех сил показать, что все это ей интересно, и по временам, точно благодаря за старание развлечь ее, протягивала свою обнаженную руку через стол и со светлым любовным взглядом ласкала его по руке. Тогда Тренев наклонялся и нежно целовал ее ароматную гладкую руку, и ему даже немного стыдно было, что он так рад ее ласке.
Потом она начала говорить о городских новостях.
Ей все казалось, что он тяготится ею, что она ему надоела, и его тянет к другим женщинам; поэтому бессознательно заводила разговоры именно о женщинах. Она ненавидела их всех, как возможных соперниц, и говорила о них дурно, с ревнивым злорадством повторяя городские сплетни. Это всегда раздражало Тренева, он начинал возражать, сначала робко, боясь вызвать ссору, потом, когда она, сдерживаясь изо всех сил, притворялась, что ей все равно, начинал смелеть, увлекаться и осуждать ее за несправедливость. И вдруг глаза ее темнели, она поджимала губы, крепилась еще минуту, мучительно желая одного — не поссориться, и ссора начиналась. И когда Тренев, наконец, замечал ее ненавидящий взгляд, ссора уже катилась, как лавина, нарастая от каждого слова, и ничем нельзя было ее удержать.
Но теперь он слушал, насильно улыбаясь и даже поддакивая ей.
Она говорила о Лизе Трегуловой, об уехавшей с Михайловым Женечке, говорила с ненавистью и злорадством.
— Ну, я понимаю, та — актриса… женщина легкого поведения, а эта девчонка меня возмущает!.. Не понимаю, как можно ее жалеть!.. Дрянная, развратная девчонка! Ведь ей всего семнадцать-восемнадцать лет!..
Тренев сочувственно кивал головою, хотя Лизу ему было очень жаль, а Женечка ему нравилась и совсем не казалась женщиной легкого поведения.
— Говорят, она беременна, — даже сказал он, чтобы доставить жене удовольствие, и покраснел.
После обеда они пошли гулять в сад, где уже желтели листья и стало как-то пусто и слишком светло. Их девочка бегала по сырым дорожкам, мелькая в стоячих лужицах, а они продолжали болтать о всяких пустяках. Было хорошо, спокойно и радостно.
Но вечером уже не было о чем говорить, темы исчерпались, все, что начинал один, уже знал или угадывал другой, и обоим стало скучно, как всегда. Хотелось, чтобы пришел кто-нибудь, но Тренев старался скрыть это и усиленно притворялся спокойным и веселым. Как бы чувствуя, жена стала посылать его в клуб, но Тренев с притворно-равнодушным видом ответил:
— Что я там буду делать? Надоело… Все одно и то же!.. Не хочется!
И ему хотелось даже самого себя уверить, что не хочется, но знакомая ярко освещенная обстановка клуба, шум, лица партнеров, все такое свободное, необычайно, казалось, интересное, так и появилось перед ним. Жена посмотрела подозрительно, но тоже постаралась верить, что ему весело с нею и никуда не хочется идти. Она вспомнила, что он любит ходить в клуб, не идет теперь из-за нее, значит, она лишает его удовольствия. Поэтому она стала целовать и уговаривать его.
Это тянулось долго: она уговаривала, хотя терпеть не могла этих хождений, кутежей и проигрышей, он уверял, что не хочет, и чувствовал почти болезненное желание идти. Так они сидели и лгали друг другу, уже начиная страдать и раздражаться, когда приехал Арбузов.
Тренев вскочил и с радостью, которую сейчас же отметила жена, пошел навстречу.
Арбузов, в синей поддевке и лакированных сапогах, широко и упрямо шагая, вошел в комнату. Он был заметно пьян, но держался твердо и размашисто. Только мрачные глаза его были воспалены, да кричал он чересчур громко и весело.
— Здорово!.. А я за вами!.. В клуб, а?.. Все наши будут… Сережка Михайлов приехал… А, ладно?..
Тренев боязливо оглянулся на жену. Арбузов заметил этот взгляд и нагло усмехнулся, но промолчал. Тренев видел эту усмешку и вспыхнул от стыда. И опять шевельнулась в нем досада: благодаря ее тяжелому характеру он не смеет быть самим собою и служит предметом насмешек всякой сволочи!.. Он, лихой офицер, которому когда-то море было по колена!..
— Не хочется что-то… — неловко протянул он. И даже потянулся для пущей убедительности.
— Чего — не хочется?.. Поедем, ну!..
— Да нет, ей-Богу…
— Да ну… будет… едем! — с упрямством пьяного приставал Арбузов, хватая его под руку. — Будь друг!.. Гулять хочется… Всю компанию расстроите!.. Едем!..
И, может быть, сознательно, может быть, случайно, прибавил:
— Жена отпустит, мы попросим… она добрая!
— Я его не держу! — притворно, но весело улыбаясь, заметила она.
Тренев покраснел.
— При чем тут… Просто не хочется. Вот чудак!.. Понять не может!..
Арбузов нагло, с явной насмешкой смотрел ему прямо в глаза злым, воспаленным взглядом.
— Врешь, жены боишься! — сказал он и захохотал.
— Отчего ты не хочешь? — вдруг с притворной небрежностью вмешалась жена. — Поехал бы! Тренев быстро взглянул на нее.
— Конечно, поезжай, — ободряюще глядя на него, сказала она.
Тренев старался угадать выражение ее глаз, но в их уклончивой прозрачности ничего нельзя было разобрать.
— Да оно, конечно, поехать можно… да только… — нерешительно протянул он.
— Ну, и едем! — закричал Арбузов. — Живо!.. Одевайтесь!.. Я подожду!..
Тренев так же нерешительно пошел одеваться, пожимая плечами и неуверенно улыбаясь.
Арбузов остался в столовой, и Тренев, одеваясь, слышал его удалой голос и сдержанные тихие ответы жены. По этой сдержанности он уже видел, что она недовольна, и сердце у него сжалось. Но желание уйти из дому было так сильно, что он продолжал одеваться, сам презирая себя за слабость.
Пропустив Арбузова вперед, он задержался, чтобы проститься с женой. Целуя, робко заглядывал ей в глаза: не сердится ли?.. Она притворно улыбалась, но глаза были невеселы и лживы. И это мгновенно раздражило его.
«Господи, неужели это такое преступление, что мне хочется пойти в клуб?»
— Может, лучше я не поеду? — неуверенно спросил он.
— Отчего же? — неискренно возразила она. — Ведь тебе хочется?
— А ты тут не будешь скучать одна? В ней тоже вспыхнуло раздражение: конечно, ей будет скучно, конечно, он должен был бы остаться и не спрашивая… Зачем эта неискренность?
— Нет, я почитаю и лягу спать… Иди, иди!..
— А может, остаться? — безобразно тянул он.
— Да иди же, иди! — почти крикнула она, но сейчас же улыбнулась и прибавила: — Иди, веселись!..
Наконец, Тренев решился. Но уже все удовольствие было испорчено. В дверях он еще раз, как привыкшее к неволе животное, нерешительно оглянулся. Она мгновенно изменила потемневшее лицо и, притворно улыбаясь, театрально помахала ему рукой. Тренев вышел с таким усилием, точно отрывался от земли. В эту минуту ему уже и в самом деле не хотелось ехать. Было жаль жену, оставшуюся совершенно одинокой, и страшно грядущей ссоры. Но Арбузов ждал, отказываться уже было неловко, и Тренев уехал.
XI
За огромным окном мастерской в мокром тумане расплывался серый мутный сад. Осенняя грусть наплывала в тусклом свете сумерек, и бледная, больная, тихо бродила по комнатам.
Михайлов только утром приехал со станции, весь день спал и проснулся под вечер с тяжелой головой и беспричинной тоской в душе.
Всего только сутки тому назад он был в большом городе, а уже и туманные улицы, и вереницы извозчиков с поднятыми верхами пролеток, и холодный электрический свет, и знакомые лица казались ему где-то далеко позади.
И в то же время собственная мастерская показалась ему чужой и холодной. Он покинул ее, когда ярко светило солнце и листья в саду только тронулись первым золотом ясной осени, а теперь был мокрый сад, по дорожкам валялись вялые листья, забитые дождем в холодную грязь, в мастерской стоял застывший полумрак, на всем лежала тонкая паутина пыли. Было неуютно, как в чужом нежилом доме. Скучно глядели со стен этюды и картины, а чучело филина, точно не узнавая хозяина, с непонятной злобой пялило на него круглые желтые стеклянные глаза.
Михайлов ходил из угла в угол, не зная, что делать, и вяло прислушивался к унылому течению своих мыслей. Все валилось из рук, все казалось ненужным, и было ощущение какой-то непоправимой ошибки.
«И зачем я сюда приехал?» — спрашивал он себя с глухим раздражением.
Это в первый раз он приехал в город осенью; раньше бывал только золотым летом да зелено-радостной весной.
Он и сам не знал, почему ему пришло в голову приехать. Погнала какая-то тоска, какая-то беспричинная злоба на всех и на самого себя. Он как будто кому назло сделал это:
«Скучно, так вот пусть будет еще скучнее!.. Глупо, нелепо, так пусть будет еще глупее, еще нелепее!..»
Дня за два до своего отъезда он провожал Женечку, которая прожила месяц в Москве и уезжала куда-то в Сибирь.
Сцена прощания ярко осталась у него в памяти.
Женечка стояла на полутемной площадке вагона и смотрела на Михайлова черными, даже в сумраке блестящими глазами. И в этих смелых, живых глазах была мягкая, глубоко затаенная грусть.
— Итак, едете? — машинально, не зная, что говорить, сказал Михайлов.
Он смотрел на ее стройную фигуру, на красивое яркое лицо с черными глазами и черными бровями, и ему даже самому было странно, что он ничего не чувствует, кроме усталости. Ему даже как будто хотелось, чтобы она скорее уехала. А ведь она была близка ему, так или иначе вошла в его жизнь, столько заставила перечувствовать.
Правда, она никогда не говорила, что любит его. Когда Михайлов спрашивал об этом, Женечка только смеялась загадочно.
— Ой-ра!.. Не все ли вам равно, Сергей Николаевич?
И он знал, что все равно, но все-таки почему-то было неприятно, что она не скажет «люблю!». В ее смехе, в ускользающих от прямого ответа глазах было что-то говорящее: что-то было там, в глубине ее гордого сердца, но никогда не выскажется ему. Он только чувствует, что она томится и страдает.
— Так едете? — повторил Михайлов.
— Да, еду… пора! — ответила Евгения Самойловна. — Ну, что ж… прощайте! Не поминайте лихом, больше не увидимся!..
— Почему?
Он спросил только потому, что слишком было неприятно подчеркивать разлуку навсегда, и то, что они уже чужие друг другу. Евгения Самойловна пристально, как бы надеясь найти что-то, посмотрела ему в глаза. Розовые губы ее вздрогнули, но она засмеялась.
— Эх, Сергей Николаевич!.. А зачем нам встречаться?.. Дальше будет уже скучно. Ведь так?.. Да?.. Михайлов неловко пожал плечами.
— А так будем помнить друг друга, как приятный сон, — зазвеневшим голосом продолжала молодая женщина. — Да и зачем вам?.. Будет другая… другие, вернее!..
Перед Михайловым промелькнула туманная вереница этих «других», еще не известных женщин, которые придут откуда-то и принесут ему свои ласки… И почему-то стало скучно и противно: неужели их будет еще много и, как десятки прежних, так же исчезнут они в тумане жизни, словно ненужный сон?.. Зачем?.. Только чтобы забыть и их лица, как забыты прежние, как будет забыта и вот эта?.. Только?..
И вдруг ему захотелось, чтобы Женечка не уезжала. Все-таки она — милая!.. Может быть, она и неумна, и пуста, но она уже близка, уже между ними что-то протянулось… Зачем же рвать и искать новое?.. Кто знает, зачем она сошлась с ним, но она доставила ему много хороших минут, была славным товарищем наслаждений, ничего не требуя и ничем не связывая. Чувство нежной телесной благодарности согрело душу. Михайлов взял руку Женечки и тихо, благодарно поцеловал ее повыше перчатки в холодноватое гладкое тело. Она посмотрела на него сверху, и что-то страдальческое промелькнуло в веселых черных глазах, которых Михайлов не мог видеть в эту минуту.
— Все-таки… — проговорил Михайлов и не кончил, чего-то испугавшись.
Женечка смотрела, как будто ожидая. Потом вздохнула и засмеялась.
— Ну, пусть! — непонятно сказала она.
Мимо площадки каждую минуту проходили люди и мешали говорить. То и дело их просили посторониться пассажиры и угорелые носильщики, лезущие с неуклюжими чемоданами и портпледами. Женечку толкали и прижимали к стене, но она не уходила. Приходилось молча смотреть друг на друга, и оттого было неловко и как-то глупо.
Резко пробил второй звонок. Стало еще тяжелее. Чувствовалось, что все больше растягивается и разрывается по ниткам какая-то связь, и с каждым мгновением они становятся дальше и дальше друг от друга.
Сейчас они расстанутся, чтобы никогда не встречаться. Она унесется куда-то в далекий провинциальный город, где ей будут хлопать, подносить цветы и бриллианты, где она сойдется с кем-то другим, и этот неизвестный, непредставляющийся человек будет ей близок, как теперь Михайлов, так же будет целовать, раздевать и ласкать ее. А он поедет назад один, на мокром извозчике, по мокрым московским улицам, наполненным чужой, куда-то спешащей толпой. И Михайлову все нелепее казалось это. Он опять взял и поцеловал руку Женечки. В эту минуту, как бы там ни было, ближе ее у него никого нет!
— А мне все-таки жаль, что вы уезжаете, — принужденно сказал он, сам не зная хорошенько — правда это или ложь. Странно двоятся чувства человека!
Будто бы? — спросила Евгения Самойловна, и опять промелькнуло в ее черных глазах что-то теплое и скрытое.
— Конечно… все-таки я вас любил! — сказал Михайлов и сам улыбнулся нелепости этого «все-таки».
Женечка покачала головой.
Михайлов вспомнил все, что было, и почувствовал, что были же в самом деле моменты, когда она заполняла для него весь мир и вызывала нежное, горячее чувство. И не страсть только!.. Даже и теперь: ведь если бы ей угрожала какая-нибудь смертельная опасность, разве он поколебался бы броситься на смерть?
— Нет, все-таки любил! — повторил он настойчиво, как будто сам цепляясь за это слово.
— Нет, — возразила Женечка, и черные глаза ее стали серьезными и мудрыми, — были моменты, когда вам так казалось, но это вы не меня любили: вы женщину вообще любили!..
Что-то поразило Михайлова в этих словах. Он посмотрел на Женечку с удивлением и каким-то странным уважением. Она вдруг показалась ему другой, неизмеримо выше и тоньше той пустой и легкомысленной актрисы, которую он знал. Неужели он просмотрел ее настоящее лицо?.. Какие тайны скрыты в глубине того, казавшегося ему таким маленьким, странного существа?
— Вот как… — медленно произнес он. — Отчего вы раньше никогда не говорили так?
Странно, она мгновенно поняла, что он думает, и ответила с кривой усмешкой:
— Вам не это было нужно, Сергей Николаевич!.. Вы… Ну, да все равно уж!..
Она помолчала. Потом виновато улыбнулась и сказала голосом новым, полным глубины и нежности:
— А несчастные мы, женщины, все-таки!.. Все это не так легко нам дается… как… Впрочем, не то! — перебила она себя поспешно. — А скажите… мы расстаемся, может быть, и, правда, навсегда… теперь все можно сказать… Скажите: счастливы ли вы? Ну, хоть иногда?.. Ну, вот со мной, с другой… такой же? — прибавила она со страдальческой насмешкой над собою.
Михайлов поднял на нее глаза.
— Нет, никогда! — с глубочайшей, из глубины сердца вырвавшейся искренностью ответил он. И в ту же минуту почувствовал зловещий холодок в сердце.
Евгения Самойловна долго молча смотрела, и по ее яркому красивому лицу пробегали какие-то тени.
— Да… Я знаю… — с проникновенным выражением сказала она. — Вы — несчастный человек, Сергей Николаевич!.. Для вас уже все…
Резко и настойчиво пробил третий звонок, и толпа хлынула к вагонам. Михайлов едва успел поцеловать ее руку, как Женечку отделили от него и прижали к стене площадки. Она смеялась, изгибаясь всем гибким телом, чтобы не уступить места. Михайлов, не расслышавший конца ее последней фразы, через головы толпы смотрел на нее. Какой-то толстый офицер лез на ступеньки и кричал толстой даме в огромной лиловой шляпе:
— Передай папе, что к Рождеству я непременно приеду, хоть на два дня…
Кто-то целовался, кто-то кричал:
— Пишите! Кланяйтесь вашим!.. Не забывайте!.. Счастливой дороги!..
Толпа незаметно все дальше и дальше оттесняла Михайлова от вагона. Между ним и Женечкой уже встало что-то холодное, чужое и даже как будто враждебное. Уже издали смотрели на него черные, в последний раз нежные глаза. Губы по-прежнему улыбались, но глаза были печальны и говорили что-то, чего не было и уже не будет высказано словами. Нельзя было переговариваться, и Михайлов, неловко улыбаясь, кивал головой. Ему одновременно хотелось и чтобы она не уезжала как можно дольше, и чтобы скорее прекратилось это невыносимое, нелепое кивание.
Поезд осторожно, почти незаметно двинулся, дернул, пополз и вдруг пошел все скорее и скорее. Зашумели вокруг, замахали платками и шляпами.
Медленно уплывало вдаль яркое лицо с черными бровями и черными блестящими глазами. Рядом торчала круглая рожа толстого офицера, все еще кричавшего своей тучной даме:
— Так передай папе… Не забудь!..
Женечка поднималась на цыпочки, чтобы через его голову видеть Михайлова. Она все улыбалась, но Михайлов уже не мог разглядеть, что ее блестящие глаза полны слез, а губы мучительно дрожат.
Еще раз за столбами перрона мелькнуло ее лицо, махнул белый платок, но уже нельзя было разобрать — се ли. Далеко, сливаясь в вертикальные черточки, еще были видны окна и площадки вагонов… Мелькнул задний фонарь поезда, и столбы вокзала навсегда скрыли все. Белый дым медленно таял под арками. Отдаленный грохот становился все глуше и, наконец, затих совсем.
«Уехала!»
Что-то оборвалось и опустело в душе. Михайлов постоял и пошел к выходу. Рядом, впереди и позади шли и переговаривались люди, но он чувствовал себя совершенно одиноким и никому не нужным. Это чувство усилилось и стало почти болезненным, когда он вышел на большую мокрую площадь, залитую искрящимся блеском электричества и покрытую черными верхами извозчичьих пролеток. Странно и чуждо раздавались звонки трамваев и крики кучеров.
Михайлов взял извозчика и поехал к себе в гостиницу.
XII
Целый вечер он ходил из угла в угол по своему номеру, бесцельно глядя себе под ноги и прислушиваясь к тайной работе, совершавшейся в глубине души.
Огромная гостиница молчала. Где-то за ее глухими стенами тяжко рокотала неумолчная мостовая… Вес ехали и ехали куда-то неизвестные, ненужные Михайлову люди.
Ему представилось бледное безбрежное море человеческих лиц, на горизонте сливающихся в туманное колеблющееся марево. Сколько их!.. И все живут, пишут картины и книги, обладают женщинами, наполняют дома, по-своему любят и страдают… И каждому кажется, что его любовь, его страдания, его жизнь — самые важные и значительные!..
Михайлов пожал плечами, как бы в недоумении.
Он был в каком-то странном беспокойном состоянии: ему все казалось, что надо как можно скорее что-то сделать, до болезненности отчетливо чувствовал он бесполезный ход времени и ощущал, как с каждой секундой уходит что-то непостижимо драгоценное, чего уже не вернуть никогда. Но в то же время полная апатия охватывала и душу, и тело: не хотелось ни работать, ни говорить, ни идти куда-нибудь, ни видеть людей. Все казалось противно и не нужно. Михайлов не мог понять, что такое с ним, чего ему надо, откуда эта ноющая тоска?
Он попытался заставить себя работать, но вместо того достал акварельный набросок женской головки с черными блестящими глазами и черными бровями на ярком смелом лице и долго пристально смотрел на него, все прислушиваясь к чему-то, тихо и беспокойно ноющему в душе.
«Да в чем дело? — почти с раздражением спрашивал он себя. — Мне жаль, что Женечка уехала?»
Михайлов вздернул плечами и швырнул рисунок в стол.
— Мало ли их!.. Этого добра везде сколько угодно!.. — с нарочитым цинизмом, точно кому-то назло, сказал он громко.
Звук собственного голоса в пустом номере, среди ночной тишины огромного здания, показался ему чрезвычайно странным и неприятным. Даже жутко стало. Он встал из-за стола, лег на диван, заложил руки под голову и закрыл глаза.
И сейчас же перед ним появилось лицо Женечки. Оно посмотрело на него о чем-то спрашивающими, что-то затаившими глазами, качнулось и, поплыв, растаяло в мутной мгле. А вместо него появилась другая женщина — большая, с лениво пышным телом, с серыми, очень открытыми, много знающими глазами.
Михайлов с чувственным предвкушением представил ее себе всю, от пышной модной прически и тяжелых плеч до узких ступней изящных небольших ног.
Это была жена одного адвоката, с которой он познакомился здесь, в Москве. На каком-то благотворительном вечере она представила ему и своего мужа: добродушный, немного смешной человек в черном фраке с красной гвоздикой в петлице и с превосходной черной бородой пил у киоска коньяк из тонкой стрекозиной рюмочки и дружелюбно щурил близорукие глаза под золотым пенсне. А она стояла возле, крупная, великолепная, в белом платье, покрытом шелковой сетью, под которой платье казалось наготой, и спокойно смотрела на них прозрачными откровенными глазами. Должно быть, ей доставляло удовольствие видеть, как дружелюбно беседуют ее муж и будущий любовник… Михайлов уже знал тогда, что она отдастся ему.
В этом самом номере, на той же кровати, на которой вчера по подушкам беспокойно разметывались черные волосы Женечки, она раскинется нагло и бесстыдно, даже не спрашивая, сколько женщин перебывало до нее на этой постели.
И опять то же, в тех же подробностях, с такими же поцелуями и словами… Только и всего, что вместо черных будут распущены светлые волосы, да вместо крепкого смугловатого тела раскинется, как пышное блюдо, большое, белое, лениво-сладострастное… Только и всего!
На этот стул вчера было брошено красное платье Женечки, на него же швырнет она свои юбки и шелковый корсет. Так же она будет возиться с кнопками и тесемками, так же сверкнут торжествующей наготой освобожденные пышные плечи…
Михайлов поморщился болезненно и брезгливо.
«Ну, а дальше?» — спросил он себя.
А дальше — ничего!.. Легкая неловкость, холод удовлетворенного желания, и такое же нетерпеливое ожидание, когда она, наконец, оденется и уйдет. Это самое лучшее, что она может сделать: уйти, как можно скорее и навсегда.
Михайлов лежал с закрытыми глазами и вспоминал.
Бледной чередой вставали перед ним полузабытые женские лица… Сколько их!.. Белокурые, черноволосые, страстные и холодные, худые и полные, все знающие женщины и робкие девушки со слезами стыда на испуганных глазах. Многих он, кажется, не помнил даже по именам.
Это вдруг поразило и как бы испугало его.
Он стал тщательно припоминать и спутался: ярко и полно не представлялась ни одна — он помнил только отдельные моменты, плечи одной, груди другой, изгиб тела третьей… Из прошлого вставали нагие фигуры без лиц, без слов, без имен и расплывались в тумане, как призраки над болотом.
И это навеяло тоску почти невыносимую. Было такое чувство, точно он вдруг остановился в конце пути, оглянулся и увидал, что не знает, куда и зачем пришел.
«Но ведь это же и есть жизнь: смена впечатлений и переживаний, непрерывная цепь наслаждений! — с невольным отчаянием подумал Михайлов, как бы споря с кем-то в глубине своей души. Но почему же тогда такая тоска, такое болезненное отвращение?.. Неужели это была ошибка? Ошибка всей жизни!»
Ледяной холод ужаса прошел по его душе.
«Полно, не вся же жизнь!.. Не этим же одним я жил… А искусство?»
«Искусство!» — повторил Михайлов, но душа не отозвалась, и было в ней пусто и мертво.
«Разве я не люблю искусства?.. Нет, люблю, но… надоест же когда-нибудь людям вечно малевать картинки, вечно писать книжки, вечно лепить статуэтки…» — вдруг неожиданно услышал он пророчески зловещий голос Наумова и почувствовал, что слова сумасшедшего инженера эхом отозвались у него в душе.
Михайлов ужаснулся открывшейся перед ним пустоте.
И мысленно перенесся в залы выставки, где был еще сегодня утром и где висело его чистое, холодное «Лебединое озеро».
Там было неуютно и пусто, хотя толпились сотни людей. Они приходили и уходили, восхищались или смеялись, но чувствовалось ясно, что, в сущности, им все равно. У каждого была своя жизнь, тысячи дел, может быть, и совершенно ничтожных в сравнении с вечным искусством, но для них — гораздо ближе и важнее.
Пестрые головы крутились внизу, как водоворот, а сверху смотрели на них яркие полотна. Картины сливались в одно пестрое целое, и странно было думать, что не один человек по заказу расписал стены на этот день, а десятки людей искренно мучились над каждым мазком, наивно и свято веря, что совершают неизмеримо важное дело.
Неизмеримо и свято важно, что один смешал краски так, что напомнил впечатление скотного двора, другой озера с плывущими лебедями, третий заката, четвертый — восхода солнца, пятый — новгородской толпы!.. И это с тем, чтобы завтра добиться впечатления запущенного парка, послезавтра — первого снега, потом — казни стрельцов, нагого женского тела или букета цветов!..
От начала веков люди изображали все, что вокруг них есть, и торжествовали, что изображают приблизительно верно!.. Тысячелетия пройдут, и они, как вечные дети, все так же будут копировать торжествующую над их усилиями сияющую природу.
Нет, этим можно жить только наивно веря, а верить можно и в деревянный чурбан… И верили, и верят, и будут верить, потому что страшно вдруг очутиться в пустоте и увидеть, что все — лишь суета и томление духа!..
«Но ведь то, что есть, — уже факт! — подумал Михайлов. — Да, факт, но факт только тот, что тысячи живущих и давно умерших людей на кусочках полотна, глины или бумаги оставили бледные следы своих переживаний, своей забытой жизни… По этим бледным знакам, как по истершимся письменам, грядущие поколения читают историю человечества, чтобы прочесть, быть может, на последней странице то, о чем догадывались не раз: что жизнь бессмыслица, а люди пылинки, которыми играет ветер вечности».
«Да, они прочтут рано или поздно все до последней буквы и с мертвой пустотой в душе равнодушно подпишут — конец!..»
Михайлов встал в страшном мучительном беспокойстве, не зная, что делать с собою. В тоске, от которой все нервы, казалось, вытягивались, как нити, готовые порваться, он несколько минут стоял посреди комнаты, беспомощно и жалко оглядываясь кругом. Потом решительно бросился к кровати и потушил электричество.
И сейчас же стало светло за окнами. Близился рассвет и мокрым туманом, как чье-то больное дыхание, ложился на запотевшие стекла окон.
Михайлов тщетно старался заснуть. Быть может, минутами он и забывался тяжелым мутным полусном, но ему казалось, что глаза все время были открыты, а мысли неустанно и больно тянулись в голове, как осенние тучи.
Будет новый день, новые встречи, новые мысли и чувства… Мною лет проживет он, черные волосы тронет седина, потускнеют глаза и задрожат руки… Старый художник, как каторжник, прикованный к тачке, все будет писать и писать свои картины, не смея остановиться, чтобы не умереть с опустелой душой. Скучно и тускло протянутся последние годы жизни… мало-помалу уйдут женщины, лунные ночи станут только холодными и сырыми, солнечные дни — тусклыми и длинными, жадное тело — тяжелым, нудным бременем, искусство — надоевшей привычкой… А потом, наконец, наступит последняя болезнь, агония и смерть… И под ненужные ему надгробные речи кончится все!..
Так просто и скучно, как будто бы вся жизнь только и была, чтобы подготовить его к этому неизбежному страшному концу.
И в тупом забытьи бессонницы Михайлов в первый раз подумал, как было бы хорошо, если бы новый день совсем не начался, и не нужно было бы ему ни картин, ни женщин, ни страданий, ни наслаждений.
Сладким и милым представился ему покой.
ХIII
А на другой день он уехал на родину.
Сам не зная, зачем он едет, Михайлов всю дорогу был в том же тоскливом метании.
Он то ложился, то вставал, то выходил на площадку, то пил в ресторане-вагоне, то по целым часам бесцельно смотрел в окна.
За слезящимися стеклами уныло бежали мокрые поля с вросшими в землю, похожими на кучи гнилого навоза деревнями, чахлыми рощицами, дрожащими речонками и куда-то летящими мокрыми воронами. И при взгляде на это унылое бескрайнее серое пространство, сплошь затянутое мутной пеленой дождя, дико приходило в голову:
«Неужели и тут живут люди?.. Что же они думают, что делают целые долгие дни, чем и для чего живут?..»
Все было уныло, бедно и серо. Дождь моросил без конца, и казалось, что все — и земля, и небо, и леса, и деревни, и летящие вороны, и мокрые серые мужики на заброшенных полустанках, тупо глядящие вслед поезду, — все плачет в какой-то убогой вечной печали.
От бессонной ночи в голове Михайлова был туман, по временам он совершенно ни о чем не думал и только чувствовал, что с ним совершается что-то страшное и последнее.
Только приехав домой и проспав весь день тяжелым тупым сном, Михайлов точно очнулся. Он окинул взглядом запылившуюся мастерскую, увидел мокрый сад за окном и с ужасом спросил себя:
«Зачем я сюда приехал?.. Ведь это уже конец!..»
Он вдруг как-то странно растерялся и долго, совершенно бесцельно ходил по комнатам, озираясь кругом, как заблудившийся человек.
Сумерки сгущались. Михайлов машинально зажег лампу, и сейчас же за окном стало черно, а в мастерской заблестели багетные рамы, и чучело филина родило на потолке огромную, хищно распростершую крылья, черную птицу.
При свете стало как-то легче. Михайлов напился чаю, разобрал вещи и решил идти в клуб. Ему даже захотелось кого-нибудь увидеть, и не без удовольствия он вспомнил старого доктора Арнольди.
В это время пришла Лиза.
Она почти вбежала, мокрая от дождя, запыхавшаяся от волнения, в каком-то сером платочке на распустившихся от сырости волосах. Вид у нее был растерянный и виноватый: она как будто сама испугалась своей смелости и не знала, как он встретит ее, но наивные глаза блестели от радости.
Михайлов, стоя посреди мастерской со шляпой в руках, несколько мгновений недоуменно смотрел на нее. За все это время он ни разу не вспомнил о Лизе:
ему казалось, что их связь уже кончена, что Лиза ушла из его жизни навсегда. И вдруг она очутилась у него, в этой робкой позе, в которой чувствовался сдержанный порыв, с этими спрашивающими глазами, лучезарными от любви и радости.
Она как вошла, так и стала у дверей, виновато и радостно улыбаясь.
Михайлов взглянул на ее молящие преданные глаза и смутился. Он вдруг понял, что это не так просто, что перед ним — нечто огромное и мучительное, что еще надо пережить.
— А… вы? — нелепо протянул он и шагнул навстречу, сам не зная, что сделает и скажет.
Бог знает, что почудилось Лизе в его движении, но лицо ее вдруг осветилось безграничным восторгом и любовью неизъяснимой. Она бросилась к Михайлову, уронила свой серый платочек на пол, охватила его шею обеими руками и замерла, не смея взглянуть в глаза.
С минуту они стояли среди комнаты, и Михайлов чувствовал, как дрожало и жалось к нему ее гибкое теплое тело под мокрой холодной кофточкой. Он только тут заметил, что на ней нет ничего, кроме этой кофточки и маленького серого платочка. А на дворе было холодно, и шел резкий косой дождь. Что-то теплое и нежное шевельнулось в нем. Он поднял за подбородок ее прячущееся лицо, увидел широко раскрытые, полные светлых слез, почти испуганные от счастья глаза и поцеловал ее в губы.
Лиза вся вздрогнула.
На мгновение она как-то отстранилась, взглянула на него и вдруг, еще крепче охватив руками, беззаветно прижалась губами к его губам. Потом опять оторвалась, опять взглянула в глаза, как бы не веря своему счастью, и начала покрывать поцелуями все его лицо, лоб, волосы, глаза… Видно было, что она даже не сознает, что делает.
И вдруг заплакала.
— Ну, что… что, моя бедная девочка? — дрогнувшим голосом спросил Михайлов и, чувствуя что-то острое в сердце, стал гладить ее по светлым, еще мокрым волосам.
— Я так измучилась! — жалко пробормотала Лиза и снова заплакала.
Он молча продолжал гладить ее по волосам, сверху глядя на склоненную светлую головку. Мгновенный порыв нежности прошел, осталось только чувство острой жалости и мучительное сознание вины. Он сам заметил, как отечески-покровительственно гладит ее по голове.
Чучело филина злыми желтыми глазами смотрело на них из угла, и почему-то Михайлов обратил внимание на этот неприятный и жуткий мертвый птичий зрак.
Неожиданно Лиза подняла голову и улыбнулась сквозь слезы.
— Я глупая! — сказала она. — Милый, милый, милый мой!
Именно этими словами она думала о нем каждый день и каждую ночь.
И она опять то отводила его от себя руками, то снова целовала, то снова отстраняла и смотрела безумными от счастья и любви глазами. Она, видимо, уже не знала, что сделать, как выразить ему свою любовь, мукой и счастьем переполнившую все ее молодое тело.
Михайлову стало неловко и мучительно стыдно.
— Божество мое! — страстно сказала Лиза, и это банальное слово резнуло его.
— Ну, будет… вам… сказал он. — Садитесь, что ж мы стоим…
Но Лиза не выпускала его из рук, точно не слыша, и продолжала смотреть восторженными глазами. В эту минуту она забыла все, что пережила, — тоску, ревность, сплетни всего города, унижение и отчаяние — и видела только его любимого, прекрасного, светлого, как молодой бог.
В ее сердце была такая огромная любовь, что в ней бесследно растопилось все темное, и Лизе казалось, что отныне осталась только радость.
— Откуда вы узнали, что я приехал? — спросил Михайлов.
— А вы не написали мне ни одного слова… ни одного слова!.. А я так… — вместо ответа печально и с мягким укором проговорила Лиза.
— Я был очень занят… — неловко пояснил Михайлов.
Но Лиза уже опять не слушала и смотрела на него широко открытыми глазами, безумными от счастья. Раз он здесь, то не все ли равно, что было!
— Сядем же! — почти страдальчески повторил Михайлов.
Она испуганно взглянула и покорно пошла к дивану. Но как только села, сейчас же соскользнула на пол, стала на колени и схватила его руками так крепко, что Михайлову стало трудно дышать.
Это показалось ему и театрально, и смешно. Он даже удивился, что мог сойтись с такой мещанкой. Именно это грубое слово промелькнуло у него в мозгу. Михайлов уже не мог понять такой громадной любви, которая покрывает все, даже самое глупое и нелепое.
Он почти силой поднял Лизу и посадил рядом, а чтобы удержать — стал целовать, запрокинув ей голову на подушку дивана. Она забилась под его поцелуями и закрыла глаза. И в эту минуту он впервые почувствовал в ней женщину.
Она принадлежала ему, но еще ни разу Михайлов не услышал в ней ответной чувственности. Она оставалась целомудренной, как девушка, хотя и стала женщиной.
И вдруг теперь, под его поцелуями, она вся как-то задрожала, стала биться, порываясь встать, потом тихо застонала и замерла, закрыв глаза. Щеки ее горели, и все молодое горячее тело безвольно тянулось к нему. Теперь уже она вся, и душой и телом равно, сама отдавалась ему.
Эта первая опьяняющая страсть ударила в голову Михайлову. Глаза его хищно загорелись, и тонкие раздутые ноздри задрожали. Он жадно смотрел на странно вздрагивающие ресницы ее закрытых глаз, на бессильно полуоткрытые влажные губы, на пылающие щеки, на все томящееся, тянущееся в истоме тело.
Все поплыло кругом в тумане. Он опустил ее на диван и обнял с бешеной страстью.
Ему показалось, что еще никогда в жизни он не испытывал такого полного, захватывающего чувства.
Лиза открыла счастливые светлые глаза и с радостным удивлением, точно очнувшись, оглянулась кругом.
Потом вскрикнула и спрятала счастливое горящее лицо у него в коленях.
А Михайлов уже опять устало и привычно смотрел на нее. Все это он видел, все это знал. Так именно и должна была она вскрикнуть и спрятать лицо. Ему вдруг стало скучно и противно до отвращения.
«Опять!» — мучительно пронеслось у него в голове, и Михайлову неудержимо захотелось оттолкнуть ее, встать, закурить папиросу, пойти куда-нибудь…
— Ну, сядьте, Лиза… нам надо поговорить с вами… — с усилием сказал он и сам нетерпеливо поднял ее за плечи.
— Я вас люблю! — вместо ответа, как безумная, сказала Лиза.
Михайлов беспомощно замолчал.
— Ну, говорите, говорите! — быстро и виновато проговорила она, все еще не решаясь посмотреть ему в лицо, очевидно, плохо соображая и все еще переживая то громадное и новое, что совершилось в ней.
Это был и светлый восторг, и чистый, как волна, прилив могучих сил обновленного в страсти тела, и девственный стыд. Она была счастлива каждым атомом тела и души, и в то же время казалась себе отвратительно мерзкой, развратной и грязной.
— Видите, — начал Михайлов, — я давно хотел сказать вам… напрасно вы меня так любите…
— Вы — мое божество — повторила Лиза с беззаветным и упрямым восторгом, как бы покрывая этим словом все, что он может сказать.
Михайлов передернул плечами.
— Не буду, не буду! — как маленькая, заторопилась Лиза и схватила его за руки, снизу заглядывая в глаза с радостной виноватостью.
— Что вы хотите сказать? переспросила она комично серьезно, видимо стараясь показать, что успокоилась и слушает внимательно. Страшно внимательно!.. — Почему — напрасно?.. Разве вы не прекрасный… любимый мой!..
Страшная тяжесть все больше давила Михайлова.
Он растерялся перед этой ничего не признающей и не видящей любовью.
— Вы такой талантливый, прекрасный… божество мое!
Это слово начинало приводить Михайлова в бешенство. Оно казалось ему нестерпимо вульгарным. Он почувствовал, что в нем рождается жестокая, злая решимость.
«Это надо кончить сразу!» — сжав зубы, подумал он.
— Я вовсе не такой, как вы думаете, Лиза! — криво улыбаясь, сказал Михайлов. — И самое лучшее, что вы можете сделать, это разлюбить меня как можно скорее!
Лиза вдруг побледнела и с ужасом посмотрела на него. В ее светлых глазах проступила какая-то страшная бездна.
— Разве это может быть! — с диким изумлением возразила она.
Михайлов не нашелся, что сказать.
Лиза долго смотрела на него широко открытыми помертвевшими глазами. И по мере того, как под ее взглядом лицо Михайлова невольно отворачивалось, она все больше и больше бледнела.
— Вы меня уже больше не любите? — медленно выговорила Лиза, как будто не веря даже возможности этого.
— Я никого не люблю! — угрюмо и неловко ответил Михайлов.
Наступило молчание. Губы Лизы вздрогнули, точно она хотела что-то спросить и не решилась выговорить.
— Ах, Лиза! — горько сказал Михайлов, не в состоянии перенести се странного взгляда. — Если бы вы только знали, как мне тяжело!..
— Вы любите другую? — так же медленно и мертво спросила Лиза. — А я?..
Она, очевидно, не могла понять. Ей казалось так просто и ясно, что раз она отдалась ему, раз она любит его больше жизни, больше самой себя, больше всего на свете, раз было то, что было сейчас, — он не может не любить ее. Иначе что же тогда?
— Я уже сказал вам, что никого не люблю! — болезненно повторил Михайлов и встал.
Она сидя снизу смотрела на него, точно видела впервые, и не могла узнать этого милого и так непонятно жестокого к ней лица.
— Слушайте, Лиза, — стараясь быть спокойным, заговорил Михайлов, не глядя на нее, — я слишком много жил с женщинами, слишком измотался и разменялся, чтобы любить так, как любите вы… Вы мне нравитесь просто, как женщина… когда вы близко, я не могу не хотеть вас, но любить я не могу… не умею!..
Лиза молчала и неподвижно смотрела на него.
— Вам нужен человек, который любил бы вас так, как вы этого заслуживаете… Вы такая милая, нежная, красивая… вас нужно любить здоровой, настоящей любовью… А для меня это уже невозможно!.. У меня нет ничего, кроме чувственности… Для меня вы — только одна из многих… А разве вы согласитесь быть одной из нескольких одновременно?..
Лиза вздрогнула и отшатнулась, точно ее ударили по лицу. Она, должно быть, что-то поняла, потому что зашевелила губами.
— Так это правда, что вы… жили с этой актрисой? — страшно медленно и с усилием неимоверным проговорила она.
Михайлов невольно отвел глаза и почувствовал себя ничтожным, грязным и жалким перед нею.
— Я все-таки не так виноват перед вами… — вместо ответа растерянно стал оправдываться он, — я никогда не говорил вам, что люблю вас…
В эту минуту ему действительно казалось, что это так, потому что, когда он говорил «люблю», слова этого не было в душе, и оно не замечалось и не запоминалось.
— Вместе со мною? — не слушая, продолжала Лиза.
Михайлов пожал плечами.
Лиза медленно встала и как потерянная начала что-то искать вокруг себя. Губы ее дрожали, помертвевшие глаза смотрели с ужасом, как две ледяные бездны, в которых все умерло.
Михайлов машинально, вслед за ее движением, подал ей ее серый платок и, только подав, ужаснулся тому, что сделал.
Она дико взглянула на платок, судорожно схватила его и прижала к щеке, продолжая смотреть на Михайлова непонимающим безумным взглядом. Потом схватилась за голову, ахнула и бросилась из комнаты.
— Лиза! — растерянно крикнул Михайлов и шагнул за нею.
Но она не вернулась.
Он долго стоял посреди комнаты и смотрел на незапертую черную дверь.
Невыносимое отвращение к самому себе охватило его. Точно все сразу оборвалось и рухнуло вниз. В душе не было ни жалости, ни тоски, одна страшная, равнодушная усталость и судорога отвращения. Но в эту минуту он еще не сознавал всего ужаса случившегося.
Чучело филина дико и злобно таращило на него желтые круглые глаза.
XIV
Гром, треск и звон заставили Михайлова очнуться. Кучка людей с криком и топотом подымалась на крыльцо. Прошло несколько мгновений, и в черном квадрате двери показалась широкая, размашистая фигура Арбузова в красной рубахе под расстегнутой поддевкой, в лакированных, грязью обрызганных сапогах и в фуражке, лихо сбитой на затылок.
— Вот он! — заорал Арбузов, крепко шагая в комнату. — Здравствуй, Сергей!.. Ты один?.. А мы за тобой… едем!
— Куда? — все еще не опомнившись, машинально спросил Михайлов.
Шумной ватагой вошли за Арбузовым длинный, в длинной кавалерийской шинели корнет Краузе, усатый Тренев, толстый поручик Иванов и сзади всех какой-то молоденький офицер и робкий, смущенный Рысков.
— В клуб!.. Пить будем и гулять будем, а смерть придет — помирать будем! — кричал Арбузов, размахивая руками. — Я, Сергей, уже недели три пью, никак протрезвиться не могу!.. Оно и правильно: что еще на свете делать?.. Не всем же художниками и покорителями женских сердец быть!.. Кому какое счастье!.. А актерку где дел?
— Ты и сейчас пьян! — криво усмехнулся Михайлов. — Не городи ерунды!
— Ерунда?.. Верно! — как бы в решительном восторге заорал Арбузов. — И актерка — ерунда, и все прочие — ерунда!.. Так я говорю, Сергей, а?..
Он был бледен, на лбу у него крупными каплями проступал пот.
— Так, так… — неловко согласился Михайлов, чтобы отвязаться.
Ему чрезвычайно неприятен и тяжел показался Арбузов.
— А вы из Москвы? — вдруг выступил вперед длинный учтивый Краузе. — Какая там погода?
Михайлов с удивлением взглянул на него и подумал, что корнет тоже пьян. Тогда он внимательнее присмотрелся ко всей компании и увидел, что, кроме Наумова, и все пьяны не меньше. Кстати, появление Наумова почему-то было неприятно Михайлову, как будто инженер напомнил ему что-то тяжелое.
Арбузов кричал и махал руками. Краузе молча и внимательно шевелил бровями. Тренев молодецки подкручивал усы и хохотал неизвестно чему. Рысков, еще не освоившийся с компанией, в которую попал по прихоти Арбузова, жался за спинами и не знал, куда девать себя.
Михайлову пришло в голову, что хорошо бы и самому напиться: закружить голову пьяным угаром так, чтобы все полетело к черту. Лицо Лизы с ее непонятными прозрачными глазами все еще стояло перед ним. Ну, что ж… сказал он, — ехать так ехать!
— Браво! — заорал Арбузов так, что беспокойно вздрогнуло чучело филина с дикими желтыми глазами.
Арбузов обратил на него внимание. Широко расставив ноги и свесив голову с упрямым широким лбом и воспаленными черными глазами, он долго мрачно всматривался в нею, потом с отвращением поморщился.
— Зачем ты эту пакость держишь?.. Я тебе лучше медведя пришлю.
— Куда я его дену? Медведь лучше.
— А где ж ты его возьмешь?
— У меня медведь есть.
— Да у вас медведь живой, — рассудительно заметил поручик Иванов, — нельзя же в комнате живого медведя держать!
Арбузов с пьяным недоумением посмотрел на него, точно ему в первый раз в жизни пришло в голову, что живого медведя нельзя держать в доме.
— И то правда… Всех натурщиц ему передавит!.. А, впрочем, ерунда! Убью, шкуру сдеру и подарю!
— Жалко убивать, Мишка славный! — чему-то смеясь, заметил Тренев.
Арбузов мрачно посмотрел на него. В его взгляде вообще было что-то странное, точно он подозрительно присматривался ко всем.
— Жалко?.. Ерунда!.. Никого не жалко!.. Убью и квит! — дико возразил он. — Всех убью!.. Медведь — что!.. Медведь — ерунда… для Сергея ничего не жалко!.. Я его люблю!.. Сережа, хочешь медведя?
— Отстань! — угрюмо ответил Михайлов. Опять, как при первой встрече, ему показалось, что Арбузов говорит не то, что у него на уме, и во всех его пьяных выходках есть что-то новое, злое и отчаянное.
— А то возьми?
— Едем же, господа! — сказал поручик Иванов.
— Ну, ладно… не хочешь — не надо!.. Если захочешь, сам возьмешь!.. Не так ли, Сережа, а?..
Михайлов быстро взглянул на Арбузова и вдруг увидел в его пьяных мрачных глазах такую откровенную страшную ненависть, что отвернулся.
— Ты здорово пьян! — угрюмо повторил он и гордо поднял свою красивую голову. — Разве тебя еще в крепость не посадили?
— Заплатил! — мрачно ответил Арбузов. Краузе, Тренев и другие уже выходили. Михайлов оделся, потушил свет, запер мастерскую и вышел за ними.
Сначала во тьме ничего не было видно. Потом забелели просветы между темными деревьями сада и зачернели силуэты трех экипажей. После короткой возни и шутливой перебранки все расселись, и с громом, звоном и криками экипажи понеслись по улице, разбрызгивая грязь и взбудораживая всех собак.
— Гони! — дико кричал Арбузов на передней тройке.
Поручик Иванов свистал соловьем-разбойником…
Когда все стихло вдали, в саду Михайлова от старой большой яблони отделилась едва видная во мраке фигурка в сером платочке на распустившихся мокрых волосах.
Выбежав из мастерской, Лиза остановилась на крыльце. Ей некуда и незачем было идти. Все то, что могуче и стихийно росло вместе с ее молодым сильным телом, чтобы распуститься в нежности, ласке и любви, было смято, брошено и втоптано в грязь.
Ей казалось, что весь мир с его лунными ночами, когда так сладко и больно мечталось, с его яркими солнечными днями, когда так красиво и радостно было бегать по саду и чувствовать тепло солнца на едва прикрытых плечах и свежей груди, со всеми его цветами, садами и облаками, вдруг скомкан, словно грязная тряпка. Все рушилось, страшная пустота была кругом и внутри.
Звон и гром подъехавших к воротам экипажей и крики пьяных голосов заставили ее опомниться. Она заметалась на крыльце, не зная, куда деваться. Она не боялась, что ее увидят у Михайлова — теперь ей было все равно, что о ней скажут и подумают, но она сама себе казалась такой униженной, опозоренной, несчастной, что, мнилось, лучше умереть, чем взглянуть кому-нибудь в глаза.
Машинально она хотела вбежать обратно в комнаты, но вдруг вспомнила все, отшатнулась и, как давеча, схватив себя за голову, путаясь в платье, побежала в сад.
Черные фигуры мужчин, входившие в калитку, уже могли видеть ее, и Лиза забежала в самый отдаленный уголок сада.
Там было темно, как в лесу. Деревья слились вокруг в молчаливую черную чашу, и жуткий мрак из-под каждого куста смотрел на Лизу бездонными глазами.
Дождь перестал, и тучи кое-где прорвались в вышине. Небо было так черно, что не видно было просветов, но яркие осенние звезды заблестели меж ветвей. Прямо над головой Лизы одна яркая большая звезда загадочно шевелила длинными лучами.
Лиза задела плечом ветку, и в темноте ее всю обрызгало крупными холодными каплями. Мокрая тонкая кофточка прилипла к плечам. Она не замечала, что вся дрожит от холода, и стояла во тьме, прижавшись к дереву, точно стараясь совсем исчезнуть в сырой чаще.
Слышно было, как со смехом и криком вышла арбузовская компания на крыльцо, как они вышли за ворота и долго рассаживались в экипажах. Лиза слышала, как Арбузов кричал:
— Сергей, садись со мной!
И при имени Михайлова вся сжалась в немом ужасе.
Нестройно и дико заголосили на улице бубенчики и быстро стали удаляться. Слышно было, как глухо дрожала земля. Все тише и тише звенели голоса, и, наконец, все стихло. Тишина выступила отовсюду и заворожила жутким безмолвием темный сад. В недостижимой высоте, за тучами, еще дальше, еще выше ярко и холодно замигали звезды.
Лиза тихо, как привидение, вышла из сада и растерянно остановилась посреди двора.
«Куда теперь?» — не подумала, а почувствовала она.
Домой?.. Зачем?.. Там ждали ее оскорбления, там она была грязным пятном, испортившим жизнь. Все кругом опустело, никому и нигде она не была нужна.
Медленно прошла Лиза мимо крыльца, по которому час тому назад взбегала с таким радостным нетерпением, и невольно оглянулась на него.
Двери, наглухо запертые, смутно белели во мраке. Черной массой тяжело и страшно высился дом, и ни одного огонька не было в темных окнах.
Лиза остановилась, посмотрела кругом, как выгнанная из дому, и вдруг бросилась на крыльцо, положила голову на грязные, затоптанные пьяной толпой ступени и замерла.
Бледный отсвет звезд чуть освещал ее скорченную жалкую фигуру на ступенях крыльца. Она лежала без мысли и движения, чувствуя только одно, что ей некуда идти отсюда, где умерла ее любовь.
Она не думала об этом, но во всем теле ее было такое чувство, точно она сошла с ума: ее огромная беззаветная любовь наполняла и освещала для нее весь мир, она казалась Лизе такой громадной, что порой делалось страшно, что такое большое чувство в ее маленьком теле, и казалось, будто сердце не выдержит. И вдруг это громадное, больше земли, подымающееся к самым звездам, оказалось не нужным никому. Была страшная боль и дикое удивление. Она даже плакать не могла и лежала как мертвая, в глухом забытьи, испачкав всю руку и плечо в липкой холодной грязи.
Что-то мягкое, теплое и мохнатое скользнуло по ее ногам, и горячий собачий нос ткнулся ей в самое ухо. Дворовая собака, виляя в темноте хвостом, смотрела на нее, и странная печальная ласка светилась в черных умных глазах, говорящих что-то, чего не могла выговорить немая смешная морда.
Лиза с силой охватила мохнатую жесткую шею и прижалась лицом к пахнущей псиной мокрой шерсти.
Собака радостно заволновалась всем телом, стала вырываться, горячо и громко задышала в ухо и вдруг широко лизнула ее прямо в нос.
Лиза машинально отодвинулась, оглянулась кругом, увидела темный сад, звезды в вышине, себя, маленькую и жалкую, никому не нужную, на грязном крыльце обнимающую чужую собаку.
Страшная жалость к себе потрясла ее, и она, наконец, поняла все: она поняла, что все кончено, и она даже не увидит больше Михайлова; Лиза почувствовала, что сердце ее оборвалось. Она не обвиняла его: странная печальная покорность была в ней. Ну, да, она любит его и теперь даже больше, и должна умереть, потому что не может жить без него. Это разумеется!.. Жить не для чего. Отец, верно, уже знает, где она… Лучше умереть!.. Ну, что же… ее любовь не нужна ему, он не виноват, что не любит ее. Только зачем же он ласкал и целовал ее?.. Только женщина?.. Разве это можно?.. Ведь она не только женщина, у нее не только это тело, о котором он говорил, у нее вот тут, в груди было что-то светлое, как маленькое солнце, а теперь там пусто, холодно и так больно, больно!.. Неужели ему не жаль ее? Ведь она же любит его!..
Ей было странно, что это слово, такое большое и прекрасное, звучит так бледно и ничего не доказывает. Ну, да, она любит, но ему-то ее любовь не нужна. Просто — не нужна!.. И вся красота и громадность от этого одного слова «не нужна» обращаются во что-то пустое, глупое и жалкое.
Значит, в то время, когда по целым дням и ночам она с мокрыми от любви глазами думала о нем, задыхаясь от счастья, вспоминала его лицо и его ласки, он целовал и ласкал так же, как ее, другую женщину! Лиза вспомнила Евгению Самойловну как живую, увидев ее всю, в ярком красном платье, с красивым смелым лицом, гибкую, стройную, ловкую и изящную… Больно сжалось ее сердце: да, та лучше, страшно лучше, страшно лучше ее!.. Какими же жалкими и бедными казались ему ее ласки после ласк той женщины?.. А она чувствовала такую гордость, что ему нравится ее тело!.. Какой же смешной и жалкой была она, когда под его ласками думала, что доставляет ему громадное наслаждение, и была счастлива этим!..
Чувство невыносимого унижения подавило Лизу. Она вся скорчилась на крыльце, точно даже от звезд хотела спрятать свое жалкое, никому не нужное тело.
И вдруг вспомнила последнюю сцену.
Она увидела себя с горячим чувственным лицом, с позорными, просящими ласки глазами, мутную влагу которых она сама тогда почувствовала. Как она хотела его ласки, как тянулась к ней, подставляя себя, напрашиваясь, как последняя тварь!.. Что с ней сделалось тогда?.. Как она могла быть такой?.. Должно быть, она была отвратительна в эту минуту!.. А ведь он не хотел ее, он даже не обрадовался ей. Она сама навязалась ему, а он взял ее только из жалости.
Ужас отвращения к себе самой потряс Лизу. Все тело, руки, ноги, плечи, грудь показались ей омерзительно грязными. Она заметалась, как подстреленная, вскочила, упала на крыльцо, опять вскочила и опрометью бросилась со двора.
XV
В клубе было пьяно, шумно и буйно. Из буфета несся такой треск, звон и гам, точно там была драка и били посуду. Многие обычные посетители ушли из клуба, узнав, что кутит арбузовская компания. Ждали скандала, и толстый дежурный старшина трусливо мялся возле буфета, не зная, что предпринять.
Некоторые, уходя, говорили ему оскорбительные вещи. Жена директора гимназии сказала возмущенно:
— Если миллионер, так ему вес можно!.. Это безобразие!
Коротенький добрый человечек растерянно развел руками.
— А что я могу сделать? Вот будет общее собрание, тогда мы подымем вопрос…
— Ваше собрание! — презрительно воскликнула жена директора. — Разве вы посмеете хоть слово сказать Арбузову? Дождетесь, что он начнет всем физиономии бить!
— Бить не бить, а горчицей мазать начнет! — заметил молодой учитель русского языка, однако так, чтобы старшина не слыхал.
Дама язвительно захохотала и вышла, гордо подняв голову, а старшина растерянно побежал в буфет, где ни с того ни с сего напустился на лакеев.
Арбузов был пьян: как никогда. Он кричал, опрокидывал бутылки, требовал все новое и новое шампанское. Лицо его было смертельно бледно, и глаза смотрели почти безумно.
К компании присоединились еще два офицера, седой ротмистр из татар и хорошенький мальчик корнет со свеженьким личиком, влюбленный в Арбузова, который подавлял его богатством, бесшабашностью и размахом. Пришел из библиотеки и маленький студент Чиж.
В этот вечер пил даже Наумов, хотя и не было заметно, чтобы это на него особенно подействовало.
Рысков, оглушенный и ошеломленный великолепием кутежа, страшно гордый тем, что находится в компании миллионера Арбузова и господ офицеров, робко сидел на краешке стула, и перед тем, как взять рюмку или кусок, оглядывался на Чижа.
Михайлов выпил один за другим несколько стаканов и страшно побледнел. В голове у него было совершенно ясно, и все звуки, движения и слова даже как-то особенно отчетливо врезывались в мозг, но в то же время он был пьян и чувствовал это. Был он как в лихорадке и блестящими глазами оглядывал всех, точно видя их в первый раз. Где-то, в самом краешке мысли, мелькало у него что-то гадкое, как трусливый серый зверек с длинным хвостиком: было какое-то скверное воспоминание, но как он ни старался поймать его, не мог.
Чиж сидел в уголке и тоже мучительно приглядывался ко всем: он не знал, известна ли им его история с Трегуловым, боялся намеков и все время был настороже, как затравленный. Почему-то ему казалось, что именно Арбузов непременно заговорит об этом и заговорит в самой издевательской, оскорбительной форме. Поэтому он все время порывался уйти, но решительно не мог: воспоминание о своей маленькой комнате с голыми стенами и тусклой свечой, с мучительными одинокими думами и тоской вызывало в нем чувство, близкое к ужасу.
Тренев пил и кричал больше всех. Он чувствовал себя превосходно: дома было тихо, жена сама послала его развлечься, и Тренев с нежностью думал, что она встретит его ласково и радостно. Поэтому он был влюблен в нее снова, и ему страстно хотелось кому-нибудь рассказать, как он любит свою жену и какая она прелестная женщина.
Он все время приставал к Краузе.
Длинный корнет пил мало, был бел, как картонный, и окончательно молчалив. Косые брови особенно резко шевелились на его мефистофельском лице. Видно было, что им владеет какая-то напряженная мысль.
— Краузе, пейте! — кричал Тренев, наливая. Вы — славный товарищ, хотя и большой руки чудак!.. Вы не обижайтесь, ей-Богу, чудак!.. Но я вас очень люблю, право!.. Что вы все такой задумчивый? Выпьем лучше!.. Ну, что там думать… всего не передумаешь!.. И не слушайте вы этого…
Он ткнул пальцем в Наумова.
— Он все врет, ей-Богу!.. Ведь ты все врешь, батенька, а? — с пьяным дружелюбием на «ты» обратился он к мрачному инженеру.
Наумов холодно и криво усмехнулся, но ничего не сказал.
Тренев повернулся к Михайлову и с таинственным видом, но так громко, что все слышали, сказал:
— Умный человек, ей-Богу!.. Но все врет!.. Это он просто со злости: ему, бедняге, должно быть, самому в жизни не повезло, вот он и кричит, что жизнь надо уничтожить!.. А я не хочу!.. Зачем?.. Жизнь славная штука!..
Тренев в решительном восторге размахнул руками.
— Но многое и верно, ей-Богу!.. Он все-таки молодец, и я его очень люблю… Наумов, я о вас говорю… а?
Наумов уже совершенно зло улыбнулся, но опять промолчал.
— Кто врет?.. Сам ты врешь! — вдруг привязался Арбузов, через стол расслышав конец фразы. — Все верно!.. Дрянь жизнь, и больше ничего! По-моему, тут и философии никакой не надо и идей не надо, а просто сама по себе дрянь!.. Ну ее к черту!.. Ты как думаешь, Сережа?
Михайлов блестящими глазами посмотрел на него, хотел что-то сказать, но только махнул рукой. Его прекрасное лицо было весело и ласково, как у ребенка. Ему все нравилось, и все казалось удивительно интересным.
— Нет, врешь сам! — стучал кулаком по столу Тренев. — В жизни все-таки много хорошего!
— Ну?.. Что? иронически спросил Арбузов. — Как что?.. Да много… Ну, женщины, любовь, товарищи, природа… Мало ли!
— Тю! — крикнул Арбузов мрачно и зло. — Счастливая любовь пошлость, а несчастная — страдание!.. Вот!.. Запиши!.. А товарищи… где ты их видел, ротмистр?.. Все друзья-приятели до черного лишь дня!.. Пить вместе — можно, а что у кого на душе делается, черт его знает!.. И никогда не узнаешь!.. А коли не узнаешь, так какое же тут товарищество?.. Ты думаешь, он тебе друг, а он, может, жизнь твою разбить собирается… Ты, Сережка, как думаешь? — спросил он вдруг таким зловещим, почти грозным голосом, что Михайлов оглянулся.
Но Арбузов уже не смотрел на него и, глядя почему-то на одного Рыскова, очень этим польщенного, продолжал:
— Раз кто на месте стоит, уж туда не станешь, не столкнув… так что уж тут!.. Товарищи! Друзья!.. Ты знаешь, что я о тебе думаю?.. Ну, вот, что Краузе думает, знаешь?.. Нет. У, немчура длинная!.. Маска, а не лицо… от одного носа жуть возьмет!.. А… любовь, говоришь?. Э, брат!..
Арбузов махнул рукой и заорал:
— Вот водка это — дело!.. Не вино и не водку, я кровь мою пью, ею горе мое заливаю!.. Плюнь!.. От хорошей жизни не запьешь, голову дурманом от счастья не заливают!.. Человек первый раз тогда и напился, когда невтерпеж стало!..
Тренев яростно отмахивался от него.
— Нет, ты там что ни говори… — хотя в эту минуту ему ровно ничего хорошего в голову не приходило, а было, напротив, очень скверно, одиноко и тяжело. Он поймал вилкой на тарелке какой-то скользкий грибок, положил в рот и поморщился.
— Правду я говорю? — не унимался пьяный Тренев, не довольствуясь молчаливым согласием.
— Конечно, правду… подтвердил маленький студент.
Арбузов злобно захохотал.
— Если кто и виноват, так люди сами… продолжал Тренев.
— Какие люди? — подхватил Арбузов, прищуриваясь. — Те, которые бьют, или те, которых бьют?.. Как вы на этот счет, Кирилл Дмитриевич?
Чиж почувствовал, что вся кровь бросилась ему в лицо. Он растерялся и жалобно оглянулся кругом.
— Глупо! — сказал он.
— Что-о? — зловеще переспросил Арбузов и привстал. Его черные воспаленные глаза загорелись бешеным огнем. Он точно обрадовался предлогу сорваться с цепи.
Чиж искоса взглянул на него и позеленел.
— Вы слишком мною себе позволяете… — вставая, пробормотал он каким-то жидким цыплячьим голосом.
— Много?.. Ах, ты… — крикнул Арбузов, но Михайлов схватил его за руку.
— Захар, ну что ты! — крикнул он.
— Оставь! — бешено рванулся Арбузов. — Не твое дело!
— Перестань… или я уйду!.. Как тебе не стыдно? — продолжал Михайлов.
Арбузов быстро повернулся к нему и с минуту неподвижно смотрел прямо в глаза.
— Ну, садись, пей!
Арбузов молчал и не спускал с него неподвижных глаз. Михайлов вдруг тоже замолчал и тоже пристально стал смотреть в глаза Арбузову, не выпуская его руки. Рука эта дрожала все сильнее, но не вырывалась. И почему-то Михайлов почувствовал, что если выпустить руку, Арбузов ударит его. Он побледнел, но еще крепче перехватил руку.
Вдруг рука перестала дрожать и бессильно обмякла в пальцах Михайлова. Арбузов машинально освободил ее и не глядя сказал:
— Другой раз не делай… не люблю…
И заорал на весь клуб:
— Ну, пей, ребята!.. Что там!.. Кирилл Дмитриевич, выпьем… Я так… я пьян!.. Ну!.. Руку!
Чиж не подал руки, но его обступили, начали уговаривать. Арбузов сам подошел к нему, добродушно улыбаясь:
— Да полно… Ну, что там!.. Помиримся!
— Оставьте, Кирилл Дмитриевич, стоит внимание обращать!.. Ведь он же пьян! — говорил над ухом Чижа огорченный Тренев.
Чиж со страшным усилием подал руку, не подымая глаз.
— Ну, вот и ладно! — сказал Арбузов, крепко тряхнул руку Чижа и сейчас же забыл его. Некоторое время он молчал и пил как-то странно, внутрь себя глядя.
Тренев уселся возле Чижа и, дружелюбно обняв его за плечи, говорил:
— Вы напрасно придаете этому такое значение… Мало ли на кого может бешеная собака броситься…
Арбузов вдруг захохотал.
— Это я — бешеная собака?.. Браво, ротмистр!.. Верно!.. Кланяйся своей жене, ротмистр!..
Тренев оглянулся на него и добродушно сказал, повернувшись к Чижу:
— Ну, вот… видите, какой он?.. Ко всем лезет!.. Но я его очень люблю!..
— А я тебя, ротмистр, терпеть не могу! — подхватил Арбузов.
Его словно дергало. Видимо, он искал ссоры.
— Ну, вот, — так же миролюбиво и опять-таки конфиденциально, одному Чижу, сказал Тренев, — я говорил?.. И ничего ему от меня не надо… дурак!..
Арбузов почесал затылок с самым мирным видом.
— Ну, пусть… Не всем таким умным быть, как ты!.. И вдруг всколыхнулся весь.
— А знаете, господа, что с нами будущий знаменитый писатель сидит!.. Вот уж где ума палата!
Рысков обомлел. Арбузов смотрел прямо на него и злобно усмехался.
Казначейский чиновник сразу же из желтого сделался красным, поперхнулся куском и пробормотал:
— Захар Максимыч, вы обещали никому…
Арбузов сделал удивленное лицо.
— А ты почем знаешь, что я о тебе?.. Может, это я — знаменитый писатель?.. А, так это — ты?.. А я и не знал!.. Ну, если сам выскочил, так, значит, — ты… Господа, имею честь представить вам будущего Толстого!.. Вы не смотрите, что он только казначейский чиновник и мордой не вышел!
Рысков заметался, как заяц.
— Нет, я не потому, что я… я, напротив… что это вы?
Арбузов его не слушал.
— Хотите, господа, прочту последнее произведение знаменитого нашего писателя? А?
— Это любопытно! — отозвался толстый поручик Иванов, которому с самого начала вечера было весьма неприятно присутствие какого-то казначейского чиновника.
— Читайте, читайте, Захар Максимыч! — крикнул хорошенький мальчик-корнет.
Арбузов немедленно важно полез в карман и вытащил тоненькую синюю тетрадку, которую сейчас же узнал Чиж.
— Вот… Слушайте, господа!.. «Любовь», рассказ Александра Рыскова…
— Захар Максимыч, пожалуйста… как же такое… я прошу!.. Зачем же издеваться?..
— Я не издеваюсь, я слух хочу усладить!
— Ну, я вас прошу! — бледный, с красными пятнами и потом на лбу, бормотал Рысков, вставая и протягивая руку к тетрадке.
— Нет, брат, написал так написал!..
Рысков бессильно шевелил пальцами протянутой руки, не смея дотронуться до тетрадки, которую Арбузов нарочно держал у самых пальцев его, как бы не замечая протянутой руки.
— Итак, господа, слушайте: «Александр медленно шел по аллее парка… Его бледное лицо с высоким лбом, на котором вились мягкие каштановые волосы…»
— Захар Максимыч! с мужеством отчаяния ухватился за тетрадку Рысков. — Но я же не хочу!.. Арбузов медленно и как бы задумчиво повернулся к нему лицом.
— Не хо-чешь? — по складам произнес он. — Не по-зво-ляешь?.. Жаль! А я бы прочел!
— Нет! — жалко улыбаясь, сказал Рысков.
— Нет?.. Ну, и черт с тобой… на! — бешено крикнул Арбузов и швырнул тетрадку прямо в лицо Рыскову.
Рысков отшатнулся, машинально поймал тетрадку, веером ударившую ему в подбородок, и скомкал ее на груди. Он растерянно оглянулся кругом, точно хотел спросить:
«За что же это?..» И лицо его было жалко, так было ясно, что он не смеет оскорбиться, не смеет слова сказать, что всем стало неловко. Даже поручик Иванов отвернулся. Один Арбузов смотрел по-прежнему мрачно, и злорадные искры мелькали у него в глазах.
— Вот вам и жизнь… сочинители! — непонятно проговорил он сквозь зубы с каким-то наслаждением. Ха!.. Инженер!.. За твое здоровье, за твою идею, хоть и ты сумасшедший, и идея твоя сумасшедшая!.. Пей!..
Наумов приподнял свой стакан.
Арбузов мрачно, точно отыскивая новую жертву, окинул глазами стол.
— Краузе! — крикнул он. — Немчура!.. Скоро ты застрелишься?
— Сейчас, — холодно и высокомерно ответил корнет.
Это было так неожиданно, что многие прыснули.
— Вот те и раз! — ошеломленный, вскрикнул Арбузов. — Как — сейчас? Тут?..
— Тут, сейчас… — так же холодно и высокомерно повторил Краузе.
Но в ту же секунду все заметили, что лицо его стало совершенно и даже до неприятности бледно, и какая-то судорога стянула острый подбородок.
— Шутишь! — вдруг дрогнувшим голосом крикнул Арбузов.
— Я никогда не шучу, — ответил Краузе очень глухо и невнятно.
И сейчас же встал во весь рост, неимоверно длинный, прямой и тонкий, с лицом презрительного Мефистофеля, на котором резко чернели косые брови.
Только тут заметили многие (хотя в ту минуту об этом и не подумали, а лишь после вспоминали, как нечто чрезвычайно важное), что Краузе был одет, как на парад: в блестящем новеньком мундире с серебряной шашкой, в щегольских лакированных сапогах. Но хотя и не подумали, но вряд ли не по этой именно незначительной подробности вдруг почувствовали, что это не шутка.
Странное смятение произошло вокруг пьяного стола, уставленного бутылками, стаканами, грязными тарелками, залитого красным вином, как кровью. Кажется, кто-то что-то крикнул. Совершенно невольно вскочили со своих мест Чиж и Михайлов. Наумов хотел говорить, но Краузе взглянул на него с ледяным величием, и Наумов не сказал ни слова. Арбузов попробовал засмеяться:
— Ай да немец!
Краузе с тем же холодным достоинством взглянул и на него. И странно, всякий, к кому поворачивалось его неподвижное лицо со странными косыми бровями, умолкал и оставался на месте. Нечто ледяное исходило от него и замораживало всех.
— Да, я сейчас застрелюсь, — совершенно спокойно, хотя несколько глухо, сказал Краузе, — как это ни странно… и такое место… но у меня есть свои причины. Я именно ждал такого момента, когда покажется не страшно, а смешно и глупо… Так надо. Я бы мог незаметно, но мне хочется сказать… пусть не думают, что трагедия… Я не могу жить, но не потому, что говорил он…
Краузе кивнул головой в сторону Наумова.
— Мне все равно, что реки крови и человечество… Пусть другие живут, если им можно… Я не могу. Я не хочу сам для себя, потому что просто не интересно. Вот и все. Не трагедия, не ужас, не бессмыслие, а просто не интересно. Природа и красота — маленькие и надоедают… Любовь маленькая… Человечество просто глупо!.. Тайны мироздания не известны, а когда узнают — будет не интересно!.. Все не интересно, как то, что уже знаем… В вечности нет ни малого, ни большого, а потому спичка тоже тайна и чудо… Но мы знаем спичку и не интересно. Так и все… И что бы ни открылось. И когда Бога узнаем, будет не интересно. Зачем проповедую, как он… — тут Краузе опять указал на Наумова, — мне просто самому не интересно… Может быть, другим не так… И я еще хотел сказать, что прощайте… Потому что, я думаю, мы больше не увидимся… А если увидимся, то будет так же скучно… Зачем?.. Бессмертие — скучно. Лучше не надо… Будет!..
К концу его раздерганной, сумасшедшей речи все уже стояли. Никто не верил, и все верили. Странны были лица кругом стола: целая цепь бледных пятен и блестящих зрачков с ужасом страшного предчувствия в глубине. Все застыло в страшном мертвом напряжении, и среди общей тишины холодно и как бы равнодушно звучал голос корнета.
И вдруг раздался пронзительный ужасный визг: молоденький офицерик, судорожно ухватившись обеими руками за стол и выпучив глаза, кричал все в одну ноту:
— Он застрелится, застрелится, застрелится…
Все шатнулось, загремело кругом. Попадали стулья. Кто-то с протянутыми руками кинулся к Краузе. Но мертвое лицо корнета повернулось, и косые брови сделали чуть заметное движение не то удивления, не то приказания власть имеющего. И бросившийся к нему остановился с протянутыми руками. Всем показалось в эту минуту, что Краузе как бы отошел, что его окружила пустота, и из нее, уже откуда-то страшно далеко, смотрит его призрачное лицо.
Необыкновенно ловко выхватив из кармана рейтуз револьвер, корнет быстро и аккуратно вставил дуло в рот…
Странно: момента выстрела никто как-то не понял, хотя многие инстинктивно отшатнулись и зажмурились. Это было так неожиданно, безобразно и нелепо, что не вместилось в сознании. И только когда длинное тело корнета, опрокидывая стул, тяжко грохнулось на пол, глупо ударившись затылком о стену, все точно очнулись и кинулись к нему с пронзительными и дикими криками ужаса.
XVI
В клубе были потушены все огни, и в полумраке растерянно суетились со всех сторон сбежавшиеся офицеры. Скоро приехал и полковой командир, красивый седой офицер. Ни с кем не здороваясь, в фуражке и пальто он озабоченно прошел прямо к трупу.
За буфетной стойкой горел только один матово-желтый рожок и мертвенно освещал большую разгромленную комнату. Стол, все еще заваленный грязными тарелками, рюмками и бутылками, залитый вином и водкой, как в трактире, торопливо сдвинули в угол, и на очистившемся месте, на полу, покрытом окурками и сором, лежал труп корнета Краузе.
Длинное неподвижное тело уже было накрыто чистой скатертью, взятой из буфета. Из-под нее, носками врозь, неподвижно торчали подошвы лакированных сапог, а там, где была голова, просочились темные пятна и намечался мертвый профиль.
Кто-то из офицеров, забежав вперед, поднял угол скатерти, и полковой командир невольно вздрогнул: там, где глаз невольно ожидал увидеть знакомое длинное лицо с косыми бровями, было какое-то безобразное и отвратительное месиво крови и чего-то жидко-серого. Кровь медленно стекала на пол, и вокруг головы густо расплывалась черная лужа. На стене, в том месте, где, падая, труп ударился затылком, присохли какие-то кусочки и от каждого вниз, до пола, стекла тоненькая черная струйка.
Полковой командир снял фуражку и перекрестился. Его красивое горбоносое лицо вдруг сморщилось, точно от внезапной боли, и губы задрожали.
— Это ужасно! — сказал он, ни к кому не обращаясь. — И так неожиданно!..
Толстый эскадронный командир беспомощно развел руками.
— По-моему, этта… этта… просто ненормальность!.. Нэ понимаю!.. Ничего нэ понимаю!
Полковой командир нетерпеливо пожал плечами и отошел, В дверях он еще раз оглянулся на длинное белое тело. Лицо Краузе уже опять было закрыто.
— Да, это ужасно! — повторил полковой командир и вышел.
Во всех комнатах и даже в прихожей толпились кучки офицеров с бледными лицами и возбужденными глазами. Никто ничего не понимал, хотя слухи о ненормальности Краузе упорно ходили в полку. Теперь все припомнили массу подробностей, предсказывавших этот ужасный конец, и каждому казалось странным, что никто не предвидел этого. Рассказывали об его уединенном образе жизни, далеком от обычных развлечений офицерского круга, об его игре на виолончели по ночам, о том, что он массу читал, а последнее время стал положительно каким-то странным, и явилась у него непонятная мания: в поле, во время ученья, зажигать костры и по целым часам смотреть на огонь.
Маленький, черный, чрезвычайно ловкий офицер, который был с Краузе в несколько лучших отношениях, чем другие товарищи по полку, рассказывал в кучке офицеров, смотревших ему в рот с напряженным и жутким любопытством:
— Захожу к нему вчера уже часу в третьем, а он еще не одет: сидит на кровати и держит в руках сапог… Я его спрашиваю: что ты там увидел?.. — А он говорит: «В том-то и дело, что ничего!» Потом засмеялся, швырнул сапог и лег. «Надоело», — говорит. Спрашиваю, что — надоело?.. «Все», — говорит!.. И лицо, понимаете, в самом деле такое, как будто бы ему все надоело до смерти!.. Ей-Богу… Я тогда же подумал, что дело плохо!..
— А ведь и в самом деле — надоело! — неожиданно отозвался один уже пожилой офицер с сосредоточенным и угрюмым лицом. — Все одно и то же, одно и то же… Ученье, производства, карты да водка!.. И как не осточертеет, право!.. Хоть бы война, что ли!.. Иной раз такая одурь возьмет, что сам пустил бы пулю в лоб, да и квит!.. И великолепно, право!..
На него оглянулись с любопытством, жадно ловя каждое слово. Все было так странно и жутко: в соседней комнате лежал загадочный труп, никто не играл в карты, не пил, все комнаты были полны встревоженными, взбудораженными людьми. Какой-нибудь час тому назад все жили обычной, привычной жизнью, все было так просто и обыкновенно кругом, и внезапно грянувший выстрел точно вышиб всех из колеи. Было мучительное недоумение, всеобщая растерянность, никто ничего не понимал и не знал, что делать и говорить. Бледный призрак нежданно встал посреди сонных, вялых людей, и они заметались в тоскливой тревоге. Имя Краузе вдруг как бы исчезло: о нем говорили «он» и произносили это слово почти шепотом с каким-то странным, почти благоговейным почтением.
Слова пожилого офицера многих больно ударили по сердцу: перед многими в эту минуту промелькнула серая полоса их жизни без яркого пятна и смысла. Некоторые окончательно растерялись, но многие и испугались чего-то, с недоумением и даже как бы оскорбленным видом отойдя от говорившего.
— А по-моему, это просто малодушие, и больше ничего! — горячо отозвался щеголеватый поручик, мечтавший об академии генерального штаба и считавший себя бесконечно выше всех товарищей по полку.
— При чем тут малодушие? — сумрачно возразил пожилой офицер.
— Да ведь этак всякий может… Пустил себе пулю в лоб и прав!.. Это слишком легко!.. Человек должен бороться, не падать духом, идти вперед!..
— Легко? — иронически прищурился пожилой офицер. — Попробуйте! — и отошел.
Поручик презрительно посмотрел ему вслед и сказал первое, что пришло в голову:
— А офицеру русской армии это… даже недостойно…
Пожилой офицер махнул рукой и пошел в комнату, где лежал Краузе. Он долго смотрел на длинное белое тело, точно хотел понять что-то, потом вздохнул, украдкой перекрестился мелким крестиком и торопливо ушел из клуба.
За ним стали расходиться и другие. Еще долго в тишине спящих улиц раздавались громкие голоса офицеров.
Клуб опустел. Кое-где остались гореть одинокие лампочки, и унылый полумрак холодно воцарился в обширных засоренных залах и гостиных.
В маленькой комнате за буфетом остались только Михайлов, Арбузов и Наумов.
Лакеи поставили им столик и зажгли свечи. Михайлов сидел, подперши обеими руками свою красивую голову и устремив блестящие глаза на огонек свечи.
Арбузов, тяжело ступая, ходил из угла в угол. Наумов сидел в тени, и выражения его лица не было видно.
Всех их точно придавило. Никто не мог прийти в себя, и минутами казалось, что этого не может быть, что все это только странный кошмар, какая-то непонятная, скверная нелепица.
В ушах еще стоял грохот выстрела, а перед глазами длинное белое лицо с косыми бровями и непонятными страшными глазами: что-то было в них в эту последнюю минуту, что-то больно и страшно вонзившееся в сердце, но что — никто не мог понять.
И вообще мысли неслись хаотически, без смысла и порядка. Было так дико, душно и тяжело, что минутами казалось, будто нечем дышать. Никто не решался заговорить.
Только когда прозвучали в передней голоса последних уходивших офицеров и чуткая тишина, странная и жуткая после всеобщей суеты, шума и движения, холодом поползла по опустевшим комнатам, Арбузов встряхнулся, точно сбрасывая невидимую тяжесть, махнул рукой, очевидно, на какие-то свои мысли и сказал с надорванной бесшабашностью:
— Доигрались!.. Вот тебе и немец!.. В голову не пришло! И главное, ни к селу ни к городу… Я до последней минуты думал, что он шутит!.. А он — на!.. Бедняга!.. А впрочем, что ж?.. В конце концов, все там будем!.. А сегодня или завтра умирать — копеечный расчет!.. Плевать…
— Да, конечно, — смутно отозвался Михайлов, не сводя точно загипнотизированного взгляда с огня свечи. — А все-таки… как все неожиданно, странно… ужасно все-таки!..
Арбузов походил по комнате, свесив тяжелую голову. Потом остановился, бесшабашно тряхнул головой и крикнул:
— О, черт!.. Что ж, господа… выпьем за упокой души, что ли. Тошно!..
Он мотнул шеей и, схватившись за ворот рубахи, с размаху разорвал его, обнажив крепкую бычачью шею.
— Выпьем!
Михайлов чуть-чуть пожал плечами, точно хотел сказать, что теперь все равно.
Арбузов вышел в буфет и скоро вернулся. Заспанный, совершенно равнодушный лакей внес за ним две бутылки и стаканы.
Лицо Арбузова было бледно и странно дергалось.
— Лежит! — криво усмехнувшись, сказал он и дрожащей рукой стал разливать вино по стаканам.
Михайлов быстро поднял голову, посмотрел и опять уставился на свечу.
— Ну, — пригласил Арбузов, — бери, Сережа! Михайлов машинально взял свой стакан.
— А ты, инженер?.. Пей! — крикнул Арбузов. — Что ты там спрятался? Или совесть нечиста?
Он сказал это усмехнувшись, но почему-то не глядя на Наумова. Михайлов, напротив, быстро взглянул на инженера, но сейчас же отвернулся.
Наумов встал из своего угла и подошел к столу. При свете его лицо было бледно и подергивалось, но глаза смотрели решительно и твердо. Давай! — сказал он резко.
Арбузов подвинул стакан. Инженер взял, но не пил и, держа стакан в руке, злобно и насмешливо посмотрел на Арбузова.
— Ты что ж… хочешь сказать, что это я виноват в смерти Краузе, что ли? — спросил он, видимо не сомневаясь в ответе и ожидая его, как удара.
Арбузов мрачно, точно принимая вызов, посмотрел черными воспаленными глазами. — Ты! — ответил он грубо.
Судорожная тень прошла по лицу Наумова. Он помолчал. Михайлов, подняв голову, снизу смотрел на него.
— Я бы не стал отказываться от такой чести, — с деланной усмешкой заговорил инженер, — но, к сожалению, я тут ни при чем.
— Будто? — иронически качнул головой Арбузов.
— Да, — твердо продолжал Наумов, — нельзя человека заставить поверить в то, что ему надо умереть, когда ему хочется жить… Никакое красноречие и никакие идеи тут не помогут. Это абсурд. Если бы Краузе не носился с этой мыслью давно…
— Ну, брат, — перебил Арбузова — кстати сказать, словечко тоже хорошо! Носился-то носился, а…
— А я последнюю каплю влил?.. Ну, что!.. Может быть. Тем лучше! — жестоко закончил инженер. Этим меня не испугаешь!
— Послушайте! — неожиданно заговорил Михайлов со страстным порывом. — Ну, хорошо… пусть… Но оставим хоть на одну минуту все ваши слова и теории… Скажите просто, как человек… ну, хоть раз в жизни… вам не страшно?.. Не жаль?.. Верите вы в то, что говорите?.. Не умом, сердцем верите ли?
Наумов быстро взглянул на него.
— Не страшно, не жаль… верю! — отчетливо и резко, точно обрубая, ответил он.
Михайлов как-то беспомощно опустил голову. Арбузов перестал ходить и сумрачно уставился на инженера.
Наумов вдруг крепко поставил стакан на стол, так что вино пролилось, и заговорил быстро, с выражением истерическим:
— Послушайте, вы!.. Ну, скажите… взгляните в лицо своей собственной жизни… Только прямо, без страха и готовых слов!.. Неужели вы счастливы? Неужели вам никогда не приходило в голову, что лучше бы не родиться?.. Неужели у вас в жизни есть хоть один момент, который вам действительно хотелось бы вновь пережить?.. Ну, да… минуты хорошие были, но что — минуты?.. Но такое, чтобы всю жизнь прожить с начала, лишь бы этот момент повторился?.. Ну?..
Он в упор, перегнувшись через стол, смотрел в лицо Михайлову, и глаза его блестели.
Михайлов снова поднял голову и встретил этот взгляд. И точно в каком-то черном зеркале перед ним пронеслось смутное видение всей его жизни. Это было что-то безначальное и бесконечное, бледным серым днем уходящее в туманную даль. Какие-то солнечные пятна мелькали перед ним, но их было мало, мало…
— Нет! — встряхнув головой, чтобы отделаться от этого болезненного кошмара, сказал он.
Арбузов весело засмеялся.
На лице Наумова появилось лихорадочное и как бы злорадное оживление. Оно точно осветилось изнутри каким-то мрачным блеском.
— Так что же вы хотите от меня?.. Вам зачем эта жизнь?.. Зачем она была несчастному Краузе, зачем она миллиардам задыхающихся, умирающих, обманутых людей?.. Зачем?.. Я вижу всю эту бесконечную, нудную историю… От каменного века до наших дней — борьба и борьба!.. Народы исчезают, рушатся культуры, погибают искусства, стираются с лица земли города, а мы все идем и идем вперед, падаем, задыхаемся, проклинаем, грызем друг друга, как заклятые мертвецы, обливаем своею кровью и слезами всю землю!.. То воздвигаем пророков, то тащим их на крест, то верим, то проклинаем, то курим фимиам, то топчем ногами… бьемся, как рыба об лед… и зачем же, наконец, это?..
Голос Наумова звучал резко и властно, точно он спрашивал на каком-то страшном суде.
— Ради веры в какое-то лучшее будущее?.. Какое?.. Да ведь это же смешно!.. Разве оно может быть?.. Ведь страдание — единственный двигатель жизни и не одного человека!.. Ведь все, что движется, все, что мы делаем, все наши науки, философии, религии и искусства, все, что мы так гордо вознесли, точно башню Вавилонскую, ведь это все страдание выгнало из нас, как нарыв из гнилого тела!.. Ведь если бы человечество хоть на одну минуточку почувствовало себя счастливым и удовлетворенным, все рушилось бы в ту же секунду, потому что никому и в голову не пришло бы пошевелить рукой, а не то что возиться над какими-то тайнами и проблемами!.. Все движется страданием и вечной тоской неудовлетворенности!.. Без них нет жизни, это и есть жизнь!.. Так зачем же это?.. Скажите!
Наумов помолчал, точно и в самом деле ждал ответа. Он даже переводил свои блестящие глаза с одного лица на другое. Никто ему не ответил. Михайлов пристально смотрел на огонь, Арбузов, широко расставив ноги и опустив тяжелую лобастую голову, упорно не спускал глаз с лица Наумова.
— И никто не скажет! — опять заговорил инженер, — а если скажет — солжет, потому что не знает и знать не может, как бы ни хотелось уверить себя, что знает и верит. От трусости, от растерянности выдумали себе богов, ближних и дальних, высокие слова и туманные идеалы… весь этот пышный арсенал полной беспомощности, нечто вроде тех бумажных драконов, с которыми китайцы выступали против французских пушек!.. Жизнь, как картечь, в клочья разносит и бумажные страшилища, и самих китайцев, а они только удивляются… Как же так: так страшно, так пышно, а никто не боится!.. Бедные дикари!.. И никому из них в бедную голову не придет, что это только чучела из бумажки. Ни богов никто не видел, ни царствия небесного представить не может, ни бессмертия души вообразить… Что ж делать?.. Швырнуть свои чучела?.. Нет, надо сделать другие: золотой век, торжество пролетариата, будущее принадлежит социализму!.. С новыми бумажными чудищами выступаем на бой!.. Вот, наконец, во что уперлись тупые и трусливые лбы, которым страшно взглянуть правде в глаза, страшно очутиться вдруг одним, с голым фактом в руках!..
Голос Наумова зазвучал настоящей ненавистью.
— Им не понять, что социализм и пролетариат только мгновения этого безграничного будущего, что золотой век не может просуществовать трех дней, потому что опаршивеет и надоест всем до смерти, до того же отчаяния, потому что и в золотом веке будет то же непонятное будущее… тот же недоуменный вопрос: ну, хорошо… золотой век… а дальше?.. А потом?.. И опять-таки зачем же, зачем, в конце концов?..
Наумов задохнулся от напряжения, сжал кулак и заговорил спокойнее и глуше.
— Этот вопрос никогда не перестанет мучить людей. А если бы и перестал, если бы, наконец, узнать все… У писателя Арцыбашева есть рассказ «О великом знании»… полуфантастический, иронический рассказ… Там у него некий человек продал душу черту за то, чтобы знать все… И узнал!.. И на другой же день пошел, засунул голову в помойную яму и так и сдох!.. Арцыбашев не говорит почему, что он узнал?.. Но ведь это так и есть, так и должно быть: ведь если узнать все до конца, до самого последнего слова, то ведь тогда-то и наступит последний ужас уже полного, конечного бессмыслия! Тогда уже окончательно и навсегда не для чего и незачем будет жить!.. И в самом деле, останется одно: пойти и засунуть голову куда попало, хоть в помойную яму, чтобы только ничего не видеть, не слышать, не понимать и не знать!..
Наумов опять замолчал, кусая губы и странно бегая взглядом по сторонам.
— Допустим, — заговорил он снова и уже совсем обычным голосом, — что это не так, когда разверзнутся небеса и сам Господь Саваоф предстанет перед нами во всей славе своей, и узнаем мы все, то тут-то и обнаружится такой смысл, какого мы и не предчувствовали, такие цели, о которых слабым своим человеческим умом и предполагать не могли, и тут сразу все разъяснится и наступит полное и хотя совершенно бесцельное, но фактическое блаженство… Но на что же оно нам «тогда»?.. Ведь я человеческим разумом от него отказываюсь!.. Ведь я, как человек, запутался в бессмыслии, и, как человек, я никогда не выйду из него! Что же мне до того, что дух мой там воссияет, как звезда утренняя, когда я тут, в смраде бессмыслия и муки, задыхаюсь, как собака!.. А тем паче, если бессмертия, как на грех, и вовсе не окажется, то что мне в том, что кто-то, когда-то, где-то воссияет!.. Да ведь я того, кто воссияет, даже и представить себе не могу!.. Да будь он проклят!.. Что мне до того, что какой-то там Иван Иванович в четыреста биллионном столетии будет ходить в голубых ризах и пальмовой веткой обмахиваться? Он будет в голубых ризах с пальмой прохаживаться, а я буду тут, сейчас, как собака издыхать в грязи и мерзости?.. Да не хочу я этого вовсе!.. Не только не хочу страдать и жить для этого Ивана Ивановича, а пропади он пропадом! Пусть сдохнет он со своими пальмами и блаженствами!.. Если я по отношению к нему чего и хочу, так только одного: чтоб ему и вовсе не родиться!..
Наумов засмеялся со злостью.
— Что меня манят раскрытием тайны?.. Поздно!.. Ошибся Он в расчете!.. Да когда откроет Он тайны свои и позовет нас, в муках и отчаяниях погибших, во мраке с тоской искавших хоть искорки света, чтобы и мы узрели тайны и насладились светом величия Его… да ведь мы отвернемся от них!.. Мы не простим Ему!.. Отпусти нас, скажем мы, обратно во тьму нашу, ибо возлюбили ее, не видя иного, ибо не можем забыть тех слез и крови, которыми полили свою темную землю, ибо не хотим принять награду за мучения свои, за мучения напрасные, взваленные на плечи наши без вины!.. Разве можно простить, разве можно забыть?.. Не собаки же мы, чтобы за подачку все простить, все забыть?.. Я, Наумов, здесь, пока я жив и есть именно я, отказываюсь от этого запоздалого блаженства!.. Так чего же вы хотите от меня, кроме ненависти?.. Я толкнул Краузе на смерть?.. Ну, да… я!.. И вас толкну, и весь мир толкнул бы, если бы мог, с наслаждением великим!.. И, толкнув, знал бы, что, кроме утоления своей ненависти, я еще и величайшее благодеяние окажу миллиардам миллиардов несчастных существ, которые где-то там, в тумане вечности, еще ждут своей очереди, чтобы причаститься у чаши страданий человеческих!
Голос Наумова сорвался и смолк. Он, видимо, сам страдал, до наслаждения страдал той нестерпимой болью, которую рисовал перед собой и слушателями. На него было жутко смотреть, и видно было, что даже грудь у него подымается и расширяется мучительно и трудно от страшных сил ненависти и злобы, которых он не может излить так широко, чтобы захлестнуть ими весь мир.
Он схватил стакан и долго пил, почти захлебываясь, красное вино.
— Н-да, — сказал Арбузов, — расписал!.. Да застрелился бы ты там, инженер проклятый! — вдруг выкрикнул он со страшной злобой. — Поди ты к черту!.. Идем по домам!.. Нечего тут… А то я или убью кого-нибудь, или сам… Идем!..
Он схватил фуражку и пошел к двери. Но в дверях вдруг остановился и обернулся с кривой усмешкой.
— А не проведать ли нам нашего друга, а?.. Пойдем посмотрим, что он там делает!..
Михайлов машинально встал. Голова его была полна, как туманом, какими-то смутными громадными образами, бледными видениями какого-то колоссального ужаса. Он уже совершенно протрезвился, но был бледен и качался, как пьяный.
Они пошли в буфетную. Наумов, все еще блестя глазами и дергая губами, пошел за ними.
XVII
Бледное синенькое утро уже смотрело в окна. Неуютно и холодно было в пустых разоренных комнатах. На ломберных столиках еще лежали разбросанные карты и мелки, на зеленом сукне биллиарда застыли белые шары, стулья были сдвинуты, точно только что кто-то встал и вышел. Пыльные полы были засыпаны окурками и заслежены высохшей грязью.
Труп Краузе все так же лежал на полу, покрытый белой скатертью, и в бледном свете утра казался еще длиннее и тоньше, точно вытянулся за ночь.
Арбузов, Михайлов и Наумов долго стояли над ним, глядя на белую скатерть, под которой недвижно и страшно торчали углы и неровности мертвого тела.
Краузе лежал неподвижно, точно притаившись под белым саваном, и как-то невозможно было понять, что это уже не Краузе, а только труп его. И невольно чудилось, что сквозь белую ткань светятся белые мертвые глаза, молча, внимательно и хитро следящие за живыми людьми.
Было странно думать, что всю ночь пролежал он тут, на холодном грязном полу, и не двинул ни одним пальцем. И почему-то Михайлову пришла в голову сумасшедшая мысль: не вставал ли он, не подходил ли, белый и длинный, с размозженной страшной головой, к дверям и не смотрел ли в щель на них своими мертвыми белыми глазами?
Он инстинктивно оглянулся и вдруг увидел следы крови до самых дверей. Холод бессмысленного ужаса прошел у него по спине. Михайлов нервно засмеялся и быстро пошел из комнаты.
Наумов не обратил на него внимания, точно не слышал его смеха. Арбузов проводил его до дверей красными от бессонной ночи глазами.
— Ну, что ж… идем и мы, инженер, — сказал он. Наумов оглянулся. Его усталые глаза посмотрели на Арбузова печально и глубоко. Арбузов не узнал его лица: инженер смотрел куда-то в глубь себя, мягкая печаль легла вокруг его сжатых губ. Точно в эту минуту вдруг померкли все его дикие яркие мысли и осталась одна человеческая красивая и нежная грусть.
— Что, брат? — дрогнувшим голосом спросил Арбузов. — Ничего не поделаешь!.. Вот она тебе — идея!.. Жаль Краузе!.. Славный он был… Только и всего. Пойдем!
На дворе, садясь в экипаж, Арбузов повернул бледное серое лицо к Михайлову, попрощавшемуся с ними у выхода.
— Что, Сережа? — спросил он и его, точно все-таки хотелось ему услышать что-то последнее и самое главное.
Михайлов страдальчески махнул рукой и быстро пошел по гулким деревянным мосткам тротуара.
Тройка, обогнав его, завернула за угол и затихла вдали.
Городок уже просыпался. Бабы с лукошками и горшками шли на базар, какие-то старушки в темных платочках стояли на паперти открытой церкви, ехали возы с дровами и бегущими за ними серыми деревенскими собаками. Мужики вяло и сонно смотрели на Михайлова.
Утро было уже везде.
XVIII
Медленно колыхались перья катафалка и далеко виднелись над толпой.
За гробом беспорядочной кучкой шли офицеры во главе с полковым командиром. Два солдата вели под уздцы лошадь покойного, покрытую траурной попоной; эта черная попона, из-под которой чутко прядали острые уши и непонятно смотрели круглые кроткие глаза, придавала ей загадочный и жуткий вид: одинокая в своем странном наряде, она казалась единственным близким покойному существом, и на нее грустно и трогательно было смотреть.
Трубачи на белых конях бледно сверкали медными трубами; за ними колыхался лес винтовок, мерно качались лошадиные головы, и, сотрясая землю мощным гулом, шел эскадрон.
Похороны были торжественны и печальны необычно. Весь город шпалерами стоял на пути, и было что-то особенное, испуганно-сосредоточенное на бледных лицах, долго смотрящих вслед медленно уплывавшему катафалку. Похоронный марш величественно разносился из конца в конец улицы: медные голоса труб в суровой мужественной печали отпевали последнюю страшную дорогу своего офицера.
Когда умолкала музыка, слышалось негромкое гнусавое пение хора, далеко растянувшегося впереди по дороге, а когда затихал хор, все ближе и слышнее доносилось дребезжащее вызванивание кладбищенских колоколов.
Наконец, показались белые ворота с покосившимся желтым крестиком наверху, кущи пожелтелых деревьев, кресты и памятники за осыпавшейся каменной оградой, окопанной глубоким рвом. Катафалк дрогнул в последний раз и остановился.
Черные ризы попов и странные долгополые кафтаны певчих, не останавливаясь, как свои, уверенно прошли в широко открытые ворота, а за ними, точно в воронку, торопливо мелькая, хлынула толпа.
Музыка смолкла, колокола затихли, и в наступившей тишине странно отчетливо послышались торопливое шуршание ног и негромкие голоса офицеров, снимавших гроб с катафалка. Никто не знал, как это делается, и шла бестолковая спешная суета; офицеры забегали то с той, то с другой стороны, виднелись покрасневшие от натуги лица и напряженно согнутые спины. Гроб тяжело и неровно закачался над головами и вдруг опустился вниз. Толкаясь и раскачивая во все стороны, офицеры быстро понесли его среди расступавшейся толпы по аллее, окруженной решетками и памятниками и усыпанной желтыми листьями. Какой-то молоденький корнет с венком в руках бегом догнал их и на ходу старался прицепить венок к гробу. Кто-то что-то с досадой заметил ему, но венок вдруг зацепился, и корнет, раскрасневшийся от усилий и неловкости, отстал. Лицо у него было довольное, хотя ленты венка волочились по земле и попадали под ноги несущим офицерам.
На ступеньках покосившейся паперти гроб горбато и хищно выгнулся, качнулся и нырнул в открытые темные двери.
Гулко и пусто было в маленькой церкви. Как-то чересчур отчетливо слышались шарканье шагов по каменным плитам и тяжелый стук высоких металлических подсвечников, устанавливаемых вокруг гроба.
Все смолкло, наступила торжественная и жуткая тишина, и вдруг мягкий старческий голос отчетливо и негромко провозгласил:
— Благословен Бог наш!
Толпа шелохнулась, надвинулась и замерла. Полковой командир величаво наклонил седую голову, как бы принимая на себя всю тяжесть великих слов, и уже не подымал ее до самого конца.
Громко и странно запел хор, наполняя переливчатыми волнами гулкую церковь, и еще не успел смолкнуть, как другой, грубый и громкий голос громко и безжалостно провозгласил:
— Господу помолимся!
— А-а!.. — вздрогнуло и прокатилось наверху под сводами.
— Господи помилу-уй! — робко и тихо отозвался хор.
— У-о-уй! — чуть слышно, переливаясь, замерло по углам.
— Руце Твои сотвористе мя и создаете мя и научуся заповедем Твоим… — не слушая, внятно и спокойно опять читал старческий голос.
— Господи, помилуй раба Твоего-о! — замирая, простонал хор.
Но голос уже читал дальше, перебивая и не слушая никого:
— Боящиеся Тебя узрят мя и возвеселятся, яко на словеса Твои уповах…
— Помилуй раба Твоего-о!..
Молча, потупив головы, слушали офицеры; вздыхала навалившаяся толпа; тоненький дымок кадильный сизым туманом обволакивал высокие свечи, и их бледные желтые огоньки вспыхивали и погасали в нем. Крышка гроба была открыта, и под белым маревом кисеи виднелся чей-то страшный, никому не знакомый и непонятный профиль со строго сомкнутыми губами и неподвижным венчиком на холодном костяном лбу.
— … В путь узкий хождший, прискорбный, вси в житии крест, яко ярем вземший… — неторопливо и вразумительно читал мягкий старческий голос, — приидите насладитеся ихже уготовах вам…
— Благословен еси, Господи-и! — отвечал хор.
— … паки мя возвративший в землю, от нея же взят бысть…
Было трудно и тяжело дышать: странные слова навевали жуткую грусть, сладкий запах ладана кружил голову, в окна лился холодный белый свет, и бледно таял вверху, в светлом куполе, грозный Бог Саваоф… Мягко и отчетливо читал голос:
— … воистину суета всяческая, житие же сень и соние, ибо всуе мятется всяк земнородный, яко же рече писание егда мир приобрящем, тогда во гроб вселимся… тем же, Христе Боже, представивишаго раба Твоего упокой…
«Странно как! — думал в сторонке заглядевшийся на огоньки свечей молоденький корнет, тот самый, который старался прицепить на гроб венок, — если все суета, тогда зачем же мы и живем? И как это — когда мир приобрящем, тут сейчас и в гроб вселимся?.. Непонятно как-то… А впрочем, это, должно быть, только так полагается…»
— … аможе вси человецы пойдем, надгробное рыдание творяще песнь аллилуйя…
— Со святыми упокой, Христе…
— Кая житейская сладость пребывает печали непричастна, кая ли слава стоит на земле непреложна… вся сени немощнейша, вся соний прелестнейша… единым мгновением и вся сия смерть приемлет…
Голоса странно и невыразимо грустно сплетались, сходились, расходились и замирали, стеная. Молоденькому корнету взгрустнулось и захотелось плакать.
— … плачу и рыдаю, егда помышляю смерть и вижду во гробе лежащу, по образу Божию созданную нашу красоту, безобразну, бесславну, не имущую вида…
«Да, это ужасно!» — с тоской думал молоденький корнет, чувствуя, что у него неудержимо щиплет в носу.
Все продолжались бесконечно эти голоса, и, замирая, откликался хор. Иногда начинали петь что-то длинное и громкое, точно обещая какую-то радость, а потом опять грустно и безнадежно читал одинокий равнодушный голос. Становилось тяжело стоять, и казалось, что этому конца не будет.
«Господи, как долго! — с тоской подумал молоденький корнет. — А странно: вот он лежит и ничего не слышит… Нам грустно, а ему уже все равно… Хоть бы конец скорее!.. И неужели он ничего не чувствует?.. Так-таки ничего… даже не чувствует, что уже ничего не чувствует?..»
Молоденький корнет засмотрелся на высоко возвышающийся мертвый профиль, смутно очерченный под дымкой кисеи. Краем уха он слышал те же непонятные слова и перепевы хора, но мысли его расплывались, — он задумался.
Представилось ему, что рано или поздно, а будет и он сам лежать вот так же, под белой кисеей со смертным венчиком на лбу и сложенными на груди руками… Так же будут петь и кадить вокруг него, так же будет литься в окна холодный белый свет и высоко в куполе будет так же плавать Бог Саваоф с распростертыми, не то благословляющими, не то проклинающими руками… Но он уже ничего не будет видеть и слышать… И это будет, непременно будет!.. Это ничего не значит, что вчера кутили у Назимова, и он проиграл пятьдесят рублей поручику Колпакову… ничего не значит, что он сейчас живой, стоит, слушает и думает… ничего не значит, что Катя вчера рассердилась за то, что он хотел поцеловать ее, и ударила его по рукам… милая Катя!.. И все-таки он будет лежать и ничего не видеть и не слышать!.. Страшно!.. И как это никто как будто и не думает об этом? Об этом, в сущности, только и надо думать, потому что в конце концов только ведь это и будет!.. Неужели будет?
Молоденький корнет попробовал, как это будет, и закрыл глаза. Но сейчас же с испугом открыл.
— … зряще мя безгласна и бездыханна, восплачите о мне, братие и друзи, сродницы и знаемии… но приидите вси любящие мя и целуйте мя последним целованием!..
«Бедный, бедный Краузе!» — подумал молоденький корнет, и слезы повисли у него на ресницах.
Кругом все тронулось и зашевелилось: происходил обряд последнего целования. Один за другим подымались на ступеньки помоста офицеры, торопливо крестились и, испуганно оглянувшись на мертвое, незнакомое, обезображенное лицо со строго сомкнутыми губами, кое-как целовали костяную, холодом веющую руку и так же торопливо отходили.
Голоса стихли. Опять послышались шаги по шуршащим плитам и громкий стук отставляемых подсвечников. Из толпы вытянулась чья-то рука с заскорузлыми пальцами и потушила свечу… тоненький дымок закружился в сторону…
Опять началась торопливая и неловкая суета. Послышался частый отчетливый стук молотка по гвоздю, мягко уходящему в свежее дерево. Потом гроб поднялся, точно вздохнул, заколыхался и опустился вниз. Толпа повалила из церкви.
Звоном и дребезжанием встретила гроб старенькая колокольня. «Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный…» — опять запел хор. Черные ризы священников уже виднелись далеко впереди между могил и крестов.
День был белый, светлый.
В прозрачном холодке осени неуловимо стоял тонкий запах увядающей листвы. Небо было ровно и высоко, и на всем лежал его холодный отсвет на желтых деревьях, на порыжелой траве, на черном бархате риз, на серебряных эполетах офицеров, на горбатой крышке гроба, опустившегося у самого края глубокой рыжей ямы… Листья уже почти облетели, и на кладбище казалось до странности пусто и светло. Сквозь дальние кресты и деревья просвечивало голое поле; широко и тоскливо было там, безграничная грусть степей смотрела с дальних синеющих горизонтов. Тихо умирала кругом бледная природа, неподвижно стояли деревья, беззвучно роняя желтые листья.
Торопливо и невнятно дочитывал что-то мягкий старческий голос, удивительно слабый под необъятным куполом белого высокого неба:
— … вечная твоя память, брате наш…
— Вечная… вечная… вечная память! — громко, точно в отчаянии, завопил хор, задребезжали, перебивая и перезванивая друг друга, колокола. Поднялась суета; появились откуда-то солдаты с лопатами, задвигались люди, медленно тронулась крышка гроба и, покачиваясь, сползла в яму, где нет ни света, ни жизни, но смерть бесконечная.
За оградой с треском разорвался короткий и сухой залп… Толстый поручик Иванов с напряженным красным лицом, в фуражке, сбитой на затылок, распоряжался там.
Все вздрогнули… Шелохнулись веточки деревьев, и несколько листьев, кружась, полетели в яму, точно прощальный привет земли. За каменной осыпавшейся оградой видны были торопливо подымающиеся тонкие дула винтовок и озабоченные солдатские лица. Еще залп… еще… Громче запели попы, и с внезапным глухим стуком посыпалась земля.
— Ровней, Степанов!.. С того боку засыпай!.. — послышались озабоченные, до странности простые и живые голоса.
Кончено! Нет больше нелепого корнета и не будет его никогда!
Вчера еще он беседовал с нами, смотрел на солнце, слышал живые звуки, целый уголок мира наполнял своей особенной, непонятной жизнью. Тысячи мелочей жили его духом — офицерский мундир, имя, лошадь, странная комната, лакированные сапоги, виолончель… Свои мысли, свои радости и страдания имел он… Но внезапно пришел час смертный, и опустел уголок. Навсегда скрылись от него вечное золотое солнце, дела и мысли людей. Безобразный, не имеющий вида, скрылся во мраке земли его одинокий, тьме и тлению обреченный труп.
Распылятся в суете мирской его следы, пройдут времена, из тех, кто видел его лицо и слышал голос его, никого не останется на земле, и память о жившем, страдавшем и погибшем страшной смертью корнете Краузе не воскреснет среди новых поколений, в новом свете новых дней…
Могилу заровняли, обложили зеленой, терпко пахнущей елью, торопливо вкопали новый белый крест, и, загадочный, длинный, он встал над землею, среди старых могил и крестов.
Попы ушли. Уехал полковой командир. Офицеры еще постояли над могилой, точно не зная, что теперь делать, и вдруг стали расходиться. Толпа вразброд повалила с кладбища. Послышались негромкие голоса… Какая-то хорошенькая барышня пробежала, догоняя своих, и кто-то из офицеров сострил ей вслед… Кто-то засмеялся. Жизнь, на минуту притихшая и задумавшаяся над могилой, вновь беззаботно зашевелилась кругом.
На дорогу вытягивался гремящий эскадрон. Солдаты чему-то смеялись и переругивались. Белый строй трубачей уже шел далеко по улице, уходя от мертвого места к своим теплым конюшням и казармам.
На кладбище не осталось никого. Тишина незримо и бледно встала над могилами. Старые серые кресты безмолвно смотрели на нового белого пришельца. На глинистом бугорке никла, увядая, зеленая ель…
Какая-то сизая птичка выскочила из желтых кустов и села на крест. Она огляделась, повертела головкой, озабоченно пискнула и нахохлилась.
XIX
Чиж, распахнув пальтишко, точно ему было жарко, торопливо шагал к городу.
Смутно и тяжело было у него на душе. Кроме него и Рыскова, никто из близких друзей Краузе не пришел на кладбище, и маленькому студенту было больно и обидно за покойного, точно бедный Краузе мог видеть, что его уже все покинули и забыли.
«Правду говорил тогда этот дурак Арбузов, — горько думал Чиж, — все друзья-приятели до поры, до времени… а уж до смерти, так это — верно… нет никого, кого не забыли бы!.. Пушкиных помнят… да и то не Пушкина, а некую литературную величину… Скверно!»
Сумбур был у него в голове, и никак не мог Чиж собрать в стройное целое своих мыслей и чувств. Он до сих пор был подавлен, худо спал по ночам и во сне слышал грохот выстрела и падение трупа. Ему даже как-то не верилось: неужели это может быть на самом деле?.. Бледное лицо со странными косыми бровями неотступно стояло перед ним.
«Бедняга, — думал он, — зачем?.. А Наумов — негодяй!.. Он не мог не понимать, с кем имеет дело!»
Жизнь человеческая представлялась маленькому студенту такой, несомненно, абсолютной ценностью, что он даже забыл, какие там идеи были у этого Наумова: ему казалось, что как бы там ни было, а если бы Наумов наверное знал, к чему приведут его речи, он не говорил бы того, что говорил. Чиж не сомневался, что корнет Краузе застрелился именно под влиянием Наумова, и ему страшно хотелось увидеть инженера, чтобы в лицо высказать ему горькую правду.
«Ведь это все равно, что убил, — думал он со щемящим чувством, — да и убил!»
— Кирилл Дмитриевич, подождите! — раздался сзади голос Рыскова.
Маленький студент подождал, и они пошли рядом. Рысков тоже, очевидно, был подавлен. Он шагал молча, рассеянно глядя под ноги и озабоченно помахивая тросточкой.
— Да… произнес, наконец, Чиж. — Ну, что вы на все это скажете?
— Что ж… — меланхолично ответил Рысков, я сам об этом часто думаю… Что в самом деле канитель тянуть!.. Тут, по крайней мере, разом!.. Я, знаете, совершенно согласен с господином Наумовым…
Чиж даже остановился.
— Что вы говорите, Рысков! — с негодованием воскликнул он. — Черт знает что такое! Время ли такое подлое, в воздухе ли это носится, что ли?.. Неужели вы не понимаете, что это просто глупо, малодушно и подло?
— Ну-у! — возмущенно протянул Рысков.
— Не ну, а да!.. Самоубийца — это человек, который сдается перед жизнью, бежит перед нею, как трус! Человек не имеет прежде всего права прекращать жизнь, разрушать то, что не им создано.
— Да почему же, Кирилл Дмитриевич? — неуверенно возразил Рысков.
От этого коротенького простого вопроса маленький студент немного смешался, потому что такого же короткого и простого ответа не было. Рысков заметил его замешательство и неопределенно помахал палочкой.
— Странный вопрос! возмущенно сказал Чиж.
— Чего ж — странный? чуть-чуть даже насмешливо возразил Рысков. По-моему, самый настоящий вопрос; вы говорите не имеете права, а я спрашиваю — почему?
— Да потому, что не вы жизнь создали! повторил маленький студент, раздражаясь от сознания неубедительности своего ответа.
Рысков чуть-чуть усмехнулся.
— Ну, так что ж, что не я… заметил он не без снисходительности, я ведь не просил, чтобы мне ее навязывали, и хранить ее не обязывался… Это только так говорится, Кирилл Дмитриевич, а на самом деле… одни слова!.. А ежели мне жить надоело? Ежели мне тяжело жить?
— Тяжело!.. Мало ли чего!.. А вам хотелось, чтобы жизнь была сплошной масленицей, что ли?.. Жизнь не развлечение. Рысков, а долг, и как бы ни было тяжело, а надо бороться, а не падать духом!
— Да вы все, Кирилл Дмитриевич, говорите «надо, надо», а почему — надо?
— Да потому, что иначе человечество должно или исчезнуть, или обратиться в зверье и стать на четвереньки!
— Ну, и Бог с ним!
Чиж встрепенулся, как ужаленный воробей.
— Да, конечно, если так рассуждать! — презрительно сказал он.
И, помолчав, насмешливо прибавил:
— Кажется, и вы уже заразились наумовщиной, Рысков!
— Не заразился, а… просто согласен с ним… хотя, конечно, не во всем…
Чиж искоса посмотрел на него и раздраженно фыркнул.
— Не во всем? В чем же вы не согласны?
Рысков неопределенно помахал палочкой.
— Да так, вообще… Я больше на стороне Краузе… то есть если человек… я хочу сказать, что надо решать вопрос за себя, а не для других… а это все идеи… глупо…
— Глупости вы городите, Рысков, — не сдержавшись, перебил Чиж.
Рысков слегка покраснел и перестал махать палочкой, но с лица его все-таки не сошло выражение внутренней убежденности, что бы там ему ни говорили. Чиж сразу понял, что Наумов беседовал с ним и что бедный Рысков уже вообразил себя адептом нового учения, нося в себе чужую мысль и чужие слова, как нечто свое, не понятное обыкновенным людям.
— А ваш Наумов, — гневно продолжал маленький студент, — просто-напросто мерзавец!.. Таких людей надо вешать, как бешеных собак! Он сам прекрасно знает, что делает злое и черное дело!.. Черт знает что такое!
Рысков снисходительно посмотрел на маленького студента, не способного понять то, что понимает он, Рысков, и промолчал.
Довольно долго они шли молча. Рысков высоко нес свою бесцветную голову с вдохновенно отброшенными прямыми волосами. Чиж нервно дергался и внутренне кипел. Ему хотелось разразиться тысячами уничтожающих слов, но было немного стыдно изливаться перед таким ничтожеством, как Рысков. Потом раздражение все-таки взяло верх.
— Поймите вы… Рысков… — заговорил он, едва не сказав «глупый человек», — что все эти злые бредни просто порождение настоящего переходного времени… Всеобщий упадок духа породил их. Придет новая волна и смоет всю эту наумовщину без следа, как тину стоячего болота!.. Вам теперь кажется, что это верх мудрости — проповедовать самоуничтожение, а через несколько лет вы сами с отвращением отвернетесь от этих гробокопателей!
Рысков недоверчиво улыбнулся и помахал палочкой.
— Конечно, — весь кипя, продолжал маленький студент, — теперь всем скучно и тяжело, и кажется, что жить не для чего и незачем… Вы думаете, мне не тяжело? Ого!.. И еще как!.. Но что же делать? Без страдания и борьбы, даром, ничто не дается. Жизнь требует жертв. Мы, может быть, и не дождемся лучшего будущего, но это не должно смущать нас. Ну да, мы погибнем, — со светлым выражением лица, на котором упрямый восторг фанатика боролся с отчаянием, сильно сказал Чиж, — но по нашим трупам пройдут другие! Уже и теперь слышны новые бодрые голоса. Уныние проходит, общество просыпается! Наумовы и Краузе — это тени уходящей ночи… Не бежать трусливо от жизни, а бороться и работать должны мы все, для кого человечество — не пустой звук!
Рысков слушал внимательно и перестал махать тросточкой.
— Пусть уходят трусы и человеконенавистники, а гордый, сильный человек будет до конца стоять на своем посту. Будущее недалеко!.. Оно принадлежит народу, и победа несомненна! Радостно и осмысленно жить только для будущего, для торжества грядущих светлых дней и золотого будущего человечества!
Чиж, должно быть, в эту минуту уже видел перед собою несметные полчища народа-победителя и развевающиеся красные знамена. Он сразу загорелся, засверкал глазами, сдвинул на затылок старенькую фуражку и кричал уже на всю улицу.
А кругом были серые заборы, мещанские домики, огороды, пустыри, заросшие жесткой крапивой и пышно разросшимся чертополохом. По самой середине улицы, крутя хвостиком, шла ко всему равнодушная свинья.
Сначала что-то как будто шевельнулось в душе Рыскова, но туманные слова «будущее, народ, человечество» навеяли на него только уныние. Даже стало досадно на горячившегося маленького студента.
«А ему-то что? Чего он-то радуется?» — подумал Рысков и сказал:
— Да не все ли равно, Кирилл Дмитриевич?.. Ведь это еще когда будет!
Чиж неожиданно остановился.
— Ведь вы же не свинья эта, Рысков: — ткнув пальцем в свинью, остановившуюся почесаться о тротуарный столбик, спросил он гневно.
Рысков опешил.
— Ведь в том-то и разница между этой свиньей и мыслящим человечеством, что свинья живет только для себя, а человек не может не сознавать своей связи с человечеством! Не слушайте вы этих человеконенавистников, которые сами не ведают, что творят!
Маленький студент так твердо верил, что почему-то каждый должен любить человечество, что не знал тяжелее укора, как укор в человеконенавистничестве или равнодушии. Он еще что-то хотел прибавить, но в эту минуту наткнулся на свинью, которая в сладострастном увлечении почесыванием о столбик стала поперек всего тротуара.
Свинья завизжала благим матом, отбежала опять на середину улицы и оттуда, подняв уши и крутя хвостиком, неподвижно вперилась в потревожившего ее маленького студента.
— А, черт! — воскликнул Чиж с досадой.
Рысков невольно улыбнулся, но сейчас же постарался принять серьезное выражение. Чиж заметил эту улыбку и вдруг почувствовал, что слова его летят на воздух. Ему сразу стало стыдно, что он так увлекся.
«Идиот!» подумал он и сказал, нахмурившись:
— Ну, да ладно!.. Вы приходите ко мне когда-нибудь… потолкуем… А теперь мне пора… До свиданья!
Они попрощались. Маленький студент свернул в первый попавшийся переулок и пошел с тяжелым, досадным чувством в душе, маленький и одинокий, вдоль бесконечных заборов. А Рысков медленно зашагал дальше по улице, помахивая тросточкой и глядя прямо перед собою.
Встречные прохожие оглядывались на него с любопытством: всему городу уже стало известно, что он был при самоубийстве Краузе, и это сделало его тоже своего рода героем дня.
Рысков замечал эти взгляды, понимал их по-своему и принимал гордый, загадочный вид. Ему казалось, что выражение его лица — романтически-красиво, и на всей фигуре лежит тень таинственного рока. Почему это так, он не понимал сам, но действительно чувствовал себя героем. И невольно представил себя на месте корнета Краузе с револьвером в бестрепетной руке, говорящим свою последнюю, полную горечи и сарказма речь. Правда, он не мог придумать ни одного слова, но как-то не замечал этого.
«Вот тогда все увидят и поймут!» — с горьким наслаждением думал он.
Опять-таки в точности он сам не знал, что именно должны увидеть и понять, но был уверен, что увидят и поймут. Вообще поймут его никем не понятую великую душу, его обыкновенную трагическую судьбу.
А как потом все будут жалеть его, как будут интересоваться им вес барышни, которые до сих пор не замечали его только потому, что он простой казначейский чиновник. Как будут ходить по городу его последние предсмертные слова!
Еще бы!.. Они думают, что он ничтожество, казначейский чиновник, а он — герой! Трагическая натура!.. Он гордо и безбоязненно перейдет ту черту, перед которой все они замирают в ужасе. Да, он пренебрег этой жалкой жизнью, этой нелепой комедией и выбрал смерть… красивую, гордую смерть!
Рысков почти задохнулся от гордости.
Он шел по улице, высоко подняв «бледную голову» и презирая весь мир. Голова его горела от переполнивших ее мечтаний. Ему уже представлялось, что найдется какая-то необыкновенная прекрасная девушка, которая полюбит его за гробом за его страдания и смерть и скажет:
У него не было любви, а он так мечтал о ней… Вы не поняли его, вы не могли понять, и вот он умер! Я буду его невестой за могилой!
Перед Рысковым смутно рисовалось осеннее кладбище и печальная женская фигура, вся в белом, почему-то с распущенными волосами, тихо роняющая на могилу осенние цветы…
Но тут он вспомнил свой рассказ… Легкая краска выступила на его желтых щеках. Рысков замигал глазами и трусливо оглянулся кругом… Нет, никакой девушки не надо! Он жил один и умрет один. Так даже лучше, красивее!.. Вот он лежит в гробу, посреди холодных и чужих людей… У него бледное, строгое, невыносимо прекрасное лицо… Кругом, склонив головы, стоят офицеры… Рысков забыл, что он не офицер, и даже услышал над собою погребальный марш. Мрачно, торжественно, как сегодня, поют медные трубы… гремят прощальные залпы…
В носу Рыскова защипало от жалости к самому себе. Он до того погрузился в свои мечты, что даже не заметил, что дошел до дому. Как пьяный, он некоторое время с недоумением смотрел на этот с детства знакомый убогий флигелек с унылым облупившимся лицом и двумя подслеповатыми окошками.
И вдруг сразу вспомнил, что казначей страшно недоволен его участием в краузевской истории, а завтра, как назло, придется объясняться с ним по поводу одной крупной ошибки в делах. Рысков похолодел и съежился… Что будет, если его в самом деле выгонят со службы?
И душа его безнадежно упала. Нет, какой он герой!..
Рысков перешел двор и, не заходя в дом, вышел на огород: тоска взяла его, не захотелось видеть своей унылой комнаты, вонючей кухни, вечно попрекающей, вечно трепещущей матери.
Все сады и огороды по этой улице выходили к большому болоту, в котором засасывало их полуразвалившиеся плетни. На том берегу, в тумане, расплывалась унылая панорама города — кривые переулки, соломенные крыши, невысокие колокольни, красные лавки базара и чахлые сады, уже пожелтевшие и поредевшие. Белое небо низко стояло над землей, осенний ветер гудел в понурых ветлах и сухом камыше, озабоченно размахивающем своими высокими метелками. Какой-то непрестанный стонущий звук шел по всему болоту. За камышами на середине белела открытая вода-озеро.
Видно было, как неустанно и все как будто на одном месте бегут мелкие волны. Делалось холодно, глядя на них. Какая-то черная точка кружилась посредине на серой стальной ряби воды. Рысков машинально сообразил, что это утка.
— Отбилась от стаи… Пропадет, замерзнет! А вот чего-то еще вертится, плавает! Лучше взяла бы да утонула сразу. А то будет жить… наступят заморозки, с каждым днем все будет сужаться вокруг нее вода… потом будет она биться среди льда, черт знает зачем, стараясь лапками расширить воду… А вода будет черная, холодная!.. Ночью утка заснет, и затянет ее ледком…
— Глупая птица!
Он, Рысков, не стал бы дожидаться! Пусть себе Чиж говорит, что хочет. Ему хорошо говорить: студент, все знает, читал… поживет да и уедет, а тут… Посидел бы лет пять в казначействе, да и говорил бы там о человечестве!..
Рысков даже засмеялся от злости.
— Человечество!.. А где оно, у черта?.. Сволочь все, и больше ничего! Этак можно всякие слова говорить, а на деле, кроме сволочи, никого и нет! Может, в сто лет один человек настоящий родится, а туда же — человечество!.. Вон самому, говорит, Трегулов морду набил… это тоже — человечество? Где оно?.. Казначеи?.. Купцы?.. Мещане?.. Мужики безграмотные?.. Чиновники?.. Тьфу!.. На каждого в отдельности посмотришь — дрянь, а вместе человечество! Да чтоб они передохли все!.. Сволочь проклятая!.. Взять да на первой осине и повеситься… вот вам и человечество!..
Это слово положительно приводило в бешенство Рыскова, и он никак не мог понять, что же это в самом деле, смеются над ним, что ли?.. Куда ни повернись, одни свиные рыла торчат; в газетах все друг друга мерзавцами костят, чуть один человек получше вывернется, так его прямо, словно чудо, рассматривают, в святые производят… Такая дрянь везде, что за человека стыдно, а как только всю эту дрянь вместе сложат, так и начинают гимны петь!
— Человечество! Тоска взяла Рыскова, и опять заколыхались перед ним белые перья катафалка, загремела музыка, затрещали залпы, показалось в гробу чье-то невыносимо прекрасное благородное лицо!..
И в ту же минуту он наконец вспомнил, что он не офицер, что ни музыки, ни залпов, ни красоты не будет, а будет что-то совсем другое, жалкое и несчастное, как и вся его жизнь!
Даже и в смерти так тошно, что захотелось лечь вот тут, головой в болото, да застыть…
Он вдруг повернулся и с решительным, побледневшим от злобы и тоски лицом пошел домой.
Возможно, что в эту минуту он уже знал свое решение, и все остальное, что случилось с ним в этот и следующий день, было только следствием этого окончательного решения, последними судорогами отчаяния и злобы.
Чадом кухни, запахом перегорелого лука и сала охватило его, когда он вошел в комнаты. Корыто с парящимся грязным бельем пускало в потолок клубы жирного сладковатого пара, на полу было наслежено грязью, и целые лужи мыльной воды стояли в выбоинах пола; окна запотели; было прело, душно и темно, как в зимний день. Мать, засучив рукава, длинными желтыми костлявыми руками накрывала на стол. Она встретила сына злым взглядом бессмысленных рыбьих глаз.
— Ну, ходил к казначею?
Что-то сдавило горло Рыскову.
— Не ходил и не пойду! Черт с ним! — огрызнулся он и хотел пройти мимо.
Мать оттолкнула тарелку и дико уставилась на него.
— Ты что?.. Сказился?.. Вот выгонят со службы… Дурак!
Рысков с ненавистью посмотрел на нее, и точно ненависть открыла ему глаза: вдруг ярко увидел, какая она грязная, злая, глупая, надоедливая, какие у нее желтые втянутые щеки, засаленный подол и жадные, тупые глаза, круглые, как у рыбы.
«Ишь… на дохлую щуку похожа!» — пронеслось у него в голове.
— Да пойду! Не приставайте! И так тошно! — сказал он, болезненно скривившись и едва сдерживая безумное раздражение, накипавшее в груди.
— Тошно?.. Скажите пожалуйста!.. А мне не тошно? — так и вскинулась старуха, точно обрадовавшись предлогу впиться в него со всей своей бессмысленной старушечьей злостью.
Рысков махнул рукой и сел за стол.
Минуты две они ели молча, потом старуха положила ложку и неожиданно всхлипнула.
— Бог смерти не дает!.. Ты думаешь, мне легко?.. Вспоила, вскормила…
— Ну, началось! — с тоской буркнул Рысков.
— Что началось? — с тоской подхватила старуха. Что началось?.. Я тебе мать или нет?
Рысков старался не обращать на нее внимания и ел, низко наклонившись над тарелкой. Но она не отставала.
Глаза у нее были злые, в голосе что-то скрипело, как будто и в самом деле пила.
— О тебе же забочусь! Ведь прогонят со службы, с голоду пропадешь, под забором сдохнешь!.. Хлопотала… пристроила… думала, человеком будет, а он, изволите видеть, фасоны выкидывает!.. И куда тебе фасоны выкидывать?.. Дурак!.. Хоть бы мать-старуху пожалел, коли самого не жалко!.. Ведь я тебя, дурака, родила!
К нытью матери Рысков давно привык, и оно казалось ему неотъемлемой принадлежностью жизни, такой же тусклой и бессмысленной, как и это нытье. Она постоянно ныла и трепетала за каждый день их существования, точно жили они только по чьей-то крайней милости, и каждую минуту этот кто-то мог вспомнить о них и растереть ногой, как мокриц. Каждый раз, когда сын возвращался со службы, она испуганно расспрашивала его, доволен ли им казначей, не прогневил ли он чем-нибудь начальство, в аккурате ли исполнял службу… И если случалось что-нибудь, обмирала от страха, осыпала сына упреками, изводила слезами, накидывала на голову платок и бежала молить старшего бухгалтера, так как самого казначея тревожить не смела: это была для нее уже недосягаемая величина. Она всех боялась, перед всеми унижалась и отводила душу, тираня сына или разводя по городу злые и глупые сплетни.
С тех пор, как Рысков помнил себя, это нытье не прекращалось: так же изводила она и его отца, и всю жизнь несчастный, запуганный, жалкий человек безответно терпел, ежился и только кряхтел по временам.
Рысков помнил его: сладенькая улыбочка, испуганные моргающие глазки, небритые щеки, сизый нос, приседания и поклоны… длинная нудная жизнь с безобразной злой старухой, пьянство втихомолку, валяние под заборами, прорванные локти, вечный флюс, просиженный стул, мухи, трепет перед казначеем, перед бухгалтером, перед ревизором, перед всяким громко и уверенно говорящим человеком!.. Ничего, кроме трепета, нужды, водки и проплеванного казначейства… Ни любви, ни веры, ни мыслей, ни отчаяния даже, — только муть какая-то!
Ужас охватил Рыскова: ведь это — его собственная судьба! Ничего другого не будет, не может быть.
— Хоть бы мать пожалел! Ведь я тебя родила, выносила, выкормила… — бесконечно однообразно и тупо ныла старуха.
Внезапно Рысков швырнул ложку и вскочил.
— А кто вас просил? дико заорал он. — Подумаешь, какое одолжение сделали! Родили!.. Тоже!.. Уж если дали жизнь, которую у вас никто не просил, так… Да будьте вы прокляты совсем, родители!
Он сжал кулаки, захрипел, вылупив глаза, и вдруг опрометью кинулся из комнаты.
Старуха, посинев от страха, разинув рот, смотрела ему вслед. Она долго не могла прийти в себя и сидела неподвижно, точно не понимая, что случилось. Потом ее длинное желтое лицо перекосилось, и крупные слезы побежали по морщинам.
— Это — матери?.. Родную мать проклял! Господи! — охнула она и ударила руками об полы. — Са-ашенька!
Рысков с силой захлопнул за собой дверь и долго бегал из угла в угол. Все в нем тряслось; длинное лицо было бело, глаза смотрели с выражением безнадежной тоски. Он задыхался и все грозил кому-то кулаком… не матери, а кому-то другому, кто в самом деле швырнул ему, как собаке, кусок никому не нужной дряни и уверял, что это жизнь, за которую он должен быть благодарен.
— Да… как же… как же! — угрожающе бормотал Рысков, бегая по комнате.
Синенькая тетрадка попалась ему на глаза. С минуту Рысков неподвижно и тупо, как бы в недоумении, смотрел на нее, машинально перечитывая:
— Любовь, рассказ Александра Рыскова… Любовь, рассказ Александра…
И вдруг рванулся, схватил, с треском разорвал на клочки, скомкал и запустил в стену. Белые и синие листочки с жалобным шорохом разлетелись по всей комнате. Рысков опомнился, схватился за голову, бросился на стул перед окном и вперил отчаянные невидящие глаза в мутное болото, расплывающееся за грязными стеклами.
Так просидел он долго. Туман окутал его мысли, в безнадежной тишине застыло сердце. Почему-то в голове навязчиво и бессмысленно ныл все один и тот же мотив уличной песни:
Лежит здесь бедная девица,
Она в чахо-отке умерла…
— Нет, ну его к черту!.. Ну его к черту!.. — машинально повторял Рысков и опять против воли в сотый раз повторял тот же мотив:
Потухнут голубые очи
Под белым сме-ертным полотном…
За мутным окном серел пустынный огород с торчащими гнилыми кочерыжками срезанной капусты, а за ним белело холодное озеро. Там замерзала, била лапками, плавала туда и сюда глупая утка.
Тихо, безнадежно тихо стало на душе у Рыскова. Бешеный порыв прошел, и осталась одна тоска, усталая, беспросветная, унылая.
Сумерки сгущались.
Рысков услышал какое-то жалобное тихое стенание. Точно где-то близко ныла муха, попавшая в паутину, Он поднял голову и прислушался. Это мамаша плачет!
И показалось ему, что кто-то подошел и крепко сдавил за горло.
— У-у! — заметался Рысков в тоске, закрыв глаза и хватаясь за голову. — За что?.. Господи!..
Но кто-то не слушал, так же крепко и медленно давил за горло, не отпуская и как будто напевая в самое ухо тоненьким стонущим бесконечным голоском:
Лежит здесь бедная девица,
Она в чахо-отке умерла-а
XX
День кончился, и в окно мастерской вместо света ползла какая-то синеватая муть. На палитре уже давно не было видно красок, но Михайлов не замечал этого и положил кисти только потому, что, случайно оглянувшись, увидел за спиной жуткую мглу, затянувшую все углы.
Сколько часов провел он за полотном, Михайлов даже не знал, но как только положил палитру, сейчас же почувствовал, что болит вся спина и от усталости дрожат все ноги.
Он отошел в противоположный угол и все еще лихорадочно блестящими глазами смотрел на полотно. Он и раньше отходил и смотрел, но когда во время работы глаз его как-то сливался с красками, он чувствовал, что задний план не уходит, что та или другая фигура недостаточно выступает, видел, что надо взять сильнее передний план, но картины не видел. И только теперь, когда работа на сегодня кончилась, вдруг как бы и внутренне отошел от нее и увидел картину всю в ее целом…
Кругом было совершенно темно. Этюды на стенах потеряли свои краски, рисунок их слился и странно исказился: вместо пейзажей пятна слагались в какие-то искривленные тела и уродливо страшные лица. Только на большое полотно начатой картины еще падал слабый свет из окна, и она до жуткости выступала из мрака.
Михайлов стоял и смотрел с напряженной жадностью, растерянно шевеля пальцами, которые еще, казалось, продолжали работать.
Как всегда, это пришло совершенно неожиданно, откуда-то из непостижимых тайников души. Вначале он сделал небольшой набросок внутренности отдельного кабинета шикарного ресторана, где еще не убранные стояли вазы с бутылками, фрукты, тарелки и бокалы; в окна, завешенные тюлевыми занавесями, скользил слабый предрассветный свет, и в кресле, беспомощно свесив руки, лежал труп самоубийцы. Он несколько раз почти машинально переделывал набросок, изменяя позу самоубийцы, передвигая мебель, точно хозяйничая в этой странной комнате, где стояли тишина и неподвижность чьей-то страшной загадочной смерти… И вдруг что-то осветило душу, что-то протянулось между ним и этим нарисованным мертвецом, какие-то еще смутные образы загорелись в воспалившемся мозгу, и во всем существе началась та мучительная внутренняя дрожь, которую он так знал, которую любил и боялся, потому что она приносила почти невыносимые наслаждения и почти невыносимую тоску вечной неудовлетворенности.
Охваченный неодолимым порывом, Михайлов бросил свой эскиз, с лихорадочной поспешностью вытащил большой холст и раму, стал искать гвозди, молоток и клещи, и все это — в непонятном волнении, с раздражительным и болезненным нетерпением. Казалось ужасно мучительным, что нельзя начать сразу, что гвозди куда-то затерялись, холст не тянется, рама косит. Потом, когда холст натянулся, оказалось, что на палитре мало красок. Михайлов стал надавливать их целыми грудами, как попало, одновременно собирая кисти, и почти со злобой швыряя пустые флаконы. И все ему казалось, что он чего-то не успеет, что с каждой минутой уходит нечто драгоценное, и этого болезненного ощущения почти не выдерживали нервы.
Наконец, все было готово, и огромное полотно, ровное и упругое, стало поперек почти всей мастерской. Михайлов взял палитру и большой пук кистей, несколько минут неподвижно простоял перед полотном, как бы видя на нем что-то не видимое никому, и вдруг решительно провел кистью широкую полосу… Неладно прилаженная подставка сорвалась от дрожи большого полотна, и рама осела назад… Пришлось положить палитру и налаживать все сначала. Михайлов едва не заплакал от злости и нетерпения.
И вдруг потерял всякое представление о времени, как бы застыв в страшном душевном напряжении.
Молча, сжав зубы, он клал краски то широкими гибкими мазками, выделяющими контуры тел, то сочными влепленными пятнами, то растертыми, размазанными тенями. Он ничего не отделывал, не вырисовывал, бросая, переходя на другой конец полотна, возвращаясь назад… Полотно шаталось и дрожало, тишина стояла в пустом доме… Что-то яркое, почти хаотическое и вместе прекрасное стало проступать в красочных пятнах. Михайлов работал, крепко сжав зубы, дыша тяжело и редко.
Он уже не был тем Михайловым, который имел массу переживаний, настроений и чувств, мог смеяться, пить, говорить. Вся сила его души ушла в воспалившиеся от напряжения, то странно щурящиеся, то широко открывающиеся глаза, в которых что-то горело и двигалось. Он даже не помнил идеи своей картины, забыл о Краузе, о своих переживаниях, о бледных и огромных образах, вызванных в нем речами сумасшедшего инженера, о страшных глазах Лизы, о милом лице Женечки, о бледных призраках всех женщин, которых знал. Только смутная связь осталась со всем этим, сплелась в чудовищный клубок и, медленно, жутко выдвигаясь, принимала зловещие и призрачные образы его картины…
Его прекрасное лицо было совершенно бледно и как-то осунулось; глаза блестели; все время он судорожно облизывал губы, пересыхающие от волнения.
В середине дня он отошел от картины, не спуская с нее как бы прикованного взгляда и, стоя с торчащими в беспорядке волосами, с пятном синей краски на подбородке, не выпуская палитры из рук, что-то ел, но так машинально, что даже не заметил этого перерыва. Не доев, он бросил то, что ел, на стол, схватил кисти, положил пятно, вытянул длинный мазок, тронул блики синенького света на краю стеклянного бокала и уже не отрывался больше до самого вечера.
Но как только отошел в последний раз и с глубоким вздохом решительно положил палитру, вдруг опомнился.
В буйных мазках, в неожиданно смелых невыписанных пятнах, в еще белых просветах полотна, в этой хаотической небрежности, которая придает такую силу, свежесть и прелесть первым эскизам, какой не будет и не может быть в законченной картине, выступало именно то, что он чувствовал, что было внутри его самого.
Бледный синенький свет туманного городского утра робко проникал сквозь прозрачный тюль занавесей в роскошный кабинет модного ресторана. Электричество было потушено, и в бледном неверном свете утра странно и призрачно мерещилась обстановка буйного и шумного кутежа: мебель сдвинута, скатерть залита вином и уставлена бутылками, бокалами, стаканами разноцветного стекла; плавает остывший дым сигар; в бледных серебряных вазах торчат горлышки бутылок, завернутых в мокрые салфетки; одна бутылка скатилась на край стола, и красная, как кровь, полоса вина стекает по скатерти, образуя на полу целую лужу; утренний свет дробится в гранях стеклянных, ложится бледными пятнами на скатерть и скользит по бледному человеческому лицу, беспомощно и страшно застывшему в кресле у стола… Самоубийца — молодой, истощенный кутежами и бессонными ночами человек. Его тонкое мертвое лицо со старческими складками у рта осунулось, и синие тени залегли в нем, как бы рисуя всю эту конченную, беспутную и бессмысленную жизнь, растраченную на женщин, вино и игру… Кровь медленно стекает по бледной щеке, пачкая воротнички белья и лацкан черного щегольского фрака… Револьвер лежит на полу, выпав из бессильно опустившейся тонкой и слабой руки… И вся эта тихая, страшная комната наполнена женщинами… Они призрачны и туманны, как будто призраки, созданные этим синеньким бескровным городским утром… Они толпятся вокруг трупа, протягивая к нему руки, плача, лаская и угрожая… Их искривленные лица, то безумно страстные, то холодно-жестокие, то молящие, то полные ненависти, все обращены к трупу… Здесь светские женщины в роскошных туалетах, бледные и прекрасные, как дорогие цветы; безумно шикарные актрисы с вульгарными жестами и накрашенными лицами, с синими кругами под глазами и красными, точно вымазанными кровью губами; балетная танцовщица в газовой юбочке с ногами, обтянутыми розовым трико, протягивает к трупу обнаженные тонкие руки; резкое смуглое лицо цыганки с ненавидящими жгучими глазами грозит ему; в уголке плачет молоденькая девушка в белом передничке; строго сдвинув брови, стоит неподвижная скорбная фигура в сером убогом платье; нахальная, страшная в самой красоте своей, полуобнаженная кокотка, на голые плечи которой ложатся синие блики утреннего света, протягивает к нему недопитый бокал… Они плачут, просят, угрожают, проклинают, бледные и призрачные, сотканные из воспоминаний погибшей жизни и синенького тумана больного городского утра…
Если бы кто-нибудь спросил Михайлова, что изображает его картина, он не мог бы объяснить. Это была его опустошенная душа, вся его жизнь, прожитая и подходящая к роковому и страшному концу. Вся тоска его, все страстные порывы к какому-то сверкающему счастью, все отчаяние его, смерть Краузе, Лиза, Нелли, Женечка, безумные речи Наумова, забытые воспоминания прошлого, — все слилось с ней в едином страшном порыве тоски и последнего творчества.
Этого нельзя было выразить словами, но это давило душу самого Михайлова и было страшной правдой, исторгнутой из самой глубины опустошенного сердца.
Сумерки сгущались. Все призрачнее и страшнее становились призраки на полотне, все бледнело и таяло бледное лицо самоубийцы, как бы готовясь исчезнуть в вечной тьме.
Михайлов стоял неподвижно и смотрел, пока все не слилось в одну неопределенную, загадочную мглу. Потом вздохнул, отошел и сел на диван, закрыв глаза.
Сразу упало то страшное напряжение, которое целый день держало его на ногах, и мягкая усталость обволокла все тело. Он сидел неподвижно, откинувшись на подушку дивана и бессильно уронив руки. Последний отблеск уходящего дня бледно ложился на его лицо, и оно казалось похожим на то красивое, истощенное лицо с его картины.
Михайлов уже не видел своей картины и как будто не думал о ней, но образы, созданные им на полотне, сливались с другими, бледной чередой встававшими в памяти. Знакомые лица, то яркие, как вчерашний день, то призрачные, как полузабытые воспоминания давнего прошлого, проходили перед ним, смотрели в душу то скорбными, то гневными, то полными любви и муки глазами и тихо отходили, тая, как призраки, в тумане. И было чего-то грустно, чего-то жаль усталой грустью и бессильной, безнадежной жалостью.
Михайлов вдруг вспомнил, что целый день никого не видел, не слыхал живого голоса. Никто не подумал о нем, не пришел; никому не было дела до того, что он задумал и написал.
Где-то далеко есть люди, которые придут, когда его картина, в числе сотен других, будет выставлена напоказ; они будут смотреть на нее, восхищаться или издеваться; может! быть, многие, глядя на нее, задумаются; но теперь они не думают о нем и заняты своей жизнью, бесконечно далекой от него, в которой нет ему места. Он должен жить один, а им отдать то, что в муках и сомнениях выносит его душа, чтобы, обратившись, они растоптали это ногами или вознесли на пьедестал.
Что-то нелепое было в этом и вызывало непонятное чувство, рождающее смутный протест и отвращение ко всему — к ним, к своей картине, к самому себе, к своей жизни.
Михайлов сразу понял это чувство, не мог не понять, почему так грустно, больно и противно.
И вдруг вспомнил, как один молодой, чересчур углубленный в себя и этим, очевидно, замученный писатель говорил ему:
— Вчера я подошел к окну и через стекла стал смотреть на улицу. Квартира моя высоко, в четвертом этаже… Надо сказать, что перед этим я долго и с увлечением писал… Ну, вот, смотрю я и вижу, что на дворе чрезвычайно, даже до странности белый день… знаете, такой белый день, когда небо низко и светло, ровные белые облака, солнца не видно и сухой ветер… осень. От ветра мостовые точно выметены перед каким-то праздником, но людей мало, пусто, и почему-то грустно. Точно все приготовилось к этому празднику, и очень готовилось, с большим оживлением и даже радостью, — но вот когда все приготовлено, все начисто убрано, и делать больше нечего, вдруг стало пусто и скучно, и уже не интересно, что праздник!.. Ну, вот смотрю я и обо всем этом думаю — о празднике, о том, что все прибрано, пусто, что все бело, и дома, и мостовые, и небо… и не подумал, а почувствовал, что прячу эти впечатления в душе с совершенно бессознательным, но в это же время и совершенно ясным соображением, что все это пригодится, что надо не забыть и где-нибудь «вставить», как герой смотрел на улицу, как было пусто и так далее… Почувствовал и сейчас же осознал, что чувствую. И тут же с неприятным ощущением вспомнил чеховского Тригорина: как он говорил, будто видит облако, похожее на рояль, и думает, что надо где-нибудь в рассказе «упомянуть», что плыло облако, похожее на рояль! Вспомнил и даже с отвращением стал уверять себя, что все это не так, что Тригорин — сочиненное нарочито лицо, а на самом деле писатель вовсе не думает этого. И тут же поймал себя, что именно так и есть, и что все это — и белый свет, и белую мостовую, и что людей мало, и что думал о празднике, и то, что подумал «запомнить и вставить», и даже про Тригорина, и свое неприятное чувство, и то, что подумал, будто Чехов сочинил Тригорина, и даже то, что я поймал себя на этом, и эти самые слова, и весь дальнейший ход чувств и мыслей до мелочей, до таких тонкостей, которые уже совершенно искренни и даже почти бессознательны, — все это запомню и вставлю! И вдруг стало мне противно до невыносимости! Я долго не мог разобраться в этом чувстве, но потом понял: да ведь все это — мои собственные подлинные чувства, мои искренние интимные переживания, моя обнаженная душа! И вот все это — чувства, страдания, сомнения, даже самую искренность свою — я собираю и прячу, как некие перлы, чтобы блеснуть ими и получить признание и награду за то, что у меня такие тонкие чувства, такие мучительные переживания, такая глубокая искренность! Это очень гадко, ничтожно, смешно и глупо, а все-таки так оно и есть! И полно утешаться громкими презрительными словами! Это у всех, у самых великих художников, искреннейших мыслителей и вдохновеннейших поэтов! Иначе не было бы искусства! Ибо переживание уже пережито и восполнено тем самым, что пережито. И вовсе нет надобности его воплощать, ибо даже самая великая идея, если она действительно только для себя, то уже и не важно, будет ли она воплощена, ибо если я свою идею пережил, то для меня она уже существует, хотя бы и ни одна душа об ней не узнала! И вынося на улицу, обнажая душу свою, заботясь о том, чтобы все узнали, оценили и поняли, мы все если не проститутки, то позеры или ремесленники! И вернее, что — проститутки, ибо делаем это для того, чтобы прелестью своих чувств купить себе право на оправдание своей жизни!
Михайлов выслушал его тогда с интересом, но не совсем понял; да и правду сказать, действительно выражено было все это очень туманно и сбивчиво. Он только с внутренним злорадным смешком подумал, что ведь и сейчас писатель говорит, кокетничая своими страданиями, сам любуясь тем, что говорит! И, должно быть, писатель это почувствовал, потому что покраснел мучительно и отошел с настоящим страданием в глазах.
Но теперь, в мертвой тишине сумерек и одиночества, Михайлов вдруг вспомнил этот разговор и внезапно почувствовал болезненное острое отвращение. Ему захотелось тут же, сейчас же вскочить, схватить нож и разодрать свою картину сверху донизу. Это желание было сильно, почти невыносимо, но тут же он почувствовал, что если бы сделал это, то сейчас же и завыл бы от жалости и никогда не простил бы себе, что погубил картину… Михайлов так и подумал — погубил, точно это было живое существо, помимо него.
Смутно стало у него на душе и захотелось близкого существа, теплой, нежной материнской близости, чтобы все можно было рассказать, чтобы можно было вывернуть душу до дна без страха быть непонятым, и в этой близости согреть сердце, утопить все, что давит и томит.
Опять мелькнуло перед ним яркое свежее лицо с черными бровями и черными блестящими глазами. Но мелькнуло и пропало, оставив острую боль, потому что вдруг припомнилось все: номер московской гостиницы, смятая постель, нагое тело, жестокое, как будто даже враждебное сладострастие… все исковерканное, безвозвратно загаженное, оскорбленное, изуродованное!
Лиза!
Он почти выгнал ее, но это ничего… это можно поправить!
И сейчас же почувствовал, что поправлять не надо.
«Божество мое!» — вспомнил Михайлов.
Бедная смешная девушка! Разве он может удовлетвориться ее любовью? И чем заплатить за эту любовь, когда его сердце уже пусто и бессильно?
Стало еще тоскливее и совсем пусто, точно кто-то вынул душу из него.
И мучительно захотелось не грубых искаженных ласк, а чего-то иного, в весенней нежной и радостной задумчивости… Чтобы мечтать о чем-то, чтобы волноваться ожиданием, чтобы со страхом, трепетом и бесконечным умилением коснуться, не то творя молитву, не то сладостно кощунствуя.
— О, вздор! — с внезапной грубостью сказал себе Михайлов.
Ничего этого не будет и не может быть! Эта весенняя любовь только один момент; такой момент, как, например, проснувшись в солнечный день, только что откроешь глаза: солнце, солнце!.. Хочется вскочить, засмеяться, побежать куда-то, утонуть и растопиться в радостном море золотых лучей, зеленых деревьев, радостного утреннего воздуха… А потом начинаешь жить, и долго, томительно тянется пыльный жаркий день, пока не сядет надоевшее, измучившееся солнце. Только и всего!.. Если бы любовь кончалась в каком-то невыносимом апофеозе и человек таял в ее сиянии, сливаясь со всем миром, как облако в солнечной лазури! Но нет этого: есть один короткий момент — первое чувство, первая страсть, а потом — привычка повторения и тоска о прошлом.
Михайлов вспомнил, как говорили ему:
— Мы будем вместе работать, я буду помогать тебе, милый.
Ему всегда становилось стыдно чего-то. Разве можно помочь жить и чувствовать? Помочь можно кирпичи таскать, младенцев нянчить! А тот тайный процесс, который совершается в глубине души, который и есть жизнь, никому не откроешь, и никакая самая любящая рука не проникнет туда! А если этого нет, если нет полной и неразрывной связи, то нет и ничего! Есть только грубое, животное наслаждение, оно увлекает, но не может наполнить жизнь, потому что положен предел ему и ограничена сила желания!
Тут замкнутый круг: с одной стороны, ужас насильственного слияния, вопреки властному зову к неизведанному, какая-то трясина, засасывающая душу, а с другой — пустота безличных мгновений, в которых разменивается душа…
Быть может, он сам виноват, не сумев найти ту, которая наполнила бы жизнь?.. Он сам разменялся среди всех без разбора?.. Полно!.. Какой разбор: каждый человек тайна, и жизнь каждого дурака и каждого пошляка так же загадочна, как жизнь величайшего мудреца и прекраснейшей из женщин!
Слабый и в то же время решительный стук раздался у двери. Михайлов поднял голову и с внезапно в какой-то инстинктивной тревоге забившимся сердцем крикнул:
— Войдите!
Дверь тихо отворилась и затворилась, и в комнату в совсем сгустившемся сумраке проскользнула чья-то гибкая черная тень. Проскользнула и стала во мгле, как призрак. Михайлов вскочил.
— Кто это? — спросил он в испуге. И вдруг узнал тонкие сжатые брови и не то печальный, не то грозный взгляд темных больших глаз.
— Нелли! — почти с ужасом крикнул он.
— Я, — сурово отвечала Нелли и, отделившись от двери, вышла на середину комнаты.
XXI
Михайлов медленно отступил, потрясенный до глубины души.
— Ты?
Нелли молчала.
Михайлов делал какие-то странные движения руками и, видимо, не знал, что сказать.
Нелли долго смотрела на него, и две черные злые пиявки над ее глубокими глазами странно шевелились. И вдруг она заговорила очень отрывисто и зло:
— Я пришла к тебе вовсе не затем, чтобы… Зажгите огонь! Почему вы сидите впотьмах?
Она говорила то «вы», то «ты», но оба они этого даже не заметили.
Михайлов кинулся зажигать лампу и вдруг почувствовал, что сердце его бьется радостной тревогой, точно после долгого отсутствия нежданно вошел к нему самый близкий человек, и от радости он не знает, что сказать, что сделать.
Пока он зажигал лампу и суетился, Нелли стояла посреди мастерской, жестко сдвинув брови и оглядываясь, точно хотела увидеть, все ли на месте, как она оставила.
Наконец Михайлов зажег лампу.
Разгораясь, она ярко осветила всю мастерскую. На стенах заиграли золоченые рамы, краски и драпировки. При свете выступило очень бледное, тонкое и злое лицо со сжатыми тонкими бровями и странным взглядом.
— Как, это ты?.. Ну, раздевайся… сними шляпу… Я так рад! — бормотал Михайлов, сам не понимая, что с ним, но чувствуя, что нечто светлое и чистое вдруг осветило всю душу.
Он даже едва не сказал «милая» и взял ее за руку, тонкую и твердую.
Нелли незаметным движением освободила руку и как-то уж очень странно посмотрела на него. Судорога пробежала между сурово сжатыми бровями, точно она ожидала не этого, и вдруг поколебалась в каком-то своем злом решении.
Но Михайлов ничего не заметил. Он суетился возле нее, помогал снять шляпу, кофточку, перчатки и радостно улыбался, отчего его прекрасное мужественное лицо вдруг стало милым и простодушным, как у ребенка.
Нелли отдала ему шляпу и кофточку, осталась в своем всегдашнем платье и, не сходя с места, оглянула комнату.
— Давно я тут не бывала! — сказала она с задумчивой грустью.
Эти слова больно кольнули Михайлова. Он вдруг понял неуместность своей шумной радости. Но глаза его против воли с восторгом оглядывали ее всю. Она была такая же, как тогда: очень тонкая и хрупкая, с бледными тонкими руками, в черном платье, с открытой смуглой шеей и слегка спутанной прической.
— Но как ты пришла? — почти дрожа от волнения, спрашивал Михайлов.
Так вот и пришла, как будто совершенно равнодушно ответила Нелли.
Михайлов широко открытыми блестящими глазами смотрел на нее. Она казалась ему такой близкой, милой, родной, что хотелось просто и нежно обнять ее.
Нелли как будто почувствовала это, задвигалась и пошла от него по комнате.
— Покажите, что вы сделали за это время… Все! — сурово сказала она.
Но эта суровость не только не испугала, но даже тронула Михайлова. Он схватил лампу, поднял высоко над головой и осветил все полотна.
«Милая!» — пело у него в душе, и он не мог глаз оторвать от Нелли, радуясь каждому движению ее тонкого тела, ее прическе, голой шейке, строгому, как бы требующему отчета выражению лица.
Нелли молча смотрела картины и этюды с таким сосредоточенным видом, точно пришла проверить, сделал ли он что-нибудь без нее, не даром ли потратил время и свободу, которые она дала ему.
— Это хорошо! — сказала она раза два, и Михайлов удивился, как радостна была ему ее похвала.
Перед большой картиной, которая казалась еще углубленнее и призрачнее при свете лампы, Нелли остановилась и повела тонкими бровями, как бы стараясь понять.
— Что это? — властно спросила она. Михайлов не ответил и вдруг испугался чего-то. Нелли долго смотрела молча, потом странно, точно прогоняя кошмар, качнула головой. И по этому маленькому движению Михайлов увидел, что она поняла все, даже то, что Михайлов только хотел, но не мог выразить своей картиной. Но лицо ее стало печально.
— Это очень хорошо! — коротко сказала Нелли и, помолчав, прибавила: — Но это ужасно!
Михайлов, все так же держа лампу над головой, тоже смотрел не отрываясь на свою картину. Она вдруг поразила его чем-то новым, чего он как будто не видел раньше, и притянула к себе странной властью темного ужаса. Он даже забыл о Нелли в эту минуту.
Но Нелли быстро отошла прочь, и Михайлов, очнувшись, пошел за нею. Она пошла прямо за драпировки, где была спальня Михайлова, и с непонятным выражением осмотрела его интимную обстановку кровать, столик с книгами.
Михайлову вдруг стало больно, что она смотрит… Не за себя больно, а за нее: Лиза, Женечка… они вдруг как бы появились на этой кровати, на той самой, на которой когда-то отдалась ему и Нелли, и сплелись в безобразный бесстыдный ком голых тел. Чувство глубочайшего отвращения, стыда и даже как будто отчаяния охватило Михайлова. Он даже сделал движение, чтобы увести Нелли. Но она сама вышла оттуда. Лицо ее не изменилось, только легкая судорога скользнула между бровями, пробежала вниз и спряталась в уголке сжатых губ.
И здесь Нелли в первый раз посмотрела прямо на Михайлова. Он замер от стыда, страха и нежности под этим суровым, почти грозным взглядом, точно в ожидании приговора.
Это была странная улыбка — грусти, воспоминаний, ласки и упрека, прощения и еще чего-то, чего Михайлов не понял, но от чего холод прошел у него в душе.
Неожиданно Нелли улыбнулась.
— Ну, ладно! — непонятно сказала Нелли, как бы отвечая самой себе, и вдруг порывистым движением взяла его обеими руками за голову и поцеловала в лоб.
Михайлов вздрогнул и, едва не уронив лампу, охватил Нелли одной рукой.
Но она с тем же суровым и загадочным взглядом слегка отвела его голову и вдруг несколько раз поцеловала в лоб, глаза и губы.
Губы ее были сухи и горячи, и когда она прижала их к его губам, Михайлов почувствовал влажный холодок ее зубов. У него закружилась голова.
Но прежде чем он успел опомниться, Нелли оттолкнула его, взглянула почти с ненавистью и с мучительным выражением сказала:
— Ну, и конец!
И, взяв свою черную шляпу, стала закалывать ее на спутанных черных волосах.
Михайлов, поставив лампу, стоял посреди комнаты, чувствовал, что пол тихо качается у него под ногами, и блаженно улыбался, не понимая, зачем она надевает шляпу, кофточку…
— Разве ты уже уходишь? — растерянно воскликнул он.
Нелли оглянулась. В губах у нее была длинная острая булавка от шляпы, и это придало ей злое, жесткое выражение.
— Ухожу! — сказала она сквозь сжатые губы. Вынула булавку и «стала втыкать ее длинное острое жало в шляпу и волосы. Булавка сухо и жестко заскрипела.
— Но это невозможно… я так обрадовался! Зачем же ты приходила? — так же растерянно и беспомощно, ничего не понимая, кинулся к ней Михайлов и вдруг страшно побледнел.
Нелли повернулась к нему и опустила руки. И тут Михайлов понял выражение ее глаз: в них было чувство жестокой, почти сладострастной мести. Но в уголках рта все-таки лежала резкая черточка страдания, которую он не заметил.
— Как зачем? — неестественно удивилась Нелли. — Повидаться!.. Мы же старые друзья… даже больше чем друзья!
— Нелли! — вскрикнул Михайлов отчаянно, чувствуя, как погружается душою во что-то черное и холодное.
— Почему же ты поцеловала меня сейчас? — нелепо спросил он.
Нелли загадочно улыбнулась.
— А это я попрощаться хотела… Я ведь сегодня уезжаю, совсем…
— Куда? — еще отчаяннее вскрикнул Михайлов.
— К Арбузову… на завод! — грубо, резко и отрывисто ответила Нелли, и еще жестче стало выражение захватывающей мести в ее глазах, и еще искривленное страдальческая линия тонких сжатых губ. — К Арбузову? повторил Михайлов.
— Да… И еще я хотела вам сказать новость… Слышите, непременно — первая сказать… — подчеркивая, медленно выговорила Нелли и приостановилась, точно для какого-то наслаждения.
Глаза у нее блестели, как у зверя перед последним прыжком.
— Какую новость? Почему — первая? — недоумевая, переспросил Михайлов.
Нелли медленно и отчетливо выговорила, не сводя с него глаз:
— Это… ваша Лиза… сегодня утопилась!
Михайлов отшатнулся. Ему показалось, что мгновенный туман окружил его, и только откуда-то издалека, сквозь молочную мглу, сверкают чьи-то черные мстительные глаза.
Нелли быстро повернулась и выбежала из комнаты. На крыльце она приостановилась, к чему-то прислушиваясь, потом схватилась руками за голову и побежала вниз, через двор, на темную, блестящую редкими далекими огоньками улицу.
XXII
Арбузов ждал Нелли у нее в комнате, в том самом доме, где жила и умерла Мария Павловна.
После смерти актрисы приехал ее двоюродный брат, какой-то веселый легкомысленный актерик с гвоздикой в петличке и неимоверно надушенный. Как оказалось, покойная писала ему о Нелли и просила оставить ее в доме. Актерик даже обрадовался этому, потому что решительно не знал, как быть с этим домом, поухаживал за Нелли, которой немножко испугался, пожил дня три и уехал. Нелли осталась в своей комнате, а весь остальной дом заперли и заколотили.
Эта близость заколоченного, выморочного дома придавала Неллиной комнате что-то жуткое. По вечерам, когда в саду, облетевшем и темном, шумел ветер и старый дом погружался в сырой гудящий мрак, в одном только ее окне блестел огонек и пробуждал у прохожих неприятное суеверное чувство.
Арбузов сидел у стола, положив на него одну руку и низко свесив тяжелую лобастую голову с повисшим над лбом черным клоком волос. По временам он подымал черные воспаленные глаза и как-то дико окидывал ими кругом, прислушиваясь к тишине вымершего дома. Потом опять опускал голову и сидел неподвижно, только чуть заметно перебирая пальцами другой руки, свесившейся с колена.
Свеча на столе горела желто и темновато. В сумраке виднелись черные стулья, комод, узкая Неллина кровать, покрытая белым одеялом. Все было чисто и даже чересчур аккуратно; печать аскетической суровости лежала на всем, и не было ничего, кроме маленького зеркала на комоде, что напоминало бы, что здесь живет молодая красивая женщина, пережившая бурю страсти, вдребезги разбитую любовь, беременность и преждевременные роды… А может быть, именно о сгоревшей страсти, разбитой любви и ожесточившемся сердце и говорила эта аскетическая суровость, узкая монашеская кровать, строгое одеяло, маленькая твердая подушка.
Дверь внутрь дома была заколочена и заставлена столом и стулом. Именно на этом стуле сидел Арбузов. От запертой двери давило тяжелое безмолвие смерти. За ней чудились пустые комнаты, где еще стояли никому не нужные рояль, мебель, висели зеркала и лампы, все в чехлах и пыли. Мрак и пустота были там. Где-то еще стояла железная кровать, без матраца и подушек, та самая, на которой жило, страдало и умерло хотевшее жить и любить несчастное существо… стояла голая, ненужная, в пустом углу у белой голой стены…
Арбузов сидел и слушал… Какие-то странные звуки долетали до него: то раздавался осторожный скрип, точно кто-то на цыпочках подбирался к самой двери, то резкий, гулкий треск. За окнами то глухо и буйно шумел ветер, то начинал монотонно и невнятно бормотать дождь, по временам торопливо постукивая в ставни.
Арбузов был совершенно трезв, причесан и умыт. Его фуражка и поддевка лежали на стуле у входной двери, а он сидел в красной шелковой рубахе. Свеча на столе, опущенная голова, бессильно свесившиеся руки и красная яркая рубаха придавали ему вид какого-нибудь, времен Ивана Грозного, удалого разбойника, задумавшегося о том, как наутро ему на допрос и на казнь идти.
По временам он мрачно встряхивал головой и усмехался едко и горько, точно смеялся сам над собою. Вряд ли он о чем-нибудь связно думал, потому что боялся думать, но горел на медленном огне.
Вдруг стукнула калитка, послышались на крыльце легкие быстрые шаги. Арбузов быстро поднял голову, и глаза его засверкали. Если бы кто-нибудь увидел его в эту минуту, не понял бы того зловещего и страшного выражения, которое появилось в этих черных, вечным пьянством и разгулом воспаленных глазах.
Дверь отворилась, и вошла Нелли.
— А, наконец-то! — нехорошо усмехнувшись, сказал Арбузов.
Нелли молча сняла шляпу и кофточку и стала посреди комнаты. Она или не слыхала, или не обратила внимания на тон Арбузова.
— Ну, вот и все! — сказала она, как бы про себя. Нельзя было понять, отвечала ли она на какие-то свои мысли или успокаивала Арбузова. Слова ее прозвучали так, как будто бы одновременно она хотела сказать: «Ну, вот и конец, оборвалось последнее, все умерло…», или: «Ну, вот, только и всего, и ты напрасно беспокоился!»
Арбузов мрачно и недоверчиво посмотрел на нее.
— Все ли? кривя губы, спросил он. Нелли сжала брови, но ничего не отвечала.
— Ну, ладно… Слушай, Нелли, — заговорил Арбузов, помолчав, — я свое слово сдержал, не мешал ничему… Но пока я тут сидел один, я много передумал и… слушай… не могу верить!
Нелли молча, сдвинув тонкие брови, смотрела на него.
— Не могу! — повторил Арбузов.
— Ну, и не верь! — жестко ответила она. Арбузов быстро поднял голову, и бешенство сверкнуло в его воспаленных глазах.
— А тебе все равно? Ну, что ж… значит, я и прав! — сказал он с трудом, точно через силу. Нелли пожала плечами.
— Может быть!
Нелли, не шути! — бешено крикнул Арбузов, но сейчас же и сдержался. — Ты же должна понять… Я тебе ничего не сказал, когда ты пошла… Уж очень смешно, стыдно было говорить… А теперь скажу: что бы там ты ни говорила, а я знаю одно, что ты его до сих пор любишь!
— Нет! — ответила Нелли.
— Любишь! По-прежнему, а может быть, и больше того!
— Нет! — упрямо и зло повторила Нелли. Арбузов хрипло засмеялся.
— Если бы ты себя сейчас слышала!.. Сама себя стараешься уверить… Только зря это! Не для одной же трагедии ты к нему побежала? Не для эффекта? Э, брось!.. Любишь, и все тут. Мне один человек говорил, что того, кому женщина в первый раз сама, по любви, отдалась, того она уже никогда не забудет. И возненавидит как будто, и зла пожелает, и убьет, пожалуй, а стоит тому опять хоть пальчиком поманить, так и побежит… я теперь и сам это вижу!
Арбузов говорил, издеваясь и самого себя мучая.
Нелли молчала.
— Ну, что ж, трогательное было прощание, а? — с болезненной усмешкой спросил Арбузов. Нелли быстро взглянула.
— Да, очень! — ответила она мстительно. Арбузов побледнел.
— Я ведь вижу, что ты надо мной издеваешься, Нелли! — судорожно облизывая языком сухие губы, сказал он и попытался презрительно засмеяться. — Только это ты сама думаешь, что нарочно, со зла говоришь, а на самом деле было трогательно… Оно видно!..
— Видно? — спросила Нелли, прищуриваясь, и засмеялась. — Ну, тем лучше! Арбузов стал задыхаться.
— Уж не отдалась ли ты ему на прощанье? В последний-то раз? — сказал он, сам едва вынося свою насмешку.
— Конечно! — вызывающе ответила Нелли. Словно туман прошел по лицу Арбузова, и Нелли показалось, что он сейчас бросится на нее. И такое движение у него было. Точно мозг пошатнулся — Арбузов прекрасно видел, что она говорит это назло, что своими насмешками и подозрениями он только озлобляет ее, но даже и насмешки такой он не мог вынести. Уже одно то, что она, в самом деле ведь отдавшаяся Михайлову, могла произнести это слово, хотя бы и нарочно, сводило его с ума.
— Нелли, не мучь ты меня! — почти простонал он. Я ведь не верю… я знаю, что ты нарочно… но не могу я этого слышать, не могу!
Нелли засмеялась, бросила шляпу на комод и подошла к нему.
— Ну, будет… перестань! — шепнула она и, охватив голову Арбузова, прижала ее к груди, тихо и нежно гладя по буйным жестким волосам. — Я тебя люблю!.. Милый мой, бедный!
Безудержное счастье, сумасшедшее, сдавило горло Арбузову. Он прижался к ней, к небольшой ее груди, под которой слышалось мягкое биение сердца, и замер. Нелли чуть слышно гладила его по волосам.
— Замучился я… — жалко пробормотал он, — зачем ты ходила!
И ревнивая нотка опять скользнула в его шепоте. Нелли приняла руку и слегка отодвинулась. Арбузов, подняв голову, подозрительно смотрел на нес исподлобья.
— Значит, не совсем же ты его забыла…
Нелли вдруг оттолкнула его и заломила руки.
— Ах, как все это скучно, тяжело, противно! Как мне надоело это все! — простонала она с тоской.
— Нелли, Неллечка! — испуганно, с раскаянием потянулся к ней Арбузов.
Но Нелли уже отошла и стала у комода. Брови у нее были резко сдвинуты, глаза смотрели решительно и мрачно.
— Слушайте, Захар Максимыч, — заговорила она странным надорванным голосом, — долго ли вы будете меня мучить?
— Я? Тебя?.. Нелли! — с упреком вскрикнул Арбузов.
— Да, вы, меня! — жестко передразнила Нелли. — Чего вы хотите от меня? Ну… я любила вас, потом разлюбила… думала, что разлюбила… изменила… теперь опять люблю… Ну, что ж? А то… У каждого человека, Захар Максимыч, есть свои внутренние тайны, которых он и сам не знает, не понимает! Нужно мне было его увидеть! Вот именно затем, чтобы убедиться, что не люблю! Что вы на меня так смотрите?.. Ну, может быть, я подлая, развратная, гадкая… может быть, я сама себя не понимаю… ну, и прекрасно! А какое вы право имеете требовать от меня, чтобы я была другая!.. Я вас не обманываю, не представляюсь другой!.. Зачем вы меня мучаете?
— Нелли!
— Что — Нелли! Вы должны мне поверить, что это кончено!.. Чем я докажу?.. Вы должны верить потому, что ведь не я к вам пришла!.. Я прощения не просила! Я виновата и наказана за это достаточно, но у меня хватило бы гордости не идти к вам прощения просить, потому что я знаю, что этого и нельзя простить!.. Я бы на колени стала, да к чему?.. Никогда вы этого не забудете и забыть не можете!.. Помните, вы уже приходили ко мне, уверяли, что все прощено и забыто, а потом душили меня… вот здесь, на полу… Помните? Арбузов опустил голову.
— Я думала, что этим и кончится… Я умереть думала… Но вы опять пришли! И признайтесь, Захар Максимыч, ведь вы только потому пришли, что узнали, что ребенок мертвым родился… Ведь правда?.. Иначе бы не пришли!
Арбузов промолчал.
Нелли подождала.
— Ну, видите!.. Такого… реального… Нелли усмехнулась через силу, напоминания вы уже и сами знали, что не перенесете совсем… Какое же это прощение, какая это любовь?..
— А, может, и пришел бы!
Нелли быстро на него посмотрела.
— Да, пришли бы… пожалуй… вижу, что пришли бы… Но только для того, чтобы опять уйти!..
— Я люблю тебя, Нелли! — перебил Арбузов с отчаянием.
Нелли сжала пальцы так, что они хрустнули.
— Я вижу, вижу это… А все-таки нам лучше расстаться раз навсегда!
— Нелли!
— Лучше, лучше, лучше!.. Не забудете, не можете вы забыть, и мы только без конца мучить друг друга будем!
— Я забуду, Нелли! — робко пробормотал Арбузов.
— Нет!.. Ребенок… Я сказала, что такого реального напоминания вы не вынесли бы, а, может быть, именно потому, что это уж слишком грубо, вы скорее бы и примирились! Нет, вам мелочи напоминать будут! Я не посмею поцеловать вас, не посмею приласкать понежнее, потому что при каждом моем слове и движении буду знать, что вы думаете: вот так она и его целовала… так и его называла… Ведь правда? Да?.. Конечно!.. Сегодня ночью меня вдруг потянуло к вам… страстно потянуло!.. Я лежала на кровати, и мне страшно, мучительно хотелось, чтобы вы были со мной…
Нелли вдруг покраснела и стала проще и красивее вдвое. Арбузов быстро выпрямился и сделал к ней радостное страстное движение.
— Подождите… я не все сказала! Это я тогда, ночью, думала… — заторопилась Нелли, — я думала: все кончено, вздор, ничего не было!.. А люблю я только его одного, одному ему хочу принадлежать и телом, и душой! Думала, вот так я его приласкаю, так положу голову его на грудь…
Голос Нелли зазвучал страстно и нежно, как музыка. Она даже приложила руку к своей небольшой мягкой груди. Арбузов слушал, не сводя с нее восторженного взгляда, не смея пошевелиться, чтобы не испугать ее.
— И вдруг меня точно ударило что: да ведь чем я буду страстнее, тем ужаснее… тем ярче он будет представлять себе, что такою я была… Ведь правда? Правда?
— Правда! — глухо ответил Арбузов и встал.
Глаза Нелли сверкнули отчаянием.
— Что ж, может быть, ты и права, Нелли! — растерянно улыбаясь и не глядя, сказал Арбузов, — И ты очень ярко все это расписала! — вдруг с неутомимой ненавистью прибавил он. — И ласки, и объятия эти… «Такая была!» Очень ярко! Ну, так что же нам делать? Разойтись окончательно и уже навсегда, что ли?
— Да, — ответила Нелли бледно и невыразительно.
Арбузов помолчал.
— А если я этого… не могу? — спросил он уже совершенно неслышно.
Нелли махнула рукой.
— Можете! Это только так кажется! — возразила она.
Арбузов опять помолчал. На его мрачном лице с тяжелым белым лбом было отчаянное упрямство, и тени ходили, точно тысячи мыслей, и, как тучи, гонимые ветром, неслись за этим лбом.
— Я даже скажу вам, — прибавила Нелли, видимо, слабея, — что только потому и кажется, что я еще не принадлежу вам…
— Нелли! — замотал Арбузов головой, как бык, пораженный обухом.
— А как только я вам отдамся, так вы и почувствуете, что можете и даже очень! — продолжала Нелли. — Вы все одинаковы, что бы там ни говорили, что бы ни чувствовали, а в конце концов вам только этого, только, только и нужно! — прибавила она истерически, с ненавистью, болью и отвращением.
Арбузов ответил не сразу. Те же тени продолжали ходить по его лицу.
— Ну, слушай, Нелли, — медленно заговорил он, — может быть, ты и права… Да, точно… не забуду и забыть не могу! Буду думать, буду представлять! Что же, оно и понятно: я тебе всю свою душу целиком отдаю, а я свою душу ценю! Я гордый, Нелли, хоть и всего-то — купеческий сынок и никакими талантами не отличаюсь… Если бы он тебя так же любил, как я, если бы это была ошибка и с его стороны, что он тебя бросил… если бы он страдал, я забыл бы! Тут мы были бы равны: я тебе отдаю всю душу, я тебя покупаю ценой всей жизни, и он тоже… что ж! Но тут не то: я не могу вынести мысли, что я к ногам твоим всего себя, без остатка кладу, что ты для меня — святыня, а он взял тебя для потехи на час, между прочим, и бросил, как ненужную тряпку! Так неужто же он надо мною так высоко стоит?.. И когда мы все трое случайно сойдемся, ведь он в душе — явно-то не посмеет… а может, и посмеет даже… — будет думать: дурак!.. Ценой всей жизни купил то, что я мимоходом взял и бросил!.. Не могу я этой мысли вынести! Я тогда и его, и тебя, и себя убью!
Арбузов схватился руками за голову и закачался от нестерпимой боли. Нелли слушала, опустив глаза.
Арбузов, вдруг схватив свою шапку, пошел к двери и остановился.
— Ты только то помни всегда, Нелли, — грозно и тяжело заговорил он опять, — что я тебя любил, люблю и всегда любить буду! Я бы не ушел, да что! Любишь ты его, любишь! Вот что я вижу, и в этом ты меня не обманешь! Все это пустяки, что я говорю: кабы верил, что точно разлюбила, махнул бы рукой… Не верю! крикнул он. — Зачем ты к нему ходила? Прощаться? Скажите пожалуйста! Я не ребенок!.. Не прощаться ты ходила, а посмотреть в последний раз, убедиться, что все кончено! Не одумался ли, мол? Не возьмет ли опять? Молчи! Не лги!.. Сама знаешь, что правда!.. Думала-то ты, может, и другое, но в душе это было. Ну, да ладно. Скажи хоть раз правду: не целовала ты его на прощанье?
Голос Арбузова сорвался и упал. Он задыхался, на него жалко и страшно было смотреть. Он ждал ответа.
Нелли подняла молящие глаза, пошевелила губами, прижала к груди тонкие бледные руки. Она вся порывалась к нему, как будто хотела и не смела стать на колени. Арбузов горько покачал головой.
— Так… Ну, прощай же! Больше не приду! По крайней мере, пока… пока он жив будет!.. Прощай!
Он с размаху ударил ногой в дверь и бросился во тьму. Дверь ударилась в стену и захлопнулась так, что гул прошел по всему дому.
Нелли долго стояла неподвижно, глядя на запертую дверь, точно надеялась, что он вернется. Потом голова ее опустилась, слезы потекли по бледному, в бесконечной тоске искривленному лицу, и прижатые к груди руки бессильно упали вдоль тела.
XXIII
Весь городок был потрясен: всего через день после похорон корнета Краузе повесился казначейский чиновник Рысков, выгнанный из казначейства за неожиданно дерзкий отпор распекавшему его казначею, а еще на следующий день разнесся слух, что в слободке застрелился из ружья мещанин-огородник и утопилась дочь купца Трегулова Лиза.
Бывало и прежде, что мирную тишину сонного городка вдруг прорезал одинокий выстрел и сбежавшиеся люди узнавали, что ушел из жизни какой-нибудь незаметный человечек, о котором и думать никто не хотел. В самом глухом уголке вдруг раскрывалась целая драма, о которой никто и не подозревал и которой никто бы не поверил. К трупу самоубийцы сбегались со всех сторон, с жутким любопытством смотрели в мертвое лицо, под каменной маской которого таилась какая-то тайна, удивлялись, что никто не предвидел такого конца, и скоро забывали. Жизнь продолжала течь по прежнему неглубокому руслу. Только всего, что на кладбище было одной могилой больше, да на освободившемся местечке водворялся и смиренно начинал копошиться по заведенному порядку другой, такой же никому не нужный и не интересный человечек.
Но целый ряд самоубийств, разразившийся над городом и задевший самые разнообразные круги общества, всколыхнул всю его жизнь. Разговорам и толкам не было конца; весь городок кипел, и в охватившей его бестолковой суете на этот раз было нечто большее, чем простое любопытство.
О мещанине из слободки, конечно, говорили очень мало, да и то больше на базаре: это был горький пьяница, и даже смерть приял в нетрезвом виде. Правда, накануне в пивной он что-то кричал, бил себя кулаками в грудь и кого-то проклинал, но на эту пьяную истерику никто не обратил внимания, потому что это было обычное явление среди пьющих мастеровых.
Самоубийство Рыскова сначала всех поставило в тупик: его неожиданный, безмерно дерзкий срыв уже сам говорил о катастрофе, и потому казначея не обвиняли, но никто не ожидал такой прыти, такого трагического конца от какого-то казначейского писца. Самоубийство всегда вызывает к себе какое-то странное уважение, и всем кажется, что самоубийца какая-то особенная, перстом рока отмеченная личность; а тут вдруг в этой роли выступил самый обыкновенный, заурядный чиновник с бесцветным лицом и волосами как солома. Это показалось даже как будто обидно, но в городе припомнили обстоятельства дела и сразу поставили смерть Рыскова в связь с самоубийством корнета Краузе. Заговорили о заразительности самоубийств, о том, что торжественные похороны и всеобщее сочувствие только толкают на тот же путь других впечатлительных людей, кто-то сболтнул об эпидемии, родился совершенно нелепый слух, что еще восемнадцать человек должны покончить с собою, и тут же смутно всплыло имя инженера Наумова.
Никто ничего определенного сказать не мог, да и слишком было очевидно, что если Наумов и мог повлиять на корнета Краузе или Рыскова, то уж никоим образом не на мещанина из слободки или Лизу Трегулову. Однако заговорили о нем очень упорно и даже вспомнили о полиции.
Под давлением этих толков перепуганный исправник зачем-то и в самом деле бросился к Наумову, но инженер оказался на заводе, а потом прошел слух, будто он и вовсе уехал куда-то. В городской конторе исправника встретил один растерзанный, совершенно и даже безобразно пьяный Арбузов, сумрачно выслушал его и мрачно сказал:
— Ерунда!.. Убирайся ты к черту!
А волнение в городе росло. Было какое-то тревожное ожидание, и хотя большинство и смеялось над фантастическими предсказаниями, но втайне все были подавлены.
Больше всех волновалась молодежь. Гимназистки и гимназисты старших классов собирались кучками и горячо спорили о самоубийствах. Неожиданно оказалось, что среди них есть убежденные сторонники наумовских идей, о которых им стало известно каким-то совершенно непонятным образом.
Барышни и в самом деле отправились с цветами на могилы корнета Краузе и Лизы Трегуловой. Только мечты бедного Рыскова не сбылись: на похоронах его, кроме матери, не было никого, да и похоронили его в самом отдаленном углу кладбища, вблизи сточной канавы, не только без цветов и трубных звуков, но даже почти что и без попов. Правда, зашел к нему на могилу студент Чиж, но постоял в недоумении минуты две, пожал плечами и ушел в самом неопределенном настроении духа.
Директор гимназии почему-то счел необходимым после утренней молитвы в присутствии учителей и священника перед всей гимназией произнести речь, в которой доказывал, что самоубийство есть акт преступного малодушия, и предостерегал своих воспитанников от этого греха перед отечеством, Царем и Богом. Гимназисты выслушали его внимательно, но, кажется, никого он не растрогал. Только многие родители после этой речи стали прятать от детей всякое оружие.
Было нечто странное в этой всеобщей растерянности: похоже было на то, что все в глубине души знали, как незначительна приманка жизни, и боялись, что достаточно одного толчка, чтобы величественное, веками отстроенное здание рухнуло и люди толпами стали бы уходить из жизни.
Больше всего в городке говорили о Лизе Трегуловой. Ее неудачная любовь стала достоянием всех, о ней говорили, захлебываясь от любопытства, и, даже не замечая этого, облили ее могилу отвратительнейшей грязью. Правда, некоторые искренно жалели девушку, но пикантность истории была сильнее жалости и негодования.
Все кипели, волновались, бегали из дома в дома, удивлялись и ужасались. Тревога росла, и городок стал в самом деле походить на город, охваченный какой-то странной болезнью, свойств которой никто не понимал и средств против которой никто не знал.
XXIV
Вечером, в тот самый день, когда Нелли была в последний раз у Михайлова, старый доктор Арнольди один сидел дома и пил чай.
Лампа освещала только блестящий бок самовара да толстые руки доктора, и комната тонула в сумраке. На окнах не было ни ставен, ни занавесок; в них угрюмо смотрел холодной синий вечер, придавая обстановке старого холостяка еще более неуютный и запущенный вид.
Доктор машинально помешивал ложечкой густое вишневое варенье, смотрел, как оно стекало тяжелыми рубиновыми каплями, и о чем-то думал.
По целым вечерам просиживал он так, в полном одиночестве, пил чай, смотрел в какую-нибудь одну случайную точку и машинально ворочал тяжелые ненужные мысли. Они ползли, как тучи над полем, смутно и медленно, и сам он почти не замечал их.
После смерти Марии Павловны он вообще сразу постарел и опустился: голова у него сильно поседела, губы обвисли, руки заметно стали дрожать, а костюм принял неряшливый, грязноватый вид.
Светлый огонек, так поздно на мгновение загоревшийся у него в душе, потух уже навсегда, и она доживала бесцельно и уныло, как сухое дерево, качающееся от ветра у края дороги.
И если иногда перед ним выплывало и печально улыбалось ему прозрачное, в долгой смертельной болезни просветленное личико с грустными глазами, как будто спрашивающими издалека: «А вы не забудете меня, доктор… милый доктор?..» он только вздрагивал и моргал глазами, стараясь поскорее уйти в свое мертвое отупение.
Не было у него в душе ни желаний, ни протеста, ни отчаяния. Ему даже не приходило в голову меч гать о том, что было бы, если бы она не умерла. Он уже так привык к своему унылому одиночеству, что, быть может, даже находил в нем какое-то мучительное наслаждение, тихонько сосавшее сердце, точно незлая пиявка медленно высасывала из него кровь. И его даже раздражало, что он не может не думать, когда мысли тяжелы и совершенно не нужны, не может не вспоминать, когда воспоминания только мучительны.
«Даже и в этом воли человеку не дано!» — думал он с тоской, но сейчас же смирялся.
Все равно! »
И в этих двух словах замирало все, точно туман обволакивал душу.
Разразившаяся катастрофа не испугала, не удивила и не ужаснула его. Он отнесся к событиям так, точно ничего другого и не ожидал. Почему-то единственные живые мысли вызывало в нем самоубийство мещанина, о котором меньше всего думали все другие.
И даже не самое самоубийство, а одно слово, услышанное им в этот день:
«Пьяница, — со страшным раздражением думал он, пьяница?.. Почему же он стал пьяницей, если жизнь так хороша, что… сами же люди выдумали, будто настоящая жизнь не здесь, а где-то «там»?.. Не нашел себе в ней места? Почему же? Не хотел?.. Странное дело! Кто же не хочет найти себе места в жизни?.. Не мог?.. Да вот… не мог!.. А почем вы знаете, какой размах души был у этого пьяненького мещанишки? Вот вы миритесь с тем, что вам дают, а он, однако же, не примирился!.. Быть может, он не меньше всех Толстых и Наполеонов хотел быть и мудрым, и большим, и сильным, а кто-то там родил его маленьким, бездарным и глупым!.. Конечно, не всем быть талантами и гениями, но зато кто же имеет право требовать от человека, чтобы он примирился со своей ничтожностью, удовлетворился своей грязной и темной щелкой и забился в нее, чтобы оттуда, издали, с благоговением взирать на великих счастливцев, творящих жизнь?.. Взирать и радоваться, что они так великолепны, когда он сам так ничтожен! Слишком уж много самопожертвования хотите от человека!.. Пьяница!..»
Доктор сердито приподнял ложечку и долго наблюдал, как стекает на блюдечко вязкая сладкая струйка варенья.
— Да! — сказал он громко, когда капля оборвалась, и положил ложечку.
«И еще хотят заставить поверить, что эта ненужная, никому не интересная жизнь, которую сами же, как раз в противоположность настоящей человеческой жизни вождей и творцов, искренно презирают, есть величайшее благо, драгоценность, святыня непостижимая, которую мы обязаны с благодарностью тащить и беречь… впрочем, до той же могилы!»
— Да! — повторил он еще раз громко, подумал и потянулся толстой, слегка дрожащей рукой к графинчику, стоявшему в тени за самоваром.
Но в эту минуту кто-то быстро постучал в дверь. Доктор Арнольди опустил руку и повернулся.
— Кто там?.. Войдите! — сказал он неторопливо. Дверь отворилась, и на пороге показался Михайлов.
— А-а! — протянул доктор и почему-то стал грузно подыматься навстречу.
Михайлов вошел и, не здороваясь, как был, в пальто и шляпе, сел на первый попавшийся стул у стола. Доктор Арнольди внимательно посмотрел на него умными заплывшими глазами и медленно опустился на свое место.
Довольно долго Михайлов сидел молча, сгорбившись и неподвижно глядя в пол перед собою. Должно быть, он даже забыл, куда и зачем пришел. Доктор Арнольди внимательно наблюдал за ним.
Вдруг Михайлов шевельнулся, поднял голову, встретился глазами с доктором и криво улыбнулся ему. Было в этой улыбке что-то надломленное: смертельно больные, примирившиеся со своей участью люди так улыбаются, не то прося сострадания, не то извиняясь в своей беспомощности.
— Ну, что скажете? — пропыхтел толстый доктор. — Чаю хотите?
Михайлов, видимо, собирался что-то сказать, но этот неожиданно простой вопрос спутал его. Он только рукой махнул.
— Да, — без всякого выражения сказал доктор Арнольди, — дела!
Михайлов тоскливо метнулся, но сдержался и потупился. Он несколько раз пытался заговорить, но только судорожно открывал и закрывал рот. Должно быть, все не те слова приходили ему в голову.
Доктору как будто стало жаль его: он приподнялся и ободряюще хотел похлопать Михайлова по плечу, но тот отдернулся почти с отвращением. Доктор Арнольди принял руку, пожевал губами и сел.
Михайлов продолжал совершенно неподвижно смотреть в пол. Мало-помалу доктор начал беспокойно шевелиться и наконец пробормотал:
— Ну, что, в самом деле! Нельзя же до такой степени падать духом!
Михайлов промолчал.
— Это, конечно, ужасно, но что же делать! Сделанного не воротишь… Да, по-моему, не так уж вы и виноваты в этом…
— Вы думаете? — глухо спросил Михайлов. Доктор отвел глаза и ничего не ответил. Михайлов, быстро подняв голову, посмотрел на него странным, не то любопытным, не то насмешливым, не то даже враждебным взглядом и вдруг неожиданно и совершенно неестественно захохотал.
— Доктор, да вы, кажется, серьезно думаете, что я считаю себя злодеем и убийцей и пришел к вам каяться и бить себя кулаками в грудь?.. Успокойтесь, пожалуйста!.. Ничего подобного!..
Губы Михайлова странно запрыгали, и доктор искоса поглядел на них.
— Ни в чем я не раскаиваюсь, злодеем себя не считаю, и ваше… и вы… вы не смеете… не смеете на меня так смотреть!
Михайлов вдруг вскочил, сдернул шляпу, швырнул ее куда попало. Он весь дрожал, был бел как мел, на губах у него выступали и пропадали пузырьки пены, он задыхался. Доктор вскинулся было в изумлении, но сейчас же понял, в чем дело, и стал серьезен.
— Успокойтесь, успокойтесь! — сказал он внушительно, тоном врача.
Михайлов дико смотрел на него, дергая всем лицом и странно кося глазами. Он был безобразен и жалок в эту минуту.
— Ну, сядьте, успокойтесь! — властно, но спокойно повторил доктор, встал, взял его плечи и насильно посадил на стул.
Михайлов сразу притих и снизу, как-то очень жалко и даже как будто со страхом, посмотрел на старого доктора.
— Доктор, пробормотал он тихо и просительно, как бы умоляя не сердиться на нею, я так измучился!..
— Ну, да, да… это ничего!.. Это пройдет! — будто и не слушая, и не глядя, сказал доктор. — Вот я вам лучше чаю налью… Вы, главное, успокойтесь и возьмите себя в руки. Так нельзя!
Он методично вымыл стакан, вытер полотенцем, которое висело у нею через плечо, как у старой экономки, налил чаю и, подвинув вместе с блюдечком варенья поближе к Михайлову, сел опять на свое обычное место.
Михайлов блестящими глазами следил за ним. Стакан он было взял, но сейчас же и поставил обратно.
Доктор, вы се видели? тихо, со страшным усилием спросил он, и лицо его исказилось.
Доктор промолчал и, стащив с плеча полотенце, аккуратно принялся складывать. Михайлов умолк и как загипнотизированный продолжал смотреть на него.
Порой, впрочем, взгляд его становился совершенно блуждающим: он, очевидно, никак не мог собрать воедино мыслей, стремительно несущихся в голове, и даже, может быть, плохо соображал, что говорит.
Да, кстати, доктор… — до странности деловым тоном спросил он. — Что она… сразу утонула?
Доктор с удивлением взглянул на него, но Михайлов уже забыл свой нелепый вопрос и с мучительной сосредоточенностью, точно стараясь что-то вспомнить, тер лоб рукою. Он, должно быть, вовсе и не то хотел спросить.
Доктор вспомнил, что такой точно жест после нелепого вопроса он видел у одного сумасшедшего, и покачал головой.
— А знаете, доктор… ведь это даже хорошо, что она умерла, — опять заговорил Михайлов, — я об этом давно думал… то есть не то, а… я, кажется, с ума схожу!.. Даже неловко как-то!
— Пейте чай, — совершенно спокойно сказал толстый доктор и опять подвинул к нему стакан.
Михайлов покорно взял его обеими руками, но опять поставил, даже, кажется, и не заметив этого.
— Вы думаете, я в самом деле с ума схожу, доктор? — вдруг сознательно и спокойно спросил он. — Нет, я серьезно говорю! Лиза в самом деле хорошо сделала, что умерла!
Доктор молча смотрел на него.
— Да чего вы на меня так смотрите? — мгновенно раздражаясь, опять вспыхнул Михайлов. — Я правду говорю!.. И мне ее совсем не жаль! — вскрикнул он положительно со злобой. — Это правда, что я… но это все равно! Не в том дело и ничего ужасного тут нет!.. Ну, хорошо… прожила бы она еще сорок лет, вышла бы замуж за какого-нибудь… все равно за черта, за дьявола, за всемирного гения!.. Нарожала бы детей или на курсы поехала бы, чтобы потом мужиков и баб лечить… Ах, как все это замечательно важно, интересно!.. Да это просто глупо, доктор!.. Если тут что-нибудь ужасное и есть, так это именно то, что ничего ужасного нет! Вот именно той ужасно, что не о чем и пожалеть даже!.. Ничего, кроме скуки и пошлости, не было бы и быть не могло! Ну, умерла… Если бы все люди были бессмертными, а она одна умерла, ну, тогда, может быть, было бы и жалко, и ужасно… а то ведь все умрем!.. Ну, одна немного раньше, мы немного позже, только и всего!.. Да она, может быть, в тысячу раз счастливее нас с вами! крикнул Михайлов с таким раздражением, точно доктор спорил с ним.
Но доктор Арнольди слушал молча, пожевывая отвисшими губами, и по его толстому, обрюзгшему лицу нельзя было понять, что он думает об этом.
Михайлов вскочил и заходил по комнате.
— Она, по крайней мере, сразу сгорела и, может быть, даже с наслаждением в воду бросилась, считая себя жертвой!.. А зачем судьба натолкнула ее на меня?.. Ей был нужен другой человек, муж, отец… вечная любовь и тому подобное… Не мог же я притворяться не тем, что я есть?.. Да и для чего?
Доктор не отвечал.
Ну, пусть я грубый, развратный человек и все, что вам угодно, но что же делать, если я такой, а не другой?.. Во имя чего мне себя переделывать? Я не знаю!.. Кто-то создал меня таким, и я вовсе не желаю исправлять его ошибки, если это ошибка!.. С какой стати я стану насиловать и мучить себя, чтобы усовершенствовать чье-то неудачное создание?.. Да не хочу, вот и все! Не желаю!.. Отказываюсь я от всякого совершенства и желаю остаться таким, как есть!.. К черту на рога!..
Доктор посмотрел на него и опять промолчал.
— Не понимаю я любви вашей и не хочу ее понимать!.. Нет ее у меня и нет!.. Мне нужна женщина, только женщина, и хоть все они перетопись и перевешайся, я…
Михайлов сорвался, задохнувшись от крайнего напряжения, и на минуту примолк.
Доктор Арнольди тяжело вздохнул и тоскливо подвинулся на стуле.
— А знаете, доктор, — опять заговорил Михайлов, но уже со странной видимой сдержанностью, — я ведь и в самом деле, пожалуй, пришел к вам каяться и оправдываться!.. В конце концов… может быть, это и в самом деле — ужасно, гадко и подло!.. Не знаю!.. Мне жаль Лизу… Когда я услышал, мне показалось, что мозг у меня пошатнулся!.. То, что я сейчас говорил, все-таки — правда, я знаю, но знаю я одно, а чувствую другое!.. Я вот сейчас говорю, доказываю, а вспомню, что ее уже нет, что я никогда не увижу ее, что она умерла, одинокая, обиженная, всеми униженная, и у меня сердце сжимается! Я не вынесу этого!.. Она была такая молодая, наивная, доверчивая… так просто, искренно любила… Я никогда не забуду ее… Где это я читал, что самое ужасное — это вдруг сознать, что надо было пожалеть и не пожалел, а теперь уже поздно? Мне все кажется, что это только какой-то скверный сон… А ведь это правда, голая правда!.. Я не мог оставаться один, страшно стало… Вот я и прибежал к вам… чтобы утешили и пожалели меня! — прибавил Михайлов с мучительной иронией.
— А вы знаете, доктор, от кого я узнал, что Лиза утонула? — вдруг спросил он.
Доктор Арнольди взглянул вопросительно.
— От Нелли!.. Она нарочно пришла ко мне, чтобы первой сообщить эту новость!.. Так и выразилась: новость!.. Это она мне отомстила, доктор!.. И надо отдать ей справедливость, хорошо отомстила!.. Она сумасшедшая, доктор! Впрочем, все мы сумасшедшие, у всех нас в душе хаос, чертова неразбериха!.. Знаете, когда я бежал к вам, я все о Краузе думал… Почему о Краузе?.. Ни о Лизе не думал, ни о Нелли… Вас вспомнил и Краузе! Впрочем, я последнее время постоянно о нем думал!
Доктор поднял голову и посмотрел как-то странно.
Михайлов неестественно рассмеялся.
— Вы не бойтесь, доктор, я вряд ли застрелюсь!.. — сказал он, как бы отвечая на взгляд доктора. — Такие люди, как я, не стреляются. Правда, когда Нелли ушла, я прежде всего подумал, что надо просто покончить с собою и этим сразу все узлы развязать… даже револьвер взял, но потом бросил его и убежал… Может быть, если бы не убежал, то и в самом деле застрелился бы. Только нет, вряд ли!.. Куда мне!.. И не потому, что я трус, нет, а просто потому, что для того, чтобы застрелиться, надо все-таки хоть к какому-нибудь окончательному решению прийти, а я ни в чем в самом себе разобраться не могу!.. Я просто в конце концов не знаю: нужно ли это или вовсе не нужно?.. Вот Краузе знал… Лиза знала… Она любила, любовь обманула ее, и она не захотела жить! Так просто, ясно!.. Должно быть, надо иметь сильные чувства, чтобы покончить с собой, а у меня одна дрянь в душе!.. Вам, доктор, должно быть, странно все это слышать от меня?
Доктор пожал плечами.
— Нет, что ж… — неопределенно буркнул он.
— Бывают такие моменты, доктор… Живет чело век, живет, да и оглянется… и в ужас придет!.. Ведь в сущности, каждый человек, если бы серьезно оглянулся на свою жизнь, должен был бы прийти в ужас от всего этого громадного количества растраченного даром времени, перезабытых чувств, выброшенных сил, от всей той дряни и мелочи, которые он проделал!.. Так вот и я оглянулся… Мне случалось и прежде оглядываться, да все что-нибудь сбивало и опять все запутывало… Но теперь, кажется, в последний раз оглянулся…
Михайлов говорил быстро, не умолкая, и видно было, что говорит он в каком-то припадке, путаясь в мыслях и словах, терзая себя и разворачивая всю душу.
— Я ведь не всегда такой был, доктор… Когда-то я на все смотрел другими глазами. Я и в искусство верил, и в человечество, и в любовь, во что хотите!.. Только это давно было. Видите, доктор, у меня в жизни один перелом был: когда мне было еще лет девятнадцать-двадцать, я еще тогда в школе живописи был, доктора нашли у меня чахотку, и я поверил, что через несколько месяцев должен умереть. Я не испугался, отнесся к этому совершенно спокойно и даже иронически, но только заметил, что все мне стало неинтересно: надо, например, кончать эскиз к экзамену, а я думаю: на кой же черт, если я после экзамена умру?.. Подготовлялась, помню, тогда экскурсия в Италию на средства одного мецената, а я не поехал… Зачем думаю… Разве мне будет легче умирать оттого, что я Рим увижу?.. И так все… Начал ухаживать за одной барышней, бросил… Ну, думаю, хорошо полюбит она меня, а дальше?.. Все равно умру!.. И вот тогда-то я в первый раз и задумался над жизнью и понял, что, в сущности, каждый человек такой же больной, как и я, хотя бы он был здоровее Геркулеса. Кто-то сказал, что самая опасная болезнь это жизнь, потому что она ровно на сто процентов кончается смертным исходом… От чахотки можно выздороветь, от чумы, от проказы, но от жизни никогда!.. Это, конечно, избитая мысль, но ведь мы никогда о ней серьезно не думаем… Так, повторяем ради красного словца и сейчас же забываем, как будто бы это только так, в шутку говорится… Но я-то знал, что умираю, и для меня эго вовсе уже не было шуткой! Ну, так вот… До тех пор искусство было для меня делом всей жизни, и прежде всего именно в нем я и усомнился тогда!.. Помню, увидел я какой-то неоконченный портрет Крамского, который он писал накануне смерти, и этот портрет мне много ночей спать не давал… Все, бывало, лежу в темноте и думаю: вот этот этюд я еще успею кончить, и вот тот, может быть, а какого-нибудь я не успею… Правда, я продолжал писать и даже ходил в мастерские, но уже не священнодействовать, а просто забавлялся, пока что. Мне было даже смешно и противно, что художники так носятся со своими картинами, берегут их, стараются употреблять краски, которые бы не темнели от времени. Прочел я, как страдал Леонардо да Винчи, когда заметил, что его «Тайная вечеря» начинает портиться, и понял, что его произведение, чего доброго, погибнет через сто лет… А самому Леонардо в то время было не меньше пятидесяти!.. Мне даже странно было: что они, сумасшедшие, что ли? Да ведь они сами испортятся гораздо раньше, чем их картины!.. Смешно!.. Что сам человек сгниет через двадцать лет — это ничего, а что картина, им написанная, просуществует только два столетия вместо четырех — это ужасно!.. Что за дичь?.. Тут еще, помню, украли какую-то знаменитую картину из Лувра, и начался страшный шум: газеты вопили, парламенты делали запросы, несколько человек от горя непритворно сошли с ума!.. А мне опять-таки только было смешно: а что, думаю, если бы какой-нибудь черт все картины, книги и статуи украл? С каким бы носом осталось человечество со своим «вечным» искусством? Ведь это же, ей-Богу, было бы смешно: носились, носились, как дурни с писаной торбой, и вдруг — трах!.. И нет ничего, как не бывало. Вот вам и вечное искусство!.. И главное — что так и есть: понемножку, потихоньку, незаметно, но время крадет одну картину за другой, здание за зданием, культуру за культурой, материк за материком, планету за планетой!
Михайлов криво усмехнулся.
Тогда — эта мысль о краже меня особенно поразила: я был мальчик впечатлительный, еще не умел отделять своих выводов от своей жизни, как это делают все, и, слишком ясно представив себе все это, почувствовал такую душевную пустоту, такое крушение всех своих идеалов, что задумался о самоубийстве. Но я был слишком молод, слишком сильны были во мне инстинкты жизни, и, вместо того чтобы умереть, я начал искать оправдания жизни в самой жизни.
Михайлов постоял, задумавшись. Лицо его становилось спокойнее, но все печальнее. Острый порыв, видимо, проходил и сменялся тихой тоской.
— Да, — опять заговорил он, устало садясь у стола, — я стал искать наслаждений, — потому что только наслаждение самоцельно, и, конечно, воплотил его в женщине, так как в конце концов наслаждение страсти интенсивнее всех других…
Доктор Арнольди слушал понурившись.
— Сначала я искал любви, настоящей, большой, вечной любви… Знаете, я сделал забавное наблюдение:
теперь слова «вечная любовь» кажутся всем несколько смешными, так что и произносят их все с усмешкой, подчеркивая, что не верят в нее, эту «вечную» любовь, но тем не менее никто и не скажет прямо, что любит на срок… то есть и скажет — даже, но срока слишком короткого не укажет, так что впечатление остается все-таки такое, будто любовь никогда не кончится, и потому, как бы ни условливались любовники, но когда одна сторона охладеет, другая искренно считает себя обманутой! Вы заметили?
Доктор устало кивнул головой.
— Ну, так вот… Я хотя тоже произносил эти слова с усмешкой, но на деле искал именно вечной любви, а если не вечной, то все-таки большой, серьезной!.. Удивительно это: ведь раз только не вечная, то и не все ли равно — какая? В конце концов сила и серьезность чувства намеряются именно временем, потому что на три дня, на мгновение можно увлечься и совсем не серьезно: под минутным впечатлением иной раз искренно готов в огонь броситься, а на другой день самому смешно станет! Но я не о том… Тогда я искренно верил в любовь, и когда мне показалось, что я нашел ее, Боже мой, какое это было счастье! И теперь, когда вспомню, чувствую такую грусть, что сердце сжимается! Мы так понимали друг друга, так чувствовали, нам так хорошо было вместе, что казалось, будто ничего больше и не надо. Однако мы сошлись, и даже задолго перед тем почти ни о чем уже и не говорили и не думали, кроме как об этом. Все наши свидания свелись к тому, что я добивался, а она защищалась! Это стало целью, это неотступно стояло в мозгу, жгло и мучило! Я помню, что мысль об этом казалась мне кощунством, что я сам презирал себя, но ничего поделать не мог!.. Все душевные разговоры, общие планы и мечты, искусство и прочее отошло на задний план!.. И когда, наконец, это случилось, помню, я вышел рано утром на приморский бульвар… Утро было такое тихое, светлое, святое, море беспредельно, и звезды блестели над ним прозрачные, как будто дрожащие от своего утреннего счастья… Дышалось так легко и радостно, точно и не воздух, а самый утренний свет входил в грудь. Я готов был кричать от радости, что живу и чувствую! А к ней, подарившей мне такое счастие, я чувствовал такую умиленную, благодарную любовь, что готов был стать на колени и целовать подол ее платья, как у святой! Мне казалось, что моя любовь разливается кругом, как утренний свет… Она, моя любовница, казалась мне такой чистой, точно была соткана из лучей этих бледных утренних звезд… А ведь я еще весь был в поту… ноги у меня дрожали от пережитого возбуждения… Но я тогда ничего этого не замечал… Было только счастье, а в чем оно, я не думал. Было бы слишком дико, ужасно подумать, что все это — только телесная легкость.
Доктор слушал и чуть-чуть, едва заметно, кивал головой. И нельзя было понять, плывут ли перед ним эти чистые утренние воспоминания, или это просто от старости дрожит голова.
— Ну, а потом мы стали жить вместе и через год разошлись! Да так разошлись! Да так разошлись, что стали врагами! Оказалось, что все то утреннее счастье — только один миг, никогда не повторяющийся. Очень скоро стали привычны ласки, как домашнее удобство, как некоторое развлечение от скуки!.. Нельзя же было каждый раз выбегать на двор и приглашать всю природу торжествовать событие, которое повторяется каждый день! Страсть стала скучной, комнатной, в ней не было уже восторга, а потому всегда в глубине души жила смутная, но острая тоска… Мы, конечно, и любили, и жалели друг друга, и вместе переживали и горе, и радости, но уже мы были друг для друга два добрых друга, а не любовники; и оттого на каждую хорошенькую женщину я стал смотреть с грустью, точно сам зачем-то отказался от вечного праздника страсти… Вероятно, то же чувствовала и она, потому что стала раздражаться, ревновать и скучать… Нам было скучно и неловко друг с другом, мы были рады, когда с нами был третий кто-нибудь, стали ссориться и замучили друг друга вконец! Наконец мы разошлись… Это был ужасно тяжелый разрыв… Помню, первое время, просыпаясь ночью, я с леденящим ужасом чувствовал, что ее уже нет, что она где-то далеко, с другими, что никогда, никогда я уже не буду принимать участия в ее жизни! Я даже как-то не мог понять этого: если такое громадное чувство исчезает из жизни, то что же не исчезнет, что же тогда важно, что же настоящее?.. Однако через полгода я уже видел, что и без нее живу по-прежнему, так же спокойно сплю, ем, ухаживаю за женщинами… как будто ее никогда и не было!.. А потом я совершенно забыл!.. Тогда я стал переходить от женщины к женщине, ища только быстрой смены и остроты переживаний. Это было яркое время. Несколько лет я прожил так и думал, что нашел то, что нужно. Но это был обман!.. Я вдруг заметил, что начинается та же смутная, но невыносимая тоска, то же ощущение пустоты и ненужности!.. Мне стало просто скучно! Я увидел, что подхожу к женщине уже без всякого восторга, без радости овладеваю, без волнения оставляю… Сначала каждая новая встреча увлекала меня на месяцы, потом на недели, потом на три дня и, наконец, — только до момента обладания!.. У меня даже уже не хватало терпения и желания добиваться, меня раздражали сопротивление и проволочка… Я не могу передать той злобы, которая иногда охватывает меня, когда самой чистой, нежной девушке хочется как можно грубее и циничнее крикнуть: да ну… что там… все равно этим кончится!.. Мне все известно до мельчайших подробностей, я знаю наперед, как начнется и чем кончится с любой из женщин: от десятков их я слышал одни и те же слова, видел одни и те же ласки… И кроме скуки, тоски и отвращения, у меня не осталось ничего!.. Я опустошил свою душу, разменял чувство на мелочи…
Михайлов опять встал и заходил по комнате.
— Скажите, доктор, какая нечеловеческая глупость или подлость выдумала сказку о любви?.. Все превосходно описывают любовь только до того момента, когда влюбленные наконец соединяются… Ну, а дальше?.. Дальше — Филимон и Бавкида, Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна, пеленки Наташи Ростовой с желтым пятном вместо зеленого!.. А с другой стороны — наслаждения свободной страсти, которые, чем они разнообразнее, тем больше сливаются с грязью и холодом публичного дома.
Михайлов близко подошел к доктору и, блестящими глазами глядя ему в лицо, сказал:
— Нет, доктор, если не можешь поверить, если не можешь жить для чего-нибудь, во имя чего-нибудь, то жить нельзя совсем!.. Страсть это гоже сказка, и наслаждениями нельзя заполнить душу свою!.. Остается или поверить в какую-нибудь сумасшедшую идею, вроде Наумова, или, как Краузе, отказаться от всего!.. Помните, как он говорил о спичке?.. Странный он был!.. Я даже не могу понять, умен он был или глуп?
Михайлов вдруг перебил себя с внезапным взрывом тоски:
— Скажите, для чего жить, доктор?
— Не знаю…
Но вы-то сами для чего живете? — почти с ненавистью спросил Михайлов.
— Я? — с удивлением переспросил доктор. Я просто устал… Как?
— Устал. — повторил доктор Арнольди, и в пухлом голосе старого, обрюзгшего человека послышалась в самом деле такая глубочайшая, до самого сердца проникшая усталость, что Михайлов вдруг сразу понял его.
Да, это так… человек может устать до такой степени, что будет все шагать и шагать вперед, даже не думая об отдыхе, пока не свалится, чтобы не вставать более!..
Михайлов блестящими глазами смотрел на доктора, как бы стараясь что-то прочесть на его обрюзглом, ничего не выражающем лице.
— Вот… — сказал он и оборвался. Тут вдруг неожиданно загудел самовар, булькнул, просипел что-то и умолк.
— Слушайте, доктор, — опять начал Михайлов, как бы прислушиваясь к чему-то в глубине своей души, — вы устали, я понимаю, но ведь я не устал! У меня все рвется и дрожит в душе, я бы, кажется, весь мир схватил и перевернул, а в то же время я не могу жить! Это не фраза, доктор, я, правда, чувствую, что у меня нет почвы под ногами, что впереди нет ничего!.. Мне все равно уже, что было вчера, что будет завтра! Я не могу жить, но и умереть не могу! Я каждый день говорю себе, что довольно, что, умирая, я ничего не потеряю, о чем бы стоило жалеть… Но в то же время, когда я подумаю, что сегодня в последний раз вижу вас, вот этот стул, солнце, что ли, меня охватывает такая тоска, что я в ужасе закрываю глаза на все и стараюсь забыть даже, что смерть вообще существует!.. Мне никого не жаль, доктор, мне совершенно все равно, что умерла Лиза, что застрелился Краузе, что на войне гибнут тысячи людей, что вчера кого-то повесили, но если у меня на глазах у кого-нибудь болят зубы, я корчусь от боли вместе с ним!.. Господи, как я завидую какому-нибудь тупому социал-демократу, который верит в свою программу и твердо убежден, что он должен жить для того, чтобы в сорок втором столетии у всех в супе была курица!.. Я завидую Наумову, который поверил в свою ненависть!.. У меня же в душе ничего нет. Понимаете — ничего! Я даже и понять не могу, как могут люди верить во что бы то ни стало! И я думаю, доктор…
— Что? — как бы сквозь сон спросил доктор Арнольди.
— Я думаю, что и никто не верит!.. Ни во что не верит, ни в Бога, ни в черта, ни в человечество, ни в идеалы красоты и правды! И никто не любит жизни, не любит ни природы, ни людей!.. Все это только порождение страха перед концом, отчаянная, безумная трусость: ведь иначе никакими красотами и истинами не соблазнить бы человека и на три дня жизни, потому что жизнь попросту неинтересна!.. И вот одни выдумывают какую-то другую жизнь, другие стараются жить за всех, третьи поют гимны жизни как факту, но все это только от страха перед черной дырой, в сравнении с которой как простое стекло на черном бархате кажется алмазом, так и наше, в сущности, нисколько не любопытное, весьма даже глупое солнце кажется ослепительным источником света, красоты и прочее!.. А я… я такой же трус, как и все!.. Что мне наконец обманывать самого себя?
Кто-то тяжело взбежал на ступени крыльца и с размаху ударил в дверь. Михайлов вздохнул и оборвался, доктор Арнольди поднял голову.
— Кто там? — крикнул Михайлов. Дверь ударилась в стену, и, весь забрызганный грязью, белоусый и бледный солдат вбежал в комнату.
— Доктор, пожалуйте скорейша… несчастье… их благородие зарезались!
— Кто? — вскрикнул Михайлов и вдруг узнал денщика Тренева. — Тренев? Зарезался? Как?
— Бритвой! — как помешанный ответил солдат. Михайлов дико смотрел на него. Доктор Арнольди торопливо натягивал пальто.
ХXV
Этот день Тренев начал так же, как сотни дней с тех пор, как стал офицером и женился. Встал он очень рано, один напился чаю в пустой и холодной столовой, оделся и сейчас же уехал в канцелярию, где между прочим ему сообщили о самоубийстве Рыскова, а оттуда в эскадрон.
Стоя посреди двора, раздвинув ноги и куря папиросу, он смотрел, как солдаты выводили лоснящихся, пахнущих теплом и конюшней лошадей, кричал на вахмистра, торговался с подрядчиком и только иногда чувствовал какое-то смутное беспокойство.
Смерть Рыскова его не удивила: в сущности говоря, он до того презирал всех этих чиновников, учителишек и других, не имеющих чести носить военный мундир, что ему даже казалось очень естественным, что Рысков повесился: если бы его самого обрекли на такое существование, он сделал бы то же самое, как ему казалось. Тренев привык к сытой, высокомерной и веселой жизни офицерского круга, и ему всегда казалось странным, как это могут жить люди вроде Рыскова, обреченные всю жизнь корпеть над какими-то бумагами в каком-то казначействе.
Другое дело — самоубийство Краузе!.. Оно поразило Тренева как громом, хотя он был простой кавалерийский офицер, чуждый «всем этим философиям», и никаких выводов из этого не сделал. Когда прошел первый ужас, вызванный страшным концом корнета, Тренев только пожалел хорошего товарища и решительно согласился с тем, что Краузе был просто ненормальный человек. Он даже с некоторым самодовольством рассказывал, что первый заметил странности покойного корнета и будто бы тогда же увидел, что дело плохо.
Но та несомненная, хотя и совершенно непонятная ему связь, которую, как и все, Тренев почувствовал между самоубийствами Краузе и Рыскова, что-то неприятно жуткое шевельнуло в нем. Тренев вспомнил, что говорят, будто самоубийство заразительно, и вдруг ощутил непонятный страх. Смутно припомнились ему те минуты, когда во время ссор с женой он сам хотел пустить себе пулю в лоб, и представление о том, что такие моменты могут повториться, мелькнуло у него в душе с противным ощущением какой-то внутренней слабости. Он как бы почувствовал, что непрочно стоит на земле, и это было так скверно, что Тренев прервал осмотр лошадей, распорядился, чтобы вахмистр сам договорился с подрядчиком, и поехал домой.
По дороге его остановил тот самый сумрачный штаб-ротмистр, который в ночь смерти Краузе говорил в клубе, что сам очень часто подумывает о том же. И почему-то эта встреча была ему неприятна, хотя он первый заговорил о Рыскове.
— Ну да, — хмуро сказал штаб-ротмистр, многие и не подозревают, как шатко стоят они в жизни и какого незначительного толчка иной раз достаточно, чтобы все полетело вверх тормашками… Говорят, что не может быть, чтобы это Наумов повлиял на Краузе. А я уверен, что да!.. Тут, знаете, одно слово кстати сказать или чтобы револьвер в подходящую минуту на глаза попался… самый развеселый человек застрелится и не заметит!
Тренев поехал дальше, и его самого поразило, как болезненно засела в мозгу эта фраза о случайно попавшемся на глаза револьвере. Она всю дорогу вертелась в голове, и оттого еще яснее стало ощущение какой-то непрочности, внутренней слабости и непонятной боязни самого себя.
За обедом он рассказал жене про Рыскова, но она, оказалось, уже знала об этом и отнеслась к смерти казначейского чиновника совершенно равнодушно. Разговор как-то не завязался, и Тренев лег спать после обеда все с тем же неопределенно неприятным чувством в душе.
Проснулся он поздно, совершенно успокоившимся и здоровым, с томным, сладким ощущением своего выспавшегося, отдохнувшего здорового тела.
Еще лежа в постели, он услышал в столовой голоса и звон чайной посуды. Тоненькая полоска света падала из неплотно притворенной двери и придавала темной теплой спальне какой-то особенный уют.
Треневу не хотелось вставать. Он потягивался, зевал, каждым мускулом тела чувствуя мягкую, наводящую истому постель. Взрыв хохота в столовой встряхнул его. Он решительно и весело вскочил, оделся, умылся холодной водой, причесался щеткой и, свежий, немного красный от умывания и сна, распространяя запах одеколона от всего своего крепко сбитого тела, вышел в столовую.
Жена сидела за самоваром и, высоко подняв полную обнаженную руку, наливала ему крепкий чай в большой, его собственный стакан в серебряном подстаканнике. По плеску воды в спальне она догадалась, что он уже встает. За другим концом стола сидела хорошенькая нарядная дамочка, жена командира пятого эскадрона, и что-то звонко и громко рассказывала.
За этой дамочкой, пользовавшейся довольно легкой репутацией, Тренев немного ухаживал. Поэтому при виде ее он еще больше подбодрился и почувствовал себя ловким, блестящим офицером. На лету поцеловав у локтя полную обнаженную руку жены, которую вместе с чайником она нарочно задержала в воздухе, Тренев дотронулся усами до ручки гостьи и сел на свое обычное место. Он был решительно в превосходном настроении духа и с особым удовольствием подвинул к себе крепкий, страшно горячий, как он любил, чай.
— А ты знаешь, что случилось? — оживленно сказала жена.
— Что?
— Ты Лизу Трегулову знаешь?
— Ну, знаю… — в недоумении сказал Тренев, глотнув чаю, и перед ним пронеслось хорошенькое личико с пушистыми светлыми волосами и наивными серыми глазами.
— Она утопилась! — захлебнувшись от страшного желания ошеломить его новостью, торопливо закончила жена.
Тренев недоуменно обвел глазами обеих дам. У них были оживленные, возбужденные лица, и обе они изо всех сил смотрели ему в рот, чтобы не пропустить, какое впечатление произведет на него это известие. Тренев невольно поставил стакан.
— Но не может быть… Когда? — машинально спросил он.
— Сегодня, пока ты спал!
— А в слободке застрелился какой-то мещанин! — тем же радостно-оживленным тоном поторопилась прибавить гостья.
Тренев растерянно пожал плечами.
— Черт знает что такое!.. Это уже и в самом деле… Ну, а тот, художник, знает? — вспомнил он Михайлова.
— Я думаю!.. Весь город об этом говорит… А ты знаешь, она оказалась в интересном положении!
Опять промелькнуло перед Треневым то же светловолосое и светлоглазое личико.
— Вот бедная девушка! — сказал он.
— Чего там — бедная? — презрительно возразила жена, пожимая плечами. — Сама знала, на что шла!
— Ну, все-таки!
— И чего они все вешаются на шею этому Михайлову, не понимаю! — заметила гостья. — Мне он совсем не нравится… Терпеть не могу таких самоуверенных «красавцев»!..
Тренев вспомнил, что рассказывают, будто на полковом пикнике, года два тому назад, слегка пьяная, она отдалась Михайлову там же, в лесу, и немного сконфузился.
— Да… Но все-таки жаль девушку!.. Ни за что пропала!.. Ну, я понимаю. Рысков… которому есть нечего было! Краузе… из-за идеи!.. Но она?.. Такая молоденькая, хорошенькая!
Неприятная тень скользнула по лицу жены.
— Ну, да, — сказала она иронически, — мужчинам всегда жалко хорошеньких женщин!
Тренев понял, что она ревнует к тому, что другая, хотя бы и мертвая, может казаться ему хорошенькой, и поморщился.
— При чем тут — мужчины?.. Просто по-человечески жаль!
— Ну да, конечно же! — не скрывая вызывающей иронии, притворно согласилась жена.
Гостья лукаво посмотрела на Тренева. Ей очень хотелось «закрутить с ним роман», и она всегда подпускала ему шпильки, что он боится жены. Тренев разгорячился.
— Нет, в самом деле жаль! — недовольно сказал он.
Ну да… я ведь то же самое говорю! опять, еще насмешливее, согласилась жена.
Тренев даже покраснел немного и постарался переменить разговор.
— Это что-то ужасное! Прямо — эпидемия какая-то!.. В газетах пишут, что теперь везде самоубийства… По-моему, надо бы принять какие-нибудь меры!..
— А вы знаете, — оживляясь, перебила гостья, — говорят, будто Наумов основал клуб самоубийц и еще восемнадцать человек должны застрелиться, и только тогда все это кончится!.. Что, он интересный, этот Наумов?
— Как человек или как мужчина? — мгновенно впадая в игривый тон, спросил Тренев.
Дамочка звонко захохотала, закинув хорошенькую порочную головку и показав Треневу пухлую, точно ниточкой перевязанную, шейку.
— Ну, и как мужчина!
— Н-не очень!.. Но он чрезвычайно умный человек! — делая значительное лицо, сказал Тренев.
— Я непременно с ним роман заведу! — хохотала дамочка. — Клуб самоубийц! Это интересно!.. Он, верно, страшный?
— То есть страстный вы хотите спросить? — двусмысленным тоном подшутил Тренев.
Дамочка лукаво погрозила ему пальцем и притворно надула губки.
— Ну, ну, ну!..
Тренев вдруг спохватился, что слишком разошелся при жене, сделал серьезное лицо и сказал:
— Но, кроме шуток… несомненно, что Наумов тут сильно замешан. Клуба самоубийц, конечно, никакого нет, это глупости, а что влияние его на Краузе не…
— А говорят, что и вы в этом клубе участвуете! — засмеялась гостья.
— Глупости!..
— Он больше в попойках участвует! — заметила жена, которую раздражали кокетство гостьи и заигрывания мужа.
Тренева покоробило, но он постарался засмеяться.
— Отчего в хорошей компании и не выпить!
— Очень хорошая компания! — иронически заметила жена.
— Нет, отчего же!.. Люди любопытные… Арбузов — широкая натура. Михайлов все-таки человек талантливый!.. Чиж — студент… Наумов… Нет, с ними интересно!
— Да, — махнула рукой жена, — у вас с кем бы ни пить, все интересные будут… в особенности после десятой рюмки!.. А Наумов твой просто мерзавец, по-моему, и больше ничего!
— Почему мерзавец?
— Потому, что если проповедовать такие вещи, так надо прежде всего самому застрелиться, а не других толкать!
Тренев смешался: ему самому казалось так, но все-таки он заспорил.
— Странная ты, Катя! Если человеку пришла в голову какая-нибудь мысль, так он должен…
— Я думаю! А иначе нечего и говорить!.. Это подло!.. Небось Краузе-то застрелился, а он себе живет как ни в чем не бывало! Очень жаль, что я с ним не знакома, а то бы ему прямо в глаза сказала… Подло!
— Странное дело! Ведь он же не говорит прямо, что все должны стреляться? Это уж дело каждого!.. Он говорит о жизни вообще, а что жизнь бессмыслица, так это и я с ним совершенно согласен!
— Давно ли? — насмешливо спросила жена, раздражаясь все больше и сама не зная почему.
— Всегда был согласен!.. Да и нельзя не согласиться, если как следует вдумаешься… Стоит только оглянуться на свою собственную жизнь: ну, что в самом деле?.. Вечно одно и то же… ученья, производства, солдаты… изо дня в день!..
— Не все же у вас солдаты! — засмеялась гостья, с удовольствием прислушиваясь к раздражению, все сильнее звучавшему в споре супругов. — У вас жена, ребенок…
— Ну, что ж-жена и ребенок! — в увлечении спора возразил Тренев, хотя не мог себе представить жизни без них. И в эту минуту ему в самом деле показалось, что это вовсе не интересно и не важно. — Нельзя же наполнить жизнь только детьми и женами!..
— О, конечно! — с ненавистью вставила жена.
Тренев спохватился.
— Я не в буквальном смысле говорю… а вообще… Живут только для того, чтобы умереть, а если так, то зачем же и жить?
— Ну, и не живи! уже совсем несдержанно ответила жена.
Каждое слово жгло ее: всю жизнь она отдала ему, никогда не жаловалась, а он!
— Ну-у, Катя, — растерявшись, протянул Тренев, — так нельзя спорить!
— Ну, и не спорь, пожалуйста!
— Ты как будто обиделась? — принужденно улыбнулся Тренев.
— На тебя? — сквозь зубы спросила жена, и глаза ее взглянули на него с мучительной ненавистью.
Гостья увидела, что начинается настоящая ссора, и стала прощаться.
— Вы такие страшные вещи говорите, — сказала она на прощанье Треневу, — что я вас тоже буду теперь бояться.
— И роман со мной тоже заведете? — мучительно обеспокоенный ссорой, неизбежность которой уже чувствовал, спросил Тренев, изо всех сил стараясь казаться спокойным и игривым, как прежде.
Дамочка невольно взглянула на его жену. Она сейчас же спохватилась и рассмеялась, погрозив ему пальцем, но Тренев уже увидел, как сжалось и побледнело лицо жены, понявшей взгляд гостьи.
Пока гостья одевалась в передней, дамы перекидывались какими-то шуточками, говорили о какой-то юбке и выкройках, но Тренев даже и не слышал уже ничего. Сухой, мстительный взгляд жены, которым она, точно и не видя, провела по его лицу, сказал ему, что ссора уже началась и ничем не остановить ее…
«Опять! — с тоской подумал он. — Но что же я сказал такого? Господи, когда же это кончится?»
Он попробовал, будто ничего не случилось, пошутить над страстью жены к нарядам, но она притворилась, что не заметила, и продолжала, будто совершенно беззаботно, болтать с гостьей. Тренев осекся, поймал насмешливо-сострадательный взгляд гостьи и почувствовал себя невыносимо униженным и несчастным.
Когда дверь закрылась, он еще попробовал заговорить с женой, нарочно, чтобы сделать ей удовольствие, сострить что-то насчет гостьи. Но жена как будто опять не слыхала, вернулась в столовую, взяла книгу и села к столу. Тренев хотел прямо подойти к ней, но вошла горничная и стала убирать посуду. Тренев принялся ходить взад и вперед по комнате, чувствуя, что все дрожит у него внутри. Нельзя же было объясняться при горничной, и это мучило его.
— А я сегодня славно выспался! — сказал он, все еще пытаясь предупредить ссору, рассеяв ее в пустых обыкновенных словах. — Ты никуда не ходила, Катя?
Жена не отвечала, упорно не сводя глаз с книги и подперев голову обеими руками, так что Треневу были видны только ее прическа да кончик носа. Только горничная посмотрела на него. Тренев побагровел и, закусив усы, продолжал ходить по комнате. Горничная возилась бесконечно, перетирала каждую ложку, катала стаканы в полоскательной чашке и смотрела их по очереди на свет. Тренев готов был убить ее. Стук стаканов раздражал его до боли. Наконец она поставила всю посуду в буфет, смахнула со скатерти крошки, переставила сдвинутые стулья и ушла.
Жена не подымала головы.
И странно — пока горничная была в комнате, Треневу казалось, что только ее присутствие мешает ему просто подойти к жене и в двух словах объясниться. Но как только горничная ушла и Тренев взглянул на неестественную, напряженную позу жены, на ее опущенное лицо, на розовые оголенные руки, упрямо поставленные локтями на скатерть, у него что-то упало внутри, даже тело ослабело, и вместо того чтобы подойти, он молча продолжал ходить из угла в угол.
«Слушай, Катя, — мысленно говорил он ей, и мысленно это выходило искренно, сильно, полно достоинства и сознания своей правоты. — Неужели ты не понимаешь, что сердишься из-за пустяков, что все это говорилось только ради спора и что если я так говорил с этой дрянью, то в этом ты сама виновата: мне приходится держаться так именно для того, чтобы не заметили, что ты меня ревнуешь, а я боюсь тебя!»
«Или нет… — мысленно перебил себя Тренев. — Про ревность не надо: она обидится!.. А просто так: перестань, я больше не могу выносить этих нелепых сцен! Не мучь меня!.. Разве ты хочешь, чтобы я в самом деле застрелился когда-нибудь?.. Ведь я оттого и говорил, что согласен с Наумовым, что ты меня измучила, и мне самому иногда приходит в голову мысль пустить себе пулю в лоб! Ну, перестань же, милая, славная, любимая! Ведь я же люблю тебя!»
Жена продолжала читать, не подымая головы, и временами казалось, что она действительно увлеклась книгой и даже вовсе не думает о нем. Но что-то не давало подойти к ней: Тренев чувствовал, что она начнет ссориться, сразу не помирится, а будет вытягивать всю душу, и опять ему придется унижаться, просить прощения, словно напроказившему мальчику. Внутренняя гордость возмущалась в нем.
«Почему я не могу видеть ее растроенной, почему я моментально забываю всякую обиду при малейшей ее ласке, а она вот поссорилась со мною и читает себе, точно ей до меня и дела нет? Ведь не может же она не видеть, что я страдаю? Самое лучшее — не обращать на нес внимания! Именно то, что я придаю ее капризам такое значение, и портит ее!»
Тренев думал это уже сотни раз и постоянно давал себе слово выдержать характер, дать ей позлиться, так же не обращая на нее внимания, как делает это она. Но сердце его до такой степени срослось с ее лаской, что не выдерживало и минутного разрыва.
Он уже сделал движение заговорить, но проглотил слюну и продолжал ходить, страдая и кипя, ненавидя и мучительно любя се. Машинально он вынул папиросу и закурил.
Глоток дурманящего дыма немного успокоил его. Тренев вздохнул глубже и подумал:
«Ничего, обойдется!.. Не в первый раз!..»
— Пожалуйста, не кури… у меня голова болит! — вдруг так неожиданно, что Тренев вздрогнул, прозвучал сухой, злой голос жены.
Тренева взорвало: он курит целый день, и она великолепно переносит это, а как только ссора, так и не кури, голова болит!.. К чему это притворство? Вовсе у нес голова не болит! А просто назло, чтобы унизить его, доказать свою власть!
Одну секунду у него все-таки было желание дать ей потешиться и бросить папиросу, но гордость и раздражение взяли верх.
— Оставь, пожалуйста! Ничего у тебя не болит… Вот странно! Мне же хочется курить! С какой стати?
Она не ответила и перевернула страницу.
Тренев почувствовал, что в голове у него мутится.
— И чего ты ломаешься? — неожиданно для самого себя спросил он.
Жена подняла на него сухие ненавидящие глаза и опять уперлась в книгу. Тренев не выпускал папиросы из упрямства, хотя ему уже и не хотелось курить.
Вдруг она с шумом встала, схватила книгу и, не глядя на него, пошла в спальню.
Тренев остался стоять посреди комнаты. Все закипело в нем. Это была уже настоящая ссора. И из-за чего?.. Он ее не понимает, или она его? Машинально он швырнул папиросу и горько пожалел, что не сделал этого сразу. Но, пожалев, возмутился этим вечным унижением.
Дверь в спальню была закрыта.
«Нет, это надо кончить! Пойду к ней и прямо скажу, что…»
Тренев быстро направился к двери и толкнул ее. Она оказалась запертой на ключ, и это подействовало на него, как пощечина.
Значит, она была уверена, что он побежит за ней, и нарочно подготовила это новое унижение!
Все потемнело у него перед глазами. Тренев, как безумный, закружился по комнате.
— Что же это!.. Что же это! — бормотал он, растерянно разводя руками.
И сколько раз это было! Сколько раз он стоял здесь, под запертой дверью, как мальчишка!
— А, так… — прохрипел Тренев. — Ну, это мы посмотрим!
Он с бешенством подбежал к двери и потряс ее.
Жена не отозвалась.
— Катя, отвори! Что за глупости?.. Отвори, или я… Отвори! — уже не думая о том, что все слышит прислуга, совершенно не владея собой, заорал Тренев и изо всей силы ударил ногой в дверь.
Замок щелкнул. Жена повернула ключ, но отворить не потрудилась. Это было новое унижение. Тренев рванул дверь и вошел, бледный от бешенства, не помня себя.
Жена стояла у туалета и холодно, чужими глазами смотрела на него.
— Ну, что вам угодно? — спросила она.
— Вы?.. Чего ты заперлась?.. Что это такое, наконец!.. Чего ты все злишься, ради Бога!.. Ведь это ужасно!
Она холодно отвернулась и взялась за книгу, неудобно пристроив ее на углу туалетного столика.
— Ну, скажи же… чего тебе надо от меня? мучительно завопил Тренев.
Она, не оборачиваясь, пожала плечами.
Тренев посмотрел на эти круглые мягкие плечи, на пышную прическу, и вся она показалась ему вдруг ненавистной до того, что захотелось со всего размаха ударить ее по голове.
— Скажи, я тебя прошу, наконец!.. Что там… какие-то пустяки… Что же ты молчишь, проклятая! — простонал Тренев и схватился за голову.
— Что тебе от меня нужно? — повторила она с ненавистью.
Этот нелепый вопрос на вопрос как бы замутил мозг Тренева. С минуту он судорожно глотал воздух и выпученными глазами смотрел на нее. Она, как будто совершенно спокойно, опять начала читать.
Вдруг Тренев с силой вырвал у нее книгу… Она испуганно отшатнулась и побледнела. На мгновение в ее лице мелькнуло жалкое, замученное, непонимающее выражение, но, увидя его лицо, она сейчас же ожесточилась, и страх сменился выражением дикой презрительной ненависти.
— Что за хамство… отдай мою книгу! — холодно сказала она.
Тренев нелепо прижимал книгу к груди и дико вращал глазами. Он был жалок и смешон, сам понимал это, но уже не владел собою.
— Идиот! — сквозь зубы пробормотала она, деланно засмеялась и пошла к двери.
И вот в эту минуту случилось то ужасное, чего боялся всегда Тренев: это безжалостное движение, этот смех, когда он так страдал, когда всем существом своим молил, чтобы она опомнилась и пожалела его, заволокли бешенством сознание Тренева.
Он дал ей подойти к двери, все еще держа книгу, весь дрожа и задыхаясь. Но как только она равнодушно взялась за ручку двери и он понял, что она уйдет в детскую под защиту прислуги, при которой он не решится говорить, а он останется один со своими муками, Тренев швырнул книгу, догнал ее, хотел обнять, сжать изо всей силы, чтобы силой объятия заставить покориться, и вдруг в полубеспамятстве, с отчаянием и мучительным кошмарным наслаждением ударил ее кулаком в спину.
— А! — коротко вскрикнула она и, как сломленная, повалилась назад, тщетно хватая руками воздух.
Мгновенно какой-то скверный туман слетел с мозга Тренева.
«Что я сделал!» — с диким отчаянием и ужасом пронеслось у него в голове.
Он увидел ее совершенно синее, невероятно изменившееся лицо, с выпученными от боли глазами и какой-то страшной черной дырой вместо рта.
«Убил!»
— Катя, Катя, прости!.. Прости! закричал и заплакал он в невыносимом порыве жалости, отчаяния, стыда и любви, подхватывая ее падающее тело.
И вдруг она вся изогнулась, как кошка, лицо ее потеряло все человеческое, глаза округлились и потемнели, слюна потекла изо рта… молча, глядя ему прямо в глаза, она обеими руками вцепилась ему в волосы, кусаясь и царапаясь, вырываясь и не выпуская его, с диким и жалким визгом.
Треневу показалось, что он сошел с ума, и он понял, что на этот раз случилось нечто непоправимое, что вес кончено навсегда.
Та же странная противная слабость, которую он почувствовал утром, охватила его, но на этот раз это было уже что-то кошмарное.
Дико и мгновенно пролетела у него мысль, что сейчас он случайно увидит под рукой бритву, и в ту же секунду увидел се на туалетном столике.
Пронзительный крик еще долетел до него. Мучительно сладкое, совершенно безумное чувство мести охватило его, и, видя протянутые руки жены, видя ужас в ее округленных умоляющих глазах, он схватил бритву и бешено полоснул себя по горлу.
«Так вот же тебе… вот!» пронеслось у него в голове, и сейчас же со страшной отчетливостью он понял, что сделал, что это непоправимо, что это — смерть!
«Катечка, я не хотел… Катечка!» показалось ему, что он закричал, но на самом деле только захрипел и медленно повалился на пол, стягивая за собой с грохотом посыпавшиеся безделушки, флакончики и коробочки с туалетного столика.
Почему ножки стула очутились возле его лица, он уже не понял, но еще судорожно цеплялся за них, силясь встать, захлебываясь кровью и с невыразимым ужасом глядя в глаза жене, силившейся руками зажать страшную рану.
Какая-то черно-желтая тьма надвинулась ему на глаза.
— Катечка! — в неисходном отчаянии прокричал он, уже не слышно ни для кого из живых, оттуда, из-за порога смерти.
XXVI
Михайлов не заметил, был ли дождь, был ли ветер, встречал ли он кого-нибудь дорогой, когда бежал домой. У него только осталось смутное впечатление сырости, темноты, мелькающих где-то далеко огоньков и шум в ушах. Он был в состоянии человека, вокруг которого в страшной катастрофе рушилось все, и он один выскочил, оглушенный, засыпанный, ополоумевший. И все это было как-то бледно, точно у человека, пережившего землетрясение в мирном городе, на рассвете, когда еще не светло и уже не темно, когда все валящееся, разрушающееся кругом кажется кошмарно-призрачным. Это был ужас, но ужас бледный и больной, как бред с открытыми глазами.
Добежал он от квартиры доктора Арнольди, должно быть, очень скоро и вряд ли не в самом деле бежал всю дорогу, потому что страшно запыхался и чувствовал, что сердце колотится в груди, как молот.
Несколько пришел в себя он только на крыльце своего дома и вдруг остановился в изумлении: в неплотно закрытый ставень тускло светилась щель. Кто-то был у него.
Первая мысль была о Нелли, и так сильна, что Михайлов пошатнулся и остановился на крыльце. Несколько мгновений он собирался с мыслями и старался понять, безумно ли рад ее возвращению или испуган им?.. Но в душе его был такой хаос, что Михайлов не мог понять самого себя, и ему было страшно открыть дверь.
Арбузов опять блеснул зубами.
Ну, вот так-то и лучше!.. На кулачки тебе со мной невыгодно!.. Ты лучше сядь, я с тобой говорить желаю… Садись! — крикнул он и сделал порывистое движение.
От этого крика как бы что-то проснулось в помраченной душе Михайлова: он отступил, прищурился, закинул бледную красивую голову и презрительно усмехнулся.
— Не кричи!.. О чем нам с тобой говорить?.. Лучше уйди, это будет гораздо благоразумнее!
Благоразумнее? — переспросил Арбузов, ехидно скривившись. — Ну, нет, брат!.. Теперь мне не до благоразумия!.. Да и ты-то с каких пор таким благоразумным стал?.. О благоразумии ты бы раньше думал, а теперь поздно. Теперь я не уйду… Н-нет, брат, шалишь! — злобно закончил он и даже как будто развалился, отчего сразу стал грубым и наглым, как подгулявший, куражащийся купчик. — Я хочу с другом по душам побеседовать… Нам ведь все как-то не удавалось, а ведь мы друзья… Друзья ведь?
Михайлов презрительно пожал плечом. Арбузов помолчал, ожидая ответа, и лицо его стало быстро и ровно бледнеть.
— Я, брат, свое благоразумие проявлял достаточно!.. Довольно я и уходил… Пора бы и тебе хоть разочек «уйти»… Что ты за персона такая, чтобы перед тобой все отступали?.. Такой же человек, как и все мы, грешные!
Издевался он грубо, плоско и, видимо, сам чувствовал это, а оттого еще больше впадал в бешенство.
— А, ты ссориться пришел? — презрительно и даже с отвращением сказал Михайлов. — Ну, что ж… Только зачем так грубо? Чересчур уж по-купечески выходит! Ты бы уж драться полез!
— Кажется, не я, а ты драться лез, — заметил Арбузов, — а что по-купечески, так как же мне и быть? Я ведь всего только купеческий сынок и есть! С тем приймите!
Михайлов с отвращением смотрел на ломавшегося Арбузова, который даже нарочно, как будто выворачивая нутро, разваливался и говорил неестественным разухабистым тоном.
— Ну, все равно! — сказал он, взял стул и сел против Арбузова. — Говори, я слушаю… Что тебе от меня надо?
— Ну, этого я тебе, брат, пока не скажу! — хитро рассмеялся Арбузов. — Да я и не о себе, а о тебе говорить желаю!
— Все равно! — повторил Михайлов, пожав плечами.
Арбузов некоторое время пристально всматривался ему в глаза.
— Я тебя вот что хотел спросить, — медленно начал он, — знаешь ты, что эта твоя… Трегулова, что ли… утопилась?
— Тренев зарезался! — неожиданно заметил Михайлов, как будто не слыша.
Арбузов удивленно поднял голову.
— Что?
— Тренев зарезался, — повторил Михайлов устало.
— Вот те и раз! — сказал Арбузов с величайшим недоумением и присвистнул. — С чего это они все?.. Вишь, мор пошел!.. Ну, да черт с ним! Зарезался так зарезался… одним болваном меньше стало — печаль невелика! Еще много осталось!.. Мне не до него. Нет, а вот что твоя утопилась, ты знаешь?
Михайлов побледнел.
— Что тебе надо?.. Зачем ты…
Арбузов весело рассмеялся.
— Ага, стало быть, знаешь! Ну, ладно… Как зачем?.. Я пришел…
— Чтобы меня мучить? — с горьким укором, но как-то бледно спросил Михайлов.
Глаза Арбузова положительно засверкали.
— Мучить? А почему и нет?.. А как я мучился, ты знаешь? — вдруг близко придвинув к нему лицо и не сводя с него воспаленных, полных жгучей ненависти глаз, тихо прибавил он.
Михайлов не ответил.
— То-то!.. Это тебя не касается? Чужая боль никому не больна?.. Удивительно мне это, право, как некоторые люди уверены, что к ним все должны быть добрыми и жалостливыми, а сами… Нет, брат!.. Дудки!.. Вот теперь ты поерзай, а я посмотрю!.. А то ты в самом деле думал играючи всю жизнь пройти!.. Легкою стопою? По-о цветочкам?.. А?.. Да что же ты молчишь?
— Нечего мне тебе говорить!
— Нечего? Хм… немного!.. А ты знаешь, что по живым людям шел?.. Теперь, вижу, начинаешь понимать!.. Так-то!.. Я, брат, слыхал калмыцкую пословицу, что цветок счастья кровью не поливают!.. Ты вот попробовал… ну, что ж, распустился цветочек, а?..
Михайлов молчал.
— А знаешь, что я тебе скажу, — как будто с самым искренним участием сказал Арбузов, — как погляжу я на тебя, так дело твое плохо выходит!.. Встряхнуло тебя порядком, даже исхудал совсем… Смотри!.. А на похороны пойдешь? Занятно бы было! — вдруг прибавил он, точно ударил исподтишка.
Михайлов вскочил.
— Как ты смеешь! — звенящим высоким голосом крикнул он.
Арбузов посмотрел на него с мрачным наслаждением.
— Ишь, даже побледнел весь! — как бы про себя проговорил он. — Эх, плохо, плохо твое дело!.. Да ты сядь, сядь!
Он, не вставая, протянул руки и легко посадил Михайлова на место.
— И жаль мне тебя, это я уже искренно говорю! Потому, вижу я, что не в себе ты!.. А ведь я тебя любил, Сережа! — неожиданно закончил он с болезненной грустью.
Михайлов вздрогнул.
— Послушай, Захар, — заговорил он как-то чересчур быстро, волнуясь и спеша, — я не виноват перед тобою!.. Это случилось как-то само собой! Я очень страдал тогда!..
Он протягивал руку почти с мольбою. Арбузов слушал внимательно, опустив голову.
— Ты тогда уехал, Нелли осталась одна… просила заходить… ты и сам просил… Я не думал об этом, клянусь тебе!.. Это сделалось как-то сразу, неожиданно, в один вечер… как в тумане!.. Это проклятие какое-то было! Если бы ты знал, как я раскаивался потом, как дорого дал бы, чтобы ничего не было!.. Оттого и с Нелли мы разошлись так скоро, что между нами всегда ты стоял!.. Я не хотел этого!..
— Ветерком надуло! — пискливым тенорком, смиренно кивая головою, перебил Арбузов, и вдруг лицо его исказилось такой отчаянной, непримиримой ненавистью, что Михайлов невольно отшатнулся.
— Ну, что же ты замолчал? Вали дальше! Это любопытно!.. — так же сладенько, с издевочкой продолжал Арбузов. — Ну, дальше!.. Не думал, не хотел, само собою, сам просил… Ну, дальше! Дрянь ты, ничтожество и больше ничего! — бешено крикнул он. — Мне тебя убить, что вошь раздавить, а ты… — задыхаясь, прошипел Арбузов. — Еще жалости просишь… прощения!.. Подлец!
Михайлов не обратил внимания ни на ругательства, ни на угрозу, только протянутая рука его бессильно опустилась, да тоска выразилась на лице.
Арбузов опомнился.
— Слушай, ты!.. Врешь, что не знал!.. Ты нарочно это сделал!.. Именно потому и сделал, что я тебя сам просил, что я тебе друг был!.. Простого разврата ты уже столько испробовал, что тебе чего-нибудь поизысканнее захотелось, с психологией!.. Вот, мол, невеста лучшего друга, который мне ее сам поручил, который мне верит, как самому себе… она его любит, а на меня и не смотрит… А я вот покажу вам, как на меня смотреть!.. Еще какой-то Арбузов, ничтожество, купеческий сынок, счастья захотел!.. Я кто? Талант, красавец, умница!.. Все должно мне принадлежать, а вам довольно и объедков!.. Что ты там из себя недотрогу корчишь? Вот захочу: раз, два, три!.. И готово!.. Да ты, может, особое наслаждение чувствовал, когда ее, одуревшую, сбитую с толку, брал!.. Ты не о ней, ты обо мне думал, когда ее раздевал: вот, мол, он, дурак, там где-то любит, боготворит, верит, а я и его любовь, и веру, и божество вот куда!.. Да ты, может, от этой мысли в неистовство входил!..
— Захар, это не так, не то! — закричал Михайлов с отчаянием.
— Молчи!.. Так!.. Я тебя насквозь вижу!.. Долго присматривался, зато теперь вся твоя душа у меня как на ладошке!.. Ты — что?.. Ты в мир пришел раскрашенный, не то что мы — серяки!.. Талант, красавец, тонкая душа! Сверхчеловек!.. Кто это провозглашал, что одна самка нужна животному, а человеку все женщины нужны?.. Ты… Себя-то уж, конечно, человеком считал, не в пример прочим!.. Ты думал, что перед твоим великолепием все ничто!.. Ты думал, что такому, как ты, все дозволено!.. Весь мир только для твоего наслаждения создан… бери — не хочу!.. Тебе и в голову не приходило, что от этого великолепия люди кровавыми слезами плачут!.. Еще бы, раз ты потешиться изволил, так и страдания от тебя все должны за счастье принять!.. Сверхчеловек!.. Нет, врешь, ты такой же, как и все!.. Жизнь и тебя скрутила!.. По живым сердцам никто безнаказанно пройти не смеет!.. Это знай!.. Да теперь и знаешь!
Михайлов молча, шевеля вздрагивающими губами, протянул к нему руку. Арбузов грубо отшвырнул ее.
— Захар!
— Что — Захар?.. Поздно, брат!.. Ты мне всю душу разбил, испакостил, заплевал, а теперь — Захар!..
— Захар!
— А!.. Теперь и ты жалости просишь! Скрутило?.. Не вынес?.. Поздно, говорю!..
Арбузов взглянул в лицо Михайлову и вдруг замолчал: оно выражало муку нечеловеческую.
Некоторое время было тихо. Арбузов исподлобья смотрел на Михайлова, и по лицу его от глаз к губам бегала какая-то судорога. Что-то боролось в нем мучительно.
— Прости! — выговорил Михайлов и взял его за руку.
Арбузов вздрогнул и вырвался. Михайлов опустил голову.
— Да, вот оно… — непонятно, не то жалостно, не то мстительно, выговорил Арбузов. — Этого надо было ожидать!
Михайлов еще ниже опустил лицо.
— Слушай, — заговорил опять Арбузов, — я тебе… я тебе про одного прокурора расскажу…
Он был, очевидно, вне себя и не совсем отдавал себе отчет в том, что и для чего говорит.
— Слушай… вот… когда я еще мальчишкой был, в нашем городке жил один товарищ прокурора… Я его смутно, как сквозь сон, помню… небольшого роста, сухой человечек, лицо как из бумаги… бачки… одним словом — прокурор! Так его у нас и звали: прокурор. Жил он, как все, служил, выпивал, играл в карты, покучивал иногда… Мне отец потом много про него рассказывал!.. Был он человек образованный, начитанный, в нашем захолустье никому не ровня, умный, из тех умов, которые в себя одного верят и всех презирают… Была у него одна манера, за которую его хотя и не любили и боялись, но уважали: что бы о ком ни говорили при нем, непременно прокурор вставит словечко, два, и всегда именно тогда, когда говорят о чем-нибудь хорошем, хвалят за какой-нибудь благородный поступок… Скажет словцо, даже не усмехнется и опять уйдет в себя. И как будто бы ничего особенного и не скажет, а только после этого словечка благородный поступок уже как будто и подмокнет, и даже какой-то дрянью от него понесет!.. Так он забавлялся по-своему, и никто, конечно, не понимал, что это он единственно из гордости, чтобы все унизить, что над ним смеет возноситься!.. И была у этого прокурора одна странность: раз или два в год, а может, и реже, вдруг он, точно с цепи сорвавшись, устраивал страшный кутеж, пьянство, разврат, со всякими гадостями и мерзостями, с тройками, с девками, с битьем зеркал и мазаньем горчицей по лакейским мордам. Такое безобразие устраивал, что после того месяца два все от него сторонились… А он, как ни в чем не бывало, опять сух и приличен, корректен, вежлив, в карты играет… И конечно, забывалось, и все опять прокурора уважали по-прежнему. Только он еще злее усмехался и даже до злости: вот, мол, расстегнулся я перед вами до последней пуговки, всю свою гадость вам на ладошку выложил, а вы — ничего! Скушали!.. Куражился!.. Любимым же его номером во время этих дебошей было вот что: избирал он из публичных девок какую-нибудь одну посмирнее, из благородных, бедностью на эту дорожку сбитых, из тех, которые еще недавно гуляют и еще стыдятся, оскорбляются, надеются из грязи не сегодня завтра подняться… Заметит такую и начинает:
мягко, деликатно выспросит, посочувствует, приласкает, во всем поверит, от участия даже прослезится и тут же предложит свою помощь, чтобы на честную дорогу выйти… И вот тут, только до дна ее протрясет, до того, что она уже на него, как на спасителя, Богом ей, несчастной, посланного, молиться готова, тут он настоящее свое лицо и покажет… Отец рассказывал, что у него даже и обличье менялось: бачки, говорит, прилягут, височки втянутся, губки осклабятся и мелкие зубки выставит… не прокурор, а хорек!.. И начнет, все с участием и мягкостью подъезжает: это, мол, непременно и с завтрашнего дня — новая жизнь… он ей во всем поможет, все устроит, а сегодня пусть, куда ни шло, в последний раз… И так мягко, незаметно, что девица, хотя и неожиданно оно после таких душевных разговоров, и впрямь подумает, что это в порядке вещей… Даже, может быть, с особым удовольствием… чтобы, как может, от всего сердца, отблагодарить такого спасителя и благодетеля! Ну, уведет он ее в отдельный номер, а через четверть часа она уже диким криком кричит, вопит, плачет, на помощь зовет!.. Что он там с ними делал, не знаю, но говорят, что мучил и истязал самым гадким, утонченным образом!.. А потом так, в растерзанном виде, оплеванную и униженную до последней возможности, и вытолкнет на потеху всей остальной братии!.. И так он это умел тонко устроить, что девица потом как полоумная ходит, людей пугается и уж, конечно, на самое дно спускается безвозвратно!.. А прокурор ходит чистенький, приглаженный, довольный, что уж все переступил, в самое святое святых наплевал!.. Случилось даже, что одна из таких девиц после такой встряски повесилась. Дело, конечно, замяли, а прокурор…
— К чему ты мне это рассказываешь? — с тоской спросил Михайлов.
— Может, и ни к чему! — задумчиво сказал Арбузов. — А может… не знаю… так, почему-то у меня этот прокурор в памяти всплыл… Я все время о нем думал, вот как тут один сидел. Может, потому… Стой, доскажу: случилось так, что… не тогда, когда та девка повесилась, а много позже… прокурор вдруг заскучал… Перестал пить и что-то очень долго от него никаких художеств не видно было. Ходил он, ходил, да вдруг и сделал предложение одной барышне… Ему отказали… Родители, собственно, и ничего, но барышня — наотрез!.. Стал прокурор еще мрачнее, подумал, подумал и взял к себе на воспитание сиротку одну, лет шестнадцати… Дарил ее, ласкал… сбежала!.. Потом, слышал, прокурор нашел одну из тех девок, которых в свое время истязал, и предложил за него замуж выйти… Сначала согласилась, а потом стала над ним измываться, при всех по щекам отхлестала и вытолкала!.. Стал прокурор друзей искать, ласковый сделался, всех хвалил, всех привечал… Не идут к нему, сторонятся… Заметался прокурор!.. И вот ехал он однажды с какого-то следствия, что ли, мимо нашего монастыря… У нас там монастыречек есть захудалый… без мощей, без чудотворных икон, хотя и с пещерами, выбитыми в меловых скалах… Что он подумал, что почувствовал, неизвестно, но только остановил лошадей, пошел к игумену, переговорил с ним, а вернувшись в город, подал в отставку, сдал дела и пошел в монахи… Как-то очень скоро прошел все степени и был пострижен в схимники… Устроил он себе келью в самой глубине пещер, просидел в ней безвыходно в полном молчании семнадцать лет, носил вериги, питался одной просфорой и умер, не сказав ни единого слова никому, кроме того, что перед самой смертью позвал игумена и попросил перевести его на отход души в другое место, потому, мол, что трудно будет монахам гроб из кельи по пещерным закоулкам тащить…
Арбузов замолчал.
Михайлов смотрел на него все с возрастающей тоской.
— Что ты этим хочешь сказать? — нервно спросил он.
Арбузов повернул к нему свое тяжелое, бледное лицо, на которое пала тень какой-то странной, углубленной задумчивости; он как будто и сам забыл, к чему начал это рассказывать, и смотрел печально и мягко.
— В нынешнем году заезжал я в этот монастырь, — заговорил он, видимо, не расслышав вопроса, — пошел в пещеры, дал монаху на чай, чтобы оставил меня одного, и часа три просидел в этой самой прокурорской келье… Келья маленькая, прямо в скале выдолбленная, большой темный образ, свечка горит… окон нет, только маленькая отдушина в камне проделана, да и то так, что и не видно из нее ничего… Тишина мертвая, над головою тысячепудовая гора висит… дух тяжелый. Первые полчаса было занятно: никого нет, сидишь один, смотришь, как свеча горит… Потом скучно, тошно стало… Тоска нашла смертная, и вся гадость, какая в жизни была, точно наверх всплыла… Гадко стало!.. Однако пересидел, не ушел… И стала меня эта тишина засасывать: мысли пошли медленно так, глубоко… куда-то вся жизнь отошла, воспоминания стерлись, потускнели… Ничего не надо, ни о чем не думается, только перед глазами свеча горит и лики на образе шевелятся. Стал я даже как будто в забытье впадать… И почувствовал, поверил вдруг, что это можно… семнадцать лет одному под землей высидеть… потому что душа сама живет, сама себе жизнь создает… Все, что казалось прежде важным, необходимым, мучительным, стало вдруг — словно нарочно! — так, забава какая-то, в которой никакой потребности и нет. Так как-то ясно, отчетливо почувствовалось, что жизнь не в том, что люди ходят, говорят кругом, а в самой душе, в какой-то одной своей точке, а точка та громадная, сама себя наполняющая, сама себя вмещающая… И когда пришел монах, не захотелось выходить!.. А вышел на свет, на солнце, и все мне странно как-то показалось: точно не настоящее, а как картон размалеванный… и голоса, и лица-все картонное… и солнце светит сухо, как нарисованное!.. И запил я после того зверски! — неожиданно закончил Арбузов и опять замолчал. Михайлов неподвижно смотрел на него.
— И знаешь, — начал опять Арбузов очень тихо и вдумчиво, — не выходит у меня из головы эта келья! Я и пил, и безобразничал, и любил, и ненавидел, а келья вот так передо мной и стоит!.. Точно все это одна фантасмагория пестрая, а настоящее именно там, под землей, в той точке, которая у каждого в самой глубине души, куда жизнь и не доходит вовсе… Я в схимники уйду, Сережа! — вдруг прибавил Арбузов, и лицо его потемнело.
Михайлов вздрогнул.
— Ты не смотри, Сережа, что я давеча кричал на тебя и погрозился… — печально сказал Арбузов, — это я с горя… Уж очень мне тяжело стало!.. Я сегодня с Нелли навсегда попрощался, Сережа!
Михайлов поднял голову.
— Да… ведь она говорила мне, что сегодня едет с тобой на завод! — вскричал он. Арбузов махнул рукой.
— Нет, где уж там… что уж там! Михайлов долго молча, с жалостью и печалью смотрел на него.
— Слушай, — тихо и осторожно спросил он, — неужели ты не можешь забыть и простить?
Арбузов медленно и уныло покачал тяжелой головой с широким упрямым лбом.
— Это, брат, в писании насчет прощения хорошо сказано, а на самом деле — простить, значит, цены не придать!..
Михайлов помолчал. На лице его резко выступали складки острой внутренней боли и борьбы.
— Но ведь это жестоко, Захар!.. Мне трудно говорить об этом, но ведь Нелли не виновата, виноват один я… Она просто ошиблась!
Арбузов усмехнулся.
— Я не понимаю тебя, — с тоской продолжал Михайлов, — ведь мог бы ты полюбить замужнюю женщину… вдову, наконец!
— Вдову! — странно повторил Арбузов и вдруг отвел глаза, точно пряча что-то, промелькнувшее в голове.
— Что ты? — спросил Михайлов удивленно, и внезапно кошмарная мысль поразила его.
Он побледнел, и пот выступил у него на лбу.
— Захар! — крикнул он, хватая его за руку. Арбузов не ответил.
— Так ты… вправду? — непонятно и тихо спросил Михайлов.
Арбузов молчал и все так же странно косил глазами.
Михайлов замолчал тоже.
В комнате было страшно тихо. Должно быть, дождь перестал и ветер стих, потому что извне не доносилось ни одного звука. Лампочка горела тускло; две огромные тени неподвижно сидели на стене, сдвинув огромные черные головы. Была уже глубокая ночь, и ее глухая тишина проникала сквозь стены.
— Я тебе все скажу! — вдруг громко заговорил Арбузов, не подымая головы. — Я, может, в последний раз с тобой говорю, так теперь уже все равно!.. Я тебя убить хотел… И убил бы, если бы не тот… Августов, офицер… Он тебя спас!.. Оказалось, брат, что человека убить не так-то просто!.. Он у меня до сих пор перед глазами стоит!.. Да что там!.. Скверно, тяжело!.. Вот!.. Я к тебе и сегодня затем пришел… Да нет, не могу!.. Не вижу тебя, кажется, что могу… Так кажется просто: подошел, да и хватил, чем попало!.. Мутит, горит… А увижу, и нет!.. Рука не подымается!.. И убить не могу, и простить не могу!.. Вот!.. Скверно!..
Арбузов отчаянно замотал головой, как бык, запутавшийся в ярме.
— Да неужели ты до такой… — начал Михайлов.
— Что, до такой?.. Я, брат, из тех, которые половины ни в чем не знают: я, если задумаюсь, так и впрямь в схимники уйду; если возненавижу, так убью; если полюблю, так уж насмерть… вот!.. Горе мое в том, что я тебя и люблю, и ненавижу!.. Чем ты меня привязал, Бог тебя знает!.. Если бы только ненавидел — убил бы, как собаку!.. Вот!..
— Но ведь все это прошло… — в мучительном бессилии пробормотал Михайлов.
— Прошло?.. Что прошло?.. Да ты знаешь ли, что Нелли до сих пор тебя любит!
— Что ты говоришь, Захар!
— Правду говорю! — упрямо мотнул головой Арбузов.
— Нелли тебя любит!.. Тебя!.. И всегда только одного тебя и любила, даже тогда, когда со мной…
— Оставь!.. Не надо! Михайлов невольно умолк.
— Ты думаешь, я глупее тебя? — насмешливо и мрачно заговорил Арбузов. — Я сам знаю, что любит, да что в том!..
— Как что?
— Так… Есть, брат, в женщине один секрет такой.
— Какой секрет?
— А такой, что того, кому она в первый раз отдалась, женщина уже никогда забыть не может!.. И бросит, и другого полюбит, и возненавидит даже, забыть — не забудет!.. И достаточно тому ее пальцем поманить, чтобы она все забыла и к нему опять пришла!.. Презирать себя будет, а пойдет!.. Оно и понятно: ведь в первый-то раз все в жертву приносится, вся жизнь ломается… тут все насмарку, и стыд, и страх, и чистота — все!.. И во второй раз ей уж этого не пережить!.. Ни душой, ни телом не пережить!.. Потому природа человеку на всякий случай по одному чувству дала, и по два раза одного и того же не бывает!.. А там, где бывает, там, значит, и чувства никакого не было, а так, одно свинство!.. Конечно, если бы я Нелли меньше любил, я бы об этом и думать не стал… как ты не думал!.. А ведь я ей все отдаю… так как же я жить буду, когда мне каждую минуту, среди самых страстных ласк этих, будет представляться, что она нас двоих сравнивает!..
— Ты с ума сошел!
Не больше, чем ты!.. Это так и есть, брат, и каждый человек это знает и чувствует, а что не говорят и сами себя обманывают, забыть стараются, так это потому, что иначе жить было бы невмоготу!..
Арбузов помолчал.
— Да что нам говорить!.. Я, брат, в Бога не верю и молиться давно перестал, а… смешно сказать… каждую ночь думаю о том, чтобы ты или умер, или убили тебя невзначай как!! Господи, думаю, ведь умирают же другие! Почему не он?.. Сделай так, Господи!.. Со слезами молился!.. Смешно, сам знаю, что смешно, и никому бы я этого не сказал, да теперь уже все равно!..
— Почему ты все говоришь, что теперь все равно? — вдруг спросил Михайлов.
Арбузов как-то странно, даже как будто насмешливо, точно удивляясь его недогадливости, взглянул на него.
— А потому! — грубо ответил он и отвел глаза.
— Ведь ты только что сказал, что меня ты убить не можешь…
— Тебя не могу! — глухо ответил Арбузов. Михайлов пристально посмотрел на него.
— Ты… ты себя убить хочешь? — с испугом вскрикнул он и почувствовал, что вся кровь отлила от сердца.
Арбузов ничего не ответил.
— Значит, правда?.. Да говори же! — закричал Михайлов и встряхнул его за плечи.
Арбузов медленно и тяжело повел глазами в его сторону.
— Все равно! — едва слышно сказал он. Михайлов выпустил его и отшатнулся.
— Не может быть этого, Захар!.. Ты сумасшедший!.. Зачем?.. Что ты этим сделаешь?..
— А что мне делать-то? — с мрачной иронией спросил Арбузов.
Михайлов растерянно смотрел на него.
— То-то и оно!.. А как Нелли себя убьет? — болезненно искривившись, тихо прибавил Арбузов.
— Нелли?.. Почему Нелли?.. Арбузов пожал плечами.
— А ты что ж думал?.. — нехорошо усмехнулся он. — Что ж ей… танцы танцевать, что ли?.. И убьет!.. Да, может, уже убила!.. Что же, не все ли тебе равно, одна, две!..
— Захар! — крикнул Михайлов и вдруг сорвался.
Что-то странное сделалось с ним. Порой казалось, что все это происходит во сне. Горячечный бред Арбузова звучал дико и страшно, тяжелая голова его качалась перед глазами, как кошмар. Все путалось в душе:
Нелли, Арбузов, Лиза, Краузе… белоусый денщик-солдат Тренева вдруг выскочил откуда-то из памяти… Арбузов хочет его смерти!.. Он сумасшедший!.. Он нарочно пришел, чтобы толкнуть его на смерть…
Та страшная, безысходная тоска, которую он впервые почувствовал в пустом номере московской гостиницы, вдруг подступила к самому сердцу Михайлова. И внезапно представилось ему, что какой-то огромный мучительный узел запутался в душе его и нет другого выхода, как в самом деле разорвать его сразу!.. И все кончится, и не будет уже завтрашнего дня!.. Завтрашний день!.. Сегодня приходила Нелли, потом он был у доктора Арнольди, потом прибежал солдат, сейчас сидит тут Арбузов… Но завтра уже не будет никого, может быть, не будет ни Нелли, ни Арбузова, как нет Лизы… Лиза!.. Он еще почти не думал о ней, гнал воспоминания, метался от человека к человеку, чтобы не думать!.. И ему кажется, что он даже еще и не понял всего. Но завтра, в свете белого равнодушного дня, все поймет, весь ужас встанет перед глазами!.. Лиза!..
«А картина?» — вдруг вспомнил он, и острая тоска сжала ему сердце, точно он уже знал, что не успеет окончить ее.
Завтра придут люди, вынесут все его этюды и картины… мастерская будет стоять голая, ободранная… на следующей выставке не будет его картины… только где-нибудь в музее, холодное, как мраморный памятник на могиле, останется его «Лебединое озеро»… Что ж, не все ли равно!.. Отчего же так больно и так грустно?.. Отчего нет никого, кто бы пожалел его?.. Зачем Арбузов рассказывал про этого прокурора?.. У того тоже не оказалось никого в решительную минуту!.. Но ведь этот прокурор всех ненавидел и презирал!.. А он?.. Не ненавидел, не презирал, но и не любил никого, кроме себя!.. «Чужой кровью не поливают цветов счастья»! Разве он захотел этого?.. Лиза, Лиза!..
— О чем ты думаешь? — как будто откуда-то издалека, сквозь туман, услышал он голос Арбузова.
— А? — машинально переспросил Михайлов и вдруг странно, точно в первый раз увидел, посмотрел на него.
Вот этот человек хочет его смерти… Какое странное у него лицо, у человека, хотящего смерти… Чьей?.. Моей смерти!.. Какая нелепость!.. А Нелли?.. Ну да… он не может простить и забыть и имеет право на это!.. Только зачем так грубо, жестоко?.. Неужели ему не жаль меня?.. За что?
Арбузов, подняв голову, с недоумением смотрел на Михайлова, на его бледное, исхудавшее, искривленное лицо с мутными, куда-то внутрь смотрящими глазами.
— Сергей! — сказал он громко и тронул его за руку.
Одну минуту Михайлов тупо, как бы чего-то не понимая, смотрел на Арбузова.
— Сергей! — вторично, громче, уже со смутным страхом позвал Арбузов.
Михайлов всем телом повернулся к нему и вдруг улыбнулся бледной, просящей улыбкой.
— А знаешь, — проговорил он каким-то чужим голосом, — это странно, что ты именно сегодня пришел…
— Что ж тут странного?
— Как будто знал…
— Что знал? Что ты говоришь?
— Так… — вяло махнул рукой Михайлов. — Не стоит… потом!..
— Да что — потом? Ты пьян, что ли? — с тревогой крикнул Арбузов. Его огромная черная тень судорожно метнулась на потолке.
— Нет… А знаешь, я сегодня новую картину начал, — вдруг оживленно, как бы хватаясь за что-то, быстро заговорил Михайлов. — Хочешь, покажу?
— Я видел, — угрюмо ответил Арбузов. — Мне не до картин.
— А, видел? — упавшим голосом переспросил Михайлов и растерянно провел рукой по лбу. — Я сегодня целый день работал…
— Нашел время! — злобно возразил Арбузов. — Как раз сегодня тебе картины малевать!.. Михайлов схватился за голову.
— Да что с тобой? — повторил Арбузов в странном раздражении. — Ты не болен?..
— Нет, я здоров… только… А ты интересно это про прокурора рассказывал…
— Ты с ума сходишь, что ли? Или смеешься? — злобно проговорил Арбузов, чувствуя, что какой-то непонятный страх начинает сжимать его сердце.
— Может быть!.. А ты знаешь, что как раз сегодня я застрелиться хотел?.. И револьвер достал… Только не застрелился!
— Вижу! — сказал Арбузов и нервно засмеялся. Внезапно какая-то страшная, почти бессознательная мысль мелькнула у него в черных воспаленных глазах. Он хитро прищурился и сказал:
— Нет, брат… это ты оставь!.. Такие люди, как ты, не стреляются!.. Брось!.. Проживешь в свое удовольствие! Где тебе!..
Михайлов вдруг пристально и странно сознательно посмотрел на него прямо в глаза.
— А ведь ты, Захар, и вправду рад был бы, если бы я застрелился! — медленно выговорил он.
— Глупости! — невнятно возразил Арбузов и встал. — Ты с ума сошел!
— Слушай! — начал Михайлов, вытягивая к нему лицо.
Арбузов мельком оглянулся на его странные, совсем дикие глаза и отодвинулся.
— Оставь!
— Нет… слушай! — так же непонятно повторил Михайлов и все тянулся к нему. Дикий страх охватил Арбузова.
— Что? — вдруг, бледнея, выговорил он. Михайлов встал. Лицо у него покрылось зеленоватой, как бы липкой бледностью, и губы задрожали.
— Слушай! — в третий раз с трудом повторил он, как бы не находя слов.
Арбузов невольно отступил еще на шаг.
— Сергей! — высоким звенящим криком вдруг крикнул он.
Михайлов, видимо, что-то хотел сказать и не мог, только губы у него прыгали все сильнее и сильнее, гримасой растягивая бледное, с всклокоченными волосами лицо.
— Сергей, перестань!.. Я уйду! — с ужасом, не спуская с него глаз, пробормотал Арбузов.
— А ты знаешь, что ты… может быть, и в самом деле… меня…
— Да опомнись ты!.. Что с тобой! — закричал Арбузов и с силой схватил его за плечи.
Но Михайлов вырвался с бешеным движением.
— Уйди! дико закричал он. — Уйди, а то убью!.. Это ты нарочно пришел, когда я… Тебе хочется, чтобы я… Ну, хорошо, хорошо… хорошо же…
Он весь трясся и был страшен и жалок. Арбузов дико смотрел на него. Вдруг Михайлов порывисто двинулся в глубь мастерской, что-то повалил на пол и дрожащими руками, бормоча и заикаясь, начал торопливо искать что-то в ящиках стола.
— Хорошо, хорошо… пусть! — бессвязно бормотал он про себя.
Арбузов неподвижно смотрел на него. Ему самому казалось, что он сходит с ума. Он вдруг понял, что это страшный истерический припадок, что если его не удержать, то Михайлов сейчас застрелится тут же, у него на глазах. Окровавленное лицо корнета Краузе вдруг выскочило у него перед глазами. Его охватило животным ужасом и отвращением почти паническим. Первое движение Арбузова было броситься, схватить и скрутить Михайлова, как сумасшедшего, первым попавшимся полотенцем, но какая-то в одно и то же время и почти не уловленная сознанием и страшно отчетливая мысль удержала его.
Михайлов все рылся в столе, бешено вышвыривая на пол все, что попадалось под руку, и все так же лихорадочно быстро и невнятно бормоча себе под нос:
— Ладно… хорошо… хорошо…
Арбузов видел, что то, что искал он, револьвер лежало на столе под грязной палитрой. Еще было время схватить его, но Арбузов не мог сдвинуться с места.
«Что я делаю?.. Скорей!.. Скорей!..» — мелькало у него в голове, но странная, непонятная слабость вдруг охватила его. Все тело как будто онемело, и вся жизнь сосредоточилась в выпученных безумных глазах, прикованных к маленькому блестящему предмету под грязной палитрой.
Он видел, как Михайлов совсем выдернул ящик
и швырнул его на пол. При этом толчке палитра съехала, и дуло револьвера высунулось наружу. В ту же минуту Михайлов увидел его.
Еще было мгновение, когда Арбузов мог оттолкнуть его.
— Сергей! пронзительно крикнул он, но вдруг повернулся и, всей грудью выбив дверь, бросился вон из комнаты.
Он отчетливо сознавал и не верил, что сознает, что значит его бегство в эту минуту. Ему еще показалось, будто Михайлов крикнул вдогонку, крикнул жалобно, как пойманный заяц, но Арбузов не остановился и выбежал на крыльцо.
Холод и свет охватили его. Было уже утро, но солнце еще не всходило, хотя прозрачный свет проникал уже все кругом. Разбившиеся ночные тучи свалились в одну полосу на горизонте, а над ними возвышалось прекрасное, светлое, точно омытое небо, без единого облачка. Внизу, под деревьями, было еще сыро и холодно, но одинокая верхушка тополя в конце сада уже загоралась розовым огоньком, и видно было, как вздрагивают его редкие золотые листочки в ожидании света и тепла.
Но Арбузов не видел и не понимал ничего. Растерзанный и страшный, без шапки, с бледным лицом и безумно выпученными глазами, он мчался по улице, сознавая только одно: что если услышит за собой что-то, то уже окончательно сойдет с ума.
XXVII
Был вечер, и Нелли одна сидела у себя в комнате.
Она уже знала о смерти Михайлова, застрелившегося якобы в припадке умоисступления, вызванного смертью Лизы Трегуловой, о чем рано утром заявил в полиции бывший при самоубийстве Арбузов.
Ее не поразило это известие. Нелли как будто ожидала этого и приняла событие со странным и даже равнодушным спокойствием. Только показалось ей, что из души вдруг что-то ушло и она опустела и замерла.
На похоронах Нелли не была, но знала, что весь город был на кладбище, что была масса цветов, что хоронили в чистый и светлый осенний день и что могила была недалеко от могил корнета Краузе и зарезавшегося Тренева.
Почему-то именно этот светлый день, последние золотые листья на деревьях, резкий холодок осени и яркое негреющее солнце представлялись ей.
И от этого было еще темнее в темной глубине ее ожесточенной души, и страшное решение, к которому она пришла давно, стало еще суровее и непоколебимее.
Она думала об этом совершенно спокойно и отчетливо. При мысли о смерти ей не было страшно, только тонкие брови ее сжимались еще настойчивее, точно силой воли она хотела заставить себя уйти из жизни в полном сознании.
Нелли хладнокровно и рассудительно обдумала все: у нес не было револьвера, почему-то была противна лживая зеленая глубина воды, она решила, что отравится, и хотела только достать сильного яда, чтобы умереть без отвратительных подробностей длительной агонии. Самое решение представлялось ей таким простым и необходимым, что даже сомнений у нее не было. Нелли написала записку доктору Арнольди, прося назначить ей время, когда она может застать его одного, и он ответил, что просит зайти сегодня часов в девять вечера, так как до этого времени он занят у больных. Нелли знала, что у старого доктора на этажерке среди различных запыленных баночек и пузырьков есть скляночка с цианистым калием, и думала, что успеет взять эту баночку незаметно для старого, рассеянного доктора.
Был уже восьмой час, и Нелли спокойно ждала назначенного времени.
Она неподвижно сидела у стола, поставив локти на скатерть и положив на ладони подбородок тонкого бледного лица с темными глазами и сурово сдвинутыми бровями. Она очень похудела, губы у нее были сухи и сжаты, глаза смотрели грозно и непреклонно. Нелли почти и не думала ни о чем. Только бледные обрывки воспоминаний мелькали перед нею и исчезали бесследно. Ей ничего не было жаль, не было ни грустно, ни страшно, — в душе было совершенно пусто и темно. Когда она вспоминала Арбузова, брови ее сжимались сильнее, но глаза смотрели так же твердо. Она думала, что это кончено навсегда, и не хотела вспоминать.
А между тем при звуке тяжелых шагов на крыльце она вздрогнула, побледнела и отшатнулась от стола, точно заранее знала, что он придет, и боялась только этого.
Арбузов вошел и стал у двери, не глядя на Нелли.
Он страшно изменился за эти дни: красивое и мрачное лицо было худо и желто, как будто он только что встал после тяжелой болезни, черные жгучие глаза смотрели остро, исподлобья, точно он подозрительно оглядывался по сторонам. Он давно не брился, и маленькая черная бородка странно обросла его худое лицо.
— Вот я и опять пришел… Не ждала? — очень хриплым и неуверенным голосом, как будто через силу, сказал он, но не подошел, только снял фуражку и стоял, опустив руки и понурив черную кудлатую голову.
Нелли, стоя спиной к столу и опершись на него руками, с минуту молча смотрела на него.
Она сама не могла бы сказать, что чувствовала в эту минуту. Ей не показалось странным, что он пришел:
страшная, почти безумная радость охватила ее, но ни на одно мгновение ей не пришло в голову, что она изменит свое решение. Она даже взглянула на стенные часы, чтобы узнать, не опоздает ли к доктору Арнольди. Это было похоже на то, что чувствует человек, приговоренный к смертной казни, при последнем свидании с самым дорогим и любимым, кого он уже все равно не увидит никогда больше.
Она долго жадно смотрела на его измученные, лихорадочные глаза, на эту странную, незнакомую бородку, на все его худое, так страшно изменившееся, бесконечно милое и дорогое ей лицо. И вдруг, в одно мгновение, какой-то тайной внутренней силой поняла все, что он пережил за эти дни. То, что произошло между ним и Михайловым, стало ей ясно до боли, и страшная жалость, похожая на отчаяние, потрясла ее.
— Зоря! Зоря! — крикнула она горестно, шагнула два шага навстречу и протянула руки.
Арбузов дико, почти с испугом взглянул на нее, увидел, что глаза ее полны слез, жалости и любви, уронил фуражку и подхватил Нелли, почти упавшую ему на руки.
— Зоря! — тихо бормотала она, пряча голову у него на плече и судорожно охватывая его шею тонкими гибкими руками.
И вдруг почувствовала, что сильные руки подымают ее на воздух.
Все пережитое Арбузовым ревность, злоба, отчаяние, кошмар той страшной ночи, тонкий заячий крик, который неотступно звенел у него в ушах, все исчезло, растаяло в потрясающем порыве радости, страсти, нежности и любви. Он носил Нелли по комнате, как ребенка, укачивал, целовал в грудь, руки, колени и только повторял как сумасшедший:
— Неллечка… моя Неллечка!.. Солнышко мое!.. Нелли была чуть ли не выше его ростом, ему неудобно было держать ее на руках, и это было немножко смешно, но Арбузов не замечал этого.
— Пришел ко мне?.. Таки пришел!.. Бедный мой, милый, шептала ему на ухо Нелли и жгла лицо горячим сухим дыханием. Чувствуя запах ее волос и тела, оторвав ее от земли, Арбузов как будто свирепел от счастья и все сильнее и сильнее сжимал ее в руках.
— Так любишь меня?.. Любишь?..
Она не сопротивлялась, когда он опустил ее на кровать, прямо поверх строгого, белого, совсем девичьего одеяла, и только смотрела на него огромными, сверкающими от счастья глазами.
XXVIII
Это кончилось так же внезапно, сразу, как будто вспыхнул и сгорел дотла сухой костер, и они опомнились, сами не понимая, как это случилось.
Нелли лежала на кровати, и по всей подушке были разметаны ее сухие цепкие волосы, а лицо казалось темным и глаза усталыми тихой блаженной усталостью.
Арбузов сидел рядом, на краю кровати, в неудобной и напряженной позе, тяжело и нервно дыша, с прилипшими ко лбу черными волосами.
Что-то странное делалось в нем: с невозможным сознанием какого-то страшного крушения в душе, вдруг опустелой, он растерялся.
Все было кончено. Свершилось то, к чему он стремился столько времени, что наполняло его душу и тело, ради чего он не остановился ни перед чем. Тело ныло, сердце колотилось в груди, и безумное, непонятное отвращение липко и гадко подымалось во всем существе его. Ни счастья, ни восторга, ни страсти не осталось в нем… Ничего, кроме усталости и отвращения, кроме неудержимого желания куда-нибудь уйти от нее и сознания невероятной и непоправимой внутренней катастрофы. Дико и нелепо было, что он столько страдал, ненавидел и любил только для этой мгновенной сгоревшей вспышки животного удовлетворения, после которой ничего не осталось.
Арбузов боялся взглянуть на Нелли, чтобы она не увидела отвращения у него в глазах.
А она не понимала ничего, прижимая его большую потную ладонь к своей груди обеими горячими руками, и закрывала глаза в блаженной, сладостной истоме счастья.
Ему было противно ее горящее лицо с еще сладострастным выражением, с красными щеками и волосками, прилипшими к вискам от пота, было противно ощущение ее мягкой груди, под которой чувствовалось учащенное биение сердца, было противно собственное тело, как-то вдруг распустившееся и ослабевшее, было омерзительно гадко ее и свое платье.
Арбузову казалось, что самый воздух вокруг них пропитан чем-то отвратительным, и болезненная тошнота подкатывалась к горлу.
«Что же это… что?» — с ужасом, чувствуя, что стремглав летит в какую-то бездну, растерянно спрашивал себя Арбузов.
И вдруг явственно услышал над самым ухом тоненький жалобный заячий крик…
«Сергей! — с бесконечным отчаянием, раскаянием и тоской пронеслось у него в голове. — Что же я сделал!..»
Нелли приподнялась, и две тонкие гибкие руки охватили его шею, как давеча, когда она бросилась к нему неожиданно для них обоих. Но это было уже другое бесконечно нежное, интимное и благодарное объятие… Арбузов вздрогнул от него, как от прикосновения гадины.
Мой, мой!.. Теперь уж ты мой навсегда! — прошептал ему какой-то другой, не Неллин, мягкий, откровенно бесстыдный голос. — Ты останешься у меня, да?.. Я тебя никуда, никуда теперь не пущу!.. Она ласкала его, гладила по волосам, по лицу, по отросшей, забавлявшей ее бородке, сама тянулась к нему вся, мягкая, горячая и безвольная, покоренная страстью.
— Да, да… конечно… — бормотал Арбузов и с ужасом спрашивал себя, что же делать теперь, как сказать, как объяснить ей то, чего он и сам в себе не понимает.
На мгновение у него была мысль притвориться и даже опять начать ласкать ее, чтобы она не догадалась, что он почувствовал, что это невозможно, что все тело его сжимается холодной судорогой отвращения, а вынужденное, насильное объятие вызывает безумную злобу, так что хочется схватить за горло и задушить ее.
— Останешься?.. Не уйдешь от меня? — стыдливо и радостно спрашивала Нелли.
— Да, да… — бормотал Арбузов и вдруг неловко, выдавая себя странным фальшивым голосом, нелепо, деловито и даже конфиденциально сказал: Только я не знаю… мне, видишь ли, сегодня надо непременно быть на заводе, Наумов ведь уехал, знаешь…
«Что я говорю!» пронеслось у него в мозгу, но он уже не владел собою и терялся все больше и больше.
Но Нелли еще не поняла его.
— На завод?.. Никакого завода!.. Не пущу!.. Вот еще! — вскрикнула она с кокетливой повелительностью, притворно-капризным — как ему показалось — до противности не идущим к ней тоном.
— Нет, ей-Богу, надо ехать! — все глубже и глубже падая в пропасть, возразил Арбузов.
И, должно быть, в его голосе на этот раз слишком явно прозвучали тоска, отвращение и досада, потому что Нелли вдруг медленно опустила руки, соскользнувшие с его плеч, как мертвые змеи, и черные, широко раскрытые глаза с испугом и недоумением, медленно отодвигаясь, взглянули ему прямо в душу.
Под тяжестью этого взгляда Арбузов потупился. В голове у него был какой-то туман, в ушах звон, в котором смутно и бессознательно опять чудился ему жалобный заячий крик вдали.
— Зоря! — неуверенно и глухо, как бы пугаясь мысли, мелькнувшей в ней, проговорила Нелли. Он заметался в тоске, избегая ее взгляда.
— Нет, в самом деле… да и неудобно будет!.. Она как будто обрадовалась чему-то, и лицо ее просветлело на мгновение.
— Милый… мне теперь все равно… пусть!
— Нет, право… неудобно… Я лучше как-нибудь… в другой раз! — пробормотал он, и все ухнуло в нем от этой последней, непонятно выскочившей, невозможной, нелепой фразы.
«Конец!» зазвенело у него в голове, и Арбузову показалось, что пол под ним медленно опустился куда-то вниз.
— Как… в другой раз? — растерянно переспросила Нелли, отодвигаясь все дальше и дальше.
Ее огромные, казалось, покрывшие все лицо глаза смотрели на него с ужасом, и видно было, как все глубже они проникают в его душу.
Арбузов вскочил, не зная, что делать, чуть не крича от боли и отчаяния.
Ну, чего ты так?.. Мне же в самом деле надо… Вот смешная! — помимо его воли, словно чужой, говорил его голос, вдруг ставший каким-то разухабистым, точно у загулявшего купчика.
И это уже действительно был конец. Нелли еще шире, еще ужаснее открыла глаза, вдруг озаренные полным пониманием, схватилась за голову и кинулась лицом в подушки.
Арбузов хотел броситься к ней и не посмел. С минуту он, глупо, растерянно и нелепо ухмыляясь, топтался возле нее, сам чувствуя свою безобразную гримасу и бестолково разводя руками.
Потом тихо, воровски захватил свою поддевку, на цыпочках отошел к двери, оглянулся, криво и жалко усмехнулся и вдруг выскочил за дверь…
XXIX
Ночь была звездная, но темная. Вверху ярко блестели бесконечные звезды, рассыпанные в непостижимые сияющие узоры, а внизу все было черно и сливалось в одну сплошную массу.
Арбузов едва нашел свою тройку.
Кучер, приготовившийся ждать долго, слез с козел и, сидя на подножке экипажа, курил цигарку, вспыхивавшую во тьме и освещавшую рыжую бороду, нос и толстые губы.
Арбузов подбежал к коляске.
— Кто?.. Захар Максимыч, вы?.. — вскакивая и далеко отшвыривая цигарку, спросил кучер. Ехать?
Арбузов, не отвечая, быстро пролез мимо него в экипаж и скорчился там. Он, как давеча, в ту ночь, забыл свою фуражку и не замечал этого.
Кучер немного удивился, но не заблагорассудил задавать вопросов. Он медленно и степенно взлез на козлы, разобрал вожжи и попробовал лошадей. Бубенцы нестройно загремели впотьмах.
— Куда прикажете, Захар Максимыч? — спросил наконец кучер, поворачиваясь на козлах.
Ответа не было. Черная фигура Арбузова, скорчившись, мерещилась в углу экипажа.
— Куда прикажете? — повторил кучер в удивлении.
— К черту! — бешено заревел Арбузов.
Кучера шатнуло от этого совершенно безумного, дикого крика. Он едва не потерял вожжи и, ошалев, ударил по лошадям.
Арбузова швырнуло назад, земля полетела ему в лицо, что-то загудело и застонало кругом, замелькали пятна домов, заборы и деревья.
Кто-то тяжко застонал на повороте, коляску сильно тряхнуло, но лошадей уже нельзя было удержать.
Бледный как смерть кучер, потерявший шапку, напрасно отваливался на натянутых вожжах чуть не на колени к Арбузову, ничего не мог разобрать впотьмах и думал только о том, чтобы держать тройку посередине улицы и не налететь на тротуарный столбик.
«Понесли! Батюшки… пропадем!» — мелькало у него в голове.
Арбузов ничего не замечал. Он сидел, сгорбившись, с закрытыми глазами, чувствовал, как швыряет его из стороны в сторону и как ветер, захватывающий дыхание, бешено рвет волосы, и не мог выйти из какого-то странного, тупого забытья.
Одна мысль, страшная в своей голой правде, была ему ясна: вся жизнь, с ее невероятным единственным устремлением к одной точке, вдруг дико и нелепо исказившись, рухнула вниз.
Все тот же жалобный заячий крик непрерывно и страшно, как во сне, звенел у него в ушах, а перед глазами, все расширяясь и как будто заполняя и заслоняя всю черную гудящую ночь, с ее страшной черной землей и сверкающими узорами звезд в вышине, стояли спрашивающие, отчаянные глаза Нелли.
Он не мог понять, что случилось… Но знал, что Нелли теперь убьет себя, что он погубил и ее, и себя и что ему не выдержать тяжести этих двух погибших жизней — ее и Михайлова.
Животный ужас охватывал его во тьме, как тот бешеный ветер, который рвал волосы, слепил глаза и перехватывал дыхание.
Было одно мгновение, когда он думал остановить лошадей, вылезти из экипажа тут же, на дорогу, отойти в сторону и просто выпалить себе в голову. Но он не мог этого сделать и в то же время не мог подумать, что останется жить, как прежде, он — все потерявший и погубивший Арбузов.
— Стой! — пронзительно и дико закричал он.
Тройка уже вынеслась за околицу и во весь мах шла по большой дороге прямо в ночь и темь, звеня и треща по всем швам.
Должно быть, в этом крике было что-то особенное, потому что окончательно обезумевший кучер, всего за минуту перед тем не могший удержать лошадей, с такой невероятной силой рванул вожжи, что лошади осели на все ноги. Земля тучей взметнулась впереди, Арбузова швырнуло на козлы, а кучер очутился где-то внизу, почти под задами осевших лошадей.
Целую минуту еще гудели бубенцы, и слышно было, как храпели и бились в темноте запутавшиеся в постромках лошади.
— Сворачивай направо… в монастырь! — отчаянно закричал Арбузов.
В кровь ободравший руку и разбивший губу кучер с трудом вылез из-под лошадей, взмостился на козлы и, вне себя от страха, снова погнал во весь опор.
«В уме решился!» — с ужасом думал он об Арбузове, не смея слова выговорить.
Мимо быстро неслась гладкая темная степь, мерещились мелькающие межи, ветер ровно и туго гудел в ушах, все бежало назад гигантским кругом, и только блестящие звезды вечными узорами неподвижно, все на одном месте, сверкали в вышине.
XXX
Дождь лил сплошными потоками, и в мутном водянистом свете осеннего дня расплывчато и бледно, мокрый и убогий, мерещился городок.
В садах, где облетели мокрые желтые листья, было пусто и холодно, по улицам блестели и дрожали сплошные лужи, вдоль тротуаров с провалившимися гнилыми досками бешено неслись мутные ручьи. Степь потонула за дождем, и казалось, что ничего нет за нею, что городок один во всем мире зачем-то доживает последние жалкие дни.
Чиж бежал по бульвару, подняв воротник пальто и шлепая калошами. Его остренькое озлобленное личико было бледно, серо и мокро, точно он плакал злыми унылыми слезами. Маленькой и одинокой маячила его крошечная фигура в мутной пелене дождя. Везде было пусто, все живое попряталось от дождя, только он один бегал и суетился, никогда еще не ощущая такого полного одиночества.
«Бегут тучи… — машинально думал маленький студент. — Идет дождь… Миллионы лет будут так же ползти тучи и идти дождь… Надо отдать калоши починить!.. Надо бежать отсюда… Я пропаду здесь!.. А может уже пропал?.. Какая там жизнь!.. Черт ее видел!.. Поехать в Петербург бы… там теперь театры, университет… А может быть, тоже идет дождь?..»
Он представил себе холодный длинный Невский проспект, вывески, мокрых извозчиков, блестящие отсыревшие панели и дома, дома без конца. Медленно и угрюмо течет мутная Нева, ползут какие-то барки, в тумане висит шпиль крепости, а в крепости сидят люди, которые мечтали о другой жизни… Они ходят из угла в угол крошечных камер, смотрят в маленькие оконца и за решеткой видят то же самое серое, плачущее небо, которое и вот тут, над головой, над степью, над мокрыми садами и мокрыми крышами унылого городишка.
«Тьфу, гадость какая!.. Непременно надо отдать калоши починить!.. Как только будут деньги, так и отдам… А то того и гляди воспаление легких набегаешь!.. А и хорошо!.. Сдохнуть уже за один раз, чтобы никогда не видать ни этой слякоти, ни туч, ни дождя… и о калошах не думать!.. Скверно!.. Жизнь проходит и пройдет… Не все ли равно в конце концов где и как?.. Вон в Италии теперь, должно быть, солнце светит и море голубое… А черт с ним, и с солнцем, и с морем!.. В клуб, что ли, зайти?..»
Чиж свернул, по жидкой грязи перешлепал площадь и поднялся по лестнице клуба, зашарканной и затоптанной. В швейцарской никого не было, а на вешалке висела хорошо знакомая шляпа доктора Арнольди. При виде ее Чиж и обрадовался, и тоску почувствовал: хорошо все-таки, что он будет не один, но сколько уже раз он заходил сюда и так же было пусто и уныло, и так же висела эта одинокая шляпа старого скучного человека.
Окна были мутны, и по ним торопливо бежали кривые струйки воды. В зале стояли раскрытые зеленые столики и в водянистом свете тоже казались мокрыми.
Доктор Арнольди сидел в буфетной. Графинчик водки стоял перед ним, за ушами шевелились туго затянутые концы салфетки, похожие на кабаньи уши. Лицо доктора студенисто осело на грудь, глаза смотрели уныло и мутно. Нетронутая тарелка супа стыла перед ним.
— Здравствуйте, доктор! — сказал маленький студент и опять вспомнил, сколько уже раз говорил это.
Доктор Арнольди что-то пропыхтел и глазами показал на водку.
А ну ее… И так вся душа промокла! — брезгливо поморщился Чиж, но рюмку подвинул и внимательно, даже как будто с нетерпением смотрел, как подымалась белая жидкость в стеклянной рюмочке под толстой, слегка дрожащей рукою доктора Арнольди.
— Отвратительная погода, чтобы черт ее побрал! — сказал маленький студент, чокнулся с доктором, выпил и поморщился с решительным отвращением.
Да, пропыхтел доктор Арнольди.
— Скучища смертная!..
Доктор промолчал.
Удивляюсь я вам, доктор… человек вы свободный, в средствах не нуждаетесь… — начал Чиж и оборвался, вспомнив, что уже говорил это доктору.
Доктор Арнольди как будто прищурил один глаз, но ничего не сказал.
Чиж вздохнул и засмотрелся в окно, на обширный пожарный двор, расплывшийся в пелене неустанного дождя. Колокол на столбе блестел мокрым блеском, и скрученная веревка висела из него, точно с нее только что сняли повешенного. Чиж отвернулся. Почему-то вспомнилось кладбище, мокрые желтые листья, могилы… Верно, они теперь совсем раскисли от дождя!
— А скверно там! — сказал он про себя. И странно, толстый доктор, кажется, понял, о чем он говорит.
— Да, нехорошо… сказал он.
— И как все глупо! продолжал Чиж, наливая водки и не замечая этого. А как вы думаете, доктор: знал Арбузов, что Михайлов застрелится, или нет?
Доктор ответил не сразу.
— Знал, — глухо сказал он и взял свою рюмку.
— Что же это такое?.. Ведь они друзья были… Ревность, что ли?
— Не знаю.
— А где теперь Арбузов?
— Не знаю.
— А эта… как ее… Нелли… Говорят, что она пыталась…
— Не знаю! — перебил доктор Арнольди.
Оба выпили.
Что-то хотелось Чижу спросить, не то по поводу Михайлова, не то о собственной тоске. Он не мог разобраться в этом хаосе событий и чувствовал себя точно в тумане. Но обычных слов не хотелось повторять: уж слишком остро чувствовалось, что какими воплями и протестами ни разражайся, а люди погибли, и этому уже не поможешь. Сколько ни рассуждай, все ни к чему! И вдруг стало даже как будто трудно языком ворочать.
— Что ж, выпьем, что ли? — машинально спросил Чиж.
Но в графине не оказалось водки. Доктор Арнольди задумчиво посмотрел его на свет, встряхнул, поставил в стороне и сделал по направлению буфета что-то, очень похожее на масонский знак.
— Да, — сказал он, наливая из нового графина.
— Что — да? — спросил маленький студент.
Доктор Арнольди не пояснил.
И такая лютая тоска взяла маленького студента, что он почувствовал необходимость встряхнуться во что бы то ни стало; хотя бы искусственно разгорячиться, зашуметь, подраться — все что угодно, лишь бы не это серое пустое молчание.
— Остались мы с вами одни, доктор, — заговорил он, налив рюмку и поставив ее перед собою, а давно ли, кажется, все были тут… шумели, пили, волновались, спорили!.. Наумов философствовал… Евгения Самойловна эта… Михайлов… Краузе… А Тренев, бедняга!.. Кто бы мог ожидать?.. Погубила проклятая баба!..
— Баба тут ни при чем! — вдруг заметил доктор Арнольди.
Чиж хотел было поспорить, но почему-то пропустил.
— Да, пусто стало! Точно ветром всех снесло!.. Черт его знает!.. Вы одиночества боитесь, доктор?
— Нет, — равнодушно ответил доктор Арнольди, подвигая к нему рюмку.
Чиж машинально взял и поднес ко рту.
А как вы думаете в конце концов, — продолжал он, ставя на стол пустую рюмку и скривившись, — виноват ли Наумов во всей этой катастрофе, или это случайность?
— Кто его знает? — так же равнодушно ответил доктор Арнольди.
— Но вы как думаете?
— Я ничего не думаю.
Чиж посмотрел на осунувшееся дряблое лицо с оползшими щеками — и заметил, как чуть-чуть дрогнули бритые, как у старого актера, губы. Что-то больно резнуло его по сердцу.
— Что вы, доктор, такой странный, ей-Богу?!
— Я всегда такой.
— Знаете, мне кажется, что из всех нас именно вы-то в глубине души больше всех и сочувствовали этому сумасшедшему инженеру с его философией, право! — задирая, сказал маленький студент.
Доктор посмотрел на него маленькими заплывшими глазками и неопределенно смигнул.
Чиж подумал.
— Наумовщина! — сказал он нерешительно. — Быть может, для современного общества, исчерпавшего все ценности науки и искусства и дошедшего до последней черты, он и прав. Конечно, общество, взявши все, что можно было взять, исчерпавшее до дна все наслаждения, естественно, должно прийти к вопросу: «Что же дальше?» — и решить его в наумовском смысле… Я признаю это, но…
Чиж оживился, и хохолок его победно встал.
— Но мы не имеем права набрасывать черное покрывало смерти и на грядущее человечество! На арену жизни выступают новые люди — рабочий класс, на знамени которого начертан девиз: «Счастье для всех»!.. С ними идут новая наука, новое искусство. Они полны жажды смелой, красивой, яркой жизни. Им чужда наумовщина! Их души еще не опустошены, они никогда не признают морали Наумова, ибо она — порождение обессиленной, пресыщенной, утонченно-развратной современности. Они…
Глаза Чижа блестели, на щеках выступил румянец.
Доктор Арнольди вздохнул.
— Что ж, уныло сказал он, — и они пресытятся в свой черед.
— Вы страшный пессимист, доктор!.. В сущности говоря, вы хуже Наумова! — крикнул он.
— Может быть.
— Так что же вы не застрелитесь, доктор? — насмешливо спросил маленький студент.
Доктор опять поднял на него маленькие, ничего не выражающие глазки. Минуту смотрел молча.
— Зачем мне стреляться? Я и так давно уже умер! — коротко и глухо ответил он.
Чиж вздрогнул. Какой-то странный холодок пахнул ему в душу. Мгновение, как во сне, представилось ему, что он и вправду сидит и говорит с мертвецом.
— Что вы этим хотите сказать, доктор? — дрогнувшим голосом спросил он. Доктор молчал.
— Вы слышите?.. Я спрашиваю, что вы… Доктор лукаво подмигнул ему.
— Да вы с ума сошли, доктор!.. Доктор! — вдруг тоненько и жалобно прокричал Чиж.
Доктор прищурил один глаз, как бы уже не скрывая насмешки, потом спокойно протянул толстую руку и налил обе рюмки.
— Выпьем? — сказал он.
XXXI
На улицах было темно, и порывисто дул ветер. Толстый, грузный доктор Арнольди и маленький студент Чиж шли под руку по мокрым деревянным мосткам тротуара. Чиж скользнул с мостков в грязь, махал рукой и кричал:
— Вы мертвый человек, доктор!.. И больше ничего… Знаете ли вы, что вы — мертвец?.. Я вас очень люблю, доктор, но все-таки вы — мертвяк!..
— Хорошо, хорошо, — равнодушно отвечал доктор Арнольди, поддерживая его под руку.
— Я это потому так прямо говорю вам, доктор, что я вас очень люблю… Вы верите, что я вас люблю?..
— Верю, верю…
— Это ужасный городишко, доктор!.. Это город мертвецов!.. Мне иногда кажется, доктор, что это только кажется… то есть… что это не город, а только одна видимость!.. Разве может быть, доктор, чтобы тысячи людей жили в этой глуши, в этой чертовой дыре, только для того, чтобы есть, пить и спать?.. Ведь это же кошмар!.. Вы только посмотрите кругом: темнота, ветер, дождь, грязь, ни духа на улицах… Нет, вы посмотрите: разве можно поверить, что это человеческий город и тут живут люди?.. Настоящие живые люди, так называемое человечество?.. Кто ж тут-человечество?.. Мы с вами?.. Ну, мы хоть понимаем что-нибудь… а они?.. Зачем они живут?.. Вообразите, что этого городка совсем бы не было… ну, провалился бы он к черту в зубы, от дождя размок и в речку бы сплыл… как навозная куча… Ведь от этого мир не изменился бы ни на йоту!.. Никто бы даже не заметил, что этого проклятого болота нет!.. Так какой же смысл?.. Какие-то чиновники, купцы, мещане, офицеры… Вы только представьте, что совершенно такие же купцы, мещане, офицеры и чиновники есть в каждом городишке… совершенно такие же!.. Так на кой же черт эти миллионы копий, когда и оригинал-то скверен!.. Чепуха какая-то!..
Ведь если бы подняться сейчас над Россией, только над одной Россией, а то и над одной губернией, и, может быть, в сотнях мест вот точно так же идет дождь, слякоть, ветер, темнота и путешествуют доктор Арнольди и студент Чиж… Совершенно такие же, никуда не годные доктор Арнольди и студент Чиж!.. Неужели вас это не возмущает, не приводит в отчаяние, доктор?
— Нет, что ж… — еле удерживая Чижа на ногах, ответил доктор Арнольди.
— Да вас ничто не возмущает!.. Вы мертвый человек!.. Ну, сознайтесь, что вы просто — мертвец!
— Я вам говорил это…
— Э, что там — говорил… Нет, а вы чувствуете ли это?.. Чувствуете ли, что вы заживо разлагаетесь, доктор?.. Мы все заживо разлагаемся!.. Нам всем пора на кладбище, доктор, потому что смердит… понимаете, смердит!
— Пора, пора, — машинально отвечал доктор Арнольди.
— Я не понимаю, доктор, как вы м-можже-те так ж-жить?.. Ведь это смерть, доктор!
— Смерть.
— А вы знаете, доктор, что вы дальше Наумова пошли… Тот хоть в уничтожение верит, а вы ни в черта не верите!.. Да вы во что-нибудь верите, доктор?
— Верю.
— Во что?
— Ни во что…
— То есть как же это?.. Вы ни во что не верите или верите в ни-во-что?
— Пойдем, пойдем. — возразил доктор.
— Нет, постойте… вы мне скажите, верите ли во что-нибудь? Ведь не пустое же вы место, черт возьми!
Доктор вздохнул и уныло оглянулся маленькими глазками.
— Может, и пустое… — устало ответил он. Чиж начал страшно смеяться.
— Это великолепно, доктор! До того, чтобы пре… признать себ-бя пустым местом и на том и уп… успокоиться, еще никто не доходил!.. Но только в чем же тогда дело, доктор?.. Я не п-прочь п-признать и пустое место… но что же дальше?..
— Не знаю… — ответил толстый доктор и крепче подхватил Чижа под руку.
Маленький студент ступил шага два, вырвался и чуть не упал. Но, справившись, утвердился, опершись спиной о мокрый забор.
У него был очень жалкий и уж совсем не забавный вид: усы размокли, намокшая шинелька болталась по ветру, лицо было мокро и все в белых и красных пятнах, глаза мутны.
— Не знаю, не знаю… Что это значит, не знаю?.. У каждого человека есть своя точка… Человек без точки жить не может!
— Очевидно, может… живут же! — равнодушно возразил доктор.
— Живут?.. Не живут, а смердят!.. И это нелепо!.. Вы воздух отравляете!.. Около вас и живой задохнется!.. Я задыхаюсь здесь, доктор! Разве это жизнь? — ухватившись за руку доктора, плачущим голосом завопил маленький студент. Кто говорит, что это жизнь?.. Денег нет, доктор, табака нет… Вот напился… Это уже конец» доктор!.. Я чувствую, что мне конец!.. Засосало!..
— Ну, что там! — ободрял доктор.
Они медленно подвигались в темноте, скользя на узких мостках. Ветер рвал и метал. Бешеные тучи клубами мчались над мокрыми крышами и черными деревьями, размахивающими во все стороны корявыми мокрыми ветвями. Чиж ежеминутно съезжал в грязь. На углу он чуть не упал опять, и доктор насилу удержал его на ногах. Он приставил маленького студента, как вещь, к забору, поднял слетевшую в грязь фуражку и, не вытирая, криво надел на мокрую голову. Чиж даже не заметил этого.
— А все-таки у меня есть вера, доктор!.. — кричал он, тщетно стараясь оторваться от забора. — Пусть я пропал… пусть мне конец тут… пусть я сопьюсь совсем, а все-таки я верю! Верю, доктор!.. Во что бы то ни стало верю! Я в человечество верю, доктор!.. В народ!.. В прол… пролетариат!.. Вперед, подымайся, рабочий народ! — фальшиво заорал маленький студент. — Будущее принадлежит народу, доктор!.. Я пролетарий, доктор, я — бедный, нищий Чиж, никому не нужный Чиж… но этот Чиж верит, доктор!.. Твердо верит! Верю!.. Отречемся от старого мира!.. Давайте споем, доктор!.. Отречемся от ста-арого ми-ира… Пойте, доктор!
— Идем лучше спать, — старался увести его доктор Арнольди.
— Куда?
— Домой.
— Домой?.. У меня нет дома, доктор!.. Отречемся от старого мира-а, отрясем его прах с наших ног… Доктор, а я вас все-таки…
Дирижировавший невидимым хором Чиж вдруг выскользнул из рук доктора, сделал какое-то нелепое па, поскользнулся обеими ногами вперед и сочно сел в грязь.
Доктор Арнольди с трудом поднял его, опять надел фуражку, окончательно мокрую и грязную.
— Ну, будет, идем!
Чиж посмотрел, как бы протрезвившись, замолчал и, усиленно сопя, как-то боком, потому что доктор слишком высоко держал его под руку, зашагал дальше.
— А здорово я пьян! — наивно, добродушно и жалко вместе сказал он спустя некоторое время. — Ну, и наплевать! Погибать, так с музыкой, доктор!.. Правильно?
— Правильно, правильно! устало согласился доктор Арнольди.
Потому что все равно, доктор… все равно!.. Разве это жизнь?.. Разве я человек?.. Погибаю, доктор… конец…
И Чиж вдруг заплакал, спотыкаясь, скользя и размахивая руками.
XXXII
На другой день он проснулся поздно.
В комнате было серо, сыро и холодно. Темный, суровый день с низким свинцовым небом стоял над землей.
У маленького студента болела голова, язык колом стоял во рту, ноги и руки тряслись от слабости, а в душе было сознание какого-то непоправимого позора.
Он старался припомнить, что именно произошло вчера, но не мог.
Сначала они сидели с доктором Арнольди в полутемной пустой столовой клуба, пили и разговаривали и были как будто совершенно трезвы, но потом вдруг зажглись огни, очень желтые и расплывчатые, появились какие-то люди, лиц которых он не мог рассмотреть, но знал, что все это — очень симпатичные, милые и любящие его, Чижа, люди. С кем-то он чокался и целовался, помнил какую-то большую мокрую бороду, от которой пахло водкой и селедкой, потом была какая-то ссора, кого-то он вызывал на дуэль, кто-то держал его за руку, а он вырывался и кричал… Потом на некоторое время все провалилось в какую-то черную дыру, а потом они опять вдвоем с доктором Арнольди под руку шли по улице, и он пел, объяснялся доктору в любви, лез целоваться, падал и плакал…
А еще самое ужасное, но в чем Чиж не был уверен, было то, что, кажется, он выпил на «ты» с приставом и уверял его, что перевернет ему всю душу, и он, пристав, пойдет впереди восставшего народа. Кажется, пристав поддерживал его под руку, со всем соглашался и все уговаривал идти домой.
Все это было безобразно, глупо и жалко. Чижу казалось, что теперь весь город только и говорит об этом. Он успокаивал себя тем, что все это — пустяки, что кто же не бывал пьян еще безобразнее и что через день все это забудут, но чувства стыда и отвращения были невыносимы.
На столе было два письма. Чиж, превозмогая слабость, разорвал конверты и пытался прочесть, но буквы мелькали и прыгали перед глазами, а тошнота и головокружение с резкой колющей болью в висках так усилились, что он бросил письма и в изнеможении прилег на диван. И сейчас же он медленно поплыл под ним, а за ним тронулись стены, и потолок все скорее и скорее закружился на одном месте…
Чиж, держась за голову, встал и сел у окна, не зная, куда девать себя от боли, тошноты и тоски. Беспредметная злоба охватывала его до такой силы, что он готов был удариться головой об пол. Но каждое движение вызывало мучительный укол в висок, от которого темнело в глазах, и маленький студент поневоле старался не шевелиться и даже не дышать.
«Фу… никогда в жизни не буду больше пить!..» — с отчаянием думал он.
Пришла угрюмая баба-кухарка и принесла кипящий самовар. Клубы горячего пара столбом подымались к потолку, и оттого стало как будто еще хуже, голова закружилась сильнее, рвота стала подступать к самому горлу, жгучая и отвратительная.
— Господи, что же это такое! — в муке бормотал Чиж, сдавливая себе виски обеими руками.
И ему казалось, что он страшно одинок, заброшен и забыт. Хотелось, чтобы кто-нибудь пришел, пожалел его. Кое-как он заварил чай. Горячая терпкая влага сначала как будто облегчила его — по крайней мере противный вкус во рту пропал, — но зато начало биться и тяжелеть сердце.
— Фу-у, да что же такое! — чуть не со слезами, в полном отчаянии покачал головой Чиж и едва не вскрикнул, так кольнуло в висок.
Ему пришло в голову, что, если бы напиться чего-нибудь кислого, стало бы легче. Маленький студент постучал в стену.
— Анна Васильевна!.. Нет ли у вас лимона, Христа ради?
— Сейчас.
Чижу было слышно, как возилась хозяйка за стеной, хлопала дверцей шкапа и стучала ножом по тарелке. Головная боль все усиливалась, и по временам становилось совсем дурно. Ему казалось, что никогда не принесут лимона, и от болезненного нетерпения хотелось плакать.
Наконец появилась хозяйка с блюдечком, на котором лежал нарезанный большой желтый кислый лимон.
Здравствуйте, Кирилл Дмитриевич! Вот вам и лимон.
— Спасибо, только зачем так много? Мне один кусочек.
Сильно припудренное, с уже отяжелевшим подбородком и кудряшками на лбу, лицо хозяйки улыбалось игриво и лукаво.
— Ничего, кушайте на здоровье!.. Как это вы вчера так… и не стыдно?
— Что ж тут стыдного? — с неестественным форсом, стараясь не глядеть, возразил Чиж и схватился за висок.
— Вам нехорошо? Голова болит?.. Бедненький! — сказала Анна Васильевна с кокетливым участием. — Хотите, я вам компресс положу?
— Ну, вот… не стоит! И так пройдет! Нет, нет, я сейчас!
Она торопливо ушла, размахивая розовыми лентами капота и покачивая полным большим телом.
Чиж выпил два стакана чаю с лимоном, и ему стало в самом деле лучше. И на душе потеплело, что все-таки он не совсем один.
«В сущности говоря, добрая баба!» подумал он, забывая, как она злила его постоянным кокетством и вечно полуобнаженными сорокалетними прелестями.
Хозяйка скоро вернулась. Она принесла полотенце, намоченное в уксусе, и маленький графин водки.
— Это зачем? — воскликнул Чиж, всем телом содрогнувшись при виде водки.
— Ничего, ничего, вот вы выпейте, это очень помогает. Мой покойный муж всегда так делал.
Она почти силой заставила Чижа выпить. Маленький студент от боли потерял всякую волю и всецело подчинился ее заботам. Даже приятно было, что она так ухаживает за ним. Он давно отвык от ласки и участия.
Когда Чиж поднес рюмку ко рту, у него сделалась такая судорога во всех внутренностях, что в глазах потемнело и лицо покрылось зеленью.
— Ничего, ничего! — ласково подбадривала Анна Васильевна и подталкивала рюмку.
Чиж едва не поперхнулся, но сейчас же приятная теплота охватила желудок и истомой прошла по всему телу.
— Ну, еще рюмочку… вот так!
Казалось уже совершенно невозможным проглотить вторую, но, к удивлению Чижа, она прошла свободно, а дрожь утихла, и колющая в виски боль как будто отупела.
— Ну, вот, а вы не хотели!.. Ведь легче же? — заботливо и уже без всякого кокетства спрашивала Анна Васильевна.
Чиж улыбнулся.
— Да, легче!
— Ну, вот… Вы всегда меня слушайтесь!.. А теперь вы лягте, я вам компресс положу. Маленький студент сконфузился.
— Да вы дайте… я сам…
— Нет, нет! Не церемоньтесь, пожалуйста! Ну, вот…
Чиж, застенчиво улыбаясь, прилег на кровать. Анна Васильевна села рядом и, ловко наложив холодное, пахнувшее уксусом полотенце, плотно пригладила его обеими руками ко лбу маленького студента.
Снизу Чижу почти до плеч, еще круглых и нежных, были видны ее полные розовые руки в широких рукавах капота. Пахло от нее духами, пудрой и еще чем-то, от чего маленькому студенту стало и немножко противно, и приятно.
Под холодным компрессом головная боль стихла; по всему телу распространялась истома облегчения.
Анна Васильевна сидела рядом и по временам заботливо приглаживала полотенце. Чиж неловко улыбался ей и невольно мельком заглядывал в широкие рукава, где мягко изгибались линии полных рук и мерещились темные пятна под мышками.
Она сидела очень близко, и маленький студент бедром чувствовал теплоту и мягкость ее тела.
— И где это вы так? — спрашивала она укоризненно, тем тоном, которым опытные взрослые женщина говорят с нравящимися им молодыми людьми.
— Да так… Зашел в клуб… там доктор Арнольди… сначала выпили немного, а потом черт его знает…
— И с чего это вы?
— Да скучно, Анна Васильевна!
— Это потому, что вы всегда один да один!.. Конечно, почему иногда и не покутить, но… вы не сердитесь, что я так говорю: я ведь вам в матери гожусь…
— Ну, уж и в матери! — с неловкой любезностью возразил маленький студент, и взгляд его опять невольно скользнул по обнаженным рукам.
«Тьфу, какие я пошлости говорю!» — брезгливо подумал он, но почувствовал какое-то странное приятное волнение.
«А она, ей-Богу, еще недурна!..»
Анна Васильевна засмеялась и погрозила ему пальцем. Стало стыдно, но вместе с тем мелькнула и циничная волнующая мысль:
«А почему и нет?..»
Конечно, в матери! — повторила она, и Чижу показалось, что ее теплое мягкое, уже не упругое бедро тяжелее прижалось к нему. — А вы знаете, раз выпьешь, другой…
— Вы боитесь, чтобы я пьяницей не сделался? — засмеялся Чиж, почти бессознательно впитывая в себя дразнящую теплоту женского тела.
Анна Васильевна слегка покраснела и сразу стала моложе и красивее.
— Нет, право!.. А мне вас жаль. Вы всегда такой одинокий… Я тоже одинокая, но я старуха, а вы молодой человек. Вам нужна ласка, участие…
И в голосе ее в самом деле прозвучала теплая нотка. Маленький студент с благодарностью посмотрел на нес.
— Вы сегодня ужасно милая, Анна Васильевна!
— Право? — игриво спросила она и нагнулась над ним низко-низко.
В ее темных всезнающих глазах, чуть прищурившихся, мелькнул какой-то опасный огонек.
— Ей-Богу! — дрогнувшим голосом сказал Чиж и неожиданно для самого себя прибавил: — Мне вас даже поцеловать хочется!
На мгновение их взгляды встретились, и что-то откровенное и наглое передалось из глаз в глаза.
— Ну, лежите, лежите! — сказала Анна Васильевна и тотчас же встала, как бы испугавшись чего-то.
Еще за минуту перед тем Чижу было неловко от ее близости, а теперь вдруг стало как-то физически жаль и досадно, что она встала.
— Уходите? — неловко спросил он.
— Вам заснуть надо… ведь вы же нездоровы! — засмеялась она не глядя и чуть-чуть потянулась всем своим полным, выпуклым телом.
У Чижа мелькнуло желание схватить се за талию и просто грубо и открыто притянуть к себе на кровать, но мгновенное представление о толстом, расплывшемся теле удержало его со смутным отвращением.
Анна Васильевна постояла, поправила волосы и ушла, сказав на прощанье как-то загадочно и нагло:
— Ну, поправляйтесь скорее… я к вам еще приду!
ХХХIII
Был не светлый, сухой, пахнущий морозом и близким снегом последний день осени. Жесткий ветер порывисто гнул черные голые ветви в опустелых садах и кучами сдувал на дорожках желтые листья. Грязь на улицах сразу замерзла, и по твердым, точно железным, колеям, звенящим под ногами, неслась и кружилась тонкая пыль. Иногда небо темнело, опускалось ниже, и чуть заметные снежинки начинали мелькать в воздухе.
Маленький студент со встрепанным хохолком на лбу и мутными глазами, в самом деле похожий на больного чижика, сидел у себя на кровати и тупо смотрел в одну точку на полу, где лежала погнутая, с приставшими волосами женская шпилька.
Теперь он уже знал, что все кончено, и та большая красивая жизнь, о которой он так долго и страстно мечтал, навсегда ушла от него.
— Кончено!
Как это случилось, он не мог понять.
Был он пьян, пьян безобразно и пошло; опустился до того, что падал на улицах, пел и целовался с какими-то чиновниками из полицейского правления; потом было жестокое похмелье и невыносимое сознание полного одиночества…
Никого из тех, кого он знал и сколько-нибудь считал за людей, не осталось кругом. Что-то смутное и страшное пронеслось над городом и унесло всех, как будто и не были никогда. Как в тумане, вспоминались ему лица корнета Краузе, Наумова, Лизы, Михайлова… Опустившийся и пьяный старый доктор Арнольди один остался с ним и бессмысленно бормотал:
— Я и так уже давно умер!..
А кругом какие-то мещане, купцы, попы, офицеры и чиновники служили, играли в карты, пили, женились и плодили детей, чтобы выросли эти дети и стали такими же купцами, мещанами, чиновниками и офицерами и так же служили, пьянствовали и плодились без конца и смысла.
Доктор Арнольди прав: он давно умер, хотя еще ходит, говорит и чувствует. Но он сознал, что умер, а тысячи тысяч шевелятся вокруг всего земного шара, как черви вокруг падали, и не сознают, что они ходячие трупы, в злобной иронии кем-то выпущенные гулять по свету, пока их не зароют в могилы.
И среди этих бледных мертвецов зачем-то бегал, суетился он, маленький студент Чиж. Он во что-то верил, во имя чего-то страдал и горячился… Впрочем, он и теперь верит! Не известно во что, но верит! С тоской, с мучительной болью, безнадежно верит!.. Только теперь он уже оторвался от того, во что верит, опустился на дно и медленно погружается все глубже и глубже… В сущности, он уже давно чувствовал, что все кончено, но обманывал себя, барахтаясь и руками, и ногами.
Да, дорога человечества широка и бесконечна, но каждый маленький человечек идет по ней два шага, а потом отстает и теряется где-то позади навсегда и бесследно. Великие вожди, пророки и учителя, их память провожает неудержимо катящее вперед человеческое стадо, пока тысячелетия не сотрут ее и не покроют пылью времен. А маленькие Чижы торопливо бегут к своей неглубокой могиле и сваливаются в нее, сами не заметив этого. С тихим, никому не слышным шелестом, точно мертвые муравьи, сметаемые чьей-то равнодушной громадной рукой, сыплются они и сыплются в яму, а их засыпают землей, и новые дороги проводят над ними, даже не думая о том, что вся пыль на этих дорогах состоит из их когда-то бившихся, страдавших и надеявшихся сердец.
Неизбежен конец, и тщетно барахтается на краю ямы маленький Чиж, не замечая, как бесполезны и совершенно смешны его усилия. И если он перестанет барахтаться, как заметенная метлой, запыленная и ослепленная муха, ничего не изменится для него.
И вот он устал, перестал барахтаться и опустился на дно бессмысленного прозябания, пьянства, пошлости и грязной связи с толстой, старой, глупой бабой.
«Как это случилось?» — в сотый раз спрашивал себя маленький студент.
Он был одинок, и захотелось ему хоть крошечный кусочек личного счастья, захотелось, чтобы хоть кто-нибудь приласкал и пожалел его. Никого не было кругом, никому не было дела до него, а она показалась такой простой и доброй.
В тот день, проснувшись после похмельного сна, он пошел бродить по городу. Везде было пусто, сумерки глухо затягивали грязные улицы, убогие домишки, мокрые заборы и огороды. Зашел он в клуб, но никого не нашел там. Одинокий и тоскующий, побрел он к доктору Арнольди, но не застал его дома. И тут встретился ему тот самый пристав, с которым он спьяну выпил на «ты».
Чиж хотел притвориться, что не заметил его, но пристав остановился, стал громко хохотать, острить и звать к себе. Оба изо всех сил старались избегать личных местоимений. Чижу было неловко, и потому он позволил затащить себя к приставу, где в компании каких-то пьяных чиновников напился опять. Чиновники оглушительно хохотали, глупо острили, делали отвратительные циничные намеки на его хозяйку, пристав хлопал его по плечу, говорил: «Свинья ты!..» Сначала Чижа коробило невыносимо, но по мере того, как начинало шуметь в голове, чиновники казались все более славными парнями, пристав — душой-человеком, их грязные сальности — остроумными, и под конец Чиж сам говорил пошлости, целовался, пел и хохотал…
Вернулся он поздно, почти ночью. Хозяйка уже спала, но встала отворить ему дверь, накинув на голые плечи большой платок. Возбужденный Чиж стал шутить с нею, говорить двусмысленности, просить снять платок. Водка, близость наготы, запах разогретой сном женщины, ее взвизгивания и короткий нервный смешок ударили ему в голову.
Был момент, когда маленький студент на минуту опомнился и с отвращением увидел себя, маленького, щупленького, пьяного, возбужденного, и ее, циничную полуголую большую толстую бабу. Но какое-то странное отчаяние, похожее на злобу, охватило его. «А, все равно!» — мелькнуло у него в голове. Была скверная, циничная возня, и вдруг как-то она очутилась в его комнате…
«О, мерзость!» — ныло в душе маленького студента.
Наутро он боялся выйти из своей комнаты, но она сама пришла к нему, развязная и наглая, улыбаясь откровенно и сластолюбиво. Прислуги не было, маленький сын ее, гимназистик, громко зубрил что-то в соседней комнате. С ужасом и потрясающим отвращением Чиж вспоминал, как мальчишка, соскучившись, неожиданно отворил дверь и как она, растерзанная, выскочила ему навстречу, вытолкала и захлопнула дверь.
Потом был уже семейный обед, за которым она подкладывала ему лучшие куски, называла Кирюша, жаловалась на сына, сидевшего, уткнув нос в тарелку, и просила Чижа взять мальчишку в руки.
После обеда маленький студент ушел к себе, заперся, забился в угол кровати и сидел в мертвом тупом забытьи, с бессознательным животным ужасом глядя на ее потерянную возле кровати погнутую грязную шпильку.
Понемногу сгущались сумерки, тени ползли по комнате, потухали красные полосы на горизонте, на котором жестко и черно рисовались силуэты голого сада.
Чиж сидел в запертой комнате, бледный, худой, маленький, со встрепанным хохолком на лбу, похожий на больного чижика.
Тупо и медленно ползли его мысли, и ничего, кроме мертвого отчаяния, не было в душе.
Если бы можно было передать словами то, что было в его душе и мыслях, оно звучало бы так:
«Хорошо, я верю, верю, что жизнь прекрасна и велика, но не для меня!.. Со мной все кончено: никогда уже мне не выбраться отсюда, у меня уже нет ни сил, ни желания бороться. Я должен спускаться все ниже и ниже… если может быть что-нибудь ниже того, что уже есть!.. Пусть, живите, будьте счастливы, пусть вам откроются неведомые горизонты свободного, прекрасного человеческого бытия!.. Но я пропал!.. Я чувствую, как затихают мои мысли, как мельчает и пошлеет душа!.. Я не виноват в этом: я боролся, верил, мечтал и других побуждал верить!.. У меня не хватило сил!.. Но кто же виноват, что мне не дали этих сил?.. Я маленький, несчастный, обиженный судьбою и людьми человечек!.. Я пал, и мне уже никогда не подняться!.. Пусть же будет прекрасна жизнь и счастливы люди… из грязной лужи, погибая, я протяну руку и благословлю путь тех, грядущих счастливых людей, которые и не вспомнят обо мне!»
Время шло, тьма окутывала землю, а Чиж все сидел и уже не думал, а только чувствовал, как с головой погружается в мертвое, безнадежное отчаяние. Несколько раз стучалась к нему хозяйка и звала:
— Кирилл Дмитриевич! Кирюша!.. Отворите!.. Чего вы заперлись!
Но маленький студент только глубже забивался в угол кровати и отвечал:
— Мне нездоровится… я спать буду…
Наступила ночь. В комнате было темно и страшно, слышалось, как за стеной шумит ветер, хлеща по стеклам сухими снежинками. К утру пошел настоящий снег, и завыла первая зимняя метель.
Синенький свет проник в комнату и бледными глазами робко осматривал все ее углы. Метель утихла, земля была покрыта снегом, все было ровно, бело и чисто. Опушенные белыми сугробами, неподвижно стояли деревья в саду. В комнате Чижа было тихо и пусто. Голые стены смотрели холодно и сурово, и жуткая тишина стояла среди них.
Маленький студент висел на вешалке рядом со своей коротенькой шинелью. Пара маленьких калош, старых и рваных, стояла на полу возле.





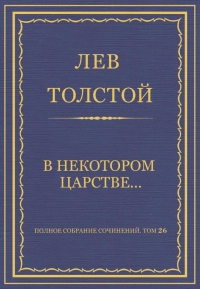
Комментарии к книге «У последней черты», Михаил Петрович Арцыбашев
Всего 0 комментариев