Она не покупается золотом и не приобретается она на вес серебра.
Иов, XVI
Между темным небом и морем, как дымка, стоял ровный свет луны, кругло и ясно вставшей над горизонтом. На деревьях сада, точно рой откуда-то налетевших огненных колибри, качались и прыгали на невидимых проволоках маленькие разноцветные фонарики. С нелепо освещенной эстрады, где черный паяц-капельмейстер, потешно взмахивая руками и фалдочками, порывался куда-то взлететь, разлетались во все стороны отчеканенные скрипичные звуки, взвизгивали, смеялись и пели, легкими узорными хороводами вылетая из-под темных деревьев на открытый, завороженный лунным светом морской берег. Там танцевали они перед лицом светлой луны, как легкие эльфы, незримые и таинственные в своей призрачной минутной жизни.
Скрестив мощные руки на холодном мраморе столика, Мижуев молча и угрюмо посматривал по сторонам.
Когда он взглядывал на эстраду, все казалось ему суетливо мелким и бестолково шумным, а когда поворачивался в сторону моря, становилось величаво спокойно, задумчиво свободно, как сама высокая светлая луна.
Крутая русая борода его и массивные плечи возбуждали представление о страшной силе и твердой воле, но глаза Мижуева были нездоровые, углубленные, какие бывают у обреченных на смерть.
За соседним столиком кутила компания господ в белых шляпах, ухарски проломленных на боку, и нарядных дам, с резко красивыми лицами и неестественными, подрисованными глазами. Все они громко смеялись, чокались узенькими, как стрекозы, рюмочками, и не переставая острили, при каждой остроте повышая голоса и оглядываясь на Мижуева, причем и у мужчин, и у женщин было мелькающее, выжидательно ищущее выражение. А неподалеку, склонившись вперед, точно нежа под мышками свои белые салфетки, стояли лакеи и не спускали глаз с Мижуева, как будто собирались но первому его знаку бежать и стремглав бросаться в море.
Мижуев и видел все, и не замечал. Когда-то это забавляло его, но теперь было только докучно и так привычно, как воздух, от которого не уйдешь и уходить не надо.
— Теодор, отчего ты такой скучный сегодня? — спрашивала его Мария Сергеевна, робко дотрагиваясь пальчиком до крутого локтя.
На ней было вызывающее красивое платье, чуть-чуть открывающее ноги, а на темных пышных волосах качались нежно-розовые цветы шляпы, грустно гармонировавшие с ее подрумяненными щеками, печально мерцающими глазами и страстно окрашенными губами.
Мижуев медленно, как больной вол, повернул к ней свою упрямую голову и промолчал.
Она была так же возбуждающе красива, как и прежде, и так же сквозь черное кружево светилось ее необыкновенно выхоленное тело. При взгляде на нее у всякого мужчины рождалось острое и требовательное представление о каких-то невозможных сказочных наслаждениях. Но то, что она утратила свое прежнее имя — Марии Сергеевны — и стала называться Мэри, и то, что перестала называть его Федей и вы, а стала звать Теодором и ты, и то, что она бросила любимого мужа и стала жить с Мижуевым, убило в нем бывшую еще так недавно благоговейную страсть и возбуждало по временам холодную необъяснимую злобу.
Даже тогда, когда, возбужденный ее голым покорным телом, уже робко просящим ласки, Мижуев целовал и мял ее со звериной жестокостью, он уже не чувствовал былой радости, а испытывал только плоское жестокое удовольствие, придумывая неестественные положения, делая больно и унизительно.
Казалось, что он мстил ей за что-то, и видно было, что сам страдал какой-то невысказываемой мукой.
И Мария Сергеевна понимала, отчего это, и потому у нее стали печальны и робки глаза, как будто не смевшие молить о пощаде.
— Пойдем, — коротко сказал Мижуев, поймав остро любопытные взгляды в их сторону, и встал.
Она тотчас же торопливо поднялась и пошла с ним рядом, по всегдашней своей милой неловкости, которая когда-то до слез умиляла Мижуева, путаясь в кружевах юбки, теряя то платок, то сумочку и забавно пугаясь этого.
Они вышли на берег, где властвовали темное море да светлая луна, и на самом конце мостков сели на скамью.
Впереди и с боков, со всех сторон было море, и блестящая вода бурно крутила лунный столб. Какая-то бесконечная мелодия-шум, плеск и глухие удары о мол, — среди которой все время что-то звенело тоненьким хрустальным и слышным, и как будто неслышным голоском, непрестанно тянулась над безбрежным движущимся простором и трогала таинственные грустные струны, будя воспоминания и безотчетное отчаяние в самой глубине души. Порой налетал упругий ветер, и тогда невидимые брызги, заставляя вздрагивать, покрывали лицо и руки мелкой холодной пылью.
Мижуев смотрел на лунный столб, крутящийся в металлически темной воде, и молчал. Как всегда, когда он ночью смотрел в глубину, какое-то тоскливое чувство чуть-чуть шевелилось в нем. Было оно еле заметно и трудно уловимо, но за ним вдруг забывалось все, что окружало его. И становилось пусто и темно.
— Я хотела поговорить с тобою, Теодор, — заговорила Мария Сергеевна, и с первого слова было слышно, что она боится, как бы он не рассердился, даже не выслушав ее.
Мижуев молчал, и казалось, что он не слыхал ее слабого голоса за шумом и плеском прокатившейся под мостками волны. Далеко, пока видно было при луне, легла вдоль берега белая полоса пены и растаяла, как снег, а за ней уже надвигалась, бурля и вырастая, новая волна.
Мария Сергеевна полными никому не видных слез глазами посмотрела на Мижуева и, судорожно рванув платок, встала.
— Это невыносимо! — сдавленным слабым голосом сказала она, чувствуя, что вся дрожит и от унижения, и от холодного ветра. — За что ты меня мучаешь?
Мижуев упорно, не глядя на нее, пожал широкими плечами…
Мария Сергеевна замолчала, продолжая рвать свой платок и дрожа всем телом, казавшимся удивительно слабым и изящным на фоне огромного волнующегося простора.
— Я не могу больше… — заговорила она быстро, все возвышая голос. — Ты не имеешь права презирать меня!.. Не имеешь права мучить и унижать!.. Если я и не устояла перед твоими миллионами, как ты говоришь…
— Я этого никогда не говорил! — угрюмо возразил Мижуев, упрямо глядя в лунный столб, сверкающий в волнах миллиардами прыгающих голубых звезд и сливающийся на горизонте в таинственное светлое, резко отрезанное от темного неба сказочное царство.
Опять Мария Сергеевна внезапно замолчала, сбитая и раздавленная мучительным недоумением. Все существо ее знало, что он постоянно говорил это, а между тем память не могла подсказать ни одного похожего слова. И она только чувствовала, что погибает в холодном, пустом и неотвратимом, где она — такая слабая и беспомощная, что — даже не знает, что сказать, как защищаться и против чего.
— Но ты так думаешь… я знаю… А если это даже и так, то ведь… Ты сам хотел этого… Ну, пусть, пусть! — схватившись обеими руками за виски, с отчаянием заговорила Мария Сергеевна. — Но какою ценою я заплатила за эти миллионы! Они у меня душу отняли… я научилась презирать себя, как последнюю тварь… и что-нибудь одно: или… Как хочешь, но я не могу больше, не могу. Я…
Она опять потеряла слова и только отчаянным, бессильным взглядом оглянулась на темную страшную воду. Руки ее шевелились, и губы дрожали.
— Если ты сама презираешь себя, как последнюю тварь, то как же мне относиться к тебе? — вдруг неожиданно спросил Мижуев, не спуская блестящих глаз с воды.
— А! — потерянно вскрикнула Мария Сергеевна и, упустив сумочку и платок, которые сейчас же снесло в море, закрыла лицо руками и быстро пошла прочь, почти побежала, путаясь в длинном, подхваченном ветром платье. Тоненькая женская фигура неверно заколыхалась в пустом ветреном пространстве, над темной, неустанно катящейся на берег водой.
Мижуев проводил глазами маленький белый кусочек материи, который высоко поднялся над гребнем вспененной волны и вдруг сразу исчез во мраке упавшей холодной бездны.
Что-то теплое шевельнулось у него в душе, и, не выражая его словами даже самому себе, Мижуев встал и быстро догнал Марию Сергеевну.
Маленькие покатые плечи ее были сжаты и над ними смутно белел тонкий наклон бледной от лунного света шеи. Услышав его шаги, она сейчас же остановилась, но не подняла головы и стояла по-прежнему, закрыв лицо руками и опустив большую светлую шляпу. Такая маленькая, изящная и жалкая до слез.
— Ну, полно, Мэ… руся… — путая ее прежнее и теперешнее имена, с мгновенно выросшей жгуче-жалостливой лаской, сказал Мижуев и обнял ее за плечи. — Прости меня… Я не хотел тебя обидеть!
Он ждал, что она капризно оттолкнет его, вырвет руки, станет чужой и холодной, и страшно боялся этого. Ему показалось, что тогда он станет совсем одиноким. Но она только прижалась головой к его груди и робко подняла лицо навстречу его губам, беспокойно и вопросительно глядя большими от лунного света и слез глазами. И в мокрых глазах, и в уголках страдальчески улыбающихся губ Мижуев увидел покорное, обрадованно прощающее выражение, какое бывает у побитых и потом приласканных маленьких зверьков и детей.
И мгновенное чувство приятной ему самому теплоты и жалости исчезло, как не бывшее, оставив холодок досады и нарастающего раздражения. Он холодно поцеловал ее в теплые и влажные губы и, слегка отстраняясь, сказал:
— Не капризничай, пожалуйста… Это скучно, наконец… Чего ты хочешь… не понимаю!..
Он помолчал, упрямо глядя в сторону, и прибавил:
— Пора домой!
Как бы желая сказать: прости… может быть, я и не права, не знаю… мне показалось, что меня не любишь и презираешь, а это так невыносимо… она растерянно улыбнулась и заторопилась. Они пошли рядом молча. Белая холодная луна и непрестанно шумящее море остались позади, а навстречу уже летел рой танцующих звуков. И что-то по-прежнему стояло между ними.
Когда они ехали домой, Мижуев ногою ощущал прикосновения ее упругого тела, ускользающего за сухой жесткой материей, видел тонкий, точно нарисованный бледными красками профиль женской головы, понурившейся в какой-то непосильной думе, и спрашивал себя:
— Что же встало между ними — человеком, который столько лет молился на нее, боясь даже думать о ее наготе и ласках, и милой, прекрасной женщиной, которая так любила своего тихого мужа, так просто, точно старшая сестра, относилась к нему самому, и казалась такой целомудренно чистой, несмотря на то, что была замужем.
II
В ярком солнце золотились берега, и даже море, пенисто-зеленое у набережной и синее, почти лиловое, вдали, казалось, покрыто золотистым блеском. Солнцем и небом дышали дальние горы, и загородные дачи белели по их зеленым скатам, точно разбросанные в траве игрушки.
Яркая курортная толпа, как ручей, огибая полукруглый сквер, двигалась по набережной и текла так изменчиво-пестро, что нельзя было уследить, откуда идут все эти светлые платья, шляпы, ноги, плечи и лица с оживленными глазами. Казалось, что толпа сама увеличивается и растет, точно быстро разрастающаяся гряда живых цветов. Пестрый говор, смех и шорох ярко сплетались над нею и с шумом набегающих на камни волн, быстрым гулом экипажей и четким стуком копыт сливались в одну разноцветную нарядную музыку.
Мария Сергеевна и Мижуев в легкой ялтинской коляске прокатили по набережной, и белый газ, развевающийся на шляпе Марии Сергеевны, быстро замелькал среди лошадиных голов, чинных кучеров и разбегающейся вереницы зонтиков и шляп.
У магазина, за зеркальными стеклами которого, словно нездешние птицы и цветы, пестрели причудливые женские шляпы, коляска мгновенно остановилась, как будто с размаху уткнувшись в невидимое упругое препятствие. Мария Сергеевна, легкая и быстрая, точно ее сдунуло ветром, перелетела с подножки экипажа прямо в темную прохладную дверь магазина.
Мижуев тяжело, не глядя по сторонам, сошел на тротуар и поднялся за ней.
Услужливо картавя, шаркая подошвами и улыбаясь ожившими лицами, со всех сторон набежали на Марию Сергеевну приказчики и продавщицы. И одну минуту казалось, что это-кучка приветливых, веселых людей, радостно окружавших давно жданную, милую подругу. Перевороченные каким-то вихрем, мгновенно раскрылись десятки картонов, и синие, красные, пестрые ленты пересыпали кучу белых шляп, как цветы на снегу.
Только что вышли простенькие матерчатые шляпки «бэбэ» — милая простота веселящейся роскоши — и Марии Сергеевне непременно захотелось купить такую же. Ей казалось, что в этой простенькой шляпке она будет похожа на шаловливую грациозную девочку. — Продавщицы преувеличенно щебетали, приказчики картавили, чтобы походить на французов, в раскрытые двери магазина врывались гудящие звуки и солнечные краски, а Мария Сергеевна, как ребенок, радуясь игре цветов и фасонов, блестела глазами, отказывалась, колебалась, смеялась и все время была в движении, то рассматривая себя во весь рост в большом, то изгибаясь всем телом, чтобы увидеть свой профиль в маленьком зеркале. И в каждой новой шляпке, и с синей, и с красной, и с пестрой лентой на черных волосах ее матово-розовое личико казалось все лучше и моложе.
А Мижуев, отделяясь от шумливой кучки, черным пятном неподвижно сидел возле прилавка и, поставив перед собой палку, грузно сложил на ней массивные руки. Он смотрел сонно, как невыспавшийся больной человек, которому уже не видно и не слышно ни солнца, ни смеха, ни женской красоты — ничего, кроме того медленного и молчаливо-зловещего, что неуклонно и неотступно, шаг за шагом, разрушает жизнь внутри его.
По временам он останавливал свои тяжелые глаза на хорошеньком возбужденном личике Марии Сергеевны и сейчас же отводил их, упираясь неподвижным взглядом в первый попавшийся предмет, в угол прилавка, в пустую картонку, лаковый ботинок приказчика или худые лопатки продавщицы, наивно торчащие из-под кокетливой шелковой кофточки.
— Теодор, посмотри, — я возьму эту… Эта мне, кажется, идет?.. Или лучше эту?.. Как ты думаешь, посоветуй? — спрашивала Мария Сергеевна, и легкое беспокойство мелькало у нее в голосе и глазах. Ей было легко и весело; вчерашняя безобразная сцена кончилась страстным примирением и уже почти улетела из памяти, спугнутая сознанием своей прелести, солнцем, шумом и бросанием денег, к которому Мария Сергеевна до сих пор еще не могла привыкнуть. Мрачный вид Мижуева темнил ее радость и смутно пугал, напоминая, что поцелуи и сладострастные ласки только отодвинули, но не решили и не уничтожили того, что уже вошло в их жизнь.
«Неужели это не конец, и опять будут эти невыносимые, безобразные сцены, после которых не хочется жить?..» — где-то в самом краешке боязливой мысли мелькало у нее.
— Так какую?.. Посоветуй! — спрашивала она, и в голосе ее звучала странная нотка тайной мольбы, точно она просила его о пощаде.
— Возьми все… — думая о другом, равнодушно ответил Мижуев.
Она засмеялась, и все приказчики и продавщицы восхищенно улыбнулись. Кто-то даже заржал от восторга перед этой выходкой миллионера.
Мижуев мрачно окинул взглядом смеющиеся лица и нахмурился. Все стали серьезны, и Мижуев, поймав это мгновенное угодливое превращение лиц, насупился еще больше. Дикое желание, так часто приходившее ему в голову, поднялось в нем: захотелось крикнуть на них, толкнуть кого-нибудь ногой, ударить…
«А!.. Вам нравится все, что я ни скажу?.. Хоро-шо-о…» — загорелись у него в мозгу бешеные слова, но он промолчал, уныло и беспомощно опустив глаза.
— Нет, что ж ты так!.. Ты посоветуй! — кокетливо приставала Мария Сергеевна, и Мижуев почувствовал, что пристает она уже только затем, чтобы никто не заметил того, что с паническим страхом она угадывала в нем.
Тогда стало жаль ее, и это согрело Мижуева. Только еще унылее и бессильнее стало в душе.
— Возьми ту, что с синей лентой… Она больше всего идет тебе, грустно сказал он.
— Разве! — радостно улыбнулась ему Мария Сергеевна.
Она подняла обе руки к голове, и изогнувшаяся спина ее под белой кофточкой вдруг обнаружилась, как голая, мягкая и выпуклая. Тот приказчик, у которого были лаковые ботинки на пуговицах, скользнул по ней робко-похотливым взглядом и вдруг встретился глазами с Мижуевым. Мгновенно он завял, личико его померкло и покрылось жалкой маской угодливости и страха.
«Гад!» — подумал Мижуев, с внезапно вспыхнувшим брезгливым гневом, и тяжело уперся ему в лицо неподвижными глазами.
Приказчик весь съежился и стал как-то тоньше и меньше. Мижуев смотрел, а тот не смел отвести взгляда. Почти целую минуту продолжалась эта странная, жестокая игра, доставлявшая Мижуеву болезненное наслаждение. Видно было, как задрожала коленка приказчика, обтянутая узкими брючками.
«А, впрочем, что ж… — с прежней унылой тоской подумал Мижуев. — Если бы я был приказчиком, а он миллионером, и эта, и другие такие же принадлежали бы ему, а я смотрел бы на них исподтишка, как раб!..» Мижуев отвел глаза. Ему стало противно все: и эта пресмыкающаяся перед ним дрянь, и он сам, похожий на какого-то божка, и эта женщина, вчера оскорбленная грубым словом и готовая броситься в воду, а сегодня опять увлеченная до самозабвения убогой забавой бросания денег.
— Ты скоро?.. Идем… — сказал он, поднимаясь.
— Я готова уже. Я выбрала! — заторопилась Мария Сергеевна. — Вы пришлите эту… нет, нет, вот ту… с голубой! — бросала она, беспокойно оглядываясь на Мижуева, черной массой стоявшего в освещенных дверях.
— Пойдем, посидим в сквере, — сказала она, когда вышли на солнце и со всех сторон охватил их теплый чистый воздух и веселый шум.
— Хорошо, — безразлично согласился Мижуев.
Они уже перешли улицу, лавируя между экипажами, когда кто-то громко окликнул Мижуева.
— Федор Иванович! Подождите!
У тротуара остановился красный, весь блестящий, точно вымытый автомобиль, и из-за трех дам, похожих на букет кружев и цветов, высовывался и махал палевой перчаткой сияющий белоснежный господин.
— Теодор!.. Тебя зовут… Пархоменко… — тронула Мижуева за рукав Мария Сергеевна и за него улыбнулась, кивая головой белоснежному господину.
Пархоменко выскочил из Откинутого кресла и дробно подбежал к Марии Сергеевне, своей белой, пробитой кулаком шляпой высоко отмахнув в воздухе.
— Мария Сергеевна, прелестная!.. А я вас искал по всему городу! кричал он.
— Разве?
Изогнутая ручка Марии Сергеевны кокетливо прижалась к его губам. Она засмеялась. Дамы в автомобиле кивали ей шляпами, сияющий Пархоменко хохотал, загораживая всем дорогу, автомобиль сверкал, все оглядывались на них. Казалось, что весь город, солнце, горы и цветы засветились, засверкали и засмеялись только для них. Чахоточный поп, еле протащивший мимо свою рясу, позеленевшую, словно от тоски, посмотрел большими блестящими глазами и тоскливо стушевался, точно растаял в блеске и веселье толпы.
В это время прошли мимо молодой человек и какие-то дамы, и молодой человек поспешно, точно боясь пропустить что-то животрепещущее, забормотал своим дамам, показывая одними глазами:
— Это Мижуев и Пархоменко — московские миллионеры!..
— Где Мижуев? Который? — любопытно обернулись дамы.
— Тот, что с дамой… Большой… — куда-то весь порываясь, показывал молодой человек, и три пары возбужденно-любопытных женских глаз уставились на Мижуева.
Мижуев слегка отвернулся, но Пархоменко сияюще оглядел дам и сказал:
— А нас тут уже все знают, Федор Иванович…
— Позвольте пройти, — сказал кто-то, и в надтреснутом голосе Мижуев узнал острую ненависть. Он оглянулся и увидел беловолосого бледного человека в синей рубахе под плохоньким пиджаком. Светлые и, очевидно, добрые его глаза смотрели на Пархоменко с какой-то кроткой злобой.
— Позвольте же пройти, — повторил он уже со страданием в голосе.
Пархоменко окинул его быстрым, пренебрежительным взглядом и небрежно подвинулся.
— Мария Сергеевна, поедемте сегодня в Суук-Су… Мы вчера туда и обратно промчались в два часа… Честное слово!.. Замечательно приятно, честное слово!.. Как птицы!.. Поужинаем там и назад!.. При луне это что-то волшебное, честное слово! — кричал он, весь сияя и, очевидно, с ног до головы радуясь своему существованию.
Но Мария Сергеевна отказывалась, шаловливо и лукаво покачивая своей новой: шляпкой, вправду придававшей ей вид грациозной девочки.
— Мы там только позавчера были!
— Да; но на автомобиле это совершенно особое ощущение. По горам! Вы не можете представить себе, как он легко взлетает с горы на гору… Положительно, такое ощущение, как будто летишь во сне… честное слово!
— Ну, хорошо… это потом. А теперь мне надо пройтись… Пойдемте. Море сегодня удивительное!
Три дамы Пархоменко, все пышные, ленивые блондинки, смеясь и как будто играя, высыпали из автомобиля.
— Федор Иванович, а вы что это такой скучный сегодня? — весь сияя, спрашивал Пархоменко.
— Он теперь хандрит все, — как будто виновато ответила за него Мария Сергеевна и скользнула по лицу Мижуева робким взглядом.
— А вы заставьте его купить автомобиль… Сразу расцветет! — хохотал Пархоменко. — Я теперь от всех бед лечусь автомобилем!.. Честное слово — не шарж!
Дамы вчетвером пошли вперед, приковывая к себе общее внимание: Пархоменко, заряжая всех своим сиянием и уверенной шумливостью, забегал сбоку и не давал никому проходу, а Мижуев тяжко шел сзади. И пока они шли, среди толпы, нарядной и жужжащей, как пригретые солнцем пчелы, Мижуев внимательно и длительно всматривался во встречные лица, как будто искал чего-то.
Им опять встретились и чахоточный попик, и беловолосый человек в синей рубашке. Теперь с ним шел какой-то высокий, худой и серьезный господин. Этого Мижуев узнал, а по нем узнал и беловолосого. Один был известный писатель, другой — еще очень молодой, больной чахоткой поэт.
Писатель скользнул сердитыми глазами и отвернулся. Поэт что-то сказал. И в голосе поэта, и в сердитых глазах писателя было нечто насмешливо-враждебное и бесконечно далекое Мижуеву, Пархоменко и их холено-красивым дамам.
То в блеске солнца, то в легкой тени зонтиков пестро мелькали мужские и женские, красивые и безобразные лица. Их живой калейдоскоп, меняясь каждую минуту, плыл навстречу, и Мижуев с привычным болезненным раздражением упрямо следил за его однообразно-странной игрой: он видел, как все эти безразлично-равнодушные человеческие глаза, мельком скользившие по встречным лицам, вдруг останавливались на нем и мгновенно менялись в выражении тупого любопытства. И это было так привычно и однообразно, что порой Мижуеву казалось, будто у всей этой нарядной толпы одно лицо — плоское, назойливое, до смерти надоевшее ему.
Дамы и Пархоменко хохотали, а Мижуев шел сзади, и чувство привычного одиночества неотступно шло с ним. Все хотелось куда-то уйти, туда, где нет ничего и никого, ни людей, ни солнца, ни шума. Там стать и стоять долго-долго, совсем одному.
Сияющий Пархоменко обернулся и что-то сказал. Какую-то глупость, бесцветную по смыслу, но надоедливо странную явной уверенностью, что все сказанное им будет прекрасно и страшно весело.
«Счастливый идиот! — подумал Мижуев, глядя под ноги, и вдруг почувствовал смутную зависть. Если бы перевести ее на слова, получилась бы бессмыслица: — Ах, если бы я был таким идиотом!.. Тогда и я, с автомобилями, миллионами, содержанками, со всеми людьми, которые не видят меня, а иди робеют, или ненавидят, или льнут к тому, что есть вовсе не я, — был бы счастлив, как он».
— А вот и наш генерал! — закричал Пархоменко. — Генерал, идите сюда! Нам без вас скучно!
Старенький генерал, с широкими красными лампасами и сморщенным розовеньким личиком на тоненькой цыплячьей шее, не прикрытой узенькими седыми бачками, поволакивая ножки, подбежал к ним. Он стал целовать ручки дамам, бессильно, по-стариковски, кокетничая и сияя. Видно было, что он ужасно боится, как бы его не прогнали.
Пархоменко радовался, точно ему принесли забавную любимую игрушку.
— Ну, что, генерал, много ли красивых женщин приехало вечерним пароходом? Часто ли трепетало ваше сердце? — хохотал он, вертясь на каблуках перед усевшимися на скамье дамами.
Генерал подобострастно хихикал.
— Вы знаете, Мария Сергеевна, — обратился к ней Пархоменко, и по его румяному лицу видно было, что он приготовляется сказать что-то необыкновенно остроумное, — генерал каждый вечер ходит на пристань высматривать ту неосторожную, которая доверится ему… Он ведь Дон Жуан, каких мало, честное слово — не шарж!
— А, генерал, а я и не знала, что вы такой опасный! — полным, томным голосом протянула одна из блондинок Пархоменко.
— О, вы его не знаете! — захлебывался Пархоменко. — Каждый вечер ходит… Только, к сожалению, эти, злодейки дамы поступают с ним самым невежливым образом: каждый вечер генерал находит им квартиры, таскает вещи, платит за извозчика, а на другой день, — увы! они ходят по саду с каким-нибудь прапорщиком, а генерал опять плетется к пароходу!.. Честное слово — не шарж!
— Ска-ажите! — протянула роскошная блондинка.
— Вы всегда что-нибудь выдумаете, Павел Алексеевич, — розовея, защищался генерал.
— Да, рассказывайте! Выдумываю! А кто вас поймал три дня тому назад в Джалите с гимназисточкой? А?..
— Да, ей-Богу, Павел Алексеевич, правда… это моя дочь Нюрочка! Что вы, ей-Богу… — покраснел генерал.
— Дочь?.. Знаем мы этих дочерей…
— Право же, дочь… Нюрочка!
— Что Нюрочка, это я верю!.. Да… — начал Пархоменко и, вдруг сощурив глазки, приостановился, видимо выдерживая паузу перед особо пикантной остротой. — Да и что вы ничего не можете чувствовать, кроме отцовских чувств, пожалуй, возможно!..
Дамы засмеялись, слегка потупившись, с теми странными, скользящими по губам полуулыбками, в которых мерцает какая-то женская тайна.
Генерал хихикал, но нечто болезненное прошло у него по улыбающемуся личику: как будто его Нюрочку оскорбляло это. На одно мгновение ему даже захотелось повернуться и уйти, но он не посмел и только судорожно захихикал.
— Есто прелестно, есто прелестно… — проговорил он, бегая растерянными глазками.
— Генерал, — вдруг еще больше засиял Пархоменко, — отчего вы говорите «есто», а не это?.. Чтобы смешнее было или у вас зуб со свистом?
— Разве я говорю есто? — покраснел старичок.
— Конечно, есто… Вот скажите: э-то!.. Твердо: э-то!
— А разве не все равно? — попробовал увильнуть генерал.
— Далеко не все равно… Это ужасно смешно!.. Честное слово!.. Ну, вот скажите: э-то!
Старичок смеялся, и старческие щеки его розовели.
— Нет, вы скажите! — приставал Пархоменко.
— Е-сто! — с геройским усилием произнес генерал.
Пархоменко от восторга повернулся на каблуках. Дамы засмеялись. Засмеялась и Мария Сергеевна, высоко подняв свой тонкий профиль.
— Это, это, генерал! — кричал Пархоменко.
Его сияющее лицо было полно наслаждения. Казалось, он хотел сказать: «Ну, старый шут, смешнее… Видишь, мне весело… Ну!»
— Вы, генерал, прирожденный комик… Честное слово! — сквозь смех кричал он.
Старичок генерал растерянно улыбался, и розовенькие щечки его блестели беспомощно.
Марии Сергеевне стало жаль старичка, на которого уже оглядывались гуляющие. Она заговорила с ним ласково и нежно, спросила о здоровье и о дочери, девушке-гимназистке, которую несколько минут тому назад встретила в кучке подруг, таких же молодых и веселых, как она сама. Старичок сейчас же растаял под ее лаской и улыбался уже по-другому, старчески ухаживая за ней, как приласканная дряхлая собачонка.
Но Пархоменко опять стал острить и тормошить его. Мижуев смотрел на них, и ему было противно и жаль старичка. Он хотел было вступиться, но промолчал.
Мимо прошли те же два писателя. Мижуев услыхал, как из группы молодежи, сидевшей на другой скамье, сказали:
— Смотрите, смотрите… вон Четырев и Марусин.
— Где, где?
Страшно заинтересованные девичьи глаза проводили сутуловатые фигуры писателей, медленно уходивших в пестрой и нарядной толпе, каким-то грустным пятном отделяясь от нее; И Мижуев услышал, как в группе молодежи загорелся спор о таланте Четырева.
И как будто именно от этого, вдруг стало ему грустно, скверно и опять потянуло прочь, куда-нибудь, где бы стать одному и стоять долго и одиноко, ничего не видя и не слыша.
III
Только что пришел вечерний пароход, и по ту сторону бухты, разноцветными гирляндами сверкая в темной воде, горели его говорящие огни. С этого берега не видно было людей, и черная масса парохода казалась таинственной, как темное чудище вод, всплывшее к молу. Но издали уже слышался быстрый гул приближающихся экипажей и чувствовалось, что сейчас в веселящийся городок прихлынет целая толпа новых людей, оживленных и обрадованных концом длинного скучного пути.
В этот день Мария Сергеевна вместе с Пархоменко и его дамами уехали в соседний курорт, и Мижуев вышел гулять один. Он медленно бродил по набережной, подальше от сквера и курзала, где пестрела легкая вечерняя толпа. Он чувствовал себя так хорошо, как давно не бывало. Безлунный мягкий вечер, убранный прозрачным золотом звезд, и покойный ритмический шум прибоя, чуть пенящегося у берегов, трогали в нем тихие ласковые струны. Подозрительная настороженность, не оставлявшая его все время, как-то побледнела, и на душу нашла тихая, музыкальная печаль. Хотелось быть одному и вспоминать что-нибудь близкое и дорогое.
Задумавшись, Мижуев шел по набережной, там, где было пусто и тихо, и легкие нежные мысли медленно вырисовывали перед ним знакомые, полузабытые лица. И с открытыми глазами Мижуев, казалось, видел их — неуловимо скользящих в синеве вечернего сумрака среди больших бледных звезд.
И мало-помалу, как по неразрывному кругу, мысли его вернулись к тому времени, когда, приехав из-за границы, измученный угаром бессмысленной жизни и фальшивых людей, он встретился со своим старым другом и его женой, Марией Сергеевной. Мижуев был устал, раздражителен и озлоблен до угрюмости. Они пригрели его непривычной простотой отношений, приняли в маленький круг своей светлой уютной жизни, и было много дней и вечеров, полных уюта, веселья и особого очарования от близости прекрасной, милой женщины. Потом возникла тайная любовь — странное влекущее сплетение самого целомудренного уважения и самой бесстыдной требовательной мечты. И странно, как смерть, и радостно, как жизнь, наступил момент, когда в ней дрогнула ответная, еще стыдливая струнка, и вдруг то, что казалось невозможным, о чем нельзя было даже думать, стало близким и обдало жарким огнем женской страсти. А потом все запуталось и стало болезненно-уродливо, как кошмар. Долго тянулась затяжная и, очевидно, бессильная борьба между совестью и нерассуждающим влечением тела к телу. Были яркие просветы бешеного счастья, как тот вечер, когда строгое черное платье вдруг упало, и прекрасная нагая женщина стала покорной и бесстыдной; но счастье утонуло в целом болоте самой унизительной фальши, стыда, невольного предательства и обмана, против воли доходящего до подлости по отношению к человеку, которого они оба любили и уважали. Грязь подступала все выше, выше, к самому горлу, и когда, наконец, стало трудно дышать, произошел короткий и острый разрыв.
Мижуев вспомнил, как легко и светло вздохнулось, когда все было так или иначе кончено и открылась новая жизнь. Но прошлое оставило свое тонкое острие, и оно до сих пор ворочалось в закрывшейся ране. Когда прошла первая страсть, тогда стало казаться Мижуеву, что произошла страшная, непоправимая ошибка. Те страдания и колебания, которые пережила Мария Сергеевна, стали говорить ему тайным и ядовитым языком, что его роль жалка: эта женщина любила своего мужа, и только его одного, а Мижуев, — который был ничем не замечателен, кроме своих денег, — явился простою случайностью. Они жили так просто и бедно, ей так невинно и наивно хотелось веселья и блеска. Только и всего…
— Зачем же тогда были разбиты и исковерканы три жизни? — с ужасом спрашивал себя Мижуев.
Униженный и брошенный человек один где-то переживал тайну своей обиды, которую никогда уже нельзя ни поправить, ни забыть; молодая женщина стала одинокой, как брошенная игрушка…
«А в моей жизни прибавилось одной продажной женщиной, и только!» — с болезненной грубостью подумал Мижуев и сам почувствовал, как дрогнуло и исказилось его лицо.
«Я не имею права так думать!.. Может быть, она искренне любила!» мысленно прикрикнул он на себя, стараясь заглушить вырвавшуюся мучительную фразу. На мгновение все спуталось в душе, но сейчас же Мижуев почувствовал, что мысль не умерла, а только ушла внутрь и там, как тонкая змейка, прячущаяся под камнями, неуловимо скользит все глубже и глубже.
Мижуев встряхнул головой; страшным, почти физическим усилием подавил воспоминания и долго ходил по набережной, без мысли, устало ворочая в душе какие-то бесформенные обрывки. А вечер все темнел, все глубже и спокойнее синело небо, ярче сверкали звезды над горами, и затихающее море легко и тихо вздыхало, точно засыпая.
«Если бы был хоть один человек, которому можно было поверить!» — вдруг подумал Мижуев и вспомнил человека, с которым был близок еще в ту пору, когда жил весело, бросая деньги и мечтая о широкой творческой деятельности.
«Увидеть бы, поговорить», — с наивной ноткой подумал Мижуев и улыбнулся размашистой фигуре знаменитого писателя Николаева, ярко вставшей перед ним в сумраке южного вечера.
— Ничего, брат, мы свое возьмем!.. Мы народ крепко-ой! — послышался ему полный удали и силы голос, забавно выговаривавший круглое волжское «о».
Сердце Мижуева вздрогнуло.
В это время, отбивая звонкий галоп, проскакали мимо женщина в амазонке, обтягивающей выпуклое тело молодой самки, и крепкий татарин с вытянутыми, как струны, мускулистыми ногами. Женщина отрывисто смеялась, изгибаясь в седле, татарин сохранял величественное самодовольство, и, мелькнув мимо, они смешались в сумраке вечера.
И машинально мысль Мижуева потянулась за этой женщиной: много таких были близки ему. В сливающийся туман прошлого почти непрерывной цепью уходили их русалочьи глаза, точеные руки, выпуклые груди, тонкие талии и крутые бедра кобылиц. Они доставались ему легко, только стоили больше или меньше. Закрыв глаза, они бросались под золотой дождь, под которым расцветали и становились гладкими и блестящими, как хорошо кормленные пантеры.
И они давно уже перестали украшать жизнь Мижуева, и давно уже на их упругих грудях, на бархатном теле, среди вздрагивающих в муке страсти белых ног он оставался тем, чем и был, — одиноким, чего-то ищущим, тоскующим человеком.
Мижуев пошел дальше, и одинокие мысли опять стали распутываться из огромного запутанного клубка. А навстречу один за другим, точно где-то прорвав преграду, уже катились экипажи с пристани. Виднелись лица, шляпы, картонки, баулы; мелькали и исчезали незнакомые новые глаза. Набережная, как живая, загудела и задрожала под непрерывным бегом колес. Мижуев с отвращением смотрел на них.
«Сколько их… и кто их нарожал!.. Зачем!..» — брезгливо подумал он. И ему представилось какое-то колоссальное, мутное чрево, вздутое до небес вечной тяготой, из которого, Бог знает зачем, лезут, ползут, сыпятся и корчатся на земле миллионы уродцев, никому не нужных, никому не интересных.
Шум и гром, как лавина, потрясли всю набережную и так же быстро затихли вдали в улицах города. Экипажи катились все реже и реже, и опять стало слышно, словно на пустынном берегу, мерное и задумчивое дыхание моря. Мижуев еще раз дошел до конца набережной, где ярко горела кофейня, набитая гомонящими красноголовыми турками, и повернул назад.
Ближе к городскому саду начали попадаться обычные гуляющие. Прошел офицер с молоденькой дамочкой, покачивающей своими гибкими обтянутыми бедрами, прошли два-три сытых господина с кроваво пламенеющими сигарами в зубах. Потом пробежала кучка звонких барышень, опахнувших Мижуева тонким запахом духов и легким ветром юбок, оглушивших смехом и говором. А потом встретился и знакомый старичок генерал, с узенькими бачками и широчайшими красными лампасами. С ним шла хорошенькая девушка, бросавшаяся в глаза нежным румянцем и целомудренно строгим гимназическим платьем.
Увидав Мижуева, генерал заторопился и еще издали стал улыбаться и раскланиваться, слегка подволакивая правую ножку. Обыкновенно он боялся Мижуева и не подходил, когда тот был один, но теперь ему так захотелось блеснуть перед дочерью своим знакомством с миллионером, что он решился. Маленькая наивная гордость засияла у него в глазах и даже в голосе, когда он, развязнее, чем следовало, проговорил:
— А, Федор Иванович!.. Гуляете?.. Как здоровье?
— Здравствуйте, — ласково, но с незаметным для себя невольным высокомерием ответил Мижуев, небрежно приподнимая шляпу.
— Позвольте, — робея, но уже не Мижуева, как будто чего-то иного, представил генерал, — это вот моя дочь… Нюрочка.
Мижуев пожал теплую, совсем трепетную ручку. Она и вся была такая трепетная и теплая, как ранняя весна. И когда приподняла на Мижуева влажные темные глаза, он невольно улыбнулся ей. И она улыбнулась.
Пошли дальше втроем. Генерал суетился и молол какую-то чепуху, стараясь ободрить смутившуюся девушку и показать ей, что он с этим миллионером — свой брат. Сначала он даже стал без нужды фамильярен и после одной довольно неудачной шутки попытался слегка обнять Мижуева за талию. Но вовремя не посмел. Эта фамильярность не понравилась Мижуеву, и он стал холоден.
Девушка все краснела и не глядела на Мижуева, и ему были видны только ее маленькое ухо, пушистый локон волос и неуловимо нежный абрис розовеющей щеки. Шла она понурясь, точно ей было стыдно, и каблучки ее постукивали негромко и неуверенно. Когда генерал особенно неудачно острил, она еще ниже опускала голову и щеки у нее начинали гореть. Но когда Мижуев, невольно уступая желанию ободрить ее, уронил что-то смешное, девушка вдруг закинула голову с пухлым, как подушечка, подбородком и засмеялась. Мижуев посмотрел на этот подбородок: он был так чисто округлен и так нежен, что, казалось, если бы тронуть его пальцем, то почувствовалась бы одна теплота. И невольно стал он говорить ласковое и смешное, чтобы она смеялась.
Смеялась она как-то удивительно: вдруг зазвенит что-то и прервется; потом она прямо взглянет темными глазами, застенчиво улыбнется и сделается серьезной-серьезной.
И как только она рассмеялась первый раз, Мижуеву стало весело, и вдруг ему понравилась эта парочка — и женщина-девушка, и сам добренький трусливый генерал, со своими широчайшими лампасами и неудачными остротами. Понравилось и то, что старичок называл ее «деточкой», а она его «папочкой». Это было наивно и хорошо.
Прошли через весь сквер, где уже сгущался пахучий синий сумрак и бродили уединенные парочки с негромким таинственным смехом и шепотом. Какая-то легкость, давно не бывшая, налетела на Мижуева, и он стал прост, разговорчив и весел. Начал рассказывать о своих поездках за границу, юмористично описал фигуру на вершине Хеопсовой пирамиды, а потом, чтобы стать ближе к девушке, вспомнил свои гимназические времена.
— Разве вы были в гимназии? — почему-то удивился генерал.
— Да. Нас воспитывали просто, да и средства тогда были скромнее.
Мижуев помолчал, вызывая картину забытой гимназии, и рассмеялся.
— А удивительные чудаки бывали у нас среди учителей!
— У нас тоже были… — отозвалась девушка.
— Как были?.. Разве вы не в гимназии уже? — спросил Мижуев и с улыбкой посмотрел на нее. Ему стало приятно, что она уже «взрослая».
— Нет. Я уже кончила… давно… — тихонько ответила девушка.
— Ну, где же давно!.. — любовно засмеялся генерал. — Всего-то три месяца!
— Мне кажется, что уже Бог знает сколько времени прошло, — еще тише возразила девушка и совсем неслышно прибавила: — Сколько воды утекло.
— Вот как! — с комической важностью произнес Мижуев, и ему захотелось просто взять и поцеловать ее в щеку. Так хорошо, чисто и сочно поцеловать.
Он посмотрел на нее внимательнее и увидел, что сначала она показалась ему гораздо моложе, чем была на самом деле. Сбоку ему были видны мягкие очертания груди, плечо, которое близко к нему было округло, и рукав платья упруго охватывал руку.
- Что же теперь?.. На курсы?.. — ласково спросил он.
— Не знаю… — чуть слышно ответила девушка и потупилась.
Генерал крякнул и неловко погладил бачки.
На минуту воцарилось молчание, и Мижуев почувствовал, что коснулся больного места. Ему стало жаль их, и веселая мысль о том, что все это можно сразу устроить, родилась у него. Но сказать показалось неловко, и, чтобы прервать молчание и развеселить девушку, он опять начал о своих учителях.
— У нас был учитель математики… Такой толстый и важный, как директор департамента. Весь урок он ходил из угла в угол и проповедовал свою философию, которая вся состояла из одной фразы. Ходит по классу из угла в угол, вертит пальцами перед животом и говорит важно-преважно: «Есть фи-ло-софы… Есть труженики… А есть баловни судьбы-ы…»
— Вас, Федор Иванович, он, конечно, относил к баловням судьбы! заискивающе захохотал генерал и посеменил ножками.
— Н-да… Во всяком случае, тружеником меня трудно было считать.
— А философом? — лукаво заметила девушка и сконфузилась.
Мижуев засмеялся и опять почувствовал желание обнять и поцеловать ее. Непременно в щеку и так звучно.
Но девушка опять потупилась. Легкой грустью все еще веяло от ее тонкой фигурки.
— Да… — заторопился Мижуев, которому капризно захотелось, чтобы она не была такой молчаливой и грустной. — А то еще был у нас учитель географии… Высокий, худой как палка, которого звали «Макарон». Тот все показывал нам солнечную систему в лицах: сам он был Солнце, я обыкновенно изображал Землю, один маленький еврейчик — Луну и так далее. Солнце, сидя на корточках посреди класса, медленно поворачивалось, Земля бежала вокруг солнца, Луна во все лопатки поспевала кругом Земли… Сначала все шло хорошо. Но потом все сбивалось, и происходила мировая катастрофа: Луна налетала на землю, Марс попадал головой в живот Юпитеру, и эта величественная планета неожиданно садилась на Солнце, образуя полный хаос.
Девушка вдруг закинула голову и зазвенела так беззаботно-весело, что сердце у Мижуева обрадовалось. Ему страшно Хотелось, чтобы она еще смеялась, и он стал болтать все, что приходило в голову. И хотя то, что он рассказывал, было очень пустячно, но болтал он с таким неподдельным комизмом, что выходило удивительно смешно. Раскрасневшаяся девушка уже поминутно смеялась, закидывая голову и показывая свой милый подбородок. Генерал хохотал до слез, и все встречные оглядывались на их шумную тройку.
— Был у меня знакомый дьякон в Самаре… Горький пьяница!.. Приходят к нему с какой-нибудь требой… Выходит дьяконица и таинственно сообщает: «Отец дьякон вас принять не могут!..» — «А что, разве — свыше?..» — «Свыше». — «А-а!..» И посетитель пресерьезно удаляется.
— Свыше! — хохотала девушка и уже смотрела прямо в лицо Мижуеву, с таким выражением, точно жадно ждала от него еще чего-то самого смешного.
А генерал шел сзади, прихрамывал и молчал. Замолчал он как-то сразу, и на сморщенном личике его выразилось что-то затруднительное. Его вдруг испугала такая неожиданная веселость и простота Мижуева. И в самой глубине души его зашевелилось смутное опасение. Он еще не высказал его себе, но это была робкая и бессильная птичья боязнь за свою чистую, нежную девочку.
«Богачи эти… — мелькнуло у него в голове, — ему ведь ничего не стоит…»
Представление о том, что может сделать Мижуев с его маленькой дочкой, рисовалось ему отчетливо, но было так страшно для него, что генерал боялся даже и думать об этом. Наготы и позора своей девочки мозг его не мог воспринимать.
— Нюрочка!.. Не пора ли домой… — неловко позвал он.
Девушка оглянулась удивленно.
— Еще рано, папочка!
Генерал смущенно забормотал. Личико у него было красное, глазки бегали совершенно нелепо. Мижуев тоже оглянулся на него и какими-то тончайшими изгибами мысли инстинктивно понял. Что-то тяжелое и давнее шевельнулось в нем. Сначала было больно, но вдруг тайная острая мысль сверкнула откуда-то из самой темной глубины: дать денег, увезти на курсы… Неровными, но яркими, как молния, зигзагами в воображении засверкало ослепительное, молодое, в первый раз обнаженное тело, трепетные наивные вспышки еще неопытного сладострастия… потом бешеный огненный акт. Он искоса против воли взглянул на девушку, и ему вдруг показалось, что она уже стоит нагая и он видит ее круглые голые руки, небольшую упругую грудь, мягкие пряди волос на голом плече. Что-то похожее на горячую волну ударило ему в голову, но сейчас же Мижуев опомнился.
А девушка смотрела на него и спрашивала что-то.
— Да, — отвечал Мижуев, чувствуя страшную радость, что это кошмарное видение исчезло. Ему страстно захотелось рассеять угадываемое в генерале опасение, стать простым, милым, равным.
«Ведь он прав, что боится меня, — со скорбью подумал он, — и я не виноват… Всякий другой на моем месте поступил бы так. Что ж…»
Со страшным трудом Мижуев опять отвел надвигавшуюся жадную и властную мысль, и ему стало грустно, безнадежно-грустно, точно он почувствовал силу сильнее себя.
И, поддаваясь этому грустному сознанию и теплому покаянному чувству перед этой чистой нежной девушкой, Мижуев слово за слово стал говорить о своей жизни.
— Счастливы вы, — наивно щебетала Нюрочка, — вы везде можете побывать, все узнать, увидеть!.. Мы вот в первый раз в Ялте и то как в раю.
— Счастье не в этом, — грустно возразил Мижуев, — жить можно везде; живут люди и на Северном полюсе, живут на Камчатке и в Сахаре, и в Пинских болотах… И люди, живущие там, даже поднимаются до создания своей поэзии. Можно жить без пальм, без тепла, без больших городов. Это все чепуха… форма. Без одного нельзя только жить человеку: без людей. В одиночестве человек тупеет, слабеет, становится бессильным и ненужным.
— А мне кажется, я и в пустыне бы прожила, лишь бы цветы были, птицы, море…
— Это только кажется, — усмехнулся Мижуев, — человеку даны сложные и глубокие чувства… И чтобы наполнить их жизнью, нужно вокруг такое же сложное, тонкое и глубокое… Одним небом, деревьями да морями душу не оживишь… Сколько ни езди, сколько ни смотри…
— Да. Но у вас, верно, и людей кругом всегда сколько угодно… Ведь вы столько добра можете сделать, — робко заметила девушка. И раньше, чем он ответил на это, она почувствовала что-то такое, отчего сердце ее тихонько сжалось.
Мижуев чуть-чуть покривил углы рта и вдруг показался ей каким-то массивным, тяжелым и больным.
— А! — горько проговорил он с внезапным порывом. — Добро!.. Когда каждый человек, который подходит к вам, только и приходит за этим добром…
— Не всякий же, — со странной и жалостливой торопливостью возразила девушка.
Мижуев промолчал. У него в душе произошло нечто странное: стало страшно досадно, что говорит об этом перед какой-то девочкой, раскрывая свою душу; холодное чувство гордости легло на губы, а под ним хотелось хоть раз, хотя бы и некстати, просто высказаться. И последнее преодолело.
— Может, и не всякий, — с усилием выговорил он, — но когда люди только и приходят за тем, чтобы взять денег, то уже если и придет кто-нибудь так, просто, с открытой душой, все кажется, что это только так, а в глубине души ему надо того же… Что и он не пришел бы, если бы не мог взять денег. И уже настораживаешься… Иногда такая инстинктивная злоба рождается, что и сам оттолкнешь, сделаешься грубым и жестоким… Это очень мучительно, право!
В голосе Мижуева вздрогнуло что-то, он опять покривил губы и замолчал. Стало очень тихо, и шум моря показался девушке одиноким и печальным. Она задумалась, и тысячи нежных, ласковых слов замелькали у нее в голове. С материнской нежностью, раскрывающей всю ее девическую, еще наивную душу, ей захотелось приласкать его, утешить.
Генерал с удивлением смотрел сзади на сутулую громадную фигуру Мижуева. Сначала он не поверил ему и даже смутно испугался еще больше: ему показалось, что Мижуев притворяется несчастным, нарочно ради Нюрочки. Но потом старику стало стыдно этой мысли и жаль Мижуева, по-стариковски, с отеческой нежностью.
— Мне кажется… — тихо начала девушка.
Но порыв уже прошел. Холодное чувство взяло верх. Мижуеву стало досадно своей откровенности перед такими, в сущности, ничтожными людьми, как какой-то отставной генерал и его дочь-гимназистка, которую он купить может. Это чувство было мучительно для него самого, и он сам сознавал его грубость, но все-таки стал высокомерен и холоден.
— Нет, это пустяки… — холодно перебил он и неожиданно заговорил о чем-то ненужном и неинтересном.
Девушка быстро взглянула на него, и лицо Мижуева было неподвижно и брезгливо. Она внезапно побледнела и вдруг выпрямилась, стала смотреть прямо перед собой, и пальцы у нее задрожали от смутной, но больной обиды. Точно кто-то раздел и насмеялся над ней, над тем, что она открыла с чистым и глубоким желанием.
Генерал пытался утешить Мижуева, но вышло так некстати, что он смешался сам и понес какую-то чепуху.
Когда дошли до конца набережной, стало совсем неловко и пусто, и почувствовалось, что надо расходиться. Генерал ослабел и, не зная, как покончить, мялся, семенил и говорил уже окончательно неинтересные вещи о вечере, море, о ялтинской жизни. Мижуев молчал и только изредка отвечал не глядя:
— Да, это верно…
— Видите ли, Федор Иванович… — начал опять генерал, но в это время дочь тихо потянула его за рукав и не глядя сказала тихо, но настойчиво:
— Пора домой, папочка… Мне холодно.
— Сейчас, сейчас, деточка… — заторопился обрадованный генерал. — Ну, до свидания, Федор Иванович, до свидания…
Он долго жал руку Мижуева и, чувствуя, что чего-то не хватает, не решался уйти. Девушка ждала молча, побледневшая, печальная. Ей было жаль всех — и себя, и отца, и Мижуева, и того светлого, хорошего, что было и ушло. Было жаль и на кого-то обидно до слез.
Только уже прощаясь, она на какое-то замечание отца коротко и слабо рассмеялась, закинув все-таки голову и показав свой нежный чистый подбородок.
В самую последнюю минуту что-то теплое шевельнулось в ней, и звенящим голосом она сказала:
— Федор Иванович, можно вас попросить заходить к нам?..
— Спасибо… — холодно отвечал Мижуев.
Девушка мучительно покраснела, и глаза у нее стали печально-недоумевающие.
Всю дорогу она молчала и слушала, как предостерегающе шипел под ногами гравий. В душе у нее было смятенное чувство, точно оборвалось навсегда какое-то счастье, и еще сильнее была острая жалость к Мижуеву.
IV
Ночь отделила море от земли. За резко освещенным каменным парапетом набережной стеною стоял что-то скрывающий мрак, и в нем чудилась непонятная непрекращающаяся жизнь. В невидимом просторе что-то двигалось, напряженно вздыхало, всплескивало, как будто плакало, росло и падало и опять нарастало где-то в черной дали, слитой с черным небом. Там, во мраке, скрыто от человеческих глаз, неустанно шла вечная таинственная борьба, точно миллиарды каких-то существ под покровом короткой ночи спешили закончить свое свирепое темное дело.
А набережная, безжизненно озаренная бледными огнями фонарей, была окована прозрачной чуткой пустотой. Деревья сливались в темную однообразную массу, и только у самых огней ярко, но мертво зеленели отдельные застывшие листья. Порой где-то вырастали одинокие отчетливые шаги, в круге света вдруг рождалась резкая черная тень, росла, вытягивалась, перегибалась за парапет в море и также мгновенно пропадала во тьме, унося вдаль четкие стихающие шаги.
Мижуев шел один, и казалось ему, что голова его огромна, а сердце пусто.
Неустанно море шумело и о вечной тоске, над горами безмолвно горели большие звезды, и в душе Мижуева было такое чувство, точно он стоит над миром, в котором все давно умерло, навсегда прекратилась всякая жизнь, и глаз видит только мертвые снежные поля да далекие звезды, окованные холодом вечного молчания.
Мертвая грусть тихо ныла в душе, и было все равно, куда и зачем идти в пустоте и молчании ночи.
Еще живо было светлое воспоминание, и в ушах, как будто издалека, раздавался звенящий смех. Мелькали в памяти: светлые волосы, влажные глаза и мягкий чистый подбородок закинутой в смехе женской головки. Но мысли бежали мимо нее, быстро и далеко, как тучи мимо луны в мутную зимнюю ночь. Не было в них ни цели, ни начала, ни конца, и уныла была их дымно мчащая быстрота.
Медленно и тяжко, как трудно больной, Мижуев шел до конца набережной, останавливался, шел назад и не мог бы выразить словами того, о чем думал в это время. Не было определенных слов, не было лица, к которому обратить протест. Так, чего-то требовала больная душа, придавленная сознанием непонятной, но непреоборимой несправедливости. Рисовалось какое-то стремительное движение, яркое и живое, как человеческая любовь и человеческая радость. Вокруг же было пусто и казалось, что не на набережной, а во всей жизни четко звучат только его собственные тяжелые шаги, бесцельно и точно отсчитывая ступени мертвого, никому не нужного пути.
«Пора умирать!» — с кривой усмешкой вдруг подумал Мижуев.
В одно мгновение стало легко и свободно, как будто этим словом сдернулась завеса с черного и тяжелого и оказалось, что там нет ничего пустота. Ощущение легкой пустоты на мгновение все тело его сделало легким и свободным, как будто он перестал быть Мижуевым, отяжелевшим, мрачным, пожившим человеком. Но чувство это было мимолетно и потухло, как искорка во тьме на ветру.
— Если осталось одно — смерть, то, значит, все это — правда: правда, что жизнь его в самом деле безобразна, нелепа и жить нельзя.
И вдруг стало так тяжело, что захотелось плакать, грянуться о землю, лицом вниз и лежать.
— Да в чем же дело?.. Я болен?.. — с отчаянием спросил Мижуев, задыхаясь от страшной тяжести и не понимая ее. — Я имею все, что нужно человеку, и даже больше того… Тысячи людей мечтают о том, чтобы иметь сотую часть того, что имею я… Мечтают о недостижимом счастье!.. Все мои страдания всякий характеризует как бешенство с жиру… Чего мне надо?.. Есть все…
И яркой полосой в одно мгновение пронеслись перед Мижуевым десятки прелестных женщин, театры, моря, города, картины, автомобили, рысаки… целый мир, полный красок, света и движения, все самое пышное, красивое и приятное, что может дать мир… Но его собственное лицо, больное и тяжелое, осталось в стороне. И все ушло вдаль, побледнело и вдруг стало однообразным и убогим, как полинявшая мишура.
— Не то, не то!.. А что же?.. — спросил он куда-то внутрь своей молчащей души, и вдруг прилив злобы, беспредметный и бесполезный, потряс все громадное тело Мижуева, и сквозь почти безумное страдание, длившееся один бесконечный момент, он упал в пустую холодную дыру, в которой уже не было ничего, кроме бесконечной усталости.
Молча, без мыслей, как бы всем существом опускаясь все ниже и ниже, Мижуев прошел до конца набережной и вспомнил, что уже много раз прошел ее из конца в конец. Он повернул назад, и когда через дорогу его легли яркие полосы ресторанного света, Мижуев перешел улицу и машинально отворил большую тяжелую дверь.
«Надо поесть… я просто ослабел…» — равнодушно подумал он.
За яркой зеркальностью окон блестели живые огни, двигались черные силуэты, зеленели резные листья декоративных растений и скатерти столиков белели, как горный снег.
Как только Мижуев открыл двери и швейцар поспешно стащил с его массивных плеч пальто, со всех сторон, ошеломляя после тишины ночи, ударил спутанный стон голосов, взрывы смеха и искристый звон стекла. Мижуева сейчас же увидели и узнали. То там, то тут, сквозь стук, гам и звон, послышалось его имя, произносимое торопливо и как будто предостерегающе. Несколько женских лиц любопытными глазами проводили его, пока он медленно пробирался среди столов. У самого буфета его окрикнул знакомый московский литератор Опалов.
— Федор Иванович!.. — радостно закричал он, вставая навстречу, и его лицо, тонкое, с узкими странными, как у японской куклы, глазами, начало улыбаться с выражением живейшей радости и полного дружелюбия. — Федор Иванович, садитесь с нами!.. Человек, дайте стул!
За столом сидели трое: те два писателя, которых Мижуев сегодня встретил на набережной, и опухший, лысоватый, грязноватый господин, в узких, не по ногам парусиновых брюках и в странном, не то американском, не то просто клоунском, жилете.
— Вы не знакомы?.. — спрашивал Опалов, когда все медленно приподнялись навстречу Мижуеву. — Четырев… Марусин… Подгурский…
— Бывший писатель!.. — не то гаерским, не то искренним тоном вставил опухший господин.
Мижуев коротко и мельком назвал свою фамилию. Ему всегда было неприятно называть себя: казалось глупым повторять фамилию, которую, обыкновенно, знали заранее, а не сказать было бы слишком. И это раздражало.
— Да вас все знают, Федор Иванович! — засмеялся Опалов, и нельзя было разобрать, добродушно или с какой-то тайной иронией.
Мижуев криво усмехнулся, и эта усмешка вышла неприятной ему самому: не то он соглашался, что его все знают, не то отвергал это, не то притворялся, что отвергает. Он чувствовал, что в ней нет простоты, что это все видят, и это было болезненно-тяжело.
Лакей стремительно подставил стул, и Мижуев сел, сейчас же скрестил на скатерти массивные руки и тяжелым скошенным взглядом уставился на соседний столик, за которым кутили три полные нарядные дамы и едва блестящие парадные офицеры. На минуту воцарилось неловкое молчание. Опалов смотрел Мижуеву в глаза дружелюбно, но так любопытно, точно перед ним внезапно сел белый медведь. Всклокоченный Подгурский, похожий на узел грязного белья, втиснутый в узенькие брюки и короткий парусиновый пиджачок, смотрел тоже любопытно, и наглый жадный огонек горел в его маленьких острых глазках. Четырев и Марусин молча пили пиво и, казалось, не замечали Мижуева. Мельком Мижуев заметил, что мягкие слабые руки Марусина все время дрожали мелкой болезненной дрожью, и вспомнил, что ему говорили, будто у него чахотка. Поразили его и глаза Марусина: что-то недолговечное и необычайно прозрачное, как клочок милого весеннего неба, было в них. И Мижуев подумал, что это, должно быть, очень несчастный, чистый и добрый человек. Пробудилась к нему теплая жалость.
Ресторан до потолка гудел перекрестным криком, смехом и звоном. Порой где-то с сухим треском падал стул, резко звенела о край стакана нетерпеливая ложечка и высоко взлетали тонкие нотки женских голосов и их захлебывающийся, точно от щекотки, призывный смех. Мелькали лакеи с салфетками, свет сверкал в разноцветных рюмках, бутылках, блестках на гладкой полуоткрытой коже женщин. А в широкие окна настороженно смотрела неотступная черная ночь.
— Что же вы одни?.. А Мария Сергеевна?.. — спросил Опалов, и по голосу было слышно, что имя Марии Сергеевны вызвало в нем неуловимое представление о женской наготе.
Мижуев знал, что Мария Сергеевна на всех мужчин производит болезненно-возбуждающее впечатление, что о ней даже говорят с особым выражением. Когда-то это льстило ему, было остро, приятно видеть, как бесплодно возбуждаются все мужчины той женщиной, всей наготой которой он может пользоваться, когда захочет и как захочет, хотя бы самым жестоким и бесстыдным образом. Но в последнее время он уловил в этом что-то оскорбительное и неприятное: он стал вспоминать, что так начали говорить с ней и о ней только тогда, когда она сошлась с ним. Так же прекрасна была она и раньше, но какая-то чистота прикрывала ее. Своим прикосновением он как будто стер эту чистоту и обнажил ее в унизительном и грубом виде легкодоступной самки.
— Она поехала в Симеиз… — ответил Мижуев неохотно и глядя в сторону.
— А!.. Я встретил их сегодня… С Пархоменко? — Обрадовался чему-то Опалов, и опять в этой радости Мижуев уловил нечто особенное: как будто Опалов не сомневался, что Мария Сергеевна должна перейти к Пархоменко, и решил, что это уже началось. Мижуев в его глазах был уже отставным содержателем.
«Он не допускает, чтобы могло быть иначе…» — подумал Мижуев.
— Пархоменко, это тот?.. — вдруг спросил Подгурский.
— Тот самый… — засмеявшись своими непонятными японскими глазами, ответил Опалов.
— А вы с ним знакомы? — спросил Подгурский. — Познакомьте меня… У меня дело есть…
— Хотите у него взаймы взять без отдачи? — с откровенной шуткой спросил Опалов.
— А хотя бы так… Думаете, не даст?..
— Да, этот, пожалуй, не даст, — машинально заметил Мижуев.
— А вы дадите?.. — неожиданно повернулся Подгурский, и бесшабашное откровенное нахальство выскочило в его голосе.
Мижуев помолчал от неожиданности.
— Может быть… — усмехнулся он.
— Ну, так дайте мне двадцать пять рублей!.. Отчего же нет?..
Мижуев тяжко посмотрел прямо в глаза Подгурскому, подумал, опять усмехнулся и протянул через стол бумажку. Что-то искреннее понравилось ему в той наглости.
Подгурский, видимо, не ожидал и не очень-то беспокоился, даст или не даст Мижуев, но при виде денег глазки его сверкнули еще наглее. Он взял бумажку и очень, естественно сунул ее в карман всползающего на живот, не то американского, не то клоунского, не то просто жалкого засаленного жилета.
— Спасибо…
Мижуев заметил, как светлые, открытые, точно у доверчивой доброй девушки, глаза Марусина со сдержанной улыбкой поднялись на Подгурского и застенчиво опустились, не коснувшись лица Мижуева. Четырев молча смотрел через головы внутрь ресторана и, казалось, ничего не видел.
— А порядочный вы нахал, Подгурский!.. — заметил Опалов, и по глазам его было видно, что мысль о займе поздно пришла и ему в голову.
— Ну и наплевать!.. — нагло возразил Подгурский. — Я — нахал, вы беллетрист, он — миллионер, а что хуже, еще неизвестно!..
Опалов комически поднял к небу свои странные глаза, в которых всегда стояло тонкое наблюдательное любопытство. Четырев и Марусин добродушно засмеялись, причем этот добродушный смех у желчного Четырева поразил Мижуева. Но он и сам улыбнулся.
— А знаете что?.. — начал Подгурский таким тоном, точно собирался сообщить всем радостную весть. — Угостите-ка нас, Федор Иванович, шампанским. А?.. Почему же нет?..
Мижуев слегка пожал могучими плечами. Его начинал забавлять этот проходимец, с первого слова садящийся ему на голову, и притом так откровенно и просто.
— Что ж, это можно… Только вы сами распоряжайтесь, — сказал он.
— Ладно, есть!.. Человек! — громко закричал Подгурский, не обращая внимания на то, что весь ресторан повернулся в их сторону.
Распорядитель, маленький старичок с пышными седыми баками, давно уже стоявший вблизи Мижуева, точно охотничья собака на стойке, быстро подсеменил к нему, с самым приятным видом потирая свои крошечные ручки. Подгурский начал заказывать ужин. Он делал это так уверенно, точно всю жизнь только и делал, что пышно и тонко ел. Мижуев даже посмотрел на него. Подгурский, с ловкостью фокусника все видя и все успевая, бросил:
— Сейчас видно миллионера!.. Они думают, что только они одни едят и пьют!
— А вы знаете, что думают миллионеры? — высокомерно, сам не замечая своего тона, спросил Мижуев.
— Еще бы… Я все знаю… Когда я был знаменитым писателем…
Все засмеялись. Но Подгурский не придал этому никакого значения.
— …я миллионеров что собак нерезаных перевидал. Я вижу их насквозь, как рюмку водки.
Принесли шампанское. Запахло льдом и сыростью, точно открыли двери в погреб. Старичок распорядитель вежливо тряс баками, в чем-то урезонивая безапелляционного Подгурского. А тот ожил: поредевшие волосы встали у него дыбом и клочьями, глазки засверкали нагло и жадно, нелепый жилет нахально выставился вперед. Он острил, кричал, пил, и видно было, что он чувствует себя если не счастливым, то, по крайней мере, сытым. Мижуев смотрел на него и с непонятным удовольствием видел, что этому господину равно нет дела ни до Мижуева, ни до его миллионов, ни до Четырева, ни до чего на свете. У него есть шампанское, сигары, есть остроты, а все остальное важно только постольку, поскольку оно его слушает и кормит.
Четырев и Марусин ничего не пили и почти ничего не ели. Они все время молчали, только изредка перекидываясь фразами, и внимательно, как слушают только художники, прислушивались ко всему вокруг. Казалось только, что они совершенно и намеренно не замечают Мижуева. И это мучило его. Зато Опалов не спускал с него глаз, по-прежнему выжидательно любопытных. Все время он старался поддерживать с ним разговор, острил, забавлял, вставлял меткие замечания, сквозь тонкую игру которых ясно сквозило желание понравиться Мижуеву.
За соседним столиком сидела полная эффектная женщина, с небольшим вырезом на розовой нежной спине.
— Заметили вы, Федор Иванович, — сказал Опалов, — что при ресторанном свете голая кожа у женщин всегда кажется мокрой?
— Неудачно!.. — авторитетно отверг Подгурский, и сразу было видно, что он прекрасно заметил тайную угодливость Опалова и смеется. — Придумайте получше… Это — дешево!.. Почему именно при ресторанном?..
Большие черные глаза чуть-чуть смигнули, но Опалов притворился искренне защищающим свое замечание:
— Именно при ресторанном… И знаете, это вполне естественно: ресторанный свет всегда спутан влажными парами…
— Просто они потеют!.. — безапелляционно решил Подгурский. — А вот что: правда, что там, где много женщин, всегда пахнет пудрой, духами и падалью?
— Что вы! — усмехнулся Мижуев.
— А что ж?.. Пожалуй, верно… — заметил Четырев.
Когда дама за соседним столиком встала и уронила пуховое боа, Опалов мгновенно оглядел взглядом всю ее фигуру и сказал Подгурскому, но глядя на Мижуева:
— Ну, так вот вам: когда женщина нечаянно уронит с плеч боа, спина у нее на мгновение кажется голой!
— Это недурно… — одобрил Подгурский. — Вы это Пархоменко скажите… Большие деньги даст!..
— Вы, кажется, говорили, что незнакомы с Пархоменко?.. — заметил Марусин и кротко смутился.
— Разве?.. Может, и говорил… Ну, значит, соврал… — хладнокровно ответил Подгурский.
Марусин попытался прямо смотреть ему в глаза, но замигал, слегка покраснел и сконфузился так наивно и искренне, точно это соврал не Подгурский, а он сам.
И опять Мижуев с нежной приязнью подумал о нем: «Какая милая душа!»
— Я его давно, еще с Москвы знаю… — повествовал Подгурский. — Может быть, никто не знает его, как знаю я… Он у меня вот тут сидит!..
Подгурский вытянул и крепко сжал широкую потную лапу. И движение этой грязноватой, с черными тупыми ногтями руки было так цепко и хищно, что все невольно посмотрели на нее, и даже Мижуев почувствовал неловкое и жуткое ощущение.
— Когда был еще жив старый Пархоменко, он сына в ежовых рукавицах держал, бил и не давал ни копейки ведь!.. Бывало, вечером постучит о прилавок двумя двугривенными: получай и марш… Этот Пашка тогда везде денег искал, под фальшивые векселя, конечно… Так мы с ним и спутались… Я за ним какие художества знаю!.. Мне бы тут один документик еще достать, так я ему такой шантажик устрою, что он у меня поросенком запоет!..
— Разве это необходимо?.. — кротко спросил Марусин, с трудом глядя в лицо Подгурскому и мигая глазами.
— Вы его не знаете, Николай Николаич… Это такая гадина!.. Его придавить — сорок грехов простится. Глуп, как резиновая калоша, а мерзости на трех императоров и четырех архимандритов хватит. Жестокая стерва!.. Вы знаете, какой у него идеал?.. Он где-то прочел, что германские офицеры в Африке распинали негритянок и стреляли в них из револьверов на пари… Так у него ведь это — мечта!.. Распять женщину… И когда-нибудь он это сделает… Когда отец его умирал и уже не мог говорить, этот Пашка Пархоменко первым делом почувствовал себя наследником, пришел к нему в спальню, схватил умирающего за бороду и потряс: «Вот тебе, коршун, награда за жизнь воровскую твою!..» А когда получил наследство, стал хуже старика… Скуп ведь, как цепная собака!.. Дрянь… Миллионеры существуют на свете, чтобы на их счет шампанское пили, а этот и для шампанского не годится!
— А вы твердо уверены, что миллионеры только для этого и годятся?.. отозвался Четырев.
Он спросил как будто бы шутя, но все, и сам Мижуев, почувствовали, что это вызов.
— А для какого ж еще черта?.. — прекрасно уловив тон Четырева, нагло ответил Подгурский с явным желанием вызвать ссору.
Опалов примирительно заглянул в глаза Мижуеву.
— А вы какого мнения о Пархоменко?.. — чересчур естественно перебил он.
Мижуев высокомерно взглянул на него и не ответил. Ненависть, сквозившая в тоне Четырева, которого он читал и искренне уважал, больно и грустно кольнула его. Он почувствовал себя среди врагов, и почувствовал с болезненным и грустным недоумением.
— Мне кажется, — тихо заметил он, упорно глядя на свои скрещенные на столе руки, — что это не совсем справедливо… Можно быть миллионером и годиться на что-нибудь более интересное, чем спаивание шампанским.
Четырев поднял упрямые ненавидящие глаза и чуть-чуть усмехнулся. Мижуев вздрогнул и слегка покраснел.
— Да вы, кажется, обиделись?.. — двусмысленным тоном заметил Подгурский.
Я не обиделся… — краснея еще больше, возразил Мижуев… — И говорю это вовсе не потому, что я сам миллионер… Пархоменко — исключение. Это выродок, который может появиться во всякой среде. А мне кажется, что человек может быть таким или иным независимо от количества денег в кармане.
— Конечно!.. — воскликнул, опять-таки чересчур искренне, Опалов.
— Пархоменко не выродок… — холодно заметил Четырев. — В той среде, где все построено на деньгах, где деньги все покупают и за деньги все продают, Пархоменко-явление совершенно нормальное. Таким и должен быть настоящий… миллионер. А если есть другие, то уже скорее они — своего рода выродки… живая нелепость…
Дуновение вражды и приближающейся ссоры пронеслось так явственно, что Марусин поднял голову и покраснел, а Опалов заерзал в неопределенном движении между Четыревым и Мижуевым.
— Почему же?.. — сдержанно спросил Мижуев, и что-то грустное послышалось в его голосе. — Я…
— Я не о вас говорю… — небрежно возразил Четырев, и уже совсем ясно стало видно, что он весь во власти неудержимой упрямой ненависти.
— А хотя бы и обо мне… — тихо и не поднимая глаз, заметил Мижуев.
— О присутствующих не говорят!.. — вмешался Опалов. — Вы это забыли, Федор Иваныч!
Мижуев потупился еще больше и еще тише возразил:
— Нет, отчего же… Мне очень интересно знать, что думает… Сергей Максимыч, которого я очень люблю и уважаю как писателя…
Четырев вдруг тоже покраснел. И, не глядя на него, Мижуев понял, что он не верит ему и думает, будто Мижуев хочет его задобрить. Это было страшно больно и обидно. Стало стыдно своей откровенности и недоумевающе-грустно. Четырев искренне казался ему чутким и вдумчивым писателем, и было непонятно, что этот вдумчивый правдивый человек, почти не зная его, уже за что-то ненавидит и хочет сделать больно.
Мижуев сделал над собой болезненно огромное усилие и так же тихо сказал:
— Я говорю искренне…
Теплая просящая нотка дрогнула в его голосе.
Марусина тронуло, что такой большой, сильный, поживший человек так кротко стучится к людям, отталкивающим его. Легкая досада на Четырева шевельнулась в нем.
— Сергей Максимыч, вероятно, хочет сказать, — заговорил он, краснея и поднимая добрые глаза, — что скопление огромных богатств в руках одного человека… есть нелепость…
— Ну, это что-то из социал-демократической программы… — насмешливо отозвался Подгурский.
— Сам миллионер, как живой человек, по-моему, нелепость! — резко перебил Четырев.
— Что вам сделали несчастные миллионеры? — опять постарался сбить на шутку Опалов.
Но это вмешательство раздражило Мижуева. В любопытных глазах Опалова он уловил тайное удовольствие.
— Нет, я попросил бы вас дать высказаться Сергею Максимовичу, — холодно и властно сказал он. Опалов несмело мигнул и неловко улыбнулся.
— Что ж тут высказываться?.. — хмуро возразил Четырев. — Что я думал, я уже сказал, вполне ясно. Я считаю нелепой жизнь людей, у которых в руках сосредоточивается им не принадлежащая колоссальная сила. Они не могут не сознавать, что сами по себе не только нуль, а ниже нуля… что без своих миллионов они никому не нужны. Является логическая необходимость или уйти в ничто, или использовать эту силу… А как ее можно использовать?.. Что могут дать деньги, громадные деньги?.. Разврат, власть, роскошь… И странно было бы думать, что человек может отказаться от того, что так услужливо и легко ему дается. И он развратничает, насильничает… самодурствует…
— Будто только это?.. А Третьяков, например?.. — тихо заметил Мижуев.
— Что ж, Третьяков? — резко оборвал Четырев. — Такой же самодур, как и все… Человек употребил всю свою жизнь на то, чтобы давить на искусство в угодном ему направлении, создал в России целую полосу тенденциозного уродливого направления, на десяток лет задержав здоровое, нормальное развитие искусства.
Резкий, но слабый голос Четырева, которому было трудно бороться с ресторанным шумом, звучал злобно и напряженно.
— Что-нибудь одно: или, идя естественным в своем положении путем, миллионер должен быть паразитом, губить жизнь, высасывая из нее соки, чтобы пухнуть, как червяк на падали, или остаться тем, что есть: ничтожным придатком к своим миллионам…
— А разве сам миллионер не может быть талантливым человеком, писателем, художником, поэтом? — спросил Опалов.
— Может, конечно!.. — коротко пожал плечами Четырев. — Но для того, чтобы развить талант, чтобы создать из себя самого нечто большое, надо борьбу, страдание… Что же может заставить страдать человека, которому жизнь и без того сует в руки самые утонченные наслаждения?.. Это нелепо!..
— Федор Иваныч… — деликатно перебил неслышно подошедший старичок распорядитель. — Вас просят к телефону.
Четырев внезапно замолчал, и глаза у него стали странными, углубленными, точно он мысленно продолжал свою злобную и страдающую речь.
— Что?.. — не сразу поняв, переспросил Мижуев. Лицо его было бледно и устало, и страдальческая черточка лежала у печальных глаз.
— Господин Пархоменко просит вас к телефону.
— Может быть, во многом вы и правы, — не глядя на Четырева, проговорил Мижуев, — и я хорошо понимаю вас, но… знаете, это — жестоко!.. Простите, господа, я сейчас… — перебил он самого себя и пошел за лакеем.
Любопытные лица опять провожали его, пока он пробирался между столами.
Пархоменко звал его в загородный ресторан, говорил, что будет Эмма шансонетная певичка, которую немного знал Мижуев.
— А Мария Сергеевна?.. — машинально спросил Мижуев.
— Мария Сергеевна уехала домой… — глухо отвечал невидимый Пархоменко.
— Хорошо… — так же машинально ответил Мижуев.
В телефонной будке было темно и душно. Мижуев закрыл глаза и прислонился к стене. В ушах все еще раздавался слабый ненавидящий голос.
— Что ж… может быть, он и прав… Но почему такая ненависть?.. Почему он не видит?..
Мижуев не кончил свою мысль и почувствовал, как больно и тоскливо сжалось в груди.
Когда он вернулся к столу, Четырев и Марусин уже прощались.
— …Между ним и миллионами людей всегда будут стоять миллионы рублей, и что-нибудь из двух: или это совершенно одинокий человек, или зверь… нелепость, которая в самой себе носит свою гибель…
Увидев Мижуева, Четырев коротко оборвал и посмотрел ему навстречу с холодной вызывающей решимостью.
— Вы уже уходите? — через силу спросил Мижуев.
— Да.
— Может быть, еще увидимся?.. — спросил Мижуев, пожимая руки — одну, дрожащую от возбуждения, другую, дрожащую от волнения и болезни.
— Может быть… — холодно ответил Четырев, и от этого ответа еще холоднее и жестче повеяло непримиримой враждой.
Мижуев с непонятным ожиданием взглянул в лицо Марусину. Но оно было смущено, и открытые добрые глаза смотрели чужим далеким взглядом.
Страшный прилив сжал горло Мижуеву: это была и мучительная боль, и внезапное мучительное желание сделать что-то ужасное, злое, показать им, что все-таки он сильнее их и может уничтожить, исковеркать, как бурьян на пути. Но порыв мгновенно упал, и когда Мижуев глядел вслед уходящим, лицо его было только бледно и странно, как у человека, обреченного на смерть.
V
Грудью вперед, точно атакуя, размахивая юбкой, подхваченной выше колен, и крепко и упруго перебирая стройными ногами, влетела женщина с голыми плечами и в черной шляпе набекрень.
Пили уже давно. Вино, сигарный дым, насыщенный электрическим светом, потом и ликерами воздух, крик и шум возбудили уже до того, что женщина была необходима. Нужна была точка, на которую излилось бы чрезмерное напряжение бессонной угарной ночи. При виде ее вспыхнуло буйное, почти бешеное движение: Пархоменко, красный, с налитыми кровью глазами и мокрыми черными усами, кинулся навстречу, повалил стул и, подхватив тонкую гибкую талию, обтянутую ажурным корсажем, поднял женщину на воздух и с размаху поставил на стол. Упала бутылка, и рюмка вдребезги разбилась о пол.
— Ай!.. Уроните!.. — вскричала женщина, и ее неискренний, привычно возбужденный голос вздул бессмысленное веселье.
— Ура!.. — закричал Пархоменко. — Да здравствует красота!.. Давайте вина ей… Пусть догоняет!
Все сгрудились к женщине, в страшной жадной тесноте. Глаза загорелись острыми искрами, пальцы плотоядно цеплялись за выпуклые бедра, упругие ноги и круглые полуобнаженные руки. Пархоменко подносил смеющимся пунцовым губам бокал с желтым шампанским. Опалов, с сухим румянцем на белом лице, целовал руку, нагую выше перчатки. Толстый биржевик, растянув почти на грудь сочный мокрый рот, чокался и ржал, как толстое Сытое животное на случке. Казалось, они все были готовы броситься на это розовевшее, за черным кружевом нагое вкусное тело и разорвать его, визжа и кусаясь.
Только Подгурский равнодушно цедил ликер, да Мижуев, тяжелый и мрачный, как всегда, грузно сидел на диване и смотрел сонными большими глазами.
Женщину перенесли на диван и уронили, должно быть, сделав больно, но она только хохотала, била кончиками бесстыдных пальцев по хватавшим ее тело рукам и кричала уверенно и вместе фальшиво:
— Не увлекайтесь!.. Не увлекайтесь, господа!.. Прочь руки!.. Дайте мне шампанского… Я хочу сегодня быть пьяна!.. Мне весело… Если бы вы видели, как меня сегодня принимала публика!.. Триумф…
И она неожиданно громко пропела отрывок бравурной шансонетки.
Опалов подал ей вино и вдруг зажег под бокалом карманный электрический фонарик. Желтую влагу пронизали яркие золотые искры, и шампанское засмеялось, как живое. Было очень красиво, и желтые искры, отражаясь в смеющихся черных глазах женщины, придали им что-то фантастически дикое.
— Ах, какая прелесть!.. Душка, еще, еще!.. — закричала она, хохоча, как русалка.
Опалов хотел опять зажечь, но Пархоменко неожиданно вырвал у него фонарик и пустил белый резкий свет прямо ей в глаза. Они стали желты и прозрачны, как у кошки. Женщина зажмурилась от боли, потом засмеялась. Но все успели заметить бедный наивный грим у ресниц и тайные жалкие морщинки в уголках глаз еще молодой, но уже увядающей женщины. Даже Подгурскому и Опалову стало чего-то жаль и стыдно, но Пархоменко как будто нечаянно зацепил ногой ее кружевной хвост, свернувшийся на полу, дернул и разорвал.
— Ах, что вы!.. — вскрикнула женщина, и Мижуев услыхал в ее голосе покорный испуг.
Пархоменко притворился, что едва не упал, и еще больше, уже явно нарочно, разорвал кружево, обнажил полную ногу в обтянутом шелковом чулке. Его черноусое лицо сжалось в жестоком движении и стало похоже на кошачье.
— Оставьте же!.. — опять крикнула женщина и в подрисованных глазах ее мелькнула испуганная злость.
Опалову было неловко, и он топтался около них, неестественно и несмело улыбаясь своим странным, как у японской куклы, лицом. Подгурский как будто равнодушно смотрел на них, но в ту минуту, когда Мижуев хотел брезгливо вмешаться, он вдруг сказал:
— Павел Алексеич… бросьте!..
Пархоменко от восторга даже трясся. Он притворялся, что поправляет платье, и потными руками уже мял круглые колени, вздернув кружево так, что показалась полоска голого розового тела… Женщина вырвалась и истерически хохотала. Но сквозь смех слышались наивно-простые слезы. Ей было жаль своего красивого дорогого платья.
— Бросьте… ну что в самом деле!.. — повторил Подгурский.
— Оставьте, Павел Алексеич… — поддержал Мижуев, брезгливо морщась.
Но Пархоменко уже не слышал или не хотел слышать. Красное черноусое лицо стало совсем страшно свирепой сладострастной жестокостью.
— Да вы слышите?.. Бросьте, я говорю!.. — вдруг негромко, но с угрозой крикнул Подгурский. И голос его был так странен, что Мижуев с удивлением оглянулся. Он ожидал, что Пархоменко сделает что-нибудь скверное. Но Пархоменко сразу отступил от женщины, и в его еще горящих от жестокого возбуждения глазах мелькнуло юркое опасение.
— Мы это сейчас поправим… — примирительно вступился Опалов. — Дайте мне вашу шпильку… — сочувственно обратился он к женщине, собиравшей свои кружевные лохмотья.
— Подумаешь, какое благородство!.. — нахально и в то же время трусливо пробормотал Пархоменко, отходя и косясь, как собака. — Нельзя позабавиться… И не таких видали!..
— Есть границы всему… — холодно заметил Мижуев.
Пархоменко на мгновение замолчал и как будто растерялся, потом неискренне оживился и повернулся к женщине. Он понял, что выходка его никому не понравилась, и струсил.
— Какая там шпилька!.. Пустите, Опалов… У меня есть средство получше…
Две сторублевые бумажки очутились у него в руке, и он торжественно засунул их за декольте женщины, погрузив всю руку в мягкую, как пух, пышную грудь.
— Ну, Эммочка!.. Не сердись!..
Эмма сразу присмирела, потом ее черные глаза сверкнули жадным огоньком, и вдруг она поцеловала Пархоменко прямо в черные мокрые усы.
— Ах, какой ты добрый!.. — сказала она и нельзя было разобрать искренне или нет. Только глаза стали у нее неестественными.
— Да, добрый… — отозвался Подгурский. — Еще бы — платье порвал, денег дал!.. Прелесть!..
У него было такое выражение, точно он готов был броситься и треснуть Пархоменко по круглой самодовольной физиономии.
— И что за манера!.. — брезгливо и зло продолжал он. — Рвать, бить, потом деньги бросать!.. Гостинодворское остроумие!..
Он говорил так выразительно, как будто метил оскорбить не только словом, но и каждым звуком голоса.
— Вы бы еще попробовали лакеям горчицей морды смазывать… Что ж, это тоже хорошо… А то еще собственным лбом зеркала бить!..
Пархоменко с визгом смеялся, и Мижуев с удивлением видел на его черноусом красивом лице трусливую бессильную злобу, какая бывает у мосек, которые хотят и боятся укусить.
— Ну, ладно… Мы знаем, что вы нахал порядочный!.. — бегая глазами по сторонам, защищался он.
Но Подгурский, точно сорвавшись, уже не отставал от него: то он предлагал ему одному ехать в четырех каретах, то выкупаться в шампанском, то велеть проломать стену на улицу для торжественного выхода, как сделал один московский купчина.
— Пархоменко все неестественнее смеялся, и видно было, как страх бессильно борется в нем с бешеной ненавистью.
Опалов даже спросил Подгурского потихоньку:
— Что вы за рыбье слово против него знаете?
— Никакого я слова не знаю, — презрительно-серьезно ответил Подгурский, — а просто эти господа думают, что с их деньгами все возможно… И когда наткнутся на человека, которому на их капиталы в высокой степени наплевать, так и ослабнут… Больше им нечего выдвинуть!
Толстый биржевик, с особой еврейской деликатностью стараясь замять неприятную историю, завел разговор о проделках миллионеров вообще и рассказал два-три анекдота.
Это удалось. Разговор стал общим, и Пархоменко, блестя глазами, с увлечением сказал:
— Нет, это что!.. У них нет чутья… Это все грубо, плоско!.. Мне бы вот что хотелось: например, если бы запрячь в коляску штук пять балерин… так прямо в трико и газовых юбочках… и прокатиться по Морской. Вот это был бы шик, это красиво!..
— Какие глупости!.. — притворно рассердилась Эмма. — Кто же захочет срамиться!..
— Э!.. Дать по тысяче-другой, так сама Адальберг в корню пойдет!
Биржевик захохотал, и на жирных губах у него показался густослюнный водоворотик.
— Еще бы!.. — с восторгом увлеченно крикнул Пархоменко. — Вы только вообразите: розовые ножки, газовые голубые юбочки торчком и голые спинки!.. Можно слегка подхлестывать!.. Нет, знаете, надо только фантазию, а то хо-орошую штуку можно сочинить!..
Мижуев тяжко сидел на диване и почти ничего не пил. Нездоровые глаза его все время сохраняли мрачно брезгливое выражение. И чем дальше, тем становилось ему скучнее и противнее. Тоска начинала переходить в какое-то острое режущее чувство. Но он все сидел и сидел. Ему было страшно остаться одному, чтобы не думать, не желать чего-то непонятного, не желать бессильно и тяжело.
Крики и смех оглушали его, каждое слово и каждое движение было противно. Купеческий сынок, похожий то на барина, то на играющего с мышью толстого кота и думающий, что счастье заключается в том, чтобы пороть голых балерин и издеваться над несчастной курортной кокоткой… жирный биржевик, чмокающий, точно сладострастно пережевывая и пересасывая рубли… действительно талантливый Опалов, топчущий свою тонкую художественную душу, чтобы пристроиться под благосклонность богача… И Мижуеву было страшно думать, что это настоящие люди и что среди них он должен будет жить еще много лет. Он вспомнил Марусина и Четырева и с холодной грустью представил себе их непримиримые, далекие, что-то свое, ему непонятное, знающие души. Болезненная злоба опять начинала кипеть в нем. Один Подгурский, занятый ликером и сигарой, внушал ему слабую непрочную симпатию.
— Все-таки не побоялся выступить на защиту этой жалкой Эммы…
Было уже совсем поздно. Выпили массу, перекричались и пересмеялись. Усталость стала сказываться в беспокойном возбуждении. Эмма сильно раскраснелась и вспотела. От нее возбуждающе пахло женщиной, пудрой и духами. Гладкая мягкая кожа на плечах и груди казалась уже совсем мокрой и тянула к себе. И уже она сама начала чувствовать истому ожидания. Желтые, как у кошки, глаза ее стали влажны и бесстыдны. Она садилась на колени, танцевала матчиш, щипала за руки, прижималась голыми плечами к самым губам. Мужчины начинали свирепеть. Сидели только Мижуев и Подгурский, невозмутимо цедивший свой ликер. Остальные лезли к ней, и уже видно было, что сейчас она достанется кому-нибудь из них на пищу самой голой разнузданной страсти.
Эта откровенная, всем ясная близость момента, когда эту еще одетую женщину кто-то из них станет раздевать, сознание того, что она готова к этому, и желание быть первым возбуждали мужчин до дрожи в ногах.
Опалов не мог сидеть и, близко нагибаясь к женщине, так что до него долетал возбуждающий запах под ее голыми руками, был бледен, как больной. Он знал, что она достанется не ему, но похотливая крохотная надежда не оставляла его.
— Вы действительно красивы… Такой излом бровей, такие линии у затылка, как у вас, мне грезились во сне… ах, если бы сон был наяву! тихо говорил он, и сквозь намеренное рыцарское желание показать, что он «все-таки» уважает ее, жалко и дрянненько звучала одна мысль: «Ну, отдайся мне… отдайся!.. Тебе ничего не стоит один раз отдаться так… только мне одному!.. Отдайся!..»
Под звон и крик Мижуев слышал его дрожащий шепот, и было ему противно и досадно.
Женщине, видимо, нравился Опалов, но, хотя она смеялась и обжигала мгновенными прикосновениями голых рук и горячих ног, ее кошачьи глаза зорко следили за Пархоменко и биржевиком. Мижуев тяжело смотрел на нее, и так же жалка и противна была и она: ее сильное женское тело, видимо, тянулось к Опалову и соединение их было бы, должно быть, ярко и сильно, хотя и была она уже кокотка давно. Но она не смела отдаваться влечению и, как раба, ждала, кто захочет между прочим взять и опачкать ее своей равнодушной похотью.
«Жалкие люди, жалкие!..» — думал Мижуев и почему-то еще более жалким и одиноким чувствовал самого себя.
— Вы знаете, в моем рассказе «Огонь» есть женщина, похожая на вас… шептал Опалов, и лицо его покрывалось красными пятнами.
— Плюньте-ка, вы, милый человек!.. — вдруг громко перебил Подгурский. Ни-ичего вам не будет!.. Это кушанье не для нас с вами!
Опалов вздрогнул и мучительно растерялся, как пойманный. Все возбуждение его мгновенно пропало, но, чтобы скрыть неловкость, он попробовал взять наглый тон:
— А может быть!.. Почем знать!.. Правда, Эмма, почем знать?
Он спросил шутя, но глаза его против воли с тайным вопросом длительно погрузились в глаза Эммы. Она засмеялась, откинувшись назад, и взгляд ее стал русалочьим, а открытая, нежная, как пух, грудь и сильные привычные бедра изогнулись в тайной истоме. Но она сейчас же испугалась, чтобы этого не заметил Пархоменко, и исподтишка взглянула на него.
И тот как будто прочел все ее тайные чувства и желания. На черноусом лице сверкнула прежняя жестокость. Он несколько мгновений смотрел ей в лицо, слегка подергивая уголком глаза, и вдруг весь засиял беспощадным восторгом.
— Слушайте, господа!.. — вскакивая на стул, закричал он. — Нас трое…
— Пятеро! — насмешливо вставил Подгурский. Пархоменко притворился, что не слышит.
— А женщина одна!.. Всем на одну — это варварство!.. Предлагаю разыграть Эмму!
— Фи! — притворно ужаснулась Эмма.
— Или нет… что разыграть!.. Знаете что: давайте устроим турецкий аукцион! Это забавно!.. Кто больше!.. Кто больше «за ночь любви и наслаждений»!..
— Прекрасная идея! — подобострастно воскликнул биржевик.
— Идет?.. Ладно!.. Подгурский, вы будете оценщиком!.. Эмма, сюда на стул… Кофточку долой!.. Товар лицом!
— С какой стати?.. — вскрикнула женщина и коротко засмеялась, точно на нее брызнули холодной водой. Но сквозь притворный смех Мижуев, как давеча, увидел на лице ее слабый румянец.
— Э, нет, нет!.. Нечего!.. Турецкий аукцион!.. Не упрямься!.. — кричал Пархоменко, сам возбуждаясь от своей затеи.
Мижуев неподвижно смотрел на них.
И перед глазами его, в дикой гамме страстей и вожделения, разыгралась возбуждающе нелепая сцена.
Эмма не разделась сама и долго отбивалась. В ее глазах мелькал огонек затравленного убогого стыда, и щеки покрылись розоватыми пятнами. Пархоменко, уже сопя и вздрагивая, почти насильно стащил кофточку с ее полных блистающих плеч, и вдруг две упругие, молодые, чуть-чуть только располневшие груди, освободясь от тесного корсета и кружева шелковой рубашки, вздрогнули и заколыхались перед жадными глазами мужчин.
Перед этим моментом Мижуеву бросилось в глаза бессмысленное лицо Опалдава, с задыхающейся жадностью напрягшегося, как струна, чтобы не пропустить ни одного движения обнажающегося женского тела. И когда голую до пояса женщину подняли на стул и она инстинктивно закрылась руками, Опалов покачнулся, Мижуеву показалось, что он готов броситься и оторвать эти закрывающие руки.
— Э-э-э… — как пьяный, закричал Пархоменко. — Руки, руки… Руки на голову!.. Все должно быть видно! Аукцион… так нельзя!
Одну минуту Эмма внутренне сопротивлялась, и странно было видеть эту борьбу в женщине, которая за деньги отдавалась всем. Было что-то в этой сцене, выходящее за пределы ее сил, и оттого еще больше воспалялось желание сладострастия и жестокости у мужчин. И даже Мижуев почувствовал, как горячая мутная волна поднимается в голове его.
Вдруг в глазах ее мелькнуло как будто даже гордое и в то же время беспомощное, ненавидящее выражение… И она медленно подняла руки.
Теперь женщина стояла вся открытая и вся влекущая своей покорностью. Тело бесстыдно изогнулось назад, груди поднялись, и только потемневшие глаза на мертво улыбающемся лице смотрели почти холодно и жутко. Она была и красива, и страшна, и дико было думать, что это только кокотка, певичка из казино.
«А что она думает теперь?» — смутно мелькнуло в голове Мижуева.
— Итак… — кричал Подгурский, постукивая ножом по стеклу бокала, звенящего резким страдальческим звоном. — Продается с публичного торга женщина по имени Эмма!.. Покупатели могут осматривать и даже трогать руками!.. Оценка… — он замялся и решительно, на удалую, закончил: — Ну, триста рублей!.. Кто больше?..
— Четыреста! — крикнул Пархоменко, поднимал бокал.
— Ну, пусть будет пятьсот!.. — мокро захлебнулся биржевик, и лицо его стало сразу и жадным, и бесшабашно-сладострастным.
Подгурский посмотрел: на него и усмехнулся.
— Пятьсот… Кто больше?.. — крикнул он. — Раз!
Опалов, весь красный и мокрый, улыбался растерянно и бессмысленно. У него мелькнула безумная идея — занять у кого-нибудь денег. И в кошмарном бессильном сплетении пронеслось перед ним разом то, что завтра надо платить за номер, обратная дорога в Москву, и бледное злое лицо жены. Но голое прекрасное женское тело стояло перед ним, круглясь и сверкая.
«Как-нибудь… достану потом…» — теряя силы, думал он, но в то же время отчетливо знал, что нигде не достанет, что надо ехать домой, что он не посмеет этого. И совершенно жалкая унизительная улыбка исказила его красивое тонкое лицо.
А торг продолжался. Необычная обстановка, полуголая женщина, выставленная на продажу так открыто, как на восточном базаре, все это возбуждало мужчин до крайнего, уже опасного напряжения. Казалось, что никогда раньше они не видели не только этой самой, но и вообще обнаженной женщины. И Мижуев заметил, что это действует и на него. Его широкие ноздри тихо стали раздуваться. Он оглянул горящие лица медленно, точно угрожая, провел глазами вдоль голого тела женщины, и короткая мысль сверкнула у него в мозгу.
«А что, если вырвать у них из-под носа?»
В глазах у него зажглись острые искры. Отуманивало это властное сознание своей силы.
— Скорее же, господа… Холодно… — вдруг проговорила Эмма и вздрогнула, сжав голые плечи. Полные груди колыхнулись и замерли, как бичом ударив по воспаленным телам мужчин.
— Шестьсот!.. — взвизгнул от восторга Пархоменко.
Биржевик что-то пробормотал с извиняющимся еврейским акцентом.
— Что?
— Это уж слишком, господа… Шутка шуткой, но ведь Эммке…
— Дело не в Эмме!.. — восторженно блестя глазами, возразил Пархоменко. — Тут — штрих!
— Н-нет… Аукцион так аукцион! — сказал Подгурский. — Кто больше? Шестьсот… Кто больше?
С Мижуевым сделалось что-то странное и мучительное: темное жестокое желание поднималось снизу и боролось с гадливостью и сознательным презрением ко всем и к себе самому. Но что-то было сильнее презрения.
— Раз!.. Два!..
Пархоменко подскочил к Змме, и она уже инстинктивно покорно подалась к нему.
— Семьсот! — негромко сказал Мижуев, и его угрюмое лицо исказилось темным выражением вырвавшейся на волю жестокости и власти.
Пархоменко замялся.
— Раз, два… Три!.. Продана!.. — крикнул Подгурский.
И вдруг Эмма стала судорожно смеяться. На ее подрисованных неискренних глазах сверкнули бессильные, быть может, ей самой непонятные слезы обиды и стыда.
VI
Уже светало, и с далекого края моря на спящий городок шло тонкое голубое сияние. Ночь бледнела и тихо уходила в горы, тени серели, все казалось прозрачным, и даже горы вдали залегли, как предрассветные тучи в синеватом тумане.
Звонко стуча по пустынным улицам, извозчик промчался к той даче, где жила Эмма.
Мижуев все еще дрожал от неожиданно налетевшего дикого возбуждения. Купленная женщина была у него в руках, и в несознаваемом чувстве полной власти он инстинктивно мял доступное женское тело, скользящее за сухими складками серого, на шелковой белой подкладке, широкого манто. Она все еще была одета кое-как и вся дрожала, но как будто не от холода. При свете бледного утра ее большие глаза на бледном подрумяненном лице с растрепавшейся прической глядели испуганно и странно.
Что-то особенное было в ней: как сквозь блестящую мелодию шикарного и бесстыдного танца иногда настойчиво звучит тайная дрожащая нотка непонятной тоски, так из-под полуобнаженной, раскрашенной кокотки загородного кабака робко и тоскливо глядела по временам какая-то другая — несчастная и забитая — женщина. И когда она хохотала, пила, танцевала и била по рукам хватающих ее мужчин, в уголках подкрашенных губ и подрисованных глаз неуловимо скользила тень скрытого страдания. И это придавало ей острую болезненную прелесть. Но там, в ресторане, при свете электричества, оно таилось под бесстыдной маской жадной продажности, а теперь, когда все было кончено и ей оставалось только ждать того, что сделает с нею этот купивший ее человек, оно — это странное больное выражение — не скрываясь, выступило на побледневшем усталом лице и грустно слилось с неясным светом печального бледного утра.
И именно это бешено одурманило Мижуева, наполнив все его огромное тело острой дрожью неумолимой похоти. И чем покорнее она подавалась в его руках и чем печальнее и усталее смотрели ее глаза, тем темнее и тяжелее поднималась откуда-то из черной глубины души потребность сладострастной жестокости.
И когда у дачи, в глубине темного сада, где томительно пахли невидимые южные цветы, Эмма шла впереди, ведя его к себе, как молчаливая и покорная раба, это непонятное желание страшной жестокости уже дурманом застилало его мозг.
Мижуев шел сзади, и казалось, что в нем — два существа: одно ужасалось того, что овладело им, а другое было пьяно сознанием полной власти и не хотело видеть того, что совершенно ясно понимал он. И чем больше поднимались в нем гадливость к себе и жалость к этой усталой, так, видимо, страдающей и скрывающей свое страдание женщине, тем неудержимее становилась жажда самой грязной, и жестокой похоти. И было такое чувство, точно он падал в пропасть, видел свое падение, ужасался его и скользил все ниже и ниже во власти проснувшегося старою зверя, которого он давно считал убитым в себе. Было больно и жаль чего-то и в то же время как будто все стало безразличным, кроме свирепого и жестокого желания.
— Ты… одна живешь?.. — коротко спросил он, весь дрожа и чувствуя, как в истоме ожидания слабеют ноги. Он вдруг почувствовал как что-то сорвалось и ухнуло куда-то вниз. Нелепая мысль сверкнула в воспаленном мозгу, загорелся перед глазами красный огонь и что-то слепое, громадное овладело им всем.
С последним усилием воли он крикнул себе:
«Что это… сумасшествие? Мерзость!..» — но оно бессильно упало и с глухим отчаянием что-то в глубине души сказало: «Ну и пусть… почему — нет, если я могу и хочу? Да — зверь, самодур… да… ну и пусть!..»
И даже какое-то дикое злорадство зазвучало в его голосе, когда, точно мстя кому-то, кто был лучше и чище его и кого он терял в эту минуту, Мижуев вдруг остановил Эмму.
— Слушай… — неожиданно хрипло выговорил он. — Давай здесь!..
Эмма остановилась и, не поняв сразу, инстинктивно оглянулась на траву в тени под деревьями и кустами роз. Но он перехватил этот взгляд, понял и в страшном взрыве беспощадности схватил ее за руку.
Эмма отшатнулась, и лицо ее сразу стало таким убитым и жалким, как тогда в ресторане, когда ее насильно раздевали. И она опять оглянулась, но уж так безнадежно, как затравленный, вконец обессиленный зверек.
— Что вы!.. Здесь нельзя… — прошептала она побледневшими губами.
Но когда она отступила, манто слегка раскрылось, и голые плечи, бледные при слабом свете, показались среди белого ломкого шелка.
— А я хочу!.. — коротко и странно усмехаясь, проговорил Мижуев.
Она что-то возразила, отступила, оглянулась тоскливыми огромными глазами. Произошла короткая, судорожная борьба, и почти голая женщина, путаясь в кружевных лохмотьях, вдруг, как из пены, встала посреди утреннего, сказочного сада.
— Ах!.. — вскрикнула, она.
Мижуев схватил ее за голую гибкую шею и, с мучительным наслаждением чувствуя, что ей больно, страшной силой пригнул к земле.
Ему захотелось сделать как можно больнее, что-нибудь ужасное, омерзительное. Ярко, как молнию, сознавая весь ужас и безобразие своего дикого порыва и как будто бросая всю ту, тяжесть, которая его давила столько времени, на эту несчастную проститутку, он злорадно втаптывал в грязь отвратительного, бессмысленного поступка все свое давнее, никем не понимаемое, всеми отталкиваемое страдание.
Эмма коротко вскрикнула от боли, и в ту же минуту, вместе с потухшей, замершей, последней судорогой полного удовлетворения, огромная волна отвращения и презрения с головой охватила Мижуева. Он судорожно оттолкнул Эмму и встал, тяжело и мокро дыша, весь в поту, горячий и ослабевший.
И разом все, что только что было так темно, страшно и неодолимо, куда-то исчезло, и Мижуев увидел себя посреди сада, при свете утра, над замученной женщиной, грязного, дикого и безобразного, как зверь.
Она цепко подхватила платье и юбки и мгновенно закуталась в свои нарядные кружевные тряпки. Потом обернулась и стала перед ним, непонятно глядя темными таинственными глазами. И в этих глазах Мижуев увидел отвращение и острую бессильную ненависть.
Она молчала, вся дрожа в своем манто. Мижуев улыбнулся, подождал и растерянно тронулся с места, не зная, что дальше сказать и сделать.
Он вдруг почувствовал ужасный непоправимый стыд и какой-то темный унизительный страх. Все люди, которых он видел сегодня, — Четырев, Пархоменко, Мария Сергеевна, Марусин, Опалов — мгновенно пронеслись перед ним. Ненавидящие карающие глаза Четырева выглянули из-за этих страшных, полных той же непримиримой ненависти женских глаз, и он чуть не вскрикнул от боли, стыда и полного отчаяния.
Но неожиданно в ее глазах мелькнула странная тень. Не то страх, не то угодливость, не то жадность. Она сделала усилие, чтобы выговорить, губы вздрогнули, и Мижуеву, смотревшему на нее, вдруг стало страшно.
Это был, казалось, уже не человек, а что-то другое — жалкое и гадкое: глаза ее, и жадные, и злые, смотрели лживо и нагло, губы уродливо кривились в скользкую улыбку. Она сделала два шага вперед и, подняв голую руку, положила ее на плечо Мижуеву.
Бледный свет утра скользнул по ее чистым линиям и затерялся в мягких тенях полной пышной груди.
Было нечто похожее на испуг, но в следующее мгновение остались только стыд и гадливость. Гадливость и к ней, и к себе. И дико было, что всего одну минуту тому назад в нем пронеслась эта страшная буря. Казалось, что она разразилась, и там, где разразилась, не было ничего. Что-то бесплодно и глупо ушло и стало только противно.
— Не надо… — неловко проговорил он. — Деньги я пришлю потом…
Она еще тянулась к нему, заманчиво улыбаясь лживыми губами, но Мижуев круто повернулся и тяжко пошел прочь.
Калитка сада с визгом захлопнулась за ним. Пахнуло пустотой и молчанием, и бледно озаренная синяя улица открылась перед ним.
Он слышал, как торопливо пробежали по шуршащему гравию легкие женские шаги; шорох шелковых юбок замер, и стало совсем тихо и пусто.
Холодно и грустно опустело и сердце Мижуева, и весь кошмар минувшего вечера ушел в эту пустую бессильную грусть. Тогда Мижуев остановился посреди улицы и сухими глазами посмотрел вверх, в голубоватое небо, на котором уже плыли утренние, чуть розовые тучки, похожие на караван птиц, улетающих в солнечный край.
VII
Вечером в городском саду играла музыка. Огромная яркая раковина эстрады была полна музыкантами, шевелящимися, словно какие-то странные насекомые. Целые ряды изящно-тоненьких смычков, как ножки кузнечиков, четко сучили вверх и вниз, а черненький капельмейстер, тоже похожий на жучка, вставшего на задние лапки, то складывал, то распластывал свои стрекозиные крылышки, трепеща ими в воздухе. Сладостно посвистывали флейты, взвизгивали и разбегались скрипки, а потом серьезная и грустная труба одиноко выводила красивые и бархатные слова.
По всем аллеям плыла и не уплывала говорливая толпа. Стоял непрестанный шорох бесчисленных ног, а говор то усиливался, нарастая, как волна, то вдруг падал и убегал куда-то в глубь темных аллей, чтобы сейчас же вернуться с целым каскадом смеха, выкриков и звонких блестков женских голосов.
Мгновенно появляясь, путаясь, сходясь и расходясь, как в спутанной фигуре необыкновенного танца, плыли смеющиеся лица, интересные и фантастичные в смутной игре голубоватого электрического света. А вверху, высоко, темный бархат ночного неба молчаливо и торжественно сторожил землю своими яркими южными звездами.
Праздник жизни сверкал беззаботным весельем, и Мижуеву казалось, что среди этой нарядной толпы он один — угрюмое пятно, печать одиночества и ненужности.
Сегодня Мария Сергеевна, как-то особенно красивая в своем новом голубом платье, опять куда-то уехала с компанией Пархоменко, и целый день Мижуев чувствовал, будто смутная тревога черной тенью стоит над ним. В последнее время молодая женщина стала как-то чересчур интересна и весела, а Мижуев знал, что Пархоменко, тайно от него, настойчиво и определенно, охотится за нею. Можно было представить себе, как опытно, нагло и самоуверенно ведет он свою грязную игру, ловко сужая круги. И, возбужденная вечным праздником новей жизни, в котором как в налетевшей водовороте, после стольких лет бедности и, скуки, совсем закружилась она, молодая женщина легко и рискованно, скользила над краем. Даже костюмы ее, остро соединявшие скромность порядочной женщины с пикантными намеками на обнаженность кокотки, говорили о том головокружительном возбуждении, которое, вызывает в ней общая охота за ее в полном блеске расцветшим и убранным телом.
Она сама, быть может, и не думала об этом, но Мижуев знал, что в таком состоянии достаточно какой-нибудь случайности — лунной ночи, смелой наглости, почти неожиданного, несерьезного поцелуя — и молодая раздразненная женщина опомнится только тогда, когда все будет кончено.
Мижуеву было дико и нестерпимо больно представить себе эту женщину, отдавшуюся человеку, для которого она — только тонкий инструмент для возбуждения усталой плоти. Это было нелепо и не вязалось с ее изящным милым образом. По временам казалось, что такое плоское падение невозможно: она была прекрасна, умна, интеллигентна и любила двух человек, стоявших выше уровня. После них это полуживотное, полуидиот Пархоменко был бы непонятной гадостью.
Но временами набегала мучительная мысль:
«А чем я лучше его?.. Ну, допустим, что я умнее и тоньше чувствую, чем он… Но разве, когда я сходился с нею, я дал ей свой ум и свои мучения, а не ту же животную похоть… Уж будто бы мне нужна была ее душа, а не голое красивое тело?.. А Пархоменко что?.. Мне даже не представляется, чтобы он посмел и мог обладать женщиной, которая бесконечно выше его. Но я сам, там, в саду, терзал эту несчастную Эмму, убивал в ней последнее человеческое достоинство, мучил, как зверь, вовсе не думая о том, что она может думать и чувствовать в это время. Если бы я даже узнал, что она чувствует и думает гораздо тоньше меня, я разве не сделал бы того же?.. Так и этот… Если случаем или силой она ему достанется, он будет мять ее тело, как всякое другое, и то, что она выше его, будет только обострять наслаждение…
Когда-то она любила своего мужа, который был бесконечно лучше, умнее и талантливее меня, а потом отдалась мне. Потому что я дал ей роскошь и веселье… Я увлек ее перспективой новой жизни, а Пархоменко возьмет своей наглостью, самодурством… еще чем-нибудь… Она пошла ко мне не любя, только потому, что я богат… пошла, как последняя тварь и даже хуже, потому что прикрыла, свою продажность мнимым увлечением… Мерзость!..»
Было больно думать; так больно, как будто, унижая ее, он унижал и самого себя. А между тем в этих беспорядочных кошмарах было какое-то острое наслаждение, точно на кровавую рану он капал острым зудящим ядом.
Мижуев шел в толпе, толкавшей его со всех сторон и обдававшей говором, запахом духов, женщин и шелестом их платьев. Шел он, невидящими глазами глядя под ноги, и большая душа его билась в тщетной жажде чего-то, чего он не мог себе назвать.
В одной аллее он встретил старичка генерала и его дочь Нюрочку, которая так звонко смеялась, поднимая голову и показывая забавный подбородочек. Она увидела Мижуева еще издали, присмирела и забавно покосилась с бессознательным, боязливым и наивным призывом. Освежающей струйкой пахнуло на Мижуева от этого молоденького чистого личика, но он сжался и, тяжело приподняв шляпу, прошел дальше.
На днях генерал, собравшись с духом, попросил его помочь отправить дочь на курсы в Москву, и Мижуев согласился. Сначала это даже обрадовало его: показалось так хорошо и приятно помочь милой девушке, но потом в темноте души родилось угрюмое больное подозрение: представилось, что генерал навязывает свою дочь миллионеру и что она сама не может не знать этого. Мижуев ясно, точно старую знакомую картину, увидел, как он встретится с девушкой в Москве, как они будут уже с первого момента чувствовать себя в особых отношениях: связанной и хозяина, ждущего благодарности. После непродолжительной борьбы и слез она, конечно, примет совершившееся как нечто неизбежное и сделается любовницей миллионера. Ново и остро будет наслаждение ее стыдом и девственным телом, а потом она оденется в шикарные платья и сделается обыкновенной содержанкой.
Так неизбежно, просто и страшно показалось это Мижуеву.
«А почему?.. — спросил он себя. — Может быть, это будет вовсе не так: может, мы останемся друзьями, или она полюбит меня, и в ее нетронутой жизни и моя станет свежей и здоровой?.. Почему я жду только мерзости, ведь жизнь другая существует — люди живут счастливо и искренне… что ж я?.. Или я сам ношу в себе зародыш болезни, и все, к чему прикоснусь, должно обращаться в пошлость, в мертвечину?.. Это кошмар!.. Я болен и убиваю себя какими-то галлюцинациями…»
Лицо Мижуева покрылось так, точно острие вонзилось в сердце, и почему-то стало ему страшно оставаться в этой раздражающей глупой толпе. Он вышел из сада, пошел в маленький ресторанчик над морем и один сел за столик на веранде.
— Федор Иваныч! Что вы тут один? — закричал кто-то с набережной, и толстый, наглый и грязноватый Подгурский, сверкая голодными глазами и выпученным парусиновым жилетом, подошел к нему.
— Здравствуйте… Скучаете?
Он сел возле и спросил:
— Ну, Федор Иваныч, чего же мы выпьем?..
Мижуев улыбнулся. В присутствии этого и несчастного, и наглого человека он почему-то чувствовал себя легче. Как-то просто выходило у Подгурского это голодное желание поживы. Оно было естественно и совершенно откровенно, а между тем чувствовалось, что отношения его к Мижуеву основаны не на том, даст или не даст он денег.
Он сразу увидел, что Мижуев скучает, и на его забулдыжном лице отразилось искреннее желание развеселить, чтобы было весело вообще.
— А знаете новость?.. Опалов вчера выиграл у Пархоменко тысячу триста рублей!
— Разве?.. — с добродушной деликатностью представился заинтересованным Мижуев.
— Да. И знаете, что он сделал прежде всего?.. Сейчас же схватил ту самую Эмму и помчался куда-то столь поспешно, что даже галстук забыл. То-то блаженство!..
— Немного же ему надо для блаженства! — улыбнулся Мижуев.
— Это для вас немного, а для Опалова, у которого жена ходит в фланелевом капоте и беременна каждые три месяца, который думает, что двадцатипятирублевая кокотка из «Аквариума» есть предел женской прелести, для него это целый новый мир — духов, холеного тела, кружев, роскоши, изощренного сладострастия!.. О!..
Мижуев с презрительным добродушием подумал, что для такого маленького бедного человека, как Опалов, это и в самом деле счастье, и даже нечто похожее на зависть шевельнулось в нем.
— А знаете что?.. — неожиданно оживился Подгурский. — Поедем в казино!
— Что мы там будем делать?
— Как что? — играть! — произнес Подгурский таким тоном, точно обрадовал Мижуева.
— Нет, что ж… — вяло отозвался Мижуев. — Скучно.
— Ну, поедем к Эмме — посмотрим, как Опалов там наслаждается!
Мижуев не ответил, и Подгурский, мгновенно угадав отказ, быстро перескочил дальше:
— Чем же вам угодить?.. — он с затрудненным видом потер лоб. — Вот что!.. Хотите, я свезу вас в одно место?.. Понимаете — одни девочки не старше тринадцати лет… И есть такие, от которых еще детской пахнет…
Подгурский чмокнул перед своими собранными в пучок пальцами.
— Их уже раза три закрывали, так теперь они напуганы, но если не пожалеть сотни-другой, можно увидеть штуки такие, что и в Париже не всегда встретишь! Едем?.. Почему же нет?..
— Н-нет, право… — гадливо сморщился Мижуев.
— Почему?
— Так.
Подгурский пытливо заглянул ему в глаза.
— Ах, эти принципы!.. — нагло усмехнулся он. — А я слышал, что миллионеры этим не страдают!
— Вы не допускаете у миллионеров даже простого, чувства брезгливости? серьезнее, чем хотел, спросил Мижуев и криво усмехнулся, точно судорога свела ему одну щеку.
Подгурский внимательно посмотрел на него и вдруг переменил разговор. Он стал рассказывать анекдоты, острить над Пархоменко и ялтинской публикой, а потом неожиданно попросил сто рублей.
Мижуев, думая о другом, машинально полез в карман и дал. Когда он открыл бумажник, Подгурский острыми глазками пронизал разноцветные края бумажек, торчавших оттуда. И когда Мижуев положил бумажник на стол, не сразу отвел глаза.
— Я не понимаю одного… — медленно выговорил Мижуев, как бы в ответ собственным мыслям.
— Чего?
Мижуев ответил не сразу и смотрел в сторону с таким выражением затуманившихся глаз, точно хотел и не решался высказать что-то важное и трудное.
— Видите ли, — слегка запинаясь и по-прежнему не глядя, сказал он, — о чем бы я ни говорил, что бы ни сделал, все смотрят не так, как на других… Никто не говорит, что я думаю неверно, чувствую неправильно, все говорят: «миллионер… миллионы…» Если б вы знали, как это… скучно!..
Мижуев неловко улыбнулся, и по этой улыбке видно было, что вместо «скучно» он хотел сказать нечто большее и серьезное.
Подгурский во все глаза посмотрел на него. Он уже забыл предыдущий разговор и не сразу понял, почему Мижуев говорит об этом.
«А ведь Четырев, пожалуй, прав! — с любопытством подумал он. — Его, очевидно, здорово кочевряжит!.. Дурак все-таки… с жиру бесится!..»
— Тут есть что-то ненормальное, — продолжал Мижуев, скорбно и болезненно морщась… — Почему вы, например, смотрите на какого-нибудь Четырева, который зарабатывает в сто раз больше вас, совершенно просто, а…
— Что ж — Четырев… — заметил Подгурский: — Сколько бы он ни зарабатывал, он все зарабатывает собственным горбом. Пока есть силы работает, заболеет или выйдет из моды и сделается таким же, как я… Да и что он там зарабатывает!.. Жизнь его мало отличается от моей. А миллионер дело другое. Другая жизнь, иные возможности… Положение его исключительное и отношения к нему исключительные. Я, собственно говоря, не совсем понимаю, что вас так мучит?..
— Не мучит, а… раздражает… — возразил Мижуев, болезненно почувствовав, что его излияние приняло характер слишком серьезный. Ему стало стыдно, что он откровенничает с Подгурским.
Подгурский молчал и любопытно ждал.
— Раздражает это выделение меня из общего строя, — поддаваясь выжидательному молчанию Подгурского, против воли продолжал Мижуев. — Неужели нельзя допустить, что я такой же человек, как и все, так же думаю, так же чувствую…
— Я думаю не так, — улыбнулся Подгурский, — как хотите, а деньги — сила большая… И вы не можете не пользоваться ею, потому что всякий живет тем, что у него есть. Там, где мы рассчитываем только на свое «я», на его хорошие или дурные качества, там вы невольно пустите в ход свои деньги… И всякий человек это знает. Мне, например… Мне наплевать, а все-таки я чувствую, что вы — не я, не Опалов, не Четырев… Может, вы и ничего мне не сделаете, ни дурного, ни хорошего, но вы можете это сделать. И… черт его знает что!.. Это, конечно, мешает. Я, например, сейчас сказал, что мне на ваши миллионы наплевать, и сказал искренне, а между тем в тоне-то и сфальшивил!..
Подгурский искренне усмехнулся и развел руками.
Мижуев кивнул головой. Он смотрел теперь прямо в лицо Подгурскому и, казалось, чего-то ждал.
— Как хотите, — с какою-то даже досадой сказал Подгурский. — Не могу же я забыть, что вы миллионер, что вы жили и живете такими наслаждениями и такими возможностями, которые мне и во сне не снились; можете вот дать мне тысячу рублей, а можете не дать и сделать мне что-нибудь скверное… Возьмите вы Пархоменко…
— Я не говорю о Пархоменко, — возразил Мижуев, выражением голоса отделяя себя от этого имени.
— Да ведь для нас вы — одно и и то же!.. — опять с искренней горячностью убедительно вскрикнул Подгурский. — Ведь мы же не знаем, что вы думаете, что вы чувствуете…
Он на секунду замолчал и вдруг, как бы поймав что-то:
— Вот вас раздражает, что на вас так смотрят все… Но вы сами, Федор Иваныч; делаете ли что-нибудь, чтобы показать нам свою настоящую душу — не миллионера, а просто Мижуева… Ведь вы сами ни на секунду не забываете, что вы миллионер!.. Вместо того, чтобы заслужить хорошее отношение, вызвать его чем-нибудь, вы раздражаетесь, требуете таких отношений… Хочу, мол, «штоп!..» Это ведь тоже…
— Мне кажется, я держу себя даже слишком просто… — горячо возразил Мижуев.
Подгурский чуть-чуть пожал плечами.
— Вот вы говорите «слишком»… Для меня не будет «слишком», если я возьму да и расскажу Опалову, что меня мучает, а вы в этом видите «слишком»: вам кажется, что, откровенничая со мной, вы снисходите! Вам, пожалуй, уже и стыдно своей откровенности? Ведь правда?
Тон Подгурского стал дерзким, и какая-то непонятная мстительность зазвучала в нем.
— Вы сами этого, может быть, и не замечаете! — с торжеством сказал он.
— Вот видите… — скорбно сказал Мижуев и пожал широкими плечами. — У другого вы бы и не заметили этого, а мне не прощаете… Вы слушаете меня и, наверное, думаете, что я ломаюсь или самодурствую на свой манер… С жиру бешусь.
Подгурский невольно смутился и засмеялся.
— Не буду отрицать. Немного есть…
— Да… — грустно кивнул головой Мижуев. — Вы не хотите видеть, что я искренне рад поговорить с вами, потому что мне кажется, будто вы относитесь ко мне — дурно или хорошо — независимо от моих миллионов!..
— Я думаю!.. — сказал Подгурский и против желания припустил лишнего благородства.
И разом уловив эту фальшь, оба замолчали: Мижуев угрюмо и бессильно, Подгурский с досадой.
«Сумасшедший какой-то!» — подумал он, за свою фальшь раздражаясь не на себя, а на Мижуева.
В раскрытое окно было видно темное движущееся море; с набережной долетали глухие стуки копыт и отдаленная музыка. Подгурский чувствовал, что надо скорее говорить, но сразу не нашелся. Молчание продолжалось, и чем дальше, тем труднее было возобновить разговор. Как будто что-то оборвалось. И стало тяжело, точно напрасно и бессмысленно было потрачено то, чего в душе мало. Мижуев тяжело вздохнул и расправил скрещенные на столе могучие руки.
— Ну, пойду… — выговорил он.
— Куда? Посидите.
— Нет, у меня голова что-то болит. До свидания.
Подгурский с досадой неприметно пожал плечами.
«Тьфу, черт, какой тяжелый!..» — подумал он.
И в эту минуту ему бросился в глаза бумажник, забытый на столе. Подгурский хотел позвать Мижуева, но что-то удержало его.
Мижуев вышел на тротуар и тихо побрел в сторону сада.
Нечто странное осталось в памяти и мучило его: не то это был тяжелый, неудачный, глупый разговор с каким-то проходимцем, не то какое-то торопливое движение за его спиной, когда он выходил из ресторана.
— Что такое?
И вдруг он вспомнил, что забыл бумажник. И прежде чем подумал, почувствовал, что произошло скверное. Неясная мысль родилась в нем, и одну минуту он хотел скорее уйти, но потом поймал себя на мысли, что Подгурский украдет, и ему стало неловко. Мижуев повернулся и вошел обратно в ресторан.
Подгурский чуть не наткнулся на него. И по одному взгляду на слегка растерянное, но в то же время наглое лицо, с враждебными, готовыми к защите глазами, Мижуев гадливо понял, что это правда.
С минуту они смотрели друг на друга в глаза. Потом Мижуев неловко выговорил:
— Я тут забыл кошелек.
Подгурский мигнул глазами, вскинул брови и весь пришел в движение, как бы готовый лететь на поиски:
— Разве?.. Я не видал. Человек!
— Не надо… — тихо возразил Мижуев.
— Как не надо… надо поискать… — засуетился Подгурский, но лицо его стало похоже на пойманного, но еще готового кусаться зверя.
Мижуев прямо посмотрел ему в глаза.
— Мне ведь это неважно… — путаясь, проговорил он.
Ему вдруг страстно захотелось, чтобы Подгурский понял, что он не может сердиться за эти проклятые деньги, и прямо, просто сказал.
Но лицо Подгурского стало еще злобнее и даже как будто оскалились его готовые укусить зубы.
— Что вы хотите сказать?.. Я говорю, что не видал!..
Мижуев коротко посмотрел ему в глаза, криво усмехнулся и вдруг, махнув рукой, пошел назад.
VIII
Когда Мижуев вернулся домой, сел за письменный стол и по привычке потянул к себе кучу писем и телеграмм, вошла Мария Сергеевна, вся свежая и сияющая, как будто вносящая с собой облако горного воздуха и запах цветов и моря. И сразу — по беспричинно улыбающемуся лицу и по ускользающему блеску глаз — Мижуев почуял, что она, еще не сказав ни слова, чего-то хитрит. Хитрит и боится, как боятся только красивые женщины, и тонкая, и прозрачная лукавая игра красоты, слабости, беззащитности и лжи придает им раздражающую, неуловимую загадочность.
Она громко позвала его, чересчур легко и оживленно подбежала и положила теплые руки на его массивные плечи.
— А, ты уже вернулся!.. Милый, я за тобой соскучилась!
Мижуев посмотрел ей прямо в глаза, мелькающие темными русалочьими искорками, и насупился. Тысячи острых и больных подозрений мгновенно родились в нем, и сейчас же сердце стало тяжелым и неровным.
— Если бы ты знал, как было весело!.. Мы ездили по Симферопольской дороге, далеко-далеко!.. Всю дорогу дурачились, пели, хохотали. Потом ужинали в Гурзуфе!
Мижуев внимательно и молча смотрел на нее, и под этим тяжелым взглядом нежное личико слегка порозовело, фигурка стала гибка, как у кошки, зрачки засветились неверным, фальшивым светом.
— Нет, в самом деле… Ты не сердишься на меня, Теодор, что я так ветреничаю?.. — заглядывала ему в глаза хорошенькая женщина. — Я тебя совсем забросила!.. Отчего ты с нами не поехал? Так было весело!.. А без тебя все-таки не то!
Она хотела поцеловать, изогнувшись всем своим гибким телом и как будто нарочно тронув его упругостью своей груди.
Мижуев раздраженно отодвинулся.
— Слушай, Мэри, не хитри, пожалуйста!.. — неловко сказал он.
— Что такое?.. — сделала Мария Сергеевна большие искренние глаза. Но в них еще прозрачнее и светлее показалась трусливая женская ложь.
— Я же вижу, что с тобой что-то случилось, — с трудом проговорил Мижуев. — Ну, и не лги… говори прямо!.. Это лучше.
Мария Сергеевна засмеялась фальшивым русалочьим смехом и прильнула к нему всем телом-грудью, руками, ногами и щекочущими волосами, видимо стараясь укротить его дурманом своего запаха, жара и упругости.
И от этой лживой ласки все тело Мижуева вместо обычного возбуждения охватило невыносимое физическое раздражение.
— Да оставь, я говорю!.. — грубо выставил он плечо навстречу ее ласке.
— Какой ты странный… Чего-то сердишься!.. — неискренне удивленно начала было Мария Сергеевна и почти силой попыталась обнять его. Но Мижуев оттолкнул и, видимо, сделал ей больно, потому что хорошенькое лицо стало на мгновение испуганным и жалким. — Вот, ей-Богу…
— Говори же!.. — вдруг бешено крикнул он. Молодая женщина испугалась и отошла, издали глядя прозрачными, все-таки лгущими глазами.
— Да ничего… так, пустяки… Я даже не хотела тебе говорить…
Холод прошел под волосами Мижуева. Он почувствовал, что если она сейчас же не скажет, то он потеряет сознание от бешеного взрыва и сделает что-то страшное.
И, должно быть, она почувствовала это, потому что осторожно подошла и, точно пробуя, положила на его круглый локоть самые кончики пальцев.
— Видишь ли… ты не сердись… тут ничего нет такого… В Гурзуфе мы ужинали на балконе, знаешь, над морем… там замечательно красиво и…
Она тянула, продолжая осторожно держаться пальцами за его локоть, и Мижуев чувствовал, как эти изящные пальцы тихонько дрожат.
Уверенность в том, что случилось что-то гадкое и непоправимое, выросла в мозгу Мижуева с безумной силой.
— Говори!.. — в остром порыве злобы и боли крикнул так, что голос его полетел по всей квартире.
Мария Сергеевна как-то осела назад, и глаза у нее стали совсем круглые, как у испуганной кошки.
— Видишь ли… — торопливо забормотала она, проглатывая слова и не двигаясь с места. — Я встретила там Васю… мужа… Попросил меня зайти переговорить с ним… Не нужно было? — неожиданно спросила она, и видно было, что сама знает, что не нужно, и опять лжет, спрашивая об этом.
Мижуев молчал и дышал неровно.
Мария Сергеевна осторожно подвинулась и опять дотронулась до его руки.
— Ты сердишься?.. — спросила она тем же тоном, в котором ясно было, что она видит его гнев и старается представиться наивной, не понимающей этого.
Мижуев вдруг бешено поднялся и молча отшвырнул ее. Мария Сергеевна чуть не упала через кресло и, только извернувшись, как падающая кошка, гибко и цепко удержалась за его ручку.
— Какой ты… — начала она побледневшими губами.
— Скажи, пожалуйста… — зловещим сдержанным голосом заговорил Мижуев, глядя на нее с холодной ненавистью. — А ты думаешь, что я могу не сердиться?.. Зачем ты лжешь!..
— Но что же я такого сделала… — уже искренне беззащитно пробормотала Мария Сергеевна.
— Что?.. А то… — Мижуев помолчал, отыскивая слово и со страданием чувствуя, что его не найти, а скажется другое. — А то… что что-нибудь одно: или прямо признайся, что я для тебя ничто, что ты пошла ко мне на содержание и… или…
Мижуев оборвался. Ему вдруг стало жалко себя; он так любил эту женщину, пожертвовал для нее дорогим человеком, сделал подлое, грязнее дело, обманывал, лгал и думал, что хоть за это она будет близка ему; Из-за этих уже не раз настойчиво повторяющихся свиданий с мужем было столько мучительно-унизительных сцен ревности, он даже пересилил себя, признался ей, что его мучит будто она ушла к нему только из-за денег. И теперь вдруг увидел, что это так и есть: — она никогда не любила его, любит того, готова опять отдаться ему, а лжет и обманывает его, как дурака, только из страха. Он почувствовал себя смешным; глупым и жалким.
— Так не сделает последняя тварь!..
Эти слова он выкрикнул в целом взрыве бешеных грубых слов, и непобедимая потребность охватила его: ударить ее, сделать жестокое и унизительное до последней степени, чтобы доказать, что если она пошла к нему за деньги, то она и есть его собственность, тварь, с которою он может сделать все, что захочет.
И только когда он увидел в ее глазах бессильный страх покорной рабыни, Мижуеву вдруг стало так тяжело и гадко, что он грузно сел к столу, поднял руки и схватился за голову, стараясь не видеть и не думать ничего.
Несколько минут продолжалось молчание. Мижуев все сидел, и его огромная голова, беспомощно опущенная на руки, казалась Жалкой и беззащитной.
Мария Сергеевна долго стояла на месте и пугливо смотрела на него. Потом в глазах ее мягко и трогательно засветилась милая женская жалость. Она тихонько шевельнулась, робко подошла, остановилась, и Мижуев услышал быстрое неровное биение ее сердца.
Нежные теплые пальцы чуть-чуть, как дыхание, коснулись его волос.
IX
Такие сцены были уже не раз и повторялись все чаще и чаще, со зловещим нарастанием. Каждая новая была безобразнее и бессмысленнее предыдущей. Мария Сергеевна не понимала их: порой она с жестоким раскаянием упрекала себя во всевозможных преступлениях, которых, в спокойном состоянии не могла, признать. Она видела, что на их жизнь надвигается какое то неотвратимое, несчастье, но как прекратить этот кошмар, не знала. И страдала бессильно и жалко.
И ужаснее всего, была потеря уважения к себе и та грязь, которую порождали эти безобразные сцены. Они унижали и ставили в какую-то зависимость от окружающих, даже от прислуги. Со всех, сторон смотрели глаза и слушали уши любопытных чужих людей, которым было все равно, страдают или просто дурят они, а было только занятно, как на представлении. Приходилось сдерживать голоса, быстро прятать мучительные слезы, придавать фальшивые выражения искаженным от боли лицам и чувствовать себя несчастнее последнего лакея.
В последнее время такие сцены начали кончаться только с истерикой, с полным изнеможением. Как будто с них обоих слетало все красивое, интеллигентное и благородное, и в дикой ярости корчились какие-то полоумные, которые сами уже не знают, зачем и что кричат друг другу в лицо, думая только о том, чтобы как можно больнее уязвить и обидеть.
Временами являлось уже отчаяние и желание какого бы то ни было, но только конца. Казалось, что уже последняя ссора, и за нею все кончено. Но в ту самую минуту, когда боль и ярость доходили до крайнего предела, вдруг все падало, нервы ослабевали, начинались слезы, уступки и вдруг болезненное, неожиданное возбуждение, бросавшее их друг на друга в жгучем сладострастном припадке. А потом наступало сознание нелепости всего происшедшего и безнадежного, мучительного раскаяния.
— Мы сумасшедшие! — говорила Мария Сергеевна с отчаянием и плакала, прижимаясь к Мижуеву, как бы ища защиты, а он страдал молча и видел перед собою черную неизбежную пропасть конца.
И так же прошла дикая сцена в этот день.
Когда Мария Сергеевна, замученная, мягкая и горячая, с мокрым от слез лицом и потемневшими глазами, лежала с ним, и еще не удовлетворенное желание тянуло их друг к другу с болезненно обостренной силой, она тихонько и искренне рассказывала ему:
— Я знаю, что для твоего спокойствия мне не следовало этого делать… Но неужели ты можешь думать?.. Мне просто стало жалко: он показался мне таким несчастным. Больной… Ведь как бы то ни было, а все-таки я виновата перед ним!..
И не то усталому, не то прояснившемуся после бури мозгу Мижуева и в самом деле казалось, что это так просто и естественно:
«Конечно, она виновата перед ним… и как бы то ни было, когда-то она любила его…»
А все подозрения казались совершенно нелепыми, ни на чем не основанными — какими-то омерзительными капризами.
— Прости меня… Я правда сумасшедший… — страдая от жалости, любви, раскаяния и презрения к себе самому, говорил Мижуев и целовал мокрое горячее личико.
И ей казалось, будто все кончилось, теперь они объяснятся, он увидит всю нелепость своих подозрений, и с завтрашнего дня все пойдет счастливо, как никогда. И она торопилась высказаться:
— Я знаю, что ты думаешь, будто я не любила тебя и пошла ради денег… Я знаю, ты имеешь право так думать… Я пустая и гадкая, но все-таки это не так: я тебя люблю больше жизни!.. Ты мне всегда нравился, давно… Ты такой… большой, сильный, чуткий!..
В комнате было темно, и лицо Марии Сергеевны смутно белело на темной подушке дивана. Глаза казались у нее большими, как две пропасти. И голосок звучал нежно и порывисто, как у обиженного ребенка.
— Мне нравилось, что ты сознаешь свою силу, и все подчиняются тебе. Конечно, было приятно, что ты можешь бросить для меня столько, что я и вся того не; стою… Но мало ли там было богатых людей! Если б я захотела… Но ты больше, сильнее всех!.. Мы, женщины, любим в мужчине силу и власть…
Мижуев со слезами нежности и умиления целовал ее, и было так тепло и счастливо от ее тихих, влюбленных слов. Она шептала так торопливо и искренне, была такая горячая, покорная и сладострастная. И являлось гордое сознание своей силы, сознание, что она любит его и отдается ему, как солнцу, выше которого для нее нет ничего.
— Я, глупая, не могу этого передать, — тихонько шептала Мария Сергеевна. — У меня была такая однообразная, скучная жизнь, казалось, что уже все кончено и впереди нет ничего… а ты внес что-то яркое, сильное, я прямо с ума сошла от счастья!.. Мечтала о тебе, бегала, как девочка, за тобой…
— Но ведь это не я внес… — с бессознательной пытливостью спросил Мижуев, и голос его слегка вздрогнул от страха.
— Нет — ты! Ты… такой, как есть: большой, сильный, могущественный, как царь!.. Но это не главное: если бы ты был беден, я все равно отдалась бы тебе. Ты мое все! — трогательно стыдясь и стыдливо, и бесстыдно прижимаясь к нему всем телом, горячо спорила Мария Сергеевна.
Она еще что-то шептала, раскрываясь под его лаской, как цветок, и Мижуеву все ничтожнее и непонятнее казались все прежние мысли и муки.
«Я просто дикий самодур!» — думал он.
И ему хотелось, чтобы она еще говорила, еще рассеивала его мысли, спорила, доказывала.
— Но ведь… твой муж был и умнее, и талантливее меня… Что такое, в сущности, я?..
Он допытывался сдержанным голосом, скрывая свое желание и пугаясь этого допроса, как будто скользил над пропастью. И, замирая от страха, старался переспорить ее, напомнить ей мужа, доказать, что он был лучше его.
— За что же ты меня полюбила?.. Не за то же, что я здоров, как бык? нарочно оскорбляя себя, говорил он и весь напрягался в страстном ожидании милых опровержений, страстных, возвышающих слов.
Мария Сергеевна страшно оскорбилась. Все тело ее, точно внезапно обнаженное и выброшенное на улицу, возмутилось, и она стала уверять, что это не то, не то.
— Так что же?
Она не сразу ответили, не найдя ни слов, ни чувств; было темно, и не видно было выражения ее глаз. Мижуев ждал и с ужасом чувствовал, как во мраке души рождается и ползет скользкое страшное подозрение.
Тогда она стала доказывать, что он умнее; лучше; оригинальнее. Доказывала страстно, волнуясь и спеша. Но он все-таки возражал и фальшивым, зловещим голосом говорил, что муж ее замечательный, прекрасный человек. Он рисовал его правдиво, нестерпимо мучая и унижая самого себя. И вот перед Марией Сергеевной ярко стала вырисовываться знакомая фигура — бессознательно милое до сих пор лицо человека доброго, красивого, нежного, оригинального и чуткого, как никто. Где-то отдаленно, возбуждая тонкую до неуловимости грусть, пробудились воспоминания о пережитом счастье, о первых ласках. Она испугалась и стала спорить, странно, точно оспаривая не Мижуева, а что-то внутри самой себя. И болезненно настороженное ухо Мижуева уловило эту странную нотку надломившегося женского голоса. В его собственном шепоте что-то зловеще изменилось: он спорил суше, холоднее, с непонятным злым упорством. И вдруг Мария Сергеевна заметила, что не знает, что сказать, чем доказать, за что же она полюбила Мижуева, если не может отрицать, что муж ее был необыкновенный, милый, замечательный человек.
И сквозь страстный шепот, среди любовных слов и уверений, незаметно стало высовываться нечто безобразное, неожиданное и ужасное, как глумливая рогатая голова ночного кошмара, рожденного тьмой.
Сразу без слов стало понятно, что она любила и еще до сих пор не забыла мужа, что ее увлекла именно та жажда новой блестящей жизни, от которой она отреклась с таким упорством и, как казалось ей, с такой искренностью.
И договорившись до этого, Мария Сергеевна, растерянная и ослабевшая, вдруг неловко замолчала, с ужасом сознавая, что каждая секунда этого молчания губит ее. Мижуев ждал, по-прежнему придавливая ее мягкую грудь тяжелым плечом и не снимая ноги с ее круглых теплых ножек. Глаза его пристально и прямо глядели во тьму, и все замерло в этом ужасном ожидании того, что он уже видел. И леденящий неотвратимый холод откуда-то изнутри стал отделять их друг от друга. Она еще попыталась что-то сказать, но не могла, и вдруг бессильно заплакала.
— Зачем ты меня мучаешь!.. Я ничего не знаю… ничего…
Мижуев молчал и тяжко дышал, чувствуя, как все тело его, сердце и мозг погружаются в черную пустоту.
Мария Сергеевна всхлипнула и замолчала. Он молчал и чего-то ждал. Она, не переставая плакать, робко подняла на него глаза, и вдруг резкая пощечина со страшной злобой хлестнула ее по лицу.
— Ай!.. — крикнула Мария Сергеевна и от ужаса и боли на мгновение как будто потеряла сознание.
— Дрянь!.. — хрипло выговорил Мижуев. Тяжелый и громадный, невидимый в темноте, он перелез через нее, стараясь не касаться теплого неподвижного тела, и быстро, натыкаясь впотьмах на мебель, вышел из комнаты.
— Кончено!.. — глухо сказал в нем какой-то голос.
Он остановился посреди кабинета и широко открытыми глазами уставился перед собой. Там, позади, чуткое ухо уловило бы какие-нибудь звуки, но все было тихо, как будто умерло. Он боялся двинуться хоть одним пальцем, и казалось, что если двинется — будет смерть. Все существо его было — одна невероятная боль. Страшный стыд, глубочайшее одиночество и смертельная разрывающая сердце жалость и к себе, и к ней хаотически спутались с холодной злобной радостью, точно он наконец отомстит кому-то, назло уничтожит самого себя.
— Кончено!.. — повторил Мижуев, странно улыбаясь.
Он хотел остановить эту нелепую улыбку, но она все ширилась, росла, дергала, он не мог удержать прыгающих челюстей, и вдруг лицо его стало кривиться в страшной, безумной судороге.
X
День был ветреный, и все море, покрытое белыми барашками, резко-синее вдали и ярко-зеленое вблизи, не двигалось, а как будто крутилось. Все казалось резким и пестрым: тени, солнечный свет, нарядные туалеты провожающих пароходы дам, борты и снасти парохода. Ветер все наполнял прихотливым рвущим движением, и оттого мир казался непомерно большим, а люди и городок, пестревший за бухтой, очень маленькими, как будто игрушечными.
Отхода парохода ждали долго, и Мижуеву, и Марии Сергеевне было так грустно, тяжело и неуютно.
Глухо тарахтела лебедка, поднимая и опуская в трюм тяжелые ящики. По сходням, на палубе и на набережной нетерпеливо двигалась пестрая толпа, в которой, казалось, очень много дам. С берега кричали на борт, с бортов на берег, перебрасывались цветами, которые резким ветром относило в воду. Дамы придерживали поля шляп; их юбки то развевались, то обхватывали колена, бесстыдно показывая мягкие очертания ног и сообщая всему нетерпеливый минутный характер. И в то же время казалось, что пароход никогда не отойдет, никогда не кончится погрузка бесконечных ящиков. Порой начинала неистово реветь пароходная глотка, и ревущий могучий стон ее покрывал все звуки, поднимался все выше и выше, и когда уже уши начинали болеть и становилось мучительно, рев вдруг обрывался, коротко вскрикивал и замирал. Становилось странно тихо, и долго было слышно вдали в горах отлетающее эхо. А потом опять поднимался резкий торопливый говор и неуклюже тарахтела лебедка.
Мижуев стоял на борту и томился страшной гнетущей тяжестью. Он чувствовал, что Мария Сергеевна поглядывает на него, и искоса видел ее темные, старающиеся быть спокойными и улыбающимися, глаза, в которых прозрачно стояли слезы.
Она ничего не говорила. Решение было принято еще вчера, и после тяжелого нудного разговора теперь уже не о чем было говорить.
— Ну, что ж… Кончено, кончено… — беззвучно повторяла себе Мария Сергеевна, и только рука ее в белой перчатке без нужды перебирала по яркой цепи борта. Только по этому непрерывному, напряженному движению Мижуев понимал, что думает и чувствует она, какая безысходная тоска разрывает ее маленькое сердце. Было мучительно жалко ее, и чувствовалась какая-то бесконечная вина. Но в то же время в душе было пусто, и возврата к прошлому, к ласкам, совместной жизни и взаимной теплоте нельзя было представить себе. Что-то оборвалось.
«Что ж, проживет и без меня, — думал Мижуев, неподвижно глядя в пеструю толпу. — Будет жить тою же нарядной, веселой жизнью, ни в чем не нуждаясь, кроме веселья».
Ему представилось, что она может найти другого мужчину, которого полюбит так же, как и его, и который будет любить ее уже всегда искренне и благодарно, с теплым умиленным уважением. Но почему-то этот новый не рисовался ему, и вместо него припоминалось то черноусое круглое лицо Пархоменко, то отвислые губы биржевика.
«И это может быть… — думал Мижуев. — У нее ведь была любовь чистая, искренняя, она сменила ее на меня, потому что я дал ей новые впечатления, возможность беззаботной и веселящей жизни. Теперь ей уже трудно вернуться к прежнему… надо продолжать… И будет веселиться, капризно одеваться, смеяться, наряжаться… Пока жизнь сама не побледнеет и не растает в пустоте… Жалко!.. Но я сам виноват… Что ж… А я буду жить, как жил… будет скучно, нудно и одиноко! Пусто!»
Заревела медная глотка, потрясая воздух, задрожала палуба, и одну минуту казалось, что и небо, и море дрожат от этого нечеловеческого голоса, отдающегося в горах. На палубе закричали, задвигались, замахали платками.
Мария Сергеевна побледнела, и в ее темных глазах выразилась уже покорная тоска. Сжалось сердце Мижуева, и в эту последнюю минуту обнаружилась пустота между ними и теперь хотелось одного: не тянуть бы! Скорее!
Они оба почувствовали безнадежную тоскливую нежность.
Нельзя было заметить момента, когда стал отходить пароход, только зеленая мутная полоса воды вдруг расширилась и стала расти между мокрой стеной набережной и его черным бортом.
Мижуев стоял на палубе и долго смотрел, отыскивая в толпе светлую, охваченную ветром фигурку Марии Сергеевны. Пароход шел, и уже между ним и берегом показались барашки свободных волн. Мол все уменьшался и уменьшался, но еще долго Мижуев видел идущую вслед за пароходом светлую женскую фигурку, платье которой рвал и поднимал яркий солнечный ветер.
Уже не видно было выражения ее лица, не видно даже, идет ли она или стоит… только маленькое светлое пятнышко, прилепившееся к длинному серому молу, среди ветра, бегущих волн и белой пены, срываемой с их верхушек.
Все меньше и меньше. И когда городок, и мол, и крошечная женская фигурка слились в одно кружевное марево дальних солнечных берегов, острою болью кольнуло сердце, и Мижуев почувствовал себя одним во всем мире.
Порвалась прежняя жизнь и навсегда ушла в голубое прошлое. А впереди, поднимаясь и упадая, пустое и движущееся море развернуло свой ветреный и холодный простор.
«Ну, что ж… — подумал Мижуев. — Может быть, и к лучшему… Как-нибудь проживу…»
На пароходе было весело и пестро. Много женщин в красивых платьях и с цветами придавали ему нарядный праздничный вид, а когда где-то на носу неожиданно громко заиграла музыка — стало совсем похоже на увеселительную прогулку. Пассажиры поделились на группы, среди женщин появился щеголеватый капитан в белоснежном кителе, с видом не то пшюта, не то старого морского волка. Послышались шутки, смех, женские восклицания. А за пароходом пенилось море и уплывало назад в тающую даль.
Мимо в голубом тумане плыли зеленые берега и розоватые горы. На одном выступе скалы, высоко над морем, показался белый монастырь и, как чайка, долго реял в воздухе, пока не слился с голубою далью. Море кружилось и двигалось, поднимались и упадали белые волны.
Мижуев без устали ходил по палубе, смотрел на уплывающие берега и думал. Тоненько звучала и ныла в душе тоскливая безнадежная нотка.
«Куда ехать? Зачем?!» — думал он, равнодушно глядя на берега, на солнце и море, которое видел много раз — и здесь, и у берегов Италии, и около Египта — и которое уже ничего не говорило ему о той задушевной голубой красоте природы, которая трогает, смягчает сердце человека и делает его мягким, веселым и свободным, как вольная птица в солнечный теплый день.
Слышал он только, как странно надорванно кричали чайки, провожая пароход.
XI
Посреди своей ванной, облицованной белыми и серыми изразцами, в которых сверкал и дробился электрический свет, стояла Мария Сергеевна, и мускулистая горничная ловко и крепко вытирала ее мокрой губкой. Голое мокрое тело блестело на свету, при каждом усилии горничной вся тоненькая гибкая фигурка Марии Сергеевны медленно подавалась и выпрямлялась опять. Округлые груди вздрагивали и колыхались; то поднималась, то опускалась гордая головка с тяжелой, опущенной на спину прической и казалось, что нагая женщина томится одной сладостной физической истомой.
А между тем маленькое, сжавшееся в комочек сердце ее вмещало столько горя, грусти и мучительного недоумения, что порой ей казалось, будто она умирает.
— Может быть, холодная, барыня? — спросила горничная, заметив, что опущенные плечи Марии Сергеевны коротко вздрагивают.
— Что?.. — испуганно переспросила Мария Сергеевна и посмотрела на горничную большими тоскливыми глазами.
— Вода не холодная? — повторила горничная.
— Нет… ничего…
Горничная окунула губку в теплую воду и опять ловко и равнодушно, думая о своем, стала вытирать спину.
Она мучила Марию Сергеевну: было мучительно стоять голой и мыться, когда сердце разрывается на части. Хотелось остаться одной, чтобы весь свет куда-то пропал, и лечь в подушку головой вниз. Лечь и замереть навсегда, ничего не видеть, не слышать, не чувствовать.
Но эта дрессированная холодная прислуга, служившая только у аристократов, которой Мария Сергеевна все еще боялась, как боятся аристократической прислуги все бедные и кроткие люди, была тут и окружала ее с самого утра любопытными холодными и даже как будто ненавидящими подстерегающими глазами. Надо было скрывать то, что произошло вчера, надо было, чтобы они не догадались, что она брошена, что она только содержанка, что ее ударили по лицу, как последнюю женщину, унизили и бросили.
С того самого момента, как после тяжелого и безнадежного объяснения, почувствовав, что связь порвалась навсегда, Мижуев уехал, Мария Сергеевна все силы свои тратила на то, чтобы никто не догадался о совершившемся. На пароходе она старалась быть веселой и улыбаться; когда ехала домой, унося в сердце безмерную боль, старалась быть повелительной с камердинером: дома принуждала себя делать все, что делала каждый день, и чувствовала себя рабой этих холодных и наемных людей, которым не было до нее никакого дела.
И когда горничная почтительно объявила ей, что ванна готова, Мария Сергеевна пошла, разделась и стала голая и несчастная, под ненужные мучительные заботы чужой женщины.
Больно сжималось сердце маленькой голой женщины, окруженной теплом и светом, ласкаемой мягкой водой и теплым воздухом, насыщенным паром и духами. Тяжелое чувство полного одиночества было внутри нежимого тела, и ей казалось, будто кто-то издевается над нею.
— Довольно Клавдия, хорошо, — с усилием сказала она, чувствуя, что еще немного — и она упадет.
— А душ, барыня? — почтительно осведомилась горничная и, не дожидаясь ответа, подошла к эмалированному крану и стала заботливо пробовать рукой теплый дождь, полившийся сверху.
И Мария Сергеевна пошла под душ, чуть не заплакав от невыносимой тоски.
И когда, наконец, горничная накинула на нее сухой, мягкий капот и она осталась одна в спальне, Мария Сергеевна заломила руки и бросилась лицом вниз в подушку.
Долго сдерживаемые слезы прорвались горячей волной, и она заплакала беспомощно и тихо, как ребенок.
Прошла перед нею вся жизнь ее, все страдание прошлого и темное будущее, жестокий обман и сознание ужасающей, непоправимой ошибки.
Некому было видеть безобразную нелепость одиночества прекрасной молодой женщины, одинокой среди целого мира, среди массы людей, которым общение с нею могло бы доставить самую яркую радость и величайшее наслаждение. Но остро сознавала эту нелепость ее собственная душа, заключенная в роскошное тело и даже словами не могущая выразить себе свою бессильную муку.
С тех пор, как резко изменилась ее жизнь и прежняя Мария Сергеевна, жена тихого, доброго и ласкового человека, женщина с маленьким, но солнечным и простым мирком, исчезла и на ее место появилась беспокойно красивая женщина, погруженная в кружева, шелк, бриллианты, удобства и пышность, — с тех пор Мария Сергеевна никогда не вспоминала о прежней жизни. То было что-то светлое, милое, о потере чего нельзя было думать без страдания, а страдание окончательно отняло бы у нее последнее оправдание своего проступка.
Тяжкую драму пережил брошенный, когда-то бесконечно дорогой человек, повторявший в последнюю минуту, сквозь почти безумные слезы, только одно: «Мама, мамочка!.. Неужели бросишь своего мальчика.!. Что же я буду делать без тебя?..» Кошмарная борьба была в ней самой, и она почти не понимала ее. Сердце рвалось от жалости к плачущему взрослому человеку, беспомощно и уже бесполезно повторявшему те наивные слова, которые еще так недавно трогали ее до слез. Когда он сказал, захлебываясь рыданиями: «Что же я буду делать один?..» — она вдруг вспомнила, что прежде не могла представить его без своей ласки и заботы. Представилось его одиночество, тоска, отравленная тяжкой обидой, его заброшенность, его бедность, в то время, когда она будет наслаждаться роскошью, весельем и счастьем. И на одно мгновение ее решение показалось ей безумной нелепостью.
Она уже стала обнимать и целовать мужа, стала прямо рукой утирать его мокрые милые глаза, воспалившиеся от горя и слез. Сердце рвалось между красочной любовью, обещавшей неизведанно прекрасную жизнь, и бесконечной жалостью и нежностью к этому плачущему человеку, беспомощному, как покидаемый ребенок.
Она чувствовала, что слабеет, что уходят и падают мечты о новой, блестящей, как сказка, жизни, и чтобы спастись, чтобы не бросить все и не остаться, Мария Сергеевна сжала свое сердце, укрепила его жестокостью, мучительной и ужасной для нее самой. И покинутый человек, исходивший уже последними безнадежными слезами, плакал, звал и бился об эту непонятную ему жестокость в таком страдании, которого нельзя уже никогда забыть и простить.
Когда она уходила и в последний раз мелькнули перед нею знакомая комната, знакомая лампа, кровать, на которой она испытывала самое счастливое в своей жизни, этюды, для которых она позировала целыми часами в надежде на будущую победу и славу милого человека. Эти этюды, которые когда-то составляли часть и ее души, ее гордость, резнули по сердцу с невыносим, мой болью. Было что-то ужасное в ее уходе, но она опять в последний раз сдавила свое сердце и ушла. А он уже не плакал, не звал, а только задыхался и цеплялся рукой за оставленную ею старенькую накидку, точно боялся, что и ее — это последнее — отнимут у него. Этот жест был ужасен, и потом вспоминать о нем было не трудно, не мучительно, а прямо страшно, как о совершенном злодеянии.
И для того, чтобы не помнить, чтобы не сознавать этого ужаса каждую минуту, Мария Сергеевна стала вести действительно пышную, безумную и легкомысленную жизнь.
Понемногу она забыла, стала весела, вошла во вкуси роскоши и привыкла к ней. Театры, Ницца, балы, туалеты, общество известных блестящих людей мелькнули перед нею, как сон, и она уже начала думать, что счастлива.
Только изредка, оставаясь одна, Мария Сергеевна переставала видеть и слышать окружающее и с тихой ноющей тоской, смутно и печально представляла себе где-то далеко, там, неизвестно где одинокого брошенного человека.
«Что он? Что теперь делает?..» — думала она, и становилось ей грустно, стыдно, и она шла опять на люди, ехала куда-нибудь, смеялась и кокетничала.
Но эта мишура слетела, как пыль, и под нею обнаружилась голая страшная пустота.
Она растерялась, и в ее бедной голове все закружилось. Куда идти, что делать, к чему прилепиться сердцем — все исчезло. Осталась одна брошенная содержанка, женщина без имени, уважения и лица. Она перестала быть человеком и стала вещью, дрянью, которую надо выбросить на улицу.
И с холодным ужасом чувствовала она, что нет никакого возврата, что она уже не может жить, как жила прежде когда-то… Стала на золотой путь и надо идти дальше… Куда?..
— Это возмездие, возмездие! — бессознательно повторяла Мария Сергеевна.
На столике возле кровати лежали деньги, оставленные ей Мижуевым, и она с ужасом смотрела на них, как раздавленное животное, царапая подушку скрюченными тонкими пальцами.
XII
Мижуев приехал в Москву в дождливый, уже совсем осенний день, и, как только вышел из вагона, его насквозь пронизала противная зябкая сырость.
Огромная асфальтовая площадь перед вокзалом блестела, как озеро, и по ней плыли мокрые извозчики и торопливо шлепали озябшие отсыревшие люди. Вдали, за мглистой завесой дождя, туманно виднелись бесконечные крыши города, главки церквей и мутные пятна пожелтелых бульваров.
Странно и грустно было думать, что здесь уже давно, и сегодня, и вчера, и позавчера, и много дней — нет ни солнца, ни голубого неба, ни веселых цветов. Казалось, что всем этим торопливым промокшим людям до смерти надоело жить, и живут они только потому, что давно махнули рукой на дождь, на серое небо, на холод и слякоть и уже не замечают их. Казалось, что если бы им сказать, что где-то там, далеко в эту самую минуту ярко светит солнце, голубеет море и смеется зеленая трава, они не поверили бы такому счастью и только заторопились бы бежать дальше по своим брызгающим холодным лужам. Но Мижуев не думал об этом, потому что давно привык ко всему, и его не радовала золотая весна и не печалила серая осень.
Он никого не извещал о своем приезде, и потому его никто не встретил. Мижуев приказал комиссионеру забрать вещи, а сам взял извозчика и, дрожа от сырости промокшей пролетки, поехал домой.
Еще издали он увидел знакомый, причудливо громадный, причудливо же отделанный в декадентском стиле, серебристо-серый дом, поперек которого шла колоссальная вывеска «Братья Мижуевы». У похожих на пещеру ворот шла та же торопливая, вечная суета, что и много лет тому назад. Мокрые ломовики грузили на телеги желтые ящики, из которых торчала мокрая солома: подъезжали желто-черные фургоны, и озлобленная голодная ругань скудно висла в промозглом воздухе. А внутри, в обширных, таких же холодных, как площадь, комнатах, отделенных от улицы саженными мутными окнами, сухо зеленели электрические лампочки и, почти не шевелясь, методично шуршали и щелкали на счетах склоненные головы.
«Все по-прежнему…» — подумал Мижуев, как, будто он все-таки ожидал чего-то нового, и, раздевшись, пошел через всю контору. И как всегда, когда он входил в эту сухую деловую атмосферу, лицо его стало высокомерным и холодным, как будто он ничего не видел по сторонам.
Сидевшие за конторками люди, чистенько и аккуратно одетые, и причесанные, поспешно и молча вставали и кланялись ему вслед. Мижуев кивал головой, но многих из них вовсе не знал и не помнил, видел ли когда-нибудь раньше. Только один управляющий, лысый старик с лицом, похожим не то на смятую рублевую бумажку, не то на угодника Божия, приветствовал его:
— С приездом, Федор Иваныч!.. Братец в кабинете-с. Давно вас поджидают-с. Как изволили путешествовать?
Мижуев невольно усмехнулся: он подумал, что это довольно слабое путешествие — из Москвы в Крым и обратно, — но потом вспомнил, что для старика, всю жизнь просидевшего в этой конторе, и такое путешествие сказочно-ярко и громадно.
— Ничего… Спасибо… — холодно-ласково ответил он и, мимоходом подав руку, прошел дальше.
Брат его, Степан Иваныч Мижуев, сутуло сидел за большим, как гробница, столом и писал, левой рукой прикидывая на тяжелых счетах. Бледный синеватый свет от окна слабо блестел на его широком полысевшем черепе. Вся комната была темная, тяжелая и скучная, как огромная приходо-расходная книга, между листами которой шевелился человек. При входе брата он поднял голову, и Мижуев увидел знакомые холодно-недовольные глаза. Неприятно и жутко кольнуло выражение лица человека, который, еще не зная, кто и зачем пришел, уже поднимает враждебно-деловой взгляд. Но Степан Иваныч вгляделся и вдруг скупо искривил губы в усталую улыбку.
— А, приехал, наконец!.. — сказал он, вставая.
Братья поцеловались.
Степан Иваныч был так же громаден и тяжел, как и брат, но лицо у него было желтое, нездоровое, под глазами висели дряблые мешки, и голос был так слаб и бледен, как будто он смертельно устал.
— Очень рад, что ты приехал… — заговорил Степан Иваныч. когда они уселись друг против друга и закурили сигары, с которыми он никогда не расставался. Рад по многим причинам: во-первых, конечно, соскучился, во-вторых, необходимо твое присутствие, так как у нас на заводе дело скверно, а кроме того, есть и еще одно личное дело… Но о нем потом!.. Степан Иваныч на мгновение отвел глаза и опять искривил губы в скупое подобие улыбки.
— Тебе, вероятно, уже из газет известно, что завод стоит вторую неделю? Требования тебе, должно быть, тоже известны?
— Да, знаю… — коротко ответил Мижуев.
— И?..
Степан Иваныч устремил на брата испытующие, холодные глаза, и Мижуев невольно подумал, что это не брат, а компаньон по фирме. Ему не хотелось говорить о том, о чем давно и много было говорено без всякой пользы и понимания. Но Степан Иваныч ждал, и Мижуев с трудом ответил:
— Что ж. Я нахожу их во многом справедливыми…
Он невольно мигнул и отвел глаза, потому что почувствовал, как враждебно насторожился Степан Иваныч. Он продолжал смотреть на брата испытующе и молчал долго, как будто делая над собой какое-то досадное усилие.
— Да?.. Прекрасно… А скажи, пожалуйста, представляется ли тебе, что при современном положении рынка эти требования для нас разорительны?..
— Я не говорю об этом… — с усилием выговорил Мижуев. — Я признаю их справедливость, и только, а выгодны они или невыгодны для нас — это другое дело.
— Да… — сухо возразил Степан Иваныч. — Но мне кажется, что именно об этом и надо прежде всего подумать.
Мижуев вздохнул, как будто на него навалилась до смерти надоевшая тяжесть, но сдержался и нарочито уступчивым голосом сказал:
— Да, конечно… Мне только кажется, что и вопрос о справедливости не лишний. Что-нибудь одно: или требования их несправедливы и тогда о них можно говорить только как о борьбе… или они справедливы, и тогда надо подумать об их удовлетворении.
Он старался говорить спокойно и даже нарочно хотел не возбуждать спора, но, пока говорил, вдруг почувствовал знакомое, тяжкое раздражение. Он видел, как и всегда, что одни слова его брат слышит, а те, которыми он сам волнуется, скользят мимо его ушей, как что-то совсем ненужное, скучное и неразумное.
Степан Иваныч некоторое время молчал и продолжал в упор смотреть на него холодным, чужим взглядом. Потом вздохнул, отвел глаза, постучал пальцами о край стола и сказал с вынужденным видом:
— Ну, ладно… Потом поговорим… Ты, верно, устал с дороги. Завтракал?
— Нет еще.
— Ну, так пойдем наверх, — сказал Степан Иваныч и тяжело поднялся с места.
Квартиру он занимал небольшую, и странно было думать, что во всем громадном и роскошном доме только один уголок принадлежит ему, его отдыху, сну, его глазам и его телу. Там, вверху, внизу, по бокам, как пчелы в ячейках громадного улья, жили и копошились чужие, незнакомые люди, платили деньги, и многие не знали даже, каков из себя он, Степан Иваныч Мижуев. И даже есть ли он или это только отвлеченный символ.
Столовая холодно блестела лакированным дубом и от белой скатерти, белой посуды и белого света из окон казалась ледяной и мертвой.
— Ну, как съездил?.. — спросил Степан Иваныч, усиленно кривя сухие губы и стараясь смотреть ласково, как ему и хотелось. Он любил брата и жалел, считая больным и фантазером.
— Недурно…
— Где же твоя Мария Сергеевна?.. — улыбнулся Степан Иваныч, не глядя в лицо Мижуеву.
— Осталась там… пока… — проговорил Мижуев, и вдруг что-то больно кольнуло в его сердце. Представилась где-то там, далеко-далеко, маленькая покинутая женщина, которую он любил, которая любила его и почему-то вдруг оторвалась от его жизни навсегда; стала чужой, будто никогда они не любили друг друга, не ласкали, не грели и не радовали больше всего на свете.
И уже теперь не мог понять Мижуев, почему так случилось. Все, что тогда казалось ужасным и невыносимым, теперь было мелко и выдуманно, рисовалось каким-то мутным, нелепым пятном, а между тем Мижуев чувствовал, что иначе не могло быть. Как всегда, он встряхнулся и, стараясь не замечать того, что ныло в сердце, стал рассказывать о юге и расспрашивать о Москве.
Братья сидели друг против друга, тяжелые и громадные, казалось, давившие пол и все, что копошилось под ним, страшной тяжестью. Холодный белый свет ярко блестел на паркете и на эмали посуды; желтело, как золото, вино и, казалось, что среди серого мокрого дня в нем одном сверкает веселое солнце.
Стало теплее, и легче заговорилось. Мижуев скрестил руки на скатерти, а Степан Иваныч откинулся назад и рассказывал:
— Тут у меня случилась маленькая неприятная история, а так как ты в этих делах опытнее меня, — Степан Иваныч неловко улыбнулся, — то я и хотел посоветоваться с тобой.
Мижуев с любопытством поглядел на него.
— Видишь ли, к нам поступила кассиршей одна барышня, очень молодая и хорошенькая… Да ты ее увидишь, потому что я хотел попросить тебя съездить к ней.
Степан Иваныч закурил сигару и, сморщив свои мешки, щурился сквозь дым. Ему, видимо, было неловко, и чувствовал он себя смешным.
Мижуев действительно глядел на него с веселым изумлением. Молоденькая и хорошенькая девушка, не кокотка, не певичка, так не вязалась со Степаном Иванычем, что казалось, будто он шутит.
— В чем дело? — спросил Мижуев, стараясь не показать брату своего удивления.
— Да, в чем дело… Сошелся с ней. вот и все!.. — с усилием выговорил Степан Иваныч.
— Ну, так что ж?
— Как тебе сказать?.. Ты знаешь, что я всю жизнь работал и романами не занимался… Но не могу не признать, что эта девушка внесла в мою жизнь нечто новое.
Маленькая, хорошенькая девушка с таким чистым и мягким подбородком, что невольно хотелось дотронуться и почувствовать теплоту его, представилась Мижуеву. Она, должно быть, звонко смеялась, радостно и самоотверженно отдавалась всем своим молодым телом и не замечала, что у Степана Иваныча полысевший череп, сухое лицо и деловая, одноцветная душа. А может быть, замечала и старалась согреть и развеселить его, передать ему свое молодое, веселое счастье.
— Она, должно быть, искренне привязалась ко мне, — продолжал Степан Иваныч, все так же щуря глаза за облаками синего дыма. — И конечно, сейчас же начала меня переделывать в социал-демократа…
Степан Иваныч деланно засмеялся, но что-то нежное дрогнуло в его сухом смехе.
— Хм!.. — невольно усмехнулся Мижуев, и ему стало жаль этой маленькой наивной женщины.
— Ну, это все бы ничего… Но дело в том, что она… как это… ну, в инте… забеременела…
— А! — сказал Мижуев, и глаза у него стали мягки и жалостливы.
— И чем дальше, тем больше я чувствую, что она занимает в моей жизни место, с которым приходится считаться… Я начинаю бояться спорить с ней, начинаю уступать, она мешается в дела, сердится, требует… Одним словом, это пора прекратить!.. — вдруг перебил себя Степан Иваныч, и глаза его, начавшие было оживать, стали вновь холодными и тусклыми.
— Отчего же прекратить?.. — осторожно и мягко спросил Мижуев. — Она тебе надоела?..
— Нет, какое надоела! — дернувшись лицом, в мгновенном и странном выражении возразил Степан Иваныч. — Напротив, я чувствую, что мне будет скучновато без нее…
Он неожиданно замолчал на этой сухой и скупой фразе, но Мижуев с теплым чувством услыхал за ней много больше и глубже.
— Так в чем же дело?.. Ну и живи с ней по-прежнему.
— К сожалению, она не из такого сорта… Она Потребует или признания ее перед всеми открыто, или… Но содержанкой такие не бывают…
— Ну и признай, даже женись… Может, будешь счастлив!..
Мижуев опять невольно усмехнулся.
Но на этот раз на лице Степана Иваныча не мелькнуло симпатичное смущенное выражение. Оно осталось деловым и холодным.
А Мижуев уже представил себе маленькую милую женщину, чистую молодую мать, от которой и от ребенка ее входит в душу что-то, похожее на солнце и голубое радостное небо. Фигура Степана Иваныча, новая, живая и простая, согретая этим солнцем, смутно нарисовалась ему. Но все сейчас же и пропало.
— Если бы я и женился, то уже наверное не на такой женщине, которая садится на письменный стол, делает тебе колпак из деловых бумаг и плачет, и смеется в одно и то же время…
Мижуев представил себе брата в бумажном колпаке и засмеялся. Степан Иваныч неловко скривился и слегка отвернулся.
— Тебе смешно, — сказал он, — а мне, право, не смешно… Я не могу простить себе такой глупости. Не надо было доводить до этого. А теперь вот приходится просить тебя, чтобы ты поехал объясниться с нею… Можешь?..
Мижуев коротко и грустно пожал плечами. Ему вдруг стало страшно жаль брата, жаль золотого счастья, которое каким-то чудом пришло к его мертвой твердой душе и которое он сам хотел оттолкнуть.
«Для чего? — спросил себя Мижуев. — Чтобы опять сидеть у себя в конторе над счетами и векселями?.. Жить долго и скучно?.. Бог знает для чего, зачем!..»
— Я могу, конечно… — сказал он, — но зачем?.. Быть может, это можно как-нибудь иначе устроить?.. Разве это необходимо?.. А может быть…
Короткая странная судорога пробежала по желтому лицу Степана Иваныча, и Мижуев вдруг понял, какая бесплодная и мучительная борьба уже была в нем. и почувствовал, что она бесполезна, как бесполезна борьба жизни в трупе. Холодное и тоскливое ощущение пустоты и бессилия охватило его.
— И притом, — вдруг с трудом заговорил Степан Иваныч, — неужели ты думаешь, что я не понимаю, что будь я не миллионер, не забавляй ее возможность переделать душу миллионера и тому подобное, она могла бы полюбить меня?.. Кажется, для чего-чего, а для этого занятия я совсем неподходящий объект!
Степан Иваныч опять усмехнулся, и по этой повторяющейся кривой улыбке Мижуев увидел, что брата мучает и нестерпимо унижает этот разговор.
— Почему же непременно — миллионер! — с трудом проговорил он.
— Ну, это понятно… — не глядя ответил Степан Иваныч.
И, помолчав, прибавил:
— Поговорим о другом.
Что-то больное пробудилось в душе Мижуева, и старая мысль шевельнулась, точно обрадованная змея. Образ маленькой светлой женщины потускнел и расплылся. Мижуев тяжело вздохнул, и глаза его взглянули так углубленно, как бывает у людей, обреченных на смерть.
XIII
Когда Мижуев поехал к Николаеву, был уже вечер и выпал первый ранний снег, местами размокший в воде, местами, больше у заборов и в скверах, удержавшийся белыми нежными пятнами. Снег и вода, мешаясь, казались ярче и моложе; и вода чернее, и снег белее. От этого и оттого, что пахло каким-то молодым свежим холодком, и оттого, что во всех, уже невидимых, церквах звонили ко всенощной, и казалось, что вся Москва гудит и поет медным многозвучным голосом, — ощущение здоровья и бодрости радостной волной прихлынуло в утомленную долгим разговором с братом голову Мижуева.
Отчаянные рысаки несли его вдоль черных с белыми берегами прудов, в которых играли отражающиеся золотые огоньки, по улицам, в колокольном гуде, среди непрерывно текущей с обеих сторон, теперь как будто другой, оживленной и веселой толпы. И сердце Мижуева расширялось радостным нетерпеливым ожиданием.
Он уже видел перед собою Николаева, с его широкоплечей энергичной фигурой, молоденьким задушевным голосом и буйными вихрами русых волос. Предчувствовалась радость встречи, оживленные вопросы и ответы, а потом задушевный, «настоящий» разговор, в котором, наконец, выскажется и растопится многое тяжелое и больное. Мижуев даже смотреть стал веселее и почувствовал себя таким большим и сильным, каким давно уже не бывал.
Неприятно поразило его только то, что в передней квартиры Николаева висели пальто и шляпы, а за дверьми в зал слышался нарядно-красивый женский голос, с блеском певший оперную арию. Звенел и сверкал рояль, а из щелей двери тянуло пахучим сигарным дымом и женскими духами. Мижуев даже остановился. Он как-то совсем выпустил из виду, что теперь Николаева трудно застать одного, а следовательно, может быть, и не будет ни той встречи, ни тех разговоров, ожидание которых наполняло его душу радостным волнением. Но в это время дверь порывисто распахнулась, и, крупно шагая, веселый и открытый, в синей рубахе и шароварах, похожий на удалого волжского ушкуйника, вошел Николаев.
— Федя!.. А!.. Здравствуй, голубчик!.. Где ж ты пропадал столько времени?.. — закричал он чуть не на весь дом, крепко хватая его за руку. Ты что ж это такой желтый?
Они поцеловались, и Мижуев поцеловал эти крепкие добрые губы с таким трогательным удовольствием, с каким никогда не целовал женщин.
— А ты все тот же! — влюбленно глядя, сказал он. Когда они входили в зал, Мижуев тихо спросил:
— У тебя много народу?.. Хотелось бы поболтать, чтоб никто не мешал…
— Наплевать!.. — бесшабашно ответил Николаев. — Не обращай внимания… Их теперь ко мне всегда чертова тьма лезет. Я привык уже… Ничего, брат, не поделаешь: знаменитостью стал.
— Ну, я слава Богу! — с громадным удовольствием сказал Мижуев, нежно глядя на него с высоты своего массивного тела, рядом с которым широкоплечий Николаев казался изящным.
Мижуев вошел в зал, взволнованный до глубины души близостью этого доброго, веселого, размашистого человека, который если любил его, то уж действительно за самого него.
От рояля навстречу им пошла высокая и гибкая, как красивая змея, женщина в черном платье и с серыми кокетливыми глазами актрисы.
— Вот, Лидия, — громко и весело объявил Николаев, — это тебе мой Мижуев!.. Смотри, какой здоровенный миллионер!
Мижуев засмеялся, засмеялась и красивая женщина с серыми глазами. Засмеялись и ее глаза, но их смех не понравился Мижуеву.
— Ах, очень рада!.. — сказала она звучным голосом певицы и протянула белую пышную руку, открытую до локтя.
Потом представила его своим гостям. Их было много, но все показались Мижуеву на одно лицо: чересчур приязненное, с осклабленными зубами и скрытым любопытством в глазах. Это было то самое лицо, которое всю жизнь преследовало Мижуева и которое он ненавидел. Но на этот раз он был так радостно взволнован встречей с Николаевым, что не обратил на них никакого внимания.
— Ну, господа! — сказал Николаев, останавливаясь посреди зала. — Вы тут себе пойте, кричите, танцуйте, что хотите… а мы с ним пойдем потолкуем!.. Лидия, можно?
— Ах, Боже мой, конечно! — вычурно-красиво подняла обе руки женщина с серыми глазами. — Идите, идите, я пришлю вам чай.
В кабинете Николаева Мижуев сел на широкий турецкий диван и радостно обвел глазами комнату. Она была все та же: те же книги, бумаги, кучами наваленные везде, — на полу, в шкафах, на столе, которого совсем не видно было за ними. И ничего, кроме кожаного дивана, не говорило о комфорте, уместном в кабинете знаменитого писателя. Мижуев вспомнил, что такой же беспорядок и хлам был и в комнате никому не известного студента Николаева. Да и сам он остался таким же, только чуть-чуть пополнел.
Разговор начался так просто и сразу интересно, как все, что начинал Николаев. И когда через пять минут Мижуев сидел на диване и ласково следил за шагавшим по комнате Николаевым, тому было известно все: и разрыв с Марией Сергеевной, и столкновение с братом, и путешествия за границей, с ее отелями, театрами и музеями, и та тупая мертвая тоска, которою страдал Мижуев уже так давно.
— Я не понимаю тебя, — сердито и в то же время любовно говорил Николаев, размашисто шагая из угла в угол, — то же самое переживаю и я… Прошло то время, когда люди шли ко мне так просто, потому что им нравилось то, что я говорил и делал. Теперь всякий, кто ко мне подходит, преисполняется уважением к знаменитому писателю! И, пожалуй, иногда это приятно. Но, во-первых, это закон человеческой природы: человек по природе раб, а во-вторых, всегда найдутся люди, которые подойдут прямо, с открытой душой.
— У тебя — дело другое… — немного грустно возразил Мижуев. — Ты знаменитый, но ты прежде всего — писатель, то есть человек, который покорил людей и тянет их к себе силой своей собственной души. Если бы я знал, что на Руси столько молодых людей и молоденьких девушек, которые за счастье сочли бы не то что поговорить, а просто посмотреть на меня, мне казалось бы, что я весь подхвачен их молодой волной, и был бы. пожалуй, прямо-таки счастлив.
— Зато есть много людей, которым ты помогаешь…
— Это не то… — с грустной улыбкой покачал тяжелой головой Мижуев. — Я ведь не сам творю эти деньги, в конце концов, это их же деньги, и я знаю, что те, кому я даю мало, — ненавидят меня, те, кому даю много, — сердятся, что не больше, и все с тайной враждой смотрят на все хорошее, что я могу получить сам через свои деньги. Им кажется, что я краду, трачу их добро, их счастье…
Трагическая нотка прозвучала в голосе Мижуева. Николаев остановился посреди кабинета и задумался. Лицо его стало серьезно и углубленно.
— Это, пожалуй, правда, а все-таки ты не прав! — встряхнул он волосами, точно нашел то, что чуть было не потерял.
И он стал напоминать Мижуеву о том, что он мог бы свои богатства, так или иначе уже попавшие ему в руки, крепко зажать в кулак. Прав или не прав миллионер, скопляющий у себя труд массы, но миллионеры существуют, и люди не убивают их, напротив, даже подчиняются им, и во власти каждого миллионера сделать со своими миллионами и величайшее зло, и благо. Мижуев избрал последнее, и это не могут не понимать сознательные люди.
Николаев страшно оживился, заблестел глазами, улыбаясь широко и радостно. Мижуев сидел на диване, влажными глазами смотрел на него и чувствовал, как что-то теплое вырастает в нем, а впереди светает надежда на иной, светлый день. Он потерял свой всегдашний, напряженно-нездоровый вид и стал такой добродушный, немного забавный, как добрый медведь.
— У тебя в руках почти десять тысяч рабочих, — с ярким чувством, от которого, видимо, загоралась вся душа его, говорил Николаев, машинально стараясь заглушить голосом звуки рояля и бурных колоратур блестящего женского сопрано, долетавших из зала.
— У них хозяин не один: твой брат владеет ими так же, как и ты. Отчего же он не делает того же, что и ты… или отчего ты не делаешь того, что он? Ведь каждую копейку, которую ты отдаешь рабочим, ты отдаешь добровольно… Заставить тебя никто не может! И ты думаешь, что рабочий этого не знает!.. Они знают больше, чем мы с тобой!..
Мижуев наивно и доверчиво смотрел ему в лицо.
— Ты знаешь, когда прошла весть о твоем самоубийстве, рабочие не хотели верить этому… Мне самому один старый рабочий со слезами говорил: «Это быть не может… такой человек на себя руки не наложит. Это он от врагов скрывается, а время придет, он объявится и покажет себя!..» Вот!.. невольно вскрикнул Николаев и блеснул глазами в таком восторге, точно увидел перед собой великое и святое дело.
Мижуев почувствовал, как задрожали у него руки и ноги от глубочайшей радости и почти непереносимого подъема.
Перед ним вдруг показались необозримые толпы этих черных, замученных, голодных рабочих, и он увидел море их глаз, доверчиво и открыто глядящих на него. Увидел самого себя, не такого тяжелого и мрачного человека, каким был, а бодрого, деятельного, смело и твердо идущего к своей цели.
Скользнула острая, как иголка, мысль о личной погибшей жизни, но она потонула в ярком наплыве могучего чувства.
— Ах, брат… — дрогнувшим голосом сказал он. — Недаром я так долго думал о тебе и так ждал этой встречи!..
Николаев, все еще блестя глазами и как будто прислушиваясь к чему-то внутри себя, блаженно и весело улыбнулся.
Они долго молчали, каждый полный своими большими думами. А за дверью гремел и разливался могучий блестящий голос. Казалось, это и не женщина пела.
За ужином в светлой и шикарной столовой за столом, уставленным блестящими бутылками и живыми цветами, Мижуев и Николаев были веселы и оживлены, как никогда. Все остальные сидели молча и благоговейно слушали их.
Николаев начал рассказывать Мижуеву о своей идее нового яркого журнала, в котором хотел соединить все лучшие молодые силы. Он предложил Мижуеву дать денег на это дело, и Мижуев радостно согласился.
Ему все казалось теперь прекрасным, добрым и живым. Все наполнял и оживлял Николаев, и Мижуев не спускал с него глаз.
Жена Николаева, знаменитая певица, женщина с серыми глазами актрисы, ухаживала за ними обоими и вилась вокруг Николаева, как будто обволакивая его лаской, заботами и красотой своей.
«А она искренне любит его, кажется! — подумал Мижуев, чувствуя уже к ней теплое дружеское влечение. Какими людьми он умеет окружать себя. Не то что я!» — с горькой внутренней усмешкой вздохнул он. — А что, Сергей Петрович, — обратился к Николаеву господин с угодливым влажным взглядом еврейских глаз, — думаете ли вы обратиться с приглашением и вашу «Живую мысль» к Четыреву?
— Там видно будет, — ответил Николаев мельком, и по лицу его скользнула неприятная тень.
И Мижуев заметил, что после этого наступила минутная тишина, а по серым глазам женщины в черном платье, своими белыми руками раздававшей блюдо, промелькнуло враждебное острое выражение.
«Неужели он боится Четырева?» — со страшным изумлением подумал Мижуев.
Он знал, что Четырева многие считают выше Николаева, но никогда не мог бы допустить мысли, что для Николаева это может иметь какое-либо значение. Ему мучительна была мысль о зависти и недоброжелательстве к сопернику у Николаева, и Мижуев постарался себя самого упрекнуть за нее. Но в эту минуту он встретился взглядом с серыми глазами, тревожно и хищно смотревшими на Николаева, и машинально подумал:
«А ведь она любит Николаева только потому, что он знаменит».
Эта неожиданная мысль больно резнула его по сердцу. Но серые глаза уже были прозрачны, ласковы и непроницаемы, а Николаев по-прежнему шутил, смеялся и говорил горячо и бурно.
Но прежнее настроение не вернулось уже к Мижуеву и, когда рысаки опять понесли его по опустевшим улицам спящей громадной Москвы, Мижуев угрюмыми глазами следил за темными, колеблющимися в фонарном свете и ветре фигурками уличных женщин, одиноко чернеющих на тротуарах, а в душе его тяжело и громадно ворочалась больная зловещая мысль.
XIV
На белом снегу и приземистые закопченные здания завода, и черные трубы, и заборы, и самая толпа, буйно шевелящаяся на заводском дворе и на ближайших улицах, казались черно-грязными, точно вывалянными в мокрой саже и грязи.
Завод был в руках забастовочного комитета. Он так же, как и двор, казалось, был весь живой и шевелящийся от сплошной массы голов, красных, возбужденных лиц и машущих рук. Вызванные дирекцией войска и полиция выстроились правильными серыми и черными линиями в обоих концах улицы, и видно было издали, как лошади беспокойно махали головами да прохаживались по снегу серые офицеры.
Свободным оставался только проход с Москвы-реки, и оттуда непрерывной разрозненной толпой все подходили и подходили рабочие.
Мижуев, вызванный по телефону, приехал на пролетке в одну лошадь и прямо влетел во двор. Он был бледен, и губы у него дрожали. Разбудили его совершенно неожиданно, и он еще не успел сообразить: что делать? Одно он чувствовал: энергичное желание все уладить и веру в то, что ему удастся. Он понимал, что если возможно подействовать на рабочих, то только один он может это сделать. И чувство тревожного нервного возбуждения смешивалось в нем с уверенностью, что рабочие его послушают и ему удастся предотвратить готовящийся ужас разгрома.
Еще издали он услышал нарастающий многоголосый ропот, прерываемый отдельными резкими вскриками, а когда рысак с размаху завернул в ворота, страшный шум оглушил его. Он торопливо оглянул черную массу голов и красные стены здания, из каждого окна которого выглядывали и махали руками, и, поднявшись на пролетке, заскрипевшей под его тяжестью, тяжело спустился вниз.
При его появлении шум вдруг упал, и только в дальних рядах слышался глухой ропот и отдельные выкрики. Из окон дирекции тоже увидели его, и между двумя городовыми, стоявшими на крыльце, показался бледный и растерянный директор Шанц.
Внезапный порыв охватил Мижуева, он быстро взошел на крыльцо и, сняв шапку, махнул ею. Наступила тишина, множество красных и внимательных, молодых, старых лиц молча смотрели на него. Слышно было только, как в задних рядах и на улице что-то роптало, падая и поднимаясь, как прибой.
— Господа!.. — закричал Мижуев громко и бодро, чувствуя, что его будут слушать. — Я только что приехал и дело знаю только в общих чертах!.. Сейчас я отправлюсь для переговоров с остальными хозяевами и дирекцией и прошу вас до окончания этих переговоров не приступать ни к каким действиям… Вы мне верите?.. Да? Согласны?
Еще раньше, чем разразился громовый крик согласия толпы, далеко, в третьем этаже фабрики кто-то махнул белым, и Мижуев, не успев рассмотреть, кто это, каким-то инстинктом понял, что это приветствуют его, и сердце стало у него теплым и радостным, полным бурного желания сделать все… Для них…
Он быстро вошел в дом, унося в ушах тысячеголосый взрыв и воспоминание о сотнях изменившихся, приветливых и оживленных лиц.
А первое лицо, бросившееся ему в глаза, когда он вошел в контору, было лысоватое обрюзглое лицо Степана Иваныча. сидевшего за столом. На этом лице было странное выражение не то вражды, не то досады, не то насмешки. Он почти не взглянул на брата. И это выражение приковало к себе Мижуева. Он почти не заметил других и прямо подошел к брату. Степан Иваныч поднял холодные глаза.
— Ну, что ж ты теперь скажешь?.. — тонким голосом спросил он.
— Как что?.. — холодно и крепко возразил Мижуев. — Я вижу, что все можно уладить, и если вы предоставите мне свободу, то к вечеру завод пойдет!..
Он ясно и смело смотрел в глаза брату, но глазки Степана Иваныча оставались холодны и даже как будто злобны.
— Конечно!.. — неискренне сказал он. — Если к вечеру мы будем разорены, то завод пойдет… на три дня…
Мижуев оглянулся. Все пять человек, бывшие в комнате, смотрели на него молча, и на всех лицах было то же враждебное и на что-то решившееся выражение. Он почувствовал себя одиноким среди них, и это вызвало в нем самом упрямое раздражение.
«Теперь мы — враги!.. — подумал он, мельком взглянув на брата. — Ну, ладно… Посмотрим, чья возьмет!»
— Почему же разорены?.. — вздернул он головой. — Не думаешь ли ты уверить меня, что прибавка двадцати процентов унесет наш миллионный дивиденд?.. Полно, брат!..
Мижуев горько махнул рукой.
Было тяжело сознавать врага в брате, которого он всегда любил и жалел.
— Тут дело не в двадцати процентах!.. — сухо и не глядя отвечал Степан Иваныч. — Двадцать процентов не разорят завода, хотя и тяжко лягут на него при теперешнем положении дел. Но где гарантия, что за двадцатью не последуют сорок, пятьдесят?.. Неужели ты думаешь, что им нужно именно двадцать процентов прибавки?.. Это смешно! — Степан Иваныч злобно искривил лицо. Эти двадцать копеек на рубль для них только лишняя бутылка водки!.. Дело не в двадцати копейках, а в непримиримой требовательности людей, верящих, что мы — паразиты, а весь завод, все деньги, сто процентов, а не двадцать, не сорок, все принадлежит им, и они должны вырвать свое, выбросив нас, к черту на улицу!
Голос Степана Иваныча поднялся, тонкий и злобный, и свистнул на последней ноте, как собачий визг. Мижуев смотрел на него растерянно и возмущенно.
— Какое ты имеешь право говорить так?.. — тихо сказал он. — Люди умирают с голоду, бьются в тяжелой работе, какой ты не вынес бы и два дня, а ты говоришь об их пьянстве, о бутылках водки. Не мы ли пропьем больше?.. Полно, брат!.. А я утверждаю, что, если теперь, в настоящую минуту, дать им то, что необходимо для них, они пойдут на работу, даже не мечтая о большем. Потому что они лучше нас понимают, что не мы создатели этого неравенства, безобразного и несправедливого, и не на нас обращают свою вражду.
Степан Иваныч с недобрым раздражением качнул головой, точно услышал глупые и вредные слова, но промолчал. И это молчание, это упрямое сухое сопротивление тому, что казалось Мижуеву таким простым и правильным, озлобило его.
— Ну, что ж… Ну, не дай, вытолкай их депутатов… Они разнесут твой завод по камешку!.. И пусть… я буду рад, что что проклятие будет стерто с лица земли! Степан Иваныч криво усмехнулся, и усмешка была так зла и презрительна, что Мижуев побледнел.
— Все это фразы… — скупо процедил Степан Иваныч. — Разносить им не дадут войска, а «проклятием» этим ты, слава Богу, пользовался не меньше меня!.. Эх!..
— Войска?.. — глухо спросил Мижуев, чувствуя страшную ненависть к брату и ясно ощущая, что и тот ненавидит его. — Мы будем стрелять в голодных и правых людей?.. Да ты понимаешь ли, о чем говоришь?..
— Я все понимаю. Не я создал заводы, не я создал рабочих. Я очень рад, что когда-нибудь не будет ни того, ни другого, но пока что завод принадлежит нам, а не им, и если они тронут хоть один камешек, я разнесу их, как бешеных собак!.. Вот!
И Степан Иваныч встал, громадный и тяжелый, как камень. На его широком черепе тускло блеснул синий свет зимнего дня.
— А я не позволю!.. — хрипло крикнул Мижуев. — И если ты будешь стрелять, я стану с ними. Посмотрим, хватит ли у тебя силы тогда…
Степан Иваныч отвернулся.
— Это твое дело… — глухо проговорил он и отошел к окну.
Мижуев долго стоял на том же месте и чувствовал. как мучительно дрожат его руки и ноги и бьется сердце.
— Федор Иваныч!.. — необыкновенно мягко и вкрадчиво заговорил у его локтя Шанц, и Мижуев увидел перед собою его острую лисиную мордочку. — Мне кажется, что вы слишком волнуетесь и преувеличиваете положение дела. Ведь, в конце концов, мы все понимаем, что без уступок невозможно. Степан Иваныч, конечно, согласится с этим… Да-с. Но дело не в уступках. Насколько я мог судить по предыдущим совещаниям нашим, вы стоите за полное удовлетворение всех требований. Это же невозможно, Федор Иванович!
Он ласково тронул его локоть и заглянул в глаза неискренне-доброжелательным взором. Мижуев отвернулся.
— Извольте взглянуть, — скромно и настойчиво продолжал Шанц, как будто не заметив движения Мижуева и рукой слегка приглашая его к столу. — Вот я вас сейчас познакомлю с цифрами, и вы сами увидите, что можно и чего нельзя сделать…
Его ласковый липкий голос был так настойчив, что Мижуев невольно сел к столу и стал угрюмо и внимательно слушать.
— Вот начнем с существующей расценки… — начал вкрадчивым голосом Шанц и необыкновенно ловко стал излагать Мижуеву сложную сухую систему. Начал он с того, что показал, что положение рабочих их завода во многом лучше положения рабочих этого района вообще. Ловко и кстати он упоминал о крупных затратах на школы, больницы и театр, на правильную, образцовую даже, постановку потребительного магазина. Потом раскрыл картину рынка и колоссальную сумму убытков, уже перенесенных заводом в прошлую забастовку.
— А между тем рабочие не желают помнить, что эта забастовка была вызвана не нами, а политикой правительства… — как бы вскользь заметил он, жестикулируя только кончиками своих холодных костлявых пальцев.
Затем он раскрыл целую груду аккуратных книг, по которым стало видно, что введение новых машин сократило труд, увеличило производство и таким образом увеличило заработок почти в полтора раза. Если бы полгода тому назад поднялся вопрос о повышении платы и завод пошел бы на уступки, то и тогда они получали бы на тридцать процентов менее, чем теперь. — Таким образом, они спешат с новой надбавкой, не вызываемой действительным положением дела, и лишают завод возможности приступить к новым расширениям, которые повели бы к улучшению их же собственного быта.
И перед глазами Мижуева туманно и громадно стала разворачиваться картина заколдованного круга. Нарисовались бесконечные крыши заводов, миллионы труб, охвативших весь земной шар, миллиарды рабочих, голодными толпами копошащихся отсюда и до края земли. И стало понятно, что если даже они и разорятся, если они отдадут рабочим все, то и тогда ничего не изменится. Лопнет одно звено этого ужасного змея, лопнет их завод, настанет тяжкая безработица, голодные толпы повалят на другие заводы и там понизят плату своим предложением труда во что бы то ни стало.
А директор Шанц все говорил и говорил, ловко и быстро спутывая новые звенья страшной логики. Кончики его мертвых пальцев, как щупальца паучка, шевелились перед Мижуевым, и тот с ужасом чувствовал, что ничего не может сделать, ничего возразить и, следовательно, должен согласиться с тем, против чего восстает вся душа его.
Смутно он видел, что причина этого лежит в том противоречии, которое лежит в нем самом: одно возможное, святое решение заключалось в том, чтобы правда оставалась правдой, и если для удовлетворения ее надо разориться-разорится!.. Что будет потом — дело другое!.. Другие найдут, что сделать дальше, а его дело — провести свою правду до конца.
Но туманом затягивало эту простую и ясную мысль: много лет он уже привык видеть в точности этих цифр неизбежный закон, какую-то другую правду. И теперь мозг его, ясный и твердый, перед железной логикой пугался, слабел и сбивался. Мижуев сам не замечал уже, что спорит не о справедливости, не о правде, а о том, верно ли, что можно спустить двадцать процентов или возможно только десять.
За окнами, потрясая их мутные стекла, что-то рокотало и роптало, как отдаленный водопад, и по временам рассыпалось резкими острыми вскриками.
А Шанц все говорил и говорил и все сыпал цифрами, точно высыпал из бесконечного мешка каких-то злых неодолимых уродцев, которые путали по рукам и ногам, залезали в голову и возбуждали там тяжкое чувство полного бессилия перед силой вещей.
— Пойми же, — вмешался Степан Иваныч уже более спокойным голосом, — тут не может быть середины. На десять процентов они не пойдут. Речь шла о тридцати, десять сброшены, депутаты уступили, а десять!..
Мижуев поднял на него смутные, усталые глаза.
— Надо уступить или все, — опираясь на стол, говорил Степан Иваныч, или ничего… Ничего, чтобы после неизбежного разгрома иметь возможность успокоить их же самих самостоятельной надбавкой…
— А пока… — бледнея, спросил Мижуев.
— А пока…
Степан Иваныч быстро отвел глаза и, скрестив пальцы, похрустел ими.
— Нет!.. — крикнул Мижуев, вставая во весь свой громадный рост. Я не могу… не могу допустить, чтобы убивали людей за то, что они голодны, за то, что наши интересы, — не их интересы…
— Тогда выйди к ним и предложи им свои условия, — развел руками Степан Иваныч.
Мижуев постоял молча, глядя в пол. Ему страстно захотелось, чтобы тут появился Николаев. Казалось, что вдвоем они сумели бы разорвать заколдованный круг.
— Я пойду… лучше уж это, чем… — выговорил он, и голос его болезненно сорвался.
— Что ж, как хочешь… — развел руками Степан Иваныч. — Может, тебе и удастся, но… я должен предупредить тебя, что ты сильно рискуешь…
— Чем?
— Ты примешь на себя всю их злобу… Ведь! эти твои рабочие, за которых ты так стоишь, в одну минуту забудут твои хлопоты за них, и стоит только тебе оказаться против них, они возненавидят тебя больше, чем кого бы то ни было, именно за то, что уже сделал им и что они верили в тебя!
Мижуев молча смотрел на него.
— Слушай, Федя!.. — ласково начал Степан Иваныч. — Неужели ты думаешь, что мне самому не тяжело?.. Но ты рискуешь самым серьезным образом… Оставь… я тебя прошу!..
Мижуев долго стоял на месте, потом круто повернулся и пошел вон. Он почувствовал, что если он не выйдет, то… и представились ему треск выстрелов, крики и кровь. Он тряхнул тяжелой головой и с глухим, мертвым чувством в груди, как бы принимая на одного себя какой-то тяжкий крест, вышел на крыльцо.
Шум и белый свет охватили его. Тысячи лиц повернулись к нему выжидательно и многие почти весело. Он начал говорить.
И то, что произошло потом, было похоже на внезапно налетевший смерч. Как будто он не слышал своих первых слов, но сразу увидел, как страшно и быстро изменились лица вокруг. Мгновенно исчезло выражение доверия и веселья, и лица стали другими. Мижуев почувствовал это и стал вдруг одиноким в этой громадной толпе. Стал одиноким и чужим ей. Он попытался выкарабкаться из пустоты, в которую пошел, но слова уже были бессильны. Связь, казавшаяся такой искренней и прочной, разорвалась в одно мгновение, как будто ее не было никогда. И перед Мижуевым стояли одни враги.
Потом он помнил, как стал возражать знакомый ему токарь, маленький, черный мужчина с пронзительными глазами.
— Довольно обманов!.. — кричал он. — Вы обнаружили свое настоящее лицо… Между вами и миллионами людей, которые вам верили и ждали от вас справедливости, стоят ваши миллионы рублей!.. Мы требуем своего!.. Стреляйте в нас, стреляйте!.. Делайте свое дело!.. Палачи!
Мижуев, бледный как смерть, попробовал говорить, но уже не знал, что сказать, и вдруг почувствовал страх, как будто во сне упал в страшную пропасть.
Кто-то схватил его за руку, он инстинктивно оттолкнул и хотел повысить голос, но это движение приняли за угрозу. Кто-то еще крепче схватил его за рукав, потом за грудь, комок снега резко ударился в глаз, и в страшном реве, растерянный и бледный как смерть, Мижуев скрылся в толпе. Инстинктивно он вырвал правую руку и со всей своей страшной силой ударил кого-то по голове. На мгновение перед ним образовалось пустое пространство, и он увидел въезжающих во двор красноголовых солдат и нагайки в воздухе. В страшном ужасе он бросился к ним навстречу, но сзади бросились на него, навалились, и он упал вниз, увлекая за собой черненького токаря с разбитой красной головой.
XV
Восток, омытый и сияющий, радостно выходил из моря, все ярче и выше охватывая голубое небо, проснувшееся и загоревшееся огнем торопливых тучек. Чувствовалось, что еще немного, и из-за края земли ослепительно улыбнется великое веселое солнце.
Но водная даль еще спала. Холодные зеленые волны сонно облизывали борта парохода, и дремотный холодок утренней тени лежал на море и еще синих, пустынных склонах тяжелых гор. Только высоко-высоко над морем остроконечные вершинки, со своей счастливой высоты уже увидевшие солнце, ярко, как языки красного, розоватого и золотого пламени, горели в голубом небе.
Мижуев тяжело вылез на палубу и оглянулся кругом усталыми, горящими от бессонной ночи глазами.
На пароходе еще спали. Два-три матроса швабрами мыли и терли мокрую блестящую палубу, да из трюма доносился неопределенный пробуждающийся шум. Пароход глухо и мерно стучал, незаметно и однообразно журчала вода. Было холодно, и широкие плечи Мижуева сжимались в мелкой судорожной дрожи. Невыспавшееся лицо было измято, и волосы всклокочены.
Тяжелым шагом он прошел на корму и долго стоял там, неподвижно глядя не то в зеленую вспененную воду, не то на дальние вершины гор, где, должно быть, уже был яркий солнечный день.
Потом поднялся на верхнюю палубу и сел за один из мраморных столиков, крепко привинченных к месту, неудобных и холодных, как лед. Скрестив на мраморе массивные руки, Мижуев сонно и скупо окинул завалившимися глазами пустую палубу.
Солнце быстро поднималось где-то там, за краем земли, и горы уже до половины горели утренним блеском. Видно было, как быстро уступая склон за склоном, цепляясь в ущельях и ускользая по ним, все ниже и ниже убегала синяя холодная тень.
На пароходе зашевелилась жизнь. Пробежал куда-то кельнер в белой куртке с безобразно большими серебряными пуговицами; прошел с вахты продрогший серый помощник капитана; две молоденькие барышни, с еще не проснувшимися глазками, вышли из первого класса и оглянулись вокруг с таким видом, словно страшно удивились, что уже так светло и красиво, когда они только что встали. Потом появился длинный карикатурный англичанин в панаме, и сейчас же, вытянув ноги с одной скамьи на другую, закурил громадную сигару. Выбежал маленький мальчик в матросской курточке и, мелькая голыми икрами, побежал куда-то навстречу солнцу. Еще и еще сонные, жмурящиеся и улыбающиеся люди появлялись на палубе, и когда на горизонте вдруг выглянуло и ослепительно брызнуло по верхушкам волн, по реям, по палубе и по зеленым берегам низкое утреннее солнце, пароход уже жил своей пестрой, праздной и веселой жизнью.
Две француженки, с весело-любопытными глазами, щебеча, как птицы, приветствующие утро, уселись за соседним столиком, оглянулись направо и налево, увидели угрюмого соседа, переглянулись и засмеялись.
Мижуев хотел уйти — ему были противны все человеческие лица, голоса, не говорящие того, что есть, и фальшивые глаза. Но руки и ноги у него дрожали, спина ныла, веки резало, и никуда не хотелось двигаться. Тогда стуком о столик он позвал пробегавшего кельнера и уже открыл рот, чтобы заказать, но поймал любопытный взгляд двух француженок, уже знавших, что он — известный русский миллионер, и промолчал. Ему показалось, что если он услышит звук собственного голоса, то сейчас же вспыхнет тот припадок нервного, слепого гнева, который так часто в последнее время охватывал его. И еще казалось ему, что во всем свете нет ничего противнее, глупее и ненужнее, чем свой голос.
Кельнер стоял молча и уже начинал изумляться. Тогда Мижуев, неожиданно для самого себя, взял карандаш и написал на скользком мраморе столика:
— Дайте мне кофе…
Кельнер, как петух, собирающийся клюнуть, изогнув набок голову, одним глазом прочел надпись, изумился, но мгновенно умчался прочь.
А Мижуев обрадовался; как это раньше не пришло ему в голову? Это так просто… Можно замолчать совсем и то немногое, что ему нужно от людей, получать не слыша ни своего, ни их фальшивых голосов. Даже нечто лукавое скользнуло в мозгу Мижуева, точно он нашел средство спрятаться от всех.
Когда принесли кофе, он слегка отвернулся к морю, положил тяжелую больную голову на ладонь и задумался. Между пальцев, сжавших череп, дико торчали всклокоченные волосы и глаза смотрели мутно и безжизненно.
Уже много дней жизни являлись для него одной сплошной думой, тяжело и трудно проходившей сквозь мучительную головную боль. А когда он забывался болезненным коротким сном и настойчивая мысль исчезала, появлялось кошмарное невыносимое ощущение пустоты, в которой он судорожно барахтался, стараясь ухватиться за что-нибудь и бессильно опускаясь все ниже и ниже. За это время он проехал огромное пространство, видел массу людей, городов, гор и морей, но в мозгу его все это отпечаталось так бледно и тускло, точно было воспоминанием о давно минувшем. Но настойчиво повторяясь, с неуклонной точностью и неустранимостью крута, в центре которого была его больная голова, ярко, но кошмарной спутанной яркостью, стояли перед ним одни и те же лица.
И теперь на голубо-зеленом мареве плывущих мимо берегов, которых он не видел, Мижуев внимательно, с упрямым страданием восстанавливал себе.
Сначала появилось растерянное, смущенное лицо Николаева: он стоял посреди своего кабинета — перед растерзанным, кричащим, плохо сознающим Мижуевым — смотрел в сторону и дрожащими пальцами мял кисти своего пояса. Мижуева душило слепое бешенство, и он старался понять: как этот человек, лучший из всех, кого он знал и любил, не мог почувствовать той ужасной несправедливости, жертвой которой ой стал. Люди-звери, которым он не сделал ничего, кроме добра, которым хотел посвятить всю жизнь и ради которых шел на все, избили его, били и хотели убить!.. Надо было прийти в ужас, в бешенство, возмутиться до глубины души, а вместо того он слышал смущенный искренний голос, который убеждал его, что они не виноваты.
— Это звери… бессмысленное, злое, жадное зверье!.. — кричал Мижуев. Что я сделал им? За что?..
Но Николаев смотрел в сторону, и лицо его было странно и даже как будто брезгливо.
— Они жестоко поплатились за это… за одного человека… — тихо говорил он.
— Поплатились!.. Разве за это можно поплатиться?.. Еще бы!.. Поплатились?.. Жаль, что мало!.. Я рад, рад, рад!..
Мижуев кричал все громче и громче, точно спешил вылить в этом диком крике наслаждение ненавистью, которой захлебывался. Но чем громче кричал он жестокие слова, казавшиеся ему теми, которые и были нужны, тем холоднее и брезгливее становилось лицо Николаева. А когда Мижуев заметил это и стал с мучительной злобой и ужасом упрекать Николаева в том, что он не понимает его и не чувствует его боли, Николаев с тихой, но жестокой враждой сказал:
— Им и не то приходилось выносить… Ну, пусть, это была ошибка, слепой взрыв измученных людей… Но ведь, если говорить правду, что ты для них? ты им такой же враг, как и все, как твой брат…
— Я?.. — с ужасом и укором спросил Мижуев.
— Ну, и ты!.. Ты так же пользовался их потом и кровью, как и другие… Если ты и не душил их, а иногда помогал… так… это ведь, право… небольшая заслуга…
Разбитое, с нависшей губой и запухшим глазом лицо Мижуева стало страшно и жалко.
— Значит, они, по-твоему, правы были бы, если бы и убили меня?.. задыхаясь; как рыба на песке, с ужасом спросил он.
Николаев побледнел, и только еще сильнее задрожали его пальцы, рвущие кисти пояса.
— А если так, ты… — начал Мижуев, чувствуя, как падает в холодную бездну.
И тут произошло то, что было самое омерзительное: на лице Николаева мелькнуло трусливое выражение, глаза его забегали с затрудненным выражением какой-то скрытой мысли, и вдруг он стал говорить фальшиво звучащие, бледные примирительные слова. И с чуткостью маньяка Мижуев понял их сокровенный смысл: Николаев боялся ссоры — чтобы Мижуев не отказался дать денег на задуманный им журнал. И странно — Мижуев вдруг страшно сконфузился. Он замолчал. Замолчал и Николаев, и краска выступила на его всегда смелом и мужественном лице. С минуту они смотрели друг другу в глаза, и в течение этой минуты бесследно растаяла и исчезла та, казавшаяся такой прочной и искренней, связь, которая столько лет связывала их.
И когда через полчаса Мижуев уходил, это были уже не два близких человека, а два врага, ненавидящие и презирающие друг друга.
Потом Мижуев видел себя в вагоне, в длинную глухую ночь. Это было после того, как он, должно быть, полусумасшедший, кидающийся из стороны в сторону в нелепых и бессмысленных корчах, очутился у того человека, у которого когда-то отнял счастье. Он сам не знал, зачем нашел этого человека, и только увидев его непонимающий, ненавидящий взгляд, смутно понял: должно быть, ему хотелось найти хотя кого-нибудь, хотя врага, который бы взглянул в его лицо прямо, как в лицо человека.
Муж Марии Сергеевны стоял перед ним, худой, с длинными бледными волосами, и смотрел прямо в глаза горящим неутолимой ненавистью взглядом.
— Что вам угодно? — с трудом спросил он. — Вам мало… вы еще издеваться надо мной пришли? Вы думаете, что вам уже все позволено?..
Мижуев не помнил, что он говорил ему, но отчетливо помнил, как на лице этого человека выразилось сначала недоумение, потом смутное понимание, а потом холодная, непримиримая и даже торжествующая насмешка.
— Ага… — тихо выговорил он, — значит, оказалось кое-что, чего и за деньги не купишь?.. Это хорошо…
И он стал смеяться все громче и громче, а потом выгнал Мижуева, как собаку. И Мижуев ушел. Он уже потерял ту живую нить, которая привела его к этому человеку, и не знал, зачем пришел, что надо говорить, как уйти.
Ночью в вагоне он не спал. Неясные, но громадные образы томили его. И рисовался образ большого человека, человека, который знает всю жизнь и всю правду о жизни. Как и когда пришло ему в голову ехать к великому писателю, старику, имя которого он с детства произносил, как самое большое слово в мире. Помнил только, что когда пришло, то почувствовалась легкость и надежда необычайная. И было легко и радостно, пока не был получен ответ на посланную телеграмму. Но когда он понял, что великий старик согласен принять его, все пропало. Стало казаться, что его принимают только потому, что он миллионер Мижуев, а до него самого нет и не может быть дела и этому единственному человеку. Тогда все упало, и Мижуев увидел, что это смешно, что никуда ему не надо ехать, что никто не скажет ему ничего такого, чего бы он сам не знал. И мелькнула в нем первый раз в жизни мысль отказаться от своего состояния, стать бедным, таким, как все люди. Но еще прежде, чем мысль эта была им понята, он уже знал, что это невозможно.
— Почему? — спрашивал себя Мижуев, напряженно вглядываясь в темные призраки, проносившиеся за окном вагона.
И в ответ представились ему жалкие и смешные картины: он, человек, который всю жизнь пользовался самым лучшим, что есть в жизни, и который может пользоваться им, вдруг нарочно станет нищим, будет ходить в контору, получать двадцать рублей жалованья, а дальше… может быть, женится на скромной барышне, переписывающей на машинке?.. Это глупо!..
— Почему глупо?
Неизвестно почему, но глупо и смешно, как все сентиментальное и бессмысленное.
Над головой повисла темная громада, и знакомое ощущение мучительной пустоты охватило со всех сторон. Тогда Мижуев впервые почувствовал приближение конца и с тех пор знал его.
Была еще одна судорожная вспышка: он вспомнил, что где-то там, далеко, есть женщина, обиженная, несчастная, которая когда-то любила его. Но эта вспышка потухла так же быстро, как все, что теперь загоралось и потухало в его мозгу.
Мучительно ясно стало, что ему некуда ехать. Он был всегда и везде тем, чем и был. Ничто не могло исцелить того, что навсегда исковеркано в его душе.
И эта мысль, — мысль, что никуда не надо ехать, и каждый новый, шаг только новое звено тоски и страданий, пришла кругло и отчетливо в мозг Мижуева и теперь.
Он тяжко вздохнул, оторвался от плывущих мимо зеленых ненужных берегов Средиземного моря и закрыл глаза.
И сейчас же ему стало слышно, что говорят вокруг.
— А удивительно, знаете, — говорил молодой русский голос, — когда едешь скорым поездом с севера на юг, кажется, что весна приходит не по дням, а по часам… прямо так и летит навстречу… Я не могу этого выразить, но мне кажется, что выше наслаждения не может быть. Вчера еще все было серо, холодно, сегодня уже попадаются проталины и талый снег между березками… а завтра уже небо голубое… Ах, хорошо!..
Мижуев машинально открыл глаза и посмотрел на того, кто говорил. Это был молодой человек, должно быть, больной, и говорил он совсем молоденькой женщине с живыми веселыми глазами. Они стояли у борта, и ветер чуть-чуть раздувал их мягкие волосы. И по их сияющим лицам и по тому, как легко и радостно дышали они, не спуская очарованных глаз с берегов, которые, должно быть, видели в первый раз, Мижуев понял, что это действительно — счастье.
Тогда он мутно окинул взглядом эти берега, увидел то, что видел уже сотни раз, и опять закрыл глаза, погружаясь в свою безмолвную черную пустоту.
А с другой стороны две француженки рассказывали друг другу о бое быков.
— И перед тем, как тореадор убивает… все матадоры, с красными плащами, долго кружат быка все в одну сторону… понимаешь… все в одну сторону… пока он не одуреет совсем… Тогда тореадор его убивает… Это совсем некрасиво!
Мижуев знал это.
И вдруг перед его закрытыми глазами высунулась огромная бычья голова с неподвижными, налитыми кровью глазами. Взглянула прямо ему в лицо, как кошмарный фантом. Мижуев вздрогнул и встал.
Везде были люди, болтающие, смеющиеся и провожающие его любопытными глазами. Он тихо обошел их и добрался до самой кормы.
Тут он стал у борта и долго упорно смотрел на пенистый след, вздымающийся за пароходом. Казалось, что он ищет что-то в его мутной зловещей пене. И когда ему вдруг показалось, что он нашел, Мижуев посмотрел вокруг, оглянулся на небо, горы и сидящую вдали кучку веселых разноцветных людей и как-то боком, неловко перевернувшись через борт и мгновенно сознавая неловкость движения и стыд перед теми, кто видит его, тяжко упал в воду.
Страшный шум ударил в голову. В нос и в рот острой рвущей болью попала липкая, жгучая волна. И в то же мгновение безумный, ни с чем не сравнимый, ужас потряс его мозг. Уродливыми судорогами отбиваясь от захлестнувшей его бездны, он вынырнул, сквозь туман лившейся с волос воды уже далеко увидел белое пятно парохода и крикнул:
— Помогите!..
И стал тонуть в мутной зеленой бездне, рвущей на части его грудь. Стая мелких рыбок, как брызги, бросились во все стороны, но сейчас же вернулись и, уставившись со всех сторон круглыми загадочными глазами, смотрели на его плавающее вокруг пальто, на раскоряченные ноги в желтых ботинках и на мертвую синюю голову, медленно погружающуюся все глубже и глубже в холодную зеленую мглу.


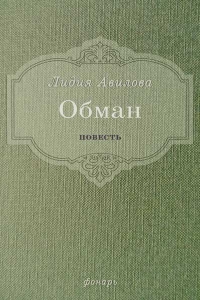
Комментарии к книге «Миллионы», Михаил Петрович Арцыбашев
Всего 0 комментариев