I
Когда ярко развернулась желтая полоса заката и черным стал крест, на котором повисло уже безжизненное тело, когда шумными и непонятными толпами, тревожно чернея в быстрых сумерках, поспешно стал расходиться народ, когда возле креста, как шакалы у трупа, появились чьи-то робкие тени, — тогда только Иосиф покинул свое место и, накрыв голову плащом в знак ужаса и горя, медленно удалился.
В грязных и тесных предместьях города уже зажигались огни, и здесь казалось темнее, чем на голых вершинах. В крикливой игре света и тени, в узких кривых переулках, полных чада и остывающей пыли, на плоских кровлях домов, в садах и дворах озабоченно сновали люди. Они расплывались в сумраке, ярко вырисовывались перед освещенными дверями, сходились в кучки, расходились как бы в ссоре, стремительно жестикулировали, кричали, смеялись и ругались. Можно было подумать, что ничего не было, что ни на один миг не прерывалась вечная крикливая суета, купли, продажи, обжорства, поцелуев и драк.
С отчаянием в помертвелой душе, накрыв голову и стараясь не смотреть по сторонам, Иосиф шел по плоским камням, вытертым миллионами шагов. Слезы и гнев душили его; он не мог понять, как глупый, жестокий и слепой народ в страхе и раскаянии не пал на землю, вопия в смятении:
— Господи, прости нам… не ведали, что творили!
Позорною смертью казнен величайший из пророков и лучший из людей, а они варят ужин, целуются со своими женами, бранятся за недоданную монету, за лишнюю меру навоза для удобрения своих виноградников…
Погас мелькнувший свет, во мраке осталась заблудившаяся мысль человеческая, еще темнее и зловещее стало на пути, по которому волей грозного Бога из века в век должны брести толпы людей со своими женами, детьми, скотами и жалким скарбом, со своими язвами и распрями. Мир опустел, безрадостным и бессмысленным снова лежит он, как труп, брошенный в пыль у края дороги. А они кричат и суетятся в своих дымных переулках, мелькают в чаду, смеются, ругаются, плачут и целуются.
Отвращением сжималось сердце Иосифа, и, еще ниже опустив голову, надвинув на глаза угол плаща, чтобы не видеть этого вздорного, глупого и ничтожного люда, он спускался из улицы в улицу, пересекая площади и рынки, и мимо мелькали дома, темные громады храма, ряды кипарисов, белых от пыли, и стройные колоннады римских дворцов.
Шел, точно бежал, а за ним, вытягиваясь и кривляясь на камнях мостовой, торопливо поспешала его длинная тощая тень. Тоненький серп месяца, трогательного и непонятного в своей вечной загадочной печали, блестел на синем мраморе холодного ночного неба.
На одной из площадей, в туманном свете месяца, мимо Иосифа с топотом, криками и проклятиями пробежала черная толпа и быстро рассеялась в темных переулках. Не успел еще приостановившийся в тени Иосиф понять, в чем дело, как за углом послышались тяжкие мерные шаги, и, блестя при месяце тусклыми бликами мечей и щитов, как гром сотрясая землю, быстро прошел отряд римских легионеров, преследуя тени и разгоняя толпу.
Все это мелькнуло и исчезло, как лунное видение, в мертвенно-тусклом свете месяца, но Иосиф понял, что это разгоняют толпы немногочисленных сторонников Иисуса, о которых днем со страхом, теперь смешным, говорили, что они сделают попытку отбить осужденного.
Этой попытки не было. Не удалась и попытка собраться перед дворцом Пилата, чтобы выразить ему свое негодование. Неподготовленные, бессильные и трусливые, они бежали под напором железных солдат, прятались в переулках и огородах, шепотом утешая друг друга, что их синяки и ссадины не пропадут даром.
Иосиф был слишком благоразумен, чтобы не понимать бесполезности этих жалких потуг. Он знал, что сила не на их стороне, что стальная лавина сметет их с лица земли и что в лучшем случае они просто погибнут. И потому еще утром Иосиф говорил многим, приходившим к нему:
— Это безумно и малодушно. Вы погибнете и бесполезна будет смерть ваша, как смерть скотов неразумных!.. Поднявший меч от меча и погибнет. Уйдите в дома свои и разнесите слово Иисусово втайне, доколе не постигнет истину каждый человек в сердце своем. Тогда опустятся мечи, и свет воссияет над миром. Истинно говорю вам!
И когда упрекали его в трусости и отступничестве, Иосиф не возражал им, сознавая правоту и истинную мудрость своих слов.
Но странно, в то же время ему хотелось, чтобы толпы этих безумцев были больше, грознее, чтобы разразилось восстание и пролилась кровь. Как будто где-то в глубине души он надеялся, что мир, равнодушно смотревший на казнь Иисуса, содрогнется от крутой расправы с его жалкими последователями, и Пилат, стоявший лицом к лицу с Истиной, поймет ужас содеянного, когда под колоннами его дворца соберутся кучки угрожающих голыми руками людей.
Иосиф прекрасно понимал, что ничего не будет, что холодное сердце римлянина не дрогнет, толпы будут смяты и рассеяны; но все же весь день находился в тревоге, выглядывал на улицу, выходил на кровлю, прислушиваясь не доносится ли грозный рев толпы. И даже сам отпустил на площади многих слуг своих.
И теперь он долго стоял в тени, смотрел из-под края плаща на опустевшую, белую от пыли и месяца площадь, и сердце его дрожало от бессильного гнева. Только приближение нового отряда легионеров, мощно сотрясавшего землю, заставило его поспешить в ближайшую улицу, чтобы в тени кипарисов незамеченным скрыться в своих благовонных садах. Страх гнал его с улиц, где он был только ничтожной песчинкой толпы, в дом свой, где он был хозяином над многими людьми и десятинами тучной, произрастающей плодами земли.
В это время, если бы мог, в какое месиво крови, раздробленных костей и раздавленного мяса Иосиф превратил бы всех этих сытых патрициев, лукавых длиннобородых старейшин и тупых, вздутых стальными мускулами, закованных в железо солдат! Не облеченное в мысль жуткое сознание своей беспомощности рождало в его душе такую ненависть против торжествующей силы, что на мгновение он даже как будто забыл о смерти Иисуса.
И только когда, омыв ноги от белой пыли площадей и переменив смятую в толпе одежду, он вышел на кровлю в сладком сознании безопасности своего дома и с высоты ее увидел безграничное море белеющих крыш и темных садов, затканных холодной дымкой месяца, Иосиф вновь с еще большей, потрясающей силой понял всю громадность потери.
Мировая тишина царила кругом. В неизмеримой вышине безмолвно и недвижимо горели звезды, а над ними, за пылью Млечного пути, еще выше, еще дальше, еще непонятнее чернел вечный мрак бесконечности.
В мире лежала земля со своими садами и кровлями, дальними плоскогорьями и туманными гранями. Не видно и не слышно было той суеты, которая, должно быть, еще жила в узких переулках города. Все казалось застывшим в торжественном покое, в сознании святости вечного бытия своего.
Но Иосифу казалось, что он, маленький человечек с потрясенной душой, застывший в безмолвном отчаянии на краю высокой кровли над темным садом, один во всей вселенной видит, слышит и чувствует. И это было ужасно, и было в этом горделивое одиночество.
Один он так чувствует и так мыслит.
Лицо Распятого вставало перед ним в колеблющемся мраке над краем бездны, колыхалось и плавало в ночи. Даже как будто где-то близко звучал его тихий голос, то кротко любовный, то полный карающего гнева, то грустный невыразимо — голос истинного, вдохновенного пророка. Иосиф с благоговением старался вспомнить все слова Иисуса, все мелочи его жизни, собирая их в памяти, как драгоценные обломки, чтобы сохранить в сердце своем, которое казалось ему достойным хранить святыню. И, вспоминая, Иосиф как бы обращался к туманному образу, плавающему перед ним во мраке безмолвной ночи, говоря без слов:
— Равви, о, как я понимаю и люблю Тебя!.. Ты не ошибся, доверив мне мысли и слова свои. Я сохраню их в сердце и, умирая, передам детям моим, чтобы не погибла память о Тебе. Ты видишь, какою кровавою скорбью полно сердце мое! Может ли кто так любить Тебя? Равви! Равви!.. Зачем отдался Ты в руки врагов, зачем пошел навстречу слепым, чтобы, обратившись, растерзали Тебя!.. Равви!
Восторг охватил Иосифа с силой потрясающей, почти невыносимой. Он неподвижно стоял на краю кровли, смотрел на далекие звезды, не видя их, и в душе его ширилось и росло что-то громадное, подымая на колеблющуюся высоту, где был почти ужас предчувствия подвига. И мгновениями ему хотелось броситься на площадь, вмешаться в толпы народа и кричать гулким голосом восторга и гнева:
— Я с Ним!.. Распните, убейте и меня!
Ему уже представлялись кипящие толпой площади, грозный гул массы, зажженной словом. Что-то светлое, как знамя, подымалось над морем голов; он чувствовал себя подъятым руками толпы; на волнах ее, исступленный и грозный, как судия, несся он к дворцам, откуда в страхе, с воплями и мольбами; о пощаде во все стороны бежали сытые, гордые и жестокие сердцем.
Сладко замирало в груди Иосифа, и казалось ему, что сквозь гул толпы, вопли врагов, сквозь кровь и гром восстания, сквозь грохот разрушаемых капищ и величие нового храма, в облаках курений возносящегося во славу Иисуса, благословляя, любовно и гордо смотрят на него, наместника своего, кроткие непостижимые глаза Распятого.
Но, когда казалось, что сердце разорвется от счастья и гордости, внезапно холод объял его: железные ряды легионов встали перед ним; жалкие и смятенные, побежали толпы трусов; неодолимые руки протянулись к нему, схватили за бороду, повлекли в пыли и грязи, бросили в тюрьму, где мрак и ужас пытки, били, плетьми извивающееся обнаженное тело, тешились, заушали и вот… жалкий, изувеченный, скорченный в предсмертных муках, высоко поднимается его труп над землей на позорном кресте под смех и свист той же глупой, жестокой и слепой толпы…
Замерла душа Иосифа, задрожали его руки и ноги, глаза робко оглядели предательский мрак ночи.
— Нет, я — не пророк! — с горькой тоской сказал себе Иосиф. — Да и к чему послужила бы гибель моя?.. Нельзя сразу разрушить старый храм и в три дня воздвигнуть новый!.. Можно только погибнуть под обломками, и это не разумно перед Богом. Надо осторожно приготовлять почву для принятия семени нового, по капле переливать вино новое в мехи старые, и когда-нибудь слава Иисуса покроет мир!.. Юноша безумный бросается навстречу гибели своей, но муж разума идет путями мудрости.
II
Кто-то поспешно подымался по каменным ступеням. Иосиф услышал стук сандалий и тревожное дыхание запыхавшегося человека. Вздрогнув, он обратил глаза ко входу и в сумраке узнал брата своего Иакова.
Иаков был запылен и бледен. На белом лице его, обросшем роскошной бородой, которой он гордился, горели возбужденные глаза. Он задыхался и весь дрожал от волнения, отчего ходили и колебались завитки его бороды.
— Иосиф! — крикнул он, едва ступивши на кровлю. — Что делаешь ты тут, когда не позволяют тело Иисуса снять с креста и хотят выставить Его в течение трех дней на потеху толпы!.. Я был у первосвященника, и он отказал мне и другим в погребении Иисуса!.. Они выбросят Его на дорогу, и собаки растащут в пыли кости Его!.. А ты стоишь тут и предаешься унынию!.. Ты, которого так любил Он!
Иаков стремительно размахивал руками, кричал и топал ногами, как бы в гневе. Но в голосе его звучала та нежная любовь, то уважение, которое с детства воедино связывали братьев. Он знал, что для Иосифа это только слабость, не свойственная его великому сердцу.
На мгновение Иосиф опустил голову, подавленный упреками, растерянный и виноватый. Как мог он предаться слабости и унынию, когда тело Иисуса еще не предано погребению?.. Это прежде и выше всего!.. Надо бежать, просить, требовать!.. Он просто ослабел под бременем горя. С любовью и уважением посмотрел он на брата своего Иакова, сделавшего то, что должен был сделать он, пока он предавался плачу и сетованиям.
И сразу нечто озарило упавшую душу его. Невыполнимые мечты исчезли, и пустота душевная заполнилась возможным, прекрасным и достижимым.
Мгновение он молчал, собираясь с силами. И, точно найдя путь открытый, широкий и светлый, радостно воскликнул:
— Идем!.. Это первый долг наш перед Ним!.. Мы не дадим врагам и убийцам глумиться над телом Его!.. Да не упрекнут нас, что мы покинули Его!
И, обратившись с решительным, просветленным лицом к брату своему, спросил грозно, как власть имеющий:
— Где ученики Его?
Иаков растерянно развел руками. Возбуждение его прошло, точно теперь он все передал в руки Иосифа и тем исполнил долг свой. Природная вялость охватила его, как будто все силы он растратил в метаниях от Анны к Каиафе и другим.
— Иоанн был у креста с Матерью Его. Остальные разбежались, еще когда воины схватили Его в саду, и никто не видел их.
— Да? — горько спросил Иосиф. — А старейшины восточной части, которые любили Его?.. Видел ли Оссию из Вифлеема или Никодима нашего?
Иаков махнул обеими руками.
— Жалкие трусы! — с гневом крикнул Иосиф. — И этим людям доверял Иисус!.. Как мог Он выносить их рабские лица?.. Оставим же трусам праздновать их трусость!.. Мы сами пойдем к Пилату и убедим его не возбуждать волнения среди народа. Он умен, ему чужды наши религиозные распри, и, как образованный человек, он не может в глубине души сочувствовать этим трусливым шакалам.
Иаков смутился. Он трепетал перед этим холодным римлянином, страшился его железных солдат, его тюрем, куда по одному подозрению он бросал самых уважаемых граждан.
— Думаешь ли ты, что Пилат, смешавший кровь галилеян с жертвами их, способен… — нерешительно начал он.
Но подхваченный красотой найденного подвига, в глубине души не допуская, чтобы Пилат решился поднять руку на столь уважаемых людей, Иосиф укоризненно взглянул на брата.
— Ты боишься? — медленно спросил он. Под бременем стыда Иаков опустил голову и стал растерянно поглаживать свою пышную бороду.
— Тогда я пойду один! — сказал Иосиф, предчувствуя ответ.
— Я иду с тобой! — стремительно кинулся Иаков, и в голосе его не было ми тени робости, ибо он привык идти за другими.
С братской любовью Иосиф взглянул на брата своего.
III
Сквозь разрез занавеса из темной шерстяной материи, затканной изображениями химер, виден был глубокий зал, убранный цветами, медленно спадавшими из золотых сеток, подвешенных к потолку. Желтели колеблющиеся огни высоких четырехсветных канделябр, и в оранжевом мареве ночных огней пронеслись в легком танце окутанные прозрачным облаком развевающихся тканей полуобнаженные тела танцовщиц.
Мягкий ветер теплой ночи колебал занавес, и мгновениями все скрывалось, как страстное видение; только слышались тихие звоны тамбуринов и греческих лир, взвизги сладострастных флейт, звон чаш, выкрики опьяневших голосов и быстрый топот легких ног, уносящихся в стремительном танце.
Иосиф и брат его Иаков стояли рядом посреди атриума, тяжелыми, суровыми пятнами чернея на пестрых квадратах мрамора, чуждые этому красивому, опьяненному красотой жизни миру, враждебные ему в темной скорби своей.
В квадратное отверстие потолка смотрело загадочное ночное небо, и такое же глубокое, темное оно лежало в глубине бассейна, устроенного как раз под отверстием. Причудливо и гармонично сплетались на стенах тоны зеленого гранита, белого мрамора и темного золота. Стройно подпирали потолок розово-мраморные колонны, а за ними сквозил душистый мрак сада, где меж темных ветвей загадочно белели в свете месяца мертвые глаза, изогнутые бедра, манящие руки и приподнятые в вечной истоме груди мраморных богинь.
Суровые горбоносые темные лица бородатых братьев Аримафейских, их жгучие от напряжения воли и скорби глаза, сжатые руки и темно-пестрые одежды, окаменевшие на плечах, темнили ту тонкую, легкомысленную, сладострастную красоту. И казалось, химеры занавеса и белые глаза богинь с изумлением взирают на этих странных пришельцев..
И, глядя на красоту линий, роскошь пурпура и мрамора, слыша топот легких танцующих ног, прислушивались к звону струн и крику флейт, как бы замирающих в невыносимом желании, невольно ловя в разрезе темного занавеса мелькание обнаженных женских тел, братья со скорбью чувствовали, как чуждо им все это, как далеко от аскетически сурового слова Иисусова, во имя которого они пришли сюда. И теперь им казалось несомненным, что гордая голова Пилата, похожая на головы мраморных статуй, никогда не поймет их, не постигнет величия и красоты не от мира сего и презрительно отвернется от их робкой, бессильной мольбы.
Но вот внезапно смолкли звоны струн и пронеслись, замирая, топоты легких танцующих ног. Вскрикнула флейта и оборвалась. Раздался одинокий уверенно громкий голос, и послышались твердые медленные шаги. Черный раб, согнувшись, отдернул занавес с изображением химер, и от волны воздуха, точно в испуге, вздрогнули и заметались огни четырех светильников, поставленных по углам.
Пилат вошел.
Он сделал два шага и остановился, попирая квадраты мрамора твердыми сандалиями белых мускулистых ног. Тога свободно лежала на жирных плечах его, и каменное бритое лицо холодно смотрело на Иосифа и брата его.
— Привет вам, уважаемые! — выговорил он медленно и небрежно. — Я слушаю.
Бешеная и вместе робкая ненависть к этому властному, чуждому и гордому человеку потрясла душу Иосифа. В эту минуту, как никогда, он почувствовал позор и ужас бессилия. Что мог бы сказать сам Иисус этому человеку, оледеневшему в мраморе своего я?!
Иосиф вспомнил, что каждое неосторожное слово может погубить: принятую им на себя печальную миссию. И, призывая на помощь всю осторожность, подавляя дрожь голоса, он выступил вперед и остановился, малый и темный, как тень перед лицом светлого дня, перед великолепной фигурой эпикурейца.
— Привет тебе, правитель… — начал он. — В скорби и печали пришли мы к тебе…
— Я слушаю, — так же высокомерно повторил Пилат.
Иосиф помолчал, с мудрой осторожностью выбирая слова среди бури неистовых криков сердца. Кто-то пламенный подсказывал их, но Иосиф старался не слышать пылкого голоса и в разуме своем найти лукавые и трезвые слова.
— Правитель, тебе чужды наши религиозные распри, ты должен быть мудрым и беспристрастным… Сегодня, как известно тебе, был распят Иисус Галилеянин. По нашим законам, труп Его должен быть снят с креста до восхода солнца, но требовавшие казни враги Его настаивают, чтобы на позор и глумление черни тело Его было оставлено на кресте в течение трех дней. Это возмущает сердца тех, которые видят бесцельность и злобу этого глумления…
Римлянин холодно и равнодушно слушал Иосифа, и по его надменному, с каменным подбородком и презрительно выдвинутой губой лицу нельзя было понять, что он думает, и догадывается ли, зачем пришли к нему эти дрожащие от внутренней борьбы темные люди презираемого им народа.
— Наши священники, которых обличал Он, настаивают на лишении тела Его погребения по обрядам отцов наших, — волнуясь и жестикулируя, продолжал Иосиф. — И вот мы пришли к тебе, чтобы ты, мудрый, стал на сторону справедливости и не дал глумиться над трупом врагам Его.
Пилат слегка приподнял брови, как бы говоря: «Что мне до того?»
— Но почему именно вы, — сказал он, — пришли просить меня?.. Вы тоже были с Ним?
В голосе его почудилось что-то хитрое и зловещее. Иосиф вздрогнул. Сады, белый дом, уважение граждан, к которому привык он и на лошадях, и в храме, и в доме своем, встали в памяти его, и черным призраком пронеслось вдали видение черного креста… И он ответил:
— Нет.
— Откуда же вы знаете Его? — снова спросил Пилат, и опять хитрая и жестокая искорка мелькнула в глазах его.
Отражая удар, Иосиф ответил, удивляя мудростью брата своего:
— Слава его была велика среди народа.
— Мне известны ваши имена, — помолчав, продолжал Пилат. — Я знаю, что вы — уважаемые граждане своего города. Что общего может быть между вами и проповедником грязной черни, пророчествовавшим в пыли площадей и рынков?.. Я знаю, что вам принадлежат прекрасные сады, которым позавидовал бы Рим, богатые виноградники, обработанные многими рабами, стада, рынки и менялища… Я знаю, что вы много работали на пользу и процветание своего народа… Я знаю, что вами под большие проценты ссужена крупная сумма на вооружение восточных легионов, которые, конечно, послужат на благо Рима и безопасности вашей родины. Я знаю, что вы много потрудились над украшением храма своего… Верно ли это?
— Да, — с достоинством ответил Иосиф.
— Да, — отозвался брат его Иаков с гордостью.
— Я знаю, — холодно повторил Пилат, как бы подчеркивая, что он и не нуждался в их подтверждении. — Однако мне известно и учение казненного Галилеянина. Как оригинальная философская идея, хотя и не обоснованная, оно заинтересовало меня. Он учил раздавать богатства нищим, любить всех людей как братьев, не исключая в равенстве самых грязных рабов, не противиться злу, не обнажать меча даже для защиты родины, удаляться от роскоши, и наслаждений, почитать богов вне храмов и жертвенников. Я знаю, что сам Он, босой и нищий, настоящий пророк черни, проходил из селения в селение, питаясь милостыней. Так ли это?
— Да, это так! — ответил Иосиф дрогнувшим голосом.
В холодных глазах римлянина выразилось презрительное недоумение.
— Я основательно познакомился с учением галилеянина. Оно поразило меня, как и личность самого основателя. Как можно проповедовать живым добровольное отречение от радостей жизни?.. Это нелепо. Жизнь прекрасна, и человек, по воле богов, хозяин жизни. Он должен пить из чаши наслаждений, чтобы радость его была радостью богов. Я не понимаю побуждений этого оборванного философа, не знавшего смеха и красоты, не постигавшего божественного искусства и прелести женщины. А его учение о равенстве было опасно для общества. Поэтому я сознательно подписал приговор, чтобы в самом начале пресечь проповедь, опасную для богов и людей. Я — враг жреческих каст и видел, что в происках ваших жрецов была недостойная гражданина и философа интрига. Учение Его глубоко враждебно мне, но личность Иисуса произвела на меня впечатление человека, исполненного высшего благородства и величия духа. Я удивляюсь Ему, хотя и не понимаю, и даже хотел отпустить Его, но Он сам не принял жизни. Это был великий стоик. Но вы… что Он вам и что вы ему?
Иосиф молчал. В хитрых и гибких речах римлянина он смутно чувствовал что-то глубоко оскорбительное.
— Может быть, вы скажете, что я ошибся? — с новой хитростью спросил Пилат. — Вы — последователи Его и готовы принять в жизни учение Его? Вы также хотите падения власти и возрождения народа своего в мрачной и аскетической вере Иисуса?.. Вы также откажетесь от своих богатств, от наслаждений и радостей жизни и, как Он, пойдете проповедовать по дорогам религию рабов и нищих?.. Может быть, так?
Но, вновь побеждая хитрость хитростью и вновь удивляя брата своего Иакова разумом и осторожностью, Иосиф ответил:
— Нет, ибо жизнь не вмещает учения Его. Мы почитаем Иисуса, как и ты, за величие духа и силу Его.
Пилат долго пристально смотрел в лицо Иосифу, точно стараясь угадать тайные мысли его.
— Итак, я ошибся? Он чужд вам так же, как мне?
Иосиф отвечал:
— Мы преклоняемся перед Ним, как лучшим среди людей!
— Вы признаете истину и красоту Его учения, вы признаете Его истинным человеком, но в жизни своей не приемлете Его?.. Где же истина ваших слов?
Иосиф молчал. Пилат долго ждал ответа, и лицо его подымалось в презрительной усмешке. Он издевался над братьями. Наконец небрежно спросил:
— Чего же вы хотите от меня?
— Мы хотим, чтобы память Пророка была почтена достойным образом и тело Его погребено по обрядам отцов наших, — с чувством умиления ответил Иосиф.
— Это все? — холодно спросил Пилат. Потом поднял белую круглую руку и небрежным жестом отпустил их, сказав:
— Возьмите этот труп и делайте с ним, что хотите.
Затем быстро повернулся и, не глядя на Иосифа и брата его, вышел вон.
Занавес распахнулся перед ним, и опять братья увидели пламенное марево оргийных огней, блики золотых чаш, приветствовавших Пилата, и промелькнувший вихрь сладострастных женских тел. Темная ткань опустилась, и все исчезло. Только были слышны звон тамбуринов и лир, страстное взвизгивание флейт, крики пьяных радостью жизни голосов и легкий топот обнаженных ног, уносящихся в легкой пляске.
Иосиф и брат его Иаков, шепотом делясь негодованием против наглости зазнавшегося в своей власти римлянина, с дрожью победной радости в сердцах поспешили к гробам своим, чтобы приготовить среди них место для Пророка своего…


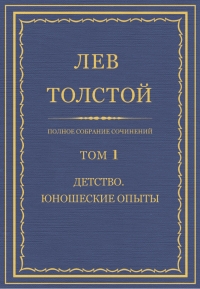
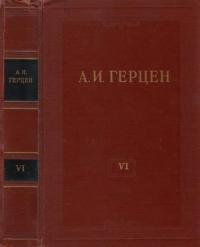
Комментарии к книге «Братья Аримафейские», Михаил Петрович Арцыбашев
Всего 0 комментариев