Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин Господа ташкентцы Картины нравов
ОТ АВТОРА
Исследование о «Ташкентцах» распадается на две части: «Ташкентом приготовительного класса» и «Ташкентцы в действии». Настоящим томом оканчивается первая часть, составляющая сама по себе отдельное целое. Я отнюдь не имею претензии утверждать, что в представляемых здесь вниманию читателя параллелях исчерпывается все, что могло бы подойти под эту рубрику, но ежели бы я пошел еще далее в воспроизведении различных типов «ташкентства», то работе моей, пожалуй, не было бы конца. Притом же в намерениях моих было написать ежели не роман в собственном значении этого слова, то более или менее законченную картину нравов, в которой читатель мог бы видеть как источники «ташкентства», так и выражение этого явления в действительности. Поэтому первую часть я посвящаю биографическим подробностям героев ташкентства, а во второй – на сцену явится самое «ташкентское дело», в создании которого примут участие действующие лица первой части. Ввиду этого я нашел, что привлечение слишком большого количества элементов, хотя и однородных по своим целям, но крайне разнообразных в своих проявлениях, могло бы загромоздить мой труд множеством лиц, связь между которыми, быть может, представилась бы читателю не вполне ясною. Тем не менее я сознаю, что отсутствие некоторых типов (как, например, ташкентца-педагога, ташкентца-благотворителя и т. п.) составляет пропуск очень заметный. Но я постараюсь познакомить читателя с этими типами во второй части, выводя их постепенно, в роли эпизодических лиц.
ВВЕДЕНИЕ
В рассказах Глинки (композитора) занесен следующий факт. Однажды покойный литератор Кукольник, без приготовлений, «необыкновенно ясно и дельно» изложил перед Глинкой историю Литвы, и когда последний, не подозревая за автором «Торквато Тассо» столь разнообразных познаний, выразил свое удивление по этому поводу, то Кукольник отвечал: «Прикажут – завтра же буду акушером».
Ответ этот драгоценен, ибо дает меру талантливости русского человека. Но он еще более драгоценен в том смысле, что раскрывает некоторую тайну, свидетельствующую, что упомянутая выше талантливость находится в теснейшей зависимости от «приказания». Ежели мы не изобрели пороха, то это значит, что нам не было это приказано; ежели мы не опередили Европу на поприще общественного и политического устройства, то это означает, что и по сему предмету никаких распоряжений не последовало. Мы не виноваты. Прикажут – и Россия завтра же покроется школами и университетами; прикажут – и просвещение, вместо школ, сосредоточится в полицейских управлениях. Куда угодно, когда угодно и все, что угодно. Литераторы ждут мания, чтоб сделаться акушерами; повивальные бабки стоят во всеоружии, чтоб по первому знаку положить начало родовспомогательной литературе. Все начеку, все готово устремиться куда глаза глядят.
По-видимому, такая всеобщая готовность должна бы произвести в обществе суматоху и толкотню. Однако ж ничего подобного не усматривается. Везде порядки, везде твердое сознание, что толкаться не велено. Но прикажите – и мы изумим мир дерзостными поступками.
Уверенность в нашей талантливости так велика, что для нас не полагается даже никакой профессиональной подготовки. Всякая профессия доступна нам, ибо ко всякой профессии мы от рождения вкус получили. Свобода от наук не только не мешает, но служит рекомендацией, потому что сообщает человеку букет «свежести». «Свежесть», в свою очередь, дает талантливости характер неудержимой и ни перед чем не останавливающейся похотливости. Человек, постоянно готовый и постоянно вожделеющий, – это своего рода нерушимая стена. Это развязный малый, перед которым всякая специальность немедленно сдается на капитуляцию. Назовите рядом с «свежим» человеком какого-нибудь «умника», – и всякий сразу поймет, сколько горечи и презрения слышится в этом последнем названии. «Умник!» – ведь это засоренная голова! это человек, изнемогающий под бременем собственного бессилия!
Это опасный мечтатель, способный только разрушать, а не созидать!
А мы именно хотим только созидать, и потому блюдем нашу «свежесть» паче зеницы ока. Мы твердо помним, что от нас ожидается какое-то «новое слово», а для того, чтоб оно сказалось, мы не полагаем никаких других условий, кроме чистоты сердца и не вполне поврежденного ума. Это условие потому хорошо, что оно общедоступно, а сверх того, благодаря ему все профессии делаются безразличными. Человек, видевший в шкафу свод законов, считает себя юристом; человек, изучивший форму кредитных билетов, называет себя финансистом; человек, усмотревший нагую женщину, изъявляет желание быть акушером. Все это люди, не обремененные знаниями, которые в «свежести» почерпнут решимость для исполнения каких угодно приказаний, а в практике отыщут и средства для их осуществления.
Практика – это тоже своего рода божество, которое выведет их из умственного оцепенения и даст смысл их невнятному бормотанию. Там, в этой насыщенной азбучными испарениями атмосфере, среди недомолвок, справок, противоречий и колебаний, они, кроха по крохе, соберут себе сокровище гораздо более прочное, нежели то, которое могла бы дать наука. Там, на боках Петров и Иванов, юрист уяснит себе понятие о мере наказаний; там финансист воочию убедится, что кредитные билеты сами хорошо знают карманы, в которых им быть надлежит. И не утратят они при этом ни единой капли «свежести», ибо при конце профессионального поприща пребудут столь же свободны от наук, как и при начале оного.
И надо сказать правду, еще очень недалеко то время, когда вера в силу прирожденной талантливости действительно делала чудеса. Приходил человек совершенно свежий и начинал орудовать. Писал законы, установлял порядки, и даже доводил «вверенную» часть до идеального совершенства. Не только подчиненные, но люди совсем посторонние – и те говорили: «Да, этот человек не то что X. или Z. Этот человек – _подтянет!_» Где тайна этого волшебства? Очевидно, ее следует искать или в неизреченной наглости «свежих людей», или же в том, что самые «вверенные» части столь уже просты, что расступаются даже перед людьми, совсем не поврежденными науками.
Первое предположение, очевидно, не выдерживает никакой критики. Наглость, выступающая вперед только по приказанию, – вещь, конечно, очень любопытная, но не настолько естественная, чтобы служить объяснением для жизненных явлений. Гораздо правильнее остановиться на простоте «вверенных частей», тем больше что здесь приходит к нам на помощь и практика со своими истинно поразительными подтверждениями.
Один знатный иностранец, посещавший Россию во времена Петра Великого (предоставляю любителям отечественной старины догадаться, кто этот путешественник), рассказывает следующее: «Несмотря на совершенные сим государем преобразования, процесс, посредством коего управляется здешний народ, столь прост, что не требует со стороны администратора ни высокого ума, ни познаний. Я, по крайней мере, лично знал одного наместника, который был да такой степени простодушен, что однажды, по недоразумению, откусил свой собственный палец, но и за всем тем оказывался вполне удовлетворительным для выполнения тех задач, которые ему предстояли. Каждый день перед ним клали известную порцию бумаг, и ежели эта порция случайно уменьшалась, то он примесно начинал беспокоиться, упрекал подчиненных в нерадении и требовал усугубления рвения. С течением времени он до того вошел в свою роль, что сделался даже прихотливым. Заметил, что ему подают только коротенькие бумаги, и стал требовать длинных; потом и сим не удовлетворился, но велел сочинить статистику, которую, по изготовлении, подписал и отправил. Таким образом, с помощью одного очень простого приема, называемого по-здешнему _подтягиванием_, этот плохой и даже глупый человек прожил несколько лет и умер в звании наместника естественною смертью».
Поверить этому рассказу очень возможно. Всякий из нас знал на своем веку и неутомимых статистиков, и пребодрых финансистов, которые ничего не имели за душою, кроме чистого сердца и не вполне поврежденного ума, – и за всем тем действовали. Каким образом могли действовать эти чистосердечные люди? Каким образом могло случиться, что только естественная смерть освобождала их от тягостей лежавшего на них бремени? Что означает этот факт?
По моему мнению, он может означать одно: простоту задач. Очень долгое время область профессий представляла у нас сферу совершенно отвлеченную, основу которой составляли не люди, а тени. X. взывал об удовлетворении, но в глазах людей профессии он не существовал как живое лицо, а существовало лишь «дело об X., ищущем удовлетворения». Z. томился в тюрьме, но и он как живое лицо был неизвестен, а известно было только «дело об Z., томящемся в тюрьме». Речь шла не об действительной участи людей, а о решении уравнений с одним или несколькими неизвестными. Но когда живые люди постепенно доводятся до состояния теней, то они и сами начинают сознавать себя тенями, и в этом качестве делаются вполне равнодушны к тому, какие решаются об них уравнения и какие пишутся статистики. Вот тут-то и настигают их «свежие» люди. Сначала они совестятся и довольствуются только простыми уравнениями; потом делаются дерзкими и начинают требовать статистик. Какие плоды приносит их подтягивательная деятельность – они не знают, да и знать, по правде, не нужно, потому что, наверное, она никаких плодов не принесет. «Все равно, братцы, помирать!» – говорят люди, и действительно начинают помирать, как будто и невесть какое мудрое дело делают.
И что всего удивительнее, эта «свежесть» допускалась не только в области деятельности спекулятивной, но и в области ремесл, где, по-видимому, прежде всего требуется если не искусство, то навык. И тут люди, по приказанию, делались и портными, и сапожниками, и музыкантами. Почему делались? – а потому, очевидно, что требовались только _простые_ сапоги, _простое_ платье, _простая_ музыка, то есть такие именно вещи, для выполнения которых совершенно достаточно двух элементов: приказания и готовности. Кукольник знал, что говорил, когда вызывался хоть сейчас быть акушером. Он понимал, что тут предстоит акушерство самое упрощенное, или, лучше сказать, не столько акушерство, сколько выражение готовности.
Таким образом оказывается, что, как ни велика наша талантливость, все-таки она может считаться действительною лишь до тех пор, пока существует беспредметность профессий или, говоря другими словами, покуда можно все сапоги шить на одну ногу. Как скоро давальцы начнут требовать сапогов, шитых по мерке, никакие приказания не помогут нашей готовности. Еще Петр Великий изволил приказать нам быть европейцами, а мы только в недавнее время попытались примерить на себя заправское европейское платье, да и тут все раздумываем: не рано ли? да впору ли будет? – Как хотите, а горше этой формулы самоуничижения даже выдумать трудно.
От чего же мы отбояриваемся? что защищаем? Очевидно, мы защищаем то выморочное пространство, которое после приказания Петра Великого: быть всем россиянам европейцами, – так и осталось ненаполненным. Нет у нас ничего, кроме пресловутой талантливости, то есть пустого места, на котором могут произрастать и пшеница и чертополох. Но именно это-то пустое место и дорого нам. Раскольники, современные Петру, – и те лучше были, ибо говорили: мы хотим пахнуть по-своему. Мы же ничего не говорим, а просто-напросто с пустом в пусто лезем. И выходит, что мы тоже пахнем, только пахнем нежилым местом.
И вот, недалеко от нас глухая стена. Сапожник начинает смутно понимать, что сколько есть на свете ног, столько же должно быть и сапогов; администратор, судья, финансист догадываются, что сзади их профессий есть нечто, что движется и заявляет о своей конкретности, что требует, чтоб к нему, а не его примеривали. В хаосе безразличия, в котором еще так недавно витал некоторый сам себе довлеющий дух, начинают выясняться отдельные образы, которые с изумлением смотрят на стену, воздвигнутую вековою русскою готовностью. И вспоминается им многострадальная история этой готовности. Вспоминается, как они, бия себя в перси, на целый мир возглашали: мы люди серые, привычные! нас хоть на куски режь, хоть огнем пали, мы на все готовы! Вспоминается, как они суетились, разоряли, громили, жгли – и все это без ненависти, без злобы, даже без мысли, единственно ради похотливого желания доказать, сколь талантлив может быть человек, когда знает, что его за эту талантливость не подвергнут телесному наказанию. «Многое мы совершили, многое претерпели, – говорят они, – а в результате все-таки стена – и ничего более!»
Эта стена, однако ж, не с неба свалилась и не из земли выросла. Мы имели свою интеллигенцию, но она заявляла лишь о готовности следовать приказаниям. Мы имели так называемую меньшую братию, но и она тоже заявляла о готовности следовать приказаниям. Никто не предвидел, что наступит момент, когда каждому придется жить за собственный счет. И когда этот момент наступил, никто не верит глазам своим; всякий ощупывает себя словно с перепоя и, не находя ничего в запасе, кроме талантливости, кричит: «Измена! бунт!»
Есть три способа избавиться от глухой стены. Первый заключается в том, чтобы признать прихотливыми все требования жизни, которые почему-нибудь нам не по нутру. Это задача очень трудная (едва ли можно отыскать человека, который дал бы уверить себя, что ощущаемые им потребности прихотливы), но если б даже мы решились поддерживать ее, то и тут необходимо прежде всего понимать, в чем заключаются приводящие в затруднение потребности, откуда они пришли и почему могут быть сочтены прихотливыми. Одним словом, необходимы ум и знание. Другой способ (тоже не весьма надежный) заключается в том, чтоб уверить общество, что положение у глухой стены есть самое выгодное для него положение. Этот тезис еще труднее, но и его защитить не невозможно, если есть знание объекта беседы и подготовленность к принятию возражений. Опять-таки знание и ум. Наконец, третий способ представляется в откровенном признании законности вновь народившихся потребностей и в приискании для них правильного исхода. Этот способ самый надежный, но тут уже просто-напросто требуется ума палата.
Какой бы из этих трех путей ни был избран, во всяком случае, талантливость играет здесь роль далеко не первостепенную. Ни предложить что-нибудь прочное, ни даже помочь обмануть – ничего она собственною силою не может. Везде на первом плане требуется знание, пример, навык. Они одни могут дать содержание талантливости, и в некоторых случаях даже обуздать ее стремительность. Человек, который на одной талантливости созидает здание своего будущего благополучия, – это человек, у которого есть пламенное сердце, но в этом сердце нет ничего, кроме погадки готовности. С этой погадкой ему предстоит одно из двух: или удивить мир продерзостью, или наполнить вселенную зловонием. По-видимому, это очень большой риск. Но мы убедимся, что тут даже риска никакого нет, если примем в соображение, что сневежничать, во всяком случае, легче, нежели совершить подвиг. А талантливость именно тем и отличается, что всегда имеет в виду дела самые блестящие, то есть самые легкие. Божку съесть, вавилонскую башню проектировать – вот задачи, которые ей льстят, на которые она обращает всю свою похотливость. И посмотрите, с какою легкостью выступают эти люди вперед! Как они заранее трубят о победе, как клянутся голыми руками потушить пылающий костер!
И чем больше предвкушение торжества, тем больше малодушия, ненависти и подозрительности при первом неуспехе. Эта последняя черта очень опасна, потому что почва бунтов и измены, на которую вступает потерпевшая неудачу талантливость, есть единственная, доступная ее уровню. Ни измена, ни бунты, по нашему извечному обычаю, не требуют определений. Оба эти слова для каждого ясны сами по себе, то есть ясны именно в том смысле, какой тот или другой талантливый субъект желает им сообщить. С произнесением краткого и в то же время совершенно неопределенного звука приобретается и исходный пункт, и материал для наполнения всей последующей карьеры. Затем уже следуют обуздания…
А что же, кроме обузданий, произвела на свет наша талантливость за все время ее векового и притом вполне беспрепятственного существования?
* * *
Представьте себе такой случай: директор департамента призывает к себе столоначальника и говорит ему: «Любезный друг! я желал бы, чтоб вы открыли Америку».
Я не берусь утверждать, чтоб столоначальник осмелился возразить, но он все-таки поймет, что открытие Америки совсем не его ума дело. Поэтому, всего вероятнее, он поступит так: разошлет во все места запросы, и затем постарается кончить это дело измором.
Но пускай тот же директор тому же столоначальнику скажет: «Любезный друг! я желал бы, чтоб вы всех этих Колумбов привели к одному знаменателю!»
Вы не успеете оглянуться, как Колумбы подлинно будут обузданы, а Америка так и останется неоткрытою.
Митрофаны не изменились. Как и во времена Фонвизина, они не хотят знать арифметики, потому что приход и расход сосчитает за них приказчик; они презирают географию, потому что кучер довезет их куда будет приказано; они небрегут историей, потому что старая нянька всякие истории на сон грядущий расскажет. Одно право они упорно отстаивают – это право обуздывать, право свободно простирать руками вперед.
Митрофан на все способен, потому что на все готов.
Он специалист по части гражданского судопроизводства, потому что занимал деньги и не отдавал оных.
Он специалист по части уголовного судопроизводства, потому что давал затрещины и получал оные.
Он специалист по части администрации, потому что знает такие ругательства, которые могут в одно мгновение опалить человека.
Он специалист по части финансов, потому что все трактиры были свидетелями его финансовых операций.
Он медик, потому что страдал секретными болезнями.
Он акушер, потому что видал нагих женщин.
Все профессии он изучил на своих собственных боках с такой основательностию, что даже получил название «выжиги». «Выжига» – это совсем не ругальный, а, скорее, деловой термин, означающий мужа совета. «Уж коли этакая „выжига“ не поможет, – говорят вам, указывая на X. или Z., – то дело твое пропащее». Вы обращаетесь к «выжиге», и, к изумлению вашему, он действительно помогает вам. Это до того удивительно, что вам непременно приходит на мысль, что и этот «выжига», и средства, которые он употребляет, и ваше дело, и вы сами – все это, взятое вместе, не стоит ломаного гроша. Все это какой-то безобразный мираж, способный поселить в душе не то отчаяние, не то презрение ко всему: к жизни, к себе самому…
Дайте «выжиге» рубль серебра, он заложит душу черту; дайте пять рублей – он сам сделается чертом. Ему и это сделать легко, потому что он один в целом мире знает, где найти черта и что у него просить.
Это ходячий кошмар, который прокрадывается во все закоулки жизни и умеет до такой степени прочно внедриться всюду, что, несмотря на свою безазбучность, успевает сделаться необходимым человеком и подлинным мужем совета.
И все благодаря лишь тому, что простота задач продолжает привлекать все сердца.
Нам все еще чудится, что надо нечто разорить, чему-то положить предел, что-то стереть с лица земли. Не полезное что-нибудь сделать, а именно только разорить. Ежели признаться по совести, то это собственно мы и разумеем, говоря о процессе созидания. Наши так называемые консерваторы суть расточители по преимуществу. Вселенная кажется им наполненною скоровоспламеняющимися элементами, состоящими из козней, крамол и измены. Со всем этим надо, конечно, покончить. Но к кому же обратиться? Кто возьмет на себя трудное обязательство сражаться против козней некознедействующих и крамол некрамольствующих? Кто, кроме Митрофана, этого вечно талантливого и вечно готового человека, для которого не существует даже объекта движения и исполнительности, а существует только самое движение и самая исполнительность? Налетел, нагрянул, ушиб – а что ушиб? – он даже не интересуется и узнавать об этом…
Времена усложняются. С каждым годом борьба с жизнью делается труднее для эмпириков и невежд. Но Митрофаны не унывают. Они продолжают думать, что карьера их только что началась и что вселенная есть не что иное, как выморочное пространство, которое им еще долго придется наполнять своими подвигами. Каким образом могли зародиться все эти смелые надежды? где их отправный пункт? Увы! уследить за этим не только трудно, но даже совсем невозможно.
Митрофан плохой теоретик; он не любит ни анализировать, ни обобщать и упорнее всего отворачивается от самого себя. Если б вчерашний день был в свежей памяти, он, быть может, стоял бы укором или, по малой мере, поучением. Но так как вчерашнего дня нет, так как последовавшая за ним ночь принесла за собой хмельное забвение всего прошлого, то нет места ни для поучений, ни для укоров. Представьте себе пропойца, который встает с постели с разбитым лицом, с угнетенною винными парами головой, весь подавленный чувством тупого самоотсутствия, которое не дает ему возможности не только что-нибудь ощущать, но просто даже разобрать, где он и кто он. Если б этот человек мог помнить, если б он мог ясно представить себе все подробности безобразий прошедшего дня, быть может, тут произошла бы потрясающая драма. Но так как он ничего не помнит, ничего себе не представляет, то чувствует только одно: гнетущую потребность опохмелиться. Удовлетворивши этой потребности, он снова возвращается к вчерашнему дню, но не для того, чтоб анализировать, а для того, чтоб воспроизвести его с буквальною точностью. В этой безнадежной картине заключается единственно возможное объяснение всего Митрофанова существования.
Для Митрофана не существует ни опыта, ни предания, ни возможности делать какие-либо умозаключения, потому что всякая настоящая минута его жизни без остатка вытесняется следующею минутою. Его наглость не есть наглость, легкомыслие не есть легкомыслие. Это сейчас родившийся, и притом совершенно порожний, человек, об которого, как о каменную скалу, разбивается принцип вменяемости. Его действия можно было бы сравнить с проявлением стихийной силы, но даже и это сравнение оказывается неуместным, потому что задача стихии – бессознательное разрушение рядом с бессознательным творчеством, а задача Митрофана – одно бессознательное разрушение! Вот почему до сих пор не существует ни одной сколько-нибудь ясной теории митрофанства, которая могла бы оправдать его существование и указать на перспективы, ожидающие это явление в будущем.
В XVIII веке Митрофан впервые выступил на дорогу деятельности во всем блеске своей талантливости. В эту достопамятную эпоху со всех сторон сыпались на него стрелы просвещения, и он с какою-то ребяческою отвагой подставлял им свое рыхлое тело. Но в действительности он облюбовал только одну из них, а именно ту, которая называется табелью о рангах, и в ней замкнул весь смысл своего существования. Все, что стояло рядом с этой табелью, все математики, химии, механики, фортификации и проч., о насаждении которых, с жезлом в руках, хлопотал Петр Великий, – все это только внешним образом окатило Митрофана, оставив в его теле лишь легкий озноб. Но табель о рангах внедрилась, вошла в плоть и кровь. С этою табелью в руках, хмельной от приливов талантливости, он рыскал по долам и горам, внося в самые глухие закоулки смелую проповедь о чиноначалии и заражая самые убогие хижины своею просветительною деятельностью. Перед немеркнущим блеском табели о рангах тускло, почти презренно светились прочие вопросы жизни, то есть все то, что составляет действительную силу страны. Жизнь остановилась, охваченная со всех сторон безнадежнейшим эмпиризмом; источники воочию иссякали под игом расточительности и хищничества; стихии бесконтрольно господствовали над трудом и жизнью человека, а Митрофан ничего не замечал, ни перед чем не останавливался и упорно отстаивал убеждение, что табель о рангах даст все: и славу, и богатство, и решительный голос в деле устройства судеб человечества.
Только долуторавековой искус мог пошатнуть это убеждение и возбудить сомнение насчет живоносных свойств табели о рангах. Но так как это была единственная форма западноевропейской жизни, которая не только привилась, но даже значительно усовершенствовалась, и так как с нею отождествилась идея о просвещении, то весьма естественно, что сомнение в ее доброкачественности распространилось огулом и на все прочие результаты, выработанные цивилизацией Запада. Мнения, что Запад разлагается, что та или другая раса обветшала и сделалась неспособною для пользования свободой, что западная наука поражена бесплодием, что общественные и политические формы Запада представляют бесконечную цепь лжей, в которой одна ложь исчезает, чтоб дать место другой, – вот мнения, наиболее любезные Митрофану. И все потому только, что он смешал цивилизацию с табелью о рангах. Благодаря гг. Бартеневу и Семевскому, он знает немало анекдотов из истории просветительной деятельности XVIII века и, заручившись ими, считает себя уже совершенно свободным от церемонных отношений к цивилизации вообще. Заговорите с Митрофаном о каких угодно открытиях или порядках, которых польза ясна и несомненна даже для неразвитого человека, – он оскалит зубы и, вместо опровержения, ушибет вас таким анекдотом из «Русского архива», что вам сделается неловко. Напрасно вы будете доказывать, что просветительная деятельность, на которую он ссылается, не есть просветительная деятельность, а пародия на нее; что он же, Митрофан, должен быть обвинен в том, что из всех плодов западной цивилизации успел вкусить только от самого гнилого и притом давно брошенного под стол, – он ответит на ваши доказательства другим анекдотом, еще более пахучим, и будет действовать таким образом до тех пор, пока вы не убедитесь в совершенном бессилии каких бы то ни было доказательств перед силою анекдота и уподобления.
Но ежели нет ясных фактов (нельзя же принимать за факт одну голую готовность), на основании которых можно было бы создать теорию митрофанства, то есть упования и прозрения. Известно, что ничто так не окриляет фантазию, как отсутствие фактов. Нет фактов, – значит, есть пустое пространство, не ограниченное никакими межевыми признаками, которое можно населить какими угодно привидениями. Поэтому, как только Митрофан вступает на почву упований, он делается смел до дерзости, необуздан до самозабвения. Он говорит, – и с восхищением слушает самого себя; и чем больше говорит, тем больше чувствует потребность говорить, – говорить без конца. И всегда для своих разговоров выберет тезис самый неожиданный и самый блестящий: либо пятую стихию, либо новое слово. «Будет носить чужое заношенное белье, скажет он, – пора произнести и свое собственное, новое слово». И, конечно, надежду на произнесение этого нового слова возложит на самого себя.
Что носить чужое заношенное белье не лестно – это истина для всех непререкаемая. Но Митрофан упускает из вида, что он носил это заношенное белье добровольно, не замечая, что оно давно уже брошено за негодностью, и радуясь только тому, что оно досталось ему с барского плеча. Цивилизованные народы всегда имеют полный комплект белья, и потому меняют его так часто, что обладателю рубища это может показаться даже прихотью. Стало быть, в том нет ничего удивительного, что рядом с чистым бельем имеется порядочная куча и заношенного; скорее же удивительно то душевное настроение, которое заставляет останавливаться именно на заношенном белье предпочтительно перед чистым. Кто ж виноват в существовании такого настроения?
Тайна этой переимчивости задним числом опять-таки объясняется слишком большою талантливостью Митрофана. Ему некогда следить за быстро сменяющимися явлениями жизни, потому что он, уловивши одну какую-нибудь крупицу, уже не может отвязаться от нее, не натешившись всласть, не выжавши из нее сока, не доведя факта до абсурда. Из фрака он сделает мундир и напишет целый трактат о ношении его, из бритья бороды он создаст себе кумир и будет носиться с этим кумиром до изнеможения. Восприимчивость угнетает его и нередко даже делает опасным утопистом и беспардоннейшим регламентатором. Покуда он носится с своим «живым вопросом» и старается внедрить его в себя на веки вечные, живой вопрос давно уже оказывается сданным в архив и замененным другими, более подходящими вопросами. Что в результате такой упорной восприимчивости может быть только глухая стена – это очевидно; но Митрофан слишком самолюбив, чтобы обвинить себя в таком неудачном результате. «Сколько лет мы носим фраки, сколько крови из-за одной бороды пролито, а все толку нет!» – говорит он и принимает твердое намерение навсегда отвернуться от затей разлагающегося Запада, которые, на его взгляд, до того уже тощи, что и натешиться-то ими вдоволь нельзя.
Никто, конечно, не спорит, что политические и общественные формы, выработанные Западной Европой, далеко не совершенны. Но здесь важна не та или другая степень несовершенства, а то, что Европа не примирилась с этим несовершенством, не покончила с процессом создания и не сложила рук, в чаянии, что счастие само свалится когда-нибудь с неба. Митрофан же смотрит на это дело совершенно иначе. Заявляя о неудовлетворительности упомянутых форм, и в особенности напирая на то, что у нас они (являясь в виде заношенного чужого белья) всегда претерпевали полнейшее фиаско, он в то же время завиняет и самый процесс творчества, называет его бесплодным метанием из угла в угол, анархией, бунтом. По обыкновению, больше всего достается тут Франции, которая, как известно, выдумала две вещи: ширину взглядов и канкан. Из того числа: канкан принят Митрофаном с благодарностью, а от ширины взглядов он отплевывается и доднесь со всею страстностью своей восприимчивой натуры.
Увы! Митрофан не знает, как трудно положение человека, который обязывается жить своим умом. Нет у последнего ничего готового, кроме того, что он приготовил своими собственными руками и до чего додумался силою собственной мыслительной способности. У него, конечно, имеется в запасе большое подспорье – наука, которую он сам же выдумал и вывел в люди, но наука еще не настолько полна, чтоб отвечать на все запросы жизни. Желания человека опережают науку, и вот он делает все новые и новые попытки, впадает в заблуждения, поправляет себя и опять заблуждается. Все это обходится очень дорого, но человек, живущий своим умом, не может устранить опытов, достающихся даже дорогою ценой. Он знает, во-первых, что в ширине его запросов заключается залог непрерывающегося развития жизни, да, сверх того, не может отказаться от попыток уже и потому, что одна удовлетворенная потребность рождает в нем другую, которая тоже требует удовлетворения. Поэтому, быть может, он копошится несколько более, нежели тот солидный человек, который знает, что кучер наверное привезет его туда, куда приказано; и не столь мудр, как тот мудрец, который стоит, уставясь глазами в стену, и твердо уповает, что стена сама собой расступится перед ним. Часто нам случается слышать, как говорят: «Вот дрянные людишки! что ни человек то мнение, что ни вопрос – то спор!» Но это только издали кажется, что эти людишки дрянные; в сущности, это люди, живущие своим умом и понимающие всю трудность подобного положения. Простим их, ибо они все-таки более самих себя беспокоят, нежели нас.
Митрофан с особенным удовольствием останавливается на политических и общественных формах, потому что видит их внешнюю изменчивость и от этого признака приходит к заключению о негодности самого процесса создания этих форм. По его мнению, каприз и чудачество обуревают вселенную; люди не по необходимости меняют старые формы общежития на новые, а потому только, что так вздумалось. То внутреннее содержание, от которого зависит то или другое устройство обществ, те открытия и изобретения человеческого ума, которые так резко определяют характер того или другого периода истории человечества, совершенно закрыты для него. Однако же это пропуск очень важный.
Историческая наука недаром отделила последние четыре столетия и существенным признаком этого отграничения признала великие изобретения и открытия XV века. Здесь проявления усилий человеческой мысли дали жизни человечества совсем иное содержание и раз навсегда доказали, что общественные и политические формы имеют только кажущуюся самостоятельность, что они делаются шире и растяжимее по мере того, как пополняется и усложняется материал, составляющий их содержание.
Митрофан ничего этого не знает и не хочет знать. Он живет в век открытий и изобретений и думает, что между ними и тою или другою формою жизни нет ничего общего. В его глазах передвигаются центры человеческой индустрии, в его глазах материальные и умственные богатства перемещаются из одних рук в другие, а он продолжает думать, что все это не более как случайность и спешит заткнуть ту или другую дыру и сделать некоторые ничтожные поправки в обветшавшем здании табели о рангах. Да, – только в табели о рангах, ибо как ни глумится над ней Митрофан под веселую руку, а она все-таки и доднесь составляет единственный обрывок цивилизации, действительно дорогой его сердцу.
И вот таким-то образом проводится время в ожидании «нового слова» и открытия пятой стихии. Самонадеянность и хвастовство растут, а житье наступает трудное, трудное даже для Митрофанов. Нелепостно перенимают они всякую новую штуку, но так как эта штука является независимо от общих форм жизни, то весьма естественно, что она их же бьет в лоб. Мир открытий и изобретений, в глазах Митрофанов, есть мир подробностей, существующий an sich und fur sich в себе и для себя. и не имеющий внутренней связи с общим строем жизни. Понятно, какое должно выйти столпотворение, сколько заплат, пятен и брызгов грязи должно быть на той ризе, которую сооружает себе Митрофан и к которой он каждый день прибавляет по новой заплате, по новому грязному пятну.
Но, кроме путаницы, Митрофану угрожает еще другая беда: отчаяние. Он может очутиться в положении раскольника, с часу на час ожидающего антихриста. Если антихрист в виду, если через минуту все должно кончиться, то понятно, что не нужно ни жать, ни сеять, ни собирать в житницы, а нужно заботиться только о саване и гробе. Подобно сему, если каждое новое открытие или усовершенствование приводит лишь к тому, что бьет в лоб, и ежели при этом нет даже поползновения определить причину такого странного действия открытий и усовершенствований, то остается одно из двух: или закутаться в саван, или обратиться в дикое состояние.
И за всем тем нас ждет еще «новое слово»… но, боже мой! сколько же есть прекрасных и вполне испытанных старых слов, которых мы даже не пытались произнести, как уже хвастливо выступаем вперед с чем-то новым, которое мы, однако ж, не можем даже определить! Есть ли расчет предпочесть неизвестное известному? и честно ли, наконец, угрожать вселенной «новым словом», когда нам самим небезызвестно, что материал для этого «нового слова» состоит исключительно из «кратких начатков» да из первых четырех правил арифметики?
* * *
Где ж элементы будущего? вот вопрос.
В течение последних пятнадцати лет у нас выступило вперед многое, о чем никому и не снилось до того времени. На недостаток приказаний мы пожаловаться не можем, ибо ими наполнены все страницы нашей новейшей истории, – каким же образом отвечала на них наша талантливость?
Всюду, куда мы ни обратимся, встречаем один ответ: погодите! еще время не ушло!
У нас есть сословие адвокатов… погодите! еще время не ушло!
У нас есть гласный и устный суд… погодите! еще время не ушло!
У нас есть земские деятели… погодите! еще время не ушло!
У нас есть опыты крестьянского самоуправления… погодите! еще время не ушло!
– Погодите! не торопитесь! куда спешить! – в один голос вопиют все Митрофаны, и вопиют так громко, что посторонний человек останавливается в каком-то странном недоумении. С одной стороны, судя по непрерывности предостерегающих криков, ему кажется, что в сей пространной веси происходит либеральное столпотворение; с другой стороны, он видит, ясно видит, что вся поспешность здесь заключается в том, чтобы не спешить.
А этим временем, помаленьку да потихоньку, адвокаты превращаются в «аблакатов», а земские деятели – в устроителей пикников, закусок и обедов.
Подготовки нет, а ремесленность уже проникает всюду. Ремесленность самого низшего сорта, ремесленность, ничего иного не вожделеющая, кроме гроша. Надул, сосводничал, получил грош, из оного копейку пропил, другую спрятал – в этом весь интерес настоящего. Когда грошей накопится достаточно, можно будет задрать ноги на стол и начать пить без просыпу: в этом весь идеал будущего.
И с таким-то запасом, с такими-то идеалами Митрофан сбирается в дальний путь и надеется сказать свое новое слово. В ожидании же минуты, когда «слово» назреет, он не на шутку мечтает быть просветителем.
Просветительная миссия – это идеал Митрофана, это провиденциальное его назначение. С штофом в руке, с непреоборимым аппетитом в желудке, он мечется из угла в угол, обещая все привести к одному знаменателю (к какому – он сам того не знает) и забывая, что прежде всего ему необходимо себя самого привести к знаменателю просвещения…
Молчание – вот единственный ясный результат, который покуда выработала наша так называемая талантливость. Затем, в ожидании того таинственного «нового слова», которому предстоит обновить мир, все-таки остается во всей своей неприкосновенности очень серьезный вопрос:
Где ж элементы будущего?
ЧТО ТАКОЕ «ТАШКЕНТЦЫ»?
«Ташкентцы» – имя собирательное.
Те, которые думают, что это только люди, желающие воспользоваться прогонными деньгами в Ташкент, ошибаются самым грубым образом.
«Ташкентец» – это просветитель. Просветитель вообще, просветитель на всяком месте и во что бы то ни стало; и притом просветитель, свободный от наук, но не смущающийся этим, ибо наука, по мнению его, создана не для распространения, а для стеснения просвещения. Человек науки прежде всего требует азбуки, потом складов, четырех правил арифметики, таблички умножения и т. д. «Ташкентец» во всем этом видит неуместную придирку и прямо говорит, что останавливаться на подобных мелочах значит спотыкаться и напрасно тратить золотое время. Он создал особенный род просветительной деятельности – просвещения безазбучного, которое не обогащает просвещаемого знаниями, не дает ему более удобных общежительных форм, а только снабжает известным запахом. Тот, кто пьет херес tres vieux очень старый., считает себя просветителем относительно того, кто пьет херес просто vieux; старый. тот, кто пьет херес vieux, считается просветителем всех, пьющих настойку и водку. Разумеется, это только пример; но я привожу его для того, чтобы дать читателю понятие о градации. Градацию эту он может перенести во всякую другую сферу (например, в сравнительную сферу сюртуков и поддевок, ресторанов и харчевен, кокоток, имеющих ложу в бельэтаже, и кокоток, безнадежно пристающих к прохожему в Большой Мещанской, и т. п.), лишь бы она кончалась человеком, «который ест лебеду». Это тот самый человек, на котором окончательно обрушивается ташкентство всевозможных родов и видов.
Но и здесь не следует понимать буквально, что «человек, питающийся лебедою», должен непременно наполнять свой желудок этим суррогатом. «Лебеда», как и «голод», суть выражения фигуральные, дающие место для великого множества представлений. Есть лебеда натуральная, которая слывет в мире под названием подспорья и от которой, во всяком случае, хоть живот у человека пучит; и есть лебеда абстрактная, которая даже подспорьем ничему не служит. Человек, который питается этою последнею лебедою, есть именно тот человек, которого голоду нет пределов. Он со всех сторон открыт для действия, и именно для действия безазбучного. Он не может дать отпора, потому что у него самого нет единственного орудия, с помощью которого можно отражать безазбучное просветительство – нет азбуки. Каким образом ее не оказывается налицо – от рождения ли он не имел ее или утратил вследствие разных исторических обстоятельств, – дело не в том; во всяком случае, он стоит со всех сторон открытый, и любому охочему человеку нет никакой трудности приложить к нему какие угодно просветительные задачи.
Однажды я собственными ушами слышал следующий разговор:
– Дайте срок! – говорил некто, – вот там-то (имярек) должны произойти на днях серьезные замешательства – без нас дело не обойдется!
– Шагу без нас не сделают! – ораторствовал другой, – только зевать в этом деле не следует, не то как раз перебьют дорогу!
Я полюбопытствовал взглянуть: мимо меня проходили не люди, а нечто вроде горилл, способных раздробить зубами дуло ружья. У каждого из них, наверное, восприемницей была управа благочиния, – не та, которая имеет местопребывание на Садовой улице, а та, которая издревле подстерегает рождение охочего русского человека и тотчас же принимает его в свои недра, чтоб не выпустить оттуда никогда.
В другой раз я слышал другой разговор:
– Слышали? нигилисты-то!.. ведь это, батюшка, клад!
– Клад-то клад; только зевать в этом деле не нужно, а следует раз-раз-раз… вашему превосходительству имею честь явиться!
Я взглянул: передо мною были те же гориллы. В третий раз:
– Взял и ухватил! Потому, сударь, что в этом деле главное – ухватить! Даже ума не требуется! Кому следует вручил, с кого следует получил! Ухватил – и баста!
– Ухватить-то ухватил; только зевать тоже не следует, потому что нашего брата нонче ой-ой как расплодилось!
Опять гориллы…
Чего хотели эти человекообразные? чему они радовались? С чем, с какими орудиями они приступали к действию? Вот эти-то вопросы и следует предлагать себе всякий раз, когда присутствуешь при подобного рода рассуждениях и разговорах. Если этих вопросов не будет, вся соль рассуждений утратится, а вместе с тем утратится и смысл общего течения жизни. Очень часто мы проходим, слышим, смотрим, и нимало не вдумываемся в то, мимо чего проходим, что слышим, на что смотрим. В большей части случаев конкретность поражает наши чувства скорее машинально, нежели сознательно, и вследствие этого явления, по малой мере сомнительные, кажутся обыкновенными, чуть не доблестными. Обнажим их от покровов обыденности, дадим место сомнениям, поставим в упор вопрос: кто вы такие? откуда? – и мы можем заранее сказать себе, что наше сердце замрет от ужаса при виде праха, который поднимется от одного сознательного прикосновения к ним…
Вопрошать всегда следует, хотя бы проходящее перед нашими глазами явление представлялось обыденным или даже совсем посторонним. Говорят, что излишние вопросы прибавляют излишнюю горечь в жизни, что отсутствие вопросов предохраняет от состояния бессменного страха, в котором очутился бы человек, если б он всегда видел вещи в их действительном, беспокровном виде. Это правда; но правда и то, что ведь вслед за страхом сама собою приходит и охота освободиться от него, а это уже выигрыш несомненный. Поэтому следует раз навсегда сказать себе, что в мире общественных отношений нет ничего обыденного, а тем менее постороннего. Все нас касается, касается не косвенно, а прямо, и только тогда мы успеем покорить свои страхи, когда уловим интимный тон жизни или, иначе, когда мы вполне усвоим себе обычай вопрошать все без изъятия явления, которые она производит.
Чего хотели упомянутые выше люди? – этот вопрос разрешается одним словом:
Жрать!!
Жрать что бы то ни было, ценою чего бы то ни было!
Жгучая мысль об еде не дает покоя безазбучным; она день и ночь грызет их существование. Как добыть еду? – в этом весь вопрос. К счастию, есть штука, называемая безазбучным просвещением, которая ничего не требует, кроме цепких рук и хорошо развитых инстинктов плотоядности, – вот в эту-то штуку они и вгрызаются всею силою своих здоровых зубов…
Отрицать чье бы то ни было право на еду невозможно. Но нужно сознаться, что иногда это право разрастается до таких размеров, за которыми уже следует опасность. Дело в том, что безазбучный ташкентец требует еды не только некупленной, но и беспрерывно возобновляющейся; он никогда не довольствуется одним куском, но, проглатывая этот кусок, уже усматривает другой. Чем больше он ест, тем больше он голоден, и это объясняется тем естественнее, что он даже утратил привычку утолять свой голод порядочным образом. Он не ест, а закусывает, хватая урывками, на лету; вот почему беспрерывное его закусыванье не бросается в глаза. Еда падает словно в пропасть. Закусывая и перехватывая, ташкентец неприметно истребляет целые массы всякого рода туш, и, к удивлению, это нимало не утучняет его. В том-то и заключается ужас, который возбуждает этот человек, что он никогда не скажет: я сыт!
Если нам не кажутся странными некоторые радости, если мы не останавливаемся в оцепенении перед некоторыми надеждами, то это потому только, что мы не даем себе труда анализировать их внутреннее содержание. А между тем в этих случаях чье-то счастие всегда основано на чьем-то несчастии, чья-то надежда всегда равносильна чьему-то отчаянью. Сомнение здесь тем более непростительно, что достаточно самого поверхностного обзора подобных личностей, чтобы почувствовать себя неспокойно. Одни идут медленно, глядят угрюмо и строго, шевелят челюстями, скрипят зубами, как будто говорят: дай срок! перекушу я тебе когда-нибудь горло! Другие виляют, поражают своею юркостью и самым наивным образом изыскивают способы снять с вас сюртук, а в случае надобности и лишить вас мимоходом жизни. Смотрите внимательнее – и, наверное, вы сделаете такие открытия, которые непременно принесут пользу. От вас не ускользнут ни судорожные подергиванья рук, ни блудящие огоньки, которыми, по временам, искрятся мутные глаза, ни мгновенные перекаты голоса; одним словом, ничего из того, что вы до сей минуты считали мелочью. Этого достаточно будет, чтоб обогатить ваш ум познаниями и раскрыть сущность явления, дотоле загадочного. Вы приучитесь наблюдать за собою, вы не дадите подкупить себя простодушною обыденностью. В вашу душу проникнет страх, но повторяю: это здоровый страх, потому что он приводит за собой решимость во что бы ни стало освободиться от него.
Нет ничего опаснее обыденности, именно потому, что она примелькивается нашему взору. Мотается перед нами дрянной человечишко, и мы не спрашиваем даже себя: кого-то он оборвал? Кого-то заживо освежевал? Кого-то проглотил? Мы ждем, чтоб нам объявили об этом с церемонией, то есть чтоб тут был и приговор суда, и эшафот, и заплечный мастер. Только тогда, на месте казни, всматриваясь в эту несытую фигуру, мы говорим себе: «Каков! а я еще вчера видел, как он шнырил по улицам!» Но даже и это не всегда вразумляет нас, ибо, сказавши себе такое назидание, мы тут же опять вступаем на торную дорогу, опять завязываем себе глаза, и не расстаемся с нашей повязкой до тех пор, покуда новая церемония с эшафотом и заплечным мастером насильно не сорвет ее.
Понять известное явление значит уже обобщить его, значит осуществить его для себя не в одной какой-нибудь частности, а в целом ряде таковых, хотя бы они, на поверхностный взгляд, имели между собой мало общего. Понять же явление вредное, порочное – значит наполовину предостеречь себя от него. Вот почему я прошу читателя убедиться, что название «ташкентцы» отнюдь не следует принимать в буквальном смысле. О! если б все ташкентцы нашли себе убежище в Ташкенте! Мы могли бы сказать тогда: «Ташкент есть страна, населенная вышедшими из России, за ненадобностью, ташкентцами». Но теперь разве мы можем по совести утверждать это? разве мы можем указать наверное, где начинаются границы нашего Ташкента и где они кончаются? не живут ли господа ташкентцы посреди нас? не рыскают ли стадами по весям и градам нашим?
И ведь никто-то, никто не признает их за ташкентцев, а все видят лишь добродушных малых, которым до смерти хочется есть…
Ташкент, как термин географический, есть страна, лежащая на юго-восток от Оренбургской губернии. Это классическая страна баранов, которые замечательны тем, что к стрижке ласковы и после оголения вновь обрастают с изумительной быстротой. Кто будет их стричь – к этому вопросу они, повидимому, равнодушны, ибо знают, что стрижка есть, нечто неизбежное в их жизни. Как только они завидят, что вдали грядет человек стригущий и бреющий, то подгибают под себя ноги и ждут…
Как термин отвлеченный, Ташкент есть страна, лежащая всюду, где бьют по зубам и где имеет право гражданственности предание о Макаре, телят не гоняющем. Если вы находитесь в городе, о котором в статистических таблицах сказано: жителей столько-то, приходских церквей столько-то, училищ нет, библиотек нет, богоугодных заведений нет, острог один и т. д., – вы можете сказать без ошибки, что находитесь в самом сердце Ташкента. Наверное, вы найдете тут и просветителей и просвещаемых, услышите крики: «ай! ай!», свидетельствующие о том, что корни учения горьки, а плоды его сладки, и усмотрите того классического, в поте лица снискивающего свою лебеду, человека, около которого, вечно его облюбовывая, похаживает вечно несытый, но вечно жрущий ташкентец. Но училищ и библиотек все-таки не найдете.
Наш Ташкент, о котором мы ведем здесь речь, находится там, где дерутся и бьют.
Вчера я был в театре, в самом аристократическом из всех – в итальянской опере – и вдруг увидел ташкентца, и что всего удивительнее ташкентца-француза (оказалось, что это был генерал Флери). Скулы его были развиты необычайно, нос орлиный, зубы стиснуты, глаза искали. Что-то безнадежное сказывалось в этой сухой и мускулистой фигуре, как будто там, внутри, все давно застыло и умерло. Разумеется, кроме чувства плотоядности. Я инстинктивно обратился к моему соседу и с волнением, как будто хотел его предостеречь, сказал:
– Посмотрите, какой ташкентец!
Сосед с удивлением взглянул сначала на меня, потом в ту сторону, в которую я указывал; затем начал всматриваться-всматриваться и наконец пожал мне руку, как будто в самом деле я избавил его от беды.
Из этого я заключил, что, кроме тех границ, которых невозможно определить, Ташкент существует еще и за границею (каламбур плохой, но пускай он останется, благо понятен).
Переходя от одного умозаключения к другому, я пришел к догадке, что даже такие формы, которые, по-видимому, свидетельствуют о присутствии цивилизации, не всегда могут служить ручательством, что Ташкент изгиб. Ташкент удобно мирится с железными дорогами, с устностью, гласностью, одним словом, со всеми выгодами, которыми, по всей справедливости, гордится так называемая цивилизация. Прибавьте только к этим выгодам самое маленькое слово: фюить! – и вы получите такой Ташкент, лучше которого желать не надо.
Истинный Ташкент устраивает свою храмину в нравах и в сердце человека. Всякий, кто видит в семейном очаге своего ближнего не огражденное место, а арену для веселонравных похождений, есть ташкентец; всякий, кто в физиономии своего ближнего видит не образ божий, а ток, на котором может во всякое время молотить кулаками, есть ташкентец; всякий, кто, не стесняясь, швыряет своим ближним, как неодушевленною вещью, кто видит в нем лишь материал, на котором можно удовлетворять всевозможным проказливым движениям, есть ташкентец. Человек, рассуждающий, что вселенная есть не что иное, как выморочное пространство, существующее для того, чтоб на нем можно было плевать во все стороны, есть ташкентец…
Нравы создают Ташкент на всяком месте; бывают в жизни обществ минуты, когда Ташкент насильно стучится в каждую дверь и становится на неизбежную очередь для всякого существования. Это в особенности чувствуется в эпохи, которые условлено называть переходными. Может быть, именно чувствуется потому, что в подобные минуты рядом с Ташкентом уже зарождается нечто похожее на гражданственность, нечто напоминающее человеку на возможность располагать своими движениями… потихоньку, милостивые государи! потихоньку! Может быть, это «нечто зарождающееся», «нечто намекающее» и делает особенно нестерпимою боль при виде все-таки прямо стоящего Ташкента? Действительно, все это очень возможно; но что же кому за дело до этого! Разве объяснения утешают кого-нибудь? разве они умаляют хоть на каплю переполняющую сердце горечь? Я знаю одно: что никогда, даже в самые глухие, печальные исторические эпохи нельзя себе представить такого количества людей отчаявшихся, людей, махнувших рукою, сколько их видится в эпохи переходные. И рядом с этими отчаявшимися сколько людей, все позабывших, все в себе умертвивших… все, кроме бесконечного аппетита!
Я, конечно, был бы очень рад, если б мог, начиная этот ряд характеристик, сказать: читатель! смотри, вот издыхающий Ташкент! но, увы! я не имею в запасе даже этого утешения! Конечно, я знаю, что есть какой-то Ташкент, который умирает, но в то же время знаю, что есть и Ташкент, который нарождается вновь. Эта преемственность Ташкентов, поистине, пугает меня. Везде шаткость, везде сюрприз. Я вижу людей, работающих в пользу идей несомненно скверных и опасных и сопровождающих свою работу возгласом: «Пади! задавлю!» и вижу людей, работающих в пользу идей справедливых и полезных, но тоже сопровождающих свою работу возгласом: «пади! задавлю!» Я не вижу рамок, тех драгоценных рамок, в которых хорошее могло бы упразднять дурное без заушений, без возгласов, обещающих задавить. Мне скажут на это: всему причиной Ташкент древний, Ташкент установившийся и окрепший. Пожалуй, я и на это согласен. Что Ташкент порождает Ташкент – в этом нет ничего невероятного, но ведь это только доказывает, что и пессимисты, усматривающие в будущем достаточно длинный ряд Ташкентов, тоже не совсем неправы в своей безнадежности. Утешительного в этом объяснении немного.
Этот порочный круг не может не огорчать. Когда видишь такое общественное положение, в котором один Ташкент упраздняется только по милости возникновения другого Ташкента, то сердце невольно сжимается и делается вещуном чего-то недоброго. Говорят: новый Ташкент необходим только для того, чтобы стереть следы старого; как скоро он выполнит эту задачу, то перестанет быть Ташкентом. На это я могу ответить только: да, это рассуждение очень ободрительное; но и за всем тем я ни на йоту не усилю моего легковерия, и не надену узды на мои сомнения. Всюду, куда я ни обращаю мои взоры, я вижу: с одной стороны, упорствующую безазбучность; с другой увеличивающийся аппетит и возрастающую затейливость требований для удовлетворения его. Ничто так не прихотливо, как Ташкент, твердо решившийся не выходить из безазбучности и в то же время уже порастлившийся тонкою примесью цивилизации. Пирог, начиненный устностью и гласностью, – помилуйте! да это такое объеденье, что век его ешь – и век сыт не будешь! Тут-то и лестно размахнуться, когда размах сопровождается какими-то пикантными видимостями, как будто препятствующими, а в сущности едва ли не споспешествующими. Ведь и из опыта известно, что нарезное ружье стреляет дальше, нежели ружье, у которого дуло имеет внутренность гладкую…
Милостивые государи! если вы не верите в существование: господ ташкентцев, я попросил бы вас выйти на минуту на улицу. Там вы наверное и на каждом шагу насладитесь такого рода разговорами:
– Я бы его, каналью, в бараний рог согнул! – говорит один, – да и жаловаться бы не велел!
– Этого человека четвертовать мало! – восклицает другой.
– На необитаемый остров-с! пускай там морошку сбирает-с! – вопиет третий.
Не думайте, чтоб это были приговоры какого-то жестокого, но все-таки установленного и всеми признанного судилища; нет, это приговоры простых охочих русских людей. Они ходят себе гуляючи по улице, и мимоходом ввертывают в свою безазбучную речь словцо о четвертовании. Иногда они даже не понимают и содержания своих приговоров и измышляют всевозможные казни единственно по простосердечию… Да, читатель, по простосердечию! и ежели ты сомневался, что даже в слове «четвертование» может вкрасться простосердечие, то взгляни на эти самодовольные фигуры, устремляющиеся в клуб обедать, – и убедись!
Меня нередко занимает вопрос: может ли палач обедать? может ли он быть отцом семейства? какую картину должен представлять его семейный быт? ласкает ли он жену свою? гладит ли по голове ребенка? Помнит ли он? то есть помнит ли, что он заплечный мастер?
Признаюсь, я долгое время не мог даже представить себе, чтоб палач имел надобность насыщаться; мне казалось, что он должен быть всегда сыт. Но с тех пор, как я увидел ташкентцев, которые, посулив кому-то четвертование и голодную смерть на необитаемом острове, тут же сряду устремлялись обедать, мои сомнения сразу покончились. Да, сказал я себе, – это верно: палач может обедать, может иметь семейство, ласкать жену, гладить по голове ребенка! Что нужды, что он сегодня же утром гладил кого-то по спине? – был час и было дело; настал другой час – настало другое дело; в таком-то часу он заплечный мастер, в таком-то – отец семейства, в таком-то – полезный гражданин… Все часы распределены, и у всякого часа есть особенная клетка. Все имеет свою очередь, все идет своим порядком, и, следовательно, все обстоит благополучно…
Но оставим заплечного мастера и займемся нашими ташкентцами, из разряда простодушных.
«Согнуть в бараний рог» – ясно, что эти люди не понимают, как это больно, если они не теряют даже аппетита, выразивши своему ближнему такое странное пожелание. Ясно также, что они и о «необитаемом острове» имеют понятие только по слышанной ими в детстве истории о Робинзоне Крузое. Может быть, им думается, что вот, дескать, Робинзон и в пустыне нашел средства приготовить себе обед и прикрыть свою наготу… Невежды! они не знают даже того, что это история вымышленная! Но в том-то и дело, что есть случаи, когда невежество не только не вредит, но помогает. Во-первых, оно освобождает человека от множества представлений, перед которыми он отступил бы в ужасе, если бы имел отчетливое понятие о их внутренней сущности; во-вторых, оно дозволяет содержать аппетит в постоянно достаточной степени возбужденности. Защищенный бронею невежества, чего может устыдиться гулящий русский человек? – того ли, что в произнесенных им сейчас угрозах нельзя усмотреть ничего другого, кроме бессмысленного бреха? но почем же вы знаете, что он и сам не смотрит на все свои действия, на все свои слова, как на сплошной брех? Он ходит – брешет, ест – брешет. И знает это, и нимало ему не стыдно.
Что тут есть брех – это несомненно. Но дело в том, что вас настигает не одиночный какой-нибудь брех, а целая совокупность брехов. И вдруг вам объявляют, что эта-то совокупность именно и составляет общественное мнение. Сначала вы не верите и усиливаете ваши наблюдения; но мало-помалу сомнения слабеют. Проходит немного времени, и вы уже восклицаете: как это странно, однако ж!.. все брешут!
Все не все; но это не мешает предполагать, что если б, при употреблении некоторых выражений, мы давали место элементу сознательности, то дело от этого едва ли бы проиграло.
Возьмем для примера хоть одно такое выражение: согнуть в бараний рог. Что нужно сделать, чтобы выполнить эту угрозу? нужно перегнуть человека почти вчетверо, и притом так, чтоб головой он упирался в живот, и чтоб потом ноги через голову перекинулись бы на спину. Тогда только образуется Довольно правильное кольцо, обвившееся само около себя и представляющее подобие бараньего рога. Возможно ли подобное предприятие? – по совести, это сказать нельзя. Я уверен, что человек умрет немедленно, как только начнут пригибать его голову с теми усилиями, какие необходимы для подобной операции. Когда он умрет, конечно, уже можно будет и пригибать и наматывать как угодно, но удовольствия в этом занятии не будет. Какая польза оперировать над трупом, который не может даже выразить, что он ценит делаемые по поводу его усилия? По-моему, если уж оперировать, так оперировать над живым человеком, который может и чувствовать, и слегка нагрубить, и в то же время не лишен способности произвести правильную оценку…
Но, скажут мне, как же вы не понимаете, что выражение «в бараний рог согнуть» есть выражение фигуральное? Знаю я это, милостивые государи! знаю, что это даже просто брех. Но не могу не огорчаться, что в нашу и без того не очень богатую речь постепенно вкрадывается такое ужасное множество брехов самых пошлых, самых вредных. По моему мнению, не мешало бы подумать и о том, чтобы освободиться от них.
Итак, Ташкент может существовать во всякое время и на всяком месте. Не знаю, убедился ли в этом читатель мой, но я убежден настолько, что считаю себя даже вполне компетентным, чтобы написать довольно подробную картину нравов, господствующих в этой отвлеченной стране. Таким образом, я нахожу возможным изобразить:
ташкентца, цивилизующего in partibus; в стране неверных.
ташкентца, цивилизующего внутренности;
ташкентца, разрабатывающего собственность казенную (в просторечии казнокрад);
ташкентца, разрабатывающего собственность частную (в просторечии вор);
ташкентца промышленного;
ташкентца, разрабатывающего смуту внешнюю;
ташкентца, разрабатывающего смуту внутреннюю;
и так далее, почти до бесконечности.
Очень часто эти люди весьма различны по виду; но у всех имеется один соединительный крик:
Жрать!!
* * *
Я не предполагаю писать роман, хотя похождения любого из ташкентцев могут представлять много запутанного, сложного и даже поразительного. Мне кажется, что роман утратил свою прежнюю почву с тех пор, как семейственность и все, что принадлежит к ней, начинает изменять свой характер. Роман (по крайней мере, в том виде, каким он являлся до сих пор) есть по преимуществу произведение семейственности. Драма его зачинается в семействе, не выходит оттуда и там же заканчивается. В положительном смысле (роман английский), или в отрицательном (роман французский), но семейство всегда играет в романе первую роль.
Этот теплый, уютный, хорошо обозначившийся элемент, который давал содержание роману, улетучивается на глазах у всех. Драма начинает требовать других мотивов: она зарождается где-то в пространстве и там кончается. Покуда это пространство не освещено, все в нем будет казаться и холодно, и темно, и бесприютно. Перспектив не видно; драма кажется отданною в жертву случайности. Того пришибло, тот умер с голоду – разве такое разрешение может быть названо разрешением? Конечно, может; и мы не признаем его таковым единственно потому, что оно предлагается нам обрубленное, обнаженное от тех предшествующих звеньев, в которых собственно и заключалась никем не замеченная драма. Но эта драма существовала несомненно, и заключала в себе образцы борьбы гораздо более замечательной, нежели та, которую представлял нам прежний роман. Борьба за неудовлетворенное самолюбие, борьба за оскорбленное и униженное человечество, наконец, борьба за существование все это такие мотивы, которые имеют полное право на разрешение посредством смерти. Ведь умирал же человек из-за того, что его милая поцеловала своего милого, и никто не находил диким, что эта смерть называлась разрешением драмы. Почему? – а потому именно, что этому разрешению предшествовал самый процесс целования, то есть драма. Тем с большим основанием позволительно думать, что и другие, отнюдь не менее сложные определения человека тоже могут дать содержание для драмы весьма обстоятельной. Если ими до сих пор пользуются недостаточно и неуверенно, то это потому только, что арена, на которой происходит борьба их, слишком скудно освещена. Но она есть, она существует, и даже очень настоятельно стучится в двери литературы. В этом случае я могу сослаться на величайшего из русских художников, Гоголя, который давно провидел, что роману предстоит выйти из рамок семейственности.
Роман современного человека разрешается на улице, в публичном месте везде, только не дома; и притом разрешается самым разнообразным, почти непредвиденным образом. Вы видите: драма начиналась среди уютной обстановки семейства, а кончилась бог знает где; началась поцелуями двух любящих сердец, а кончилась получением прекрасного места, Сибирью и т. п. Эти резкие перерывы и переходы кажутся нам неожиданными, но между тем в них, несомненно, есть своя строгая последовательность, только усложнившаяся множеством разного рода мотивов, которые и до сих пор еще ускользают от нашего внимания или неправильно признаются нами недраматическими. Проследить эту неожиданность так, чтоб она перестала быть неожиданностью, – вот, по моему мнению, задача, которая предстоит гениальному писателю, имеющему создать новый роман.
Само собою разумеется, что я не пытаюсь даже подойти к подобной задаче; я сознаю, что она мне не по силам. Но так как я все-таки понимаю ее довольно ясно, то беру на себя роль собирателя материалов для нее. Есть типы, которые объяснить небесполезно, в особенности в тех влияниях, которые они имеют на современность. Если справедливо, что во всяком положении вещей главным зодчим является история, то не менее справедливо и то, что везде можно встретить отдельных индивидуумов, которые служат воплощением «положения» и представляют собой как бы ответ на потребность минуты. Понять и разъяснить эти типы значит понять и разъяснить типические черты самого положения, которое ими не только не заслоняется, но, напротив того, с их помощью делается более наглядным и рельефным. И мне кажется, что такого рода разъяснительная работа хотя и не представляет условий совершенной цельности, но может внести в общую сокровищницу общественной физиологии материал довольно ценный.
Но тут является еще одно условие – это отношение писателя к типам, им изображаемым. Всякая данная историческая минута, несмотря на то что ее можно охарактеризовать одним выражением (так, например, об известных эпохах говорят, что это эпохи, когда «злое начало в человеке пришло к спокойному и полному сознанию самого себя») (Нибур. Чт. о др. ист.), представляет, однако ж, довольно много мотивов, очень разнообразных, из которых одни вызывают типы, возбуждающие негодование, другие – типы, возбуждающие сочувствие. Казалось бы, что нет повода ни для негодования, ни для сочувствия, если уж раз признано, что во всяком положении главным зодчим является история. Между тем мы не можем воздержаться, чтобы одних не обвинять, а других не ставить на пьедестал, и чувствуем, что, поступая таким образом, мы поступаем совершенно законно и разумно. Мне кажется, явление это объясняется тем, что в этом случае и сочувствие и негодование устремляются не столько на самые типы, сколько на то или иное воздействие их на общество. Кроме действующих сил добра и зла, в обществе есть еще известная страдательная среда, которая, преимущественно, служит ареной для всякого воздействия. Упускать эту среду из вида невозможно, если б даже писатель не имел других претензий, кроме собирания материалов. Очень часто об ней ни слова не упоминается, и оттого она кажется как бы вычеркнутою; но эта вычеркнутость мнимая, в сущности же представление об этой страдательной среде никогда не покидает мысли писателя. Это та самая среда, в которой прячется «человек, питающийся лебедою». Живет ли он или только прячется? Мне кажется, что хотя он по преимуществу прячется, но все-таки и живет немного…
Спрашивается: может ли писатель оставаться совершенно безучастным к тому или иному способу воздействия на эту страдательную среду?
Как бы то ни было, но покуда арена, на которую, видимо, выходит новый роман, остается неосвещенною, скромность и сознание пользы заставляет вступать на нее не в качестве художника, а в качестве собирателя материалов. Это развязывает писателю руки, это ставит его в прямые отношения к читателю. Собиратель материалов может дозволить себе внешние противоречия – и читатель не заметит их; он может навязать своим героям сколько угодно должностей, званий, ремесл; он может сегодня уморить своего героя, а завтра опять возродить его. Смерть в этом случае – смерть примерная; в сущности, герой жив до тех пор, покуда живо положение вещей, его вызвавшее.
Но я чувствую, что уже достаточно распространился о том, какую цель имеют в виду предлагаемые этюды.
* * *
Нет ничего легче, как составить краткое известие о родопроисхождении любого «ташкентца».
В большинстве случаев это дворянский сын, не потому, чтобы в дворянстве фаталистически скоплялись элементы всевозможного ташкентства, а потому, что сословие это до сих пор было единым действующим и, следовательно, невольно представляло собой рассадник всего, что так или иначе имело возможность проявлять себя. Кроме пороков, тут были, конечно, и добродетели. Затем, «ташкентец» непременно получил так называемое классические образование, то есть такое, которое имело свойством испаряться немедленно по оставлении пациентом школьной скамьи. Еще Грановский подметил это странное свойство российского классицизма. «Студенты, – пишет он в одном из своих писем („Биографический очерк“ А. Станкевича), – занимаются хорошо, пока не кончили курса», или, другими словами, до тех пор, покуда может потребоваться сдача экзамена. После сего, как и следует ожидать, наступает полнейшая «свобода от наук».
И в самом деле, представьте себе молодого человека, который выходит из школы, предварительно сдавши свои экзат мены. Приготовление к ним стоило ему несколько недель самого усидчивого и назойливого труда и немало бессонных ночей. В течение курса он занимался всем, чем хотите, только не приобретением знания. Инстинкт подсказывал ему, что даровая жизнь не требует знания и что знание, в свою очередь, не может даже иметь никаких применений к даровой жизни. При таком положении вещей может существовать только один стимул для приобретения знания (в особенности знания с точки зрения классицизма, знания, не имеющего немедленного и непосредственного приложения) – это любознательность. Но разве можно обвинять кого бы то ни было за то, что он мало любознателен? разве любознательность обязательна? Наш юноша очень хорошо понимает это и убеждается в необходимости знания только в ту минуту, когда приходится сдавать экзамены. Несколько недель сряду он находится в возбужденном, почти восторженном состоянии. В течение этого времени он окачивает себя множеством разнообразнейших знаний, но понимает только одно: что знания служат ответом на печатные билеты, которые он должен будет брать наудачу со стола экзаменатора. Увы! этих билетиков так много, что на некоторые из них он даже не успел приготовить ответов…
Но судьба, видимо, покровительствует ему: он вынимает именно тот билетик, который всего тверже вызубрил. Ура! он оставляет школу и получает диплом!
Он во всеоружии является на ту самую арену истории, на которой, по выражению Грановского, он должен быть и материалом и зодчим («зачем же материалом? – недоумевает он про себя, – не лучше ли прямо зодчим?»).
Нимало не медля, отправляется он в трактир, и этим открывает свое вступление на арену истории. Через полчаса он уже смешивает Ликурга с Солоном, а Мильтиада дружески называет Марафоном. Проходит еще полчаса – и вот даже этот маскарадный разговор начинает тяготить его. Из уст его вылетают какие-то имена, но не Агриппины Старшей и даже не Мессалины, а какой-то совсем неклассической Машки…
Знание, которым он окатил себя, уже соскользнуло. Он помнит только одно: что он получил диплом и имеет право, отпраздновавши как следует освобождение от наук, быть «зодчим».
Где и в каком смысле зодчим?
Он устремляется под кровлю родительского дома, чтоб отдохнуть после неумеренного окачиванья. Разумеется, к нему простираются все объятия; его осматривают, облюбовывают, говорят: ну вот, молодец! но никто не спрашивает, чем он заручился и с каким запасом приехал. Среди восторгов, увеселений и ласк незаметно проходит несколько месяцев; наконец семейный праздник приедается, наступает забота об устройстве праздника более солидного и на иной манер.
– Надо, мой друг, подумать о будущем, – говорят дворянскому сыну родители, – ведь ты не объедок какой-нибудь, чтобы голубей гонять!
– Да, надо подумать о будущем! – повторяет дворянский сын и, пользуясь этим случаем, вновь припоминает, что имеет право быть зодчим…
Или голубей гонять, или быть зодчим – средины нет. Сомнения, к которой из этих двух должностей примкнет выбор, нельзя допустить; колебанию может подлежать только один вопрос: где и в каком смысле быть зодчим?
Некоторое время юноша колеблется между гражданской палатой и земским судом. В гражданской палате существуют крепостные дела («прекраснейшие, мой друг, эти места!» – говорят растроганные родители), но там «зодчество» ограничивается только устройством и приумножением собственного благосостояния. В Земском суде менее шансов для зодчества имущественного, зато большой простор для зодчества исторического. Историческое зодчество прельщает юношу своим размахом, своею красивостью.
– С чем же я, однако, явлюсь на арену зодчества? что предстоит мне созидать? что я знаю? – спрашивает он себя, и с непривычки ему делается как будто совестно.
– Я знаю, что я ничего не знаю! – мелькает в его уме единственный афоризм, который он изучил вполне твердо.
– Э! не боги горшки обжигали! – мелькает, однако ж, и другой афоризм, тоже достаточно твердо заученный.
Как всегда водится, истина позднейшая вытесняет истину предшествовавшую. Позднейший афоризм дает молодому человеку возможность позабыть об афоризме прежде явившемся.
Решено; он начинает обжигать горшки, и вскоре убеждается, что нимало не ошибся, сочтя себя способным и достойным. Не только он сам, но все, что его окружает: товарищество, в которое он вступает, и даже масса, которую он предпринимает обжигать, – все в один голос удостоверяет его, что он поистине способен и достоин. Никто не спрашивает его, что он знает, что он умеет делать: так натуральным кажется всем и каждому, что для обжигания горшков совсем не требуются божественные качества. Каково зодчество, таковы и зодчие – это бесспорно. Каково зодчество? – странный вопрос! – ухватил, смял, поволок…
И действительно: за что бы он ни взялся, все в его руках спорится, все выходит оттуда в лучшем виде. Он удивляется только одному: отчего в школе его учили как будто чему-то другому?
– А чему бишь учили меня в школе? – инстинктивно спрашивает он самого себя, – ах, да! res nullius caedet primo occupant!! вещь принадлежит тому, кто первый ее захватит. – верно! – Затем он успокаивается и окончательно решает в уме, что нет в мире ничего столь бесполезного, как нескромные вопросы.
Ворота Ташкента отворены настежь. Молодой человек влетает в них с гиканьем, с свистом, с малиновым звоном, надвинувши шапку набекрень… Он чувствует, что надоедливая опека школы навсегда канула в область прошлого. Стыдиться нечего, да и некогда. С этой минуты он полноправный гражданин своей новой родины.
С этой же минуты он окончательно делается продуктом принявшей его среды. Являются особенные обряды, своеобразные обычаи и еще более своеобразные понятия, которые закрывают плотною завесой остальные обрывки воспоминаний скудного школьного прошлого. Безазбучность становится единственною творческою силой, которая должна водворить в мире порядок и всеобщее безмолвие.
* * *
Я должен, впрочем, сознаться, что ташкентство пленяет меня не столько богатством внутреннего своего содержания, сколько тем, что за ним неизбежно скрывается «человек, питающийся лебедою».
Этот человек – явление очень любопытное, в том отношении, что он не только не знает, но, по-видимому, и не желает сытости.
Стоит он, скучившись в каком-то безобразном муравейнике, и до того съежился и присмирел там, что никто даже не интересуется знать, что это за масса такая, которая как будто колышется и живет, но из которой в то же время не выходит ни единого живого звука. Членораздельна ли она? способна ли выделить из себя какие-нибудь особи? или же до того сплотилась и склеилась, что даже мысль не в силах разложить ее?
Мрак, окружающий эти вопросы, до такой степени густ, что многие воспользовались им, чтоб утверждать, что всякий муравейник есть соединение безличных Иванов, которые все одинаково снабжены толоконными животами и все одинаково ни на что не скалят зубы, ничего не просят, кроме лебеды. Это просто бесшумное стадо, пасущееся среди всевозможных недоразумений и недомыслий, питающееся паскуднейшими злаками, встающее с восходом солнца, засыпающее с закатом его, не покорившее себе природу, но само покорившееся ей.
«Покуда существовало крепостное право, – прибавляют защитники этого мнения, – стадо, по крайней мере, было сыто и прилежно к возделыванью; теперь оно и голодно, и вместо возделыванья поет по кабакам безобразные песни». Таким образом оказывается, что труд, как результат принуждения, и кабак, как результат естественного влечения, – вот два полюса, между которыми осужден метаться человек, питающийся лебедою.
Других определений не существует; по крайней мере, Ташкент цивилизованный, Ташкент интеллигентный не сумел отыскать их.
Как ни авторитетны подобные показания, однако ж, когда подумаешь, что они даются ташкентцами, то есть тоже жертвами всевозможных недоразумений и недомыслий, то в душу невольно закрадывается сомнение.
Если муравейник, имея перед собой два пути: путь трудолюбия и путь праздности, предпочел последний первому, то, стало быть, это все-таки не просто инстинктивно копошащийся муравейник, но муравейник, имеющий способность выбирать. Предположим, что в данную минуту он сделал свой выбор в явный ущерб самому себе, но если уже однажды признается за ним способность выбирать, то необходимо признать и другую способность – способность руководиться при этом какими-нибудь соображениями. Очень может быть, что праздность показалась ему выгоднее или, по крайней мере, приятнее, нежели трудолюбие. Я наперед соглашаюсь, что это самое грубое и даже горькое заблуждение, но есть же какая-нибудь причина, вследствие которой и грубые заблуждения в иные минуты принимают вид истины. Одну из таких причин, между прочим, представляет то разноречие, которое возникает в уме, когда начинаешь применять слово «выгода» к слову «труд». Труд выгоден – это афоризм очень основательный, но нельзя же принимать всякий афоризм буквально. Афоризмы самые крепкие подвергаются разложению; люди самые простые становятся иногда любознательными. Какая это выгода, о которой идет речь? общая или частная? Если это общая выгода, то не слишком ли понятие об ней отвлеченно для такого простого и неразвитого ума, каким представляется ум муравейника? Если же это выгода частная, то чья именно?
Не могу не повторить здесь того, что уже сказано было однажды в начале этого этюда: никогда не лишнее делать себе вопросы; это привычка спасительная, ибо она отрезвляет человека, и всем явлениям сообщает их истинные, действительные размеры.
Но, оставив в стороне несостоятельное мнение о безличности «человека, питающегося лебедою», я все-таки должен сказать, что мрак, окружающий его, густ очень достаточно. Дойти до этого секретно-мыслящего, секретно-вздыхающего и секретно-вожделеющего субъекта, увидеть его лицом к лицу до такой степени трудно, что задача такого рода кажется почти неразрешимою. Может быть, это происходит от того, что приемы, употреблявшиеся доселе с этою целью, были или слишком грубы, или слишком наивны. Эти приемы состояли, с одной стороны, в ташкентском воздействии, с другой – в том, что мы сами (и притом очень неискусно) притворялись людьми, питающимися лебедою. И то и другое никуда не годится. Ташкентство ошеломляет, но не исследует; притворство выглядывает наружу из-под самой искусной гримировки, и при частом повторении обращается в привычку, которая все действия человека держит в каком-то искусственном плену. Нужно найти какой-нибудь средний путь, на котором наблюдатель мог бы обозревать человека, питающегося лебедою, оставаясь самим собой, то есть не ташкентствуя, но и не лебезя.
Говоря по совести, этого среднего пути я еще не знаю, но кажется, что с 19 февраля 1861 года он уже начинает понемногу освещаться. Массы выясняются; показываются очертания отдельных особей; наблюдательные средства получают возможность действовать успешнее не потому, чтобы они сами по себе дошли до совершенства, а потому, что уничтожилось несколько лишних преград, стоявших между предметом и предметным стеклом. Очень возможно, что упадут и другие последние преграды.
Что тогда откроется? вот в чем весь вопрос.
ТАШКЕНТЦЫ-ЦИВИЛИЗАТОРЫ
Цивилизующее значение России в истории развития человечества всеми учебниками статистики поставлено на таком незыблемом основании, что самое щекотливое самолюбие должно успокоиться и сказать себе, что далее этого идти невозможно. Я узнал об этом назначении очень рано. Тому назад давно – я воспитывался в то время в одном из военно-учебных заведений, и как сейчас помню, что это было на следующее утро после какого-то великолепно удавшегося торжественного дня, – мы слушали первую лекцию статистики. Профессор вошел на кафедру и следующим образом начал свою беседу о цивилизующем значении России. «А заметили ли вы, господа, – сказал он, – что у нас в высокоторжественные дни всегда играет ясное солнце на ясном и безоблачном небе? что ежели, по временам, погода с утра и не обещает быть хорошею, то к вечеру она постепенно исправляется, и правило о предоставлении обывателям зажечь иллюминацию никогда не встречает препон в своем исполнении?» Затем он вздохнул, сосредоточился на минуту в самом себе и продолжал: «Стоя на рубеже отдаленного Запада и не менее отдаленного Востока, Россия призвана провидением» и т. д. и т. д.
Слова эти тогда же поразили мое впечатлительное воображение. Для меня сделалось ясным, что задача России двойственна: во-первых, установить на прочном основании принцип беспрепятственности иллюминаций (политика внутренняя) и во-вторых, откуда-то нечто брать и куда-то нечто передавать (политика внешняя). Если верить московским публицистам, то первая задача уже давным-давно решена. Несмотря на то что торжества имеют характер праздников переходящих, наше солнце настолько дисциплинированно, что зараньше справляется с календарем, когда ему следует играть. Тогда и играет. Но вторая задача, уже во времена моей юности, причиняла мне не мало беспокойств. Я слышал и понимал, что тут есть какие-то «плоды», которые следует где-то принимать и куда-то передавать, но что это за «плоды», в каких лесах они растут и каким порядком их передавать, то есть справа ли налево, или слева направо – этого никак не мог взять себе в толк. «Налево кругом!» – раздавалось в моих ушах; но и этот воинственный клич как-то не утешал, а еще пуще раздражал меня.
– Иван Петрович! – спрашивал я почтенного нашего профессора, – зачем же нам передавать чужие плоды, если у нас есть свои собственные?
– Коли у тебя есть, так никто тебе не препятствует! – отвечал Иван Петрович с тем равнодушием, которое в то время одно только и одушевляло наших педагогов и которое, казалось, так и говорило: «Что ты пристаешь ко мне за разъяснениями? Я свое дело сделал: отзвонил – и с колокольни долой!»
– Но откуда брать? Куда передавать? – продолжал я настаивать.
– Придет пора да время – все узнаешь. Скажут: «спасибо» – значит, потрафил; надерут вихор – значит, проштрафился, надо начинать сызнова. Итак, милостивые государи! находясь на рубеже отдаленного Запада и не менее отдаленного Востока, Россия самим провидением призвана…
Я страдал невыносимо. Систематизируя все слышанное мною, я приходил к следующим выводам:
1) что у нас своих плодов нет;
2) что мы должны только передавать, даже не заглядываясь на то, что передаем: руками взял, руками и отдал – вот и все;
и 3) что мы рискуем при этом быть выдранными за вихор.
Результаты неясные, не удовлетворявшие даже тогдашних моих детских требований…
Но с течением времени самые трудные загадки разгадываются. Не буду подробно рассказывать здесь печальную историю моих колебаний; но сознаюсь, что она была обильна всякого рода разочарованиями. Была, например, одна минута, когда, руководствуясь законами аналогии и видя, что солнце каждый день встает на востоке, я заключил из этого, что восточные плоды суть те самые, которые наиболее пригодны для запада, и что стоит только насадить их, чтобы положить конец всем гниениям, брожениям и недоразумениям. Я ободрился. Нарезавши целую рощу цивилизующих орудий и воскликнув: а нуте, господа картофельники! посмотрим, как-то вы там гниете! – я устремился вперед. И что ж оказалось? – что мои цивилизующие орудия все сразу заглохли! что, пересаженные с почвы девственной, но сравнительно тощей, они не только никого не пленили, но даже сами не выдержали изобилия туков, представляемого западным гниением!
Всякий поймет, как был неприятен для меня этот опыт; но так как я все-таки твердо знал, что «стою на рубеже», то цивилизационное мое назначение нимало не затемнилось первою неудачею. Если попытка моя на западе не принесла желаемых результатов, рассуждал я сам с собою, то это значит только, что я не потрафил и что нужно потрафлять где-нибудь в другом месте. Меня начала интересовать мысль: не съездить ли, для начала, поцивилизовать слегка, например, в Рязанскую или Тамбовскую губернии? И, не задумываясь долго, я набрал с десяток здоровых, хотя и довольно голодных ребят, хватил для храбрости очищенной и, крикнув: ребята! с нами бог! ринулся…
Могу сказать смело: я действовал по всем правилам искусства то есть цивилизовал все, что попадалось мне по пути. Но и тут неудача не перестала меня преследовать. Оказалось, что в этих благодатных краях все уже до такой степени процивилизовано, что мне оставалось только преклониться ниц перед такими памятниками, как акведуки (пожарные бассейны), пирамиды (каланчи), термы (народные бани), величественные здания волостных и сельских расправ, вымощенные известковым камнем улицы и проч. и проч. Однажды, видя, как на базарной площади беспомощно утопали возы с крестьянскою жалкою кладью, я невольно воскликнул: да чего же им, мерзавцам, еще нужно? – и должен был отступить. Очевидно, тут сталкивались две цивилизации совершенно равноправные: одна, которую хотел насадить я с своими «ребятами», и другая, которую постепенно насаждал целый ряд «ребят», начиная от знаменитого своими проказами Удар-Ерыгина и кончая Колькой Шалопаевым.
Признаюсь, эта вторая неудача еще больше озадачила меня, хотя я и скрывал мое огорчение. Но товарищи мои крепко приуныли. И не мудрено: весь запас очищенной был выпит без остатка, а за минуту перед тем мы съели последний кусок колбасы. В долг никто не верил… Куда девать никому не нужную силу? Где найти секрет, который давал бы возможность просвещать без просвещения, палить без пороху, сечь без розог? Какое употребление сделать из рук, которые так и цепляются, так и хватают? А главное: как добыть очищенной, не имея гроша за душой, спустивши все до последней нитки, не зная никакого ремесла, никаких даже слов, кроме: ради стараться! и – с нами бог?! Всякий согласится, что положение более безвыходное, более трагическое трудно себе представить!
По временам мною овладевали движения совершенно бессознательные. Я вскакивал с места и бежал вперед, сам не зная куда. Будь у меня в руках штоф водки, я был бы способен в одну минуту процивилизовать насквозь целую Палестину! Я бросался и на запад и внутрь, все в надежде что-нибудь зацепить, что-нибудь ущемить… тщетно! Я чувствовал, что во мне сидит что-то такое, чему нет имени… или нет! Это ужасное имя есть, и называется оно – разоренье! Неоткуда ничем раздобыться, некуда ничего нести… все вздор, все обольщенье и прах! Ничего у меня не осталось, кроме ужасного аппетита!
Жррррать!!
И вдруг я услышал слово, которое сразу заставило забиться мое сердце. Я остановился и притаил дыхание.
– Таш-кент! Таш-кент! – слаще всякой музыки раздавалось в ушах моих.
Жрррать!!
Сенька Броненосный! Ты, который выдумал это слово, ты не понимал и сам, какие новые пути оно открывает твоим добрым товарищам! Ты произнес его бессознательно, в порыве отчаяния, но услуга, которую оказала твоя бессознательность, останется навсегда незабвенною. Покуда я размышлял и соображал, товарищи шумели и спорили; слово «Ташкент» было у всех на языке.
– Ташкент! – ораторствовал друг мой, Аркаша Пустолобов, – но, поймите же, messieurs, ведь это только географический термин, ведь это просто пустое место, в котором не только удобств, но даже еды никакой, кроме баранины, нет!
– Жрррать! – как-то особенно звонко раздавалось в ушах.
– Однако, mon cher, – возражал Сеня Броненосный, – баранина… c'est tres succulent! on en fait du schischlik… qui n'est pas du tout a mepriser! это очень вкусно! Из нее делают шашлык… вполне достойный внимания. Я нахожу, что это вещь очень почтенная, а в нашем положении даже далеко не лишняя!
– Жрррать!
– Позвольте! ну, положим – баранина! но общество женщин? где, я вас спрашиваю, найдем мы общество женщин?
Но я уже не слушал; уста мои шептали: стоя на рубеже… Господи, ужели же, наконец, те цели, о которых говорил учебник статистики, будут достигнуты!
* * *
Я прогорел, как говорится, дотла. На плечах у меня была довольно ветхая ополченка (воспоминание Севастопольской брани, которой я, впрочем, не видал, так как известие о мире застало нас в один переход от Тулы; впоследствии эта самая ополченка была свидетельницей моих усилий по водворению начал восточной цивилизации в северо-западных губерниях), на ногах соответствующие брюки. Затем, кроме голода и жажды – ничего!
В таком положении я на последние деньги взял себе место в вагоне третьего класса, чтобы искать счастья в Петербурге.
Я еще прежде замечал, что, по какой-то странной случайности, состав путешественников, наполняющих вагоны, почти всегда бывает однородный. Так, например, бывают вагоны совершенно глупые, что в особенности часто случалось вскоре после заведения спальных вагонов. Однажды, поместившись в спальном вагоне второго класса, я был лично свидетелем, как один путешественник, не успевши еще осмотреться, сказал:
– Ну, теперича нам здесь преотлично! ежели мы теперича даже совсем разденемся, так и тут никто ничего нам сказать не может!
И действительно, он скинул с себя все, даже сапоги, и в одном белье начал ходить взад и вперед по отделениям. Эта глупость до того заразила весь вагон, что через минуту уже все путешественники были в одном белье и радостно приговаривали:
– Ну, теперь нам здесь преотлично! теперь ежели мы и совсем разденемся, так никто ничего сказать нам не смеет!
И таким образом ехали все вплоть до Петербурга, то раздеваясь, то одеваясь и выказывая радость неслыханную.
Точно так же было и в настоящем случае; вагон, в котором я поместился, можно было назвать, по преимуществу, ташкентским. Казалось, люди, собравшиеся тут, были не от мира сего, но принадлежали к числу выходцев какой-то отдаленной эпохи. Большинство состояло из отставных служак, уже порядочно обколоченных жизнью, хотя там и сям виднелось и несколько молодых людей, жертв преждевременной страсти к табаку и водке. Никаким другим цивилизующим орудием они не обладали, кроме сухих, мускулистых и чрезвычайно цепких рук, которыми они, по временам, как будто загребали. На многих были одеты такие же ополченки, как и на мне; от многих отдавало запахом овчины и водки… Но все говорили без устали; в душе у всякого жила надежда. Надо было видеть, с какою поспешностью проглатывали они на станциях стаканы очищенной, с какими судорожными движениями отдирали зубами куски зачерствелой колбасы! Казалось, земля горела под их ногами, и они опасались только одного: как бы не упустить времени!
– Да-с, – говорит кто-то в одном углу, – это, я вам доложу, сторонка! сверху палит, кругом песок… воды – ни капли! Ну, да ведь мы люди привышные!
– Так-то так, только вот насчет еды… ну, и тово-воно как оно – и этого тоже нету!
– Помилуйте! да какой вам еды лучше! баранина есть, водка есть… выпил рюмку, выпил другую, съел кусок…
– То-то, что водка-то там кусается; а хлебного, так сказывают, и в заводе нет!
– Так что ж! еще лучше – из рису ее там делают! От этой, от рисовой-то, и голова никогда не болит!
В другом углу:
– В этих-то обстоятельствах, доложу вам, я уже не в первый раз нахожусь…
– Ссс…
– Да-с, вот тоже в шестьдесят третьем году, сижу, знаете, слышу: шумят! Ну, думаю, люди нужны! Надеваю вот эту самую дубленку и прямо к покойному генералу! Вышел… хрипит! – Ну? говорит. – Так и так, говорю: – готов! Хорошо, говорит, мне люди нужны… Только и слов у нас с ним было. Налево круг-ом… Качай! И какую я, сударь, там полечку подцепил – масло!
– Д-да… а теперь, пожалуй, об полечках-то надо будет забыть! Это такой край, что тут не то чтобы что, а как бы только перехватить что-нибудь!
– Что вы! да разве вы не слышали, какая у них там баранина…
В третьем углу:
– Мне бы, знаете, годик-другой, – а потом урвал свое, и на боковую!
– Что вы! что вы! да вы не расстанетесь! там, я вам доложу, такая баранина…
В четвертом углу:
– Так вы изволите говорить, что тринадцать дел за собой имеете?
– Тринадцать раз, шельма, под суд отдавал! двенадцать раз из уголовной чист выходил – ну, на тринадцатом скапутился!
– Однако, теперь бог милостив!
– Теперь, батюшка, наше дело верное! – завтра к вечеру приедем, послезавтра чем свет в канцелярию… отрапортовал… сейчас тебе в зубы подорожную, прогоны и прочее… А уж там-то, на месте-то какое житье! баранина, я вам скажу…
В пятом углу:
– Не посчастливилось мне, mon cher! – говорит один молодой человек другому (у обоих над губой едва пробивается пушок), – из школы выгнали… ну, и решился!
– А я так долгов наделал; вот отец и говорит: ступай, говорит, мерзавец, в Ташкент!
– Однако, ваш родитель нельзя сказать чтобы был очень учтив!
– Какое учтив! Такими словами ругается, что хоть любому вахмистру… Ну да, впрочем, это все пустяки! а меня вот что пугает: как-то там будет насчет лакомства?!.
– Говорят, будто ташкентские принцессы очень недурны…
– Гм… ведь мы в полку-то разбаловались. Вот тоже и об еде не совсем одобрительные слухи ходят!
– Однако, я слышал, что баранину можно достать отличную…
В шестом углу:
– Так вы и с супругой туда отправляться изволите?
– Конечно! нельзя же! она у меня баба походная!
Молодые люди прислушиваются, улыбаются и подмигивают друг другу. Один из них шепотом говорит: ну, вот! значит, и насчет лакомства сомневаться нечего!
– Только тяжеленько им будет, супруге-то вашей! – продолжает один из прежних голосов, – ведь там ни съесть, ни испить слатенько…
– И! что вы! да там, говорят, такая баранина… В седьмом углу:
– Откровенно вам доложу: я уж маленько от медицины-то поотстал, потому что и выпущен-то я из академии почесть что при царе Горохе. Однако, травки некоторые еще знаю…
– Конечно! конечно! с них и этого будет!
– Народ простой, непорченый-с. Опять, сказывают, что у них даже простая баранина от многих недугов исцеляет! В восьмом углу:
– Проповедовать – можно! Только вот сказывают, что они по постам баранину лопают, – ну, это истребимо с трудом!
Одним словом, все заканчивают свои речи бараниной, все надеются на баранину, как на каменную гору. Так что мой друг, Сеня Броненосный, слушал, слушал, но наконец не вытерпел и сказал:
– Если эта баранина хоть в сотую долю так вкусна, как об ней говорят, то я уверен, что через полгода в стране не останется ни одного барана!
Увы! такова судьба цивилизующего начала! Оно истребляет туземных баранов и, взамен того, научает обывателей удовлетворяться духовною пищею! Кто в выигрыше? кто в проигрыше? те ли, которые уделяют пришельцу частицу стад своих, или те, которые, в возврат за это, приносят с собой драгоценнейший из всех плодов земных – просвещение?
Но здесь я должен сделать довольно горькое для моего самолюбия признание. Я чувствую, что в жизни моей готовится что-то решительное, а это невольно заставляет меня чаще и чаще обращаться к самому себе. Бывают минуты, когда откровенная оценка пройденного пути становится настоятельнейшею потребностью всего человеческого существа. По-видимому, одна из таких минут наступает теперь для меня…
Сознаюсь без оговорок: я не имею права быть очень высокого о себе мнения. Лучшее из качеств, которыми я обладаю, есть нечто вроде сократовского: я знаю, что ничего не знаю. Несмотря на свою незамысловатость, это свойство значительно помогло мне в жизни, так как оно делало из меня во всякое время и на всяком месте лихого исполнителя. Я никогда не изобрету пороха (даже если мне формально прикажут изобрести – я и тогда как-нибудь отшучусь), но если его изобретут другие – я очень рад. Палить я тоже готов во всякое время, и ежели не встречу слишком серьезных препятствий, то могу выказать храбрость несомненную. Не помню, в какой именно из шекспировских комедий герой пьесы задает себе вопрос: что такое невинность? – и весьма резонно отвечает: невинность есть пустая бутылка, которую можно наполнить каким угодно содержанием. Хотя, с точки зрения моралистов, это сравнение для меня не совсем выгодно, но я должен сказать правду (разумеется, по секрету), что оно подходит ко мне довольно близко. Пустая бутылка! – лестного, конечно, немного для меня в этом сравнении! – но для чего ж бы, однако ж, я стал отрекаться от этого звания? Разве мир не наполнен сплошь такими же точно пустыми бутылками, как и я? и разве сущность дела может измениться от того, что некоторые из этих бутылок высокомерно называют себя «сосудами»?
Я тем меньше имею основания конфузиться этого названия, что сделался пустою посудой далеко не произвольно. Тут, задолго до меня, уж были целые поколения пустых посудин, которые, дребезжа и звеня, так много о себе надребезжали и назвенели, что, казалось, и впрямь нет звания более почетного, более счастливого и спокойного, как звание пустой бутылки. Звание это не только насижено, но и по штатам значится подлежащим немедленному замещению, как только открывается свободная вакансия. Тут нет места ни для размышлений, ни для колебаний. Вы являетесь в жизнь, объявляете имя и фамилию. «Записать его в звание пустой бутылки» – и вы записаны…
С моей стороны уже и то значительный шаг вперед, что я начинаю смутно сознавать, что ничто не способно так скоро дать трещину, как посудина, которую слишком часто то наполняют, то опоражнивают, Я чувствую, что уже недалек момент разложения, тот момент, когда навсегда должен быть поколеблен авторитет, балалаек, пустых бутылок, упраздненных голов и т. п. Но если я сознаю, что такой результат неизбежен, это нимало не обязывает меня стараться о приближении минуты, которая должна превратить бутылки в черепки. Совсем напротив. Я думаю даже, что если б я действовал в смысле приближения этой минуты, то такая деятельность была бы противна и здравому смыслу, и чувству самосохранения. Что говорит мне здравый смысл? – он говорит: как ты ни бейся, но, кроме пустой бутылки, ничего из тебя не выйдет. Что говорит чувство самосохранения? – оно говорит: неужели же погибать из-за того только, что явился в свет пустою посудиной? и явился непроизвольно, нимало не участвуя в этом акте ни сознанием, ни волею?.. Что остается мне делать после таких ответов? Измениться – я не могу; погибнуть – не имею ни малейшей охоты. Остается, стало быть, откровенно стать в ряду пустых бутылок и этим действием окончательно закрепить законность моего присутствия на арене всероссийской цивилизующей деятельности.
Как бы то ни было, но я живу, а если живу, то, стало быть, имею и право отстаивать свое существование. Но отстаивать его я не могу иначе, как продолжая быть той самой пустой бутылкою, какою сделали меня обстоятельства. Иначе я буду исключен из жизни. Покуда порожняя посуда имеет возможность дребезжать и звенеть, моя обязанность – тоже дребезжать и звенеть, и, время от времени, наполняться той жидкостью, которая наиболее подходит к вкусам минуты. Какая это жидкость – до этого мне нет дела, ибо я не просто бутылка, а бутылка, относящаяся с полным равнодушием к тому, что ее наполняет. Зная, что я ничего не знаю, я обязываюсь чем-нибудь заменить эту пустоту, и заменяю ее готовностью. Поэтому я переимчив, вертляв, дерзок на услугу и ни перед какой профессией не задумываюсь. Никто не застал меня ни в каких подвигах, которые могли бы свидетельствовать, что я такое, и это в совершенстве обеспечивает мою свободу. Я публицист, метафизик, реалист, моралист, финансист, экономист, администратор. По нужде, я могу быть даже другом народа. Вчера существовало крепостное право – я был крепостником; сегодня крепостное право отменено – я удивляюсь, как можно было дожить до настоящей вожделенней минуты и не задохнуться. Всякая минута застает меня врасплох, и всякая же минута находит меня готовым. Сколь разнообразны вольные художества в Российской империи, столь же разнообразны и роды моей готовной деятельности. Над всеми ими парит одно: моя всегдашняя, непоколебимая готовность следовать указанию всякого одаренного способностью указывать перста, хотя бы этот перст был и запачкан. Не ужасайтесь этой-способности, не клеймите ее именем разврата; это действительно разврат, но разврат добросовестный (бывает же добросовестное воровство!), разврат лишь _до некоторой степени_, точно так, как и все прочее, что во мне ни есть, все добросовестно, и все развратно _лишь до некоторой степени_.
Иногда мне случается накуролесить серьезно: обрушить какой-нибудь монумент, передавить при этом целую уйму людей. Из этого одни заключают, что я имею злое сердце и делаю вред преднамеренно, другие – что я человек решительный, действующий во имя каких-то сознанных мною идей. Я вслушиваюсь в эти толки и смеюсь себе втихомолку, ибо я очень хорошо понимаю, что, в действительности, я только веселонравный мужчина, которому хочется удивить вселенную своею стремительностью. Я могу сколько угодно бить, давить, неистовствовать, ходить колесом – и никто не имеет права вменить мне это ни в злодеяние, ни даже в озорство. Помилуйте! я сам к своим деяниям отношусь совершенно объективно, то есть исключительно с точки зрения чистоты отделки. Я лечу, стремлюсь, хватаю, ловлю; мало того: я радуюсь, трепещу, страдаю, скрежещу зубами… о, если б знали, что все это не более как угар] если б могли видеть, как разрывается после этого угара голова, как болезненно бьется и сжимается сердце!..
Многие спрашивают меня: чего ж я достиг? Но разве на этот вопрос я, с своей стороны, не могу ответить другим вопросом: а чего же, милостивые государи, может достигнуть человек, прогоревший дотла? человек, который не имеет ни воспоминаний, ни надежд, у которого нет ничего внутри, кроме разорения? – Конечно, ничего другого, кроме того, чтобы как-нибудь не пропасть, чтоб не быть вконец искалеченным и хоть изредка да возобновлять в себе вкус тех благ, _которые_ теперь выбрасываются ему в виде обглоданной кости, но которые _некогда_ составляли фонд его существования. Если я достигаю всего этого – я считаю себя вполне удовлетворенным. Воспоминание о потерянных благах жизни переносится совсем не так легко, как это может казаться с первого взгляда. Оно до последней минуты волнует и раздражает пленное воображение; оно преследует, жжет; оно медленно, всечасно отравляет. В настоящем – воздержание и тоска; впереди – вино, игра, женщины… а в промежутке – лишь небольшой океан грязи, который необходимо переплыть… Ужели же найдется глупец, который, благословясъ, не бросится вплавь?
Грязи! какой грязи? в этом весь вопрос!
Если б эта грязь пачкала наглядно, осязательно, если б она изменяла наружность человека, уничтожала ее элегантность, действовала тлетворным образом на зрение и обоняние соседей – тогда так! Тогда, конечно, и самый отчаянный человек задумался бы, прежде чем окунуться в нее. Но ведь это грязь отвлеченная, метафизическая; грязь, о которой ces dames дамы. даже понятия никакого не имеют!
Переплывите этот грязный океан, окунитесь в него с головою, ныряйте, шалите сколько угодно – и вы все-таки выйдете на берег, словно из душистой ванны! Ни одного брызга! ни одного пятнышка! Мало того, ваши одежды получают даже какой-то особенный, не лишенный пикантности блеск!
Мне во сто крат более досадна моя ветхая ополченская поддевка, нежели та незримая одежда пороков, которую так охотно навязывают всем и каждому особого рода цеховые, именующие себя моралистами. Неприличие и бесконечную ядовитость моей поддевки я понимаю сразу. Ее появление вносит конфуз в порядочные семейства, заставляет умолкнуть самые оживленные разговоры, расширяет изумлением глаза; одним словом, уничтожает веселость, гармонию, движение и жизнь. Как бы я ни был самостоятелен, я не могу не сознавать, что мой приход производит всеобщую панику. Я не могу не сказать внутренно: «Да, твое место не здесь, не среди этих цветущих силою и уверенностью людей, а там, в вагоне третьего класса, в кругу людей надломленных, потухших и полинявших, людей с завистливыми взорами, людей, торопливо проглатывающих очищенную и раздирающих зубами окаменелую колбасу!» В эти горькие минуты я явственно слышу, как внутренности мои колышутся под наплывом ненависти ненависти к кому? К тем ли, которые меня презирают? Нет, не к ним, ибо они представляют идеал, к которому стремятся все мои помыслы и которому я могу завидовать, но ненавидеть не могу. К кому же? – а именно к тем, кого я сам презираю, к тем моим собеседникам по вагону третьего класса, которые вчера простодушно сообщали мне о своих видах на ташкентскую баранину!
Эти ужасные люди своим участием, своим панибратством каждую минуту уничтожают меня. Они напоминают мне, что я не что иное, как un homme perdu de dettes человек, погрязший в долгах., что я такой же проходимец, пропойца, прощелыга, как они все, что я один из тех любопытных субъектов, которые растратили молодость, силу, таланты и состояние – на что? – на лестное знакомство с половыми московских трактиров! Как же мне не ненавидеть их? Как не броситься мне в какой угодно омут, лишь бы освободиться из плена их ужасного панибратства!
И я достигну этого! В Ташкенте ли или в другом месте, но я дойму этих людей, пятнающих меня своим прикосновением!..
Да, если уж заводить речь о каких-то метафизических пятнах, незримо ложащихся на какую-то, не менее метафизическую совесть, то прежде надлежит изобрести средство, которое выгоняло бы эти пятна наружу и заставляло бы их гореть на лбу и щеках человека неизгладимым свидетельством того праха, которым преисполнено в нем все, за исключением сюртука и штанов, всегда находящихся в безукоризненной исправности! А так как этого средства, по счастью, не изобретено, то, стало быть…
* * *
Но довольно морализировать.
Я знал, что главным двигателем по части ташкентской цивилизации состоит некто Пьер Накатников, мой старый товарищ по школе. Он занимался организацией армии цивилизаторов; он кликал клич и вербовал охочих людей; он отправлял их целыми транспортами к месту назначения, распоряжался перевозочными средствами и т. д. и т. д.
Каждого человека судьба снабжает какою-нибудь специальностью. Одних она делает специалистами по части юридических вопросов, других – специалистами по части вопросов педагогических, третьих (большинство) – специалистами по части «очищенной» и т. п. Специальность Накатникова заключалась в распространении цивилизации. Никто не имел права с большим основанием сказать: «стоя на рубеже», как Накатников. В нем это была страсть до того живая и беспокойная, что он ни минуты не мог посидеть на месте, чтоб не озаботиться насчет того или другого темного уголка, каким-нибудь чудом ускользнувшего от его цивилизующего влияния. Он неоднократно уже делывал весьма замечательные в этом смысле походы, и потому был чрезвычайно опытен. Мало того что он мог заранее определить все материальные подробности похода (заготовление цивилизующих орудий, количество их и т. д.), но инстинктивно угадывал, что кому требуется. Разумеется, всего нужнее оказывались разные принципы. Так, например, направляя стопы свои на запад, он наперед говорил, что первый принцип, с которым надлежит ближе познакомить обывателей, – это le principe du stanovoy russef. Устремляясь внутрь, он знакомил невежд с принципом строгости и скорости во взыскании податей. Теперь, когда дело шло принцип русского станового. об отдаленном востоке, он, разумеется, прежде всего задал себе вопрос: чего им нужно? – и тотчас же, с свойственною ему проницательностью, решил, что прежде всего необходимо познакомить ташкентцев с principe du telegue russe принципом русской телеги… Я это знал и, разумеется, приготовил несколько нелишних соображений в этом смысле.
Признаюсь, я не без волнения переступил порог канцелярии, в которой должна была решиться моя участь. Накатников был некогда моим другом – это правда, но в то же время я знал, что ему небезызвестна была моя цивилизующая деятельность в одной из западных губерний… Это меня смущало, потому что я вел себя тогда… ах, как я себя тогда вел! К счастию, я мог утешить себя той мыслью, что современный контингент наших цивилизующих сил все тот же, который действовал и на западе, и внутри, и что, следовательно, как ни бейся, а обойти нас ни под каким видом нельзя.
Когда я вошел в приемную, все мои вчерашние спутники по вагону были уже налицо. Многие из них почистились, все были положительно трезвы. Такие физиономии встречаешь только в приемные дни в канцеляриях да в церквах перед причастием. Кроме их, набралось еще много другого народа, столь же решительного и столь же скудно, но чистенько одетого. Пьер опрашивал каждого поодиночке и главное внимание обращал на специальности, могущие служить подспорьем в деле цивилизации. В большей части случаев он встречал просителей как старых знакомых, уж известных ему по цивилизующей деятельности на западе и внутри. По движению его лица я убедился, что и мой приход не остался им незамеченным.
Странно играет судьба людьми. Я знал Пьера в школе и знал, что там он играл довольно незавидную роль. Как сейчас вижу его: сидит перед складным зеркальцем и вечно причесывает волосы. На губах улыбка, и около верхней губы, в углу, шевелится кончик языка; изнутри слышится какое-то неопределенное мурлыканье. Чешется-чешется, потом нагнется, заглянет в зеркальце, помурлычет, что-то поправит, и опять начнет мерно водить щеткой по голове. Никто не знал, о чем он думал, и даже думал ли о чем-нибудь. В те минуты, когда он бывал свободен от туалета, мы хотя и видали его движущимся, но всегда поневоле и всегда с определенной целью: что-нибудь взять, исполнить какое-нибудь правило, предписываемое уставом заведения. И всегда при этом кончик языка прилизывал зачинающийся над верхнею губою ус.
Казалось, в нем происходила какая-то работа, только нельзя сказать, чтоб очень умная. В улыбке его (а он улыбался постоянно) виделось что-то сардоническое, вопросительное; как будто он сам себя спрашивал: «Чему же я, однако, улыбаюсь?» Говорил он редко, да и то односложными словами, и ежели бы не обязательная сдача уроков, которая все-таки требовала некоторой связности речи, едва ли кто-нибудь из нас имел бы возможность утверждать, в состоянии ли он сказать кряду два слова. Он никогда не дрался, никогда ни к кому не приставал; его можно было дразнить и даже щипать – он только пожимался и изредка произносил единственное, заветное слово: «шут»! Когда же случалось, что его раздражали свыше всякой меры, то он молча вскакивал из-за туалета, молча схватывал первый попавшийся под руку предмет: книгу, чернильницу, линейку, и молча же швырял ею в обидчика. Таким образом, молча, улыбаясь и как-то машинально следуя за всеми товарищескими движениями, прожил он с нами шесть лет. Никто не мог назвать его своим другом, но все видели в нем доброго товарища. В курсе он вышел последним.
И вдруг мы узнаем, что наш Петя трется около какого-то генерала и что тот употребляет его в качестве цивилизатора!..
Но счастье ужасно изменяет человека. В ту минуту, как я пишу эти строки, Накатников уже состоит в чине штатского генерала, имеет на груди очень почтенное украшение… и говорит! Я не могу утверждать, что он говорит разумно, но он говорит, и этого уже для меня достаточно. Слова следуют друг за другом в порядке; по временам можно даже различить мысленное присутствие знаков препинания. Чего больше нужно? Прежняя бродячая улыбка еще мелькает на губах, но теперь она уже имеет характер благосклонности; кончик языка по-прежнему беспокойно прилизывает искусно заправленные концы усов, но теперь это движение уже не кажется просто инстинктивным, а выражает какую-то– озабоченность. Голова его причесана еще тщательнее, безукоризненные бакенбарды обрамливают блистающее свежестью лицо; но ничто не напоминает ни о долгих часах туалета, ни о томительных совещаниях по поводу какого-нибудь непокорного волоска. Напротив того, кажется, что Пьер исключительно поглощен заботами своей миссии, а прическа тут так себе… пришла сама собою.
Как произошла эта метаморфоза – я с точностью объяснить не могу, но несомненно, что тут большую роль играло то случайное положение, которое Пьер успел занять. Положения обязывают. С расширением горизонтов явления самые общеизвестные и бесспорные утрачивают свою резкость и даже изменяют свои первоначальные названия. Глупость начинает называться благодушием, коварство – дипломатией, мошенничество – искусством жить на свете. В чине коллежского регистратора Пьер был глуп; теперь, в чине штатского генерала, он сделался благодушен. Глупость неприятна, и ежели не представляет положительного порока, то, во всяком случае, никого не украшает; напротив того, благодушие есть качество очень положительное и по преимуществу украшающее…
Пьер обошел всех по очереди; всем сказал слово ободрения и надежды, и когда приблизился к моему соседу, то я совершенно явственно услышал как бы случайно оброненное им слово: «шут»!
Я понял, что это слово было пущено по моему адресу, и, признаюсь откровенно, весь вспыхнул от удовольствия. Это слово разом перенесло меня к милой односложности нашего школьного прошлого. Мало того: оно заключало в себе отпущение всех моих недавних проказ. Я просветлел и переминался с ноги на ногу в ожидании аудиенции. Я видел в нем уже не товарища и не глупца, незаслуженно занявшего завидное положение, а какое-то высшее существо, которому я обязан был принести в жертву все. «До последней капли крови!», «не щадя живота!», «не токмо за страх, но и за совесть!» – вот единственные формулы, которые бессознательно выработывали мои мозги, под влиянием внезапного прилива преданности. Наконец просители были удовлетворены, и мы остались вдвоем.
– Шут! – повторил он, но так мило, так бесконечно-благосклонно, что я мог только произнести:
– Ради стараться, ваше превосходительство!
– Шут!
Он с «небесною» улыбкой оглядел меня с головы до ног и, остановившись на моем ополченском казакине, продолжал:
– Ба! и старый друг на плечах!
Я был побежден и уничтожен. Со слезами на глазах я рассказал печальную повесть моих грехопадений; признался ему во всем, даже…
– Ваше превосходительство! Я здесь перед вами… как перед отцом! казните, но не отнимайте от меня вашего расположения! – заключил я прерывающимся от волнения голосом.
Такая доверенность видимо польстила ему; он был тронут и с чувством пожал мою руку. Прошедшее было забыто; будущее открывалось полное надежд и загадочных предприятий. Он объяснил мне всю важность предстоящих задач и, постепенно развивая свои мысли, de fil en aiguille слово за слово. пришел наконец к тому, что он называл «la question du telegue russe» «вопрос о русской телеге».. Этот вопрос, по его мнению, должен был явиться отправным пунктом нашей будущей цивилизующей деятельности.
– Первоначальный способ передвижения, – говорил он, – несомненно представляется нам в собственных ногах человека. Неоспоримо, что прародители наши двигались именно этим способом, удовлетворяя своим немногочисленным нуждам. Тем же способом двигаемся и мы, когда находимся внутри жилищ наших…
– В недавнее время заведены «посыльные», которые тоже… – осмелился вставить я от себя.
– Ну да, мы, наши прародители и «посыльные» – все это пользуется первоначальными способами передвижения. Но не прерывай меня, mon cher, потому что мне нужно высказать мою мысль вполне. Итак, я сказал, что первоначальный способ передвижения заключался в Пешковой ходьбе. Но по мере того, как человек порабощает природу и укрощает зверей, способы передвижения усложняются; на смену Пешковой ходьбы является езда верхом, на четвероногих. Выступает понятие о собственности, которая, на основании правила: omnia mea mecum porto все свое ношу с собою., навьючивается, вместе с всадником, на одно и то же животное. Это уже шаг вперед, но, согласись со мной, что шаг очень ограниченный (я сделал знак головой и несколько подкатил глаза, как будто хотел сказать: oh! comme je vous comprends, mon general! о! как я вас понимаю, генерал!)… Собственность ничтожна, перевозочные средства тоже вот ключ для объяснения существования народов пастушеских, кочевых. Они бродят, кочуют, не могут усидеть на месте… enfin, tout s'explique! словом, все ясно. Наконец появляется телега – этот неудобный и тряский экипаж! – но посмотри, какую он революцию произведет! Своею неудобностью он заставит обывателя остеречься излишних передвижений, и тем самым привяжет его к земле. Эта привязанность, с своей стороны, породит понятие о навозе. Видя постепенное накопление этого удобрительного материала, простодушный пастух спросит себя: что такое навоз? и в первый раз задумается, в первый раз осенится мыслью, что навоз, как и все в природе, существует не без цели. Он начинает дорожить навозом, он видит в нем ses penates et ses lares своих пенатов и ларов. – и вот устраивает около него свое жилище и, незаметно для самого себя, вступает в период оседлости (oh! comme je vous comprends! comme je vous comprends, mon general!). Понимаешь? Человек заводит телегу, и этого простого факта, который чуть ли не каждый день проходит перед нашими глазами незамеченным, совершенно достаточно, чтоб он приобрел элементарные понятия о навозе и навсегда оставил кочевые привычки! Но этого мало: имея телегу, он полагает основание прочной цивилизации (oh, comme je vous comprends!). Понимаешь ли ты, какую радикальную реформу мы можем сразу произвести в быте этих несчастных бродяг, ничем не рискуя, ничего даже с собою не принося… кроме телеги! кроме простой русской телеги! Aussi, je leur en donnerai… du telegue! Так вот я дам им… телегу! Га!
Он кончил, а я стоял и все слушал. Я удивлялся только тому: как это мне самому сто раз не пришли в голову мысли столь простые и естественные. Каждый день я вижу сотни телег, а никогда-таки не приходило на мысль, что тут-то именно и сидит вся суть цивилизующего русского дела. По-видимому, и Пьер убедился, что я понял его намерения, потому что прервал свои объяснения и ласково сказал мне:
– Ну, на первый раз довольно! Я сегодня же доложу о тебе нашему генералу, и мы запишем тебя в гвардию. Да, mon cher, и у нас, ташкентцев, есть свои чернорабочие и свои гвардейцы! Que veux-tu! Ничего не поделаешь! Первые – это так называемые les pionniers de la civilisation пионеры цивилизации., они идут вперед, прорубают просеки, пускают кровь и так далее. Все эти люди, которых ты сейчас у меня видел, – все это кровопускатели. Если они погибают, то, в общем ходе дела, это почти остается незамеченным. Этих кровопускателей каждую минуту нарождается такое множество, что они так и лезут из всех щелей на смену друг другу. Совсем другое дело – наша цивилизационная гвардия. Люди гвардии не прорубают сами просек, а только указывают и дирижируют работами. Им не позволяется погибать, потому что им ведется подробный счет. Сверх того, они получают двойные прогонные и порционные деньги!
Должно быть, впечатление, произведенное на меня последними словами, было особенно сильно, потому что Накатников благосклонно улыбнулся и сказал:
– Понимаю! соловья баснями не кормят! C'est juste! Правильно! Желание скорей разрешить вопрос «о получении» с твоей стороны совершенно естественно, особливо если принять во внимание, что «старый друг», которого ты так добросовестно хранишь на плечах, должен как можно скорее уступить место новому другу, более приличной наружности. Завтра это дело будет покончено, а покамест…
Он дал мне некрупную ассигнацию и отпустил от себя, потому что новые толпы просителей ожидали его. Я не шел домой, а летел, точно у меня выросли сзади крылья. По дороге я забежал в Палкин трактир и разом съел две порции бифштекса.
* * *
Целый день я получал деньги.
Когда я пришел в главное казначейство и явился к тамошнему генералу (на всяком месте есть свой генерал), то даже этот, по-видимому, нечувствительный человек изумился разнообразию параграфов и статей, которые я сразу предъявил! А что всего важнее, денег потребовалась куча неслыханная, ибо я, в качестве ташкентского гвардейца, кроме собственных подъемных, порционных и проч., получал еще и другие суммы, потребные преимущественно на заведение цивилизующих средств…
15. Цивилизующие средства.
Ст. 20. Заготовление телег.
26. Береговое довольствие.
Ст. 14. Призрение шлющихся и охочих людей. И т. д. и т. д.
Я считал деньги с утра и до пяти часов. Сеня Броненосный, который получал при этом свои тощие ординарные порционы и прогоны, только облизывался.
Я помню, что в этот день я все помнил.
Я помню, что на другой день я отправился на железную дорогу и взял место в спальном вагоне второго класса.
Я помню, что был одет в хорошее платье, что ел хорошее кушанье, что старая ополченка была спрятана в чемодан. Через плечо у меня висела дорожная сумка, в которой хранились казенные деньги.
Все это я помню…
* * *
Но каким образом я очутился в Ростове-на-Дону?!! И не в хорошем платье, а в моей старой ополченской поддевке?!! Где моя сумка?!!
* * *
Ужели я приехал сюда единственно для того, чтоб познакомиться с градским головою Байковым, которого я, впрочем, не видал?!!
Не может быть!
* * *
Я помню: я ехал…
Я ехал, я ехал, я ехал…
Я ехал.
Вероятно, по дороге я засмотрелся на какую-нибудь постороннюю губернию и…
Господи!
Тут есть какое-то волшебство. Злой волшебник превратил в Ташкент Рязанскую губернию… Рязанскую или Тульскую?!
Я помню: я пил…
* * *
В Таганроге меня арестовали.
– Откуда? куда? – спрашивали меня.
– Я помню: я ехал…
– Где казенная сумка?
– Я помню: я пил…
Что случилось? где я нахожусь?
Кругом меня ходят какие-то тени и говорят: «стоя на рубеже»… Потом приходят другие тени и говорят: «le principe du telegue russe»…
15. Ст. 20. Заготовление телег!!
Но ведь надобны же средства, mon cher! Телега… конечно, это не бог знает драгоценность какая, но ведь надо построить ее! Где средства? Где ж средства… коли я их все пропил… mon cher!
ОНИ ЖЕ
Ах! как я тогда себя вел!
Ташкент еще завоеван не был; на Западе дело было покончено; мы были свободны, но страсть к завоеваниям не умирала.
Ничего другого не оставалось, как обратиться внутрь…
Я помню, это было летом. Петербург погибал, стихии смешались. Наводнение следовало за наводнением; Адмиралтейство уже уплыло; с часу на час ожидали, что поплывет Петропавловская крепость. Публицисты гремели, общественное мнение требовало быстрой и действительной немезиды. Образовались, как водится, под предводительством отставных генералов, несколько частных компаний «для искоренения зла»; акции разбирались нарасхват, тем более что цена им была назначена копейка серебром. Как в 1612 году, общество пыталось спасти себя само, без разрешения начальства. Объявлен был поход против неблагонадежных элементов; крестоносцев потребовалось множество. К одной из таких компаний, под названием «Робкое усилие благонамеренности», приступил и я.
Как только кто-нибудь кликнет клич – я тут. Не успеет еще генерал (не знаю почему, но мне всегда представляется, что кличет клич всегда генерал) рот разинуть, как уже я вырастаю из-под земли и трепещу пред его превосходительством. Где бы я ни был, в каком бы углу ни скитался – я чувствую. Сначала меня мутит, потом начинают вытягиваться ноги, вытягиваются, вытягиваются, бегут, бегут, и едва успеет вылететь звук: «Ребята! с нами бог!» – я тут.
– Куда прикажете, вашество?
– А! ты опять здесь!
– Точно так, вашество!
– Благодарю, мне люди нужны!
Так именно было и тогда. Не помню, в какой губернии я скитался, но помню, в кармане не было ни гроша. И еще помню: мера беззаконий исполнилась… Взять тройку, подтянуться кушаком, подкрепиться тремя-четырьмя рюмками очищенной, сесть в телегу, перекреститься – все это было делом одной минуты. Затем скакать, скакать и скакать… И действительно, я прискакал в тот момент, когда генерал произносил возмутительную речь. Эта речь произвела на меня такое глубокое впечатление, что я и теперь помню ее от слова до слова. «Господа! – сказал он, – не посрамимся, но ляжем костьми. Так, милостивые государи, говорил блаженной памяти его высочество великий князь Святослав Игоревич, намереваясь вступить в сокрушительный бой с Иоанном Цимисхием»… Генерал остановился, покраснел и прибавил: «Господа! я не оратор, но, как человек русский, могу сказать: ребята, наша взяла!..»
В это самое время я вошел. К удивлению, приемная зала была уже полна соискателей всех возрастов, состояний и наций. Очевидно, мутило не меня одного. Фонды компании в одну минуту возвысились с копейки до ломаного гроша. Сочувствующие, желающие поживиться, теснились, толкали друг друга, бросали кругом завистливые взгляды, так что генерал, чтобы предотвратить несчастие, должен был сказать: «Господа! не торопитесь! всем будет место! мне люди нужны!» И затем, обращаясь к одному из приближенных, продолжал: «Какой, однако, прекрасный наплыв чувств!»
Нас тут же всех поголовно переписали и велели немедленно явиться в правление для окончательного распределения по отрядам (par escouades). Я помню, в числе соискателей меня в особенности поразил один инородец: при трехаршинном росте и соразмерной тучности он выражал такую угрюмую решительность, что самые невинные люди немедленно во всем сознавались при одном его приближении.
Генерал наш долго любовался им, но, заметив, что это предпочтение во многих начинает возбуждать чувство патриотической ревности, тотчас же поспешил разуверить нас. «Господа! – сказал он, – не думайте, прошу вас, чтобы у нас требовались исключительно люди сверхъестественного роста! Нет! в нашем предприятии найдется место для людей всякого роста, всякой комплекции. Одно непременное условие – это русская душа!» Слово «непременное» генерал произнес с особым ударением.
– А немцу можно? – раздался в толпе чей-то голос.
Небесная улыбка озарила лицо генерала.
– Немцу – можно! немцу всегда можно! потому что у немца всегда русская душа! – сказал он с энтузиазмом и, обращаясь вновь к своему приближенному, прибавил: – О, если бы все русские обладали такими русскими душами, какие обыкновенно бывают у немцев!
Генерал на минуту задумался и пожевал губами.
– Наполеон Третий сказал правду, – произнес он, как бы в раздумье, что такое истинный француз? спросил он себя в одну из трудных минут, и отвечал: истинный француз есть тот, который исполняет приказания генерала Пьетри! И с тех пор, как он сказал себе это, все у него пошло хорошо!
– Так точно, ваше пр-ство! – прогремели мы хором.
Инородец шевелил глазами и простирал руки. Наконец перепись кончилась. Оказалось 666 соискателей; из них 400 (все-таки большинство!) русских, 200 немцев с русскими душами, тридцать три инородца без души, но с развитыми мускулами, и 33 поляка. Последних генерал тотчас же вычеркнул из списка. Но едва он успел отдать соответствующее приказание, как «безмозглые» обнаружили строптивость, свойственную этой легко воспламеняющейся нации.
– Мы тоже русские! – с наглостию говорили они. – У нас тоже русские души!
– Но вы католики, господа! – усовещивал генерал, – а этого я ни в каком случае потерпеть не могу!
– Какие мы католики – мы и в церкви никогда не бываем!
– А! если так – это другое дело! но, предваряю, худо будет тому, кто солгал…
И затем, приказав восстановить поляков в правах и обращаясь к нам, прибавил:
– Ну, теперь с богом, господа!
С этими словами председатель компании «Робкое усилие благонамеренности» удалился в кабинет, оставив всех очарованными…
Счастливые, обласканные, мы гурьбой выходили от него и весело разговаривали.
– Ангел! – говорили одни.
– Какое знание человеческого сердца! – рассуждали другие.
Я лично был в таком энтузиазме, что, подходя к Палкину трактиру и встретивши «стриженую», которая шла по Невскому, притоптывая каблучками и держа под мышкой книгу, не воздержался, чтобы не сказать:
– Тише! Ммеррзавка!
Почему я это сказал, я до сих пор объяснить себе не могу. Но оказалось, что я попал метко, потому что негодная побледнела, как полотно, и поскорей села на извозчика, чтоб избежать народной немезиды. Есть какой-то инстинкт, который в важных случаях подсказывает человеку его действия, и я никогда не раскаивался, повинуясь этому инстинкту. Так, например, когда я цивилизовал на Западе, то не иначе входил в дом пана, как восклицая: «А ну-те вы, такие-сякие, „кши, пши, вши“, рассказывайте! думаете ли вы, что „надзея“ еще с вами?»
Я очень хорошо понимал, что остроумного тут нет ничего. «Надзея» надежда, «сметанка» – сливки, «до зобачения» – до свидания, – конечно, все это слова очень обыкновенные, но – странное дело – мы, просветители, не могли выносить их. Нам казалось, ну как не бить людей, которые произносят такие слова? Но в то же время, я был убежден, что паны найдут мою шутку необыкновенно веселою. И действительно, они просто надрывали животы от смеха, когда я произносил свое приветствие. (Каюсь, этому смеху многие даже были обязаны своим спасением.)
– О! какой пан милий! – восклицали они хором… Милий! заметьте, «милий», а не «милый»! Ах, прах вас побери!
Точно так было и теперь.
По-видимому, я не сказал ничего, а вышло, что сказал очень многое. К несчастию, я был голоден, и к тому не имел свободного времени следить за негодяйкой. Однако я все-таки был доволен, что успел изубытчить ее на четвертак, который она должна была заплатить извозчику.
У Палкина была почти такая же давка, как и в генеральской приемной, так как все мы, на первый случай, получили по нескольку монет и спешили вознаградить себя за дни недобровольного воздержания, которое каждый из нас перед тем вытерпел. Но замечательно, что никто не спрашивал себе горячего, а все насыщались как-то непоследовательно, урывками, большею частью солеными и копчеными закусками, заедая ими водку. Трехаршинный инородец был тоже здесь, но водки не пил, а выпил жбан кислых щей и съел четверть жеребенка. Проглотив последний кусок, он отяжелел и долгое время не мог даже моргнуть глазами. Многие пользовались этим и безнаказанно показывали ему свиное ухо.
На всех пунктах шли оживленные разговоры.
– Нужно думать, что нам придется действовать по ночам, – догадывались одни.
– Еще бы! Днем-то «его» с собаками не сыщешь, а ночью – динь, динь! Коман ву порте ву? Как поживаете? Wieviel haben sie gewesen? Сколько вас было? Сейчас его, ракалию, за волосное правление – не угодно ли прогуляться? Да не топыриться, сударь мой! Н-н-е то-пы-ри-ть-ся!
– А если же он уф спальни? – спросил тот самый немец, который сомневался, какая у него душа.
– А если же он уф спальни? – поддразнил его один из собеседников, – так что же, что уф спальни! Тебе же, немцу, лучше – прямо туда и при! Может, на стрижечку интересненькую набредешь!
Немчик покраснел.
– Что? Побагровел? Ах, немец, немец! чувствует мое сердце, что добра от тебя не будет. Ты пойми: тут каждая минута миллион триста тысяч червонцев стоит, а ты ломаешься: «уф спальни»!
– О, нет! я ничего! мне очень приятно!
– То-то «ничего»! Ты иди прямо, потому дохнуть тут некогда!
– Это дело нужно умненько вести, – рассуждали в другом месте, – потому тут как раз наскочишь!
– Не может этого быть!
– Что вы говорите: «не может быть»! Я сам, сударь, на собственной своей персоне испытал! Видите это пятно? Вот это!.. Ну? Вы думаете, что это родимое! нет, государь мой, это…
– Я полагаю, надо сначала вызвать дворника, – ораторствовали в третьем месте, – а когда он обробеет, то потребовать, чтоб указал путь… Когда же таким образом настоящая берлога будет приведена в известность, то изловить «его» не будет составлять никакой трудности… Нужно только, знаете, с шумом, с треском, чтоб впечатление было полное…
– Но если, заслышав шум, «он» уйдет?
– Куда уйдет, под стол, что ли, спрячется? или в щель заползет? так за волосы оттуда вытащим, государь мой, за волосы!..
– Но если «он» вдруг лишит себя жизни?
– Те-те-те, это волосатый-то! он-то лишит себя жизни? Да вы, сударь, стало быть, не знаете их! Это благородный человек… ну, тот, конечно… для благородного человека жизнь что? тьфу!.. А то кого нашли! волосатого!
Словом сказать, все шумели, все волновались. Один инородец был исключительно предан варению принятой им пищи. Вскоре, впрочем, и он получил способность моргать глазами и поворачивать головой. Тогда он повернулся всем корпусом к Невскому и, увидев на улице жалкую собачонку, которая на трех ногах жалась около тротуара, отпер окно, вынул из кармана небольшой камень и пустил им в собаку. Последовал визг, и на губах его показалась улыбка! Только тогда мы поняли, какую роль должен был играть этот человек в предстоящем походе. Все на мгновение притихли.
Я вслушивался в эти разговоры, и желчь все сильнее и сильнее во мне кипела. Я не знаю, испытывал ли читатель это странное чувство самораздражения, когда в человеке первоначально зарождается ничтожнейшая точка, и вдруг эта точка начинает разрастаться, разрастаться, и наконец охватывает все помыслы, преследует, не дает ни минуты покоя. Однажды вспыхнув, страсть подстрекает себя сама и не удовлетворяется до тех пор, пока не исчерпает всего своего содержания.
Что до меня, то я ощущал это чувство неоднократно. Обстановка, совещания, ожидание предстоящих подвигов – все эта действует опьяняющим образом. Так было и теперь. Чем более я слушал, тем более напрягались мои душевные силы, тем более я ненавидел. Ночь, робеющий дворник, бряцания о тротуары и черные лестницы, remue-menage кавардак. в бумагах и письмах таково начало! Потом: краткое мерцание утренней зари, медленный благовест к заутреням, дрожь на проникнутом ночною свежестью воздухе, рюмка водки в ближайшей харчевне, шум, смех, изумление ранних прохожих… стой! слушай! В ком не произведет опьянения подобная перспектива? В таком-то возбужденном состоянии я вышел из Палкина трактира и уже хотел направить шаги в свою квартиру, как вдруг увидел идущего навстречу товарища по школе. Натурально, бросились друг к другу; излияния, воспоминания, вопросы… Радость была взаимная, потому что в школе мы были очень дружны, а после того потеряли друг друга из вида, и, следовательно, ни он обо мне, ни я об нем не имели решительно никаких сведений… И вдруг, после нескольких минут задушевной беседы, он говорит мне:
– Ах, какое время, мой друг! Какое ужасное время!
Я инстинктивно взглянул на него, он уловил этот взгляд, и вдруг… все понял!
– То есть, ты понимаешь меня, – заспешил он, как-то странно смеясь мне в лицо, – не в том смысле ужасное… пожалуйста, ты не подумай… однако, прощай! Мне надо по одному делу!
И он удалился, постепенно ускоряя свои шаги. Я несколько минут, как статуя, стоял на одном месте и безмолвно кусал усы. Если бы в эту минуту возле меня развернулась пропасть, я, наверное, бросился бы в нее!..
Меррзавец!
* * *
Pardon! Ведь было, однако, время… когда я был либералом!
Не удивляйся, читатель, и не гляди на меня с недоверием: да, было время, когда я не только был либералом, но был близок к некоторым знаменитым и уважаемым личностям (увы! теперь уже умершим!). Мы составляли тогда тесную, дружескую семью; у всех нас был один девиз: «добро, красота, истина».
Мы не только горячо говорили, но горячо чувствовали. Борьба романтизма с классицизмом, движение, возбужденное Белинским, Луи Блан, Жорж Занд – все это увлекало нас и увлекало совершенно искренно. Нас трогали идеи 48 года; конечно, не сущность их, а женерозность, гуманность… «Alea jacta est la grandeur d'ame est a l'ordre du jour» Жребий брошен, время требует величия души! – восклицали мы вслух с Ламартином.
Каким образом все это примирилось с уставом благоустройства и благочиния?
Это сделалось очень странно, но я помню, тут произошел какой-то сумбур.
Была одна минута, одна-единственная минута, когда вдруг все переменилось, когда выползли из нор какие-то волосатые люди и начали доказывать, что «добро», «красота», «истина» – все это только слова, которые непременно нужно наполнить содержанием, чтобы они получили значение.
– Что разумеете вы, например, под «добром»? – спрашивали нас эти люди, и спрашивали так дерзко, так самоуверенно, как будто и в самом деле возможность «распорядиться» исчезла навсегда из всех кодексов.
Однако мы были настолько любезны (заметьте: мы могли и не быть ими!), что отвечали.
Я помню, я в первый раз тогда покраснел. До тех пор все это было мне так ясно, так бесспорно – и вдруг… призывают к допросу!
– Добро! – говорили мы, – но разве каждому из нас не присуще это чувство? Разве каждый из нас не трепещет восторгом при одном его имени? Разве не странен самый вопрос: что такое добро?
Сказав это, мы сели, ибо были уверены, что ответили.
– Ну-с? – услышали мы вместо возражения.
– Наконец, – продолжали мы, – если в трудные минуты жизни мы жаждем утешения, то где же мы ищем его, как не в высоких идеях добра, красоты и истины? Ужели и это не объясняет достаточно, какое значение, какую цену имеет добро?
Мы кончили и опять сели, ожидая, что «они» поймут. Но в ответ на наши слова послышался холодный, как бы беззвучный смех. Я понял, что этот смех называется «отрицанием», и впервые тогда произнес: Меррзавцы!
После этого пошло дальше и дальше: после «отрицания» пришло «неуважение авторитетов», потом «безверие», потом «посягательство на чужую собственность», затем еще и еще… Теперь я чувствую, что я пришел, что я у пристани…
Иногда меня интересует вопрос: что было бы, если б был жив Грановский? Остался ли бы я его другом? Я понимаю, что сам по себе этот вопрос праздный; но сознаюсь, в первое время моего вступления на арену благочиния он волновал меня довольно сильно. Бывали минуты, когда я предлагал этот вопрос на разрешение компетентным людям. Многие из них уклонялись, многие не отвечали ни да, ни нет; но один просто-напросто сразил меня.
– Вы! – почти крикнул он на меня, – вы… друг Грановского? Вы!.. Да он бы на порог квартиры своей вас не пустил!..
Меррзавец!
Я уже сказал, что мы действовали отрядами, par escouades.
Несмотря на позднее время, «он» сидел и читал книгу; подруга его беззаконий спала. Когда мы позвонили, он сам отворил нам дверь. «Он» не казался испуганным, ни даже изумленным, но как будто старался понять… Наконец он понял.
Первым моим движением было овладеть книгой.
Содержание ее было физиологическое.
– Вот эти-то книги и доводят вас, милостивый государь, до всего! сказал я, и уж не помню, как это случилось, но бросил книгу на пол и начал топтать ее ногами.
«Он» с любопытством и даже как бы с жалостию следил за моими непроизвольными движениями, однако не протестовал.
Из другой комнаты выглянуло испуганное лицо женщины.
– Это кто? – спросил я, указывая на нее.
– Это… моя жена.
– Около ракитового куста венчаны?
– К сожалению, я не настолько знаком с отечественными былинами, чтобы отвечать на ваш вопрос.
Это была уже дерзость.
– Я заставлю вас понимать себя! – вспылил я.
– Извините, но я не могу понимать больше того, сколько понимаю. Потрудитесь выражаться яснее.
– Гражданским браком? проклятым гражданским браком? – говорил я, выходя из себя.
– Теперь понимаю… Да, гражданским браком!
– Так вот для нее… Сударыня… как вас… Извольте получить… билет!
«Она» наскоро оделась и вышла к нам.
По-видимому, она еще не понимала.
– Что же! возьми! – сказал «он».
Но она все еще не решалась брать и взорами спрашивала у него, у меня, у всех – разъяснения этой загадки… Вдруг черты ее лица начали искажаться, искажаться… «Она» поняла… И что ж? Оказалось, что это была дочь почтенного действительного статского советника, увлеченная хитростью в сонмище неблагонамеренных…
Маррш!
* * *
Было еще позднее, и «он» уже спал. Сделавши несколько сильных ударов звонком, мы долго ждали на площадке, прислушиваясь, как за дверью возились и ходили взад и вперед, Возне этой, казалось, не будет конца.
– Да куда же, однако, девались мои носки? – долетал до нас «его» голос.
Наконец носки были отысканы и дверь отперта. «Он» узнал нас сразу и не только не показал никакого изумления, но даже принял гостей с некоторою развязностию.
Впоследствии открылось, что «он» уже «травленный».
– Ба! Гости! – сказал он довольно весело, – да уж нет ли тут старых знакомых? нет? Ну, и с новыми познакомимся? Marie! вставай: гости пришли!
Оказалось, что «он» был веселый малый и даже отчасти жуир. На столе, в кабинете, стояли неубранные остатки довольно обильной закуски: ветчина, сыр, балык, куски холодного пирога… Несколько початых бутылок вина и наполовину выпитый графин с водкой довершали картину.
– Господа! не угодно ли? – сказал «он», указывая на закуски, – от меня, с час тому назад, ушли приятели, так вот кстати и закуска осталась. А я покамест оденусь: ведь мне придется сопровождать вас? или, лучше, вам придется сопровождать меня – так?
– Точно так-с! – отвечал я, увлеченный его добродушием, и вместе с тем не мог не подумать, – если бы все они были таковы! Гостеприимен, ласков, словоохотлив!
Это был единственный случай, когда меня угостили закуской. Я уже начинал думать, что «они» не едят и не пьют, и вдруг… встречаюсь с картиной старинного дворянского хлебосольства! И где же встречаюсь?
Что привело этого человека в бездну вольномыслия? Непостижимо!!
Мы последовали приглашению радушного хозяина и, признаюсь, даже не заметили, как прошло время в любезной беседе.
Говорили обо всем, о социализме, о коммунизме, но без раздражения, без задора, и даже с видимым удовольствием. Один только раз я принужден был выразиться довольно строго, и именно по поводу той самой Marie, которую он уже вызывал в начале нашего прихода и которая теперь с самой изысканной любезностью потчевала нас пирогом и закуской.
– Эта особа… как вам приходится? – спросил я его.
– А! это… моя жена! Вам, может быть, нужно в спальную войти? Сделайте одолжение – не стесняйтесь! Я сам вам все покажу.
– Нет-с, покуда мы еще не имеем в этом нужды… Не жена… то есть как жена? – прибавил я, шутливо подмигнув одним глазом, – вокруг ракитового куста?
– Если вы под ракитовым кустом разумеете…
Но он не успел докончить.
– Довольно, государь мой! – сказал я строго, чтобы дать ему почувствовать, что вежливое обращение еще не дает права на дерзость.
Затем, когда мы закусили и выпили, он сам нам показал все. В целой квартире не было ни одной книги, ни одного клочка бумаги, так что я даже изумился.
– Вас изумляет отсутствие книг и бумаг? – поспешил он объяснить, заметив на моем лице недовольное движение, – но поймите же, наконец, что, начиная с сорок восьмого года, я периодически подвергаюсь точно таким посещениям, как в настоящую минуту. Кажется, этого достаточно, чтобы получить некоторую опытность.
Признаюсь, во всяком другом случае подобная предусмотрительность огорчила бы меня, но на этот раз она даже обрадовала: так мне приятно было за нашего доброго, радушного… и, вероятно, не по своей вине увлеченного хозяина!
Под влиянием этого чувства я совершенно раскис.
– Вы не сердитесь, пожалуйста, Павел Иванович (так «его» звали), сказал я, – но я считаю своим долгом вам выразить, что давно не проводил так приятно время, как в вашем милом, образованном семействе.
– За что же тут сердиться?
– Да-с! Но за всем тем… моя обязанность… мой, если можно так выразиться, священный долг…
– Повелевает вам пригласить меня с собою? Что ж, ведь я с первого же раза сказал вам, что на всяком месте и во всякое время готов!
– Да-с; но могу вас уверить, что с своей стороны… все, что зависит.
– Ну, от таких курицыных детей, как вы, тут, пожалуй, ровно ничего зависеть не может… Однако довольно разговаривать: идем!
Тут только я заметил, что ему все-таки не совсем приятно было наше посещение. Маррш!
* * *
Петербург погибал! Петропавловская крепость уже уплыла… Последний оплот! Это было зрелище ужасное: куда ни оглянись – везде дыра… Публицисты гремели, благонамеренные…. радовались!
Все чувствовали, что надо вырвать «зло» с корнем, все издавали дикие вопли… В чем заключалось зло? Какое оно отношение имело к данной минуте? Об этом никто себя не спрашивал, не рассуждал, не говорил. Чувствовалось одно: что минута благоприятна, что это одна из тех минут, к которым можно приурочить какую угодно обиду, и никто в суматохе ничего не разберет и не отличит. Если теперь упустить минуту, то кто может поручиться, поймаешь ли ее когда-нибудь за хвост?
Нет зрелища более поразительного, как зрелище радости благонамеренных! это какой-то гул: у-у! а-а! го-го! По-видимому, тут нет даже необходимой, для вразумительности, членораздельности, а за всем тем нельзя не чувствовать, что это единственные «передовые» звуки, возможные в известные минуты.
Еще вчера благонамеренный жался к сторонке, ходил с понурою головой, с бледными щеками и потухшими взорами; еще вчера он клялся и божился, что отныне подло быть негодяем, – и вдруг какая метаморфоза! Сегодня он цветет; походка у него уверенная, авторитетная; глаза блещут молниями; уста извергают победный вопль. Вы не можете объяснить, как совершилась победа, но чувствуете, что она совершилась и что вчерашний день утонул навсегда. Vae victis! Горе побежденным! Горе тому, кто попадется в эту минуту на глаза «благонамеренному»! Он в одно мгновение будет с ног до головы обрызган ядовитою слюной ябеды и клеветы!
Сильные общественные пертурбации необходимы для «благонамеренного»: они дают ему возможность окрепнуть. Пожар поселяет в его сердце радостный трепет, наводнение, голод – приводят в восхищение!
В обыкновенное время, когда течение дел не представляет угроз, когда окрест царствует тишина, когда в обществе расцветает надежда на лучшее будущее – «благонамеренный» увядает, ибо сознает себя ненужным.
Самолюбие его страдает безмерно; он мечется и ищет исхода для своей деятельности и везде приходит не вовремя, везде видит себя лишним… Тишина тлетворным образом действует на его фонды, почти что исключает его из жизни. Притом, это явление до такой степени для него ново и необычно, что невольно возбуждает в нем подозрительность, населяет его воображение всевозможными страхами. «Тихо – стало быть, я пропал», – говорит себе благонамеренный, и нет меры его злополучию. Чтобы пищеварение совершалось в нем беспрепятственно, нужно, чтобы целые массы изнемогали под игом нравственных и физических истязаний, или, по крайней мере, чтобы кто-нибудь да стонал.
Если этого нет, он чувствует себя неловко и, чтобы смягчить свое горе, начинает предсказывать, накликать.
И вот, как бы в ответ на его предсказания, на горизонте появляется облако, в воздухе чувствуется удушливость, вдалеке слышатся раскаты грома…
Посмотрите, как постепенно он воскресает, как загорается румянец на его бледных щеках, какой страшной пастью разверзаются немотствовавшие дотоле уста!
«Я говорил, я предсказывал, я знал вперед, что это будет так!» хохочет он на все стороны. И льется этот зловещий, перекатистый хохот из края в край, вызывая к жизни давно уснувшие ненависти, давая плоть и форму тому, что смутно шипело и бессмысленно бормотало, не сознавая самого себя, не умея найти для себя ясного выражения…
Наступает минута какого-то адского откровения. «Либералы!» – раздается победный клич, и все, что чувствует себя бодрым, – все складывается в одну яму и немедленно отдается на поругание…
В таком положении дел очень естественно, что, как бы человек ни старался попасть в тон минуты, он всегда чувствует себя опереженным.
Так было и с нами, членами общества «Робкого усилия благонамеренности». Как мы ни бодрились, как ни старались сослужить, службу общественную возрастающий спрос на благонамеренность с каждым часом больше и больше затоплял нас. Мы уже не удовлетворяли потребности минуты, мы оказывались слабыми и неумелыми; нас открыто называли колпаками!! В конце концов мы сделались страдательным орудием, которое направляло свои удары почти механически.
Надо было видеть, какие люди встали тогда из могил! Надо было слышать, что тогда припоминалось, отомщалось и вымещалось!
Если вы имели с вашим соседом процесс; если вы дали взаймы денег и имели неосторожность напомнить об этом; если вы имели несчастие доказать дураку, что он дурак, подлецу – что он подлец, взяточнику – что он взяточник; если вы отняли у плута случай сплутовать; если вы вырвали из когтей хищника добычу – это просто-напросто означало, что вы сами вырыли себе под ногами бездну. Вы припоминали об этих ваших преступлениях и с ужасом ожидали. Не было закоулка, куда бы ни проникла «благонамеренность»…
Провинция колыхалась и извергала из себя целые легионы чудовищ ябеды и клеветы…
От Перми до Тавриды, От хладных финских скал До пламенной Колхиды…Отовсюду устремлялись стада «благонамеренных», чтобы выместить накипевшие в сердцах обиды…
Они рыскали по стогнам, становились на распутьях и вопили. Обвинялся всякий: от коллежского регистратора до тайного советника включительно. Вся табель о рангах была заподозрена. Сводились счеты; все прошлое ликвидировалось сразу… Делалось ясным, что, как бы ни тщился человек быть «благонамеренным», не было убежища, в котором бы не настигала его «благонамеренность» еще более благонамеренная.
Самые «благонамеренные», наконец, спутались и испугались – не за общество, а за самих себя и за детей своих.
Человек старался угадать не то, в чем он когда-нибудь преступил против ходячей политической морали, а то, существовали ли какие-нибудь пункты этой морали, в которых нельзя было бы совершенно свободно обвинить кого угодно и как угодно и на котором из этих пунктов обрушится обвинение именно на него? Тот, кого в этом обвинительном омуте постигало забвение, мог считать себя счастливым. Тот, кого не обвиняли прямо, а кому только издали грозили пальцем, должен был спешить исчезнуть, чтобы не раздражать своим видом торжествующей «благонамеренности». Исчезнуть, провалиться сквозь землю, быть забытым – вот лучший удел, которого мог желать человек…
Читатель! ты, который, пробегая настоящее признание, быть может, обвиняешь меня в разврате, размысли над правдивой картиной, которую сейчас нарисовало перо мое; проверь ее с твоими воспоминаниями и скажи, по совести: где находятся действительные, крайние границы нравственной распущенности во мне… или, может быть, в другом каком-нибудь месте?
* * *
На этот раз было почти утро… Целую ночь мы не смыкали глаз и уже начинали действовать нерешительно и вяло. Это был тот момент, когда на улицах начинает показываться какое-то колеблющееся, словно приготовительное движение: дворники метут мостовую, открываются двери булочных, съезжаются возы с овощами и зеленью; но настоящая толпа, настоящее движение еще не показываются. В такие минуты всего сильнее чувствуется цена теплой кровати. Самый бесприютный человек ищет себе уголка, к которому можно прислонить уставшую голову. Бодрственное состояние делается почти непереносимым и может быть поддержано лишь искусственным образом…
Мы спешили.
«Он» был уже, однако, одет. «Он» отворил нам дверь, держа в руках книгу, и, не отрывая от нее глаз, пошел перед нами, как будто наше появление не составляло для него ничего непредвиденного и, пожалуй, даже не относилось к нему.
Равнодушие уже перестало удивлять нас. Однако это было уже не равнодушие, но что-то такое, чему нельзя подыскать имени. Мы всегда примечали, что как бы ни старался человек взглянуть в глаза беде, как бы ни примирялся он с неизбежностию и непоправимостью положения, в которое ставила его сила обстоятельств, но такое философское настроение никогда не оказывается вполне цельным. Всегда в него примешивалась хоть тень горечи, иронии или, по крайней мере, изумления. Человек не протестует, не жалуется, но восклицание: «Какие жалкие люди!» – так и светится во всех движениях, так и бьет всюду: и в интонации голоса, и в выражении глаз… всюду.
Читатель! как ни обидна подобная оценка, но даже и она может примирить! Чувствуется, что эту фразу говорит человек не совсем еще закоснелый, что вы не ничто в его глазах, что у него могут быть такие же уязвимые места, как и у вас, и у всякого; одним словом, что это слабый смертный, которому можно сделать больно, который имеет хоть какие-нибудь точки соприкосновения с вами. Как хотите, а это сознание успокаивает. Напротив того, тут, в этом рассеянном и сосредоточенном молодом человеке, не виделось ничего подобного. Как будто все давно им понято, решено и забыто.
Мы вошли в кабинет.
«Он» молча сел около окна и углубился в чтение. Натурально, это меня взорвало.
– Извольте стоять! – крикнул я на него. Он встал и продолжал читать. Извольте оставить книгу! Он положил книгу на стол.
– Меррзавец! – произнес я сквозь зубы, но так, что он, наверное, слышал мое восклицание; тем не менее ни малейшего движения не показалось на лице его.
– С вами живет какая-нибудь женщина?
– Смотрите! – сказал он, как будто отгоняя от себя чтото назойливое, прервавшее нить его мыслей.
Рассуждая хладнокровно, я должен сознаться, что при тогдашнем моем утомлении именно только такое адское равнодушие и могло обновить мои заснувшие силы. Я с яростию выбрасывал книги, швырял бумаги. Но он по-прежнему продолжал стоять у окна и без малейшего признака изумления смотрел на картину разрушения, которая быстро созидалась перед его глазами.
– Кто вы такой? – наконец бросился я к нему.
Он назвал себя. Он даже не сказал, что я сам должен знать, у кого я нахожусь. По-видимому, ему не приходило в голову, что можно иронизировать, удивляться, негодовать.
Это было до такой степени ново, что в голове у меня блеснула мысль: не подступиться ли к нему посредством великодушия?
– Общественное мнение указывает на вас как на причину зла, – сказал я, – опровергните это! Постарайтесь снять с себя столь ужасное обвинение! Я из участия к вам говорю это: мне жаль вас! Наконец, я прошу вас: спасите себя и дайте мне возможность участвовать в этом спасении!
– Идемте! – произнес он с таким видом, как будто ему бесконечно надоело мое кроткое излияние чувств…
Маррш!
* * *
Дальше! дальше!
«Он», очевидно, был философ и принял на себя труд убеждать нас.
– Мне кажется, господа, – говорил он, – что вы бьете совсем не туда, куда следует, и что, видя в занятиях умственными интересами что-то враждебное обществу, вы кидаете последнему упрек, которого оно даже не заслуживает!.. Ужели оно и в самом деле так расслаблено, что не может выдержать напора мысли, и первая вещь, от которой прежде всего необходимо остеречь его, – это преданность интересам мысли? Почему вы думаете, что для общества всего необходимее невежество? Почему, когда в обществе возникает какое-нибудь замешательство, первые люди, которые делаются жертвами вашей подозрительности, суть именно люди мысли, люди исследования? Согласитесь, что такое странное явление нельзя даже объяснить иначе, как глубоким презрением, которое вы питаете не только к обществу, но и к самим себе?
Я слушал его с удовольствием, да и нельзя было иначе, потому что au fond il y a du vrai dans tout ceci!.. сущности все это правильно!.. Иногда мы действительно пересаливаем и как будто чересчур охотно доказываем миру, что знаменитое хрестоматическое двустишие: «Науки юношей питают» и пр. улетучивается из нас немедленно, как только мы покидаем школьные скамьи.
Я невольно вздохнул при этом соображении.
Он продолжал:
ТАШКЕНТЦЫ ПРИГОТОВИТЕЛЬНОГО КЛАССА ПАРАЛЛЕЛЬ ПЕРВАЯ
Ольга Сергеевна Персианова не без основания считает себя еще очень интересной вдовой. Несмотря на тридцать три, тридцать четыре года, она так еще моложава и так хорошо сохранилась, что иногда, а особенно вечером, при свечах, ею можно даже залюбоваться. Это тип женщины, которая как бы создана исключительно для того, чтоб любить, нравиться, pour etre bien mise чтоб хорошо одеваться. и ни в чем себе не отказывать.
Подобного сорта женщины встречаются в так называемом «свете» довольно часто. Их с малых лет сажают в специально устроенные садки и там выкармливают именно таким образом, чтобы они были bien mises, умели plaire нравиться. и приучались ни в чем себе не отказывать. По окончании выкормки целые выводки достаточно обученных молодочек выпархивают на вольный свет и немедленно начинают применять к делу результаты полученного воспитания. Разумеется, тут все зависит от того, красива ли выпорхнувшая на волю молодка или некрасива. Красивое личико гарантирует будущность блестящую и беспечальную; некрасивое – указывает в перспективе ряд слезных дней. Красивая молодка заранее может быть уверена, что жизнь ее потечет как в повести, то есть что она в свое время зацепится за шпору румяного кавалериста, который, после некоторых неизбежных во всех повестях перипетий, кончит тем, что приведет ее за собой в храм славы и утех. Там она будет показываться bien mise, будет ездить на рысаках, causer болтать. с кавалерами и никогда ни в чем себе не отказывать. А дальше что бог даст. Может быть, отыщется другой кавалерист, может быть, дипломат, а может быть… и сам Александр Дюма-фис. Напротив того, некрасивая молодка так и останется с своими jolies manieres прекрасными манерами. и с желанием ни в чем себе не отказывать. Она будет bien mise исключительно для самой себя, и ни один кавалерист не поведет ее ни в храм славы, ни в храм утех. А если и поведет, обольщенный блестящим приданым или связями, то так там и оставит в храме одну. Без занятий, без цели в жизни, без возможности causer, она постепенно накопит в себе такой запас желчи, что жизнь сделается для нее пыткою. Из действующего лица в повести утех, каким она воображала себя во времена счастливой выкормки в патентованном садке, она сделается простою, жалкою конфиденткою, будет выслушивать исповедь тайных амурных слов и трепетных рукопожатий, расточаемых кавалеристами и дипломатами счастливым молодкам-красоткам, и неизменно при этом думать все один и тот же припев: ах, кабы все это мне! И так как ни одной капли из всего этого ей не перепадет, то она станет сочинять целые фантастические романы, будет видеть волшебные сны и пробуждаться тем больше несчастною, оставленною, одинокою, чем больше преисполнен был света, суеты и лихорадочного оживления только что пережитый сон.
Ольга Сергеевна принадлежала к числу молодок красивых, а потому счастие преследовало ее с первых шагов ее вступления в свет. Вышедши из патентованного садка шестнадцати лет, в семнадцать она уже зацепилась за шпору краснощекого ротмистра Петра Николаича Персианова и затем навсегда поселилась в храме утех полновластной хозяйкою. Целый год беспримерного блаженства встретил молодую женщину на самом пороге семейной жизни. Это был непрерывный ряд балов, parties de plaisir увеселительных поездок., выездов, приемов, в которых принимали участие представители всех возможных родов оружия и дипломаты всех ведомств, «C'etait un reve» Это был сон., как она сама выражалась об этом времени. По возвращении с бала начиналось, собственно, так называемое семейное счастие и продолжалось вплоть до утра, когда молодые супруги принимались за туалет, предшествующий визитам или приему. От Ольги Сергеевны все были в восхищении: старики называли ее куколкой; молодые кавалеристы, говоря об ней, вращали зрачками. Она кружилась, танцевала, кокетничала, но ни разу не оступилась, а осталась верною своему Петьке до конца (voila ce que c'est que d'avoir recu une education morale et religieuse! вот что значит получить моральное и религиозное воспитание! говорили об ней старушки). Наконец, осьмнадцати лет, она сделалась матерью, одною из тех матерей, о которых благовоспитанные сынки говорят: у меня maman такая миленькая, точно куколка! Это происшествие, в свою очередь, положило начало целому ряду новых подвигов, которые опять-таки дали Ольге Сергеевне возможность etre bien mise, causer, plaire и ни в чем себе не отказывать. В течение шести недель после родов она неутомимо снаряжала своего маленького Nicolas и наконец достигла-таки того, что он в свою очередь сделался точно куколка.
– Он у меня совсем-совсем куколка! – говорила она, показывая Nicolas кавалеристам, товарищам ее мужа, – куколка! засмейся!
Кавалеристы хвалили «куколку» и в то же время искоса посматривали на другую куколку, на молодую мать.
По прошествии шести недель начались визиты. Ma tante, mon oncle, mon cousin, la princesse Simborska, la comtesse Romanzoff, la baronne de Fok Тетя, дядя, кузен, княгиня Симборская, графиня Романцова, баранесса Фок., всех надо было обрадовать, всем сообщить, какой у нас родился «куколка».
– Ma tante, если б вы знали, какой он у меня куколка! C'est un petit charme! Прелестный малютка! И как все понимает! Представьте себе, на днях я одеваюсь, а он лежит у меня на коленях, и вдруг (следует несколько слов на ухо)… mais imaginez-vous cela! представьте себе!
– Ты сама еще куколка! – улыбаясь, отвечает ma tante, – но чувство матери, мой друг, – священное чувство! Ты никогда не должна забывать этого!
– Ах, как я это понимаю, ma tante! С той минуты, как у меня родился мой куколка, я точно преобразилась вся! C'est toute une revelation Это совершенное откровение… Этого противного Петьку я даже не пускаю к себе… et vous savez si je l'aime! а вы знаете, как я его люблю! Все думаю о том, как бы мне нарядить моего милого куколку! И если б вы знали, сколько я платьиц ему сшила… tout un trousseau! целое приданое!
– Все это очень хорошо, мой друг, но не забудь, что для мальчика главное не в платьицах, а в религиозном чувстве и в твердых нравственных правилах.
– О! я не забуду! я никогда этого не забуду, ma tante! И даже вот теперь, когда Петька вздумал в прошлый пост есть скоромное, я ему очень твердо объявила: mon cher! теперь не прежнее время! теперь у нас есть сын, которому мы должны подавать пример! si vous faites gras a table, vous iairez maigre ailleurs… если вы будете много тратить на стол, вам придется экономить на другом… И при этом так ему погрозила, что он со страху (vous savez, ma tante, comme c'est une grande privation pour lui! вы знаете, тетя, какое для него это большое лишение!) съел целую тарелку супу безо всего!!
– Ну, Христос с тобой, куколка! Поезжай, поделись своей радостью с дядей Павлом Борисычем!
У дяди Павла Борисыча повторилась та же сцена, что и у ma tante, с тою разницей, что вместо нравоучений о религиозном чувстве и твердых правилах нравственности дядя сказал следующее наставление:
– Ты делаешь очень мило, мой друг, что заботишься о своем куколке. Que ton marmot soit bien lave, bien vetu, qu'il soit presentable, enfin Пусть твой мальчуган будет хорошо умыт, хорошо одет, словом, пусть будет презентабелен., – все это прекрасно, похвально и необходимо. Но помни, душа моя, что и для него настанет время, когда он будет думать не об атласных одеяльцах и кружевных чепчиках, а о другом атласе, о других кружевах. Vous savez, ma chere, de quoi il s'agit Вы знаете, дорогая, что я имею в виду… Надобно, чтоб он встретил эту минуту с честью. Il faut que ce soit un galant homme Надо, чтобы это был благородный человек… Чтоб он не обращался с женщиной, как извозчик или как нынешние национальгарды, которые, отправляясь в общество порядочных женщин, предварительно ищут себе вдохновенья в манежах, кафешантанах и цирках! Чтоб женщина была для него святыня! Чтоб он любил покорять, но при этом умел всегда сохранять вид побежденного!
На что Ольга Сергеевна отвечала:
– Mon oncle! Дядюшка! ужели вы во мне сомневаетесь! Mais le culte de la beaute… c'est tout ce qu'il y a de plus sacre! Но культ красоты… Это самое священное! Я теперь совершенно переродилась! Я даже Петьку к себе не пускаю – et vous savez, comme c'est une grande privation pour lui! а вы знаете, какое для него это большое лишение! – только потому, что он резок немного!
– Ну, Христос с тобой, куколка! Я с своей стороны высказался, а теперь уж от тебя будет зависеть сделать из твоего «куколки» un homme bien eleve прекрасно воспитанного человека… Поезжай и поделись твоею радостью с братом Никитой Кирилычем.
И так далее, то есть того же содержания и с теми же оттенками сцены у братца Никиты Кирилыча, у comtesse Romanzoff и проч. и проч.
Таким образом прошли два года, в продолжение которых судьба то покровительствовала «куколке», то изменяла ему. Maman относилась к нему как-то капризно: то запоем показывала его всякому приезжающему гостю, то запоем оставляла в детской на руках нянек и бонны. Мало-помалу последняя система превозмогла, так что только в званые обеды и вечера куколку на минуту вызывали в гостиную вместе с хорошенькой швейцаркой-бонной и раскладывали перед гостями, всего в батисте и кружевах, на атласной подушке. Гости подходили, щекотали у «куколки» под брюшком, произносили: «брякишь!» или: «диковинное произведение природы!» и при этом так жадно посматривали на maman, что ей становилось жутко.
На двадцать первом году («куколке» тогда не было еще трех лет) Ольгу Сергеевну постигло горе: у ней скончался муж. В первые минуты она была как безумная. Просиживала по нескольку минут лицом к стене, потом подходила к рояли и рассеянно брала несколько аккордов, потом подбегала к гробу и утомленно-капризным голосом вскрикивала:
– Петька! глупый! ты как смеешь умирать! Ты лжешь! ты притворяешься! Дурной! противный! Ты никогда… слышишь, никогда! – не смеешь бросить твою Ольку!
И слезы как перлы сыпались (именно сыпались, а не лились) из темно-синих глаз и, о диво! – не производили в них ни красноты, ни опухлости.
Но через шесть недель опять наступила пора визитов, и плакать стало некогда. Надо было ехать к ma tante, к топ oncle, к comtesse Romanzoff и со всеми поделиться своим горем. Вся в черном, немного бледная, с опущенными глазами, Ольга Сергеевна была так интересна, так скромно и плавно скользила по паркету гостиных, что все в почтительном безмолвии расступались перед нею, и в один голос решили: c'est une sainte! это святая!
– Ma tante! – говорила между тем Ольга Сергеевна, – я потеряла свое сокровище! Но я счастлива тем, что у меня осталось другое сокровище – мой «куколка»!
– Друг мой, – отвечала ma tante, – я знаю, потеря твоя велика. Но даже и в самом страшном горе у нас есть всегда верное пристанище – это религия!
– Ах, как я это понимаю, ma tante! как я это понимаю! С тех пор, как я лишилась моего сокровища, я вся преобразилась! La religion! mais savez-vous, ma tante, qu'il y a des moments, ou j'ai envie d'avoir des ailes! Религия! а знаете ли, тетя, бывают мгновения, когда мне хочется иметь крылья! И если б у меня не было моего другого сокровища, моего «куколки»…
– Ну, Христос с тобой, сама ты куколка!.. Поезжай и поделись твоим горем с дядей Павлом Борисычем. Ты знаешь, как старик тебя жалует.
У дяди Павла Борисыча те же жалобы и то же сочувствие.
– Я потеряла моего благодетеля, мое сокровище, mon oncle, – говорила Ольга Сергеевна, – вы знали, как он был добр ко мне! как он любил меня! как исполнял все мои прихоти! А я… я была глупенькая тогда! Я была недостойна его благодеяний! Я… я не понимала тогда, как дорого ему все это стоило!
– Мой друг, я очень понимаю всю важность твоей потери, – отвечал mon oncle, – mais ce n'est pas une raison pour maigrir, mon enfant но это не повод, чтобы худеть, дитя мое… Вспомни, что ты женщина и что у тебя есть обязанности перед светом. Смотри же у меня, не худей, а не то я рассержусь и не буду любить мою куколку!
– Ах, mon oncle! вы один добрый, один великодушный! Vous penetrez si bien dans le coeur d'une femme! Вы так хорошо понимаете сердце женщины! Нет, я не буду худеть, я буду много-много кушать, чтобы вы всегда-всегда могли любить вашу маленькую, несчастную куколку!
– То-то! ты не очень слушайся тетку Надежду Борисовну! Она там постным маслом да изречениями аббата Гете кормит, а я этого не люблю! Ну, теперь Христос с тобой! Поезжай и поделись твоим горем с братом Никитой Кирилычем!
И т. д. и т. д.
Затем все впало в обычную колею. В течение целых четырех лет Ольга Сергеевна являла собой пример скромности и материнской нежности. «Куколка», временно пренебреженный, вновь выступил на первый план и сделался предметом всевозможных восхищений. Его одевали утром, одевали в полдень, одевали к обеду, одевали к вечеру. Утром к нему приезжал специальный детский доктор, осматривал, ощупывал, присутствовал при его купанье и всякий раз неизменно повторял одну и ту же фразу:
– О! этот молодой человек будет иметь успех!
На что Ольга Сергеевна столь же неизменно отвечала:
– Ah, mais savez-vous, docteur, qu'il devient deja polisson! А знаете, доктор, он уже начинает шалить!
Перед обедом «куколку» прогуливали на рысаках по Невскому и по набережной; вечером его приводили в гостиную, всегда полную гостей, и заставляли расшаркиваться и говорить des amabilites любезности… У «куколки» были две бонны: англичанка и немка, и одна institutrice гувернантка. – француженка. Сверх того, по распоряжению ma tante, его посещал отец Антоний, le pere Antoine, молодой и благообразный священник, который отличался от своих собратий тем, что говорил по-французски без латинского акцента, ходил в муар-антиковой рясе и с такою непринужденностью сеял семена религии и нравственности, как будто ему это ровно ничего не стоило… Идет и сеет, и, по-видимому, даже не замечает, что семена так и сыплются из всех пор его существа. При такой обстановке относительно «куколки» разом достигались все цели хорошего воспитания: и телесная крепость, и привычка к обществу, и прекрасные манеры, и так называемые краткие начатки веры и нравственности.
Не один из лихих кавалеристов, посещавших по вечерам салон Ольги Сергеевны, заглядывался на нее и покушался нарушить мир ее души. Это казалось тем менее трудным, что два года счастливого супружества должны были порядком-таки избаловать хорошенькую молодку, и, следовательно, при такой набалованности ей не легко было разом покончить с утехами прошлого. Сама ma tante выражала по секрету свои опасения на этот счет, a mon oncle даже прямо выражался: pourvu que ca soit une bonne petite intrigue bien comme il faut le reste ne me regarde pas! лишь бы это была милая вполне порядочная интрижка – остальное меня не касается! Но, к общему удивлению, Ольга Сергеевна закалилась, как адамант. По временам она, конечно, вспыхивала, щеки ее слегка алели, глаза туманились, грудь поднималась и не умела сдержать затаенного вздоха; но как-то всегда, в эти тяжкие минуты, подоспевал к ней на выручку «куколка». Он бурей влетал в гостиную и так уморительно расшаркивался, что Ольга Сергеевна мгновенно отрезвлялась. Отец Антоний, которому были известны все перипетии этой борьбы слабой женщины с целым корпусом кавалерийских офицеров, сравнивал ее с египетскими пустынножителями и для приобретения большей крепости в брани советовал соблюдать посты. Но даже и с этой стороны интересная вдова не могла считать себя совсем безопасною, потому что сам отец Антоний выслушивал ее «смущенный и очи спустя, как перед матерью виновное дитя», и Ольга Сергеевна так и ожидала, что он нет-нет да и начнет вращать зрачками, как любой кавалерийский корнет. Ma tante была так поражена этой неслыханной твердостью, что называла свою племянницу не иначе, как ma sainte святая… Один mon oncle все еще надеялся, что когда-нибудь cela viendra это придет., и продолжал предостерегать Ольгу Сергеевну насчет национальгардов.
И вдруг, через четыре года, Ольга Сергеевна является к ma tante и объявляет, что ей скучно.
– Но что же с тобой, мой друг? – спросила ma tante, пораженная этой неожиданностью.
– Je ne sais, je sens quelque chose la Не знаю, чувствую что-то здесь., – отвечала Ольга Сергеевна, указывая на грудь, – одним словом, доктора в один голос приказывают мне ехать за границу!
– Но как же быть с «куколкой»?
– Я все обдумала, ma tante; я знаю, что я дурная… что, может быть, я даже преступная мать! – воскликнула Ольга Сергеевна и вдруг встала перед ma tante на колени, – ma tante! вы не оставите его! вы замените ему мать!
Жребий «куколки» был брошен. Ma tante согласилась заменить ему мать и взяла на себя насаждение в его сердце правил нравственности и религии. Mon oncle поручился за другую сторону воспитания, то есть за хорошие манеры и искусство побеждать, сохраняя вид побежденного. В результате этих соединенных усилий должен был выйти un jeune homme accompli безупречный молодой человек., рыцарь вежливости и преданности, молодой человек, преисполненный всевозможных bons principes, ipreux chevalier хороших убеждений, доблестный рыцарь., готовый во всякое время объявить крестовый поход против manants et mecreants мужиков и нехристей… Ольга Сергеевна уехала вполне успокоенная.
Годы шли, а интересная вдова как канула за границу, так и исчезла там. Слух был, что она короткое время блеснула на водах, в сопровождении какого-то национальгарда (от судьбы, видно, не убежишь!), но потом скоро уехала в Париж и там поселилась на житье. Потом прошел и еще слух: в Париже Ольга Сергеевна произвела фурор и имела несколько шикарных приключений, которые сделали имя ее очень громким. La belle princesse Persianoff Прекрасная княгиня Персианова. сделалась предметом газетных фельетонов и устных скандалезных хроник. Называли двух-трех литераторов, одного министра (de l'Empire империи.), одного сенатора и даже одного акробата (неизбежное следствие чтения романа «L'homme qui rit»). Доходы с пензенских, тамбовских и воронежских имений проматывались с быстротою неимоверною. Система залогов и перезалогов, продажа лесных и других угодий, находившая при покойном Петьке лишь робкое себе применение, сделалась основанием всех финансовых операций Ольги Сергеевны. «Mais vendez donc cette maudite Tarakanikha qui ne vaut rien et qui ne nous est qu'a charge!» «Но продайте же эту проклятую Тараканиху, которая ничего не стоит и является для нас только обузой!» беспрерывно писала она к одному из своих cousins кузенов., наблюдавшему «из прекрасного далека» за имением ее и ее покойного мужа. И одна за другой полетели Тараканихи, Опалихи, Бычихи, Коняихи, все, что служило обременением, что вдруг оказалось лишним. Наконец репутация Ольги Сергеевны достигла тех пределов, далее которых идти было уж некуда. В газетах рассказывали подробности одной дуэли, в которой интересная вдова играла очень видную, хотя и не совсем лестную для нее роль. Повествовалось, о каком-то butor грубияне. из молдаван, о каких-то mauvais traitements махинациях., жертвою которых была la belle princesse russe de P ***, и наконец о каком-то preux chevalier о доблестном рыцаре., который явился защитником мальтретированной красавицы. Тогда петербургские родные встревожились.
– Et dire que c'etait une sainte! И подумать только, ведь это была святая! – восклицала ma tante.
– Я предсказывал, что знакомство с национальгардами не доведет до добра! – зловеще каркал mon oncle.
На семейном совете решено было просить… Разрешение не замедлило, и в силу его Ольга Сергеевна вынуждена была оставить очаровательный Париж и поселиться в деревне для поправления расстроенных семейных дел. В это время ей минуло тридцать четыре года.
А «куколка» тем временем процветал в одном «высшем учебном заведении», куда был помещен стараниями ma tante. Это был юноша, в полном смысле слова многообещающий: красивый, свежий, краснощекий, вполне уверенный в своей дипломатической будущности и в то же время с завистью посматривающий на бряцающих палашами юнкеров. По части священной истории он знал, что «царь Давид на лире играет во псалтыре» и что у законоучителя их «лимонная борода».
По части всеобщей истории он был твердо убежден, что Рим пал жертвою своевольной черни. По части этнографии и статистики ему небезызвестно было, что человечество разделяется на две отдельных породы: chevaliers и manants, из коих первые храбры, великодушны, преданны и верны данному слову, вторые же малодушны, трусливы, лукавы и никогда данного слова не выполняют. Он знал также, что народы, которые не роптали, были счастливы, а народы, которые роптали, были несчастливы, ибо подвергались усмирению посредством экзекуций. Сверх того, он курил табак, охотно пил шампанское и еще охотнее посещал театр Берга по воскресным и табельным дням. О maman своей он имел самое смутное понятие, то есть знал, que c'est une sainte, и что она живет за границей для поправления расстроенного здоровья. Ольга Сергеевна раза два в год писала к нему коротенькие, но чрезвычайно милые письма, в которых умоляла его воспитывать в себе семена религии и нравственности, запас которых всегда хранился в готовности у ma tante. Он с своей стороны писал к maman чаще и довольно пространно описывал свои занятия у профессоров, так что в одном письме даже подробно изобразил первый крестовый поход. «Представьте себе, милая maman, их гнали отвсюду, на них плевали, их травили собаками, однако ж они, предводимые пламенным Петром Пикардским, все шли, все шли». Но так как во время этого описания (он сам впоследствии признавался в этом maman) его тайно преследовал образ некоторой Альфонсинки и ее куплет:
A Provins On recolte des roses Et du jasmin, Et beaucoup d'autres choses…[1]то весьма естественно, что реляция о крестовом походе заканчивалась следующими словами: «в особенности же с героической стороны выказал себя при этом небольшой французский городок Provins (allez-y, bonne maman! c'est si pres de Paris) Провен (поезжайте туда, милая мама! это так близко от Парижа)., который в настоящее время, как видно из географии, отличается изобилием жасминов и роз самых лучших сортов».
Таков был этот юноша, когда ему минуло шестнадцать лет и когда с Ольгой Сергеевной случилась катастрофа. Приехавши в Петербург, интересная вдова, разумеется, расплакалась и прикинулась до того наивною, что когда «куколка» в первое воскресенье явился в отпуск, то она, увидев его, притворилась испуганною и с криком: «Ах! это не „куколка“! это какой-то большой!» выбежала из комнаты. «Куколка», с своей стороны, услышав такое приветствие, приосанился и покрутил зачаток уса.
Тем не менее более близкое знакомство между матерью и сыном все-таки было неизбежно. Как ни дичилась на первых порах Ольга Сергеевна своего бывшего «куколки», но мало-помалу робость прошла, и началось сближение. Оказалось что Nicolas прелестный малый, почти мужчина, qu'il est au courant de bien des choses что он уже обладает некоторым опытом., и даже совсем, совсем не сын, а просто брат. Он так мило брал свою конфетку-maman за талию, так нежно целовал ее в щечку, рукулировал ей на ухо de si jolies choses так мило ворковал ей на ухо., что не было даже резона дичиться его. Поэтому минута обязательного отъезда в деревню показалась для Ольги Сергеевны особенно тяжкою, и только надежда на предстоящие каникулы несколько смягчала ее горе.
– Надеюсь, что ты будешь откровенен со мною? – говорила она, трепля «куколку» по щеке.
– Maman!
– Нет, ты совсем, совсем будешь откровенен со мной! ты расскажешь мне все твои prouesses; tu me feras un recit detaille sur ces dames qui ont fait battre ton jeune coeur… подвиги; ты подробно расскажешь мне о женщинах, которые привели в трепет твое молодое сердце… Ну, одним словом, ты забудешь, что я твоя maman, и будешь думать… ну, что бы такое ты мог думать?… ну, положим, что я твоя сестра!..
– И, черт возьми, прехорошенькая! – прокартавил Nicolas (в экстренных случаях он всегда для шика картавил), обнимая и целуя свою maman.
И maman уехала и стала считать дни, часы и минуты.
* * *
Село Перкал_и_ с каменным господским домом, с огромным, прекрасно содержимым господским садом, с многоводною рекою, прудами, тенистыми аллеями – вот место успокоения Ольги Сергеевны от парижских треволнений. Комната Nicolas убрана с тою рассчитанною простотою, которая на первом плане ставит комфорт и допускает изящество лишь как необходимое подспорье к нему. Ковры на полу и на стенах, простая, но чрезвычайно покойная постель, мебель, обитая сафьяном, массивный письменный стол, уставленный столь же массивными принадлежностями письма и куренья, небольшая библиотека, составленная из избраннейших романов Габорио, Монтепена, Фейдо, Понсон-дю-Терайля и проч., и, наконец, по стенам целая коллекция ружей, ятаганов и кинжалов – вот обстановка, среди которой предстояло Nicolas провести целое лето.
Первая минута свидания была очень торжественна.
– Voici la demeure de vos ancetres, mon fils! Вот жилище ваших предков, сын мой! – сказала Ольга Сергеевна, – может быть, в эту самую минуту они благословляют тебя la haut! там наверху!
Nicolas, как благовоспитанный юноша, поник на минуту головой, потом поднял глаза к небу и как-то порывисто поцеловал руку матери. При этом ему очень кстати вспомнились стихи из хрестоматии:
И из его суровых глаз Слеза невольная скатилась…И он вдруг вообразил себе, что он седой, что у него суровые глаза, и из них катится слеза.
– А вот и твоя комната, Nicolas, – продолжала maman, – я сама уставляла здесь все до последней вещицы; надеюсь, что ты будешь доволен мною, мой друг!
Глаза Nicolas прежде всего впились в стену, увешанную оружием. Он ринулся вперед и стал один за другим вынимать из ножен кинжалы и ятаганы.
– Mais regardez, regardez, comme c'est beau! oh, maman! merci! vous etes la plus genereuse des meres! Но взгляните, взгляните, какая красота! о, мама! спасибо! вы самая щедрая из матерей! – восклицал он, в ребяческом восторге разглядывая эти сокровища, – этот ятаган… черт возьми!..
– Этот ятаган – святыня, мой друг, его отнял твой дедушка Николай Ларионыч – c'etait le bienfaiteur de toute la famille! – a je ne sais plus quel Turc это был благодетель всей семьи! – у какого-то турка., и с тех пор он переходит в нашем семействе из рода в род! Здесь все, что ты ни видишь, полно воспоминаний… de nobles souvenirs, mon fils! благородных воспоминаний, сын мой!
Nicolas вновь поник головой, подавленный благородством своего прошлого.
– Вот этот кинжал, – продолжала Ольга Сергеевна, – его вывезла из Турции твоя grande tante, которую вся Москва звала la belle odalisque прекрасная одалиска… Она была пленная турчанка, но твой grand oncle Constantin так увлекся ее глазами (elle avait de grands-grands yeux noirs! у нее были большие-большие черные глаза!), что не только обратил ее в нашу святую, православную веру, notre sainte religion orthodoxe, но впоследствии даже женился на ней. И представь себе, mon ami, все, кто ни знал ее потом в Москве… никто не мог найти в ней даже тени турецкого! Она принимала у себя всю Москву, давала балы, говорила по-французски… mais tout a fait comme une femme bien elevee! как прекрасно воспитанная женщина! По временам даже журила самого Светлейшего! Nicolas поник опять.
– А вот это ружье – ты видишь, оно украшено серебряными насечками – его подарил твоему другому grand oncle, Ипполиту, сам светлейший князь Таврический – tu sais? l'homme du destin! знаешь? баловень судьбы! Покойный Pierre рассказывал, что «баловень фортуны» очень любил твоего grand oncle и даже готовил ему блестящую карьеру, mais il parait que le cher homme etait toujours d'une tres petite sante но, кажется, милый человек отличался всегда очень плохим здоровьем. – и это место досталось Мамонову.
– Fichtre! c'est le grand oncle surnomme le Bourru bienfaisant? Черт возьми! так это дед, названный благодетельным букой? Так вот он был каков!
– Он самый! Depuis lors il n'a pas pu se consoler С тех пор он не мог утешиться… Он поселился в деревне, здесь поблизости, и все жертвует, все строит монастыри. C'est un saint, и тебе непременно нужно у него погостить. Что он вытерпел – ты не можешь себе представить, мой друг! Десять лет он был под опекой по доносу своего дворецкого (un homme, dont il a fait la fortune! человека, которого он облагодетельствовал!) за то, что будто бы засек его жену… lui! un saint! он! святой! И это после того, как он был накануне такой блестящей карьеры! Но и затем он никогда не позволял себе роптать… напротив, и до сих пор благословляет то имя… mais tu me comprends, mon ami? но понимаешь ли ты меня, мой друг?
Nicolas в четвертый раз поник головой.
– Но рассказывать историю всего, что ты здесь видишь, слишком долго, и потому мы возвратимся к ней в другой раз. Во всяком случае, ты видишь, что твои предки и твой отец – oui, et ton pere aussi, quoiqu'il soit mort bien jeune! да, и твой отец, хотя он и умер очень молодым! – всегда и прежде всего помнили, что они всем сердцем своим принадлежат нашему милому, доброму, прекрасному отечеству!
– Oh, maman! la patrie! О, мама! отечество!
– Oui, mon ami, la patrie – vous devez la porter dans votre coeur! Да, мой друг, отечество – вы должны носить его в своем сердце! A прежде всего дворянский долг, а потом нашу прекрасную православную религию (si tu veux, je te donnerai une lettre pour l'excellent abbe Guete если хочешь, я тебе дам письмо к милейшему аббату Гете.). Без этих трех вещей – что мы такое? Мы путники или, лучше сказать, пловцы…
– «Без кормила, без весла», – вставил свое слово Nicolas, припомнив нечто подобное из хрестоматии.
– Ну да, c'est juste верно., ты прекрасно выразил мою мысль. Я сама была молода, душа моя, сама заблуждалась, ездила даже с визитом к Прудону, но, к счастью, все это прошло, как больной сон… et me voila!
– Oh, maman! le devoir! la patrie! et notre sainte religion! И вот я тут! О, мама! долг! отечество! и наша святая вера!
Ольга Сергеевна, в свою очередь, поникла головой и даже умилилась.
– Ты не поверишь, мой друг, как я счастлива! – сказала она, – я вижу в тебе это благородство чувства, это je ne sais quoi! Mais sens donc, comme mon coeur bondit et trepigne! Не знаю что! Посмотри, как сердце мое бьется и трепещет! Нет, ты не поймешь меня! ты не знаешь чувств матери! Mais c'est quelque chose d'ineffable, mon enfant, mon noble enfant adore! Это что-то невыразимое, мое дитя, мое благородное обожаемое дитя!
Этим торжество приема кончилось. За обедом и мать и сын уже болтали, смеялись и весело чокались бокалами, причем Ольга Сергеевна не без лукавства говорила Nicolas:
– А помнишь, душа моя, ты писал мне об одном городке Provins, который изобилует жасминами и розами; признайся, откуда ты взял это сведение?
– Maman! я получил его в театре Берга! Parbleu! on enseigne tres bien la geographie dans ce pays-la! Право же! в этой стране хорошо преподают географию!
Первое время мать и сын не могли насмотреться друг на друга. Ольга Сергеевна, как институтка, бегала по тенистым аллеям, прыгала на pas-de-geant; гигантских шагах. Nicolas ловил ее и, поймавши, крепко-крепко целовал.
– Maman! расскажите, как вы познакомились с papa?
– Папа был немного груб… но тогда это как-то нравилось, – слегка заалевшись, отвечает Ольга Сергеевна.
– Еще бы! Sacre nom! vous autres femmes! c'est votre ideal d'etre maltraitees! Знаем мы вас, женщины! Вы любите, чтобы с вами грубо обращались. Ну-с! как же ты с ним познакомилась?
– Мы встретились в первый раз на бале, и он танцевал со мной сначала кадриль, потом мазурку… Тогда лифы носили очень короткие – c'etait presqu'aussi ouvert qu'a present они были почти так же открыты, как теперь. – и он все смотрел… это было очень смешно!
– Еще бы не смотреть! est-ce qu'il y a quelque chose de plus beau qu'un joli sein de femme. что может быть прекраснее красивой груди женщины. Ну-с, дальше-с.
– Потом он сделал предложение, а через месяц нас обвенчали. Mais comme j'avais peur si tu savais! Но как я боялась, если б ты знал!
– Еще бы! Кувырком!
– Колька! негодный! разве ты знаешь!
– Гм…
– Ведь тебе еще только шестнадцать лет!
– Семнадцатый-с… Я, maman, революций не делаю, заговоров не составляю, в тайные общества не вступаю… laissezmoi au moins les femmes, sapristi! оставьте на мою долю хоть женщин, черт побери! Затем, продолжайте.
– Et puis!.. c'etait comme une epopee! c'etait tout un chant d'amour! А потом… это была сказка! Это была песня любви!
– Да-с, тут запоешь, как выражается мой друг, Сеня Бирюков!
– Et puis… il est mort! А потом… он умер! Я была как безумная. Я звала его, я не хотела верить…
– Еще бы! сразу на сухояденье!
– Ах, Nicolas, ты шутишь с самым священным чувством! Говорю тебе, что я была совершенно как в хаосе, и если бы у меня не остался мой «куколка»…
– «Куколка» – это я-с. Стало быть, вы мне одолжены, так сказать, жизнью. Parbleu! хоть одно доброе дело на своем веку сделал! Но, затем, прошли целые двенадцать лет, maman… ужели же вы?.. Но это невероятно! si jeune, si fraiche, si pimpante, si jolie! такая молодая, такая свежая, такая нарядная, такая хорошенькая! Я сужу, наконец, по себе… Jamais on ne fera de moi un moine! Никогда не сделают из меня монаха!
Ольга Сергеевна алеет еще больше и как-то стыдливо поникает головой, но в это же время исподлобья взглядывает на Nicolas, как будто говорит: какой же ты, однако, простой: непременно хочешь mettre les points sur les il поставить точки над i.
– Treve de fausse honte! Прочь ложный стыд! – картавит между тем Коля, – у нас условлено рассказать друг другу все наши prouesses! подвиги! Следовательно, извольте сейчас же исповедоваться передо мной, как перед духовником!
Ольга Сергеевна на мгновение заминается, но потом вдруг бросается к сыну и прячет у него на груди свое лицо.
– Nicolas! Я очень, очень виновата перед тобой, мой друг! – шепчет она.
– Еще бы! такая хорошенькая! Mais sais-tu, petite mere, que meme a present tu es jolie a croquer… parole! А знаешь ли ты, мамочка, даже сейчас ты прелестна, как херувим… клянусь!
– Ah! tu viens de m'absoudre! mon genereux fils! Ах! ты меня простил! Мой великодушный сын!
– Не только абсудирую, но и хвалю! Итак…
– Ах, «он» так любил меня, а я была так молода… Ты знаешь, Pierre был очень груб, и хотя в то время это мне нравилось… mais «lui»! C'etait tout un poeme. Il avait de ces delicatesses! de ces attentions! зато «он»! Это была настоящая поэма. Он был так нежен, так внимателен!
– Та-та-та! Вы, кажется, изволили пропустить целую главу! а этот кавалерист, который сопровождал вас за границу? Тот, который так пугал mon grand oncle Paul своими усами и своими jurons?? грубостями??
– C'etait un butor! Это был грубиян!
– Passons Дальше… Но кто же был этот «он», celui qui avait des delicatesses? тот, который был так нежен?
– Он писал сначала в «Journal pour rire», потом в «Charivari», потом в «Figaro»… Ах, если б ты знал, как он смешно писал! И все так мило! И мило и смешно! И как он умел оскорблять! Et avec cela brave, maniant a merveille l'epee, le sabre et le pistolet! И вместе с тем бравый, чудесно владеющий шпагой, саблей и пистолетом! Все журналисты его боялись, потому что он мог всех их убить!
– Et joli garcon? И красивый малый?
– Beau… mais d'une beaute! Красив… изумительно красив! Повторяю тебе, это была целая поэма! Et avec ca, adorant le trone, la patrie et la sainte eglise catholique! И вместе с тем он обожал трон, отечество и святую католическую церковь!
Ольга Сергеевна вздыхает и как-то сосредоточенно мнет в своей руке ветку цветущей сирени. Мысли ее витают там, на далеком Западе, au coin du boulevard des Capucines на углу бульвара Капуцитток., Э 1, там, где она однажды позабыла свой bonnet de nuit ночной чепчик., где Anatole, который тогда писал в «Figaro», на ее глазах сочинял свои милейшие blagues (oh! comme il savait blaguer, celui-la! фантазии, шутки (о, как забавно фантазировал!)) и откуда ее навсегда вырвал семейный деспотизм! В эту минуту она забывает и о сыне и о его prouesses, да и хорошо делает, потому что вспомни она об нем, кто знает, не возненавидела ли бы она его как первую, хотя и невольную, причину своего заточения?
– Ну, а насчет Прудона как? – пробуждает ее голос Nicolas.
– N'en parlons pas! Не будем говорить об этом!
Ольга Сергеевна говорит это уже с оттенком гнева и начинает быстро ходить взад и вперед по кругу, обрамленному густыми лицами.
– Вообще, будет обо всем этом! – продолжает она с волнением, – все это прошло, умерло и забыто! Que la volonte de Dieu soit faite! Да исполнится воля божия! A теперь, мой друг, ты должен мне рассказать о себе!
Ольга Сергеевна садится, Nicolas с невозмутимой важностью покачивается на скамейке, обнявши обеими руками приподнятую коленку.
– Et bien, maman, – говорит он, – nous aimons, nous folichonnons, nous buvons sec! Что ж, мама, мы любим, шалим, выпиваем!
Maman как-то сладко смеется; в ее голове мелькает далекое воспоминание, в котором когда-то слышались такие же слова.
– Raconte-moi comment _cela_ t'est venu? Расскажи мне, как это с тобой случилось? – спрашивает она.
– Mais… c'est simple comme bonjour! Но… это просто, как день! картавит Nicolas, – однажды мы были в цирке… перед цирком мы много пили… et apres la representation… ma foi! le sacrifice etait consomme! И после представления… черт возьми! жертвоприношение было совершено!
Ольга Сергеевна, ожидавшая пикантных подробностей и перипетий, смотрит на него с насмешливым удивлением. Как будто она думает про себя: странно! точь-в-точь такое же животное, как покойный Петька!
– И ты?.. – спрашивает она.
Но Nicolas подмечает насмешливый тон этого вопроса и спешит поправиться.
– Maman! – говорит он восторженно. – C'etait, comme vous l'avez si bien dit, tout un poeme! Это была, как вы прекрасно сказали, настоящая поэма!
Эта фраза словно пробуждает Ольгу Сергеевну; она снова вскакивает с скамейки и снова начинает ходить взад и вперед по кругу. Прошедшее воскресает перед ней с какою-то подавляющею, непреоборимою силою; воспоминания так и плывут, так и плывут. Она не ходит, а почти бегает; губы ее улыбаются и потихоньку напевают какую-то песенку.
«C'etait tout un poeme!» – мелькает у ней в голове.
* * *
Проходит несколько дней; рассказы о прошедших prouesses исчерпываются, но их заменяет сюжет столько же, если не больше, животрепещущий. Дело в том, что Ольга Сергеевна еще за границей слышала, что в Петербурге народились какие-то нигилисты, род особенного сословия, которого не коснулись краткие начатки нравственности и религии и которое, вследствие того, ничем не занимается, ни науками, ни художествами, а только делает революции. Когда же она, сверх того, узнала, что в члены этого сословия преимущественно попадают молодые люди, то материнским опасениям ее не стало пределов. Она тотчас же собралась писать к «куколке», чтоб предостеречь и вразумить его, и, конечно, выполнила бы свое намерение, если б в эту самую минуту к ней не пришел Anatole с какою-то только что измышленною им bonne petite blague. Эта blague была так мила, так остроумна и весела, что Ольга Сергеевна целый день хохотала до слез и к вечеру не только утратила ясное представление о нигилистах, но даже почему-то вообразила, что это просто вновь открытая угнетенная национальность (les polonais, les italiens… les nihilistes! поляки, итальянцы… нигилисты!), которая, в этом качестве, имеет право на собственную свою конституцию и на собственные свои законы. Хотя же впоследствии события не один раз напоминали ей об ужасных делах этих «ужасных людей» и она опять собиралась писать по этому поводу к «куколке», но Anatole с своей стороны тоже не дремал и был так неистощим на blagues, что все усилия думать о чем-нибудь другом, кроме этих прелестных blagues, остались тщетными. Так продолжалось все время до самого переселения в Перкали. Тут она окончательно припомнила все слышанное о нигилистах и решилась немедленно испытать политические убеждения «куколки».
Завтрак кончился; Nicolas только что рассказал свою последнюю prouesse и, покачиваясь на стуле, мурлыкает: «Mon pere est a Paris»; «Мой отец в Париже». Ольга Сергеевна ходит взад и вперед по столовой и некоторое время не знает, как приступить к делу.
– Надеюсь, мой друг, что ты не нигилист! – наконец отрезывает она, нигилисты – это те самые, которые гражданский брак выдумали!
– Maman! вы очень хорошо знаете, что я консерватор! – обижается Nicolas.
– Je sais bien que vous etes un noble enfant! Я хорошо знаю, что вы благородный мальчик! но знай, Nicolas, что если б когда-нибудь тебе зашла в голову мысль о революции… vous ne serez plus mon fils… vous m'entendez?.. вы больше не будете мне сыном… вы меня понимаете?..
– Maman! вы странная! вы лучшая из матерей, но вы не понимаете меня.
– Ah! les hommes sont bien mechants! Ах! люди очень злы! они так искусно расставляют свои сети, что я не могу… нет, нет, не могу не дрожать за тебя. И потому, если б когда-нибудь, по какомунибудь случаю, тебя постигло искушение…
– Parbleu! je voudrais bien voir! Черт возьми! желал бы я посмотреть!
– Не шути этим, Nicolas! Люди вообще коварны, а нигилисты – это даже не люди… это… это злые духи, – et tu sais d'apres la Bible ce que peut un esprit malfaisant а ты знаешь по Библии, что может злой дух… A потому, если они будут тебя искушать, вспомни обо мне… вспомни, мой друг!.. и помолись! La priere – c'est tout молитва – это все… Она даст тебе крылья и мигом прогонит весь этот cauchemar de moujik мужицкий кошмар… Дай мне слово, что ты исполнишь это!
– Maman! вы странная!
– Нет, дай мне слово! успокой меня!
– Даю вам миллион триста тысяч слов, что каждый из этих злых духов, при первом свидании, получит от меня такую taloche взбучку., что забудет в другой раз являться с предложениями) О! я эти революции из них выбью! Я их подтяну!
Nicolas надувается и вскакивает; глаза его искрятся; лицо принимает торжественное выражение. Он таким орлом прохаживается по зале, как будто на него возложили священную обязанность разыскать корни и нити, и он, во исполнение, напал на свежий и совершенно несомненный след.
– Maman! – произносит он важно, – желаете ли вы, чтоб я открыл перед вами мою profession de foi? свои убеждения?
– Mon fils! Мой сын!
– Alors ecoutez bien ceci В таком случае слушайте… Я консерватор; я человек порядка. Et en outre je suis legitimiste! L'ordre, la patrie et notre sainte religion orthodoxe – voici mon programme a moi И кроме того, я легитимист! Порядок, отечество и наша святая православная вера – вот моя программа… Что касается до нигилистов, то я думаю об них так: это люди самые пустые и даже – passez-moi le mot простите за выражение. – негодяи. Ils n'ont pas de fond, ces gens-la! ils tournent dans un cercle vicieux! У этих людей нет никаких основ! они вертятся в заколдованном кругу! Надеюсь, что теперь вы меня понимаете?
– Какой ты, однако ж…
«Умный», хотела сказать Ольга Сергеевна, но вдруг остановилась. Она совсем некстати вспомнила, что даже ее покойный Пьер («le pauvre ami! бедный друг! он никогда ничего не знал, кроме телесных упражнений!») – и тот однажды вдруг заговорил, когда зашла речь о нигилистах. «И, право, говорил не очень глупо!» – рассказывала она потом об этом диковинном случае его товарищам-кавалеристам.
A Nicolas между тем надувается все больше и больше.
– Благодаря моему воспитанию, – ораторствует он, – благодаря вам, ma noble et sainte mere, la ligne de conduite que j'ai a suivre est toute tracee. Cette ligne – la voici: моя благородная и святая мать, линия поведения, которой я следую, вполне ясна. Эта линия – следующая. желай в пределах возможного, беспрекословно исполняй приказания начальства, будь готов, et ne te mele pas de politique и не вмешивайся в политику… Один из наших гувернеров сказал святую истину: nul part, a-t-il dit, on n'est aussi tranquille qu'en Russie! pourvu qu'on ne fasse rien, personne ne vous inquiete!! нигде так спокойно не живется, сказал он, как в России! лишь бы ничего не делать, никто тебя не тронет!! A в переводе это значит: не возносись, не пари в облаках – и никто тебя не тронет. Но если ты желаешь парить – что ж, милости просим! Только уж не прогневайся, mon cher, если с облаков ты упадешь где-нибудь… ou cela ne sent pas la rose! где не пахнет розами!
– Merci! merci, mon fils! – страстно произносит Ольга Сергеевна.
Но Nicolas не слушает и, постепенно разгорячаясь, несколько раз сряду повторяет:
– Oui, dans cet endroit-la cela ne sentira pas la rose… je le garantie! Да, там розами пахнуть не будет… за это я ручаюсь!
Мало-помалу, раздражаясь собственною фантазией, он вступает в тот фазис, когда человеком вдруг овладевает какая-то нестерпимая потребность лгать. Он останавливается против maman, несколько времени смотрит на нее в упор, как будто приготовляет к чему-то необычайному.
– Вы знаете ли, maman, что это за ужасный народ! – восклицает он, – они требуют миллион четыреста тысяч голов! Je vous demande, si c'est pratique! Я спрашиваю вас, целесообразно ли это!
С минуту и мать и сын оба молчат, подавленные.
– Они говорят, что наука вздор… la science! наука! что искусство напрасная потеря времени… les arts! искусства! что всякий сапожник в сто раз полезнее Пушкина… Pouschkinn!
Новая минута молчания.
– Они отвергают брак, ils vivent comme des chiens avec leurs chiennes! они живут, как кобели со своими суками! Они не признают таинств, религии, церкви… notre sainte eglise orthodoxe! Et vous me demandez, si je suis nihiliste!! нашей святой православной церкви! И вы спрашиваете меня, не нигилист ли я!
Ольга Сергеевна не может больше владеть собой и бросается к Nicolas.
– Nicolas! Я вижу! я все теперь вижу! Tu es un noble et saint enfant! Ты благородный и святой мальчик! но скажи, ты знал? ты знал кого-нибудь из этих страшных людей? – с каким-то ужасом спрашивает она.
– Maman! Я видел одного из них на Невском: il etait mal peigne, pas du tout lave… плохо причесан, неумыт. и от него пахло!
– L'horreur! Ужас!
* * *
Политическая программа Nicolas не только успокоивает Ольгу Сергеевну, но даже внушает ей уважение к сыну.
– До сих пор я только любила тебя, – говорит она, – теперь я тебя уважаю!
На что Nicolas со всем энтузиазмом пламенной души отвечает:
– Oh! ma noble et sainte mere! mais sentez donc! sentez, comme mon coeur bondit et trepigne О! моя добрая святая мать! попробуйте! попробуйте, как бьется и трепещет мое сердце..
Вообще «куколка» доволен собой выше всякой меры. Во-первых, благодаря maman, он узнает, что он консерватор (до сих пор все его политические убеждения заключались в том, чтобы не пропустить ни одного праздничного дня, не посетивши театра Берга) и что ему предстоит в будущем какая-то роль; во-вторых, слова Ольги Сергеевны об уважении окончательно возносят его на недосягаемую высоту. Он целые дни ходит в забытьи, целые дни строит планы за планами и, наконец, делается до того подозрительным, что впадает почти в ясновидение.
– Aujourd'hui j'ai reve! Сегодня я видел сон! – говорит он однажды. Мне снилось, что я сделался невидимкой и присутствую при их совещаниях! Можете себе представить, maman, какие я при этом сделал открытия!
В другой раз он обращает внимание maman на вредное направление умов, замеченное им между поселянами.
– Как хотите, maman, – ораторствует он, – а чувство уважения к священному принципу собственности так мало в них развито, что я почти прихожу в отчаяние. Вчера из парка выгнали крестьянскую корову; сегодня, на господском овсе, застали целое стадо гусей. Я думаю, что система штрафов была бы в этом случае очень-очень действительна!
Наконец, в третий раз, он объявляет, что видел на селе настоящего нигилиста.
– Но кого же, мой друг? – изумленно спрашивает Ольга Сергеевна.
– Tu sais… ce seminariste… Знаешь… этот семинарист… сын нашего священника. Представь себе, встречается давеча со мной и пренагло-нагло подает мне руку… canaille! каналья!
Открытие это несколько смущает Ольгу Сергеевну. Она, с своей стороны, уже заметила Аргентова (фамилия заподозренного семинариста), и ей даже показалось, что он не только не нигилист, но даже «благонамеренный». Именно «благонамеренный», не «консерватор» – «консерваторами» могут быть только les gens comme il fauta порядочные люди., – а «благонамеренный», то есть смирный, послушный, преданный. Аргентов был высокий и плотный молодой человек; голова у него была большая и кудрявая; черты лица несколько крупны, но не без привлекательности; вся фигура дышала силой и непочатостью. Все это Ольга Сергеевна заметила. «Il est du peuple, c'est vrai Он из простого народа, это верно., – думала она про себя, – mais quelquefois ces gens-la ont du bon» Но иногда у этих людей есть кое-что хорошее… И она до такой степени прониклась убеждением, что Аргентов «благонамеренный», что однажды, выходя из церкви, даже просила отца Карпа когда-нибудь привести его.
– После, – прибавила она, – теперь дайте мне насмотреться на моего «куколку»! Он у меня такой серьезный, непременно хочет оставаться со мной один! Ведь вы еще не скоро уезжаете отсюда, мсье Аргентов?
– Все зависит от местов-с, – отвечал молодой человек, – как скоро откроется вакансия, тогда уж будет не до знакомств-с, а надо будет думать о приискании невесты-с!
– Ну, будет время, еще познакомимся! – сказала Ольга Сергеевна, садясь в экипаж, между тем как Аргентов удалялся восвояси, напевая звучным басом: «Телесного озлобления терпети не могу».
С тех пор мысль об Аргентове посещала ее довольно настойчиво. В голове ее даже завязывались по этому случаю целые романы с длинными зимними вечерами, с таинственным мерцаньем лунного луча, и с этою страстною, курчавою головой, si pleine de seve et de vigueur! так полной сока и силы! Она полулежит на диване, глаза ее зажмурены, а его голос гремит и дрожит, и в ушах ее бессвязно раздаются какие-то страстные, пламенные слова. Ей сладко мечтать под эти страстные звуки, она не сознает даже содержания их, а только тихо-тихо поддается им, побежденная их страстностью… И как он мило брюзжит, когда она, в самом разгаре его диатриб, вдруг выйдя из забытья, «совсем-совсем некстати» обращается к нему с вопросом:
– А вы читали Оссиана, Аргентов?
– Не об Оссиане идет теперь речь, – кричит он на нее, вскакивая как ужаленный, – а о народных страданиях-с! Поймете ли вы это когда-нибудь, барыня?
«Странное дело! – думается ей, – сколько раз я предлагала этот вопрос… там… a Paris… и все „они“ отвечали мне таким же образом! Все, все сердились».
И вдруг «куколка» разрушает весь этот reve, объявляя, что Аргентов нигилист! Un homme qui n'a pas de religion!! Безбожник! человек, который выдумал гражданский брак!!
– Но не ошибаешься ли ты, мой друг? – говорит она как-то робко. – Мне кажется… он благонамеренный!
– Нет, нет, у меня это уж инстинкт, и он меня никогда-никогда не обманывал! Все эти fils de pope поповичи. нарочно говорят глупые слова, чтоб скрыть, что они делают революции! А что у них на уме одни революции c'est un fait avere! И не меня они обманут своим смирением!
Одним словом, восторженность Nicolas растет до того, что он начинает вскакивать по ночам, кричать, кого-то требовать к ответу, что причиняет Ольге Сергеевне не мало тревоги.
– Maman! – восклицает он однажды, – je sens que le mourrai, mais au moins je mourrai a mon poste! Touchez ma tete – elle est tout en feu! это факт доказанный!
– Но ты бы чем-нибудь рассеял себя, – испуганно говорит она, посмотрел бы на наше хозяйство, позвал бы управляющего!
– Oh, maman! все это кажется мне теперь так ничтожным… si petit, si mesquin! я чувствую, что умру, но, по крайней мере, умру на своем посту! Троньте мою голову – она вся в огне!
– Но подумай, мой друг, у тебя будут дети; это твой долг, c'est ton devoir de leur transmettre intacts tes droits, tes biens, ton beau nom твой долг – передать им неприкосновенными твои права, твое имущество, твое доброе имя..
– Encore un devoir! quel fardeau! et quelle triste chose, que la vie, maman! Еще долг! какое бремя! и какая печальная вещь жизнь, мама!
Но Ольга Сергеевна уже не слушает и посылает к Nicolas управляющего. Nicolas, с свойственною ему стремительностью, излагает пред управляющим целый ряд проектов, от которых тот только таращит глаза. Так, например, он предлагает устроить на селе кафе-ресторан, в котором крестьяне могли бы иметь чисто приготовленный, дешевый и притом сытный обед (и богу бы за меня молили! мелькает при этом у него в голове).
– Понимаешь? понимаешь? – толкует он, – я не того требую, чтоб были у них голландские скатерти, а чтоб было все чисто, мило, просто! – понимаешь?
Потом, не давши этой идее дальнейшего развития, он переходит к пчеловодству и доказывает, что при современном состоянии науки («la science!» «наука!») можно заставить пчел делать какой угодно мед липовый, розовый, резедовый и т. д.
– Понимаешь? понимаешь? я люблю липовый мед, ты – резедовый… и мы оба… понимаешь?
Наконец бросает и эту материю, грозит управляющему пальцем и с восклицанием «я вас подтяну!» – убегает к maman.
– Maman! да тут у вас какие-то Каракозовы завелись! – разражается он.
С этих пор кличка «Каракозов» остается за управляющим навсегда.
* * *
Наконец Ольга Сергеевна вспоминает, что в соседстве с ними живет молодой человек, Павел Денисыч Мангушев, и предлагает Nicolas познакомиться с ним.
– Опять какой-нибудь Каракозов? – острит Nicolas.
– Нет, мой друг, это молодой человек – совсем-совсем одних мыслей с тобою. Он консерватор, il est connu comme tel известен как таковой, хотя всего только два года тому назад вышел из своего заведения. Вы понравитесь друг другу.
– Гм… можно!
Павел Денисыч Мангушев живет всего в десяти верстах от Персиановых, в прекраснейшей усадьбе, ни в чем не уступающей Перкалям. В ней все тенисто, прохладно, изобильно и привольно. Обширный каменный дом, густой, старинный сад, спускающийся террасой к реке, оранжереи, каменные службы, большой конный завод, и кругом – поля, поля и поля. Сам Мангушев – совершенно исковерканный молодой человек, какого только возможно представить себе в наше исковерканное всякими bons и mauvais principes хорошими и дурными принципами. время. Воспитание он получил то же самое, что и Nicolas, то есть те же «краткие начатки» нравственности и религии и то же бессознательно сложившееся убеждение, что человеческая раса разделяется на chevaliers и manants рыцарей и мужиков… Хотя между ними шесть лет разницы, но мысли у Мангушева такие же детские, как у Nicolas, и так же подернуты легким слоем разврата. Ни тот, ни другой не подозревают, что оба они – шалопаи; ни тот, ни другой не видят ничего вне того круга, которого содержание исчерпывается чищением ногтей, анализом покроя галстухов, пиджаков и брюк, оценкою кокоток, рысаков и т. д. Единственная разница между ними заключалась в том, что Nicolas готовил себя к дипломатической карьере, а Мангушев, par principe, из принципа. всему на свете предпочитал la vie de chateau жизнь в поместье… В последнее время у нас это уже не редкость. Прежде помещики поселялись в деревнях, потому что там дешевле и привольнее жить, потому что ни Катька, ни Машка, ни Палашка не смеют ни в чем отказать, потому что в поле есть заяц, в лесу – медведь, и т. д. Теперь поселяются в деревнях par principe, для того, чтоб сеять какие-то семена и поддерживать какие-то якобы права… Таким образом, если для Nicolas предстояло проводить в жизни шалопайство дипломатическое, то Мангушев уже два года сряду проводил шалопайство de la vie de chateau.
– Vous autres, gens de l'epee et de robe Вы, люди военные и чиновники., – обыкновенно выражался Мангушев, – вы должны администрировать, заботиться о казне, защищать государство от внешних врагов… que sais-je! Nous autres, chatelains, nous devons rester a notre poste! и прочее! Мы, помещики, должны оставаться на нашем посту! Мы должны наблюдать, чтоб здесь, на местах, взошли эти семена… Одним словом, чтоб эти краеугольные камни… vous concevez? понимаете?
Выражение «краеугольные камни» он как-то особенно подчеркивал и всегда останавливался на нем. Он покручивал свои усики, пристально поглядывал на своего собеседника и умолкал, вполне уверенный, что все, что надлежало сказать, уже высказано. В сущности же, «краеугольные камни», о которых здесь упоминалось, состояли в том, что Мангушев по утрам чистил себе ногти и примеривал галстухи, потом – ездил по соседям или принимал таковых у себя и, наконец, на ночь, зевая, выслушивал рапорты своих: chef de l'administration управляющего. и chef du haras заведующего конным заводом..
– Я, messieurs, не знаю, что такое скука! – выражался он, рассказывая об употреблении своего дня, – моя жизнь – это жизнь труда, забот и распоряжений. Nous autres, simples travailleurs de la civilisation, nous devons a nos descendants de leur transmettre intacts nos fortunes, nos droits et nos noms Мы, скромные работники на ниве цивилизации, должны передать нашим потомкам неприкосновенными наши владения, наши права и наши имена. (Ольга Сергеевна от него заразилась этой фразой, когда рекомендовала «куколке» заняться хозяйством). Поэтому наше место – на нашем посту. Вы, господа военные и господа дипломаты, – вы защищайте отечество и ведите переговоры. A nous – le role modeste des civilisateurs наш удел – скромная роль цивилизаторов… Мы сеем и способствуем прозябению посеянного. Я с утра уж принимаю рапорты, делаю распоряжения, осматриваю постройки, mes batisses, хожу на работы… И таким образом проходит целый трудовой день! У меня даже свой суд… Я здесь верховный судья! Все эти люди, которым нечего есть, все они приходят ко мне и у меня просят работы. Я могу дать, могу и отказать, – стало быть, я прав, говоря, что суд принадлежит мне. У меня нет ни одного безнравственного человека в услужении… parce que la morale, mon cher, – c'est mon cheval de bataille ибо мораль, мой милый, – мой боевой конь… Я каждому приходящему ко мне наниматься говорю: хорошо, но ты должен быть почтителен! И они почтительны. Все эти краеугольные камни… вы меня понимаете?
Дошедши до «краеугольных камней», Мангушев опять умолкал, считая свою миссию совершенно исполненною.
Nicolas и Мангушев сразу поняли друг друга, хотя последний принял первого с оттенком некоторого покровительства.
– Soyez le bienvenu! Добро пожаловать! – сказал он ему, – le descendant des Persianoff потомок Персиановых. всегда будет желанным гостем в доме Мангушевых. Мы, сельские дворяне, конечно, не можем доставить вам тех высоких наслаждений, к которым привыкли люди столиц, но и у нас найдется для Персианова и чарка доброго старого вина, и хороший кусок дымящегося ростбифа. Entrez, je vous prie Войдите, прошу вас..
Мангушев высказал это так серьезно, что Nicolas сразу почувствовал беспредельное благоговение к нему. Он был так щегольски и в то же время так просто одет, что Nicolas в своем мундирчике почувствовал себя как-то неловко (он в первый раз упрекнул себя, зачем надел мундир, и не послушался maman, которая советовала надеть легкий палевый костюм). В его воображении вставал совсем не тот золотушный, вертлявый и исковерканный Мангушев, который действительно ломался перед его глазами, а подлинный представитель той vie de chateau жизни в поместье., о которой он вычитал когда-то dans ces bons petits romans в милых романах., воспитывавших его юность. Целая картина быстро пронеслась в его воображении. Молодой лорд, рассевающий семена консерватизма, религии и нравственности; семейный очаг; длинные зимние вечера в старом, величественном замке; подъемные мосты; поля, занесенные снегом; охота на кабанов и серн; триктрак с сельским кюре; беседа за ужином с обильными возлияниями; общие молитвы с преданными седыми слугами, и затем крепкий, здоровый и безмятежный сон до утра… Одним словом, он совершенно позабыл, что находится в Глуповской губернии, где нет ни шато, ни кюре, играющих в триктрак, ни кабанов, ни консерватизма, ни религии, ни нравственности, а есть только высь да ширь, да бесконечно праздные и беспредельно болтающие Мангушевы.
– Et la sante de madame? Как здоровье мадам? – осведомился между тем Мангушев.
– Merci. Maman se porte tres bien.
– Oh! votre mere est une noble et sainte femme! Благодарю. Мама чувствует себя превосходно. – Ваша мать благородная и святая женщина!
Молодые люди вошли в кабинет и уселись на какой-то чрезвычайно мягкой и удобной мебели.
– Et maintenant, causons. Charles! vite un dejeuner et une bouteille de notre meilleur! А теперь поболтаем. Шарль! скорее завтрак и бутылку лучшего вина! – обратился Мангушев к расторопному малому, почтительно ожидавшему приказаний, – мсье Персианов! вы какое вино предпочитаете?
Nicolas вспыхнул, потому что до сих пор он сам еще не давал себе отчета относительно вина. Он неизменно душил шампанское, полагая, что дорогая его цена вполне достаточна, чтоб оправдать это предпочтение.
– Mais… le Champagne! Но… шампанское! – смущенно пролепетал он, все больше и больше краснея.
– Pardon! Мы будем пить шампанское en son temps et lieu в свое время и на своем месте. – надеюсь, что вы у меня обедаете? – а теперь… Charles! vous nous apporterez de ce petit Bordeaux… «Retour des Indes»… C'est tout ce qu'il nous faut pour le moment… n'est-ce pas, mon cher monsieur de Persianoff? Шарль! принесите нам бордо… «Возвращение из Индии»… Ничего другого нам сейчас не надо… не правда ли, дорогой господин Персианов?
Nicolas промычал в знак согласия.
– У меня в услужении все французы, – продолжал Мангушев, когда Шарль удалился, – и вам рекомендую то же сделать. Il n'y a rien comme un francais, pour servir Лучше француза слуги не найдешь… Наши русские более к полевым работам склонность чувствуют. Ils sont sales Они грязные… Но зато, в поле за сохой… c'est un charme! это восторг!
Затем, уже начинается собственно causerie болтовня..
– Ну-с, что нового в Петербурге?
– Mais… nous folichonnons, nous aimons, nous buvons sec! Да что ж, шалим, любим, выпиваем!
– Oh! cette bonne, brave jeunesse! Милая, славная молодежь! Мы, сельские дворяне, любуемся вами из нашего далека и шлем вам отсюда наши скромные пожелания. Вам трудно в настоящую минуту, messieurs, и мы понимаем это очень хорошо; но поверьте, что и наша задача тоже нелегка!
Мангушев останавливается, как будто собирается с мыслями.
– У нас нет поддержки! – наконец говорит он и опять умолкает.
Nicolas делает вид, что умеет, так сказать, читать между строк.
– On est trop bon la-bas! Там слишком мягкосердечны! – продолжает Мангушев, – нет спора, намерения прекрасны, но нет этой пылкости, этого натиска, чтобы разом покончить с гидрою! А мы… что же мы можем сделать с нашими маленькими, разрозненными усилиями? Мы можем только помогать по мере наших слабых сил… и сожалеть!
– N'est-ce pas? mais n'est-ce pas? – радуется Nicolas, – je le dis mille fois par jour, qu'on est trop bon pour cette canaille-la Не правда ли? не правда ли? я говорю тысячу раз на день, что правительство слишком мягко по отношению к этим негодяям!.
– Et vous avez raison И вы правы… Я день и ночь борюсь с этим злом… je ne fais que cela… я только это и делаю… И что ж! Я должен сознаться, что до сих пор все мои усилия были совершенно напрасны. Они проникают всюду! и в наши школы, и в наши молодые земские учреждения.
– Я уверен, что еще на днях видел здесь одного нигилиста, – восклицает Nicolas, – и если б не maman…
– Ah! nos dames! ce sont des anges de bonte et de douceur! Ах! наши дамы! это ангелы доброты и милосердия! Но надо сознаться, что они нам много портят в нашей святой миссии!
– Но я был неумолим, – лжет Nicolas, – я прямо сказал maman, что не желаю, чтоб в нашем селе процветали Каракозовы! И его уж нет!
– И хорошо сделали. Votre mere est une sainte Ваша мать святая., но потому-то именно она и не может судить этих людей, как они того заслуживают! Но даст бог, классическое образование превозможет, и тогда… Надеюсь, monsieur de Persianefi, что вы за классическое образование?
Nicolas надувается, как бы нечто соображая.
– Классицизм – этим все сказано, – продолжает между тем Мангушев, – это utile dulce, l'utile et le doux полезное с приятным. нашего доброго старого Горация. Скажу вам откровенно, monsieur de Persianoff, я никогда-никогда не скучаю. Как только я замечаю, что мне грустно, я сейчас же беру моего старика Гомера, и забываю все… С этой точки зрения иногда у меня даже нет сил ненавидеть этих нигилистов: я просто сожалею об них. У них нет этого наслаждения, которым пользуемся, например, мы с вами; ils ne comprennent pas la poesie du coeur! они не понимают поэзии сердца!
Nicolas глядит на Мангушева во все глаза и все больше и больше проникается благоговением к нему. А вместе с благоговением он проникается и потребностью лгать, лгать во что бы ни стало, лгать, не оставляя за собой ни прикрытия, ни возможности для отступления.
– Я сам… я очень люблю Гомера, но, признаюсь, впрочем, предпочитаю ему Виргилия. «Les Bucoliques» – tout est la! «Буколики» – в них все! Этим все сказано! – картавит он, самодовольно поворачиваясь в кресле и покручивая зачаток уса.
– Vraiment? В самом деле? вы любитель? Очень рад! очень рад! потому что в таком случае мы наверное сойдемся!
– Я еще в младшем курсе прочитал всего Корнелия Непота… Fichtre, quel style! Черт возьми, какой стиль!
– Oh, quant au style – c'est Eutrope qu'il faut lire! Ну, что касается стиля – Евтропий – вот кого следует читать! Эта деликатность, эта тонкость, эта законченность… и наконец, эта возвышенность… Надо прочесть самому, чтоб убедиться, что это такое!
Беседуя таким образом, новые друзья доврались наконец до того, что вытаращили глаза и стали в тупик. «Et Esope donc!» А Езоп? – начал было Nicolas, но остановился, потому что решительно позабыл, кто такой был Езоп и к какой он принадлежал нации.
– Ну-с, теперь мы позавтракаем! А после завтрака я вам покажу мой haras конный завод… Заранее предупреждаю, что ежели вы любитель, то увидите нечто весьма замечательное.
За завтраком Мангушев пытался было продолжать «серьезный» разговор, и стал развивать свои идеи насчет «прав» вообще и в особенности насчет тех из них, которые он называл «священными»; но когда дошла очередь до знаменитого «Retour des Indes», серьезность изменила характер и сосредоточилась исключительно на достоинстве вина. Мангушев вел себя в этом случае как совершеннейший знаток, с отличием прошедший весь курс наук у Дюссо, Бореля и Донона. Он следил глазами за движениями Шарля, разливавшего вино в стаканы, вертел свой стакан в обеих руках, как бы слегка согревая его, пил благородный напиток небольшими глотками и т. п. Nicolas, с своей стороны, старался ни в чем не отставать от своего друга: нюхал, смаковал губами, поднимал стакан к свету и проч.
– Mais savez-vous que c'est parfait! on sent le gout du raisin a un tel point, que c'est inconcevable! Но знаете ли, это совершенство! аромат винограда силен до такой степени, что просто непостижимо! – наконец произнес он восторженно.
– N'est-ce pas? Не правда ли? – не менее восторженно отозвался Мангушев, – ah! attendez! a diner je vais vous regaler d'un certain vin, dont vous me direz des nouvelles! ах! подождите! за обедом я вас угощу одним вином, и посмотрим, что вы о нем скажете! Затем разговор полился уж рекой.
– Я только раз в жизни пил подобное вино, – повествовал Мангушев, c'etait a Bordeaux, chez un nomme comte de Rubempre – un comte de l'Empire, s'il vous plait это было в Бордо, у некоего графа де Рюбампре графа эпохи Империи, изволите ли видеть. – га! это было винцо! И хоть я не очень-то долюбливаю этих comtes de l'Empire графов эпохи Империи., но это вино! Ah! ce vin! Ах! какое вино!
Мангушев развел руками, как бы давая понять, что дальше объяснять бесполезно. Nicolas сидел против него и завидовал.
– Я должен вам сказать, что судьба вообще баловала меня на этот счет. В другой раз, это было в Италии… в Сорренто, в Споленто – je ne sais plus lequel!.. не помню, где именно!.. Приходим мы в какую-то остерию. Ну, просто, в грязную остерию, вроде нашей харчевни… vous pouvez vous imaginer ce que c'est! вы можете себе представить, что это такое! Жарко, устали, хочется пить. Разумеется, сейчас: una fiasco dal vino! – «Si, signor» бутылку вина! – Хорошо, синьор. и т. д. И что ж бы вы думали! Мне, именно мне, подают бутылку d'un certain lacrima Christi… ah! mais c'etait quelque chose! знаменитые «слезы Христа»… ах! это было действительно нечто необыкновенное! Представьте себе, что это была одна бутылка, хранившаяся у хозяина в погребе несколько десятков лет! Et puis, c'etait fini А потом конец!. Ни прежде, ни после я подобного вина не пивал!
Nicolas завидует еще больше, но в то же время чувствует, что и ему следует вставить свое слово в разговор.
– On dit que ce sont les oranges qui sont excellents en Italie? Говорят, апельсины в Италии превосходны? – картавит он с важностью.
– Oh! quant aux oranges, il faut aller les manger a Messine Что касается апельсинов, нужно их есть в Мессине… Это все равно что груши, которые можно есть только на севере Франции. Везде это – груши, там – это божество!
– Et Naples! frutti di mare! А Неаполь! устрицы, креветки! восклицает Nicolas.
– Я ел их с утра до вечера и никогда не мог довольно насытиться. C'est tout dire. Mais vous n'avez pas l'idee de ce qu'on trouve a l'etranger en fait de vins et de comestibles.
Примечания
1
В Провене собирают розы и жасмин и много кое-чего другого…
(обратно)


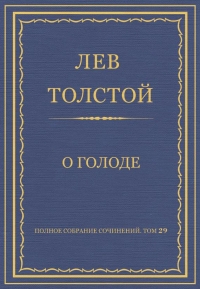
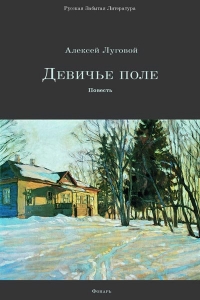
Комментарии к книге «Господа ташкентцы», Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин
Всего 0 комментариев