ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
I
Двадцать четвертого марта, предпразднество Благовещения, святых Иакова, Захария и Артемона, в доме Тропаревых двойной семейный праздник: — именины хозяина Якова Кронидовича и день рождения его жены — Валентины Петровны.
Валентина Петровна проснулась, как всегда, в девятом часу утра. Она лежала, не открывая глаз, постепенно переходя от сна к бодрствованию, вступая в день, полный хозяйственных забот.
Во сне играла музыка — хорошая примета. Большой, будто симфонический, оркестр… Какой-то совсем незнакомый Валентине Петровне марш… Очень звучный… В нем были торжественность Русского гимна и безпокойные вскрики Марсельезы… Он точно остался в ушах. Валентина Петровна пыталась вспомнить понравившийся ей мотив. Ловила его, крепче закрывая глаза, стараясь вернуть чары только что отлетевшего сладкого сна. — Не могла. Марш замер где-то в безконечной дали и исчез безвозвратно, навсегда, как исчезают сны.
Валентина Петровна вздохнула и открыла глаза. В щель неплотно задернутой тяжелой портьеры, сквозь занавес, мутное входило утро. Желтоватым светом была напоена штора вся в мелких сборках, и этот мягкий свет петербургского утра, еще с далеким, не поднявшимся над домами солнцем, точно осторожно, чтобы не обезпокоить хозяйку, вошел и разлился по всей спальне.
Совсем маленькая спальня, — и — такая уютная. В углу, у стены, противоположной окну, кровать красного дерева, в меру широкая, низкая и мягкая, мягкая. Три подушки — две под голову, третья сбоку, и неразлучная думка. Это она-то и навевает колдовские сны, звучит несказанно прекрасным оркестром и шлет к утру ясные мысли. Стеганое на пуху серебристо-серое одеяло лежит так нежно, точно в нем нет веса и так хорошо греет. В углу — иконы и лампада в малиновом стекле. Спаситель — им благословили их брак, Святой апостол Петр в старинном серебряном киоте, Казанская Божия Матерь с прекрасным Ликом, озаренным сиянием громадных глаз. Все те святые, кого Валентина Петровна помнит из еще не так давнего детства, когда вся ее жизнь была совсем иною, другие были мечты и другие люди ее окружали.
Она приподнялась на подушках и еще раз вздохнула. Теперь — тяжело.
Так вышло… Значит: — так Богу угодно. На все Его святая воля.
В головах красивая тумбочка с электрической лампочкой и книгами. В ногах низкое широкое настоящее кресло Александровских времен, вероятно еще крепостной столяр-резчик точил его. По выгнутым ножкам, все уменьшаясь, спускаются гирлянды хитро вырезанных роз. Оно обито сероватым рипсом с нежным розовым рисунком. Под ним пара туфель. Валентина Петровна с удовольствием посмотрела на них: — такие они маленькие, аппетитные, как ее ножки… На кресле мягкий, белый халат на нежном белом меху и название ему такое милое и зовущее — saut-dе-lit… Прелесть!..
Ковер во всю комнату, сероватый с нежным рисунком блеклых роз в зеленовато-голубых листьях. Туалетный столик с тройным зеркалом и целым набором хрустальных баночек, блюдечек, коробочек и пузырьков, перед ним уютное, низкое кресло… У окна в корзине — дышат ароматом нездешней весны гиацинты…
И тихо.
Так тихо, что слышно, как шумит пламя и потрескивают дрова в печи в столовой. Эта печь выходит задней, белым кафелем выложенной стеной с бронзовым отдушником в спальню, и от нее ровное льется тепло по всей комнате.
Хорошо!..
Этот уединенный, тихий и красивый комфорт и уют покоя дал Валентине Петровне ее муж Яков Кронидович, и ему она должна быть за все это благодарна…
Валентина Петровна поморщилась. Какое-то воспоминание провело легкую черту между бровей, легло темным облачком на большие серо-зеленые, как глубина северного моря глаза. Валентина Петровна надула мягкие губки, еще сухие от сна, и тихо выдохнула: — "пефф"…
… "Конечно, если нельзя без этого"…
Какой-то милый американец из посольства на веселом ужине говорил ей, пьяно смеясь, — "lе mouvеmеnt еst ridiculе, mais lе sеntimеnt еst agrеablе"…
Валентина Петровна этого не находила. Совсем не смешно, а просто тягостно, гадко и противно, и жаль за такого достойного человека, которого она всеми силами души старалась любить и кого все так уважают и почитают. И, когда на ее лицо и лоб лезла темная, курчавая и жесткая борода, — ей всегда казалось, что от нее пахнет трупом… И от этого было страшно, противно и тошно до ужаса… Она с трудом подавляла брезгливость…
Ей это даже не мерещилось… Если бы она могла не знать, забыть хотя на минуту страшную профессию мужа? — Он был член Медицинского Совета министерства Внутренних дел и прозектор… Еще недавно он в кругу друзей похвастал, что число вскрытых мертвых тел перевалило за тысячу…
Кошмар!.. Такие люди не должны жениться!..
От этого у них нет общей спальни. Этого она уже не могла. Это было выше ее сил… У него, на другом конце квартиры, по ту сторону коридора свой кабинет и спальня. Там висят его страшные халаты, лежат гуттаперчевые перчатки, книги, атласы, стоят банки с препаратами, и ведает всеми этими вещами, и прибирает там специально для того нанятый отставной солдат с кажущимся ей страшным и диким именем — Ермократ. От него определенно и всегда разит покойником.
Ведь есть же такие профессии! Избрал же ее Яков Кронидович такой труд и говорит, что он неплохо кормит… Таким людям надо жениться на курсистках, не брезгающих этим и не боящихся трупов.
Валентина Петровна сладко потянулась. Набежавшее облачко слетело с ясного лба, прикрытого кружевом белого чепца, губы распрямились, в углу рта легло подобие улыбки. Она вспомнила другое. Тоненькие пальчики перебрали по краю одеяла. Мизинец отделился, согнулся крючком и с силой ударил по сероватому шелку. Еще и еще раз… Да… так…
…Здесь после соло скрипки, — играть будет сам Обри! — вступит виолончель Якова Кронидовича, а она своим роялем даст полную силу оркестра.
"Что же она?.. Ведь уже девять часов скоро!.. А она лежит… Когда такая уйма дела!.."
Левая рука привычным движением скользнула по обоям, туда, где, как бы повешенная на натянутых двух белых проволоках, была прикреплена круглая холодная кнопка из бледно-розового орлеца.
Валентина Петровна надавила кнопку, и сейчас же радостный визг и нетерпеливое топотание раздались за дверью спальни.
Это ее Ди-ди.
II
Диди — палевого окраса крупная левретка «уипет» ворвалась, опережая горничную и кинулась к лицу и рукам Валентины Петровны. Все гибкое, стройное тело собаки извивалось змеею. Она то припадала, почти ложилась на передние лапы, то, выпрямляясь, вскакивала, клала лапы на постель у подушек и тянулась тонким красивым щипцом к рукам хозяйки. Большие, блестящие, как два черные бриллианта, глаза казалось, говорили, высказывая все ее собачье обожание и преданность.
Таня, молоденькая, стройная девушка, в черном платье, с белым, отделанным кружевом передником, в белом чепце на светло-каштановых волосах, ловко подвинула к постели легкий столик и устанавливала на нем кофейный прибор и чашку.
— Яков Кронидович дома?.. Оставь! Диди! Ну будет… Couchе!.. Тихо!.. — радостно и оживленно говорила Валентина Петровна.
— Барин еще в семь часов уехали. Темно совсем было. Получили какую-то телеграмму… Сказали: вернутся только к обеду… С днем рождения и именинником позвольте проздравить вас, барыня! Сто лет жить. Богатой быть.
"Опять на вскрытие", — подумала Валентина Петровна, и Таня по омрачившемуся ее лицу точно угадала ее мысли.
— Никак нет… Ермократа Аполлоновича с собою не брали-с… И поехали безо всего.
— Спасибо, милая Таня. Какая погода?
— Солнышко, и тает… Таково-то весело!.. Кабы да завтра такая же!.. Тогда и на Пасху хорошо будет. Завсегда так, — какая погода на Благовещение, такая и на Светло-Христов праздник.
— Раздвинь портьеры, Таня…
Помешивая маленькой серебряной ложечкой темный кофе в чашке с золотым ободком, Валентина Петровна следила за гибкими, ловкими движениями Тани.
Свет точно ожидал за портьерой. Он вошел ровный и золотистый. Солнце бросило оранжевые квадраты на складки шторы.
— Таково-то весело! — повторила Таня. — Воробьи так и кричат, так и щебечут… Одевайтесь скорее, барыня. До гостей покатались бы… Прикажете письма подать?
— А много?
Таня, привезенная Валентиной Петровной из дома отца, где она выросла почти подругой своей барышни, входившая во все интересы госпожи, радостно отозвалась:
— Цельная куча!.. И телеграммов очинно даже много.
— Давай, я посмотрю за кофе.
Диди улеглась в кресле подле saut-dе-lit, уткнув умную мордочку между лапок и косила темным глазом на хозяйку. Поднимая мягкое в легких шелковистых складках ухо, она точно слушала, что та говорит.
Сев на постели, Валентина Петровна, небольшим костяным японским ножом с изображением обезьянки, проворно вскрывала телеграммы и письма.
Все поздравительные!
"Смотрите — и этот даже вспомнил!..", — улыбнулась Валентина Петровна. — Вся дивизия ее отца, из далекого Захолустного Штаба, с берегов прихотливо извивающейся Лабуньки, то целыми полками и батареями, то единолично поздравляла дорогую новорожденную. Это было приятно. Не забыли ее тенниса, прогулок верхом, зорь с церемонией, балов и вечеров — помнят Алечку Лоссовскую! — Мило!
Валентина Петровна показала Тане красивую от руки писанную акварелью открытку.
— Нашего уланского полка трубач!.. Как ловко сделан!.. Ну совсем, как живой! Ротмистр Павлович, что-ль рисовали?
Валентина Петровна, молча, кивнула головою.
— Они умеют… Настоящие артисты!..
Таня взяла столик и поднос.
— Будете одеваться, барыня?
— Да, сейчас.
Валентина Петровна вскрыла конвертик телеграммы. Кусочек желтоватой бумаги с наклеенными строчками буквенного телеграфа. Ее глаза широко раскрылись. "Вот так — так!.."
…"К сожалению буду одна. Александр ввиду завтрашнего праздника занят. Саблина".
И другая.
"Сережа не может. Заседание совете".
"Но ведь это что же"? — подумала Валентина Петровна. "Значит, нас будет… тринадцать!.. Тринадцать в день моего рождения, в день ангела Якова Кронидовича!.. Как-же это так?.."
Она стала перебирать, загибая маленькие пальчики. "Нас двое… Портос"…
На щеки лег легкий румянец милого смущения.
"Портос…Стасский, генерал Полуянов, Обри, Тверская с Андреем Андреевичем, Лидочка Скачкова с мужем, Вера, Панченко и Саблина — тринадцать! Надо кого-нибудь прибавить… Легко сказать теперь прибавить, когда это канун Благовещения и пятая неделя Великого Поста…Или убавить?.. Десять гостей!.. Жидко… весь концерт пропадет… И кого, и как убавить? Ее вечера, вечера Валентины Петровны совсем особенные. Это не банальные петербургские вечера с винтом, с «теткой», или где повыше, этим новомодным бриджем. У нее карт не бывает — и все довольны. Каждый гость у нее — имя!.. Кого убавить, да и как? Сказать не приезжайте, пожалуйста, вы тринадцатый… Но почему, скажет, или подумает гость, я, а никто другой — тринадцатый?.."
Ум Валентины Петровны работал быстро, давая оценку приглашенным гостям.
"Стасского?.. Упаси Боже!.. Врага наживешь!.. Такой злой язык… Никак нельзя… Весь концерт для него. Почтенный старик, всеми уважаемый музыкальный критик. Философ… друг недавно умершего графа Льва Николаевича Толстого!.. Правда — циник, атеист… Ей-то что до его убеждений!.. Какой умный!.. И какой прекрасный партнер ее мужу в спорах на высокие темы. Конечно, он украшение ее вечера… И генерала Полуянова нельзя… Она ему еще сейчас позвонит, чтобы напомнить о вечере. Кто же другой умеет так восхищаться ею, ее игрой, как не милейший Иван Андреевич, в чьих глазах всегда такими блестящими огоньками играют лукавые искорки!.. Обри — скрипач — необходим для их трио, которым они заменят целый оркестр… Тверская? Певица", — Валентина Петровна мило улыбнулась, точно вспомнила о чем-то очень приятном и радостном.
"Ну как же можно без нее!.. Вот, если бы освободиться от ее Андрея Андреевича?.. Странно — она даже его фамилии не знает. Сутуловатый, черный, весь заросший, в очках… Говорят: — с духами знается… и аккомпанирует, как бог!.. Конечно, она могла бы аккомпанировать Надежде Алексеевне, но Тверская как-то сказала, что хорошие пианисты всегда плохие аккомпаниаторы, они думают об игре, а не о голосе певицы… И она всегда с ним… Попросить Лидочку Скачкову приехать без мужа? Он всегда скучает при музыке. Сидит в углу кулем. Играет портупеей и любуется на свои краповые рейтузы… Но как бы Лидочка не обиделась?.. И она не любит ездить одна без своего солдафона… Вера Васильевна? — Самая красивая головка Петербурга. Личико Мадонны"…
Валентина Петровна точно увидала у себя в гостиной на диване точеную головку генеральши Барковой, в черных волосах в блестящих переливах ондуляции артистической прически, и ее лучистые светло-голубые глаза. Умопомрачительный всегда туалет… На широкой груди жемчужное ожерелье, в ушах бриллианты — картина Греза.
"Нельзя… И Панченко нельзя. Без него пропадет интерес споров между Стасским и ее Яковом Кронидовичем… Вера Константиновна?.. Невозможно!..".
Оставался Портос — штабс-капитан Владимир Николаевич Багренев, осколочек милого детства, что протекало в Захолустном Штабе. Его было проще всего по старой дружбе попросить не быть вечером… Но…
Как был бы сер, уныл и скучен день ее рождения и ее вечер без милого Портоса.
"Тринадцать?.. А, может быть, набежит "на огонек" и кто-нибудь четырнадцатый… может быть, кто-нибудь не приедет, или освободится Саблин, не поедет на заседание Барков?.."
Все равно… Пора вставать. А там, что Бог даст!
Указательный пальчик правой руки с кольцом с тремя крупными жемчужинами выразительно показал на пол, а совсем уже проснувшиеся и озабоченные глазки посмотрели на уютно свернувшуюся в кресле клубком собаку. С кресла послышалось протестующее ворчание. Очень впрочем нежное, похожее на голубиное воркование. Золотисто-рыжая завеса густых шелковистых ресничек приподнялась, и милый глаз скосил на хозяйку. Точно сказал: — "еще немножечко… Здесь так хорошо!"
— Ну-с!..
Глаза собаки раскрылись и смотрели на Валентину Петровну с немым упреком и мольбой.
— Надо, Диди!
Собака мягко спрыгнула на пол и вытянулась у постели. Гибким движением Валентина Петровна очутилась подле кресла, туфельки сами налезали на ее крошечные ножки и халатик оказался на плечах. Валентина Петровна тряхнула головкой, откидывая вьющуюся золотую прядку белокурых волос от глаза, и решительно отворила маленькую узкую дверку. Правая рука повернула штепсель, и ярко осветился блестящий аппарат городского телефона.
III
Пальчик с жемчужным кольцом давил кнопку "А".
— Барышня!.. милая барышня, двадцать три, пятьдесят два, парикмахерская Шарль, — молила Валентина Петровна.
Голые ножки под щекочущей лаской меха халатика нетерпеливо пожимались. Диди сидела подле и серьезно смотрела на телефон, точно и она ожидала ответа. Валентина Петровна боялась услышать скучающе-сонное и безразличное — "занято"…
Правая рука прижимала трубку к розовому ушку. Золотистая прядка упрямо лезла на лоб. Наконец, Валентина Петровна услышала быстрый вопрос: — "парикмахерская Шарль?"…
— Мосье Николя может причесать и завить… сегодня… да… госпожа Тропарева…
Она не любила свою фамилию.
— От часу до двух… Хорошо… Только не задержите.
Валентина Петровна повесила трубку и ждала, когда ее разъединят. Слегка нагнувшись, она ласкала собаку. Сняла трубку, но все отвечала парикмахерская Шарля… Несносные барышни не разъединили телефона. Валентина Петровна подождала еще, надавила кнопку.
— Двенадцать, восемьдесят шесть, кондитерская Де-Гурме.
Было занято… От нечего делать позвонила Скачковой.
— Лидочка ты?.. Ты не в постели?.. Какой даже в телефоне твой голос свежий… Не забудешь?.. К девяти… Не опаздывай… Ну вот еще… Я про ноты не говорила… Мне тебя надо… Какая ты!.. Николай Петрович будет?.. Ах, я так рада!..
Теперь освободилась и кондитерская. Валентина Петровна напомнила, чтобы мороженое прислали ровно к двенадцати и в кадке со льдом. Мужик подождет… Сливочное, фисташковое и земляничное…
От телефона, все также в халатике, сопровождаемая Диди, шествующей с выгнутой спиной на эластичных лапках с тонким поджатым крючком хвостом, Валентина Петровна прошла на кухню.
В ней было чисто, светло и прохладно. Большая прямоугольная плита под черным пароотводным навесом еще не топилась. У дверцы ее, на железном листе лежали швырковые, березовые дрова. От них пахло лесом, мохом и грибом. Этот запах напомнил Валентине Петровне детство и Лабуньские леса. Диди внимательно обнюхивала полена.
Кухарка Марья, толстая, аппетитная женщина в чепце на седых волосах поднялась с табурета навстречу барыне.
— Поздравляю, барыня, с днем рождения, — сказала она и, отодвинувшись от стола, показала Валентине Петровне свои утренние покупки.
На доске лежал прекрасный большой Ладожский лосось. Марья колупнула его серебристую в розовых пятнышках спину и сказала:
— Живого взяла. При мне и убили… У Романовых… Такой лосось!.. Только бы мне не испортить…
Серый дымчатый кот Топи, персидской породы, поздоровавшись с Диди, подошел к Валентине Петровне и, раскинув хвост панашом кверху, нежно терся о ее ноги.
— А рябчики?
— И рябчиков купила.
Марья подвинула корзину, где лежали серыми грудками кверху пушистые птички и с ними кочаны молодого, бледного хрупкого салата.
Все в хозяйстве шло хорошо и точно, как выверенные часы, само собою.
Когда Валентина Петровна вошла обратно в спальню, Таня уже кончала уборку. Свежий морозный воздух клубами пара врывался в раскрытую форточку. В комнате было холодно и еще нежнее пахло гиацинтами. На небольшом диванчике Таня разложила хорошенький «taillеur» и подле поставила башмаки для выхода.
IV
Дела было много. Но в этот день сознание, что сегодня — ее рождение, ее праздник, что там, где она родилась и выросла, ее не забыли — это говорила ей горка сердечных, милых, ласковых и нежных писем и телеграмм — точно окрыляло Валентину Петровну. Все ладилось. Все делалось само собою.
Она отправилась пешком — совсем недалеко от них — во Владимирскую церковь и в большой заказной просвире дала вынуть за здравие Иакова и Валентины.
Она стояла в большом белом храме, переполненном великопостными молящимися, — был четверг и много было причащавшихся, — следила за службой, молилась, и временами точно уносилась в свою, так привычную, гарнизонную церковь Захолустного Штаба. За садом, перейти маленькую, всегда пустую уличку и будет церковное крыльцо. Наверх по каменной лестнице и там в двусветном зале церковь их Старо-Пебальгского, тогда драгунского — теперь уже четыре года уланского полка. Ей было приятно сознавать, что там сейчас тоже идет служба и старенький отец Георгий — служили без диакона — будет особо поминать ее. В церкви — не здесь, а там — говеет очередной эскадрон. Ей казалось, что она слышит мягкое позванивание шпор переминающихся с ноги на ногу солдат и их сухой, отрывистый кашель. И так же, как и тут выйдет с блюдцем записочек отец Георгий и первою станет на память вычитывать: — о здравии Петра, Марии, Валентины и Иакова… Так же, как и здесь. Точно вместе молилась она с папочкой и мамочкой и не было тысячи верст, что разделяли их. Там поди — уже весна. В саду верба в золотом цвету, орешник выбросил нежные, дрожащие сережки и девочки польки у входа в церковь продают душистые фиалки. Там было просторно. Она стояла на особо огороженном месте и покойно и чинно шло Богослужение. Здесь давились в толпе. Кто-то похлопал ее по плечу свечкой и сиплым голосом сказал: "Божией Матери". Это развлекало и разсеивало. Она боялась пропустить свою записку. Уже читали — "о здравии". Начались знакомые имена.
"Петра" — она перекрестилась. За папочку.
"Марии" — вздохнула. "Мамунечка милая, ты там за меня, я за тебя".
"Иакова, Валентины и Владимира".
Валентина Петровна низко опустила голову. Румянец залил ее щеки и подошел к ушам. Жарко и душно было в церкви. Милый образ Портоса встал перед глазами. Темные нежные усы… "Владимира"…Она вздохнула. Детская любовь… Там, в Захолустном Штабе, этого имени не прочтут… Там не знают… Здесь — знает она одна.
"Господи, прости меня".
И ясными глазами посмотрела на закрытые Царские врата. Ничего же и нет. Так… Глупость одна. Институтская глупость — помолиться за милого человека.
Наскоро позавтракав дома, Валентина Петровна поехала на Морскую в парикмахерскую Шарля, и в половине третьего в нарядной, блестящей прическе, красивыми волнами поднимавшейся над лбом, змейками, колечками, завитками спускавшейся к бровям и закрывавшей уши с большими жемчужинами в мочках, со спрятанным на затылке, переливавшим золотом узлом, отягчавшим голову и придававшим Валентине Петровне гордый вид, немного усталая, но довольная красотою волос и восхищением ими завивавшего ее парикмахера мосье Николя — вернулась домой.
— Теперь уже до самого вечера ни прилечь, ни порезвиться с собакой! Растреплешься!.. Слышишь Диди. Слышите мистер Топи!.. Вашим бархатным лапкам строжайше воспрещается прикасаться к моей голове!..
Разрумянившаяся от мороза, оживленная, веселая, нарядная и довольная, она вошла в гостиную.
"Ну, конечно!.."
Громадный и, должно быть, очень дорогой куст пунцовой, необычайного цвета, азалии стоял на столике перед зеркалом.
"Зачем!?.. Все это только напрасно возбуждает ревность и подозрения… Подчеркивает то, чего нет… Неисправим!.."
И не в силах удержать счастливой и довольной улыбки, Валентина Петровна подошла к цветку и с ласковою нежностью опустила пылающее лицо в холодные, влажные лепестки. Чуть слышный, оранжерейный запах коснулся ее.
Она отцепила красную ленту. Ни записки… Ни карточки…Все равно…Все знают…И Таня, и Яков Кронидович. Шила в мешке не утаишь!
Она вспыхнула и пожала плечами.
"Какое же шило!.. Просто… нравится… Детьми играли вместе… Ну… любит… Я-то тут причем!"
Она гордо выпрямилась и мельком взглянула в зеркало. Хороша!.. Пошла в столовую. В это время на парадной лестнице позвонили. Валентина Петровна остановилась в дверях и дожидалась доклада Тани.
Горничная вошла, улыбаясь, с большою коробкою конфет, перевязанною золотистою тесьмою. Она дала коробку и сказала, едва сдерживая смех.
— Угадайте, барыня?
— Ну? — подняла брови Валентина Петровна.
— Никак не угадаете. Вот уже подлинно счастливый день… Кого Бог-то на шапку послал!..
— Да, кто же?.. Отчего не попросила?
— Сейчас войдут… Красоту наводят. — Таня совсем рассмеялась. — Да вы коробку-то разверните — сейчас и угадаете…
Валентина Петровна сорвала бумагу. Блестящая лаком, пестрая картинка — гора фруктов на фоне синего моря и синего неба бросилась ей в глаза.
— Абрикосовские глазированные фрукты, — воскликнула она, — что же, Таня, неужели?.. Петрик?..
— Он самый, собственной персоной, раздался в дверях радостно-смущенный голос, — честь имею явиться госпоже нашей начальнице и поздравить ее с пресветлым днем ее рождения.
Высокого роста, худощавый, стройный офицер в скромном драгунском мундире с желтыми кантами стоял у порога гостиной. Левую руку с фуражкой с желтым верхом он держал на эфесе сабли, правую протягивал Валентине Петровне. Серые большие глаза по-детски открыто смотрели прямо в глаза Валентине Петровне.
— Петрик!.. И вам не стыдно!..
Она протянула руку для поцелуя и ласково поцеловала его в лоб.
— Быть два года в Петербурге!.. И только теперь вспомнить свою королевну!
— Во-первых, божественная, госпожа наша начальница…
— Не говорите, Петрик, во-первых… У вас никогда не бывает во-вторых… Стыдно… Почему вы скрывались?
— Такие были обстоятельства, госпожа наша начальница.
— Знаю я ваши обстоятельства! Старая любовь не ржавеет… Ну, спасибо… А я уже думала: заржавела ваша любовь, мой храбрый Атос… Совсем вы забыли меня и знать не хотите королевну сказки Захолустного Штаба!..
— Я, божественная…
— Ну, садитесь… Ах, как хорошо, что вы пришли. Вы меня выручили… Теперь вы мой пленник… До самого вечера… И не отпущу… Боюсь, сбежите!
V
Валентина Петровна дружески, с сердечным порывом протянула обе руки Петрику. Он взял их и они стояли так друг против друга, внимательно вглядываясь один другому в глаза. Точно хотели все узнать, все вычитать один у другого в глазах. Она бросила его руки.
— Все такой же… Как семь лет тому назад, когда последний раз корнетом вы приезжали к нам. Разве выросли чуть-чуть… И усы!.. Помните, как вы огорчались, что у вас все не росли усы?.. Штаб-ротмистр уже! Боже, как время-то летит… И я уже старухой стала. А помните?.. Как вы мне предложение делали? Вам было… Что?.. Вы юнкером были?.. Я в куклы еще играла… Так, по совести… почему не заглянули ко мне раньше?
— Откровенно говоря… боялся, госпожа наша начальница…
— Боялись… Да ведь я замужем!.. Теперь что же?.. Кончено… И вы… в холостом полку… Это у вас написано в полковом садике: — собакам, нижним чинам и дамам вход воспрещается.
— Анекдот, госпожа наша начальница… И про нижних чинов неправда.
— Однако у вас, кто женится, покидает полк, мне Портос рассказывал.
— Истинная правда-с… так лучше. Нет ссор.
— Будто?.. Ну хотя бы мне написали.
— Божественная… Вы же знаете! Литература и я никогда не ночевали вместе.
— Писать письма — литература… И все сочиняете на себя… А стишки?
— Только если про лошадей, госпожа наша начальница. И то карандашом. В моей чернильнице, если запустить туда пером…
— Запустить пером! — ужаснулась Валентина Петровна.
— Только муха вылетит-с… Живая муха.
— Ну, а сегодня, вы все-таки рискнули?
— Уже день-то какой особенный. Помните в Захолустном Штабе… Мы всегда отпрашивались на Благовещенье из корпуса днем раньше… И прямо к вам… А у вас — весна!
— Фиалки!
— Верхом катались… Вы на Еруслане… Мне, Портосу и Долле из трубаческой команды давали лошадей. И как! Как это было хорошо!..
— А странно… Ни к вам, ни к Долле не пристали имена мушкетеров, только к одному Портосу. Вот Портос и даже Долле меня не забыли. Один вы. Фу… Какой гадкий… А прежде… Тоже… стихи!
— Чужие, божественная.
— Все равно… Любовные…
Они сидели в креслах в гостиной, разделенные круглым столом под скатертью.
— А ну, прочтите те… Ваши любимые… Что всегда мне читали…
— Приказываете, госпожа наша начальница?
— Приказываю, мой верный мушкетер.
Ей с Петриком казалось, что они опять дети. Он кадет. Она девочка, дочь командира полка. И так хорошо и неопасно с ним играть.
Петрик встал и с чувством не без драматического комизма продекламировал:
— Вы замундштучили меня И полным вьюком оседлали, И как ремонтного коня Меня к себе на корду взяли! Повсюду слышу голос ваш, В сигналах вас припоминаю, И часто — вместо "рысью марш" Я ваше имя повторяю. Несу вам исповедь мою, Мой ангел, я вам рапортую, Что вас я более люблю, Чем пунш и лошадь верховую!..— Ой-ли!.. Было бы так… Не пропали бы без вести семь лет.
— В холостом полку, божественная… И вы замужем…
Она вздохнула.
— Да, конечно, — тихо сказала она. — Может быть, вы и правы… Но я все-таки никогда не поверю, Петрик, чтобы вы… Таким уже монахом жили… Да, постойте, постойте… Ведь я про вас что-то знаю… Да, да, да… Господин "холостой полк"… А, нигилисточка?
Петрик, что называется — рака спек. Так покраснел, что даже лоб стал красный.
— По-па-лись…
— Портос!.. — сказал он… — Этакий сплетник!.. Ну что нигилисточка?.. Это только приключение. Забавное приключение. И притом-же — по пьяному делу…Просто анекдот!..
— Рассказывайте… А покраснели-то как! О вас папироску теперь закуривать можно..
— Ничего подобного… Да я вам расскажу… Если хотите.
— Нет уж, пожалуйста… Если это ваши холостые гадости — и не рассказывайте… Не надо.
— Да повторяю… Ничего подобного… Просто — забавное приключение. Можно рассказать все, ибо все очень прилично "для курящих".
— Хорошо… Так как вы мой арестант и до самого вечера, то я слушаю. Но прежде нам Таня подаст чая.
Она позвонила.
— А Таня совсем и не переменилась. Как в Захолустном Штабе, так и здесь.
— Здесь еще лучше. Она здесь, как мой друг. — Вы с чем чай? С лимоном, или со сливками?
— Если от бешеной коровы, то разрешите со сливками.
— Таня, — сказала Валентина Петровна вошедшей горничной, — подайте сюда чаю и коньяку.
— И рома, — сказал Петрик, подмигивая Тане, — как подавалось у генерала Лоссовского.
Валентина Петровна погрозила пальчиком с жемчужным колечком. Таня весело фыркнула и пошла за чайным прибором.
VI
От душистого рома, налитого в горячий чай, сладко пахло. В углу, в камине уютно потрескивали разгоревшиеся дрова. В гостиную входили сумерки. Валентина Петровна взялась рукою за штепсель.
— Не зажигай огня!.. Не разгоняй мечты! — шутливо, приятным голосом пропел Петрик.
— Будет вам, — засмеялась Валентина Петровна, — я вся внимание. Сядемте к камину.
Петрик подвинул кресло, она глубоко уселась в него. Диди прыгнула ей на колени и свернулась клубком. Петрик сел против нее на низком пуфе.
— Итак, — сказала Валентина Петровна.
— Итак… Случалось ли вам, что вас вдруг охватит неудержимое любопытство? Хочется знать все о ближнем своем. Да и не только о ближнем, но и о дальнем. Очень даже дальнем… Постороннем… Вот сидим мы с вами. Золотая головка ваша в двух аршинах от меня, чудные глазки внимательно прищурены, а что в ней? Что вы думаете? Знаю ли я?
— Может быть, так лучше, Петрик?
— Может быть… Однако, нашло на меня такое настроение — все хочу знать. Сижу с Портосом в театре. Там драма идет. Рощина-Инсарова мне всю душу переворачивает, а я думаю, — а что ты такое? Как и где живешь? Что сейчас думаешь, чем увлечена? В антракте передо мною — лысина. Пол-аршина в диаметре. Гладкая, розовая, аппетитная, точно свиной кожей покрытая. А я думаю, что за Бисмарк скрывается под этим обтянутым кожей черепом? Какие константные эксибиции секулярных новаторов тенденции коминерации копошатся там? Профессор, академик, ученый, банкир, может быть фран-масон какой, черт его знает, кто там и о чем думает. И, порывает меня, божественная, знаете, пальцем этак щелкнуть по темячку и послушать, как звенит.
— Петрик!
— А вдруг там вместо трансцендентной философии этакая детская песенка играет: — "бим-бом, бим-бом, зогорелся кошкин дом… Бежит курица с ведром…"
— Придумаете тоже… Совсем кадет…Ребенок…
— И дальше хуже. Из театра к Кюба… Три бутылки шампитра вдвоем вылакали, ресторан закрывают, а мы разошлись только.
— И Портос!?..
— Ну, Портос так только пригубливал. Больше я.
— Какой срам!
— Покаяние, божественная, все очищает. Перешли в отдельный кабинет. Там до трех часов можно. Сидим, потребовали — "Monahorum Bеnеdictinorum", его же и монахи приемлют — а я философию свою развиваю, не хуже Шопенгауера.
— Вы Шопенгауера читали?
— Чего, госпожа наша начальница, со скуки не прочитаешь. И вот, говорю я Портосу: — Знаешь, Портос, ничего этого нет. Все это мне кажется. И тебя нет, и лакея со счетом нет — все мое представление. Плати, Портос, ты, а я… — ты мое воображение.
— Разве хорошо так много пить?
— Да, дербалызнул я тогда основательно… По-драгунски… Линия такая вышла… Да ведь день-то какой был! 10-го февраля…
Валентина Петровна смутилась и покраснела до слез. Но в гостиной было темно и Петрик этого не заметил.
— Вместо того, чтобы честно придти ко мне и поздравить меня с днем ангела, вы пьянствовали с Портосом!
— Честно, госпожа наша начальница, я тогда не мог придти к вам… Я все еще не примирился с мыслью… что вы… замужем…
— Петрик… Бросьте… Ну дальше…
— Дальше что… Ну пьян был, как дым. Вышел с Портосом и пошли пешком на набережную.
— В третьем часу утра!
— В четвертом, божественная!.. Идем мимо Зимнего Дворца. Такая чудная ночь. Тихо. Звезды сияют. Мороз, и по самой Неве чуть шуршит поземка, точно тени какие-то несутся. Нигде ни огонька в окнах. Спит Северная Пальмира. Пустыня — внемлет Богу… как это у Лермонтова что-ль? У ворот в тулупах свернулись дворники, городовые похаживают на перекрестках, башлыками укутались и идем мы двое: — Портос и Атос к какому-то приключению — два мушкетера… И вдруг, вижу я, на том берегу, на Мытной набережной, в пятом этаже, красным огнем окно светится. Сидит кто-то там и не спит. Кто он? Что он? Фальшивые деньги делает, прокламации печатает, или студент зубрила сидит над литографированными записками и зубрит. И понял я, что не могу… Я должен знать, кто это там? Чья жизнь бьется среди ночи. — «Пойдем» — крикнул я Портосу, — "и узнаем, что за человек не спит ночью… А можете быть, там самоубийца к смерти готовится и мы его из петли вынем… А? — Портос?.. Спасем человеческую душу. Все грехи простятся…" О, хитрый этот Портос, посмотрел внимательно и говорит: — «Идем»… Ускорил я ход. По дощатому скользкому переходу перебежали мы Неву и подошли к дому. Теперь нам было видно, штора белая опущена и за нею ярко горит, должно быть, лампа под красным абажуром. По парадному ходу и думать нечего идти — швейцар не пустит. В воротах калитка открыта и дворник спит подле крепчайшим сном. Мы скользнули как тени. Сюда… Налево… В угол… Толкнули дверь… Тьма кромешная. Железные перила ледком покрыты. Пахнет кошками.
— Ужас какой! Да что с вами было?
— Прямо сумасшествие. Хочу знать, кто, что, почему и почему-то мысль, что мы спасем непременно человека, меня подхлестывает. Я иду впереди, Портос за мною. Прошли ощупью три этажа. В окна небо видать. Звезды… Тихо. Весь дом спит. Даже жутко стало. Портос шепчет сзади: — "брось… Выскочит на тебя какой-нибудь студиозус оголтелый — скандал будет". — «Молчи», — говорю я. Лезу дальше… Пятый этаж…. Медная ручка звонка. Я позвонил…
— Нет, Петрик… Это невозможно, что вы делаете.
— Слышу: задребезжал звонок — и все тихо. Я позвонил еще. За дверью легкие шаги. Щелкнул штепсель. Кто-то осторожно снял крюк и на фоне ярко освещенной маленькой кухоньки появилась высокая стройная девушка в длинном платье в складках — каком, я право не разобрал. Темная шатенка с чуть веющимися спереди волосами, сзади завязанными тугим узлом. Она внимательно посмотрела на меня и в глазах ее я прочел испуг. Мне стало неловко, но отступать было уже поздно.
— Простите, — сказал я. — Это у вас горит лампа под красным абажуром? — Сознаюсь, глупый вопрос, но другого тогда я придумать не мог.
— У меня.
Она сказала это спокойно и отступила вглубь кухни. Я шагнул за нею.
— Мы очень хотели бы знать… — начал я. Я напрасно сказал: «мы». Портос исчез, и я слышал только стук его шагов уже двумя этажами ниже. — «Мы» — это был «я» один.
— Войдите, пожалуйста, — сказала она, бледнея, и пошла вглубь квартиры.
Я пошел за нею. Я понял: — она приняла меня за жандармского офицера.
Квартира была очень маленькая. Сейчас за кухней, холодной и пустой, где, вероятно, не готовили, была комната с красной лампой. Широкая тахта с мутаками, маленький столик и на нем книги. У окна с тонкою шторою письменный стол, на нем лампа, книги и тетради.
— Вы меня, ради Бога, извините, — сказал я, стоя в пальто посередине комнаты. Помню — и ковер был в ней, и в открытую дверь была видна другая темная комната. Кажется, теперь я был смущен больше ее.
— Но вы могли так Бог знает куда попасть, — сказала Валентина Петровна.
— Мог, госпожа наша начальница, — кротко сказал Петрик.
— Она могла быть… такой… — Валентина Петровна замялась и смутилась.
— Она не походила на такую…
— Ну, а, если и правда, — она нигилистка! В какую историю могли вы попасть!
— Мог, госпожа наша начальница, — очень даже мог и могу еще.
— Ну, дальше?
— Знаете, как змея колдует свою жертву — вот так и она. Два темных глаза и в них испуг, негодование и ненависть… Даже жутко стало. — "Что вам угодно?" — сказала она. Очень сурово и сухо. Потом, видя мое смущение, добавила: — "по какому делу вы ворвались ко мне ночью, господин офицер".
— "Вот это — господин офицер" — меня всего перевернуло. Я сразу понял, сколь опрометчиво, глупо и гадко я поступил и как мерзок мой поступок… Но, госпожа наша начальница, я памятовал, что брошенный в атаку эскадрон ни повернуть, ни остановиться не может, и я стал все объяснять. И с места:
— "Вы читали Шопенгауера?.." Она была огорошена.
— "Читала", — сказала она. А я ей все, все мои мысли, и ее красную лампу и мысли, что тут самоубийца, что я спасу, о, госпожа наша начальница, в эти минуты Цицерон, Кони и Плевако были мальчишки и щенки в сравнений со мною. Так был я красноречив… Да и она была очень хороша и неизвестна. Я именно нашел то, чем мучился весь вечер — я вскрывал чужой череп и узнавал чужую жизнь.
— Я не думала, Петрик, что вы такой бедовый… и неверный…
— О, госпожа наша начальница! Вы не можете понять, что я был в отчаянии. Я безумствовал в тот день… А верен… Я всегда верен… Да ведь я и не нужен…
— Ну продолжайте, Петрик… На самом интересном месте вы остановились. Она не прогнала вас?
— Нет. Она спросила — вы не жандарм?.. Я ей поклялся, что все, что я говорю — правда. Потом… Потом мы говорили о стихах.
— Вы… О стихах? Надеюсь, не о тех, что вы мне только что читали?
— Нет… О Блоке… о Мюссе… о Бальмонте… о… как его… Бодлэре… Она ужаснулась, что я ничего этого не читал. Потом она предложила мне снять пальто. — "За кого вы меня принимаете", — сказала она, — что осмелились придти ко мне ночью". — "Если бы я знал", — сказал я, — "что тут девушка, я никогда бы не посмел звонить. Я думал… я был уверен, что тут… что тут самоубийца"… Она засмеялась… И мы проговорили до утра… Читали стихи… Бодлэра по-французски и Блока по-русски…
— Ну и вам понравилось?
— Ужасно, божественная, все это было ново для меня. Точно я на другую планету попал.
— Дальше?
— Дальше я бываю теперь у нее. Представил ей Портоса…
— И Портос?
В вопросе было больше, чем любопытство, но Петрик этого не заметил.
— Портос, божественная, не я… Я думаю, что, если бы Портос жил во время революции — он был бы Наполеоном, каким-нибудь… Бонапартом. Он сразу понял, кто она, и все узнал. Она дочь генерала. Ее отец умер на большом посту два года тому назад… Она в Петербурге… На курсах… Ходит в народ…
— Сколько ей лет?..
— Не знаю.
— Она хороша собой?
— Я не думал об этом. Она очень интересная… И… я так одинок.
— Я надеюсь, милый Петрик, что теперь вы не будете так одиноки. Вы вернетесь к своей королевне.
Петрик нагнулся и горячо поцеловал руку Валентины Петровны. Она встала, прогнав Диди, и зажгла огни.
Петрик стал прощаться.
— Сейчас будут приходить визитеры, милый Петрик, я боюсь, вам будет скучно, я вас отпускаю, но вы даете мне слово, что ровно в шесть вы придете к нам обедать, после обеда паинькой посидите, посмотрите мои альбомы Захолустного Штаба и останетесь на вечер… Мы будем музицировать.
Петрик поклонился.
— Я весь ваш, госпожа наша начальница, — сказал он и в голосе его послышалась Валентине Петровне глубокая грусть.
VII
За обедом было очень уютно. Молодой драгун с серыми честными глазами как-то сразу завоевал симпатии Якова Кронидовича, немного ревновавшего Валентину Петровну к ее прошлому. Петрика сразу полюбили все. Диди доверчиво прыгнула ему на колени.
— Прогони ее, Аля, — сказал Яков Кронидович, — может быть, Петр Сергеевич не любит собак?
Но Петрик «ужасно» любил собак.
— Я вообще животных люблю, Яков Кронидович, — и Петрик стал рассказывать про лошадей.
— Ну, вы сидите тут, — сказала Валентина Петровна, — а я пойду одеваться.
Яков Кронидович пригласил Петрика в кабинет, не тот, где хранились препараты, инструменты и лежали синие папки протоколов, а по стенам стояли шкапы с книгами, где царил Ермократ Аполлонович, а в тот, что был подле гостиной, где стоял большой круглый стол, освещенный высокой лампой с темным абажуром и лежали иллюстрированные журналы и большие, тяжелые альбомы, а кругом были глубокие кожаные кресла.
— Курите? — сказал Яков Кронидович.
— Нет… не курю.
— И хорошо делаете. Дольше проживете… Дурная это привычка, да по профессии моей мне нельзя без курения. Иной раз такого покойника вскрывать приходится, что страшно приступить — каша одна… Так папиросой отбиваешь запах…
Яков Кронидович закурил.
Петрик слушал с некоторым страхом. Он опять попал в какой-то новый мир, где так просто говорили о таких страшных вещах. И не мог он себе представить в этом мире госпожу нашу начальницу.
— И вам не страшно?.. То есть… я хочу сказать, не противно?
— Привыкаешь, — сказал Яков Кронидович. — Вы давно знаете Алю?
— С детства. — Петрик подвинул тяжелый альбом к Якову Кронидовичу. — Вот видите… Какие мы были. Валентина Петровна совсем маленькая… Это я… это Багренев, это Долле… Мы играли в трех мушкетеров. Валентина Петровна была наша королевна… А это на теннисе, в гарнизонном саду. Багренев — Портос и Валентина Петровна играют против меня — Атоса и Арамиса Долле… Тут — это еще раньше — крокет… Все детство от пятнашек и казаков и разбойников, через серсо, мяч и крокет к теннису и верховым прогулкам. Наши отцы служили вместе. Ее отец тогда полком командовал, Долле был старшим штаб-офицером, мой отец командовал эскадроном, отец Багренева — богатый помещик подле Захолустного Штаба. В его лесах всегда охотились.
— Багренев богатый?
— Да, очень…
Они листали вместе альбомы прошлого и Якову Кронидовичу казалось, что эти чужие офицеры его Але должны быть ближе, чем он, пятый год женатый на ней.
Тихо шло время. В гостиной часы мелодично пробили девять, а ни гостей еще не было, ни Валентина Петровна не выходила из спальни. Наконец в четверть десятого раздался первый звонок — пришел писатель Панченко, скромный пожилой человек с большими красными руками. Таня провела его в кабинет.
Теперь Петрик забился в угол за шкап с книгами. Писатель его смущал. Возьмет и опишет в смешном виде. Писатели такие — от них лучше подальше.
Яков Кронидович то и дело выходил в зал встречать с Валентиной Петровной приезжавших гостей. Петрик слышал женские и мужские голоса. Яков Кронидович входил в кабинет, потирал руки, переставлял кресла. Он поджидал кого-то и точно волновался. Его волнение передавалось писателю и Петрику.
Вдруг раздался особенно сильный, резкий звонок и сейчас же стал слышен громкий, самоуверенный, старческий голос. Яков Кронидович мелкими шажками побежал в гостиную.
— Кто это пришел? — спросил Петрик писателя. — Вы не знаете?
— Это Стасский, — коротко бросил писатель, ставший у дверей и изобразивший на своем лице некоторую почтительность.
— Стасский?.. Кто это Стасский?..
— Вы не знаете?.. Не слыхали? — удивился писатель. — Друг покойного Льва Николаевича и философа Владимира Соловьева. Большой ум… Критик… И… страшный, знаете, человек… Оригинал… Он может так обругать…
— Да за что же?
— Ну, скажем… Не согласится с вашим мнением.
— И за это ругать?
— Ему можно… Он такой!
— Но почему?
— Большой свободный ум… Первый ум России… Его все боятся… Но вот и он.
Писатель согнулся в низком поклоне.
VIII
В двери кабинета входил среднего роста старик в длинном черном сюртуке. Совершенно лысая, коричневая голова была лишь вдоль шеи обрамлена косицами жидких седых волос, точно клочья шерсти лезших на воротник. Седая борода безпорядочными прядями выбивалась по щекам и на подбородке. Усы были обриты и длинный, узкий, хищный рот в мелких морщинах был весь виден. Он входил уверенно, как власть имущий, в кабинет и за ним шли Яков Кронидович и генерал в сюртуке генерального штаба. Генерал был высокий, тонкий, в черной курчавящейся бороде и с хитро прищуренными блестящими глазами.
— И не допускаю, — говорил Стасский резко и повелительно, — не допускаю, Яков Кронидович, чтобы вы могли сделать это… И вы этого не сделаете никогда… А, Панченко, — протягивая большую руку с узловатыми в суставах пальцами, обратился он к низко поклонившемуся ему писателю. — Что пишете?..
И, не слушая ответа писателя, резко повернулся к генералу.
— Вот, Иван Андреевич, меня называют атеистом. Льва Николаевича отлучили от церкви! Скажите пожалуйста — какая глупость. Это Льва Николаевича-то!.. у которого, что там он ни пиши и ни проповедуй, а всегда был темный и непонятный мне уголок — и в этом уголке он и сам не разбирался… Но несомненно — с иконами… с богами… А у Якова Кронидовича, вы меня, почтеннейший, старика, простите, но при вашем-то образовании — такая вера…
Яков Кронидович как будто хотел переменить разговор.
— Позвольте, Владимир Васильевич, представить вам… Петр Сергеевич Ранцев… друг детства моей жены.
— А… не слыхал… — как на пустое место посмотрев на Петрика и небрежно протянув ему руку, сказал Стасский, и сейчас же повернулся к Якову Кронидовичу и генералу.
— В детстве мы темной комнаты боялись… В привидения, в чертей верили… Я помню: «Вия» прочел — ночь не спал. Про домового и русалок шептались… Но позвольте: — мы образованные теперь люди! Почему на западе отошли от Христа, и чем культурнее страна, чем выше в ней просвещение — тем меньше в ней верующих людей. На что мне Бог и Христос, когда я так легко, просто и удобно могу обойдись и без Них? И даже мне без Них гораздо свободнее. Они мне никак не нужны… Ни-как… Я могу всего достигнуть своим собственным умом, и библейские сказки о сотворении мира мне кажутся дикими. Вы мне все, Яков Кронидович, твердите о правде, о добре, о любви, заложенных в христианской вере, — и во имя этой правды, добра и любви вы сейчас готовитесь совершить величайшую неправду, страшное зло и оскорбление целого народа… Оставьте, пожалуйста!.. Не перебивайте меня… Мне, — понимаете, мне для того, чтобы идти к добру и правде, не нужно ваших выдуманных, фантастических существ. Так до спиритизма додумаемся!.. А уже что в святую Пятницу верим, — так это, простите меня — факт-с!.. Нонешняя-то жизнь… По воздуху, батенька мой, летаем, как птицы. — Нонешняя-то жизнь с ее социальной наукой, так осложнившаяся, требует уже иной, а не простой христианской морали… Она, жизнь-то эта, где все так перепуталось и перемешалось, предъявляет нам еще и интеллектуальные задачи, которых Христос не знал и до которых Тому, Кого вы называете Господом Богом, нет никакого касательства… А вы мне: — во имя Бога!.. Но имя правды!..
— Во имя правосудия тоже, — вставил Яков Кронидович.
Стасский, закуривший у стола папиросу, резко кинул ее в пепельницу и крикнул:
— Правосудие!.. Да что вы смеетесь надо мною, батенька мой… Правосудие!.. Все эти ваши… суды и судьи… чепуха… произвол и беззаконие!..
— Но позвольте, Владимир Васильевич, — вступился генерал, — как же без суда-то?.. Да и вы сами, слыхал я, недавно были присяжным заседателем.
— И был-с… Да-с… Был-с!.. — с вызовом обернулся Стасский к генералу. — И никогда не отказываюсь, а с восторгом принимаю заседательство, чтобы влиять на присяжных… Чтобы исключительно — оправдывать-с… Оправдывать!!! Преступники!.. Вы, Яков Кронидович, говорите: — преступники…
Стасский снова взял папиросу и стал ее раскуривать. Яков Кронидович воспользовался этим, чтобы возразить.
— Помилуйте, Владимир Васильевич, я имею дело с трупами. Кто-нибудь убил же?.. И в данном случае, то, что мне сегодня сказали — ужасно…
Стасский перебил его.
— Ужасно… Преступники!.. Это неправда… Как посмотреть?… Все эти преступники, если к ним присмотреться только… Да ведь это же — прекрасные… невинные люди, жертвы нелепых жизненных и общественных условий… Жертвы Государственного порядка. Создайте другие условия жизни — и не будет преступников. Право и преступление — это, простите, совершеннейшая чепуха-с!.. произвол … фантазия… рутина-с… Соdех Iustiniani… А… пожалуйте, прошу покорно! Свод законов Российской Империи… И все от римлян… Ну и народец, чорт его дери!.. Отвратный от темени до пяток и оттого-то такой любезный идеал всех европейских — с позволения сказать — государств… Вся эта римская мерзость — произведение их распроклятых царей!.. Завоеватели… Полководцы… Ах, шут их дери… Пока человек будет жить все только со зверями и животными и пользоваться ими… как и ваша глубокоуважаемая и почитаемая мною супруга — без котика и собачки не может…
— Но, помилуйте, — робко сказал Панченко, — пахать же надо на чем-нибудь?
Стасский обернулся к нему, как ужаленный.
— Скаж-жите, пожалуйста… Ну, тащися Сивка пашней, десятиной… Выбелим железо о сырую землю. Вам писателям, поэтам — это куда как надо!.. Картина! Вот и Лев Николаевич увлекался… Пахал на Сивке… На лошадке верхом катался… Что же век народу волам хвосты крутить?.. Механизация должна быть… Вон в Америке моторные плуги пошли, рядовые сеялки… А у нас — соха-матушка и Сивка… да Жучка! Пока будем возиться с животными — не прекратятся бойни, расстрелы и не выведутся эти злобные гиены Суворовы… Эти безсердечные Матадоры, путающиеся с развратными женщинами, зараженные всеми заразами Скобелевы, для которых любая война праздник и лакомая конфетка.
Стасский быстро повернулся к генералу.
— Вы, слыхал я, музей-памятник Суворову открыли!
— А вы разве не видали еще? Очень красиво вышло… И мозаика — переход через Альпы — чудесная.
— Ненавистен он мне, проклятый этот Суворов! Изверг истории и сифилис нашего времени!
— Чисто еврейская точка зрения, — сказал Панченко.
— Да-с… может быть… Может быть и еврейская… Не будем забывать, что евреи самый просвещенный и талантливый народ. Во всех видах человеческого знания и искусства — они первые. И я, Яков Кронидович, утверждаю и настаиваю, что вы совершенно напрасно путаетесь в это ужасное дело… Накличете беду на свое честное и всеми уважаемое имя… Что вам известно?.. Что вам сегодня сказали в совете?… Если не тайна… Мы так любим тайны… Государственная тайна… политическая… профессиональная… дипломатическая… военная… все тайны, чтобы обманывать народ.
— Помилуйте, какая тайна! Вот уже три дня, как вся прогрессивная печать только и кричит об этом. Я вам все расскажу и вы увидите, что я совершенно прав и не будете ни осуждать меня, ни нападать на меня.
— Я слушаю.
Стасский, наконец, сел. До этого он все стоял и заставлял стоять других.
IX
— Дело в том, — спокойно начал Яков Кронидович, усаживаясь в кресло против Стасского, севшего на диване, — дело в том, что четыре дня тому назад в Энске, на кирпичном заводе Русакова, несмотря на Русскую фамилию — еврея, было найдено тело христианского мальчика Ванюши Лыщинского… Тело было подвергнуто вскрытию и погребено. Уголовная полиция приступила к розыску. Но тут в народе пошла молва, что убийцами являются евреи и что мальчик убит с ритуальною целью для получения крови… Действительно…
— Ох и слушать не хочу от вас, — простонал Стасский.
— Действительно, — спокойно продолжал Яков Кронидович, — совершение убийства перед самою еврейскою пасхою, на земле, принадлежащей весьма набожному еврею, где должны были быть торжества освящения закладки богадельни для евреев и синогоги при ней…
— Это не доказано, — прервал Стасский, — что преступление совершено на земле Русакова.
— Но труп найден там…
— Труп… да… Но убийство не там, — почти крикнул Стасский.
— Обезкровление трупа…
— Не доказано, — уже прокричал Стасский.
— Вот я и вызван для того, чтобы или доказать это, или опровергнуть… И завтра я выезжаю в Энск, чтобы сделать новый осмотр тела мальчика.
— Или докажите, что тело не было обезкровлено… или, еще лучше, не ездите совсем… Заболейте, — сердито сказал Стасский.
— Но почему Яков Кронидович должен ехать с тою или другою предвзятою мыслью? — вмешался Панченко, мягким голосом, казалось, старавшийся успокоить рассерженного старика. — Он постановит по совести. Почему ему не ехать?
— Почему?.. Почему?.. Почему?.. — зарычал на Панченко Стасский, — да потому, почтенный мой, что это все выдумки черной сотни, это придумано полицией, чтобы вызвать еврейский погром.
— Да на что полиции погром? — сказал Панченко.
— На что? Усердие свое показать и поживиться на нем. Вы думаете — околодочные надзиратели теперь не обходят богатых евреев Энска и не взимают мзду за то, что их при погроме не тронут?
— Вот это, действительно, доказать надо, — сказал Яков Кронидович. — Чего вы хотите, Владимир Васильевич? Чтобы преступление осталось безнаказанным? Вы говорите о погроме! Но именно — молчание правосудия, нерозыск виновных в убийстве мальчика, оставление этого дела в темноте — вот такое отношение к этому страшному делу может вызвать в толпе погром. Ибо, чем темнее толпа, тем больше в ней искания и жажды правды.
— Правда в еврейском погроме? — наступая на Якова Кронидовича, в негодовании воскликнул Стасский.
— Правда в раскрытии преступления, и Государь Император совершенно прав, приказывая раскрыть это дело до дна.
— Значит и Николай II замешан в кровавом навете на евреев? — спросил злобно Стасский.
— Ни о каком кровавом навете нет никакой речи, — сказал Яков Кронидович. Он тоже разгорячился и взволновался. — Никто евреев в целом не обвиняет. В каждом народе есть свои изуверческие секты, есть просто изуверы — и правительство обязано с ними бороться. Это его долг!
— В еврействе нет сект. Еврейство едино, — вставил Стасский, но не мог остановить Якова Кронидовича, который настойчиво продолжал:
— В каждом народе есть свои изуверы… И если правительство, нисколько не стесняясь, в широких рамках поднимало дела о православных изуверах — о скопцах, хлыстах, о дыромолах, привлекало к ним массу подсудимых и жестоко их карало не за веру, а за изуверство, если правительства Запада поднимали дела о черной мессе и кровавых жертвах сатане, почему оно должно молчать, когда это касается изуверства еврейского?
— Средние века!.. средние века! — зажимая уши кричал Стасский. — В угоду толпе вы хотите раздражать мировое еврейство! Поплатитесь за это. Россия в долгах… Россия нуждается в займах… А вы опять раздразните Шиффа!..
— Нет, Владимир Васильевич. Отнюдь не в угоду толпе, а ради удовлетворения справедливых требований народа.
— Народ, народ! Что вы мне толкуете о народе. Точно я не знаю, что такое народ?
— Думаю, что вы не знаете. Вы считаете, что народ и пролетариат одно и тоже. Жестоко ошибаетесь: народ не пролетариат. Пролетариат так же откололся от народа, как откололась от него интеллигенция. Пролетариат — это отброс народный. Ваши комические партии, все эти эр-деки, эс-эры, кадеты с их комитетами народу никак не нужны. Они ему просто непонятны. Народу нужна правда. Эту правду он видит в царе…
— До Бога высоко, до царя далеко, — вставил Стасский.
— Если уже надо заменять существующий порядок и свергать царя — то народу надо выставить какой то высший, общий и доступный ему идеал — и этого идеала интеллигенция с ее партиями ему не дает. Нет его и у настроенного интеллигенцией пролетариата. Есть только слова — и те чужие — еврея Карла Маркса… В партиях — слова. На болтовне далеко не уедешь. Народу нужна правда. Эту правду ему хочет дать Государь — и я еду, чтобы у трупа спросить, кто и как его убил.
Последние слова Яков Кронидович произнес с особенною силою, в упор глядя острыми сверкающими глазами в глаза Стасского.
Стасский хотел что-то возражать, но в это время дверь в кабинет приотворилась и в нее показалась Валентина Петровна.
— Яков Кронидович, — сказала она, — Обри приехал. Можно начинать?
Стасский точно обрадовался тому, что спор этим был прерван.
— Остаюсь при своем мнении, — важно сказал он, — вам ехать никак не надо… И вы и не поедете… Ну, идемте слушать…
И он первый направился в двери гостиной. За ним пошел Полуянов, Яков Кронидович и Панченко. Последним выходил Петрик.
X
Все то, что слышал сейчас Петрик, казалось ему ужасным. Если бы он прочел это в книге — он не поверил бы ни одному слову, и в негодовании отшвырнул бы эту книгу. Перед ним опять открывался новый мир, которого он не знал. На двадцать восьмом году жизни он первый раз узнал о партиях и услышал такие страшные слова! Государя Императора назвали просто: — Николай II… О Суворове — кого он боготворил, о Скобелеве, кто был его идеалом, сказали ужасные слова! О Боге!.. О Христе… о законе, о государстве! И кто говорил?! Первый ум России — Стасский, друг Толстого и философа Соловьева… Петрик молчал. Что он мог сказать, вставить, или возразить, когда он ничего не понимал и только чувствовал, что все, что говорилось Стасским, — ужасно? К Якову Кронидовичу зато он проникся громадным уважением и подумал, что божественная госпожа наша начальница имеет достойного мужа. Он шел сзади Панченки пришибленный и придавленный. Полутьма кабинета с волнами табачного дыма, стоявшими в нем, давила его. Тем более ослепил его блеск ярко освещенной, сверкающей дамскими туалетами гостиной. И первую он увидел — Валентину Петровну. Она усаживалась на табурете подле раскрытого рояля. Петрик увидал что-то нежное, розовое, воздушное, подобное цветку розы. Бледно-розовое легкое платье было украшено полоской, вышитой мелкими жемчужинами, вокруг открытого выреза у шеи и коротких широких рукавов и на поясе. В золотых волосах сквозила розовая лента. От этого платья кожа лица, груди и обнаженных рук казалась несказанно нежной и матовой. Валентина Петровна казалась моложе, юнее, сверкала прелестью свежести и невинности. Это была не та красавица в строгом городском taillеur'е, которую он увидал сегодня днем после семи лет разлуки. Девочкой Петрик любил ее и мечтал еще кадетом о королевне весенней сказки Захолустного Штаба. Он был тайно влюблен в нее, когда танцевал с нею юнкером и называл — божественной. Ее юная, мягкая прелесть девушки подавляла его и он назвал ее госпожей нашей начальницей. Днем — она была удивительно проста, мила и ласкова с ним. С ней было уютно, и он смог даже говорите в прежнем шутливом тоне, — сейчас в этом воздушном вечернем платье, ярко освещенная сверху от люстры и от ламп, стоявших на рояле, снова стала она недостижимой, далекой от него, королевной сказки Захолустного Штаба. Ему даже страшно было смотреть на нее — так была она прекрасна… Но он не мог оторвать от нее глаз. Он смотрел, как, усаживаясь и оправляя волны розовой материи, она чуть нагнулась и потом прищурила потемневшие глаза. Ее руки сверкали и были нежнее шелка, краше окаймлявших их жемчужин.
Гостиная была полна людей. На диване волны газа цвета желтой розы, прелестная головка и блеск черных волос, там легкий шелковистый бархат обрамлял красивое лицо блондинки… Никто не думал его представлять дамам. Валентина Петровна ушла в ноты. Яков Кронидович обтирал замшевым платком виолончель; какой-то черный маленький, худой человек во фраке усаживался подле Валентины Петровны и подкладывал к плечу платок, упирая в него скрипку. Готовился концерт. Было не до представлений и знакомств. Стасскому Панченко подвинул тяжелое кресло на самую середину гостиной и тот важно уселся на нем. Оставался только тоненький золоченый стульчик, стоявший в простенке между окон подле бронзовых часов и корзины с цветущей азалией. Он был слишком на виду и Петрик не решался сесть на него.
Тут увидал он вдруг Портоса. Штабс-капитан Владимир Николаевич Багренев стоял на другой стороне гостиной у двери в прихожую. Он был в длинном сюртуке с эполетами. Он небрежно заложил руку в карман, откинув белую подкладку полы сюртука, и прислонился к притолоке. Портос показал Петрику глазами, чтобы он не «рипался» и садился на стулик — и Петрик покорно сел в натянутой позе. Валентина Петровна ударила пальцем по клавише, давая тон. Ей ответила скрипка, потом виолончель. В зале наступила полная, точно священная тишина.
Петрик чувствовал себя ужасно неловко. Валентина Петровна посмотрела блестящими, куда-то далеко, далеко ушедшими глазами на черного человечка со скрипкой и молча кивнула ему головой.
Концерт начался.
XI
Играла одна скрипка. Она рассказывала о чем-то мирном и тихом, далеком и прекрасном, как детство, как мамина сказка, как ранние девичьи мечты. Звуки крепли, росли и к ней пристала виолончель. Теперь два инструмента слились в один дружный хорал и будто говорили о счастье, о покое… Рояль лишь изредка, то тут, то там — точно вздохнет, будто предупредит о чем-то и притихнет. Звуки росли, ширились, рояль загремел вовсю, почти заглушая скрипку и виолончель. Под прекрасной, тонкой шелковистой кожей играли и прыгали мускулы рук Валентины Петровны, быстро-быстро бегали по клавишам ее тонкие пальчики и Петрику казалось, что они переломятся от сильных, резких ударов.
Все молчали, благоговейно слушая. В двух шагах от Петрика красивая брюнетка, сидевшая с вышиванием, откинула работу и, положив руки на колени, смотрела вдаль задумчивыми синими глазами. Точно, слушая игру, она что-то видела. Стасский, в кресле, выдвинутом на середину зала, полузакрыв глаза, щурился и кривая усмешка застыла в морщинистых губах. Генерал Полуянов нагнул на бок голову и смотрел на концы своих лаковых ботинок. На диване полная, красивая дама в пепельно-русых волосах мечтательно задумалась. Дама в платье желтой розы смотрела, не сводя глаз с играющих. Портос, стоявший у двери, не шелохнулся. И в зале точно и не было людей, но лились, звучали, пели, рыдали, плакали, рассказывали что-то длинное, значительное и вместе с тем простое звуки рояля, скрипки и виолончели.
И когда они кончились на сильных, мощных вскриках, несколько мгновений еще стояла тишина. Ее нарушила Валентина Петровна. Она встала, ногою отодвигая с шумом табурет.
— Удивительно, — сказала голубоглазая красавица — Валя, что это такое?
Стасский метнул на нее негодующий взгляд.
— Это Largo Генделя. Вещь, написанная для оркестра. Мы изобразили ее, как могли, — сказала Валентина Петровна.
— Такою мастерскою игрою, — сказал, вытирая скрипку Обри, — вы, Валентина Петровна, вполне заменили оркестр. Я временами забывал даже, что играю под рояль.
— Мне все это напомнило, — продолжала дама, складывая работу, — жизнь…
И, почувствовав на себе острый вопросительный взгляд Стасского, она продолжала:
— Нет… в самом деле, Валя, ты не находишь?.. Не смейтесь, Владимир Васильевич, я знаю, какой вы злой и нехороший… Начала, и так нежно, нежно скрипка… Вы, Карл Альбертович, превзошли себя, — обернулась она к скрипачу. — Это… как детство… а потом все больше, страстнее, сильнее, грознее нарастали звуки… Разве не так?.. Может быть, я не ясно говорю… Пришла страсть и принесла волнение и горе.
— Нет, Вера, совсем ясно… — сказала с легким вздохом Валентина Петровна. — И правда — живешь, а жизнь становится сложнее… Задает новые и новые вопросы… Кто знает?.. Что ждет еще нас… А там… в детстве… когда одна скрипка… так было хорошо…
— У вас, Валентина Петровна, — улыбаясь и улыбкой этой как бы приглашая послушать, что он скажет, сказал Полуянов, — есть виолончель… Она вас всегда поддержит.
— А налетит грозою оркестр… сомнет и скрипку и виолончель…
Валентина Петровна улыбнулась. Но в улыбке ее были печаль и грусть.
— Надежда Алексеевна, — сказала она, — вы не откажете?
Молодая девушка встала с дивана.
— Андрей Андреевич — сказала она черному, заросшему бородой по самые брови человеку — пожалуйте.
Тот подошел к роялю и стал раскладывать ноты.
Вечер шел, и Валентина Петровна должна была им гордиться. Ее гости без карт и сплетен не скучали. Она привлекла на свой концерт лучшие молодые силы Петербурга.
Певица Тверская, подошедшая к роялю, была восходящее светило, отмеченное критикой: — Михаил Михайлович Иванов ей посвятил целый фельетон в "Новом Времени", и в воскресном прибавлении был только что помещен ее портрет. Ее сменил Обри, лучший артист оркестра Императорской оперы, игравший соло под аккомпанемент Валентины Петровны. Потом играла одна Валентина Петровна, с такою техникою, с таким нежным «туше» и вместе с тем с такою мощною силою, и с такою душою, что даже Петрик смог сосредоточиться. Портос не сводил с нее восторженного взгляда… Еще была виолончель и, уже за полночь, Валентина Петровна ласково мигнула от рояля стройной брюнетке, о которой Петрик, переместившийся поближе к Портосу, узнал, что это Лидия Федоровна Скачкова, оставившая сцену и эстраду, но еще недавно блиставшая и на той и на другой — и та поднялась с дивана.
Рояль брызнул нежными, тонкими звуками… Будто сильнее пахнуло гиацинтами. Петрику показалось, точно кто открыл какую-то дверь и за ней показался сад, залитый луной.
Свежий голос раздался по залу:
— Погоди!..для чего торопиться?
Ведь и так жизнь несется стрелой.
Романс Чайковского внес свежесть, чистоту и красоту и околдовал всех. Только Стасский крутил недовольно головой.
И когда после заключительных слов:
— Милый друг — это жизнь, а не грезы… Жизнь летит… Погоди, погоди…Еще точно капали звуки рояля, срывая нежные, как брызги росы, звенящие ноты, он недовольно встал.
— Старо… старо… Лидия Федоровна… Этого не надо петь.
— Это… Чайковский…
— Ну что такое Чайковский!.. Пушкин… Чайковский… Глинка… Достоевский…Нельзя… Это все тянет опять к нашему средневековью… Гхы! Помещичьи усадьбы…Чистые девушки… Возвышенная любовь… Погоди! Для чего торопиться?.. А за этим человеческие бедствия, безумия, несправедливости, насилие и варварство, военная служба… Гхы!.. Налоги, тюрьмы, палачи, каторга, суды… вот где жизнь, а не грезы…
— Но этого нельзя петь! — сказала Лидия Федоровна.
— А почему?
— Не петь же мне интернационал? — очаровательно улыбаясь, сказала она, и пошла к дверям столовой, куда звала хозяйка к ужину.
В дверях Валентина Петровна, пропускавшая и усаживавшая гостей, остановила Петрика.
— Не слишком скучали, милый Петрик?
— Ах нет, божеств… — но, заметив строгий взгляд, он добавил, — Валентина Петровна… Было так прекрасно.
— A Largo вам понравилось?
— Это, что первое вы втроем играли?
— Да.
— Очень.
— А что вам напомнило?
— Мне… Большой четырехверстный стипль-чез. Тоже сначала идешь легким кентером, а потом все быстрее и быстрее — и после последнего препятствия, хворостяного барьера, совсем ляжешь по Слоановски на шею лошади, и идешь в полном посыле — и поводом, и шпорами, и крутишь хлыстом… К призовому столбу.
— Тише, Петрик… Смотрите: мне можно, но другому никому не подумайте сравнивать Largo Генделя с большим стипль-чезом… Садитесь вон там, подле Лидии Федоровны… С ней можете говорить и о лошадях, но, конечно, без таких сравнений.
Мужчины кончали закусывать у особого столика. Холодная лососина лежала бледно-розовым островом между желтого и красного галантина… Таня обносила блюдом. Столовая гудела довольными, счастливыми голосами. Вечер Валентины Петровны удался на славу!
О нем будут говорить в Петербургских гостиных.
XII
На другой день, в семь часов утра, Валентина Петровна провожала мужа на Витебский вокзал. Ермократ с Таней поехали вперед с вещами. Садился туман, обещая прекрасный день. По сторонам улицы вдоль панелей лежали большие кучи ржавого снега, но езда еще была на санях. Их извозчик обгонял большие завешанные рогожами койки, нагруженные снегом. Крупные, могучие битюги, напрягая широкие зады в сбруе, украшенной медными бляхами тащили их по обледенелой мостовой, лишь кое-где прикрытой снегом. Легкий пар поднимался от лошадей и сладко пахло талым снегом, конским потом, дегтем и еще чем-то особенным, радостным, будто весенним. На Николаевской была утренняя тишина. Улица была пуста. Дворники скребли панели и посыпали их желтым песком. Сзади гудел трамваями Невский, впереди туманы клубились, закрывая выступ и поворот у Ямского рынка. Чуть-чуть морозило.
Валентина Петровна в серой беличьей шубке-сак, мехом наружу, с такою же муфтой и шапочкой сидела в тесных санях рядом с мужем. Яков Кронидович в черном пальто с барашковым воротником и каракулевой остроконечной шапке, слегка примятой на верху, походил на священника. Он был бледен, устал и задумчив. Сладкая нежность к милой красавице жене, гордость ее вчерашним успехом, печаль разлуки и какая-то неудовлетворенность от ее словно брезгливой холодности к нему, создавали в душе его сложное чувство, где было много любви, но куда закрадывалась, может быть, ревность. Мысли бежали вразброд. Он не мог собрать их. Как никогда еще раньше вставало в нем всегдашнее противоречие его натуры: — художника, артиста, музыканта, всецело уходившего в музыку, любителя прекрасного и влюбленного в свою жену — и холодного, пытливого прозектора, у самой смерти спрашивающего ее тайну.
Он вспоминал вчерашний вечер. Стасский… старик… урод… с какими странными и резкими обо всем суждениями, — а посмотрите, какой везде успех! Женщины благоговеют перед ним, министры с ним считаются. Его боятся. Он масон… Не в этом, конечно, дело… Но почему же, как о том слышал Яков Кронидович, на балетных ужинах красивые танцовщицы его общество предпочитают молодежи… Его слушают… Дерзновение его чарует, и среди молодежи у него множество поклонников. Первый ум России! Этот первый ум России настойчиво отговаривал его ехать в Энск! Он грозил ему. Стасский в своем страшном дерзновении точно знал нечто большее, чем знают люди. Он что-то предвидел, а главное, у него не было ничего святого. Теперь такой наступает, видно, век, когда не святые влекут за собою, а те, кто отрицает святость и не признает Бога. Век Сатаны и Антихриста. Вот и то дело, по которому он едет, тоже дело Сатаны… Кровавый навет?.. Но труп ему скажет, что это такое — навет, или точно ужасная кровавая тайна, так тщательно всеми оберегаемая? Стасский — масон. Но если масон — он не может отрицать Бога… А что, если — и у него есть свой темный уголок души, где тоже горит какая-то лампада, но затеплена она не перед Христом — Спасителем мира, а перед тем страшным Богом, кому и посейчас приносят человеческие жертвы… В Энске он это узнает. Он не ошибется, и очная ставка его с мертвецом скажет ему, есть, или нет, этот жестокий, мстительный Бог, кому служат евреи и за кем послушно идет наша передовая интеллигенция. Или это — кровавый навет?
Простое вскрытие тела для надобностей уголовного розыска вырастало в глазах Якова Кронидовича в дело огромной, мировой важности; он касался не простого убийства, а какой-то тайны, связывавшей страшными узами множество людей. И Стасского в том числе… Какое дело Стасскому до этого убийства?
Мысль перескочила на их вчерашнюю игру, на так удавшийся вечер. Все — и ужин, как завершение всего, было прекрасно. Он повернул лицо к Валентине Петровне. Это ей, одной ей, он обязан красотою и уютом своего семейного очага. Под темною вуалью с мушками ее лицо казалось еще милее. За газом вуали скрывалась загадка ее прекрасных глаз и так мило чуть намокла вуаль на морозе от ее дыхания у маленьких губ.
— Марья-то как вчера отличилась, — сказал он.
— Да?.. Правда?.. Тебе понравилось?.. Мне казалось, все, даже Стасский, ели с аппетитом… А как волновалась!.. Когда пела Тверская и я была свободна — я забежала на кухню. Марья стоит над плитою и плачет. Ей показалось — она перепарила рыбу…
— И ничуть не перепарила, — сказал Яков Кронидович.
Сани стукнули о камень и заскрипели железным подрезом по мостовой, сползая к панели. Яков Кронидович рукою охватил за талию жену. Она брезгливо поежилась. Он заметил ее движение и отнял руку.
Да, что-то есть в их отношениях, что всегда острым холодом колет его сердце. Опять вспомнил вчерашнее. Как поверх ног на своем пюпитре он видел высокую фигуру красивого офицера в длинном сюртуке на белой подкладке. Азалия, что стояла на отдельном табурете подле часов, была от него. Очень дорогая азалия… А на каком основании?.. Друзья детства? Это детство забыть пора… И не нравились ему эти странные прозвища и имена. Портос… Петрик… Портос? Его фамилия Багренев… Багренев… Багровый, Багрянородный… Или очень что-то большое, или оперетка… Почему ему так неприятен этот прекрасный молодой человек? Петрик ничего. И выпить не дурак и очень милый. В его глазах, — обожание Валентины Петровны… Обожание — не любовь… Неужели — ревность? И вспомнил ее чуть заметное под шубкой брезгливое движение. Надоел?.. Удел мужей?.. И хотел спросить. Но что спросить?.. Таких слов, чтобы спросить, у него не было. Думал о ревности. О! сколько трупов дала ему эта страшная… страшная? — болезнь что ли? Скольких он вскрывал с огнестрельными ранами, с ядами в кишечнике, с лицами черными от серной кислоты… Нет… Ревность?.. Нет!..
— Тебе холодно? — спросил он.
— Нет… Очень хорошо. Смотри! солнце восходит.
За Ямским рынком Николаевская стала очень широкой и точно провинциальной. Из ворот Богдановского дома легким, упругим движением, точно не касаясь копытами снега, выходил рысак, накрытый тяжелым ковром, запряженный в легкую американку. Конюх в одной темно-синей суконной поддевке без рукавов бежал рядом, придерживая поводком. И этот рысак на широком просторе улицы с белым неглубоким снегом, и низкие постройки сараев Лейб-Гвардии Егерского полка, замыкавшие улицу, и желтая полоса неба за ними, на которой четко рисовались застеклённые трибуны бегового павильона, и красное солнце тихо поднимавшееся над широкими просторами города, и свистки паровозов — все было легко, красиво и так по-домашнему мирно, что не хотелось думать о тяжелом и темном.
По плацу вдоль деревянного забора ипподрома сани бежали легко. Лошадь весело попрыгивала, извозчик стучал кожаной рукавицей по железному передку саней. Комья снега летели назад и серебряными брызгами попадали на синюю суконную полость, обшитую черним козлиным мехом.
Справа тянулись заборы Офицерского стрельбища и там редко пощелкивали выстрелы. Слева показалась старая серая, неуклюжая, разлатая постройка манежа Боссе. Валентина Петровна посмотрела на него и робко сказала:
— Ты уезжаешь надолго?
— Я сам хорошенько не знаю. Дело в том, что профессор Аполонов давно мне писал, что он хотел бы этим летом поехать в отпуск. Мне могут поручить заменить его на это время в Анатомическом театре… Тогда я месяца два останусь в Энске. Мне намекали вчера в Совете, что после этого я могу здесь получить кафедру судебной медицины… Вот ты и станешь… профессоршей… ваше превосходительство… — пошутил Яков Кронидович.
— Как же я буду одна?
— Если я задержусь, может быть, поедешь в Захолустный Штаб… Старики, поди, так рады будут…
— Вот что я хотела попросить тебя… — робко сказала Валентина Петровна.
— Ну?
— Позволь мне ездить верхом… Ты знаешь, как я любила верховую езду… На островах весною так хорошо… Портос мне предложил…
Она ждала ответа. Яков Кронидович молчал и она чувствовала, что он недоволен ее просьбою. Они подъезжали к вокзалу. На его ступеньках их ожидал Ермократ.
— Или с Петриком, — с отчаянием сказала Валентина Петровна, вылезая из саней. — У него тоже есть лошадь.
Яков Конидович точно не слышал ее слов. Он заговорил, поднимаясь по лестнице с Ермократом. Валентина Петровна шла сзади. На Ермократе были такое же пальто и шапка, как у его барина — только все старое и порыжелое. Валентина Петровна с отвращением смотрела на худую длинную плоскую спину Ермократа, на рыжие клочья волос, выбивавшиеся из под шапки, точно волчья шерсть, на его длинные руки, вылезавшие из рукавов и короткие ноги. "Совсем обезьяна", — думала она.
Они стояли у вагона. Ермократ, расставив ноги, говорил Якову Кронидовичу, показывая, что он все понял, и усвоил:
— Профессора Косоротова в первую голову, — понимаю, понимаю-с, — кивал он птичьею головою с острым носом в оспенных рябинах. — Печень с желудком в совет Финогенову… Того, что третьего дня потрошили, зашить и к погребению… Без записки, пожалуй, не дозволят. Ага, есть ваша записочка… Следователю известно…Понимаю… Понимаю-с… Содержимое желудка запечатать…
Валентина Петровна старалась не слушать. Это напоминало ей то, что она всегда старательно прогоняла от себя — страшную профессию мужа. Это заглушало звуки виолончели и обаяние их совместной игры, это делало прикосновения его руки обидными и противными. Это лежало между ними.
— И береги, Ермократ, барыню… Понял…
Пора было садиться в вагон. Они простились, поцеловались. Деликатная, чуткая Таня стала в стороне. Яков Кронидович тяжело вошел в вагон, спустил окно, стал у него.
— Ну, будь здорова!
Валентина Петровна подняла вуаль и положила ее по краю шляпы. Ее лицо было грустно, глаза печально улыбались. Нега и ласка, казалось, появились в них. Она показалась Якову Кронидовичу такой молодой, прекрасной, как та девушка, в которую он сразу влюбился в Захолустном Штабе. Ему стало жаль ее, одинокую.
Поезд медленно тронулся. Она пошла рядом с вагоном и вынула маленький платочек не то для того, чтобы помахать им, не то, чтобы утереть слезы разлуки.
Это очень тронуло Якова Кронидовича. В мягкой шубке, с приподнятой над бровями вуалью, с румяными от мороза щеками она казалась нежной, юной и безпомощной. И ему стало жаль ее одиночества. У него наука, вечное искание правды — а у нее — одна молодость… И хочет эта молодость простора.
Вагон обгонял ее, уже совсем быстро идущую.
— С Петриком можно! — крикнул Яков Кронидович и увидал, как благодарная улыбка осветила ее лицо.
Она замахала платочком.
Со сжавшимся от любви и жалости к ней сердцем Яков Кронидович смотрел, как становилась она все меньше, исчезая в толпе провожающих. Уже не стало видно ее платочка над темными шляпами. Оборвалась платформа. Клуб белого пара накрыл ее и когда ветер отогнал его, стали видны снега и черные проруби на Введенском канале.
Яков Кронидович поднял окно и вошел в свое отделение.
XIII
На другой день, под вечер, Яков Кронидович приехал в Энск. Здесь снега и в помине не было. Парный фаэтон повез Якова Кронидовича по широкому шоссе от вокзала к городу. В мягком сумраке, — еще догорала вечерняя заря и впереди за городом пламенело небо — казались задумчивыми большие деревья садов. Налитые бодрыми весенними соками ветви были густы. В воздухе пахло каменным углем и свежестью почек. Кусты сирени за деревянными заборами чернели темною зеленью еще не развернувшейся листвы. Желтый дрот бросил золотые блестки цветов. По городу зажигались огни. Широкий проспект спускался с горы. По панелям сплошною толпою вдоль ярко освещенных магазинов шли люди. Их говор доносился до Якова Кронидовича. От мягкого малороссийского, певучего языка веяло Русскою стариною. Новые большие пятиэтажные громады перемежались старыми уютными двухэтажными домами. Вдруг станет среди них на маленькой площади старинная церковь, и приветно светятся красными огнями ее стрельчатые в железных решетках окна. Русь покажет свое древнее лицо. И опять громадные дома, вывески, игра огней электрических реклам «иллюзионов»… На вывесках магазинов и банков мелькали еврейские имена Бродских, Канторовичей, Рабиновичей, Добреньких, Каценельсонов, но толпа была Русская с веселым звонким говором и непохожая на Петербургскую.
Но все было тихо. Тут и не пахло погромом. По углам стояли бравые городовые. Были они не так щеголевато одеты и не так молодецки выправлены, как столичные, но они внушали доверие.
"Не мы ли сами, в лице Стасских, в лице жадных до сенсаций газет", — думал Яков Кронидович, — "своими задорными статьями, своими речами внушаем толпе погромы, а потом сами же ее и бичуем за то, что мы ей внушили".
Он не поехал ни в «Метрополь», ни в «Эрмитаж», громадные отели с "европейским комфортом", с золочеными клетками лифтов, с мальчиками шассерами в коротких куртках, расшитых золотыми шнурами, с толпою слуг в обширной прихожей и с полным отсутствием уюта. Его тошнило от этого слишком подчеркнутого комфорта. Он остановился в боковой улочке в старой "Московской гостинице". Здесь передняя была маленькая; широкая мраморная лестница вела во второй этаж и там вдоль коридора были просторные глубокие номера. Здесь жили подолгу. Вместо проведенной горячей и холодной воды в углу комнаты стоял большой умывальник с мраморной доской и белыми фаянсовыми тазами и кувшинами, на которых лежали тщательно сложенные тяжелые полотенца.
Лакей, называвшийся здесь «номерным», или «коридорным», и весело откликавшийся, когда его звали: — «человек», ходивший в белой рубахе и портах с белым передником, распахнул высокие двери и, не зажигая огня, открыл, чтобы прогнать гостиничную затхлость номера, окна и сказал:
— Номерочек, хоть куда. За окнами сад имеете. Тишина и блогоуханье, три рубля в сутки, ежели помесячно — хозяин уступит. Прикажете самоварчик пока до ужина?
— Да, пожалуйста.
— С сайкой и заварными кренделями? Настоятельно вам рекомендую — сейчас горячие получены.
— Да, с сайкой и кренделями.
— И пожалуйте паспорт для прописки. Теперь у нас строго.
Мельком взглянув на паспорт, номерной еказал:
— Про вас уже в здешней газете прописано. Осведомлены о вашей замечательной личности. Я вам подам-с.
В ожидании чая с сайкой и кренделями, Яков Кронидович помылся, задернул оконные портьеры, зажег огонь и просматривал принесенную ему номерным газету.
В льстивых тонах, называя его профессором и европейскою знаменитостью, писали, что взволнованное событием этих дней и ожиданием ужасов погрома Энское общество "ждет от профессора Тропарева, что он ясным умом своим и умением все провидеть снимет кровавый навет с евреев, позорящий Русский народ". В статье вспоминали, как он умелым анализом трупа Магнолиева доказал, что общество стоит перед самоубийством, и тем спас его жену от страшного обвинения в убийстве. "Мы — и не только мы", — писалось в газете, — "но Европа и Америка с трепетом будут прислушиваться, что скажет знаменитый профессор"…
"Да, вот оно что?" — подумал Яков Кронидович. — "Пожалуй дело дошло уже до самого Шиффа, американского жида-архимиллионера, ненавистника России именно за погромы, которые ему докладываются в непомерно приукрашенном виде. Если он тряхнет мошной — никто не устоит… Такая вакханалия пойдет… Ну, а как же все-таки Ванюша Лыщинский? Господин Шифф все-таки подумал о том, что мальчик-то кем-то убит?"
В дверь постучали. Яков Кронидович, предполагая, что это номерной с чаем, освободил место для самоварчика на столе и сказал:
— Войдите.
Но вместо номерного в белом, вошел очень черный, в черном растрепанном фраке человек, с маслянистым угреватым лицом. Гордый профиль большого его носа и вьющаяся черная борода показывали его местное происхождение. Под мышкой у него был большой портфель.
Яков Кронидович удивленно посмотрел на вошедшего.
В номере под потолком ярко горели три электрические груши и в блеске их света лицо незнакомца очень лоснилось. Пушистая черная бородка росла по щекам, подбородок и усы были сбриты и синели темною синевою.
— Профессор Тропарев, — протягивая сырую полную руку, сказал вошедший, радостно улыбаясь, — ну, как я рад!
Яков Кронидович, человек мягкий и деликатный, невольно подал руку.
— Вы знаете, вы самое во время приехали. Позвольте и мне вам рекомендоваться. Сотрудник здешней газеты Одоль-Одолинский, христианин!.. Я прочел, что вы приезжаете… Ну я, знаете, утром все гостиницы обегал. Узнать, где заказана комната. Думал — вы в «Эрмитаже» остановитесь… А вы вот где… По старинке…Хе… хе… Тут кормят, знаете, отлично… Пельмени… борщ украинский — это уже тут, знаете, одно объядение…
— Простите меня, — начал Яков Кронидович, но Одоль-Одолинский перебил его.
— Я понимаю, вы спрашиваете, почему я так вторгаюсь в ваш номер… Господин профессор, господин профессор, вы не знаете, что такое корреспондент большой газеты, если понимать это слово в широком европейском… более — американском, подчеркиваю — американском — смысле!.. Мы должны все знать, мы должны упреждать событие… Современная газета — это, профессор… шестая держава! Мы больше можем, мы больше значим, чем сам генерал-губернатор. Не мы к нему, он к нам посылает: — пожалуйста, разъясните, пожалуйста, напечатайте…
Гость безцеремонно сел в кресло и, вынув серебряный портсигар, украшенный золотыми монограммами и «сувенирами», достал папиросу и похлопал ею о ладонь.
— Вы позволите? — развязно сказал он. Якову Кронидовичу ничего не оставалось, как сесть самому и закурить.
— Я не понимаю, — сказал он, — причем тут я.
— Вы… Да ведь вы выписаны следственными властями произвести вторичное вскрытие тела Ванюши Лыщинского?
— Да.
— Ну так я об этом же и говорю… Так я же хочу вас направить на верный след. Я хочу вам сказать, что это напрасное-таки дело. Потому что убийцы найдены, раскаялись и готовы принести повинную.
— Да я читал сегодня в поезде, что в убийстве подозревают мать убитого. Но она не созналась и подозрение так чудовищно, что…
— Так это уже бросили и по нашему ходатайству ее освободили…
— Она была арестована?
— И знаете, это так удачно вышло. На похоронах Ванюши толпа хотела ее растерзать!
— Но кто же натравливал толпу на эту несчастную женщину?.. Газеты…
— Господин профессор… Господин профессор … В нашем деле могли быть ошибки. Мы были на неверном следу. Нас-таки сбила полиция, нас сбили с толку показания извозчика, который вез подозрительный сверток. Кто-то пустил слух, что на имя Ванюши Лыщинского где-то в банке были положены какие-то огромадные суммы. Ну и знаете, вышла… опечатка. Сыск пошел не по тому следу. Думали, знаете, мать… Он был, как у нас говорят — байстрюк, незаконнорожденный, ну, знаете, мать уже замужем, другие дети растут. Ей это было неудобно… А тут деньги… Знаете… деньги… Из-за них столько преступлений.
— Но я читал, что и мать и ее муж нежно любили Ванюшу, что сестра матери, его тетка и ее мать, бабушка души не чаяли в нем.
— Ну это-таки так… Это все может быть… Но когда деньги… Большие деньги… Тогда любовь по боку… Ну вот и готово преступление. Но теперь эта версия оставлена…
— Скажите, многоуважаемый, кто же позволил вам производить расследование?.. Ведь вы не следователь, вы не агент сыскной полиции?..
— О что вы… Пфуй… Но мы должны помогать выяснить правду и дать торжествовать правосудию. Мы предложили свои услуги… У нас могут быть свои Шерлоки Хольмсы… Население относится к нам с большим доверием, чем к лицам официального розыска… и нам сказали… нам почти сказали, кто и почему убил Ванюшу.
— Это ваша новая версия?
— Да.
— Которая по счету?
— Вторая… и, господин профессор, я бы не пришел к вам, если бы не был уверен, что последняя… Уже господин Вырголин, ну вы же, наверное, знаете кто такое господин Вырголин — он присяжный поверенный, большая голова, он взялся за это дело и теперь все ясно. Ясно, как шоколад.
— Ваша вторая версия?
Одоль-Одолинский торжественно встал.
— Это дело целой воровской шайки. Тут есть такая семья Чапура. Они как раз там подле Русаковского завода и живут. Он тихий человек, так себе — телеграфный чиновник, никогда и дома не бывает, ну а она, знаете, — торговка краденым. И вот приходили к ней две шмары, сестры Дьяковы… Так они слышали и видели труп-с… В ванне…
— В ванне? — переспросил Яков Кронидович.
— Ванна у них в кухне стоит. И там видели сверток в ковре. Туда уже подсевайло послан. Мы все узнаем. И человек один… Сами можете судить какой человек — он в сентябре прошлого года в Киеве, в тюрьме сидел по 126-й статье Уголовного Уложения — социалист-революционер! — такой человек, сами понимаете, лгать не станет, так вот он обещал доказать, что совершенно напрасно в народе болтают, что убийство ритуальное. Ничего подобного. Доказано, почти доказано, что Ванюша был в их шайке…
— Какой шайке?
— Воровской же! И, знаете, они хотели обокрасть Софийский собор… Да-с… Ни больше, ни меньше. И как там, может быть, знаете, в окнах железные решетки, так предполагали, что Ванюша пролезет между ними и откроет двери… И все, понимаете, сговорено, все слажено, все подготовлено, а тут Ванюша поссорился с другим мальчиком и пригрозил выдать всю шайку. Сами понимаете — ребенок! С него станет… Ну, так они его заманили к Чапурам и убили-с… Вот она вторая и уже последняя точная версия… Чапура уже арестована.
— Что же это за власть такая в Энске, многоуважаемый, которая то арестует мать убитого, теперь арестует каких-то Чапур по одному подозрению, по одному наговору?
— Да ведь надо же кого-то арестовать?! — Одоль-Одолинский подошел ко все еще сидевшему Якову Кронидовичу и наклонясь к самому его уху прошептал:
— Вы понимате: в народе молва, в народе такой толк: — жиды убили мальчика!.. Это же ужасно…
— Это надо или доказать, или опровергнуть… И мне все-таки, многоуважаемый, непонятно, почему вы, журналист, публицист, писатель, принимаете в этом такое горячее участие? Разве это ваше дело?…
Яков Кронидович встал. Какая-то жилка быстро билась у его сердца. Он, всегда спокойный, волновался. В эти минуты он больше чем когда-нибудь почувствовал, как важна и как нужна его тяжелая профессия, к которой с такою нескрываемою брезгливостью относилась его жена. Чужой и чуждый ему мальчик вдруг стал ему дорог и мил.
— Но, как почему? — воскликнул, стоя против Якова Кронидовича, Одоль-Одолинский. — Как через почему? Но через потому, что писатели всегда горячо стояли за правду. Они ее показывали публике — и тот, кто не имел возможности видеть правду на суде, тот через призму писательского произведения видел ее в полной ясности. Вы же знаете, какое участие принимал в деле о Филонове писатель Короленко, а в деле братьев Скитских — известный журналист Влас Дорошевич.
— И вы, господин Одоль-Одолинский, хотите тоже, как они, способствовать раскрытию истины?
— Ну да… А почему нет?
— Потому что это совершенно излишне. Тайну своей смерти нам скажет завтра сам убитый. Он скажет нам, зачем и кто его убил.
— Но он же… Труп?
— Да… Труп… Но наука точна. И наша наука может заставить говорить и трупы.
— Ой!..Что вы говорите!.. Какой сурьезный, однако!..
Одоль-Одолинский попятился к двери, и, не прощаясь, вышел в коридор.
Яков Кронидович отдернул портьеру и открыл форточку. Было сильно накурено в номере и очень душно. За окном глухо шумел город. Гудела проволока трамваев — и в ее гудении Якову Кронидовичу показалось что-то жестокое и неумолимое, как рок.
Он обрадовался, когда вошел номерной с небольшим шумно кипящим самоваром на одной руке и подносом с чайной посудой и лотком с булками на другой. Ловко жонглируя ими, он расставил все это перед Яковом Кронидовичем.
— Кто это такое, был у меня сейчас? — спросил Яков Кронидович…
— Они с утра о вас осведомлялись. Из газеты жидовской… Тоже «подсевайло». Ходит, народ мутит. Глаза старается отвести. Да правду — разве ее куда укроешь? Правда сама себя покажет.
— Какая правда?
— Весь народ знает… Эх, да что говорить!
— Что знает?
— Да что мальчика на кирпичном заводе жиды для крови убили…
XIV
На другой день Яков Кронидович поехал в Энский анатомический театр.
Было ясное, теплое, солнечное утро. Запах весны носился в воздухе. Черная земля в саду была бухлая и липкая. На деревьях шумно и радостно кричали воробьи. Небо, глубокое и бездонное, точно посылало благословение земле. Из-за забора слышна была далекая, складная песня. В каменном коридоре театра у высокой белой запертой двери было сыро и холодно, и пресный, отталкивающий запах трупа, казалось, сквозил из дверных щелей. Судебный следователь Энского Окружного Суда по особо важным делам Лысенко, профессор Энского университета Аполонов, прозектор Пружанов и двое понятых, уныло-мрачных мужиков, не то дворников, не то лавочных сидельцев и два городовых ожидали Якова Кронидовича.
Пружанова и Аполонова Яков Кронидович знал, с Лысенко его познакомили.
— Простите, коллеги, — взглядывая на золотые часы, сказал Яков Кронидович, — я кажется опоздал.
— Нет. Без десяти минут девять. Мы спозаранку приехали, сказал Аполонов. Как доехали?
— Слава Богу. Отлично.
— У вас, в Петербурге, поди еще зима, — сказал, закуривая папиросу, Пружанов.
— Да, Нева еще не прошла. Хотя уже переезда нет.
— А у нас… У меня в саду на южном скате, почки на сирени в горошину, — сказал Аполонов. — Перебирайтесь, коллега, к нам. Куда здоровее ваших петербургских болот. А небо… Видали сегодня? Ницца… Фиалки продают. Да какие! Пармским не уступят…
Они говорили о пустяках и все курили, стараясь отдалить то, большинству привычное, но все-таки тяжелое и неприятное дело, ожидавшее их за дверью.
Сторож, в заплатанном сером азяме поверх рваной чумарки, старик инвалид, стоял со связкой ключей, ожидая приказаний.
— Что ж, господа, — сказал Яков Кронидович, — покурим, да и приступим.
Врачи и Яков Кронидович сняли пальто и стали надевать белые халаты.
— Я советую и вам, — сказал Пружанов Лысенко, — а то пропахнете так, что неделю чувствовать будете.
Понятые пугливо пожимались в стороне.
— Что ж, брат, отворяй, показывай, — сказал сторожу Аполонов.
Сторож вложил большой ключ и открыл высокую дверь. Один за одним, молча, входили люди в полукруглое здание с матовыми окнами, со стеклянным фонарем наверху и с полукруглым амфитеатром скамеек. Посередине, на мраморном столе лежало тело, накрытое холстиной. Подле, на полу, был поставлен черный, с позументом, отсыревший, в мокрых пятнах и зеленых потеках гроб. Крышка лежала подле.
Сильный, тошный запах могильной сырости, земли и трупа застыл в холодном зале. Солнце бросило золотые лучи на крайние скамьи и от этого запаха лучи его казались холодными и нездешними.
Городовые остались за дверью. Понятые сторонились трупа, крутили головами, хотели смотреть и боялись увидеть то страшное, что лежало под холстиной.
Пружанов приказал сторожу.
— Раскрой.
Сторож равнодушно подошел к телу и снял холщевый покров.
Было томительно тихо в зале. Слышно было, как тяжело с надрывом дышали понятые, да скрипели их сапоги, когда они поднимались на носки.
На мраморной белой доске лежал уже порядочно тронутый тлением труп мальчика. Головка с обритыми висками и светло-каштановыми волосами тяжело легла затылком на мрамор. Длинные темные ресницы плотно прикрывали опустившееся, должно быть, уже ставшие мягкими, глаза и как-то с недоуменным и жалобным вопросом были приподняты тонкие брови. Маленький рот был полуоткрыт. На обоих висках чернели следы ранок, точно дробовой заряд попал ему в голову. Грудь и живот были разрезаны и наскоро, широкими стежками наискось сшиты шпагатом. Тело пестрело сырыми зеленоватыми пятнами. Оно уже стало гибким и мягким. Трупное окоченение исчезло.
Яков Кронидович долго, молча, смотрел на мальчика. Первый раз за все время своей большой практики он смотрел на труп, а видел живого. Так вот он, тот мальчик Ванюша Лыщинский, у которого была мать, любившая его, тетка, души в нем не чаявшая, бабушка, обожавшая его. Он только что прочел в газетах, что бабушка при смерти от горя… Кому-то надо было нанести ему эти ранения. Кому-то надо было оклеветать его мать и опозорить ее, посадив в тюрьму… Кому-то надо было опозорить и его память и причислить его к ворам и предателям. Неужели в России, Императорской, «черносотенной» России, России отсталой — возможны такие преступления? Неужели целый ряд их — убийство, клевета, произвол властей останутся безнаказанными: — во имя чего?.. Только для того, чтобы не было "кровавого навета" на евреев! Чтобы никто не смел повторять «сказки», что жиды употребляют кровь в своих обрядах. Прогрессивная печать, писатели, все общество, считающее себя передовым, восстало, чтобы обелить евреев, и не видит этого жалкого трупа, не видит слез матери, душевных мучений бабушки. Что им до слез этих простых Русских людей? — не осудили бы их евреи!
Этот мальчик учился в Духовном училище. У него были свои радости, свои забавы. Он сам смастерил себе ружьецо и ходил за порохом на завод Русакова. Он там играл с детьми. Для близких своих он был тем «солнышком», что освещало их бедную, серую изо дня в день жизнь. Какой-то изувер для страшных таинственных целей убил его. И весь просвещенный мир стал на защиту убийцы — только потому, что тот еврей. Из далекой Америки, — что ей до убитого где-то в Энске в "черте оседлости" христианского мальчика Ванюши, — могущественный еврей Шифф, глава масонов, грозит России и ее Императору! Золотом задушу, если будет погром. И поджала хвосты от жидовского окрика общественность, Стасский пугает мистическими карами Якову Кронидовичу и всем, кто прикоснется к этому делу, даже самому Императору. Не трогайте этого дела! Что вам этот мальчик! Он Русский и его гибель все равно, что гибель комара. Он — жертва таинственному еврейскому богу, а вы — молчите!
"Не буду молчать — что бы там ни было, а найду правду, ибо народу нужна правда. Бог правду любит".
— Ну-те-с, — сказал Яков Кронидович, обращаясь к Лысенке, — что в этом трупе интересует следствие?
— Следствию, господа эксперты, важно установить момент убийства, то есть день и час его совершения. Орудие убийства. Сколько человек совершало преступление. Место, где оно совершено, то есть, в доме, в комнате, или в ином месте. Труп обнаружен случайно в пещере в сидячем положении. Пещера и особенно вход в нее так тесны, что туда и один человек мог пройти лишь с трудом. Значит — если вы признаете, что убивало двое, или больше — его убили не в пещере и, наконец, если возможно, господа эксперты, определите мотивы убийства. В запальчивости и раздражении, или в необходимости, или с садическими целями?…
— На все эти вопросы, я надеюсь, — сказал Яков Кронидович, — наука даст вам совершенно точный ответ. Разрешите нам приступить к осмотру и вторичному вскрытию убитого, и я бы просил дать нам осмотреть и одежду, в которой был найден убитый мальчик.
— Пожалуйста, — сказал Лысенко.
Пружанов ловким движением раскрыл швы грудной и брюшной полостей и сквозь разошедшуюся кожу показались землисто-серые и розоватые комки желудка, кишок, легких и сердца.
Понятые отшатнулись в ужасе. Могильный запах гниения стал гуще и противнее.
XV
Яков Кронидович с Аполоновым возились над трупом, Пружанов за столиком порывисто, протокольно писал то, что они ему диктовали. В светлой зале анатомического театра было тихо. Прозвучат громко сказанные слова диктовки, отдадутся эхом о голые стены и смолкнут. И слышно, как скрипит по бумаге перо протоколиста. Потом мягко, противным мокрым звуком шлепнут вынутые внутренности и скрипнет разрезаемая ткань. Кто-нибудь из понятых тяжело вздохнет. Зашепчутся Аполонов с Яковом Кронидовичем.
— Борщ… конечно борщ, постный борщ… Видите куски бурака и не переваренного картофеля… Чувствуете: — даже пахнет борщем… Пишите: — желудок средней величины. Слизистая оболочка его однообразно-грязна, буровато-желтого цвета… Стенки желудка средней толщины, мягки, повреждений слизистой оболочки и стенок не замечается… Содержимое желудка… В особой банке за печатью участкового врача… Около четверти стакана темно-серой пищевой смеси… В ней частицы бурака и картофеля… Не переваренные…
Опять молчание. Все трое — врачи и следователь, нагнувшись, осматривали труп. Понятым было за ними не видно трупа, и только зеленые пятки торчали между белых халатов и чуть шевелились точно живые.
— Тринадцать, — сказал громко Яков Кронидович.
— По-моему, коллега, четырнадцать, смотрите вот это…
— Это вместе с этим, вы понимаете, он колол режущим инструментом и попал на жилку — видите вена, скользнуло и разорвало кожу, будто два ранения, а удар один. Вы как, Михаил Степанович, полагаете?
Лысенко нагнулся и стал рассматривать голову мальчика и считать темные точки ранений, рассеянные по его виску.
— Тринадцать, — насчитал он. — Нет, пожалуй, четырнадцать.
— Спросим понятых. Пожалуйте сюда… Не бойтесь… Сколько ранений на правом виске?
Понятые испуганно мялись около тела:
— Тринадцать, — сказал один.
— Двенадцать, — сказал другой… Или… четырнадцать…
— Считайте лучше.
— Тринадцать… Тринадцать…
— Будем описывать каждое отдельно, — сказал Яков Кронидович. — Пишите, коллега: — на голове, при переходе лобной в теменную область, почти на границе волосистой части, имеются две слегка полулунных ссадины по три миллиметра длиною, без кровоподтеков…
Яков Кронидович диктовал подробное описание головы, изредка спрашивая у Аполонова:- «так»? Тот молча кивал головою.
— При переходе теменной в затылочную область, на три поперечных пальца сзади от темени, имеются три щелевидных поранения кожи, из которых два расположены сзади, проникающих через всю толщу кожи, а одно, расположенное спереди, представляется лишь ссаднением глубоким; от этого ссаднения второе щелевидное ранение отстоит на один сантиметр… Вы не знаете, Михаил Степанович, фотография трупа имеется?
— Как-же… При деле…Снято сыскной полицией…Яков Кронидович кончил диктовку наружных повреждений.
— Как думаете, коллега, если мы в присутствии господина следователя и понятых вырежем куски кожи с ранениями и препарируем их для предъявления на суде?
— Это будет отлично.
— Тогда и все спорные вопросы можно будет доказать на суде.
— Совершенно верно, коллега.
— Коллега, — обратился Яков Кронидович к прозектору, — когда кончите писать, мы с вами сделаем необходимые выемки. Ну-с — дальше… Вернемся к сердцу. Теперь оно должно нам досказать то, что достаточно полно и ясно сказали эти раны. Околосердечная сорочка почти по всей поверхности пропитана кровоизлияниями. На передней поверхности левого желудка сердца, в средней его части, в расстоянии полусантиметра от борозды имеется щелевидное ранение, длиною три миллиметра, окруженное кровоизлиянием… Крови в сердце найдено менее чайной ложки… Так-с…
Медленно, тягуче и нудно тянулись часы. Солнце стояло над фонарем и заливало труп светом, смягченным занавесками. Понятые задыхались. Они два раза выходили. Их лица позеленели, глаза блуждали. Наконец, после полудня, с телом покончили и сторож небрежно и грубо вкладывал вынутые внутренности обратно в труп, а прозектор кривой иглой зашивал грудь и живот.
Яков Кронидович с Аполоновым осматривали детскую расшитую по вороту и по краям черными и красными нитками рубашку, покрытую темно-бурыми каплями и потоками крови, черные «казенного» сукна штаны, с прилипшими к ним кусками глины, размоченной когда-то в крови.
— Хотя у меня и нет сомнений, — говорил Яков Кронидович, — что глина эта размочена именно кровью, однако, я попрошу вас доставить мне пробы для химического исследования. Так как кровь густеет быстро, то размочить глину она могла только там, где она была пролита, то есть на месте убийства.
Прозектор, складывал в банки неровные лоскуты дряблой, зеленоватой, склизкой человеческой кожи и опечатывал снова банки с содержимым желудка, сердца и кишок. Солнечные лучи перебрались на гроб, куда небрежно сбросили ненужное больше тело мальчика. Яков Кронидович курил частыми затяжками толстую папиросу и помахивая ею перед носом, чтобы отогнать запах разложения, отчетливо и громко говорил:
— Ну-с, я вам могу ответить на все ваши вопросы. Убийство совершено через три-четыре часа после того, как убитый съел борщ. Ибо он найден еще не переваренным в твердых своих частях… Убийство совершено не в комнате… Во всяком случае — или на воздухе, или в таком помещении, где много глины… Убийство совершали по крайней мере два, а вероятно больше — несколько человек. Это показывает характер ранений, то, что мальчика душили, зажимая ему рот, на верхней губе ссадины от надавливания на зубы, его держали в стоячем положении, он оборонялся… Один человек все это сделать и наносить раны не мог. Убийство совершено мучительным образом. До потери сознания мальчик мучился около пятнадцати, двадцати минут.
— О, Господи! — вздохнул один из понятых. Оба разом перекрестились.
Следователь строго посмотрел на них.
— Дальше — цель убийства: — обезкровление жертвы. Раны наносились в особо кровоточивые, но не убойные места. В висок, где много артерий, под мышку, и лишь потом в сердечную область. Раны наносились или специальным инструментом, или сапожною швайкою с обломанным и заостренным, как нож концом. Наносило их лицо, знакомое, но не очень, с анатомией человека. Наносило торопясь, вероятно волнуясь, но рукою твердой и умелой… Вот все, что сказало нам это тело несчастного мальчика! Вы, коллеги, согласны со мною?
— Во всем, господин профессор…
— Тогда что же… К погребению?
— Я распорядился оставить его здесь, — сказал Лысенко, — до ночи. Ночью мы его брали из могилы, ночью положим его и обратно. А то, знаете…
— Ваше дело. Что же, можно идти. Протокол подписан?
— Да, все готово, — сказал Лысенко. — Понятые, вы свободны, благодарю вас.
— Не на чем, — мрачно буркнул понятой — и оба первыми выскочили из анатомического театра.
— Теперь, — говорили они, — в байну, да пропариться следовает… А то провоняли насквозь…
Яков Кронидович вышел вместе с Аполоновым и Лысенко. Пружанов остался со сторожем собрать банки.
На широкой аллее чернозем блистал синью… По сторонам земля выпирала зеленые стебли и листья. Фиалка стыдливо клонила лиловую головку между круглых морщинистых листков. Громко и весело шумел за садом город и звонки трамваев, гудки автомобилей, скрежет рельсов, цоканье копыт и треск колес по мостовой сливались в торжественный гимн кипучей городской жизни.
XVI
Аполонов уехал в отпуск. Яков Кронидович заменил его в анатомическом театре и в университете. Он был занят, но в своих занятиях он не забывал почему-то ставшего ему милым мальчика Ванюшу Лыщинского. Он следил за делом по газетам, а газеты были полны им. Точно не правительственные власти, не судебное ведомство, не следователи и прокуроры вели его, а газеты с их руководящими передовыми статьями, с их специальными корреспондентами и репортерами.
Заключение экспертов возымело свое действие, и следственные власти арестовали, не предъявляя еще определенного обвинения, служащего на кирпичном заводе еврея Менделя Дреллиса. Этим убийство было признано ритуальным.
По городу усилилась молва: — мальчика замучили жиды.
И как-то сразу заговорили о погроме. Заговорили газеты и интеллигенция.
"Нельзя этого допустить": — "погром будет!"
Город был спокоен. «Начальство» какие-то меры принимало. Яков Кронидович стал встречать в городе проезжавших по двое казаков-уральцев на маленьких плотных большеголовых киргизских лошадках.
Город, толпа, народ молчали. Они ждали суда и правосудия и они в него верили. Волновалась «интеллигенция», которая ни правительству, ни правосудию не верила. Она разжигала страсти. Она горячо вступилась за Дреллиса и за еврейский народ.
Редакция большой прогрессивной газеты, находившейся в еврейских руках, присяжный поверенный Вырголин, какие-то "пострадавшие за правду" социалисты-революционеры и рядом с ними выгнанные со службы за подлоги полицейские сыщики, уличные девки и воры Энского подполья — трогательно объединились в поисках настоящего убийцы. Они вторгались в чужие жилища, производили обыски, расспросы, выемки, открыто печатали о своей работе, — и власть молчала. Официальное следствие велось медленно и нерешительно. Власть отступила перед наскоком «общественности» в лице жидовской прессы, адвокатов, репортеров и социалистов. Она будто рада была отмахнуться от тяжелого дела, и проходили недели — а следователь не потрудился еще осмотреть место, где был найден Ванюшин труп и где, возможно, было совершено и само преступление. Он был занят. Ему было некогда. Ему нужно было допросить сотни лиц, названных печатью. Версия следовала за версией. Они были невероятно грубы и неправдоподобны, но следствие хваталось за них, и теряло время на распутывание их. Яков Кронидович, читая газеты, только плечами пожимал. Хватались за самые невероятные предположения для того, чтобы обойти единственное верное: — мальчика убили жиды.
Газеты писали, что мальчика убила его мать — вампир, источившая его кровь, чтобы овладеть несуществующими Ванюшиными капиталами. Несчастную, богобоязненную женщину, обезумевшую от горя после потери любимого сына, хватали и арестовывали под шумное одобрение печати. И когда оказывалось, что никак нельзя ни в чем ее обвинить — ее отпускали и сейчас же создавали новую версию.
Мальчика замучили и источили его кровь воры. Эти воры, боявшиеся, что мальчик их выдаст, в то же время безбоязненно рассказывали добровольным сыщикам, что они слышали в доме телеграфного чиновника Чапуры возню и стоны, что они видели там тело, завернутое в ковер, видели подозрительный сверток в ванне. Точно в бульварном романе, в следствии появлялась девица, разговаривавшая с человеком в маске, среди белого дня прогуливавшимся по людным улицам Энска! Сыщики, «шмары», «подсевайлы» — все стали дорогими и милыми для печати, потому что они помогали мутить воду и сбивали следствие с верного пути.
Наконец явилась еще новая версия: — мальчика убила полиция "под жидов", чтобы устроить погром.
Яков Кронидович получил в эти дни письмо от Стасского.
… "Полюбуйтесь, — писал ему "первый ум России", — "что вы наделали своею ненужною экспертизою. И вы увидите, что так просто это вам не пройдет. Вы пострадаете за это, и через вас пострадают и невинные, близкие вам люди. Вы разожгли страсти всего мира. И огонь опалит вас за это"…
Яков Кронидович задумывался над всем тем, свидетелем чего он был. Сам вышедший из недр народа, сын священника, он твердо знал, что народ жаждал и алкал правды. Он верил, что эту правду должно дать ему «начальство». И, если не оно, то общество, интеллигенция, «студенты», социалисты являются защитниками народа и хранителями правды. "И что будет", — думал Яков Кронидович, — "если народ поймет, что в угоду еврейскому капиталу власть — начальство — отступило, а общество — передовая интеллигенция старалась обелить еврейское изуверство и равнодушно закрыло глаза на муки христианского мальчика и на Русское горе его матери, потерявшей сына. Правды нигде не было… Вот где таились семена погрома — уже не только еврейского, но погрома власти, погрома всей интеллигенции".
В эти дни Яков Кронидович стал часто проводить время в обществе своего племянника по материнской линии Васи Ветютнева, студента-юриста, «белоподкладочника» со значком, при шпаге, члена монархической организации "Двуглавый Орел".
Со всею жаждою молодой неиспорченной души Вася искал правды. Он знал почти наизусть Библию, он изучал Талмуд и Каббалу и старался найти разгадку кровавого убийства другими путями.
Своим молодым задором он увлекал за собою Якова Кронидовича.
XVII
Свободные часы Яков Кронидович бродил с Васей по городу. Он не знал Энска — Вася родился и вырос в нем. Вася показывал Якову Кронидовичу остатки церкви, построенной по преданию еще святою Ольгой. Яков Кронидович смотрел на замшелую, щербатую развалину высокой стены, сложенной из плоских землистых кирпичей. Он ходил с Васей любоваться на новый величественный белый храм о пяти среброглавых куполах, стоявший одиноко посредине площади, — где большие деревья, окружавшие его, казались маленьким кустарником. Он вспоминал рисунки знаменитой мечети в Агре Индийской — "мечты в мраморе" — и она не была красивее этого храма. Они смотрели на роспись его внутри, на Боговдохновенные иконы работы Васнецова и на изображение св. Ольги и св. Владимира с большими «византийскими» глазами. Гордостью билось сердце Якова Кронидовича от великой старины Русской, так прекрасно изображенной современным Русским талантом.
Часто и много говорили о деле Дреллиса. Яков Кронидович, знавший Васю маленьким мальчиком, когда Вася приезжал в Петербург, был удивлен и обрадован, увидев вполне сложившегося молодого человека со стойкими твердыми убеждениями. Яков Кронидович рассказал Васе о Стасском, о предупреждениях его и о его угрозах. Он посмеялся над ним.
— Не смейтесь, дядя, смею уверить вас, все это не так просто. Я немного знаю Стасского. Он бывает в Энске, у него в губернии большое имение. На младшем курсе я бегал смотреть его. Я читал его статьи и слышал однажды его речь. И он прав, дядя, что предупреждает вас об опасности вмешивания в еврейские дела.
— Ну уж ты слишком… Что же мне могут сделать евреи?.. Бомбу, что ли в меня бросят?..
— Видите, дядя… Стасский — то, что в старину называли «атей» — атеист, безбожник. Он не верит в Бога, он смеется над Толстым, когда говорит, что у него есть свой темный уголок души, где теплится вера, а ведь и у него, у Стасского тоже есть такой темный уголок и он и не верит, а все же боится еврейского Бога.
— Но Бог един… И Бог евреев — есть и наш христианский Бог.
Они шли мимо дома, где жил Вася.
— Дядя, вы хорошо знаете Библию?
— Читал когда-то… Учил в гимназии Ветхий Завет, а сказать, что знаю — не могу.
— Зайдемте ко мне, и я вам кое-что покажу.
По деревянной лестнице они поднялись в мезонин, где была светлая, просторная, девически чистая, студенческая Васина комната. Вася попросил квартирную хозяйку подать чаю.
— Вы знаете, дядя, что в Писании сказано: "Бога никто же виде нигде же, на него же нельзя человеку взирати". И это так понятно… Евреи видели Бога.
Вася помолчал немного, пока присланная хозяйкой босоногая девушка-хохлушка накрывала на стол. Он дождался, когда она ушла и продолжал.
— Они видели Его, они говорили с Ним, слышали Его голос, то из облака, то из пылающего куста, и они получали приказы, и приказы эти были противоречивы. Мы видим то великого милостивого Бога, справедливого, мудрого и любящего людей, то видим какого-то другого — жестокого, мстительного бога, опаляющего огнем все живущее, требующего кровавых жертв и жесточайшей мести, допускающего до человеческих жертвоприношений.
Вася достал с комода большую книгу в черном кожаном переплете, всю истыканную закладками и, отыскав нужную страницу, прочел:
— "А я в сию самую ночь пройду по земле Египетской, и поражу всякого первенца в земле Египетской, от человека до скота, и над всеми богами Египетскими произведу суд. Я Господь. И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю Египетскую"… Слышите, дядя, голос еврейского бога: — кровь — его слова. Вот где тайна Ванюши Лыщинского. Ужасная кровавая тайна, о которой тот же бог повелевает молчать. — "Поражу всякого первенца от человека до скота". Это ли не человеческое жертвоприношение! На протяжении всей истории еврейского народа вы видите жестокую, кровавую расправу со всеми, мешавшими евреям: — с амаликитянами и аморреями, с филистимлянами и сирийцами…
Вася перевернул несколько страниц и прочел:
— И сказал Самуил Саулу: — "теперь иди и порази Амалика, и истреби все, что у него; и не давая пощады ему, но предай смерти от мужа до жены, от отрока до грудного младенца, от вола до овцы, от верблюда до осла"… И вот милосердие еврейское: — Самуил сказал; — "как меч твой жен лишал детей, так мать твоя между женами пусть лишена будет сына. И разрубил Самуил Агага пред Господом в Галгале"… Это ли не человеческое жертвоприношение? "Разрубил перед Господом"… Вася листал Библию.
— "Освяти Мне каждого первенца, разверзающего всякие ложесна между сынами Израилевыми от человека до скота. Мои они… Заметьте, дядя, мелочь, на которую никто не обратил внимания: Ванюша — первенец… И вот я утверждаю, и наши атеисты это тоже знают, что у евреев, кроме истинного Бога, от Которого они столько раз отворачиваются, есть еще иной бог, бог темный и мстительный, кровью и казнями всех идущих против евреев жестоко карающий.
— Это, Вася, — Библия… — затягиваясь папиросой, сказал Яков Кронидович. — Ты говоришь о еврейском пантеизме… Его нет.
— Против Библии боролись… Дарвин старался подорвать ее существо. Карл Маркс — ее политическое и социальное значение. Они ничего не достигли и оба запутались. Опровергнуть Библию легко — а и того не смогли, а вот расшифровать Библию и очистить ее и узнать, где владеет евреями Истинный Господь Бог и где во владение ими вступают темные силы, покровительствующие только евреям, этого, дядя, никто, ни даже святые Отцы, не сделали. И что темные силы эти есть, что они владеют евреями и поныне, что они требуют себе кровавых жертв животных и людей — доказательством тому: — ритуальное убийство скота на еврейских бойнях особыми резниками при чтении Талмуда — и найденное обезкровленное тело Русского первенца… Далеко не первое и, надо полагать, не последнее.
— Вася, от этого средними веками пахнет.
— Дядя, — из того, что мчатся по дорогам автомобили и по воздуху летают самолеты, не следует, что мы далеко ушли от средних веков. Только христианская мораль может увести нас из средневековой темноты — вы, дядя, знаете: христианство не в моде. И люди, отрекшиеся от Христа и насмеявшиеся над Ним, как ваш атеист Стасский, как большинство нашей интеллигенции — пугливо оглядываются на того еврейского бога, который во имя мести готов поразить всех "от мужа до жены, от отрока до грудного младенца". Кроткого Христа они не боятся, но тому, мстящему еврейскому богу в темном уголке своей души зажигают лампаду и готовы принести кровавую жертву своим ближним. Дядя, Стасский — этот яркий представитель нашей интеллигенции — боится тайной силы еврейского бога. Наши ученые и писатели, адвокаты и судьи — знают: их успех — газетное слово, а газеты в руках евреев… Лучше с ними, чем против них.
— И против правды! — воскликнул Яков Кронидович.
— Что им правда какого-то замученного Русского мальчика! Что им правда всего Русского народа! Своя рубашка к телу ближе.
— Вася! Этого не может быть! Ты заблуждаешься, Вася! Ты клевещешь на передовое Русское общество!
— Прибавьте к этому, дядя, что все они трусы и в них сидит еще и мистический страх, что те темные силы, что за кровавые жертвы покровительствовали Израилю во все времена, обрушатся на них и лютыми казнями невидимо покарают их, жен их и детей… Нет, — думают они, — лучше в таких случаях быть с жидами, а не против жидов.
— И Стасский?..
— Что ж, дядя! И Стасский. Ему под семьдесят А чем меньше человек верит в Господа — тем больше он боится смерти и цепляется за жизнь. Стасский — материалист и, как таковой, весьма боится, что какая-нибудь пустая астма доведет его до удара. А ведь у него там, за гробом — пустота. Ничего. И этого-то ничего ах как боятся все эти атеисты и материалисты!.. Да вот, дядя, завтра воскресенье — угодно вам поехать со мною утром туда, где нашли тело мальчика… И вы на месте убедитесь, что напрасно боятся погрома. Жиды страшнее для православных, чем православные для жидов.
— Охотно, — сказал Яков Кронидович, — Заходи за мной в восемь часов утра. Я закажу извозца и поедем.
XVIII
Бурная южно-русская весна давно наступила. Она благоухала белыми акациями и сиренями и, казалось, весь город был продушен пряным запахом цветов. Белые кисти висели с деревьев по всем городским бульварам. Из-за деревянных заборов лиловыми, розовыми и белыми букетами торчали ветви персидской, простой и махровой сирени и были они так пышны, бархатисты и громадны, так несказанно красивы, что нельзя было оторвать от них глаз. В садах и скверах подле памятников садовники насадили нарциссов, тюльпанов и лиловых ирисов и живым замысловатым узором разделали зеленые газоны.
Громадный сад, спускавшийся к широкой реке играл всеми оттенками зелени. В ветвистых сводах схоронились дорожки и поляны. Он манил прохладною тенью.
В это утро, когда мимо него ехали Яков Кронидович с Васей, он звенел птичьим писком, песнями, веселой перекличкой с ветки на ветку.
Каменные мостовые кончились. Пролетка мягко катилась по прямой немощеной улице с красноватыми колеями и воздушно — кисейными шариками одуванчиков по сторонам. Вдоль улицы тянулись заборы. Редкие, деревянные, попадались дома. Это была глухая окраина города. Узорчатая тень орешины падала на дорогу.
— Стой, извозчик, — сказал Вася. — Пойдемте, дядя.
Они прошли вдоль старого забора. В нем показалался пролом. Несколько досок недоставало.
— Пролезете, дядя?
— Конечно, пролезу, — легко сгибаясь и просовывая голову в отверстие, сказал Яков Кронидович. Он шагнул через доски, за ним Вася. Перед ними было то, что называется "пустопорожнее место". Десятин двадцать песчаниковых желто-розовых бугров, перерезанных старыми заборами, открылись глазам. Кое-где росли деревья и кусты. Плетушки цепкой ежевики стлались по земле, цеплялись за ветви и висели еще жидкими молодыми стеблями. Вася шел вперед, показывая дорогу Якову Кронидовичу. Он шел уверенно.
Видно, не раз он бывал здесь и хорошо знал этот пустырь.
Сейчас пустырь был красив одинокими деревьями, зеленью, обрывистыми скатами песчаниковых холмов, молодым вереском, крапивой и нежными, прозрачными ветвями бересклета. Попадались белые цветы маргариток, доцветающие золотые звездочки одуванчиков. Высоко в небе пел жаворонок. Солнце стало припекать.
Вася ускорил шаги. Он подошел к продолговато-овальному отверстию в холме, точно вуалью затянутому тонкими корнями росшего сверху куста. Красношейка спорхнула с ветвей и с жалобно-тревожным писком полетела в сторону.
Вася обнажил голову. На его лице было что-то такое молитвенно-торжественное, что и Яков Кронидович снял свою шляпу.
— Здесь, — задыхаясь не то от волнения, не то от скорой ходьбы, начал говорить Вася, — было найдено тело Ванюши. Его нашли сидящим в пещере 20-го марта. Он был убит 12-го. Тогда, когда его убили, еще были морозы и здесь лежал снег. Когда нашли — была оттепель. Тело оттаяло, согнулось и село. Но тления не было… Теперь смотрите: — пещера не заделана, не опечатана следственными властями. Мы пришли к ней. Мы влезали в нее. Всякий может придти и влезть… Может уничтожить какие угодно следы, или напротив подбросить какие угодно вещественные доказательства хотя бы на полицию, которая убила мальчика "под жидов"… Это одна сторона: — маразм власти. Ее нежелание… или боязнь этим делом заняться как следует… Другая… Эта пещера вмещала тело замученного жидами мальчика. Жертву, принесенную неведомому страшному еврейскому богу… Тело мученика… Что же православная Русь? Как откликнулась она на это? Вот, говорят и пишут — погром. Да на погром натравливают толпу сами же евреи и передовая общественность. Это им, а не полиции выгодно!
— Но, Вася… Ты уже, кажется, слишком хватил!
— Нет, дядя! Здесь у временной могилы маленького мученика это уместно сказать. Это место!.. — Святое это место. Кому нужны погромы? Власти? Государю? Боже сохрани! — Страдает жалкая еврейская беднота, которая никому не мешает. Обратите внимание, дядя, — богатые евреи-банкиры присылают к власти и говорят: — дайте охрану — завтра будет погром. Они знают. Это их охраняют и охранят бородачи-староверы уральцы. Погромы нужны самим евреям и интеллигенции, борющейся с "проклятым царизмом". Погром!.. Десяток выпущенных перин, сотни две разбитых еврейских лавчонок, а какой шум на весь мир! При царях-то что делается! И ворчит международный еврейский капитал и говорит: "пока в России Императорская власть, пока существует процентная норма и черта оседлости — России денег не давать!" Вспомните главу мирового масонства еврея Шиффа во время японской войны. Бердичевский погром аукнулся в Бердичеве, а откликнулся в Портсмуте! Дядя, я вернусь ко вчерашнему нашему разговору: — как бы не аукнулось Менделем Дреллисом, а откликнулось Российским Престолом.
— Ты считаешь жидов всемогущими?
— Нет, но я считаю дряблым и безсильным Русский народ. Святая Русь! Где же она святая? Спугнули мы с вами тут какую-нибудь Божию старушку? Нашли кем-то поставленную икону? Следы затепленных свечей? Более того: — увидели толпу молящихся и среди нее священника? Услышали молебное пение и эту такую страшную молитву: — "первее бо кровь твою по малу изливше, еле жива тя оставиша иудеи, да множайшим мукам предадут твое непорочное тело, еже и смерти предавше конечным кровеистощанием, на ниву в день Святыя Пасхи тое безстудне извергоша, мы же, твоя безчисленныя раны целующе, подвиги твоя тепле прославляем"…
— Что это за молитва?
— Это молитва из службы, составленной в 1908 году прославленному святым младенцу Гавриилу, вот совершенно так же жидами замученному в городе Слуцке в 1690 году… Но, вы видите, дядя — кругом пустырь! И тропинки не натоптали к этому святому месту. Чего же ожидать от такого народа? Где его глубокая вера? Где его страшная любовь и молитва к Богу? Народ охладел к вере. Он опустился до материализма. Мученики его не трогают. Такой народ можно двинуть на погром… На самоубийство… На революцию… Но на подвиг?.. Никогда!
XIX
Они шли от пещеры. Впереди Вася, за ним Яков Кронидович. Они шли, опустив головы, в глубоком раздумьи. Когда пролезли в пролом в заборе на улицу, Вася остановился.
Пустынна и безлюдна была тянувшаяся между заборов улица. Издали, из-за забора, окружавшего кирпичный завод Русакова, чуть доносились голоса и гармоника.
— В церквях идет литургия, — тихо проговорил Вася. — Они на гармошке играют. Здесь начались уже работы. Тогда здесь было тихо. Никого не было. Теперь до тридцати лошадей возчиков стоит на конюшне, — тогда стояла она на замке. Больше ста человек работает здесь летом до глубокой осени. Зимою все разъезжаются. Тогда было пусто. Свидетелей не было… Впрочем, я покажу вам и познакомлю со свидетелями… Такие все-таки были.
— Что же, домой теперь? — сказал Яков Кронидович.
— Если вы устали, дядя?
— Нет… Нисколько…
— Тогда пройдемте немного… Я вижу моих друзей. Должно быть, они увидали меня и ждут за углом.
Вася показал на угол забора. Детская рожица, лукаво улыбаясь выглядывала оттуда. Заметив, что Вася обратил на нее внимание, она пропищала:
— Василий Гаврилыч!..
И трое детей, точно стайка птичек, выпорхнули из-за угла. Впереди бежал мальчик лет двенадцати в желтоватой коломянковой куртке и с темным ремнем с бляхой с буквами "Г.У." — городское училище, за ним девочка в коричневом платьице с черным передником, и последней, едва поспевая за старшими, — девочка лет восьми в розовом ситцевом платье.
Дети доверчиво окружили Васю. Каждый старался схватить его за руку. Они заглядывали ему в глаза и косились на Якова Кронидовича.
— Василий Гаврилыч!.. Василий Гаврилыч! — звенели их голоса.
— Что же так поздно, Василий Гаврилович?..
— Мы ждали, ждали… Уже уходить хотели…
— Думали: совсем не придете.
— А кто это с вами? — шепотом спросила ученица.
— Это не жид? — спросила самая маленькая.
— На священника похож.
— Это мой дядя. Хороший добрый дядя. Вот это, Яков Кронидович, мои славные друзья. Это Ганя, это Фима — первая ученица! Вот мы как! Ай — да мы! А это Людочка… Мы еще только грамоте учимся, а уже от папы научились на телеграфном ключе стучать. Что ж, сядем.
Весеннее солнце светило ярко. Над дорогой колебалась тень акаций, и сладко пахло их обильным цветом. Перед ними была глухая улица, заросшая травой. Весенняя ранняя бабочка, темно-коричневая с черным ободком толклась, порхая вдоль забора. Вдали глухо шумел город.
Вася достал из заднего кармана сюртука большую жестяную коробку монпансье и подал Людочке. Все нагнулись, рассматривая наклеенное на крышке изображение.
— Это кто же? — прошептала Людочка.
— Я знаю… Это Императрица Александра Федоровна, — сказала Фима.
— Надо говорить — Государыня Императрица, — поправил Ганя.
— Была бы Государыня Императрица здесь, в Энске, — со вздохом сказала Людочка, — заступилась бы за Ванюшу.
— А вы хорошо знали Ванюшу? — спросил Яков Кронидович.
Все трое оживились.
— Как же, — сказал Ганя, — они раньше наши соседи были. Тут возле нас и жили. Ванюша все у нас сидел… А в прошлом году они переехали на другой конец города, так стал он реже бывать здесь.
— Известно, — серьезно сказала Людочка, — далеко… Ему учиться надо. Разве когда перед школой на минуту забежит. Пойдем тогда все на мяле кататься.
— Там хорошо зимой, — пояснила Фима, — как на карусели.
— И никого нет, — сказал Ганя.
— Разве Мендель увидит в окно, прогонит, — сказала, тяжело вздыхая, Людочка.
— Мы у Менделя молоко брали, — пояснила Фима.
— У него две коровы, — сказала Людочка.
— Вот как Ванюшу нашли, так дней за десять, — стала рассказывать Фима, — пошла я уже под вечер за молоком. Отворяю дверь, а у Менделя два жида сидят. Седобородые. Да страшные такие! В круглых черных шляпах и каких-то накидках! Совсем будто не Русские жиды. Чужие… Я испугалась и побежала. Сказала Гане. Мы пошли вместе. Только открыли дверь, а жиды кинулись на нас. Я вырвалась, а Ганю жид нагнал у самых наших ворот, схватил и потащил. Но тут бросились наши собаки с лаем и жиды оставили Ганю.
— А на утро, — сказала Людочка, — обе наши собачки издохли. Их кто-то, сказали нам, отравил.
— Так страшно, — ежась в своем коричневом платьице ученицы, прошептала Фима. — Ужас как страшно.
— А в тот день утром у нас был Ванюша и сказал, что он завтра придет. Тут недалеко живет Каплан, отставной солдат.
— Он в японской войне был, — сказала Людочка.
— И Каплан обещал показать Ванюше его отца.
— Ванюша — байстрюк… Ему очень уж больно было, что у всех есть папа, а у него нет, — пояснила Людочка, — он все распрашивал, где его папа, какой он?
— Каплан сказал Ванюше, что он в Японскую войну видал Ванюшина отца и сказал — приходи завтра утром, у меня будет твой отец. Я тебе его покажу.
— Западня, — прошептал Вася на ухо Якову Кронидовичу. Тот сидел глубоко задумавшийся. Печаль легла на его лице.
— Ванюша пришел рано и мы позвали его кататься на мяле, — продолжал Ганя.
— Пошли мы все трое и еще одна с нами девочка, так, знакомая. Мы уселись на мяле, а Ванюша стал толкать. Тут из дома Менделя вышли три жида и побежали к нам. Мы бросились наутек.
— Я оглянулась, — сказала Фима, — вижу Мендель, а, может быть, другой чернобородый еврей схватил Ванюшу и потащил. Я вся похолодела.
— Мы прибежали домой, сказали маме. А мама говорит — это не наше дело. Молчите, никому не говорите. Вот и молчим, — сказала Людочка.
Дети еще рассказывали о Ванюше, о его самодельном ружье и как Каплан давал ему порох, но Яков Кронидович не слушал.
Он дождался, когда истощились разговоры про Ванюшу и когда Вася кончил свой короткий рассказ об императрице и Царской Семье, и сказал: — Поедем, Вася, домой.
Дети проводили их до извозчика. Когда въехали они в город и застучала, загремела пролетка по мостовой, Яков Кронидович спросил Ветютнева.
— Что же, допрашивал их следователь?
— Да. После их первого допроса и арестовали Дреллиса. Но когда стали передопрашивать — они сказали, что ошиблись, что все это было месяца за два до того, как нашли тело Ванюши, что они и потом видали его у себя и катались на мяле, никаких жидов они не видали. Что это им показалось… Их кто-то застращивает, кто-то учит, что надо показывать.
— Вы стыдили их?
— Да.
— И что же они?
— Ганя мне сказал: На суде покажу, как вам рассказываю… по правде… А сейчас — мама не велит. Людочку даже побила за разговоры.
— Да-а, — протянул Яков Кронидович, и до самого дома не сказал больше ни слова.
Вечером, один в своем номере, он писал большое письмо Валентине Петровне. Он ей описал осмотр тела Ванюши, рассказы Васи и знакомство с детьми Чапуры… И, когда кончал свои описания, вдруг понял, что напрасно исписал он шесть больших листов почтовой бумаги. Его жене это неинтересно. Ее это не взволнует так, как взволновало его…
"Да", — думал он. — "Мы разные… Мы чужие друг другу люди… Пятый год я женат на ней… Пятый год живем мы вместе — но она мне все чужая… Ей… верховая езда, веселый смех… Танцы… скачки… Офицеры… Разве я могу осуждать ее за это? Она другого мира, других понятий и убеждений. И сколько таких миров на земле!.. Сколько чужих тайн, проникнуть в которые можно, только… убив".
Еще думал Яков Кронидович о той неведомой таинственной силе, о руке, играющей людьми, как марионетками.
Вася убежден, что такая рука есть. Стасский грозит мистическим гневом. И не странно ли, что все мы такие разные и друг другу чужие: — я, моя Аля… «Моя» — он вздохнул. — "Мендель Дреллис, дети Чапуры, Вася — вдруг стали на одной доске, вышли на одну сцену, на одну житейскую арену. Замученный Ванюша нас как-то всех связал. Как то он нас и когда развяжет?"
Остывающий самовар на столе жалобно пел песню. Не к добру.
Яков Кронидович хотел разорвать написанное.
"А!.. все равно"… — подумал он и приписал внизу: — "Тебе, моя милая Аля, скучно все это. Может быть и вообще тебе скучно? А как Петрик и твоя езда с ним?.. Самое лучшее, если бы ты поехала в Захолустный Штаб к родителям. И им это была бы такая радость!.."
XX
Петрик не знал, радоваться ли ему тому, что он в конце второго года пребывания в Петербурге сдался на доводы Портоса и поехал к Валентине Петровне принести свои поздравления с днем рождения, или, напротив, огорчаться.
Когда Валентина Петровна была дивизионная барышня Захолустного Штаба, сладкое воспоминание детства и юности, и воспоминание чистое, — он мог успешно бороться с любовью, и пребывание в холостом лейб-драгунском Мариенбургском полку, солдаты и лошади, полковая семья, в настоящее время Кавалерийская Школа, как основательная подготовка к командованию эскадроном, с избытком наполняли его жизнь и в ней оставалось место лишь для веселых эскапад с Портосом, или Бражниковым, мрачным на вид Сумским гусаром, да для какого-то интересного и, во всяком случае, не банального флирта с нигилисточкой. Алечка Лоссовская была детство — счастливая невозвратная пора. Невозвратная — и вернуться к прежней старой любви было нельзя. Он увидал ее в день ее праздника и она ослепила его.
Прошло Благовещение — он был в церкви, бродил по улицам и не мог вытеснить поразившего его образа расцветшей "госпожи нашей начальницы". Не заржавела старая любовь, но засверкала новым, прекрасным блеском. Платья Валентины Петровны — он видел ее в городском taillеur'е и в розовом вечернем туалете — ее прическа, блеск глаз цвета морской воды, ставших большими, манера щуриться, чуть-чуть напоминавшая девочку Алю, прекрасный рост, легкая стройность — все говорило о женщине, — а она была и должна была остаться богиней, недосягаемой и недостижимой — «божественной». И Петрик сгорел бы в своей, вдруг точно из-под пепла раздутой и разгоравшейся любви, если бы не служба, не школа, не лошади, не занятия, бравшие целый день и не дававшие ему времени думать.
Петрик был влюблен в Валентину Петровну — он это сам себе прямо и честно сказал: — "Да… лучше не бывает женщин"… — но вспомнил советы командира своего холостого полка — барона Отто-Кто — "от лучших-то лучше подальше", и прогнал мечты "о ней", стал думать о школе, о своей Одалиске, готовившейся на скачку, об эскадроне, о славном лейб-драгунском Мариенбургском полке.
Он бодро шел в школу. Было туманное мартовское утро. Мягко по тающему снегу, налипшему на панели, позвякивали шпоры, ножны сабли холодили горячую руку. Кругом спешили такие же офицеры с палочками «филлисами» под мышкой. Рабочий день наступал. Он шел, а в ушах его звенели звуки рояля, слышался голос Лидии Федоровны; — "погоди! для чего торопиться"… Бурно колотилось сердце.
Портос обогнал его на своей машине… Бражников проехал мимо на извозчике, помахал приветливо рукою и крикнул хриплым непроспавшимся голосом: — "Здравствуй, Петрик".
Дубовая дверь манежа отворялась и хлопала на блоке. В проходе на кафельном в клетку с узорами полу, от нанесенного снега и опилок было скользко. Сверху, из просторной ложи, выходившей на два манежа, с тяжелой балюстрадой, навстречу входившим скакал на картине великий князь Николай Николаевич. В алой гусарской фуражке, в темно-синем с золотыми шнурами доломане, он на громадном сером коне прыгал через жердяной чухонский забор, стоявший на зеленом лугу. Подле портрета, у камина грелись офицеры. У барьеров ложи собравшиеся для езды офицеры — кто сидел на стульях, кто стоял. В углу, у камина, кутаясь в пальто с барашковым воротником, сидел худощавый горец, начальник отдала наездников полковник Дракуле и о чем-то спорил с заведующим старшим курсом рыжебородым ротмистром Дугиным. Кругом шумели голоса четырех смен офицеров. Манежи вправо и влево клубились белым паром. Там только что кончили езду смены наездников и эскадронной учебной команды и солдаты проваживали запотелых лошадей. Стучали доски убираемых барьеров.
Петрик поднимался по широкой лестнице в ложу. В голове еще стоял образ Валентины Петровны, и звенело в ушах: — "погоди, для чего торопиться…".
Как в парной бане, тускло и глухо слышались ему голоса. Он здоровался, улыбался и постепенно отходил.
— Lе chеval prеtе pour la fеmmе, mais la fеmmе nе prеtе pas pour lе chеval.
Это сказал хриплым голосом Бражников, ненавидевший школу. Богатый барич, бабник — он томился в школе среди соблазнов петербургской жизни.
Ему что-то возразил Портос.
— Пагады, зачэм гаварышь неправду, — с кавказским акцентом говорил Дракуле, — сила нужна, канэшно, но искусство нужнее. Я тэбе всякую лошадь на пассаж поставлю и Филлис ставил, когда ему семьдесят лет было.
— В руках ставили. С вестовым бичом подбивали.
— Зачэм в руках?
— И чего Лимейль преследует итальянскую школу, — слышался в другом углу голос Зорянко. — У Дугина вся смена работает по-итальянски — и посмотрите, какие прыжки!
И опять хрипел Бражников:
— Муж мой наездник — наездница я… Днем на коне… А…
— Господа офицеры! — скомандовал, вставая со стула, Дракуле. В манеж поднимались помощник начальника школы, генерала Лимейля, генерал князь Багратуни и начальник офицерского отдела, полковник Драгоманов.
Драгоманов взглянул на круглые часы, висевшие над портретом — они показывали ровно девять — и когда князь Багратуни, откозырнув офицерам, мягко сказал: — "господа офицеры" — властно, начальническим голосом скомандовал:
— Попрошу по коням!
Рабочий день начался.
XXI
Он тянулся для Бражникова и Портоса длинный и утомительный, летел для Петрика, веселый и интересный, с девяти часов утра до пяти вечера с часовым перерывом на завтрак.
Выездка, доездка и вольтижировка занимали время до двенадцати. Манеж, манеж и опять манеж. Гнедые лошади, еще не вполне развитая молодежь — выездка под руководством терпеливого и настойчивого ротмистра Аделова, рыжие лошади пошустрее, и гибче — доездка под руководством ротмистра Дугина, все одна и та же «сокращенная» рысь десятками минут, принимания, крики инструктора-учителя: — "повод! шенкель! мундштук!" Запах конского пота. Промокшая конскою слюною перчатка, когда, работая "в руках", водили лошадей в поводу по манежу, заставляя открывать пасть и, закрывая, сгибаться в затылке, крики поощрения — "ай-брав!", похлопывание по шее… Барьеры — жердяной у стенки, закрепленный наглухо; досчатый красный, так называемый «гроб», канава, зияющая посередине манежа, мерный топот галопа и в такт ему дыхание лошадей… Все то же и то же — второй год школы для Петрика; все то же и то же впереди на многие годы — такова жизнь кавалериста-наездника.
И нужно было быть Петриком, чтобы любить это, и в этом забывать все.
Ни Бражников, ни Портос, работавший в смене причисленных к генеральному штабу, не видели разницы между лошадьми: что выездка, что казенная, что собственная: все были «звери» и часто — неприятные тупые звери. Они закидывались и обносили на барьерах. Они могли упасть и убить, как убила в прошлом году штабс-ротмистра Рыбкина на этом самом гробу опрокинувшаяся с ним лошадь. Они работали с тоскою и отвращением. Не то была школа для Петрика. Его «выездка» — гнедой конь Мармелад, его «доездка» — рыжая кобыла Лиана, «казенный» Сопруновский Аметист и собственная чистокровная Лазаревская Одалиска — это все были для Петрика живые существа с душою и с понятием. Он их любил. Лиана гнулась не так, как Мармелад, и Аметист был как старый, добрый друг. Петрику казалось, что, когда шел он мерным галопом на полуторааршинный забор и колебалась его в бронзу отливающая грива, он прял ушами и точно говорил: — "не бойся, барин, не подведу!" Был он, как славный мужик-степняк, преданный Петрику. А Одалиска! — Для Петрика Одалиска была целая история. Он завоевал ее, он покорил ее и она отдалась ему, как отдается гордая девушка, вдруг горячо полюбившая своего мужа.
И потому-то эти часы рыси и галопа, пропотелого насквозь кителя для Петрика не были мучением. В обработке своих лошадей он видел цель жизни.
На третьем часе — чиновник Алексеев, сухой человек, ему можно было дать и тридцать и пятьдесят лет, точно на всю жизнь заведенный, чтобы прыгать с лошади и на лошадь, учил вольтижировке. Обтянутая одним троком с ручками, жирная вольтижерная лошадь бегала по маленькому светлому манежу.
В такт ее скоку отсчитывал темп Алексеев.
— Раз-два-три-четыре!.. Толчок! Сильнее ногами…Мягче в седло…
Офицеры сидели в ложе, ожидая своей очереди.
Петрик вольтижировал уже второй раз. Он проделывал не уставные, а цирковые номера: — скакал, стоя на крупе, соскакивал и вскакивал на лошадь с разбега, легко делал двойные ножницы.
Он еще сидел на лошади и, свободно опустившись ей на спину и отдаваясь ее плавному движению ехал шагом, оживленно и весело распрашивая Алексеева, как ловче сесть сразу задом на перед, когда в ложе появился Портос. Он только что отработал в манеже «казенную», и, накинув пальто, пришел искать Петрика.
— Петрик, — крикнул он, — идем завтракать. Дело есть.
— Сейчас… Один прыжок… Петрик пустил лошадь галопом.
— Идем, идем… — говорил Портос, глядя, как ловко прыгает Петрик. — Нечего мудрить. Шею, брат, сломаешь. Не казенная твоя шея.
XXII
В столовой Петрик завтракал не в своем отделении, а по приглашению Портоса за столом «причисленных». «Загремевший» утром на канаве маленький белокурый Глоталов выставлял по школьной традиции сладкие пирожки к чаю. Портос угощал ими Петрика.
— Ешь, милый Петрик. Ты ведь любишь сладкое. Не куришь… Не пьешь…
Дело, по которому Портос позвал Петрика завтракать со своею сменою заключалось в том, что на завтра, воскресенье, Петрик должен был приехать к часу дня к Валентине Петровне, чтобы сговориться с ней, когда и как им ездить верхом.
Петрик был очень смущен. Он только что усилием и работой прогнал безсмысленные мечты о "госпоже нашей начальнице" и решил больше у нее не бывать, замкнуться в своей холостой жизни… а тут… такая история.
— Я имею передать тебе… Этакий ты, право счастливец!.. Вчера я был у Валентины Петровны, черствые именины справляли, и она меня просила передать тебе, что она очень просит, чтобы ты вспомнил Захолустный Штаб и ездил бы с нею…
Петрик растерялся.
— Но… постой… как же это… где? на чем?
— Твое дело… На лошади, я думаю, не на палочке же верхом… Она, брат, тебя, а не меня просила. Дай ей Одалиску!..
— Но ты знаешь, что начальник отдела не разрешает брать лошадей из школы.
— Езди в школе…Скачкова же ездит…Госпожа фон Зон к конкурам готовилась у нас!
— Но мне не позволят дать лошадь… И потом. Мне кажется, Валентина Петровна лет пять, если не больше не ездила.
— Это не забывается… Это как плавание. Сядет и поедет… А лошадь можешь нанять у наездника Рубцова.
— Не попробовать ли лучше в манеже Боссе раньше.
— Это уже, повторяю, твое дело… Ей-то, думаю я, хочется на волю, на Острова, или в Летний Сад.
— Но как же, как же так, — бормотал Петрик.
— Так завтра к часу у нее. С ней и сговоришься — "как же". Эх голова, голова! Другой бы от такого предложения на одной ножке от радости прыгал! — а ты… Ну начни у Боссе, а там видно будет. На Пасхе лошади свободны, что-нибудь и устроишь.
По всей столовой офицеры двигали стульями, вставая из-за столов. Наступал четвертый час занятий.
— У тебя что? — спросил Портос.
— То же, что и у тебя — тактика. Барон Финстерло будет читать.
— Ну ты иди, иди… А мне и в академии она уж осточертела… Пойду в библиотеку подремать на диване, если никто другой его не занял.
Портос помахал рукою уходившему из столовой Петрику.
— Просвещайся, милый друг!.. Науки юношей питают… А старцам — какая в них отрада?
На тактике в широком и большом классе с окнами, замазанными мелом, Петрик слушал рассеянно. Финстерло говорил что-то о французском взгляде на кавалерию, как на ездящую пехоту, об огневом бое конницы — все это было очень интересно, но сейчас мысли Петрика были о другом.
"Не распускаться"… — думал он. — "Надо взять себя в руки… Ну — она просит учить… И буду учить как учил бы молодого офицера… Выправлю ей посадку и забуду, что она женщина, что она «божественная», королевна детской сказки… Она будет — королева — я ее берейтор"…
Мимо ушей плыли слова, имена немецкого генерала фон Бернгарди, французского академика Фоша — о, как недостижимо далеко казалось это теперь Петрику и, пожалуй, не нужно.
В классе позевывали, кое-кто дремал. Два часа езды и час вольтижировки, да сытный завтрак, которым угостил собранский буфетчик Филипп Иванович, делали свое дело. Барон Финстерло не обижался. Он знал, как все это размаривало его тридцатилетних учеников.
По корридору школы звонко и резко, так, что задребезжали стекла в дверях раздался сигнал: «слушай». Класс был кончен. У Петрика было фехтование.
В большом зале стоял гомон криков. На свежего человека то, что там происходило, могло произвести впечатление сумасшедшего дома. На восьми веревочных просмоленных дорожках восемь учителей унтер-офицеров давали уроки восьми офицерам. Человек двадцать в ожидании очереди жались по стенам залы. В углу стояла большая деревянная лошадь, обтянутая кожей и поседланная солдатским седлом. Вокруг нее на особом приспособлении крутилась подстановка с мокрой глиной, поставленной цилиндром и длинным ивовым прутом. На лошади сидел офицер и тяжелой солдатской шашкой рубилу то глину, то хворост.
Звуки падающей глины, треск ломаемого при неловком ударе хвороста, крики, сливались в нестройный гул, где со стороны трудно было что-нибудь разобрать.
— Ан-гард, садитесь!.. Обман правый бок!.. С кругом голову руби!.. Шаг вперед!.. Двойной шаг назад!.. Коли… Скачок назад… — раздавались одновременно команды. Звенели эспадроны, скрещиваясь с эспадронами… Мягко хлопали по кожаным наващенным нагрудникам удары. Топали ноги и то тут, то там раздавались крики: — Туше!..
Штабс-ротмистр Бражников стоял безучастно в углу и смотрел на Петрика. Петрик снял для легкости высокие сапоги и в особых фехтовальных туфлях дрался вольным боем с лучшим учителем унтер-офицером Дьяконовым.
— Туше! — третий раз крикнул Дьяконов, отскакивая от полученного удара. Петрик опустил эспадрон. Он снимал левой рукой проволочную маску с возбужденного раскрасневшегося лица.
— С вами, ваше благородие, не раздерешься… Шибко хорошо стали фехтовать.
Счастливый Петрик увидал Бражникова.
— Бражников! — крикнул он, — давай сразимся.
Бражников брезгливо пожал плечами.
— Бедлам какой-то, — прохрипел он. — С ума сойти можно… С вами, Ранцев?.. Нет, это, ах оставьте. У меня нога что-то болит. Да и в манеж пора. Смотрите, как вы согрелись. Простудитесь, двором идя.
Петрик надевал сапоги и, сняв нагрудник со вспотевшей шелковой рубахи, вдевал руки в рукава легкого кителя.
И, щеголяя разогревшейся от движения кровью, помолодившею его тело, он без пальто бегом побежал по двору и через улицу в большой манеж, где ждала его езда на собственных.
XXIII
Этот час для Петрика был точно свидание с любимой женщиной. Он, в полку долгие часы учений, а на маневрах целые дни проводивший со своей прекрасной чистокровной Одалиской, здесь, в школе видел ее только в этот час езды. Этот час — было общение с полком, воспоминание о нем. Одалиску держал его вестовой драгун Лисовский, приехавший с ним из полка. Одалиска была выстрадана Петриком. Четыре года тому назад, скопив шестьсот рублей, Петрик поехал в Москву на аукцион скаковых лошадей. Его мечта была скакать, взять Императорский приз, прославить своею победой Мариенбургский полк.
Был тихий туманный осенний день — 1-е октября. Обычный Московский аукцион. Было около сотни прекрасных лошадей. Но какие цены!.. Покупали больше коннозаводчики, не стоявшие за деньгами. Рядом с Лимейлем хорошенькая барышня, почти девочка, с красивым видным штатским и с мальчиком-лицеистом, азартно торговала Лазаревскую "Львицу".
Это была самая нарядная, самая резвая лошадь аукциона. Генерал Лимейль сказал про нее:
— С этой лошади статую лепить… Что Венера в мире человеческом — то эта лошадь в лошадином.
— Правда? — обернувшись к Лимейлю воскликнула девушка. — Папа, во что бы то ни стало купи мне ее.
Торговал Львицу и Петрик. Дошел до цифры шестисот — роковой своей цифры, и завял.
Львицу взяла девочка за три тысячи рублей!
"Где же офицеру — такие бешеные деньги!", подумал тогда Петрик и слезы навернулись ему на глаза. И, уже в конце аукциона, вывели Одалиску. Это была нервная лошадь. Она била задом. И когда кричали из круга покупателей — А ну, проведи!
Она не желала идти.
— Торгуйте, поручик, — шепнул Петрику Лимейль, — лошадь великолепная… Нрав тяжелый — да в полку обломаете… Пойдет недорого.
Петрик опять дошел до шестисот и забастовал.
— Шестьсот! — Кто дает больше? — вы? — крикнул аукционист.
— Рубль, крикнули вправо…
— Рубль, отозвались слева.
— Еще рупь…
— Рубль…
— Что же вы, поручик, — толкнул его генерал Лимейль.
— У меня, ваше превосходительство, нет больше денег и негде их достать.
— Торгуйте, торгуйте, я вам дам, грех упустить такую лошадь барышнику. Тогда и за три тысячи ее не выкупите, — и сам Лимейль крикнул: — шестьсот десять!
— Кто дает?
— Вот поручик!
И опять побежало: — рубль… рубль… рубль…
За шестьсот семьдесят рублей досталась Петрику Одалиска. Шестьсот заплатил он, и семьдесят дал ему генерал Лимейль, в первый раз увидавший офицера на аукционе, но чуткой душой понявший его.
— Отдадите мне из первого вашего приза!.. Императорского, — сказал Лимейль горячо благодарившему его Петрику.
Ну и намучился с ней в полку Петрик! Два года она не давалась ему — и только в школе, точно что случилось с ней, вдруг вся она переменилась, стала: внимание, усердие — и через год сделалась лучшею лошадью смены и украшением всего курса. Тогда Петрик получил разрешение готовить ее летом на Красносельскую скачку.
Он подходил теперь к ней, стоявшей в сумраке манежа, на фланг смены и его сердце билось радостью свиданья. Она узнала его. Она настремила уши и тихо, стесненная железом во рту, заржала.
— Ишь голос подает… Увидела хозяина, — ласково сказал Лисовский.
— Овес хорошо ела?… — быстро спрашивал вестового Петрик. — Спала хорошо?
А сам глазами охватывал весь стройный корпус своей любимицы.
— Весь выкушала… Играет в станке… балуется…
Офицеры разбирали лошадей. Заведующий сменой, высокий ротмистр Баранов командовал "садись".
И когда мягко опускался в седло Петрик — он ощутил великую радость полной слиянности со своею милою Одалиской.
Последний час, от 4 до 5-ти, когда уже все устали, была езда на казенных. Добрый старый Аметист, из рыжего ставший с годами бурым, равнодушно-покойно встретил Петрика, как опытный егерь мужик встречает барина, приехавшего на охоту.
По всему манежу были наставлены барьеры. Очень высокие. Четырехаршинная канава была раскрыта.
Когда Петрик садился на Аметиста — тот точно сказал: — "ничего!.. поскачем!"
Бражников отговорился головною болью и его вороного Жерминаля увели на конюшню, а он сам со скучающим видом сел в ложе и смотрел, как в мутном свете больших круглых фонарей скакали и прыгали офицеры старшего курса. Кто-то загремел на канаве и его вынесли замертво в маленькую комнатку при манеже и послали за доктором, но он скоро очнулся и пожелал снова сесть на лошадь, чтобы "не потерять сердце".
— Чудаки… варвары, — ворчал Бражников, поеживаясь плечами. — А Ранцев, поди, доволен… Теперь бы в постель перед обедом… Праздничный сон — до обеда…
А в манеже все скакали и рубили глину и хворост, а по другую сторону ложи, в другом манеже, скакали с пиками казачьи офицеры и топот карьера лошадей еще более раздражал Бражникова.
— К чему?.. Ну к чему? — ворчал он про себя. — Теперь, когда аэропланы… Разве нужно все это?
XXIV
Веселый, ярко освещенный, чистенький и в этот час пустой трамвай № 4 "Лафонская площадь — остров Голодай" быстро доставил Петрика на Адмиралтейскую площадь.
Петрик пошел, огибая решетку Александровского сада. Деревья и кусты были голы, но от земли, только что освободившейся от снегa, пахло нежным запахом земли. В светлом небе темным силуэтом рисовались стройные линии Зимнего Дворца. Дворцовый мост горел огнями фонарей. С Невы тянуло свежим холодком.
Нева только третьего дня очистилась от льда, и вчера, по двухвековой традиции, при пушечной пальбе, на темно-синем гребном катере престарелый комендант Петропавловской крепости переправился через нее к Зимнему дворцу и открыл навигацию.
Уже издали Петрик увидал знакомый дом на далеком, противоположном берегу. Он с замиранием сердца смотрел на него. Сейчас почти во всех его окнах был свет и на пятом этаже заветное окно светилось красным пятном. «Нигилисточка» была дома.
За кустами сквера, на набережной, скрипела пароходная пристань. Толпа стремилась на пароход. Внизу над темными, казавшимися совсем черными волнами качались красный и желтый огни фонарей. Под мостом, у деревянного плота, к которому широкая спускалась лестница, прыгали желтые огоньки яличных фонариков и от них по волнам струились блестки отражений.
Петрик спустился к яликам и спрыгнул в плоскодонную ладью.
— К Мытному, — сказал он.
Яличник, не cпешa, снял тяжелый тулуп и расстелил его под себя на носовой банке.
— Одни пойдете, или подождете еще кого пассажиров, — спросил он для порядка, зная, что офицер поедет один.
— Один, — сказал Петрик.
Мужик поплевал на руки и взялся за весла. Ялик запрыгал по волнам. Пристань, огни набережной стали удаляться.
На реке — какая-то молодая радость охватила Петрика. Он забыл усталость рабочего дня, в голове его стало все просто и ясно, и так хорошо было теперь подойти к той тайне, что влекла его с самого их оригинального знакомства, когда он ночью, нахрапом, едва ли не с пьяных глаз ворвался к чужой девушке.
"Нигилисточка" — Агнеса Васильевна Крейгер стала охотно принимать у себя Петрика. Она «просвещала» его. Он смотрел в ее большие, как лампады горящие глаза, слушал ее речи, казавшиеся ему безумными, и ему казалось, что он ходит по самому краю крутого скользкого обрыва, а под ним — бездонная пропасть. Эта пропасть тянула.
То, что он услышал в кабинете Якова Кронидовича от Стасского — было ужасно. Но то говорил выживший из ума, желчный и злобный старик, пускай — первый ум в России — и говорил в кругу своих «благонамеренных» людей. Его слушали и знали, что этот вызов Богу, эта критика правительства, это поношение Русских героев- барская блажь, самодурство барина, богатого человека, взысканного этим самым правительством и им обласканного, — у Агнесы Васильевны — это шло куда-то в народ, которого Петрик не знал, и который — так уверяла «нигилисточка», она отлично изучила и знала.
Петрик пошел на красный огонек, чтобы заглянуть под чужой череп. Он увидал здеcь так много нового, чуждого ему, что растерялся, испугался и, почувствовав, что стоит перед омутом, не мог от него отойти. Омут тянул его.
"Нигилисточка" не то чтобы была красива: разобрать строго — куда же ей до Валентины Петровны!.. Очень худая — от недоеданий ли, от сгорания ли в своей «идее», от усиленных ли занятий, может быть, просто от туберкулеза — она была стройна, высока и изящна. Тело в ней как-то забывалось — была одна душа, — знойная, сгорающая сама и зажигающая других, непокорная и мятущаяся. Одевалась она не без кокетства. Всегда какие-то длинные платья, многими ровными складками ниспадающие к полу, талия где-то под мышками — не то костюм республики, не то древнегреческий хитон, прекрасные, густые, темно-каштановые волосы причесаны просто, сзади завязаны узлом, но на лбу затейливые локоны. Руки с тонкими пальцами без колец. У ней, оказалось, есть и прислуга — Глаша. Не то служанка, не то подруга — как будто ровня Агнесе Васильевне. Глаша подаст самовар и сама сядет к столу, разливает чай и себе нальет. Сидит, слушает и молчит.
Когда звонил Петрик к Агнесе Васильевне — теперь уже с парадного подъезда, он чувствовал, что будет интересно, волнующе, даже страшно, но скучать не придется.
Торопливые шаги, вопрос за дверью, — "кто там"? и — "войдите, Петрик, я вам очень рада".
XXV
В платье цвета розового аметиста, отделанном кружевами цвета сливок, без украшений, без браслетов, брошек и колец, она стояла в прихожей, пока Петрик отстегивал по ее приглашению саблю и вешал пальто.
— Что давно не жаловали? — спросила Агнеса Васильевна, первая входя в кабинеты.
— Был занят… Каждый день репетиция конного праздника…
— Сколько лошадей сегодня "работали"?
— Если считать вольтижировку — пять.
— Я думаю, вам снятся лошади?
— Снятся… нет… Я снов не вижу… Устаю очень… А вот закрою глаза — и все вижу: то водят мимо меня лошадей, то сам езжу.
Агнеса Васильевна полулегла на оттоманку, достала из бронзовой папиросницы папиросу и медленно закурила.
— Курите, Петрик… Ах да… Я забыла… Вы образцовый офицер… Холосты… не курите… только пьете. Пить-то вам полагается. "Кавалеристу нужен ро-ом"…
Петрик сидел в кавказском кресле с круглыми вальками. Перед ним на столе, под лампой с красным абажуром лежали книги, газеты, тетради.
В теплой, пахнущей духами и душистым дымом комнате было тихо. За двойными рамами не слышен был город. Да и место было спокойное.
— Дурман… — сказала Агнеса Васильевна. — Одурманивают людей… И офицеров тоже.
Она потянулась всем гибким телом и с другого конца оттоманки, с этажерки, стоявшей за ней, достала тетрадь с синими, блеклыми строками гектографических чернил. Она протянула ее Петрику.
— Прочтите, Петрик, а я пойду распоряжусь о чае.
Петрик взял тетрадь. Наверху каллиграфическим почерком, в завитках, было выведено: "Офицерская памятка". Под заголовком, эпиграфом стояло два евангельских текста. В бронзовой пепельнице тлела папироска и от нее прямою, узкой, голубоватой лентой шел дым, кудрявился и разбивался под абажуром лампы. Углы комнаты были в тени. Петрик углубился в чтение расплывчатых и бледных строк. Кровь стучала в виски. Ему было стыдно и страшно от того, что он читает. Внизу подпись: "Лев Толстой". Гаспра. 7/20 декабря 1901 года". Петрик прочел и не понял. Прочитанное им не совмещалось с понятием о его любимейшем писателе, авторе "Войны и Мира" и "Анны Карениной". Петрик сидел, задумавшись, опустив красивую голову. Рукопись лежала у него на коленях. Он вздрогнул, когда быстрыми широкими шагами вошла Агнеса Васильевна.
— Прочли?
— Это кто же написал? — поднимая голову, с грустью спросил Петрик.
— Вы видели подпись… Лев Толстой…
— Это… тот самый… который… "Войну и Мир" — и как Ростов на смотру увидел Государя?
— Да.
— Не может быть.
— Почему?
— Это же все неправда… Неправда все, что тут написано,
— То-есть как это неправда?
— Во-первых…
Но, как только Петрик сказал «во-первых» — он сейчас же вспомнил Валентину Петровну, как она ему сказала: "не говорите «во-первых», у вас никогда не бывает «во-вторых» и он завял. Он растерянно перелистывал брошюру. Агнеса Васильевна ходила взад и вперед по комнате.
— Ну, что "во-первых"? — сказала она, останавливаясь спиною к окну. Ее тень красиво и четко легла на простой белой шторе.
— Тут написано, что в "Солдатской памятке" Драгомирова сказано, что Бог есть генерал солдат: Бог ваш генерал". Но это неправда.
— Толстой солгал по-вашему?
— Это слова Суворова, Суворов, заканчивая поучение, говорит: "Молись Богу! от Него победа! Чудо богатыри! Бог вас водит, Он вам генерал!"
— Ну, разве не то самое?
— Совсем не то. И зачем граф Лев Николаевич Толстой передергивает? "Бог ваш генерал" — это совсем не то, что "Бог вам генерал"… Мне неприятно, что Толстой, знаете… так… Это не честно.
Агнеса Васильевна пожала плечами и снова начала курить.
— Дальше?
— Позвольте, я вам прочту.
— Читайте.
— Это написано за 4 года до Японской войны в 1901 году — и вот, что пишет Толстой.
Петрик подвинул рукопись к лампе и стал читать, торопясь и сбиваясь:
— "Ведь хорошо было лет 100 или 50 тому назад, когда война считалась неизбежным условием жизни народов, когда люди народа, с которым велась война, считались варварами, неверными или злодеями, и когда в голову не приходило военным, чтобы они были нужны для подавления, или усмирения своего народа, — хорошо было тогда, надев пестрый, обшитый галунами мундирчик, ходить, гремя саблей и позванивая шпорами, или гарцовать перед полком, воображая себя героем, если еще не пожертвовавшим, то все-таки готовым жертвовать жизнью для защиты своего отечества. Но теперь, когда частые международные сношения — торговые, общественные, научные, художественные — так сблизили народы между собою, что всякая война между современными народами представляется чем-то вроде семейного раздора, нарушающего самые священные связи людей, когда сотни обществ мира и тысячи статей, не только специальных, но и общих газет, не переставая, на все лады разъясняют безумие милитаризма и возможность, даже необходимость, уничтожить войну; теперь, когда — и это самое главное — все чаще и чаще приходится военным выступать не против внешних врагов для защиты от нападающих завоевателей или для увеличения славы и могущества своего отечества, а против безоружных фабричных, или крестьян, — гарцование на лошадке в украшенном галунами мундирчике и щегольское выступание перед ротами уже становится не пустым, не простительным тщеславием, как это было прежде, а чем то совсем другим"… и дальше в том же духе…
Петрик положил рукопись на стол.
— Это неправда?
— Конечно, неправда… Смешно и глупо писать такие вещи офицерам. Может быть, какой нибудь глупый штатский идеалист…
— Или дурочка-девушка, — вставила Агнеса Васильевна.
— Или сентиментальная девушка поверит в это, но офицер… Да ведь перед глазами весь обман этого. Это писано, когда только что окончилась война с китайскими боксерами… Англо-бурская… Русско-японская… Сербо-болгарская… и сейчас товарищи мне пишут из полка, чтобы я торопился вернуться. На немецкой границе не спокойно…
— Мы будем воевать с немцами? — опять пожала плечами Агнеса Васильевна.
— Возможно, и будем. И во всяком случае это зависит не от миротворческих статей, а от того, какие "мундирчики будут на офицерах и как они будут гарцовать на лошадях и выступать перед ротами".
— Вот как!
— Что касается до усмирений "смирных, трудолюбивых людей, желающих только, чтобы у них не отнимали того, что они зарабатывают", то это опять неправда, недостойная Толстого.
— Да?
— Когда вооруженные чем попало крестьяне идут громить помещичью усадьбу, убивают помещика, бьют его племенной скот, жгут дом и службы, — это, простите, не смирные и трудолюбивые люди. Это грабители!.. Когда озверелая толпа бежит громить еврейскую бедноту — это, простите, тоже не порабощенные люди и удерживать их, хотя бы и угрозой убийства и даже самым убийством — тяжелый долг… Благородное, а не подлое дело!.. И сколько офицеров и солдат погибло, исполняя этот свой долг.
— Толстой про усмирение еврейских погромов ничего не пишет, — сказала Агнеса Васильевна.
— По-вашему — христианская кровь вода — ее не жалко лить… А еврейская… Вот убили где-то мальчика Ванюшу Лыщинского и о нем очень мало пишут, но все газеты полны возмущением, что в этом убийстве подозревают евреев.
— Как вы не понимаете, Петрик, что это может вызвать погром!
— Тогда…. Надо как можно скорее вступиться правосудию… И никому никакой погром не понадобится.
— Этого нельзя сделать.
— Почему?..
— Петрик, вы ужасно как наивны. Мимо вас идет большая сложная жизнь, a вы даже ею не интересуетесь.
— У меня есть свое большое дело и оно берет меня всего.
— Вот ваш товарищ Портос — он с первого же знакомства заинтересовался этим. Его это увлекает и он видит грядущие перемены и потрясения. Так жить, как живет Русский народ, нельзя. Самая большая страна в миpе должна выйти на подобающее ей первое место.
— Она и так на нем стоит.
— Полноте… Так ли это? Вы сами-то верите в то, что говорите?… Вы слыхали про третий интернационал?
— Это Шигалевщина? Читал в "Бесах".
— Не судите о социалистах по Достоевскому. Он заблуждался. Вы знаете, что такое партия?
— В безик, или в винт?
— Не шутите, Петрик. Вы мне очень полюбились и я бы хотела, чтобы и вы поняли, что то, в чем вы живете — это не жизнь. Если вы не переменитесь, не поймете, не узнаете, что есть другая жизнь, идущая параллельно вашей, вы не сделаете добра России. Вам надо изменить свой путь, вам надо ближе познакомиться с людьми, горящими идеей, как некогда горели ею христиане, послушать их и понять. И тогда вы совершенно иначе отнесетесь к Толстовской памятке…
Она замолчала. Петрик слушал ее, не проронив ни слова. Он ею любовался. Она подошла к нему, сидевшему в кресле и долго смотрела ему в глаза.
— Я вижу, Петрик, что все-таки вы кое-что читали. И наверно помните, как в "Войне и Мир" Толстой описывает, как к княжне Марье в Лысых горах приходят ее Божьи люди. И князь Андрей их видит. Я бы хотела, чтобы вы посмотрели моих божьих людей.
— У вас бывают монахи и странники?..
— Не совсем так. Мои божьи люди в Бога не веруют, но они до некоторой степени монахи и странники поневоле. Посмотрев их и послушав, вы станете многое иначе понимать.
— Это… социалисты?
— Вы посмотрите и послушайте… И Портос будет. Приходите ко мне в среду. Совсем просто. Послушайте… подумайте… Как те Божьи люди — так и мои божьи люди — люди простые, немудреные, но сколько в них силы и правды!..
Она быстро подошла к двери, ведущей в столовую и распахнула ее. Там за накрытым столом, где бурно кипел самовар, сидела, ожидая их, Глашенька.
XXVI
Кто была Агнеса Васильевна и кто такие ее божьи люди? Имеет он право отказываться от свидания с ними — раз только он желает продолжать волнующее знакомство с этой девушкой.
От нее пахнет туберозой. Ее глаза в темном обводе век кажутся громадными и сияют, отражая огни ламп. Подлинно: — лампады! Какой свет несут они? И может он входить дальше и глубже в ее жизнь и может он, как офицер, знакомиться с ее божьими людьми?… Что бы сказали об этом в полку и как отнесся бы к этому барон Отто-Кто? Петрик выспрашивал об Агнесе Васильевне Портоса. — "Славная девочка", — сказал, широко улыбаясь, Портос. Он что-то про нее уже узнал, нанюхал своим большим, красивым носом… "Может быть", — думал Петрик, — "я дурака валяю. Это своего рода снобизм… Эта Толстовская памятка, отпечатанная, как прокламашка на гектографе… и сладкий дымок тонкой папироски в маленьких, тонких и длинных пальчиках… Игра, чтобы увлечь… Она усердно подливала коньяк в его чайный стакан, и себя не забывала. Она, как видно, любила жизнь… Что же, что ее квартирка на пятом этаже — она живет не бедно… Откуда у нее средства? Прошло уже два месяца, что он знаком с нею. Он почти каждую неделю у нее, сидит до поздней ночи по субботам, — и ничего не узнал, что кроется под ее красивым черепом. Кто она? Нигилисточка?… Быть может, совсем нет, — Портос знает тот ключик, которым отпирается ее сердечко, все еще замкнутое для Петрика.
Чай с коньяком его, возбуждал, запах туберозы кружил голову. Глаза-лампады сияли. Он, Петрик, свободен как ветер, и та, кто заколдовала его — чужая жена. И… "не пожелай жены ближнего твоего"…
Агнеса Васильевна посматривала на Петрика и точно читала в его душе его мысли, как в раскрытой книге. Он ничего не мог прочесть в ее душе, хотя и смотрел, не спуская глаз в ее переливающиеся огнями лампады.
— Теперь совсем о другом, — вставая, сказала нигилисточка.
Они прошли в ее кабинетик. Она села в угол тахты, Петрик в кресло.
Она взяла с круглого столика книгу и раскрыла ее. Свет лампады с красным абажуром падал только на нее. Вся комната была в тени. Огни продолжали играть в ее глазах.
Петрик любовался тонкими, длинными пальцами маленькой, красивой руки. Каждое движение ее в мягкими складками облегающем платье было красиво. Низ лица был закрыт книгой. Над обрезом переплета был чистый лоб и тонкие темные брови. Яркий свет падал на него и Петрик видел чуть заметные ниточки морщин. Тени от локонов безпокойно бегали по лбу при движении головы. И сладкий запах туберозы шел от волос.
— Это Блок, — сказала низким грудным голосом Агнеса Васильевна. — Вы слыхали?..
— Никак нет… — встрепенулся Петрик.
— Стыдно… После Пушкина… Я лично не признаю Пушкина… После Пушкина — это величайший поэт. Вот посмотрите это… Прямо для вас:
"Всадник в битвенном наряде, В золотой парче, Светлых кудрей вьются пряди, Искры на мече. Белый конь, как цвет вишневый, Блещут стремена… На кафтан его парчовый Пролилась весна…"Агнеса Васильевна прочла стихи по-своему, нараспев. Музыка была в ее голосе и в стихах. Они показались Петрику прекрасными.
— Да… очень хорошо, — прошептал он. — Белый конь, как цвет вишневый… Прекрасно!
— А вот это — еще лучше.
Агнеса Васильевна стала читать со страстным вызовом:
— "…Опять с вековою тоскою, Пригнулись к земле ковыли, Опять за туманной рекою Ты кличешь меня издали… Умчались, пропали без вести Степных кобылиц табуны, Развязаны дикие страсти Под игом ущербной луны. И я с вековою тоскою, Как волк под ущербной луной Не знаю, что делать с собою"…Небрежным движением Агнеса Васильевна бросила книжку в угол тахты. Гибко вставая, выпрямилась, потянулась тонким станом и, заламывая руки над головою, распевно, повторила:
— "Развязаны дикие страсти Под игом ущербной луны. И я с вековою тоскою, Как волк под ущербной луной Не знаю, что делать с собою"…Полшага отделяло ее от Петрика. У его головы был ее тонкий, трепещущий стан. Сильнее был запах тубероз. Точно вся она была им пропитана и благоухала, как нежный цветок. Петрик несмело протянул руку, охватил ее стан и потянул к себе, побуждая ее сесть ему на колени. Неожиданно сильным движением она вырвалась из под его руки и отбежала в угол комнаты, к окну.
— Какая… — с отвращением воскликнула она, — офицерская пошлость!
Петрик быстро встал. Лицо его покрылось густым румянцем и горело, как от пощечины. «Пoшлость» он бы снес… «Офицерская» — стегнуло его по лицу, как хлыстом. Ноги его обмякли. Глаза налились кровью. Он схватил рукою тяжелую медную папиросницу и она задрожала в его руке…
Агнеса Васильевна побледнела и, овладев собою, холодно сказала:
— К вам это не идет, Петрик… Предоставьте такие поступки… Портосу…
Петрик оставил папиросницу и поднял глаза на Агнесу Васильевну.
— Что… Портос?.. — глухо сказал он.
— Жеребец в мундире… А в вас… Вам я больше верила…
— Простите меня… — сказал Петрик. — Я вас, выходит, не так понял.
Он пошел к двери, низко опустив голову.
— Петрик? — окликнула Агнеса Васильевна. Он остановился, не оборачиваясь и стоял спиною к девушке.
— Петрик, постойте… Может быть, это я сама виновата.
— Вы меня, — тихо сказал Петрик, — могли оскорбить… Я то оскорбление заслужил… И прошу простить меня… Вы оскорбили офицеров… Вы задели самое святое во мне. Будь вы мужчина — я бы знал, что делать… Вы девушка… Оскорбление остается на мне.
— Будь вы мужчина — вы бы… что?… ну… говорите… что вы сделали бы со мной?..
— Я бы вызвал вас на дуэль…
— Вызывайте! Я готова драться.
— Это не шутки, Агнеса Васильевна, это очень серьезно.
— Ну, а если бы вас, скажем… ударила бы по лицу женщина?…
— Я должен поцеловать ту женщину.
— Целуйте меня!
— Поздно… Момент… упущен… И я не знаю, что мне делать…
— Простите меня, Петрик, — тихо и серьезно сказала Агнеса Васильевна. — Я, правда, не знала, что есть такие люди, как вы…
Петрик вышел в прихожую, взял саблю, пальто и фуражку и, не надевая их, пошел на лестницу. Ему казалось унизительным и неприличным при Агнесе Васильевне поднимать полы кителя и протягивать на рейтузы поясную портупею.
Агнеса Васильевна стояла посередине комнаты. Она провела рукою по лицу и рассеянным движением поправила на лбу волосы.
"Ах, вот как!" — быстро подумала она. — "Есть, значит, что-то высшее и у них, за что они готовы отдать все… Портос… Портос, конечно, знал бы, что ему делать — и валялась бы я на этой самой тахте под ним, как уже валялась, не в силах обуздать своей похоти и не чувствуя надобности стеснять себя в своих желаниях… Желала ли я сейчас Петрика?.. Да, желала. И возьми он меня не трепетною рукою, а сильно и властно и… опять летела бы я в бездну, как летала не раз, шептала бы: — "не надо, не надо!.. а сама обнажалась бы"…
Она выбежала на лестницу. Площадкой ниже, нахлобучив фуражку на самые уши, Петрик неловко вздевал пальто. Погоны кителя цеплялись и мешали ему. Агнеса Васильевна ловко поддела ему пальто, обняла смутившегося Петрика и поцеловала его в губы.
— Так до среды. — шепнула она ему. И быстро убежала и закрыла за собою дверь.
Петрик спускался по каменным ступеням. Мягко звенели шпоры его высоких сапог.
Что-же это было такое? Упущенная возможность?.. Или?..
Сладкий миг пролетел…
XXVII
Валентина Петровна была недовольна Петриком. Она хотела «кататься» на лошади, как каталась она по полям и лесам окрестностей Захолустного Штаба. Хотела, чтобы свежий весенний воздух холодил ее разгоряченное лицо, чтобы ее кавалер удивлялся ее удали и прекрасной посадке, чтобы прохожие любовались ею. Ездить — в Летнем саду, по набережной, на островах… Робкая и красивая подходила Петербургская весна и тянула на волю. У Валентины Петровны была заготовлена прекрасная, модная, короткая амазонка, у нее был теплый английский редингот из сукна, темно-серый с черными, едва приметными полосками, и вместо котелка она, по совету Портоса, купила прелестный треух. Он чрезвычайно шел к ней. Был даже вопрос о том, чтобы сшить разрезную юбку и ездить по мужски, но этот вопрос был оставлен до будущих дней.
Петрик настоял, чтобы первый раз ездить в манеже. "Надо вспомнить", — говорил он Валентине Петровне. — "Ведь вы четыре года не садились на лошадь". Валентина Петровна с трудом согласилась с этим. Но Петрик вздумал учить ее, — ее, дочь генерала Лоссовского, начальника безсмертной дивизии, лучшего наездника, ездившего на ординарцы к самому императору Александру II.
Учить ее, лучшую наездницу Захолустного Штаба, лихо изображавшую «лисичку» на играх их полка! Это уже была непростительная дерзость.
Езда в манеже Боссе на Семеновском плацу! Это был уже не модный манеж. У Боссе был другой манеж на Петербургской стороне, во втором этаже, «шикарный» манеж, залитый электрическим светом и модный. Манеж на Семеновском плацу, ветхое деревянное здание, доживал последние дни — и там не было хороших лошадей. Петрик выбрал его потому, что он был ближе к Николаевской.
— Вам всего пять минут езды…
Но она могла и полчаса проехать!
Валентина Петровна приехала в манеж к назначенному времени, одетая в амазонку и в шубе. В манеже не зажигали огней. Было пять часов. Ни свет, ни сумерки. Пусто, уныло и сыро. Петрик и конюх манежа ожидали ее с лошадьми. Что это были за лошади — страшно сказать! Какие-то мохнатые, не отлинявшие, голодные «шкапы». Сам Петрик был сконфужен, когда усаживал на элегантное собственное, все из свиной кожи, без всякой замши, любительское седло Валентины Петровны и оправлял на ней амазонку. Петрик потребовал, чтобы Валентина Петровна разобрала поводья как-то по-новому, "по манежному". Три повода в левой руке и четвертый трензельный, в правой. Этот способ держания прводьев показался очень неудобным Валентине Петровне и даже повлиял на ее посадку.
Петрик робко сказал ей два раза: — не валитесь так наперед.
Валентина Петровна проверила себя в зеркало. Действительно, она валилась на перед. Какой позор! Она разучилась ездить верхом! Во всем были виноваты этот идиотский способ держания поводьев, манежные клячи… и Петрик.
Лошади бежали ровной рысью, слишком ровной, тупой и тряской, показалось Валентине Петровне, и сами, не обращая внимания на шенкель, хлыст и повод "брали углы", делали вольты, меняли направление. Их распущенные уши и весь их вид говорили Валентине Петровне: — "мы знаем все… нам здесь все до смерти надоело… оставьте нас в покое… не мучайте нас"… Никакой пружинистости, гибкости в них не было — и это раздражало Валентину Петровну. Она разучилась стягивать волосы и прическа стала распускаться, а треух полез на затылок и на бок. Пришлось остановиться, перекручивать волосы, и перешпиливать шляпу… Пожалуй, и хорошо, что это было в манеже, пустом и темном и с Петриком, который старательно трясся подле Валентины Петровны и ничего не видел, кроме поводьев, посадки и того, как собрана лошадь.
Валентина Петровна скоро уставала. Конечно, и в этом виноваты были ужасная лошадь и… Петрик. Она раскраснелась, завитки светлых волос выбились из-под шляпки и когда она взглядывала на себя в запотевшее зеркало, мимо тускло мелькала задорная девочка Алечка Лоссовская, надувшаяся на своего верного мушкетера — кадета Петрика, а не статская советница Тропарева, жена знаменитости, чье имя последнее время не сходит со столбцов газет в связи с каким-то ужасным убийством в Энске.
Когда пошли галопом, стало лучше. Лошадь шла, пофыркивая в такт движению, и Валентина Петровна не вылетала из седла. Петрик ее ободрял.
— Отлично, госпожа наша начальница…Совсем, как в Захолустном Штабе… Я никак, божественная, не думал, что так выйдет…
— Ну, довольно, — сказала Валентина Петровна, — и, точно понимая ее слова, лошадь пошла шагом. Они распустили поводья и ездили по манежу.
— Я не знала, Петрик, что вы такой жестокий человек, — сказала Валентина Петровна. — И педант… педант!..
— Помилуйте, божественная, — растерялся Петрик.
— Ну зачем такое глупое держание поводьев. Я всегда держала их так…
И Валентина Петровна разобрала поводья так, как держала их еще девочкой.
— Это, божественная госпожа наша начальница, — по-полевому… А когда в манеже, то надо держать или так, или вот этак. Вы посмотрите, как это удобно: трензельными — вы поднимаете голову лошади, вы ей даете направление, мундштучными — вы подбираете ее, это так удобно…
— Может быть… Мне это неудобно… Давно не были у нигилисточки?
Петрик смутился. Недавняя сцена, недавняя ссора и примирение, "офицерская пошлость", ярко встали перед ним. Он опустил голову и озабоченно стал разбирать сбившуюся гриву лошади.
Они находились в это время у ложи, под часами. И когда повернули по длинной стене манежа, к зеркалу, в глубине, у темного входа в конюшню, распахнулась низкая дверца и в манеж въехал верхом Портос. Он был на своем великолепном караковом Фортинбрасе, он был очень «стилен» в длинном конно-артиллерийском сюртуке, по-старинному зашпиленном концами пол, отчего были видны белые треугольники подкладки и ноги в cеpo-синих рейтузах с кантом. В тот же миг служитель пустил свет и в этом свете, красивый, большой, изящный Портос легко поднял своего красавца в галоп и красиво и ловко подскакал к Валентине Петровне,
— Я вам не помешаю, Валентина Петровна?.. — сказал он, еще на галопе снимая фуражку с черно-бархатным околышем, передавая ее в левую руку и склоняясь, чтобы поцеловать ручку Валентины Петровны.
— Здравствуй, — небрежно кинул он Петрику. Они поехали все трое рядом.
При виде прекрасного Фортинбраса, рослого англо-араба завода Браницкой, играючи шедшего рядом с манежными лошадьми, Валентина Петровна пожелала кончить урок и слезть поскорее с своей клячи. Ей казалось позорным так ездить при Портосе.
— Мы уже кончаем, Портос, — сказала она. — Петрик был так добр, что дал мне урок и многое напомнил. Кажется я не совсем разучилась ездить? Правда, Петрик?
— Помилуйте, божественная госпожа наша начальница, — пробормотал Петрик.
— А можно с вами пройти немного галопом?
— Право не стоит, Портос… Это такая кляча. Мне стыдно на ней ехать рядом с вашим великолепным конем.
— Пройдемте немножко… Зачем вы так держите поводья?… Разберите так, как вы привыкли… По-полевому. Едемте.
Идти втроем рядом было неудобно. Слишком мал был манеж и Петрик отстал. Он почувствовал себя чужим и ненужным. Перед ним скакала прекрасная госпожа наша начальница. Она точно выше стала ростом, не горбилась в седле, головка была поднята и сияли ее глаза цвета морской воды.
— Валентина Петровна, — говорил Портос, совсем близко склоняясь к ее уху, — вы божественно ездите. Позвольте вам предложить для прогулок моего жеребца. Он чудно выезжен, кроток как овца и не боится ни трамваев, ни автомобилей… Мы поедем с вами на острова. Там теперь так хорошо!
Валентина Петровна вспомнила, как на Витебском вокзале, «ее» Яков Кронидович, когда уже удалялся поезд крикнул ей: — "с Петриком можно!" Прав был ее муж… С Петриком ездить было можно. С ним в езде не было ни удовольствия, ни волнения, что в румянец ее бросало, что заставляло ее чаще дышать и как-то по особому чувствовать молодое гибкое тело. Ее лошадь, манежная кляча точно поняла ее. Или это потому, что теперь поводья ей не мешали? Она шла легко, играя, точно красовалась перед Фортинбрасом, как сама она невольно красовалась перед Портосом. И было во всем этом какое-то новое, сладкое ощущение… Bерно, этого боялся ее Яков Кронидович? Боялся греха? Но где же тут был грех?… Да, с Петриком она бы каталась… С Портосом она будет наслаждаться. А разве этого нельзя? Почему же нельзя наслаждаться ездою? Иметь хорошую лошадь, не слышать нарочно менторского тона и не видеть смущенного Петрика, не знающего, что надо делать. Портос знает. Ему можно смело довериться… А ревнивые подозрения Якова Кронидовича? Как это глупо!.. Разве она что-нибудь позволит!.. Она напишет своему благоверному и он поймет ее… поймет и простит. Он такой умный, чуткий и великодушный. Она промолчала.
XXVIII
Они кончали езду. Не Петрик, подскочивший, чтобы помочь Валентине Петровне, а Портос, бывший рядом, принял ее, взяв за талию сильными руками и как перышко бережно сняв и поставив на опилки манежа.
— Петрик, — сказал Портос, — будь такой милый, покажи Валентине Петровне моего Фортинбраса. Под тобою он и пассажем пойдет. Я же ездок хороший, а наездник неважный, и куда мне до тебя, лучшего ездока школы.
Показать прекрасного Фортинбраса Валентине Петровне для Петрика было удовольствие и он легким прыжком вскочил в седло. Фортинбрас под его крепкими шенкелями и нежной тонкой работой рук преобразился. Он поднял голову, опустил нос и, отжевывая, пошел воздушной легкой походкой на сокращенной рыси. Он откинул зад и, помахивая коротким по репицу резаным хвостом, стал принимать, точно танцуя вдоль манежа.
Валентина Петровна и Портос сидели на стульях в ложе. Они не смотрели ни на Петрика, ни на лошадь. Портос любовался оживленным, раскрасневшимся лицом Валентины Петровны. В ее глазах отразились его карие, горящие страстью глаза.
— В эту субботу, Валентина Петровна, — говорил Портос, — в школе традиционный конный праздник в пользу школы солдатских детей… Я не скажу весь «свет» — это не точно, — в Михайловском манеже, на Concours hippiquе, пожалуй, больше бывает аристократии, но весь кавалерийский свет считает долгом быть на нем. Вы увидите такую езду, таких лошадей, каких вы нигде не увидите. Достать билеты очень трудно. Они идут по рукам… Я достал вам место в прекрасной ложе против главной великокняжеской ложи.
— Я не знаю, — начала было Валентина Петровна. Она боялась, что эти ее увлечения лошадьми и спортом и, следовательно, — офицерами — будут неприятны Якову Кронидовичу.
Портос угадал ее мысли и понял причину ее колебаний.
— О, не бойтесь… Меня в этой ложе не будет. В ней всего пять мест, и будете вы, Bеpa Константиновна Саблина, la charmantе m-mе Sablinе, unе pеrsonnе irrеproachablе, Bеpa Васильевна Баркова и Лидия Федоровна с мужем… Рядом ложа Тверских, где будет генерал Полуянов и где буду появляться я, чтобы иметь счастье вами любоваться.
Валентина Петровна согласилась.
Было решено, что Портос за нею заедет и привезет ее в школу.
— Может быть, — робко сказала Валентина Петровна, — лучше бы попросить об этом Петрика?
— Петрика?! — воскликнул Портос. — Да разве он вам не говорил? Не похвастал перед вами?.. О! узнаю нашего скромного Атоса! Петрик, если можно так выразиться, примадонна этого праздника. Вы увидите Петрика первым номером, водящего великолепную смену на своей возлюбленной Одалиске, ей не изменил еще он ни с одною женщиной, вы увидите отважного Петрика в погоне за крепким турком и, наконец, на казенной лошади Петрик примет участие в головоломном «дьяболо», где дай Бог не разбить ему свою башку. Он, я думаю, с утра будет в манеже. Но, почему Валентина Петровна вы не хотите сделать мне честь доставить вас в манеж?
"В самом деле, почему?" — мелькнуло в голове Валентины Петровны. "Отказать Портосу проводить ее в манеж — это значит признать, что что-то есть — но ведь ничего же нет!", и она, сказала, улыбаясь:
— Но я боюсь вас стеснить, Портос. У вас могут быть другие знакомые.
— Я весь к вашим услугам. Я заеду за вами на своем автомобиле и на нем же привезу вас обратно.
Все это было заманчиво. Валентина Петровна, однако, хотела для проформы еще протестовать, но как раз в это время Петрик, добивавшийся, чтобы Фортинбрас стал на пассаж, чего-то добился и радостно закричал:
— Портос! смотри… идет! Ей-Богу, идет!.. Госпожа наша начальница, поглядите-ка… Как пишет!
Напевая сквозь зубы мотив матчиша, Петрик ехал через манеж. Лошадь задерживала на воздухе ноги и, казалось, не касалась ими земли.
— На этом я думаю кончить, — сказал Петрик. — Надо, чтобы он запомнил это. Ты сам его ставил?
— Наездник Рубцов, — небрежно кинул Портос. — Слезай, милый Петрик.
Петрик вспотевший от работы, спрыгнул с лошади, освободил железо и давал Фортинбрасу сахар, лаская его. У Петрика всегда в кармане был сахар. Подбежавший вестовой Портоса принял от него жеребца, и Петрик, довольный успехом, вошел в ложу.
— Вы теперь остыли, — говорил Портос Валентине Петровне, сидевшей с накинутой на плечи шубкой, — если хотите, можно и ехать.
— Да, пойдемте.
Она сбросила, вставая, шубку на руки Портоса и он подал ей ее в рукава. Петрик пристегивал саблю и надевал свое легкое, ветром подбитое пальто. Никто не подумал о том, что пот струился по его лицу.
Bcе трое вышли из манежа.
Серебряный сумрак стлался над городом… Небо было бледно-зеленое и, высоко за серой каланчой Московской части зажглась ясная вечерняя звезда. Тихо, пустынно и как-то уютно было на плацу. Пахло землею и глиной. Сзади раздавались протяжные свистки паровозов. Кругом трещал и грохотал город.
Хороший извозчик с новенькой пролеткой на дутиках дожидался Портoca.
Портос подсадил в экипаж Валентину Петровну.
— До свиданья, Петрик. Большое, большое спасибо вам за урок, — протягивая Петрику маленькую ручку, сказала Валентина Петровна. — Приезжайте ко мне чай пить…
— Простите, божественная, госпожа наша начальница, никак не могу. В восемь часов у нас в школе репетиция. Я только-только поспею.
— Опять ездить?
— Опять, божественная.
Портос сидел рядом с Валентиной Петровной, На нем было модное, без складок на спине, пальто темно-cеpогo сукна. Новые золотые погоны отражали свет фонаря.
— Прощай, Петрик, — помахал он рукою в перчатке.
Извозчик тронул, выбираясь на мощеную дорогу. Мягко качнулась пролетка. Петрику показалось, что Портос обнял за талию госпожу нашу начальницу. Какое-то чувство шевельнулось во вдруг защемившем сердце Петрика.
Любовь?.. Ревность?.. Зависть?..
Он сейчас же прогнал это чувство. Он смотрел, как точно таял, удаляясь, силуэт пролетки с двумя людьми, близко сидящими друг подле друга. Придерживая саблю, Петрик быстро шел, почти бежал за ними. Они повернули направо. И, когда вышел Петрик на Загородный проспект, — они исчезли в городской суматохе, в веренице извозчиков, ехавших с вокзала.
Петрика нагонял, позванивая, трамвай. Петрик побежал на остановку, чтобы захватить его.
XXIX
Конный праздник Офицерской кавалерийской школы ежегодно собирал небольшое, но очень избранное общество. Размеры и устройство манежа, слишком для этого узкого, не позволяли собрать больше зрителей — но зато те, кто сюда шел, были искренние любители езды и лошадей.
Заботами и искусством полковника Залевского, заведующего хозяйством школы, своими мастерами, солдатами "Общего состава" и эскадрона, в глубине и у входа, вдоль коротких стен манежа были устроены из досок ложи и трибуны. Большая ложа манежа была убрана цветами, коврами и материей. В ней стояли кресла для Царской фамилии и стулья для генералитета. Против нее ложа вольтижерного манежа, украшенная коврами, была разгорожена на несколько малых лож. В одной из них, по протекции Скачкова, Портос приготовил место для Валентины Петровны.
Вместо обычных трех матовых фонарей, скудно освещавших манеж в часы вечерней езды, было повешено девять фонарей, ярким светом заливавших его арену. Пол был усыпан свежими белыми опилками.
Над трибуной, в глубине манежа, была устроена эстрада и на ней поместились школьные трубачи в парадной форме, в черных ментиках, подбитых малиновым шелком и в бараньих шапках с алым шлыком и высоким белым султаном.
Публика прибывала. Офицеры и молодцеватые унтер-офицеры эскадрона указывали места и проводили через манеж по мягким опилкам к дальним ложам. Мягко ступали дамские башмачки, калоши-ботики и туфельки по свежим, прохладным опилкам. Хор трубачей играл что-то певучее, нежное и сладкое, создавая нacтроение праздника.
Бравый Елисаветградский гусар, штабс-ротмистр, дежурный по школе, в новеньком кителе при ременной амуниции, в краповых чакчирах и алой фуражке, стоял на верху главной ложи, под портретом Великого Князя, готовый рапортовать подъезжающему начальству. Генералы Лимейль, князь Багратуни, бывшие начальники школы генералы Безобразов и Брусилов уже сидели в ложе, окруженные свободными офицерами постоянного состава. Шел сдержанный разговор. Как только отворялась дверь, все поворачивали головы и смотрели на входивших. Унтер-офицер «махальный» — зорко следил за въезжавшими в узкий двор школы экипажами и автомобилями.
На сильном и мягком «Мерседесе», управляемом шофером в ливрее, подъехала Валентина Петровна с Портосом.
Ее сердце билось. Она опять почувствовала себя "дивизионной барышней", генеральской балованной дочкой, кумиром, королевой полутора сотен офицеров Захолустного Штаба. Она вспомнила их конные праздники и букеты цветов, которые подносили ее матери, когда они приезжали на праздник.
В широкополой черной шляпе, уложенной по тулье пунцовыми розами, обрамлявшей ее милое, свежее лицо, как картину, в пальто накидке темно-лилового цвета, широкой в плечах, стянутой ниже колен, ниспадающей многими отчетливыми складками, в щегольских башмачках, осторожно поддерживая спереди неуловимо стыдливым красивым движением платье, легко ступая рядом с Портосом, Валентина Петровна пересекла манеж и поднялась в малую ложу, где ее ожидала Лидия Федоровна Скачкова с Саблиным.
Места наполнялись. Стрелка часов подходила к девяти. Трубачи перестали играть. Валентине Петровне — военной барышне — передавалось волнение ожидания высокого начальства и праздника.
Красавица Bеpa Константиновна Саблина сидела в ложе в большом вечернем манто и маленькой белой шапочке, красиво сидевшей на ее золотых волосах. Она, картавя, объясняла Bере Васильевне Барковой, даме чуждой кавалерии, устройство манежа и что стоит на разрисованной программе. Рядом в ложе хриплым баском Бражников рассказывал что-то генералу Полуянову.
Генерал, небрежно облокотясь о перегородку между ложами, поцеловал повыше перчатки у самого локтя руку Валентины Петровны, и, лукаво подмигивая ей слегка косящим глазом, сказал:
— Сюда бы вашего Владимира Васильевича Стасского затащить! То-то чертыхался-бы!
— И не говог'ите, — вступила в разговор Саблина. — Знаю его. Ужаснейший человек!.. Анаг-хист!
В соседнем манеже двадцать четыре офицера, и среди них Петрик, под наблюдением Драгоманова, Дракуле и Дугина разбирали лошадей. Здесь, по сравнению с залитым светом главным манежем, казалось темно. Вестовые и унтер-офицеры со щетками, гривомочками и гребешками обходили лошадей и подправляли их «туалет». Щетки ног были подщипаны, лишний волос в ушах подпален, цветные ленточки белые, голубые и красные были вплетены в тщательно разобранные и расчесанные гривы и завязаны кокетливыми бантами.
Петрику, оглаживавшему и ласкавшему свою милую Одалиску, казалось, что он находится не в школьном манеже, а в уборной кордебалета. Ему даже казалось, что пахнет духами, а во взвизгах заигрывавших лошадей ему слышался смех и капризные крики молоденьких женщин.
Стрелка часов в главной ложе подошла к девяти. Дверь распахнулась и унтер-офицер в ментике и шапке крикнул в ложу:
— Изволют ехать!
Дежурный офицер еще раз обдернул полы кителя под ремнями амуниции и поправил перчатку. Все генералы в ложе встали.
Трубачи заиграли торжественно — парадный полковой марш Лейб-Гвардии Гусарского Его Величества полка. В манеж входил высокий прямой, худощавый генерал-адъютант в легком пальто и алой с желтыми кантами гусарской фуражке Он стал подниматься по лестнице в ложу. Дежурный офицер сделал шаг вперед и громко и отчетливо отрапортовал:
— Ваше Императорское Высочество, в Офицерской Кавалерийской Школе происшествий никаких не случилось…
После доклада о состоянии школы ее начальника, Великий Князь повернулся к стоявшим внизу унтер-офицерам и наездникам и приветливо сказал:
— Здоровы молодцы!
Трубачи перестали играть. В манеже была полная, волнующая тишина.
В эту тишину вошел дружный ответ сдержанными голосами:
— Здравия желаем, Ваше Императорское Высочество.
Все узнали, что приехал Великий Князь, Главнокомандующий. Он появился в ложе и сел в кресло.
Конный праздник начался.
XXX
Мягко и напевно трубачи заиграли рысь. Сладко и нежно вел мелодию серебряный корнет и басы отчетливо и под сурдинку отбивали такты раз-два… раз-два… раз-два…
Они проиграли первое колено при пустом манеже и это как бы подготовило зрителей к принятию всадников.
Неслышно распахнулись ворота и прямо по середине манежа, легкой, танцующей побежкой, один за одним, на лошадь дистанции, стали въезжать офицеры,
— Валентина Петровна, смотрите Петрик-то наш! — сказал Портос.
Но Валентина Петровна и так уже увидала его.
На своей рыжей чистокровной Одалиске, слившись с нею, в такт музыке трясясь в седле, — и, казалось Валентине Петровне, что и лошадь поднимала и опускала ноги, почти не касаясь земли, тоже в такт музыке, — смену вел Петрик.
В парадной драгунской каске с черным щетинистым гребнем, с медной чешуей на подбородном ремне, Петрик казался моложе. Его лицо было сосредоточено и совсем по-детски были нахмурены брови.
Тяжелая сабля была вложена в плечо, ножны с легким побрякиванием болтались у левой ноги. Одалиска, собранная на мундштуке, неподвижно поставила отвесно голову и шла, точно не дыша, лишь раздув нежные ноздри и только косила, показывая белок, своим прекрасным громадным глазом на непривычную публику.
Шесть драгунских офицеров, один за одним, все на рыжих лошадях ехали за Петриком, за ними ехало шесть улан на гнедых лошадях. Легким ковылем играли белые волосяные султаны лихо набекрень надетых уланских шапок, и красные, синие, белые и желтые лацканы узорно лежали на стянутых в талии «уланках». Шесть гусар на вороных и шесть гусар на серых лошадях замыкали парадную карусель.
Не доезжая четырех шагов до ложи, офицер ловким движением поднимал саблю к подбородку «подвысь» и против ложи опускал ее, вскидывая голову на Великого Князя. И так отчетливо было движение всей смены, так правильно делали офицеры салют, что, казалось, через математически ровные промежутки в свете фонарей молнией вспыхивал серебряный клинок стали и погасал, опускаясь.
Валентина Петровна не сводила глаз с ездоков. Одна лошадь была красивее другой. И какие были красивее — рыжие, или гнедые, отливавшие в темную медь, или вороные с синими блестками, или серебристо-белые в серых яблоках и подпалинах? Пахнуло лошадьми — но приятен показался и этот запах. В такт музыке скрипели седла и чуть слышно отзванивали шпоры.
Разъехавшись по обе стенки манежа, всадники шли «приниманием» — и лошади повернулись мордами к зрителям и, танцуя, крестили ногами. Сабли были вложены в ножны. И так однообразны были посадки, что один офицер походил на другого.
Валентина Петровна пропускала каждого, стараясь запомнить, видела, как пряли острыми ушками лошади, то устремляли вперед, будто прислушиваясь к музыке, то прижимали к темени, почувствовав шпору и рассердившись на нее, и не могла их запомнить.
Они танцевали, слушая музыку.
Рядом в ложе полковник Саблин говорил генералу Полуянову и Валентина Петровна одним ухом слушала его слова.
— Вы удивляетесь богатству лошадей, ваше превосходительство, — говорил приятным барским баритоном Саблин, — как ему не быть?.. Россия из века в век была конною страною. Противник кругом — и какой разнообразный! С севера Ливонские рыцари на тяжелых западно-европейских лошадях, с запада поляки на легких конях, с юга турки и татары, персы и калмыки, с востока — необъятная Сибирь, потребовавшая лошадей выносливых на корм, климат и тягучих на поход…
Смена шла мерным галопом. Оркестр играл и в такт ему колыхались гривы и чёлки, реяли султаны уланских шапок, цветные косицы касок драгун и колыхались гусарские тонкие султаны.
— Вы помните, — говорил Саблин, — у Олеария, этого немца, далеко не лестно описавшего Московию царя Михаила Феодоровича — описание Государева конного полка… Какая красота! Холодный немецкий купец и тот не может скрыть своего восторга при виде этих чудных аргамаков под богато одетыми всадниками… А вспомните в дневнике князя Андрея Курбского описание Государева Светло-бронного полка под Казанью в день штурма Казанских твердынь! Десять тысяч всадников! Ведь это две с половиной современных дивизии на великолепных конях!.. И это когда! В середине шестнадцого века!..
Посередине манежа всадники установились «мельницею». Шесть рыжих, шесть гнедых, шесть вороных и шесть серых лошадей стали, образуя крест и закружились галопом. Они ускакивали, срываясь по одному из манежа.
Саблин продолжал:
— А наши забавы!.. Все конные. Соколиные охоты царей и именитых бояр… Охоты с борзыми… У нас лошадь друг крестьянина, друг и барина, и наше барство и вырастило и выхолило этих прекрасных коней и привило любовь к ним и в самом крестьянстве. «Ночное» детей при конях… Помните — "Бежин луг"?.. Поэзия, проза, песня, былины — все дает место коню, то как сотруднику в полевых работах, то как боевому товарищу. У нас и святые есть конские и обычай освящать, кропя святою водою лошадей и скот… Как же не быть у нас этой краcoте?
В манеже, на трех вольтах шла вольтижировка. На среднем, против Валентины Петровны, состязались по очереди самые лучшие вольтижеры. Петрик — когда успел он переодеться и сменить туго стягивавший его темно-зеленый мундир на свободную походную куртку — показывал свою ловкость и молодечество. Мелькали его ноги над крупом, перекрещивались, садился он задом на перед, вскакивал на круп, спрыгивал и, едва уцепившись за гриву, садился на лошадь.
— Цирк… настоящий цирк, — говорил Полуянов. — Да, молодцы наши офицеры!..
Валентина Петровна поймала это слово и задумалась…
"Молодцы офицеры"…
Была ли то однообразно повторявшаяся мелoдия музыки, звучавшая с эстрады трубачей, или ритмичное движение лошадей, толчков и прыжков, было ли то зрелище, как Петрик и с ним еще офицер, гусар, с обнаженными саблями гонялись за чучелом турка, посаженного на ловкую, увертливую белую лошадку, не подпускавшую к себе и не позволявшую срубить чучелу голову, или это было от лихой скачки казаков, ширявших пиками в толстые соломенные шары, подхватывавших с земли кольца и удивлявших своею ловкостью, но только Валентина Петровна, двадцати семи летняя женщина, четвертый год замужем, задумалась по-новому о мужчине — и быстро, быстро побежали ее мысли о прошлом.
Ее щеки покрылись румянцем. Широкие поля шляпы бросали тень на глаза и они были темными и куда-то ушедшими.
… Да, ведь она не знала мужчины!..
XXXI
Конный праздник шел своим чередом. Один его номер сменялся другим. Красота сменялась лихостью и удалью, лихость и удаль смелыми прыжками через барьеры… И все играла и играла музыка, пел сереброголосый корнет, мягко вторил ему баритон и отбивали такт геликоны и басы — бу-бу-бу… бу-бу-бу!..
А мысли, мечты, воспоминания стремились и шли в так недавнее и таким уже далеким казавшееся детство, юность и девичество.
Почему, в самом деле, она, Алечка Лоссовская, вышла замуж за Тропарева? Неужели в их Захолустном Штабе не нашлось ей другого жениха, такого, кто научил бы ее настоящей любви?.. О! Сколько у нее было обожателей и воздыхателе — от корнетских до генеральских чинов. Сколько мушкетеров имела маленькая королевна Захолустного Штаба! Не счесть! Кадеты и юнкера, молодые корнеты и поручики, — все были у ее ног, — у маленьких ножек дивизионной барышни, госпожи нашей начальницы! Она была «божественной» не для одного Петрика, ей доставали белые купавки с середины омута, где водяной мог утянуть за ногу, для нее без устали гребли на лодке, с нею скакали, ей приносили денщики от своих «господ» целые веники сирени. Цветы не переводились у ней. Ей выписывали конфеты из Петербурга и Варшавы, из Киева и из Одессы. Целая кладовая была уставлена пустыми коробками от Абрикосова, Балле и Крафта, от Семадени и Пока, от Скачкова и Трамбле.
А вот предложения руки и сердца никто серьезно не сделал! Ни Атос-Петрик, — юнкерское предложение, конечно, не в счет — ни Портос-Багренев, ни Арамис-Долле и никто другой. Не посмели… Кроме Портоса — все это была беднота, и все знали, что Алечка Лоссовская — безприданница. А какая обстановка! Какая рамка ее девических лет! Дочь генерал-лейтенанта и начальника дивизии! Казенная квартира в двенадцать громадных комнат какого-то старинного замка польского магната. Казенная прислуга, штабной автомобиль и казенные лошади с экипажем — все создавало комфорт и красоту. Императорское правительство не жалело средств и умело обставить службу своих офицеров, — но своего у Лоссовского ничего не было и не сумел и не смог он скопить из скромного офицерского жалованья приданого своей дочери.
Она росла — принцессой. И — точно — была королевной…
Где же было скромному корнету или поручику взять ее, «божественную», себе в жены? Привезти королевну в маленькую комнатку в жидовской халупе или скромную квартирку офицерского флигеля и отдать на попечение деньщика. Кормить ее, "госпожу нашу начальницу", собранскими обедами, а в дни денежных крахов — и просто из солдатского котла, оставлять ее одну в местечке в дни маневров и подвижных сборов!.. Именно потому, что слишком ее любили, слишком хороша она была — никто не посмел ей сделать предложение.
Ухаживали, влюблялись — с ума по ней сходили, подпоручик лихой конной батареи Петлин стрелялся из-за нее. Слава Богу, — не на смерть, выходили, — а взять ее в офицерские жены никто не посмел.
И она тогда, и вот до этого самого момента, как-то не думала об этом. Росла, как полевой цветок. Жила, как бабочка, не думая о любви и замужестве. И никто ей об этом не говорил. Родители в ней души не чаяли… Отец и мать об одном думали — умереть раньше, чем Алечка выйдет замуж. Эгоистично? Что же поделаешь — родительское сердце — особое сердце… Ему все кажется: — Алечка такой ребенок!.. А ребенку давно перешагнуло за двадцать!
Алечка о браке как-то не думала.
Господи! Какие чудные летние дни посылал ей Господь!.. Только что вернулась с поля, набрала васильков, травы пушистой, ромашек, маку. Вся раскраснелась. Дышала простором полей, цветами и вся набралась их дивного нежного аромата. Любовалась закатом солнца за Лабунькой, встречала луну — молодяк и слушала, как вдали, в лагере, сладко пела труба кавалерийскую зорю.
Валентине Петровне и сейчас кажется, что ее волосы и руки полны запаха полей.
А как любила она, в летнее время, одна, когда все ушли на ученье, бегать по полю; бежать, мчаться без оглядки по высокой траве до изнеможения под зноем солнца и упасть в душистую траву, цветы мохнатые, влажные, щекочущие, зарыться в них и лежать тихо, тихо, прислушиваясь к биению своего сердца, к стрекотанию кузнечиков, к песне в небе жаворонка. О, эта несказанная, непостижимая радость бытия, сознание всей мудрой прелести Божьего Mиpa!.. Как было хорошо! Какое это было счастье внутренне видеть, понимать, сознавать величие Господа Бога!.. Тогда раскрывалась душа, и ничего, ничего ей больше не было надо…
Зимою в собрании, на полковых вечерах, она танцевала вальсы, мазурку, шаконь, па-д'эспань — и в танцах ее радовала грация, податливость ее гибкого тела, неуловимая мягкость рук и стройность ног. И ни о чем «худом» никогда не думала.
Годы шли. Три самых верных мушкетера кончили училище и покинули родительские дома. Петрик уехал в свой холостой полк, Портос служил где-то на юге и вскоре пошел в Академию, Долле, окончив училище, сразу поступил в Артиллерийскую академию. На смену им пришли другие. Такие же почтительные, влюбленные, услужливые и… не смелые.
Ей стукнуло двадцать четыре года. Что же — старая дева?.. Родители стали задумываться.
Надо было как-то устраивать Алечку.
Это были странные дни какой-то оторванности от земли. Был великий пост. Прекратились вечера в офицерском собрании, говели эскадроны. В эти дни в Захолустный Штаб по какому-то делу приехал приват-доцент Тропарев. Он был родственником протоиерея, настоятеля гарнизонной церкви, и отец протоиерей привел его представить генералу Лоссовскому.
С хорошими средствами, на хорошем меcте в Петербурге, с мягкими, спокойными манерами, красивый Русской мужской красотой, с черной вьющейся бородой и темными ласковыми глазами в длинных ресницах, тридцати восьмилетний приват-доцент всем понравился.
Он понравился и Алечке. Он ей показался «ужасно» умным, серьезным, — и она смотрела на него с уважением, как на старшего… Он почти мог быть ее отцом. И, когда она увидала в его глазах почтение, любовь, когда услышала, как дрожал его голос, когда он говорил с ней — она была тронута и умилена и, быть может, дольше задержала свою маленькую ручку в его большой и сильной волосатой pyке, чем это было нужно.
Безсознательное кокетство!
— Валентина-то Петровна у нас музыкантша, — говорил гостю приведший его отец протоиерей, — так на рояле играет… Концерты давать… Вот бы ты, Яков, принес свою виолончель. То-то поиграли бы.
Виолончель их сблизила. Тропарев играл, как артист. Соната в sol minеur Грига, этюды Жаккара, концерты Мендельсона, Шуберта и Шумана разыгрывались ими в тихих сумерках Захолустного Штаба. Они говорили мало. Яков Кронидович больше и охотнее разговаривал с ее родителями. И им он очень понравился.
— Твердый в убеждениях, сильный и крепкий человек. Борец за правду… Не предаст, не обманет, — говорил папочка.
И мамочка ему вторила.
— За ним, как за каменной стеной… Средства — конечно, не миллионы, а есть капитал… И на хорошем ходу. Профессором будет, — а профессор тоже "ваше превосходительство".
Дело, по которому приезжал Яков Кронидович в Захолустный Штаб, было окончено. Яков Кронидович остался в штабе. Он был ежедневным гостем у Лоссовских и каждый вечер он играл с Алечкой.
А, когда уже нужно было уезжать, он пришел — и по-старинке, через родителей попросил руку и сердце Алечки.
Были слезы… была и радость… Ожидало что-то новое — и так жаден к новому человек. Манил, конечно, Петербург и положение самостоятельной хозяйки.
Что делает, чем занимается Яков Кронидович — этим никто как следует не интересовался: служит в Министерстве Внутренних Дел и на хорошем счету. Лет через пять — профессор. Разве думают невесты и жены о том, что делают их женихи и мужья на службе?
Яков Кронидович получил согласие и поехал устраивать квартиру.
На Красную Горку была свадьба. Пасха была очень поздняя и венчались в мае. Не подумали тогда: — в мае венчаться — век маяться.
Еще до свадьбы к Якову Кронидовичу поехала Таня — горничная — друг, выросшая с Алечкой. Повезла Алечкино скромное приданое.
С поезда в гостиницу, из гостиницы в церковь, поздравления были в зале при церкви — венчались в той гимназии, где учился Яков Кронидович — и оттуда, проводив родителей, Алечка поехала с мужем на свою квартиру, где ее ждала Таня.
Им отворил двери в освещенной бледным светом белой ночи прихожей странный человек в длинном поношенном черном сюртуке. Хмурые серые глаза подозрительно и, показалось Валентине Петровне, неприязненно окинули ее с головы до ног. Валентина Петровна увидала жесткие рыжие волосы, как волчья шерсть торчащие на голове, всклокоченную рыжую узкую бородку и конопатое в глубоких оспинах лицо. Непомерно длинные, точно обезьяньи руки с волосатыми пальцами бросились ей в глаза. Этот человек подошел к Валентине Петровне и хотел помочь ей снять ее накидку. Тошный, пресный, противный, непонятный Валентине Петровне запах шел оть него и точно окутал ее всю, когда он к ней подошел.
Не отдавая себе отчета, что делает, взволнованная, разнервничавшаяся от всех свадебных волнений Валентина Петровна истерически закричала:
— Ах нет!.. Нет… не вы… Таня!.. Таня!.. где же ты?.. — и разрыдалась.
— Аля, что с тобою, — мягко сказал ей Яков Кронидович, — это мой служитель и мой добрый помощник — Ермократ.
— Не хочу его… Я боюсь… боюсь… — Прибежала Таня и повела рыдающую Валентину Петровну в ее спальню.
Ермократ проводил ее злобным взглядом.
Таня, раздевая Валентину Петровну, успокаивала ее и рассказывала ей о том, как устроена квартира.
— Кто это Ермократ? — вытирая слезы, спросила Валентина Петровна.
— Ермократ Аполлонович служитель ихний и помощник. Он с барином завсегда ездит потрошить покойников. Он мне показывал в рабочем кабинете бариновом. Чего-чего только нет… Сердце человеческое в банке заспиртовано, инструмент их лежит… Ножи, пилы… В шкапу — халаты их белые висят и дух от них нехороший, как в кладбищенской церкви…
— Таня! — воскликнула Валентина Петровна, и, бледная, в отчаянии, опустилась на постель. — Что же это такое?
— Ужас один, барышня… И тогда, когда к нам приезжали… Я уже это потом дознала — они выкапывали, помните, помещик Загулянский скоропостижно помер, так его тело брали, смотрели, своею ли смертью помер.
— Таня!..
Валентине Петровне вдруг стал понятен этот тошный и пресный запах, что шел от Ермократа. Этот запах точно пришел теперь с нею в ее спальню.
Валентина Петровна, молча, сидела на брачной постели. Как не подумала она об этом раньше?
Почему не распросила? Отчего никто ей не сказал? Приват-доцент судебной медицины… Но ведь это?… Хуже чем гробовщик!..
В теплой спальне пахло увядающими цветами букетов, а ей все слышался тошный запах, которым, казалось, насквозь был пропитан Ермократ, страшный человек с обезьяньими руками.
Первая ночь надвигалась… Сейчас войдет ее муж, ее законный обладатель. В первой ночи всегда много стыдного, унизительного и больного. Точно в этот миг в дыхании любви незримо проходит смерть… Нужно много взаимной любви, такта, внимания, ласки и страсти, чтобы первая ночь подарила все чары любви.
Яков Кронидович?.. Он как-то об этом не думал. Это было его право. Он пришел, и Валентине Петровне показалось — принес с собою тот же запах, что шел от его служителя.
Первая ночь была похожа на насилие. Она оставила навсегда отвращение, ужас, презрение к мужу и жалость к себе.
Валентина Петровна была умная женщина. Она подавила свои чувства. Она только настояла, чтобы у нее была своя спальня и постаралась, чтобы это было как можно реже. Она по своему наладила жизнь. Она сделала визиты старым друзьям отца, через Якова Кронидовича вошла в ученый и музыкальный мир Петербурга и устроила у себя тонкий и изящный салон. Она отдалась музыке и той красивой жизни, что дает общество умных, образованных и талантливых людей и хорошеньких женщин. Семейная жизнь — это ее личное дело… Может быть — ее крест. И Яков Кронидович остался Яковом Кронидовичем. Немного страшным, временами противным, но в общем удобным и милым мужем, которого можно уважать. Она им гордилась.
Одного она не могла переносить в доме — это Ермократа. Она не скрывала своего к нему отвращения. В его глазах она читала злобу и ненависть — и она его ненавидела и боялась. И она потребовала, чтобы Ермократ Аполлонович на ее половину не входил.
Наружно она была ровна и спокойна. Она никогда не думала больше о любви, и красивый мужчина до последнего времени не трогал ее сердца… Когда в ее гостиной появились снова ее старые мушкетеры Захолустного Штаба, она приняла их спокойно, ласково, товарищески просто и сохранила за ними их детские имена и прозвища. Петрик больше года ее избегал, Долле бывал редко, и только Портос, казалось, опять готов был исполнять все ее капризы.
А сейчас под эту усыпляюще однообразную музыку рысей и галопов, когда мимо нее мелькали, щеголяя ловкостью и отвагой на прекрасных лошадях нарядные офицеры, она первый раз за четыре года подумала, что все это могло бы сложиться совершенно иначе, и тяжело вздохнула.
XXXII
Задумавшись, уйдя в воспоминания о прошлом, Валентина Петровна рассеянно смотрела, как смена офицеров Постоянного Состава, имея во главе начальника школы генерала Лимейля, ездила высшую езду. Она, выросшая в кавалерийском полку, восхищалась, как, делая «серпантин», лошади принимали на широком вольту, переходя с вольта на вольт, описывая восьмерку. Сквозь свои думы она слышала, как пришедший откуда-то Саблин говорил Скачковой:
— В Париже, в Grand-Palais я видел езду Cadrе noir Сомюрской школы. Очень хорошо. Там еще больше стиля. Караковые лошади с белыми лентами в гривах и белыми бантами на репице у хвоста и люди в костюмах еcuyеrs 2-й империи — прекрасно. Прямо — картина Мейссонье.
— А разве это нужно для военного дела? — спросил генерал Полуянов.
Она не слыхала ответа.
По три в ряд всадники шли «пассажем» по манежу и лошади точно танцевали под звуки матчиша. По манежу рокотом одобрения неслось сдержанное браво и, когда офицеры стали выезжать из ворот — весь манеж разразился бурными аплодисментами.
Рассеянно смотрела она, как через крестообразно поставленный высокий и широкий забор с торчащими, точно густая щетка, частыми вениками хвороста прыгали то по одному, то по два и по четыре наперерез друт другу офицеры старшего курса, и как, сняв на галопе из-под себя седла, они прыгнули последний раз на неоседланных лошадях, держа седла в правой руке. Как в цирке во время серьезных и опасных упражнений, музыка не играла, чтобы не сбить лошадей с расчета.
— Какая точность!.. Какая кг'асота! — шептала рядом с ней Саблина.
Валентина Петровна видела Петрика, скакавшего вторым номером на большом буром коне.
Это зрелище, напомнившее Валентине Петровне годы ее девичества и конные праздники полков ее отца (только там все это было гораздо беднее и хуже) шло, как бы дополняя ее думы о прошлом, и наполняли ее сердце тоскою сожаления о чем-то потерянном и неизведанном. И сердце сладко сжималось. Хотелось так, как они, скакать через заборы, хотелось всеми мускулами тела испытывать плавные движения лошади и нестись куда-то в безпредельную даль.
Из соседней ложи к Вере Васильевне нагнулся высокий Сумской гусар с желтоватым нездорового цвета лицом, — Валентине Петровне представили его — Бражников, — и хриплым голосом, задыхаясь, говорил:
— Немецкий поэт Боденштедт в поэме "Мирза Шаффи" сказал:
— "Das Paradiеs dеr Еrdе Liеgt auf dеm Ruckеn dеr Pfеrdе, In dеr Gеsundhеit dеs Lеibеs Und am Hеrzеn dеs Wеibеs"С двумя первыми строками никак не могу согласиться, а что касается двух вторых…
Он вздохнул, поглядывая на красивые, белые плечи Барковой и Саблиной, скинувших с себя теплые манто.
Валентина Петровна оглянулась на стоявшого сзади нее Портоса. Мечтательная улыбка остановилась на ее лице.
"Разве так?" — подумала она. — "Am Hеrzеn dеs Wеibеs"… "Все сочиняют мужчины"…
Уже музыка играла прощальный марш и толпами шли по манежу зрители. Мужья — Саблин и Скачков — провожали жен, генерал Полуянов подошел к Барковой. Bcе расходились.
— Валентина Петровна, — обратился Портос, — я проведу вас через конюшни, это будет скорее, чем толкаться у главной ложи.
Портос повел Валентину Петровну к высокой двери конюшни Казачьего Отдела, бывшей в углу манежа. В полутемной конюшне было тихо. Лошади, стоя, дремали. В дальнем углу, где не было слышно манежного шума, они лежали.
— Одну минуту, — сказал Портос. — Я скажу, чтобы подали сюда мою машину.
Шустрый казачок — дневальный, посланный Портосом, побежал по узкому переулку между забором и длинных низких построек конюшень. Они вышли за ним. На сырые булыжники мостовой легла от забора и деревьев синяя тень. Где-то, казалось — далеко, шумел город и гудел трамваи. Здесь была тишина. Два ярких автомобильных фонаря показались вдали и бросили прыгающие, резкие черные тени от столбов коновязи. За их светом померк мечтательный свет луны.
Машина, скрипя рычагами, завернула во дворик. Валентина Петровна села рядом с Портосом на глубокие мягкие подушки. В лунном блеске все казалось ей новым и прекрасным. Они не взяли налево по Таврической улице, но поехали прямо мимо красно-коричневых зданий городского водопровода и свернули почему-то направо к Неве.
Широкая и привольная под мягким светом месяца неслась Нева и переливала серебряной парчою. На Oxте не было видно ни одного огонька и точно там был какой-то особый, нездешний, но таинственный мир. Ровно шумела машина. Показались воздушные гирлянды огней Литейного моста.
— Куда же мы едем? — тихо спросила Валентина Петровна и сама не слышала своего голоса.
— Доедем до Дворцового моста и вернемся по Невскому. Вы разрешаете?
— Ах, хорошо…
Мягко качнуло машину на высоком горбатом мосту через Фонтанку. От темного Летнего сада потянуло землистою сыростью и прелым весенним листом, и стройная линия молчаливых и темных дворцов открылась перед ними.
Холодная и строгая красота Невы и Петербурга точно колдовала Валентину Петровну.
— Валентина Петровна, — сказал Портос, — пойдемте завтра кататься верхом на острова. Там так теперь хорошо!
Она молчала.
— Поедемте…
— На чем?
— Я вам дам своего Фортинбраса… Вы же мне обещали.
— Когда?
— После езды с Петриком в манеже.
— Я ничего не обещала… Я ничего не могла вам обещать… Я промолчала тогда.
— Но вы этого хотите?
— Может быть.
— Ваше желание закон.
— Как мы поедем с вами, Портос?.. Нас могут увидеть… Люди так злы…
— Никто не увидит.
— А наш ужасный Ермократ! Мне кажется, он следит за мной.
Они неслись по пустынному Невскому. Закрытые ставнями темные окна магазинов придавали ему необычайный вид. Ночь была прохладна и нежна. По ясному небу серебряные плыли облака.
— Можно подать лошадей к Каменноостровскому проспекту — и вы приедете на извозчике.
Она опять промолчала. В душе она уже согласилась, но у ней не хватило еще духа сказать о своем согласии. Совесть мучила ее.
Машина повернула на Николаевскую.
— Так завтра я подам лошадей…К которому часу?
— Нет… завтра… так скоро… Завтра нельзя. Теперь Страстная неделя… Я буду говеть.
— Когда же?
Они остановились у ее дома и Портос помогал ей выйти из автомобиля.
— В понедельник на Святой… — задумчиво сказала она, медленно цедя слова.
— К которому часу подать лошадей?
— К десяти.
Портос поцеловал ей руку. Она, не оглядываясь, быстро пошла по двору к своему подъезду.
Ей казалось, что она очень нехорошо поступила.
XXXIII
К «нигилисточке» Портос приехал вместе с Петриком. Он довез его на своей машине. Они приехали первыми. "Божьих людей" нигилисточки еще не было.
Агнеса Васильевна нарочно пригласила офицеров на полчаса раньше. Она хотела подготовить их к своим гостям. Как-никак два разных полюса, два различных мировоззрения — не вышло бы скандала. Кто их знает! Портос так легко поддался ее учению, пожалуй так же легко, как она сама бездумно отдалась ему, но он пока видал одну теорию, устоит ли, когда увидит самих делателей правды на земле. Агнеса Васильевна не обольщалась, она видела своих товарищей по партии такими, как они есть, и понимала, что далеко не все в них привлекательно. Но поймут ли это Петрик и Портос?.. Офицеры-то они офицеры, то есть, по понятию Агнесы Васильевны, просто — дураки… а все-таки чему-то учились и как бы не раскусили ее товарищей.
Дверь из прихожей в столовую была раскрыта и Портос увидал накрытый стол.
— О го-го-го! — воскликнул он. — Бутылок-то… бутылок… И все высочайше утвержденного образца. Хороши, однако, Божьи люди!..
— Ничего, ничего, — сказала Агнеса Васильевна. — Так за стаканами вы легче сговоритесь и поймете друг друга.
— Значит выпивон и социалистики любят.
— Pyccкие люди… и притом много пострадавшие… в свое время и поголодали, и трезвенниками поневоле были…
— А теперь, значит, разрешение вина и елея!..
Петрик удивлялся, как свободно себя держал Портос с Агнесой Васильевной. Ему это было обидно. Ведь это он, а не Портос, «открыл» Агнесу Васильевну, а между тем Петрик стеснялся, Портос же был, как у себя дома. Петрик тоже заглянул в столовую. Маленькая комната казалась еще меньше от широко раздвинутого стола. На столе стояли бутылки водки и пива, были расставлены блюда с аккуратно нарезанной селедкой, окруженной зеленым луком, тарелки с ломтями ветчины и колбасы, лотки с ситным и черным хлебом — незатейливая и простая закуска. "Во вторник на Страстной", — подумал Петрик. "Впрочем… это у «нигилисточки» — удивляться нечему".
— Пожалуйте, господа, — говорила Агнеса Васильевна. Она была непривычно возбуждена, темный румянец горел на ее щеках, глаза-лампады сверкали.
— Я нарочно позвала вас раньше, чтобы подготовить вас и сделать характеристики наших.
— А что, уж очень страшны?.. Бомбисты, с кинжалами за пазухой.
— Нет, мирные кроткие люди. Их ваши сабли испугают. Но это такой другой мир! И я хотела, чтобы вы, познакомились с ним, поняли и оценили его.
— Что же, интересно, — сказал Портос.
— Не только интересно, Портос, а нужно… Вы — армия… Вы, офицеры — вы невежды. Вы думаете, весь мир — это вы!..
— Все мое, сказало злато, все мое, сказал булат, — сказал Портос, рассаживаясь на тахте. — Посмотрим, кто прав, золото, или булат?
— Вот в том-то и дело, Портос, что и не злато, и не булат, а светлая идея о счастливом будущем, о подлинном, а не христианском братстве, владеет этими людьми и скоро захватит весь мир. И вам надо их послушать.
— Это народ? — спросил Петрик.
— Да, отчасти… Это — от народа. Ведь вы, милый Петрик, даже и солдатиков своих не знаете. Только лошади… лошади…
— Ну, это, положим… — надулся Петрик.
— Так вот слушайте. Будет восемь человек и все нашей партии.
— Форменная массовка, — сказал Портос.
— Беседа… Я вот что даже припасла, — Агнеса Васильевна показала на большую восьмирядную гармонику, лежавшую в углу комнаты.
— Что ж, поиграем, — сказал Портос.
— А вы играете?
— Когда-то с сыном кучера как еще наяривал. И "Светит месяц", и Камаринского, и вальсы чувствительные. Горничные, слушая меня, таяли в собственном поту. Сидя на меcте, чернели под мышками, аж смотреть было жутко. Эмоция такая.
— Так вот… Будет у меня Алексей Алексеевич Фигуров, товарищ Максим. Он — писатель, народник. И сам в народ хаживал. В Нижнем Новгороде за писания свои в тюрьме сидел и по приказу Государя освобожден. Личность замечательная, самобытная.
— Посмотрим, сказал слепой, — кинул Портос.
— Потом будет Петр Робертович Глоренц, несмотря на немецкую фамилию, чистокровнейший русак. Идеалист и мечтатель и знает одиннадцать языков, проповедник эсперанто. Был политическим эмигрантом — и в 1905 году, когда повеяло весною, вернулся на родину.
— Послушаем, сказал глухой.
— Дальше — Аркаша Долгопольский — семинарист бывший, большой фантазер. Потом Кетаев, Кирилл Кириллович, в недавнем прошлом диктатор на Урале.
— Как же он на свободе?
— Попал под амнистию прошлого года. Потом Bеpa Матвеевна Тигрина… образованием не блещет, но… темперамент!
— А она хорошенькая эта Львицына?
— Тигрина! Портос… Очки в роговой оправе, лицо — луна, или скорее невыпеченный блин и тусклые рыбьи глаза.
— Словом — патрет! Смотреть аж тошно. И притом темперамент. Аж жутко стало!
— Не судите ее строго. И ей места под солнцем хочется. А она шесть лет в ссылке была. К ней в пару — сельский учитель Павлуша Недачин. Образования тоже не яркого, но учительствовал долго. Ну-с, и затем обещали быть сам Жорж Бреханов и Борис Моисеевич Маев.
— Значит, без иудея не обойдется.
— Нельзя, Портос. Надо вам и к этому привыкать.
— Ну-с хорошо, Агнеса Васильевна, а собственно "для почему" вы меня с Петриком на такую массовку притянули?
— Чтобы открыть вам глаза… Чтобы вы поняли, что вы — песчинка в море… Что ваши взгляды, ваши мысли — отжили и что встает, поднимается за вами новая сила. Раскопана, поднята новь… И вы подумаете — с нею вы, или против нее?
— Рискованная штука. А ну — караул закричим.
— Не закричите.
Портос задумался, помолчал немного и серьезно сказал:
— Что же, Агнеса Васильевна, как говорится — в час добрый… Слушаю же я у профессора Тропарева речи Стасского, читаю запрещенные и, именно потому ходкие, вещи графа Толстого, слушаю, как генерал Полуянов проповедует выборное начало в армии, почему не послушать мне и ваших безбожных людей?.. Но только — вдруг: — полиция нагрянет… Мне-то ничего, я отверчусь, а бедному Петрику всю карьеру испортите. Как он вернется тогда в свой лихой Мариенбургский.
— Можете быть спокойны… Меры приняты.
В прихожей зазвенел колокольчик.
— Ну что же… Теперь уже поздно трубить отступление. Послушаем, что говорят гонимые.
— Что говорит Россия и интернационал, — значительно кинула Агнеса Васильевна и пошла встречать гостей.
XXXIV
Гости пришли тремя партиями — три, три и два — почти все одновременно. Офицеры, хотя было видно, что они были предупреждены о них, стесняли и они расселись по комнате, по углам, на тахте и разговор не вязался.
— Какая весна-то, — сказал Бреханов. — И в Швейцарии такой не увидишь. Я Неву переезжал — так такой привольный воздух. Прямо с моря ветер.
— На Байкальском озере так вот пахнет, — сказал Кетаев.
— Да… Каждому из нас есть, что вспомянуть, — значительно сказал Глоренц. — И как подумаю, прихожу к убеждению… Весна, что-ли, на меня так действует… Пора начинать строительство. — Он пугливо покосился на Портоса.
— Какое строительство? — спросил Портос.
— Строительство новой, лучшей жизни.
— Это очень интересно… Как же вы представляете себе эту новую жизнь?
Глоренц, белобрысый человек с безцветным, плоским, рыбьим лицом, с светлыми бровями, бледными щеками, с не то седой, не то белокурой бородкой и большими узловатыми руками, в поношенном просторном пиджаке с мягким не первой свежести воротничком, весь завозился, заерзал, как ученик на экзамене, и заговорил, волнуясь и путаясь.
— Видите-с… Нужно вам сказать… я лингвист… Я одиннадцать языков знаю… И теперь говорю только на эсперанто… Дивное изобретение-с для создания человеческого братства и всемирных соединенных штатов-с. У меня на сей предмет два плана-с… Так сказать, большая программа, максимум… то есть для начала максимум, потом-то все больше… больше захватит.
— Так как же — большая программа? — спросил Портос, всем своим видом показывая чрезвычайное внимание.
— А вот-с… Представьте город-с…Очень современный… Последнее слово науки… Ну, натурально, в Америке. Пусть американцы и деньги на это дадут.
— Капиталисты?… миллиардеры?…
Глоренц поморщился. В разговор вступил Маев.
— Ну и что же?.. Отчего не взять?.. Они дадут.
— Сомневаюсь, — сказал Портос, — не такие они дураки и вахлаки, как наши Московские купцы-толстосумы. Ну, хорошо, положим — дали. Так как же город?
— Все, представьте, последнее слово науки. Канализация, электрофикация, всюду механизмы… Никакой прислуги. Ну и сады, натурально. Дома — термитники, — без окон. Искусственный свет, химически чистый воздух… И тут братская жизнь… Все, знаете, равны. У каждого одинаковая квартира и все распределено поровну. Солнечные этакие ванны на крышах… Славненько так…
— Ему солнышка на час и другому на час… А вдруг-таки другому-то солнышко облаком застит?
— Это все можно предусмотреть, — сказал, напирая по-семинарски на «о» Долгопольский. — Наука, она все может.
— Да можно искусственные солнца в случае чего поставить, — сказала Тигрина, дама или девица, обликом напомнившая Портосу скопца из меняльной лавки.
— Конечно… Очень даже можно, — сказал Недачин. — Ультрафиолетовые лучи лучше настоящего солнца.
— Так — город… Только город, — сказал Портос. — Но это так немного для программы-максимум?
— Для начала… Потом, значит, это всем ужасно как даже понравится и по всему миpy станут такие города.
— Да это прекрасно… Хотя вот, Петр Робертович, что меня смущает… Это… все-таки капиталисты? Ну их в болото! Просить… нам, социалистам!.. Я бы даже эксы предпочел… А что такое ваша программа-минимум?
— Кооператив-с, — разводя руками, сказал Глоренц.
— То-есть лавочка, где торгуют во славу третьего интернационала селедкой и гвоздями, керосином и мылом, мятными пряниками и луком.
— Это разовьется-с, — сказал Глоренц. — С этого начать.
Фигуров, товарищ Максим, поспешил ему на помощь.
— Видите, товарищ Портос, вы смутили товарища Глоренца. Вы заговорили сразу о будущем, об отдаленном будущем. Все это, все наше дело, надо начинать с настоящего момента, с сегодняшнего дня. Я спрошу вас, офицера, можно ли быть довольным теперешним порядком, настоящим строем, настоящим, скажем, режимом?
Портос не ответил. В наступившей тишине Петрик отчетливо услышал, как Бреханов шепотом спросил Агнесу Васильевну:
— Вы уверены в офицере?
— Да… да… — быстро ответила Агнеса Васильевна. — Он уже давно в партии.
Петрик почувствовал, как кровь бросилась ему в голову. У него обмякли ноги. Он хотел встать и не мог. Так и просидел он в углу, не проронив ни слова, точно пришибленный, и слушал, как смело и резко возражал Портос. Ему хотелось проверить себя. Может быть, он и ослышался. Но Бреханов удовлетворился ответом Агнесы Васильевны, а Фигуров, наседая на Портоса, говорил:
— Здание Российской Империи разваливается. Финляндия спит и во cне видит, как ей отделиться от России, то же и Польша. На Кавказе не прекращаются волнения. Партия Дашнакцутюн на Кавказе, польские социалисты в Польше, украинские самостийники в Малороссии, Сибирские автономисты в Сибири — все это мечтает разодрать Российскую Империю на части, и не о федерации мечтает… а насовсем…
— И вы думаете — республика? — сказал прищуриваясь Портос.
— Республика!? — но я вам ручаюсь, — повышая голос, сказал Фигуров, что все это из-за теперешнего режима, и я голову даю на отсечение, что, если будет революция, Финляндия и Польша должны в результате ее прочнейшим образом припаяться к телу свободной России.
— Позвольте, — возразил Портос, — мне, как офицеру генерального штаба, изучавшему международные отношения и не раз бывшему заграницей, сказать вам, что Германия проявляет волчий аппетит на весь Прибалтийский край, что Польша, — я говорил со многими польскими магнатами, — не рассталась с историческою мечтою о владычестве "от можа до можа", что Румыны только из страха молчат о своих "исторических правах" на Бессарабию, что турецкие эмиссары ежегодно отправляются десятками для пан-тюркской пропаганды в Казань… Все держится, товарищи, пока именем Русского царя…
Петрик слушал Портоса и ничего не понимал. Он — в партии, он офицер-социалист, а как говорит! Он сам не сказал бы лучше.
Кругом загоготали.
— Как?.. Что вы сказали, товарищ, — истерично, захлебываясь вскрикивал, икая, Кетаев, — Казань?.. А ну повторите, что вы сказали?.. Так, по-вашему, и Казань отпадет!.. Го-го-го… Хи-хи-хи!.. Вот уклеили-то!
Фигуров, презрительно щурясь, обратился при общем смехе к Портосу:
— Может быть, ваша разведка, вашего гениального штаба, донесла вам, что и Рижские латыши намеpеваются создать совершенно самостоятельную латышскую республику? А что скажете о сепаратистских намерениях молочниц-чухонок из окрестностей Петербурга?
Глоренц выставился вперед.
— Позвольте вам сказать, товарищ, я сам родом из Тифлиса и по-грузински даже говорю свободно, так я утверждаю, что когда в России произойдет революция — весь Кавказ, начиная с Грузии, сделается раз и навсегда Русским! Понимаете меня? Через десять лет на Кавказе разучатся говорить по-грузински, по-армянски, по-татарски и будут знать только Русский язык!
Фигуров авторитетно добавил:
— Когда в России произойдет революция — пробьет последний час существования Турции, ибо находящиеся под турецким игом племена оторвутся от Турции, чтобы присоединиться к революционной России!
Аркашка Долгопольский встал с тахты, подошел к Портосу и, ударяя себя в грудь кулаками, почти кричал:
— Я вам клянусь, Портос, что через год после настоящей революции в России, батенька, образуется г-р-р-рандиознейшая федерация из всех славянских государств!.. Primo — чехи… Пойдут, как пить дать, с нами! Вопрос решенный… Секундо… Терцио… болгары, сербы, хорваты, словаки, словенцы, румыны… даже, черт возьми… венгры… Да… да… даже венгры… Bсе примкнут к нам! Такая выйдет пан-европа… только держись!..
Портос казался ошеломленным таким дружным натиском. Он раздельно и внятно сказал:
— Остается только пожелать, чтобы настоящая революция поскорее наступила!
— Это уже наше общее дело, — сказал Бреханов.
XXXV
Вдруг, и как это часто бывает в большом мужском обществе, во время общего разговора и споров отклонились от темы и заговорили о декабристах и Герцене.
Фигуров восхвалял Мережковского за его роман.
— Наконец-то Русское общество, — говорил он, — увидит в настоящем свете декабристов и императора Николая I. Я несколько даже удивлен, что цензура пропустила такой роман. Теперь я с нетерпением ожидаю выхода в свет творений Герцена… Вот человек! Вот кому во всех городах надо памятники ставить.
— А вы знаете, кто такое Герцен? — спросил Портос.
— То-есть?
— То-есть, читали-ли и изучали-ли вы его, так сказать, до самого дна его мыслей?
— Я то!.. Хмы!..
— Если изучали, то вы должны были понять, как он далек был от ваших идеальных городов в Америке, где говорят на эсперанто, от кооперативных лавочек, где сидельцы читают Чернышевского и Добролюбова, от мира всего мира.
— Вы так говорите, — сказал Бреханов, — точно вы больше нас знаете о великом революционере.
— Пожалуй, что и больше вас.
— Интересно послушать, — сказал Маев.
— Фигура вашего великого революционера весьма зловещая, — начал Портос.
— Хмы, — хмыкнул Фигуров.
— По крови полуеврей, мать его была дочерью еврея-трактирщика в Германии, стала наложницею архимиллионера сенатора Яковлева, а Яковлев в дальнем родстве с Романовыми.
— Императорская кровь, — прищелкнул пальцами Маев, — вот откуда размах-то!
— В Герцене, — спокойно продолжал Портос, — проявились черты еврея-трактирщика и ростовщика, и русского, скорее даже московского, дикого барина-самодура и строптивца.
— Сказали, товарищ! — вставил Фигуров, но Портос не смутился и говорил громко и с силою:
— Еврейская егозливость, вздорная страстность, слезливая обидчивость и… барская строптивость. Еврейская жадность к земным благам, цеплянье за деньги, неразборчивость в средствах для достижения цели и русское барское самомнение и самовлюбленность.
— Нарисовали, — сказал Бреханов. — "С кого они портреты пишут?"
— Герцен всегда окружен отчаянными проходимцами. Он знает, что они проходимцы и жулики, но не может без них. Еврейская кровь! А барство толкало его в другую сторону: — нужна свита, «окружение» из льстецов и паразитов, чтобы фигурировать перед ними. Это Герцен и создал в России, да и заграницей, культ декабристов.
— Но, позвольте, — сказал Бреханов, — а "Русские женщины" Некрасова?
— Поэтическая вольность… Какой же подвиг в том, что жены поехали за мужьями в Сибирь? Это их долг. Да и так ли им уже плохо жилось там? Они — аристократки из Петербурга. Губернаторы и капитан-исправники ухаживали за ними… Сибирь?.. Вы все более или менее знаете, что такое Сибирь. Так ли уж плохо в ней живется? И солнышко светит… А еда-то какая!.. И письма имели, и журналы получали. Если подвиг в том, чтобы от Петербургской конфетки отказаться, так что же настоящий-то подвиг!.. Когда Николай I умер и весть о том дошла до Лондона — Герцен предался буйному ликованью, чуть не пустился в пляс от радости. Устроил банкет, созвал друзей и на банкете купались в шампанском. Буржуй еврейской крови!.. А когда та же весть о смерти государя дошла до Полунина в Сибирь, этот чисто русский декабрист разрыдался и стал твердить: — "умер великий государь! Какое горе для Poccии!" Вот вам два мировоззрения тех же декабристов!
— Это уже зоологическими понятиями пахнет, — сказал Маев.
— Герцен… Герцен носился с мыслью использовать староверов для свержения Самодержавия, виделся с ними в Лондоне и пытался через них сманить в революцию казачество! И это в дни Крымской войны!!.. Герцен и его кружок возлагали особые надежды на некрасовцев, сговаривались с поляками об организации помощи союзникам, о посылке отрядов казачьей кавалерии для операции в Крыму! В Константинополе в 1853–1854 годах существовало даже вербовочное бюро, которым заведывали польские агенты. Навербовать удалось несколько десятков разношерстных проходимцев. Волонтеры брали деньги на обмундирование, пропивали их, скандаля в трущобах, и исчезали. Герцен и его кружок брали деньги от британского и французского правительств, o6ещая вызвать в России во время Крымской войны революционное движение — восстание на Волге и Дону. Все средства хороши! Предательство… подкуп… Нет, какие уже тут хрустальные дворцы, где всем равное место под солнышком!
— Откуда вы черпаете такие сведения? — спросил Фигуров.
— Читаю, товарищ, не одного Карла Маркса и не одни брошюры, составленные, чтобы забивать паморки простому народу, но и самого Герцена проштудировал насквозь. И не только "Былое и Думы"… Культ декабристов!.. Ну хорошо… А удайся он?.. Не разгроми его на Сенатской площади Император Николай I, перекинься он в армию, в народ, что же было бы тогда? Залив столицу кровью, декабристы овладели бы аппаратом власти. Они — правительство!.. Надолго-ли? Единственная их опора — армия, — но армии уже нет, — говорю вам, как специалист, ибо армия, нарушившая присягу, убившая Государя и перебившая своих офицеров — уже не армия. Высокие идейные программные цели декабристов ей чужды. Парламентский строй Николаевскому солдату непонятен. Они и конституцию принимали за жену Константина Павловича. Федерация, вольности, реформы — мертвые слова для темной массы. Ей понятно одно. Закона больше нет. Нет наказания. Есть: — наша воля… Так почему же солдаты, изменившие императору Николаю I, должны повиноваться и быть верными каким-то Пестелю, Рылееву, Муравьевым и так далее? Все это: — "баре! Князья да грахвы, полковники, да енаралы. А мы их на своем хребте опять вези! Не жалам! Пущай Хведор Кирпатый заседает! Сажай Кирюшку! Ен человек верный. А енералов по боку… Не желам"… Ну и сядет Кирпатый, а не декабристы.
— Беды от того большой не вижу, — сказал Долгопольский. — Кирпатый и есть народ.
— Вот это мне и страшно, товарищ, — понижая голос и поеживаясь всем телом, проговорил Портос. — И, когда думаю о революции, — содрогаюсь. Ибо боюсь, что революция-то эта будет сопровождаться зверскими расправами темной массы с интеллигенцией. "А! воротничек, сукин сын, носишь!?.. Руки без мозолей — бей буржуя!..".
Бреханов рукою остановил Портоса и с тихой и благостной, елейной улыбкой на бородатом лице спросил его:
— Не думаете ли вы, многоуважаемый, что наши товарищи, фабрично-заводские рабочие, нами обработанные, уже не толпа… нет… а организованное общество, знакомое с марксистскою литературою, в дни революции примутся разбивать черепа нашим инженерам, или, чего доброго, будут совать директоров горных предприятий головою в доменные печи?
Маев вскочил с тахты и весь задергался, как картонный дергунчик, задрыгал ногами, замахал руками и завизжал:
— Один мой знакомый исправник, тот, знаете, шел дальше господина Портоса, и самым наисерьезным образом предсказывал, что, если только да революция разразится, еврейские молодые папиросники, пальтошники и пуговишники немедленно организуют великую революционную инквизицию и примутся повсеместно устраивать вжасные революционные застенки, где Русским офицерам будут выкалывать глаза и забивать спичкэ под ногти! Х-ха! Вжасно мрачно настроен господин офицер.
Долгопольский подошел к Портосу и остановившись в шаге от него и нагнув голову, как дятел стал говорить, напирая на о.
— Это народ богоносец-то?.. Это православные-то люди? Да что вы, батюшка! Да помилуйте батюшка! Богоносец-то!..
— Ну, что говорить… Баста! — крикнул, совсем хозяином распоряжаясь у Агнесы Васильевны, Портос, — идемте водку пить… Хозяйка давно мне знаки подает, что пора и к ужину…
XXXVI
Пили здорово.
— Как слеза, чистая, — говорил Глоренц. — Бувайте здоровеньки, товарищи.
— Высочайше утвержденная, — чокаясь с Кетаевым, сказал Портос.
— Народная влага-с.
— Вы народную-то пили?.. Самогон?
— Пивал в Сибири.
— И что же?
— Денатуратом отзывает.
— Вот то-то и оно… Как без ненавистного-то правительства? Революция, поди, и слезу сметет с белою печатью, — сказал Портос.
— Народ не хуже поставит, — ответил Долгопольский.
— Дал бы Бог…
— А хороша водка.
Пили, наливали, разливали, расплескивали дрожащими руками по скатерти. Видно — дорвались до водки. Наголодались и жаждали ее.
Закусывали небрежно. Кетаев руками с блюда брал ломти колбасы и жадно хрустел ею, дыша чесноком. Глоренц мешал водку с пивом.
— Медвежий напиток… Ссыльные так пивали. Водки-то, знаете, мало было.
Петрик сидел подле Агнесы Васильевны. Она ничего не пила. Пригубила водку в рюмке привязавшегося к ней Глоренца, налила себе пива и не притронулась к нему. Она иногда под столом пожимала руку Петрику и шептала ему:
— Будьте умником… Скажите что-нибудь… Что вы все молчите. Смотрите, какой молодец Портос… Так и бреет…
Но Петрик молчал. Что мог он сказать? Он чувствовал себя совсем чужим и далеким от всех этих людей.
По другую сторону стола рыхлая и неопрятная Тигрина совсем напилась и стала похожа на пьяную старую бабу. Она через стол кричала Портосу, брызгая слюнями.
— На запад… На запад, нечего нам на запад-то смотреть, батюшка! Что они там застыли в своем чистоплюйстве. До сей поры не собрались построить желзную дорогу из Англии в Нью-Йорк.
— Bеpa Матвеевна! через океан-то, — остановил ее Бреханов.
— И что, батюшка, за беда — окиян! У нас в Харькове, в саду Коммерческого Клуба, ка-к-кой овражище был и тот засыпали. Народом собрались и засыпали! Эка невесть беда какая — окиян. Народом-то!.. Навалиться только…
На углу стола Недачин, сельский учитель, вспоминал про Японскую войну и говорил, нагнувшись к Портосу:
— У нас все так! Вы знаете, в Каспийском моpе какие броненосцы стояли, все пошли во Владивосток и, конечно, были потоплены японцами. Я вас спрашиваю — кому они мешали в Каспийском-то море!..
— Это вы, Павел Сергевич, — спросил его Портос, — в 1905 году были руководителем матросского бунта в Архангельске?
— Я-с.
— И матросы ничего? Не смеялись над вами?
— С чего же им смеяться-то, — удивился и слегка как бы обиделся Недачин.
— Да так. Уже очень глубоки ваши познания в морях и морском деле…
В маленькой столовой было душно, шумно и гамно. Давно выпили водку и только пиво еще горело янтарями по стаканам. Тарелки были опустошены. Но никому в голову не приходило перейти в другую комнату. Сизые волны табачного дыма стыли пластами над головами гостей.
Глоренц взял гармонику и заиграл на ней какую-то частушку. Он запел и его поддержала Агнеса Васильевна.
— Десять я любила,
Девять позабыла,
Ах, одного я забыть не могу.
Все пристали нескладным хором и повторили нехитрый мотив:
— Десять я любила,
Девять позабыла,
Ах, одного я забыть не могу.
Пальцы пьяного Глоренца не могли держать ладов. Он откинулся на спину стула и, опуская голову, сказал:
— Играйте кто-нибудь, товарищи, я не могу что-то. Голова дурная стала совсем!
Портос взял у него из рук гармонику. Петрик дивился на него, не узнавал корректного, снобирующего в школе Портоса. Портос расстегнул китель и за ним была видна голубая рубашка. Расставив ноги, он с ухарским жестом раздвинул гармонику и сразу заставил ее запеть ладно и дружно все тот же немудреный, назойливый мотив. Он сочинял свои куплетцы и пел их к великой радости гостей.
— Я сидела на баркасе, На коленочках у Васи. Ела жамки и конфетки Из Васяткиной жилетки…И хором все:
— Десять я любила Девять позабыла, Ах одного я забыть не могу.Сквозь удалое пение прорывались слова. Тигрина насела на Бреханова.
— Не согласна я… Не согласна и все… Я не хочу кацапкой быть… Хай живе вильна Украина!
— Извольте, и на это подладим, — сказал Портос и, издав стонущий звук, сразу заиграл "Гречаники".
— Пишла баба на базар, Грешной муки покупаты Гречаники учиняты. Все подхватили: — Гоп мои гречаники, Гоп мои яшны Чего-ж мои гречаники Сегодня не смачны.Портоса точно несло куда-то. Лукаво подмигивая Агнесе Васильевне на Тигрину, лицом оставаясь серьезным, он продолжал:
— С помыйныцы воду брала, Украину учиняла.И разошедшийся хор вопил в каком-то диком первобытном восторге:
— Гоп мои гречаники, Гоп мои яшны…Агнеса Васильевна пальцем грозила Портосу.
— Стыдно, стыдно, вам, Портос, смеяться над Божьими людьми! — говорила она ему.
Портос глушил ее слова воплями гармоники.
Петрик пересел в угол за буфет и ничего, ничего уже не понимал.
XXXVII
Расходились за полночь. «Социалистиков» совсем развезло. Видно, не были они привычны к такому угощению. Недачин и Глоренц выходили в уборную. Их рвало. Они возвращались со всклокоченными потными волосами, с отстегнутыми воротничками и сбитыми на бок, неряшливо висящими галстуками.
— Что, товарищи, — весело встречал их Портос, — по славному римскому обычаю два пальца в рот, и качай сначала. Водки, или пива?
Но те жалобно мычали и пучили безсмысленно глаза.
— Эх вы! Российскую революцию учинять хотите, а с водки размякли. Ведь народ-то, чтобы поднять, море водки с ним выпить придется, а самому, а ни-ни, ни в едином глазу не быть. Вот он где Российский-то Карл Маркс сидит! — потрясал он пустою бутылкою над головою.
Уходили опять партиями — три, три и два. Недачина и Глоренца разделили и взяли под покровительство, первого Фигуров, второго Бреханов. Кетаев ушел, обнимая совсем размякшую Тигрину.
— А ведь он ее того, — подмигнул на Кетаева Портос Агнесе Васильевне.
Она погрозила ему пальцем.
Портос задержался. Петрик ожидал его. Ему непременно надо было переговорить с Портосом.
— Ну что, — спросила Агнеса Васильевна, — как мои безбожные люди?
Она стояла за столом с запачканной скатертью, грязными тарелками, недопитыми стаканами, колбасной шелухой и селедочными головами и хвостами. Вся комната была в полосах сизого табачного дыма. Терпко и противно несло из коридора спиртною рвотою.
Портос застегивал свой китель и безстыдным движением поддевал под него поясную портупею.
— Да… не хуже наших… Только у нас это чище как-то… И эти люди будут революцию поднимать?
— А что же?
— Ведь это, Агнеса Васильевна, не вверх к хрустальным дворцам и общему солнышку, а вниз в помойную яму… Это променять порося на карася.
— Что делать! Pеr aspеra ad astra!..
— Как бы с такими-то вождями мы не застряли в пропастях… Ну спасибо за показ… вашего зверинца.
Он подал руку Aгнесе Васильевне и как-то фамильярно и брезгливо пожал ее.
Петрик церемонно распрощался, и оба, молча, стали спускаться по лестнице. Следы невоздержанности «социалистиков» лежали на каждой площадке.
— Вот, — сам себе говорил Портос, — если офицер загуляет и напьется, да напачкает, вся литература готова изображать его пьяные подвиги. И к девкам-то ездят, и пьяные скачут, ну, а напиши кто про «социалистиков» — никто не напечатает. Тут цензура построже царской. «Социалистики» не люди, — ангелы, а умны! Из Каспийского моря броненосцы в Японию шлют! Атлантический океан, как Харьковский ров, засыпают! Н-да! Нет… писать про такое нельзя. Это мы, царские слуги, — хамы и пьяницы… Это мы, Русский народ, — пьяницы, черная пьяная сотня, а они — хмельного в рот не берут… Бреханов пристал ко мне, чтобы я подписал какое-то воззвание к русским людям… К русским людям… Презрение-то какое!.. К немцам, французам, англичанам, а тут к русским людям… не ошибитесь… тоже… — люди!.. По поводу кровавого навета на евреев!.. Где-то мальчика евреи убили, так не может того быть… Евреи!.. А Русская богородица сладострастница может быть? С красной петлею-удавкой на шее… Насладись… Возьми мою ночку, а потом и высовывай под петлею язык!.. Русское изуверство — сколько хотите! Тут никакого кровавого навета. А тронь еврея — весь мир зашумит!..
Петрик шел молча рядом.
На перевозе они взяли ялик. Сидели рядом, но были как чужие.
Ялик мягко покачивался на волнах. Шелестел упругою влагою, раздвигая ее носом. Луна отражалась в реке. Свежа была ночь и приятен после дымной и душной комнаты, полной пьяными людьми — простор Невы и ее нежное, ароматное дыхание.
У Дворцового моста вышли и пошли по широким и жестким гранитным плитам. За низким каменным парапетом плескалась Нева. Волнышки набегали и с легким звоном разбивались о камень. У Царской пристани на оттяжках стоял большой катер. Матрос-гвардеец в черном бушлате застыл подле него.
Зимний Дворец в громадных окнах тускло отражал луну. Кое-где светились огни. У будок стояли неподвижно, с ружьем у ноги, рослые часовые гвардейцы в высоких киверах с блистающей медью гербов. Четко цокая подковами проехали два молодцеватых казака, на легких степных лошадях. Похаживали по панели околодочные в офицерских плащах, городовые стояли посреди улицы между ярко горящих фонарей.
Суровая и красивая подтянутость была кругом.
Точно и самый воздух хранил почтительную тишину.
— Нет, куда им! — проворчал Портос, — "социалистикам!.."
Когда поравнялся с Эрмитажем, едва слышно сказал:
— А впрочем: — еt la gardе qui vеillе aux barriеrеs du Louvrе, n'еn dеfеnd pas nos rois…
Они поднялись на горбатый мост и шли мимо высоких казарм 1-го батальона Лейб-Гвардии Преображенского полка.
— Портос! — вдруг останавливаясь, сказал Петрик. — Скажи мне… — мольба и тревога были в его голосе. — Ты, правда, у них… в партии?..
Портос ничего не ответил. Он увидал вдали порожнего извозчика, махнул ему рукою и быстро зашагал к нему. Петрик побежал за ним.
— Портос!.. Это мне очень важно знать… Слышишь… Скажи… Правда ты в партии, стремящейся к ниспровержению Престола?
Портос садился на извозчика. Он не предложил подвезти Петрика.
— Ерунда!.. Какая ерунда! — сказал он. И, не прощаясь с Петриком, дал знак извозчику, чтобы он трогал.
Петрик глубоко засунул руки в карманы. Точно боялся, что протянет руку по привычке Портосу. Убрал голову в плечи, и глядя под ноги, тихо пошел наискось по Марсову полю.
XXXVIII
Для Петрика было очень важно знать — в партии Портос, или нет?
Петрик не разбирался в партиях. Он не только не занимался политикой — он ею не интересовался. Партия — «partiе». — Петрик переводил буквально, это была — часть. Часть, не слагавшаяся в целое, но противоборствующая целому и это целое и стройное разрушавшая на части. Сословия: — дворянство, крестьяне, мещане, торговые люди, духовенство, казаки, инородцы — это целое составляли, крепили и берегли. Для Петрика Россия была едина. В ней все были — Русскими. Он в своем взводе, в команде разведчиков имел и великороссов, и татар, и малороссов и поляков, были в нем и жид и латыш — для Петрика они все были — Русскими… Русскими солдатами. И что радовало Петрика — что они все тоже считали себя Русскими, и этим гордились. Он знал, что кто бы и где бы ни спросил их, — кто они? — они никогда не скажут: — "я — еврей" или "я латыш"… но всегда: — "я Русский". Это было то великое целое — Россия, что покрывало все части.
Партия стремилась это разрушить. Все равно какая… Даже — монархическая. Для Петрика в монархии не могло быть монархической партии — она была ненужной… просто — лишней, ибо вся Россия — монархия. Быть членом партии — по понятиям Петрика, — значило перестать служить Государю и повиноваться его законам, но служить партии, по ее законам и приказам. Это было двоевластие — это разрушало целость его России, той России, какую себе представлял Петрик.
Партия была враждебна России и быть в ней — значило идти против России.
Если Портос в партии — он враг России. И Петрик не может дружить больше с Портосом. Он не может на него донести. Офицер не доносчик, не фискал, не ябедник. Они же были кадетами в одном корпусе!! Петрик отойдет от Портоса: — холодным невниманием он покажет, что он его понял и не с ним. Он будет наблюдать за ним… и, если Портос… шагнет в бездну?.. Петрик исполнит свой долг.
Родина выше дружбы.
"Божьи люди" показали Петрику, что Валентина Петровна была права: — «нигилисточка» — это не шутка, не милая, веселая игра. Это партия… Петрик перестал бывать у нигилисточки. Он не считал ни ее, ни ее "божьих людей" опасными для государства, — слишком глупы и ничтожны все они были, да, наверно, за ними следила полиция. Но — Портос!
Петрик сразу увидел, что Портос — вожак. Портос в партии — делал партию страшной. Портос в партии — офицер-изменник. И как не мог представить себе Петрик офицера-масона, так не мог он представить его и партийным.
В простой и несложной душе Петрика шла большая работа. Он сознавал, что как-то выяснить все это было надо. Он понимал, что вызвать Портоса на объяснение ему не удастся. Портос ему ничего не скажет, или обманет его, ибо партия допускает ложь, а Портос — человек скользкий.
С этого дня он избегал встреч с Портосом. И это было тем более легко, что Петрик проходил занятия в школе с полным усердием, Портос относился к ним "спустя рукава" и, пользуясь Страстной и Святой неделями, экзаменами, сборами в лагерь, совсем не бывал в школе.
Петрик чувствовал, как маленькая трещина, образовавшаяся в их отношениях в день знакомства с "божьими людьми" у нигилисточки, разросталась в глубокую страшную пропасть.
Петрик боялся, что будет тот день, когда он, знающий, кто такой Портос, будет вынужден сделать что-то ужасное и противное, во имя офицерского долга. Из друга Портос становился — "врагом внутренним".
Петрик боялся об этом думать.
Как?.. где?.. когда?.. Но когда-то это должно разрешиться. И это было ужасно.
Но Петрик был занят. Ему некогда было об этом много думать.
XXXIX
На второй день праздника Валентина Петровна в фетровой черной шляпе — треух, в теплом суконном рединготе и амазонке, в сером манто, на извозчике ехала через Троицкий мост.
Был десятый час утра.
Столица гудела колокольным Пасхальным звоном. Отдельные удары тяжелых соборных колоколов сливались в общий гул и от того казалось, что какой-то незримый, несказанно прекрасный, торжественный оркестр играл высоко в синем небе. От этой игры в небе — празднично было на сердце у Валентины Петровны.
По небу — как нежные страусовые перышки разбросались белые и розовые облачка и стояли на месте.
На земле все блистало под солнцем. Больно было смотреть на Неву, отражавшую в мелкой зыби яркие солнечные блистания — тысячи маленьких солнц! Весело сновали по ней пароходики и белые ялики с задранной кверху кормой, точно чайки, косили к Мытному и обратно.
Деревья Александровского парка, еще черные и голые, набухли весенними соками и стали гуще. Мокрые шоссе манили под густой переплет их ветвей. На мосту и вдоль парка — везде был празднично одетый народ. У самого съезда с моста — ярославец мужик, в розовой рубахе и черной жилетке, устроился с большим лотком красных и лиловых яиц и бойко ими торговал.
На паперти Троицкой церкви пестрою толпою собирались богомольцы. Оглушали звоны ее колоколов.
Валентина Петровна увидала темно-малиновую большую машину Портоса, верховых лошадей под попонами и кучку любопытных на углу Кронверкского проспекта.
И ее там увидали.
Солдаты стали снимать попоны и подтягивать подпруги. Портос скинул пальто и в длинном сюртуке с пришпиленными полами пошел навстречу Валентине Петровне.
Немного жутко было садиться на рослого «Фортинбраса» в толпе народа, и сильно забилось сердце у Валентины Петровны, когда становила она маленькую ножку на руку Портоса и он бережно оправлял складки и застегивал резинку на правой ноге.
Лошадь тронула легко и плавно, и Валентина Петровна сейчас же оценила пружинистую гибкость ее просторного широкого шага.
Портос на большом вороном хентере, одолженном ему его приятелем Бражниковым, был великолепен.
В этот утренний час Каменноостровский проспект был пустынен. Они ехали по сырым от росы торцам, мимо высоких нарядных домов и далеко впереди в сером кружевном мареве виднелись сады Аптекарского острова.
Вся красота Петербурга раскрывалась перед Валентиной Петровной. Они ехали шагом, и ей xoтелось говорить, сказать все то, что наболело в ее сердце. С Яковом Кронидовичем она боялась поднимать серьезные вопросы. Яков Кронидович смотрел на нее, как на девочку, снисходил до нее, и это оскорбляло Валентину Петровну и заставляло ее скрывать свои мысли, жить внутри себя. То дамское общество, что ее окружало, никогда ни о чем серьезном не говорило.
— Как красив наш Петербург, — сказал Портос, глядя вдаль. — Какие в нем всегда прозрачные, точно акварельные тона.
— Я бы сказала — с гуашью, — промолвила Валентина Петровна. Ее замечание показалось ей значительными Она почувствовала, что этим она начнет свой серьезный разговор.
— Да… с гуашью… Вы правы. Особенно зимою. Великий человек был Петр!
— Неправда-ли, — быстро отозвалась Валентина Петровна. Она почувствовала, что он ее понял и подхватил брошенный ею мяч разговора. — И какой нехороший Владимир Васильевич.
— Стасский?
— Да.
Она вспомнила вчерашний разговор у нее в столовой за разговенным столом. Стасский, ковыряя вилкой в заливном поросенке, говорил о новой пьесе Мережковского и о Петре Великом. Он называл Петра развратником, при дамах, брыжжа слюнями и выпячивая с отвращением нижнюю губу сказал: — "корону на уличную девку надел! Подарил России царицу!"
— Он говорил, — торопясь и волнуясь, рассказывала Портосу Валентина Петровна, — что Петр кровью упился…
— Может быть, — спокойно сказал Портос. — Есть времена, когда это невредный напиток. Посмотрите, как взошла и расцвела от человеческой-то крови Россия! А Петербург! Какая красота!
— Стасский еще говорил — торопилась все сказать Валентина Петровна, — что Петр православную веру унизил и надругался над нею.
— Все не могут примириться со святейшим Cинодом, — усмехнулся Портос. — Все им Победоносцев снится. Умнейшая и образованнейшая, между прочим, Валентина Петровна, личность была. — И, меняя тон на очень серьезный, Портос добавил: — что поделаешь, милая Валентина Петровна, когда иеpapхи наши готовы разодраться между собою из-за брошенной кости. Ну и пришлось поставить над ними штаб-офицера Преображенского полка для послушания. Ведь и владыки, Валентина Петровна, не из святых набираются. Святые-то больше по кельям в «старцах» сидят.
— И будто Петр Венусу, из Италии привезенной статуе, поклоняться велел… Головы сам стрельцам рубил… Сына пытал… По словам Владимира Васильевича, Петр Россию от тихого поступательного движения, начатого мудрейшим царем Алексеем Михайловичем, толкнул в бездну… И повторял он с такой ужасной, злобной усмешкой фразу из новой пьесы: "а Петербургу быть пусту!.. быть пусту!.." А меня, знаете Портос, от его слов, таких злобных, мороз подирал по коже…
— Это новая мода и, как всякая мода, она имеет успех у толпы.
— Какая?
— Ругать старое. Подрывать свиным рылом основы, заложенные отцами и дедами… Чем дальше мы удаляемся от исторического лица, чем меньше можем слышать личных воспоминаний о нем, чем меньше сохраняется писем, записок и дневников, чем меньше предметов их обихода сохраняет нам время — тем шире становится поле для догадок, инсинуаций и клеветы и тем наглее становятся исследователи. Это у нас называется:- "исторической перспективой". История уже не зеркало былой жизни народов, но орудие для достижения определенной цели. Свои и иностранные историки — исследователи, большею частью братья масонского ордена, по каким-то особо раскопанным документам, якобы никому, кроме них, не известным, преподносят свои выводы и разоблачения… Гадкие по большей части выводы и мерзкие разоблачения. Толпа это любит. Толпа награждает за это рукоплесканиями. Толпа платит за это. Она любит, когда развенчивают тех, кому отцы ставили памятники. Да и меценат, из масонской ложи, найдется, чтобы существенно поблагодарить за это… На их мельницу вода — убить национальную гордость, подавить любовь к Отечеству!.. И — ярлыки, Валентина Петровна, ярлыки на липкой смоле, клейкие, гадкие и жгучие! Россия — татары!.. Азия!.. — Петр — развратник, сифилитик и микроцефал!.. Екатерина — распутная бабенка!.. Их государственные дела замалчивают, а вот в их альковах копаются, под кровать засматривают. Александр — отцеубийца, всю жизнь мучившийся этим и ставший ненормальным… Николай I — грубый солдат — никого не пощадили… Ведь это, Валентина Петровна, все равно, как если бы, описывая, скажем, Зимний Дворец и Эрмитаж, — мы описали бы только помойные, да выгребные ямы, не коснувшись ни зал, ни картин, ни мрамора, ни бронзы, ни вечной гармонии красоты … Это новый подход к истории. Подход — патологический. И это нужно для того, чтобы уничтожить Россию руками самого Русского народа… Вали ее — гнилую!..
Валентина Петровна слушала Портоса и точно пила из светлого источника вкусную прозрачную влагу. Она то смотрела на его оживившееся красивое лицо с блестящими глазами, то опускала свои глаза и любовалась бархатистыми тонкими ушами Фортинбраса, бывшими в постоянном движении. То настремит он их и смотрит вдаль в разворачивающуюся ширь островов, то прижмет к темени, точно сердится на соседа, то будто слушает, что так горячо говорит его хозяин.
XL
По деревянному мосту переехали на Каменный остров. Был прозрачен стук копыт по новым доскам моста.
На острове, по одну сторону шоссе, стояли дачи, еще слепые заставленными ставнями окнами, с черными, не посыпанными песком дорожками садов, по другую, за широкими ветлами, росшими по обрывистому берегу, Малая Невка несла блестящие глубокие воды.
Из Крестовки в нее вылетала узкая, длинная белая шлюпка. Три гимназиста, совсем уже по-летнему, в коломянковых блузах, гребли на ней в три пары весел, девушка в желтом соломенном канотье с белыми лентами, в синей кофточке нараспашку, сидела на корме, держась за веревки руля, и в такт гребцам нагибалась вперед, точно стараясь движением гибкого тела подогнать лодку. Они круто свернули вниз по течению и, оставляя серебряный след, понеслись вдоль Крестовского острова. Гимназисты весело смеялись. Они что-то сказали барышне на корме и та обернулась и маленькой ручкой помахала Валентине Петровне.
— Как хорошо! — сказала Валентина Петровна.
Портос свернул вправо на грунтовую дорогу с мокрой красноватой глиной. По бокам уже показалась молодая трава.
— Можно? — спросила Валентина Петровна, и Фортинбрас точно понял ее, потянул повод, колыхнул черным навесом гривы и, упруго подставив заднюю ногу, легко и просторно побежал широкою рысью, радуясь мягкому грунту, свежему весеннему воздуху и легкой и ловкой наезднице.
С каждым глотком воздуха, напоенного запахом воды и свежих весенних древесных соков, в душу Валентины Петровны вливалось счастье, то самое счастье, что знала она в детстве, в Захолустном Штабе, когда была свободной его королевной.
И лучшее чувство — чувство благодарности Портосу за доставленное удовольствие — согревало ее сердце.
По Елагину ехали шагом. В прозрачном мареве тонкой дымки скрывался залив. От Крестовского Яхт-Клуба неслись мерные звуки ударов топора. Одинокая яхта, занавесившись белыми парусами, точно видение, стояла у пустых пристаней. Легкий ветерок задувал поверху и задумчиво шумели голые вершины дубов и лип.
— Смотрите: снег! — воскликнула Валентина Петровна, хлыстиком показывая на полосу рыхлого, ноздреватого снега, притаившегося у северного края обрыва дороги — остаток большого сугроба.
"Как много, много радости жизни", — думала Валентина Петровна, глядя на этот остаток зимы. "По снегу сюда на тройке! Когда в серебряном инее горят алмазами деревья парка!.. Пристяжные кидают белые комья снега и щелкают по кожаным отводам… Летом на парусах по голубым волнам залива в Стрельну, Петергоф, в Tеpиoки… Идти, гонимой ветром вдоль берега, и слушать музыку курорта!.. Для нее это недостижимо… Яков Кронидович этого не любит. Ему всегда некогда. Он вечно занят. Он ищет правду… Раскапывает ее в трупах"…
Она тяжело вздохнула.
— Ах да!..
Она вспомнила, что и эта радость красивой прогулки — запрещенный плод. Может быть, потому он так и сладок?
Они возвращались левым берегом Большой Невки. С непривычки она устала. Весенний воздух опьянил ее. У ресторана Кюба, бывшего Фелисьена, о котором Валентина Петровна столько слышала восторженных рассказов, но где никогда не была, стоял автомобиль Портоса и вестовые с попонами их ожидали.
Это внимание Портоса глубоко ее тронуло.
— Зайдемте позавтракать, — сказал Портос.
— Ах нет, что вы?… Довезите меня, если можно, на вашем «биле» до Летнего сада, а там я возьму извозчика. Я даже не рискую вас пригласить завтракать к cебе, — робко добавила она.
— "Что будет говорить княгиня Марья Алексеевна!" — сказал Портос, протягивая руки, чтобы снять Валентину Петровну с седла.
— Если хотите… Да… Я не хотела бы, чтобы наши прогулки были неприятны Якову Кронидовичу.
— "Княгиня Марья Алексеевна" все равно будет говорить все, что взбредет в ее пустую голову. На то она и "Марья Алексеевна", — сказал Портос. — На чужой роток не накинешь платок… Но не все ли равно это вам? Жена Цезаря вне подозрений.
Валентина Петровна вздохнула, но ничего не ответила. И всю дорогу до дома она молчала и рассеянно слушала что-то длинное, что ей рассказывал Портос.
Самая музыка его голоса была ей приятна.
XLI
В ее сердце пробуждалась весна. В глубине души что-то пело, играло и ликовало. Не там, где грудь, печень, легкие, селезенка, вся эта гнусная проза анатомии Якова Кронидовича, от чего несет трупным смрадом смерти, а в нетленной душе, где зародилась любовь!
Апрель был удивительный. Каждый день, в туманах за Смольным, вставало солнце и к девяти часам утра в воздухе разливалась та нежная хрустальная прозрачность, что придавала всему вид старой акварели.
По голубому небу паслись перламутровые барашки. За Биржей, где-то в Финляндии, на том берегу, точно задний план декорации, громоздились большие кучевые облака, отливали в розовое, в синь, становились лиловыми, чернели и вдруг таяли, распадались, и к закату там по алому полымю тянулась узкая фиолетовая полоска по горячему огненному небу…
Какие то были закаты!
Каждое утро Валентина Петровна вскакивала с постели, накидывала на себя пушистое белое saut-dе-lit и в туфельках на босу ногу подбегала к окну. Она отодвигала тяжелые портьеры, поднимала штору и смотрела в окно. Внизу еще стлался туман. Запотели стекла. В садике торчали набухшие почками ветви сирени, и бриллиантами горели на них на солнце капли росы. Пол-садика закрывала длинная тень от дома, и по ту сторону улицы сверкали в ярких лучах коричневые железные крыши домов и блистали, как зеркало, дымясь прозрачными испарениями. Она открывала форточку. Вместе с гулом и треском города в нее врывались непрерывный, радостный писк воробьев в садике, гулькание голубей на соседней крыше и непередаваемо нежный сладкий запах Петербургской весны.
За дверьми, почуяв, что хозяйка встала, Диди царапалась ногтями и радостно повизгивала.
Скорее, скорее… одеваться!
В амазонке и высоких сапогах, со шпорой на левом, в треухе на туго стянутых косах, она проходила через гостиную. Собака, согнув спину и поджав вопросительным знаком хвост, шла у ее юбки. Валентина Петровна останавливалась у зеркала и смотрела на себя, прищурив большие зеленоватые глаза.
Да… хороша!.. Очень хороша!
Она отражалась в зеркале вместе с левреткой. Стройная, с укрученной около круглых бедер амазонкой, с тонким хлыстиком в руке. Серый редингот мягко облегал ее молодую нетронутую грудь и узкие, девичьи плечи. Собака большими черными глазами глядела в глаза хозяйке.
"Совсем портрет начала века… Левицкого. Дама с левреткой… Картина!.."
Она высвободила из-под треуха завитую прядку золотистых волос. Точно от ветра распустились, выбились волосы.
Да, очень хороша!
Она отвернулась от зеркала и прошла мимо рояля. Вчера, вечером, после прогулки, она одна играла Генделевское Largo. Диди, протянув лапки с длинными пальцами — точно и не собачьими, спала в кресле. Ее лапки легли в переплет. Правая передняя на левую заднюю, правая задняя под левой передней. Кот Топи лежал на крышке рояля и будто слушал ее игру, щуря прозрачные аквамариновые глаза.
Она играла и вспоминала, как играли они втроем в день ее рождения. Это меcто играла скрипка Обри, здеcь вступила виолончель Якова Кронидовича, а тут она громами всего рояля покрыла и скрипку и виолончель.
Largo?.. Налетело, захватило, свалило, сокрушило тихую покойную жизнь.
Свободной походкой, — как стали от езды легки и гибки ее ноги! — она пошла в прихожую. Таня ожидала ее с накидкой в руке.
— К фрыштыку будете дома?
В открытую дверь был виден тот кабинет. Ермократ прибирал на широком столе, заваленном бумагами. Он хитрым, злым, змеиным взглядом смотрел на нее. Рыже-седые, редкие волосы свалялись колтуном на его голове. Бородка торчала космами. Он не поклонился ей. Он глядел на нее маленькими глазами и его взгляд безпокоил Валентину Петровну. Ей казалось, что из кабинета несет запахом трупа. Она закрыла дверь в кабинет.
— Да… только скажите Марье, что я приду около двух. Поздний будет завтрак, — сказала она.
— Завтракать будете одне-с?
— Конечно одна… Дома Ди-ди! — строго сказала она побежавшей к дверям собаке. — Дома!.. Вы прогуляете ее Таня?
— Слушаю, барыня.
Мягко и послушно раскрылась высокая дверь, снаружи обитая зеленым сукном, золотыми гвоздиками. На другой половине блистала бронзовая доска. Вся лестница горела в солнечных лучах, в косых потоках света, играющего радугами пылинок. Два марша — и она была на свободе. Чуть не бегом шла она вдоль садика, где ее приветствовали, оглушая, воробьи. Знакомый извозчик ждал, чтобы везти туда, где было условлено, что будут лошади.
Любовь?
Радость прогулки… Очарование весны, воздуха, природы, лошадей…
"Яков Кронидович — вы можете быть спокойны. Я слишком умна и знаю, что это такое!"
XLII
Три дня шел Ладожский лед. Сильно похолодало. Лил дождь. К ночи подморозило и стала гололедка. Мокрый снег к утру выбелил улицы.
Зато еще прекраснее показалось яркое солнце, вдруг заигравшее после полудня и сразу убравшее и снег и гололедку и все следы возвратившейся зимы.
Портос позвонил по телефону.
— Буду ждать с лошадьми у церкви Иоанна Крестителя возле Строгановского моста. Берите трамвай № 2 или № 15.
— К пяти?
— Слушаюсь.
Ничто так не располагает к откровенному, задушевному разговору, как долгое движение шагом, на хорошо выезженных, знакомых лошадях. Речь льется сама собою. Не задыхаешься, как при ходьбе пешком, не надо думать, не слушает ли кучер, или шофер, как в экипаже, или в автомобиле… Вдвоем… Наедине…
Лошади шли меpно. Пряли ушами. Поводья были опущены. Так близко рядом было милое лицо с темными, всепонимающими глазами.
Ланское шоссе прямою стрелою уходило к далеким сосновым лесам. По сторонам были высокие заборы, огороды, кое-где еще пустые дачи. И так было тихо и безлюдно на нем, точно все, что было в городе, ушло куда-то далеко и тут начиналась новая жизнь. И никому, никому, ни отцу, ни матери, ни самому близкому человеку, никогда не сказала бы того, что говорила теперь, опустив голову, Портосу Валентина Петровна.
— Не говорите мне так, милый Портос. Вы ничего не понимаете… Что я была? Девчонка, ничего не знающая… Он пленил меня музыкой… добротой… прекрасным сердцем… Bсе его так уважали. Нет… нет… конечно… я и люблю его… Мне с ним спокойно… Он так добр ко мне.
— Это не любовь… Во всяком случае, для этого не надо выходить замуж… Так любят добрых батюшек, учителей… писателей…
— Ах… то… милый Портос… То для меня не существует… Может быть, оно хорошо в романах… но в жизни… Брр… Нет… Я не создана для этого. Это только мужчинам так кажется…
— Потому, что вы этого не испытали?
Они молчали несколько минут. Ровно и спокойно шли лошади. К наступавшему вечеру потянуло прохладой, и длинные тени лошадей шагали рядом вдоль забора.
— Тут что-нибудь не так. Посмотрите, как счастлива Вера Константиновна со своим мужем. Разве ваше счастье похоже на ее?
— Может быть… оно — другое… Но и муж у меня другой. Она Саблина. Я — Тропарева.
Чуть заметная насмешка над собою, над своею фамилией прозвучала в голосе Валентины Петровны, и Портос эту насмешку уловил и заметил.
— Дело не в этом, — строго сказал он…
— Нет в этом… Вы понимаете, Портос, я говорю вам то, что никогда не сказала и священнику на духу… Я не могу… не могу… не могу… Вы понимаете… ах! да что говорить!.. мне это больно и противно… И все кажется… От его рубашки скверно пахнет… От бороды… усов… Если бы я не видела, как он счастлив… Не знала, что это ему надо?.. Никогда, никогда не пустила бы его к себе… Э!.. полно!.. Это ужасное прибавление… противная подробность нашей… правда — хорошей жизни!.. Не будем говорить больше об этом. Вот месяц, что его нет со мною… И мне… хорошо… Ах… хорошо!..
По Ланской улице они подъехали к Удельному парку. Сторож, в темно-коричневом азяме, молча поднял перед ними шлагбаум, и они вошли на мягкую дорогу между высоких, тесно обступивших ее, сосен.
Валентина Петровна набрала повод и поскакала. Они проскакали через весь парк до Коломяжского выезда, там перешли на шаг и повернули назад.
В густом сосновом леcy не было никого. Сквозь стволы краснело закатное небо. На просеке было сумрачно. После скачки Валентине Петровне казалось тепло. Она расстегнула редингот. Под ним была блуза, сшитая, как мужская рубашка. Широкий пояс стягивал юбку амазонки. На отложном крахмальном воротничке был черный с красными полосками — «артиллерийский» галстух.
Несколько прядок выбилось на лоб и на щеки и они придавали шаловливый вид разрумянившемуся лицу Валентины Петровны. Ее рот был полуоткрыт, ровные зубы блестели из-за побледневших в морщинках губ.
Она смотрела на небо. Она ни о чем не думала. Вдруг она почувствовала, как сильные руки Портоса крепко охватили ее за талию и чуть приподняли ее с седла. Его широкая грудь коснулась ее груди. Больно давила золотая пуговица сюртука. Темные глаза вплотную подошли к ее расширившимся, испуганным глазам. Мягкие, приятно пахнущие усы коснулись ее губ и его губы впились жадно в ее полуоткрытый рот. У ней закружилась голова…
Она помчалась по дороге. "Этого не было"… быстро колотилась в ее голове мысль. — "Этого не могло быть… Боже, как я пала!.."
По Ланскому шоссе они ехали молча. Она тяжело дышала. От скачки?.. От мыслей?..
"Что-же это такое?" — думала она. — "Что я должна делать? Кажется… Да… надо было ударить его хлыстом по лицу… Я растерялась… Ударить теперь? Нет… поздно… поздно… Тогда не смогла — растерялась… Как же можно теперь?… Теперь глупо"… — Слезы блистали на ее глазах… — "Главное… кажется я ответила на его поцелуй?.. Это было так неожиданно… Но ведь это ужасно"… Она вспомнила, как сладко и приятно пахли его усы и как что-то точно побежало по всему ее телу от его поцелуя. — Вы!.. — сказала она сквозь слезы.
Он ждал, что будет дальше. Но она не знала, что сказать, и опустила голову…
"Подлец" — говорится в таких случаях. — "Но какой же он подлец?.. И не сама ли она виновата во всем этом? Зачем завела такой волнующий и неприличный разговор? Вот и получила. Что он подумает о ней?.. Что должна делать женщина, замужняя, «порядочная» женщина, жена профессора, когда ее целует посторонний мужчина?
Она тихо плакала… Украдкой, из под треуха, сквозь тонкие прядки разбившихся по лицу волос, застекленными слезами глазами Валентина Петровна посмотрела на Портоса.
Его лицо было сурово и спокойно. Темные глаза горели счастьем. Тем счастьем!.. Она знала его… Этот блеск ей был знаком.
— Стойте, — сказала она. — Подержите лошадь. Видите, как я растрепалась. Нельзя так по городу ехать! — В голосе ее звучали слезы.
Она сняла треух, набрала полный рот шпилек и заправила непослушные волосы назад.
— Слушайте, — серьезно и строго сказала она, — Я виновата, что вам верила… Этого никогда больше не будет.
— Слушаю, Валентина Петровна, — беря под козырек, по солдатски выпалил Портос.
Шагом и молча доехали они до Строгонова моста. Он хотел посадить ее в автомобиль, но она подозвала извозчика.
— Завтра, в это же время, здесь? — сказал Портос.
"Конечно, нет", — подумала она. "После этого с ним нельзя больше ездить. Не ездить с ним — значит совсем никогда не ездить".
Кругом был народ. Шофер, извозчик, вестовые, какие-то любопытные.
"Не начинать же при них пререкаться?"
Не ответив на его вопрос, она села на извозчика. Портос понял, что не надо было спрашивать. Была бы только хорошая погода.
Он посмотрел на запад.
В желтых огнях пылало небо. Красные искры вспыхивали на маленьких волнышках Невки.
Он приказал шоферу ехать тихо, так чтобы не обогнать извозчика с Валентиной Петровной.
Всем своим сердцем он ощущал одержанную победу. И замирало и билось его сердце, предвкушая то, что неизбежно будет дальше.
ХLIII
— Можно перепрыгнуть канаву?
Валентина Петровна показала хлыстиком в лес. Хрустальный воздух был тих. Неслышными шагами подходили сумерки и откуда-то издалека, из-за леca, должно быть с Удельного ипподрома, где были сегодня полеты аэропланов при публике и люди на своих воздушных машинах выделывали петли, торжествуя победу над воздухом, доносилась военная музыка. Играл большой хороший духовой оркестр. Он играл старый, пошленький, заигранный вальс «Березку», и мотив его доносился сюда в лес урывками, то музыкальною фразою напева, то мягким рокотом аккомпанемента.
— Конечно… Фортинбрас отлично прыгает. Что ему такая канавка.
Валентина Петровна повернула лошадь, освободила повод, чуть тронула шпорой.
Мягок был ее полет по воздуху!
Лошади пошли по нежному сухому мху, поросшему старой сухой черникой. Под хвойными ветвями, среди розовых, дышащих смоляным духом сосен, было как в дивном храме. Нигде ни души. Нигде ни звука. И только издали, далеко, далеко поет надрывно оркестр:
— Я бабочку видел с разбитым крылом,
Бедняжка под солнечным грелась лучом.
Лошади легко ступали по мягкому мху, не оставляя следов копыт. Лабиринт деревьев смыкался молодыми елками. Здесь было как в доме с запертыми дверями и окнами. Ничьих глаз, ничьих ушей. Раздражала и дразнила певучая музыка:
— Старалась и горе и смерть превозмочь,
Пока не настала холодная ночь..
Под деревьями за частым переплетом еловых ветвей было сумрачно. Близкою казалась холодная ночь.
Портос соскочил с лошади и привязал ее трензельными поводьями к cерой, точно дымом повитой сосне. Валентина Петровна не удивилась. В эти минуты она ничему не удивлялась. Все шло само собою, минуя ее волю. Портос подошел к ней и протянул большие сильные руки.
Она бросила поводья и бездумно отдала себя в них. Нога ощутила мягкую нежность мха. Она чувствовала себя какою-то легкой, невесомой. Точно это была она — и не она, а кто-то другой, кого она наблюдала со стороны.
— Совсем сухой мох… Как хорошо, Портос!..
Она шла, низко опустив голову, в сладком смущении.
— Да, тут прелестно, — услышала она так близко от себя, что вздрогнула и подняла глаза на Портоса.
Когда Портос успел снять свой сюртук? Зачем он снял его и бросил к ее ногам белою подкладкою кверху?
Она не успела ни спросить, ни подумать об этом. Портос крепко обнял ее и покрыл горячими поцелуями щеки, глаза, шею, подбородок, губы.
Она не сопротивлялась. Это было так неожиданно. Она теряла сознание. Портос снял с нее шляпу, и золотистые косы рассыпались по спине. Он подбирал их, вдыхал их аромат и целовал вьющиеся прядки.
Смешной Портос?
Он снял фуражку. Его темные волосы смешались с золотистыми локонами и щекотали ее лоб. Хорошо, нежно и сладко пахло от волос и усов Портоса.
И то, что было потом, когда она, не сопротивляясь, но помогая, отдавалась ему, когда у нее сорвалось всегдашнее, всеми женщинами в этих случаях повторяемое слово, сказанное ею впервые, совсем машинально: — "не надо!" — то что было потом — было совсем не смешно. Она стала ему близкою и родною.
Когда сливалась она в томном вздохе раскрытыми губами с его последним, долгим, долгим поцелуем, не смерть прошла мимо, а точно жизнь засмеялась радостным смехом счастья.
И после… все эти подробности… Такие противные, жуткие, отвратительные и, главное, стыдные — в их супружеской спальне, тут оказались простыми, милыми и естественными.
Удивительно был хороший Портос, когда, подняв ее с земли, целовал ей руки, щеки, глаза и говорил какие-то глупые слова, называя ее то на «ты», то на "вы".
Так просто и ласково, все молча, подала она ему сюртук, стряхнув с него листочки мха и веточки черники и сняла с плеча цепкую, серую палочку.
С тихой улыбкой — в душе у нее что-то смеялось и пело, она подошла к Фортинбрасу и горячей щекой прижалась к его чистой и нужной, прохладной гладкой шее.
Портос подал ей шляпу.
— У тебя нет гребешка? — спросила она его.
Он подал ей маленький свой гребешок и она причесалась и убрала под шляпу волосы. Потом сама отвязала Фортинбраса.
— Пора ехать, — сказала она. — Смотри, как темнеет.
Опять был легкий прыжок через канаву, на дорогу, и мерное движение шагом к далеким и редким огням Ланской улицы.
Они ехали всю дорогу шагом и все время молчали. Иногда Портос брал свободно висящую правую руку Валентины Петровны, тихо подносил ее к своим губам и целовал сквозь перчатку.
Смеялось и пело в душе у Валентины Петровны, и бездумное счастье билось в ее сердце. Так, шагом, они доехали через весь город до ее квартиры и там, в улице, в сырой прохладе наступившей белой ночи, у въезда в их палисадник — двор, где ждал автомобиль и вестовые, она, усталая и разбитая, сама, не дожидаясь Портоса, соскочила с лошади.
— До завтра, — тихо сказал Портос.
Она долгим взглядом посмотрела в темную глубину его глаз. В этом взгляде Портос прочитал немой упрек.
Он пожал плечами, взял ее руку и поднес к губам. Она осторожно отняла руку и, опустив глаза, быстро пошла по асфальту двора к горящей светом стеклянной двери подъезда.
Портос следил за нею глазами. Она не обернулась.
XLIV
Диди и Таня прибежали на звонок. Валентина Петровна в прихожей снимала треух. Таня зажгла свет. В зеркале отразилось усталое лицо, синева под глазами, опустившиеся щеки.
Таня подала ей телеграмму, лежавшую на блюде, на столе в прихожей.
— Из Захолустного Штаба, — сказала она.
Валентина Петровна развернула бланк.
"У папочки был удар. Сейчас отошло. Приезжать не надо. Мама", — прочла она про себя.
Она ничего не соображала. Слово «удар» она поняла буквально. Она подумала, что ее отца кто-то ударил и вся похолодела от ужаса. Телеграмма дрожала в ее руках.
— Что там?.. Случилось у нас что? — спросила Таня.
— Вот… прочти… — подавая телеграмму Тане, сказала Валентина Петровна.
— Поедете, барыня?
Валентина Петровна ничего не ответила и пошла, сопровождаемая все ожидавшей ее ласки и прыгавшей на нее собакой, в спальню. Таня шла за нею.
"У папочки удар" — думала Валентина Петровна. — "Вот оно — возмездие… О, Боже! Прости меня! У папочки удар… Я изменила мужу… Раз, или тысячу раз — все равно — это измена… И что я должна делать?"
Она села в кресло.
— Сапожки снимете?
Она посмотрела на Таню и не поняла, что та ей говорила.
— Сапожки, позвольте снять? Чай устали. Так долго сегодня.
— Ах да… — она протянула Тане ногу. — Это ужасно, Таня… удар?
— Пишут: оправляются. Помните, у полковника Томсона был удар. Совсем оправились. Ничего и не осталось.
— Нет… я не о том. Почему был удар?..
— Года их, барыня, не малые… Может, какая неприятность была?
К подошве сапога пристал мох, и Таня снимала его.
— В лесу ездили?
Валентина Петровна вздрогнула и со страхом и мольбою посмотрела на Таню. Ей показалось, что Таня проникла в ее секрет и знает все.
— В леcy теперь, должно, ужасно как хорошо!
— Оставьте меня, Таня!
Горничная взяла сапоги и амазонку и вышла из спальни. Диди, так и не дождавшаяся ласки, свернулась клубком на кресле и заснула. Валентина Петровна опустилась на ковер подле собаки и ласкала ее, прислушиваясь к нежному ворчанию, точно воркованию, левретки.
"Мох на сапоге… Тот мох"… — она вздрогнула. — "Измена мужу… Развод… самоубийство… Как я… опять… приму его здесь?..
Она со страхом посмотрела на раскрытую постель и вздрогнула.
"Этого не может быть… Этого никогда не будет"…
Она не осуждала Портоса. Она себя казнила и в болезни отца видела наказание за грех.
— Я не могу… — вслух сказала она. Ловила мысль, зародившуюся в ней. И не могла поймать. Посмотрела на телеграфный бланк, лежавший на столике.
— Надо ехать… Что же, поеду… Буду ходить за папочкой… А потом? Когда-нибудь надо вернуться?.. Он пишет, чтобы я приехала в Энск… В гостинице… В одном номере?
Эта телеграмма ее спасала. Она давала отсрочку.
"Время… Время научит… Время покажет"…
Листочек мха лежал на ковре. Она подняла его.
"Как это все… само случилось. Ведь, когда она ехала по лесу, когда прыгала канаву… Как легко она ее взяла!.. Она не думала об этом?.. О! как далеко она была от этого! Вдали играл оркестр. Так славно пахло смолистою хвоей. И было тихо. За этот миг — всю жизнь? Полно?.. А Божие милосердие"?..
Она щекотала мягкую шею собаки, покрытую шелковистою шерстью и слушала ее бормотание во сне.
— Что ты там говоришь такое, Диди? Что рассказываешь? — сказала она.
Вдруг простая мысль пришла ей в голову. Вспомнилась пошлая фраза из какой-то немецкой оперетки, должно быть: — "еin mal — kеin mal" — было и не было… Считать — не бывшим. Это ошибка… Это грех… Ну и замолю свой грех… Покаюсь. Кто без греха?.. Споткнулась… упала и встану… Ах, Портос, Портос!.. Все вы, мужчины, так легко на это смотрите… а нам…. нести крест… и лгать… всю жизнь!..
Она с отвращением посмотрела на постель. Ей страшным казалось теперь лечь в нее. Она сняла с нее одеело, закуталась в него и села в кресле. Так просидела она долго, ни о чем не думая, в какой-то тихой дреме, в приятном телесном оцепенении. Таня заглянула к ней.
— Что же вы так-то, барыня, не ложитесь? Не идете кушать?
— Надо лечь?.. Хорошо, я лягу, Таня, — покорно сказала Валентина Петровна.
— Да вы не убивайтесь, барыня. Может быть, папаша уже и встали.
— Ты думаешь?
— Все от Господа… Все проходит.
Валентина Петровна приподняла голову.
— Что ты говоришь, Таня… Как — все проходит?
— Да так… И болезнь, и горе, и радость — все пройдет у Господа. Все позабудется.
— Если бы так, Таня!..
— Да так оно и будет.
— Ну, спасибо, Таня.
— Что же, так не кушамши, и заснете?
— Мне не хочется есть, Таня.
Таня закутывала Валентину Петровну в одеяло, и она отдавалась ее ласке, как больной ребенок.
— Собаку взять прикажете?
— Оставь ее, Таня, пусть спит здесь.
— Прикажете погасить электричество?
— Да, погаси, Таня.
Когда стало темно и Таня вышла, — Валентина Петровна заплакала. Она сама не знала, о чем она плакала. О папочке ли, у которого был удар, о своей ли измене и грехе, о том ли, что это никогда не повторится: — этот прыжок Фортинбраса, мягкий мох и это… что это было?.. Счастье?..
Так, с мыслью о счастьи, она и заснула. Был тих, глубок и покоен ее сон.
Утром она поспешно собралась и, никого не предупредив, никому не послав телеграммы, одна, оставив Диди, Топи и квартиру на попечение Тани, помчалась в Захолустный Штаб.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
I
Этот год… Если был Господь — наложил Он наказующую руку на Русскую землю. За охлаждение к веpе, за равнодушие к пролитой христианской крови послал Он великий зной на Россию, а с ним целый ряд бедствий. Незаметно приходили они. Не пророки отмечали их, но полицейские протоколы и репортерские заметки в газетах. Был далек Господь от людей и не чувствовали они Его тяжелой, взыскующей десницы.
Сухое лето. Над Петербургом седая хмарь далеких лесных пожаров. За Ириновской дорогой горели леca. Раскаленные торцы дышали смолой, вязок был асфальт, и в комнатах даже с открытыми окнами стояла нестерпимая духота.
На юге засуха грозила урожаю. Ржаные поля полегли, перепутались колосьями. Душный воздух был мутен, и в полдень можно было смотреть на солнце. Красным, точно кровью налитым шаром висело оно в дрожащем сухом мареве. Деревни горели, и едкий дым пожаров на много верст тянулся над полями. В степи, на толоках, пересохли лужины, где поили скот, и на их меcте осталась серая земля, сколупанная скотскими ногами и покрытая глянцевитым солонцоватым налетом. Печально топтались вокруг засыхающих полей крестные ходы. Недвижно висели старые хоругви, и маленькая кучка, — больше баб и детей, — жалась вокруг.
— Бог Господь явися нам! — без веры взывали священники в палящий зной. Равнодушное солнце пылало над ними. Не слышал Господь сомневающихся в Нем. Не являлся спасти от голода.
Ночи наступали темные и душные. Точно черной кисеей подернутые звезды едва мерцали, и на горизонте протяженно сверкали обманчивые зарницы. Приходила страшная сухая гроза. Гремела непрерывными раскатами грома, горела молниями, не посылала ни дождя, ни прохлады.
Жара, зной, засуха, трепет людей перед возмутившейся природой отразились на человеческой душе. Как никогда раньше, в это лето было много самоубийств. Участились преступления. Ревность, зависть, распутство точно распухали от зноя и цвели кровавыми цветами человеческих жертв. Самые небывалые преступления прокатились волной по Русской земле. Точно мстил кто-то за неотомщенного мальчика с источенной кровью.
В Павловском парке солдаты изнасиловали девушку из хорошей «интеллигентной» семьи, и она, не пережив позора, — покончила с собою. В Пермских лесах семья заперлась в бане, подожгла ее и сгорела живьем, распевая псалмы. Народ стоял кругом и не позволял тушить. "Святые люди! Ко Господу идут!.. Всем бы народом так!" Под Петербургом объявилась богородица и святые братцы — и народ валом валил к ним. На Смоленском кладбище видели юродивую Ксению.
В деревнях встречали давно умерших людей, восставших из гробов. Шептали старухи о страшном суде и о грядущем Антихристе. Ждали войны.
От жары, от того, что крепко солоны были заправленные впрок свинина и сухая донская тарань и дешевы изобильно родившиеся огурцы — народ много пил воды, и дизентерия начиналась по городам. Ожидали холеры.
По городам и на станциях железных дорог висели большие белые плакаты с надписями: — "не пейте сырой воды!" и стояли бочки и кадки с теплой, противной, кипяченой водой, а народ тянуло к реке, к водопроводному крану, где вода казалась холоднее и свежее.
Особенно страшно, тревожно и взволнованно переживал это лето Энск. Точно вся его средневековая глубина схимнических пещер была пропалена солнцем и вызвала тени умерших. Точно святость места, изобильного Божьими угодниками, старцами, святыми иноками, юродивыми и кликушами притянула к себе темные силы и они ополчились на брань. Был Энск переполнен учащейся молодежью, легко поддающейся разочарованию в жизни, влюбчивой и ревнивой, неимущей, питающейся впроголодь, дерзновенно вызывающей к cебе смерть. И, как нигде, в Энске были преступления, убийства и самоубийства.
Источенная из мальчика Ванюши Лыщинского кровь проступала из земли, лилась потоками чужой крови.
У Якова Кронидовича в его летней семинарии при Университетском Анатомическом театре и по делам уголовного розыска было много работы.
Трупы поступали ежедневно. Их выбрасывал теплый, маслянистый, точно застывший в своем медленном течении Днепр, их находили по утрам на скамьях и лужайках больших приречных садов. Их обнаруживали по душному пресному запаху гниения в уединенных лесных сараях, по чердакам и сеновалам.
Окруженный студентами и студентками, в резиновых перчатках, со скальпелем в руке в белом халате стоял над трупами Яков Кронидович и вопрошал у смерти, почему и откуда она пришла?..
В эти часы вдохновение было на его лице и ему казалось, что наука сильнее смерти.
В прохладе анатомического театра подле льдом обложенного тела, где пахло покойником, карболкой и формалином, где бледнели и падали в обморок студенты, он чувствовал себя прекрасно. Здесь точно открывались ему, и он передавал это другим, — тайны жизни. Любовь, ревность, зависть, раздражение, тоска — все были пустяки. Деятельность печени… неправильное кровообращение, маленькая опухоль, давившая на мозг, деятельность желез… вот эти желтоватые соки… Эта серозная жидкость, эта бледность тканей….
— Вы говорите, — говорил он, блестя глазами и испытующе глядя на слушавшую студентку, — вы знали самоубийцу? Вы говорите: — он застрелился из любви и из ревности? Вот, смотрите… Вот этот сгусточек… Примечаете?.. бедность крови…. Смотрите в микроскоп… Слабо развитые железы, вялое сердце, этот маленький, слабый, плохо питаемый орган….
Индивидуум не мог жить… У него не было импульса… Он должен был покончить с собою. Такому, коллеги, вы со спокойною совестью можете выдать разрешение на христианское погребение. Он жить не мог…
— Теперь перейдем к этому. Полицейский протокол говорит, что он повесился… Коллеги, — перед нами симуляция повешения. Он был задушен. И тело нам откроет, за что и кто его удушил. Смотрите этот след. Это след большого пальца…. Мы его снимем… мы увеличим снимок — и мы найдем убийцу.
…- Он был пьян. Смотрите содержимое желудка. Спиртовый запах не исчез и по сейчас….
Яков Кронидович копался в темных смердящих внутренностях. Прядь его густых волос падала ему на лоб. Он поправлял ее пальцами в гуттаперчевой перчатке. Он был пропитан запахом мертвых тел… Он нес его с собою… Он этого не замечал….
Он ехал, или шел к себе в гостиницу и думал о вскрытых им телах. Мог ли бы он покончить с собою от любви?… Мог ли бы он задушить руками соперника?..
Все зависит от сердца, от печени, от мозговых извилин, от наличия тех или других соков…
Он мотал упрямо головою, точно гнал какую-то навязчивую мысль.
Мысль эта была — воспоминание о письмах-рапортичках, приходивших почти ежедневно от его служителя Ермократа Аполлоновича.
…."Сего числа супруга ваша выезжала в десятом часу утра на извозчике. Ехали в верховом «кустюме». Катались по островам на лошади с офицером господином Багреневым"…
…"Сего числа супруга ваша выезжали в верховом «кустюме» в шестом часу вечера. Катались не знаю где с господином Багреневым. Вернулись в десятом часу. На сапоге обнаружен мох"…
…"Сего числа супруга ваша отбыть изволили к родителям, как сказала Татьяна Владимировна"…
Яков Кронидович этого не просил. Ему это было противно. Но написать Ермократу, чтобы он прекратил слежку, казалось еще противнее.
Он позволил Але ездить с Петриком — она ездила с Портосом.
В конце концов не все ли равно? Или он ей верит, или он ей не верит?..
Он ей верил.
Но ее обман, о котором она в своих письмах не упоминала, был ему тяжел и неприятен. Он все хотел ей написать об этом, спросить, пожурить за непослушание. И все не решался.
Мешала жара. Мешало и то большое дело, куда он незаметно ушел всею душою, всеми мыслями — дело правды об убийстве Ванюши Лыщинского. Правда эта заслонялась все больше и больше и распутать ее становилось непременною целью всех помыслов Якова Кронидовича.
И он забыл о жене. Да теперь — безпокоиться было не о чем. Она была в Захолустном Штабе при больном отце.
II
В воскресенье утром, Яков Кронидович еще лежал в постели, пришел Вася.
— Вставайте, дядя!.. Чудный день… Пойдемте за город… Вам освежиться надо. У вас и в номере-то покойником пахнет.
— Что же… Опять туда?
— Туда… Там теперь так хорошо.
Яков Кронидович встал, оделся; они напились чаю, и на извозчике поехали к кирпичному заводу Русакова. Пыльная, немощенная Нагорная улица была в трепетной тени густых акаций. Темнели на них большие зеленые стручья. Густая цепкая трава вилась около колес и осыпала пылью семян черный деготь смазки осей. Фаэтон чуть покачивался на выбоинах и поскрипывал. Белый тент качался над ним.
Лопухи и крапива разрослись вдоль заборов. Зацветала розовая мальва и бересклет свисал сверху. Bсе отверстия, куда они лазили весною, были тщательно забиты свежими досками.
На заводе по случаю воскресенья не работали, но он был полон людьми. У конюшень поили лошадей. Там раздавались голоса и ржание. Трубы Гофмановских печей дымили. И из глубины пустырей, заросших кустарниками, как будто от того места, где была пещера, доносился грубый смех, девичий визг и пиликание гармоники.
Отпустив извозчика, они шли пешком вдоль забора.
— Мы с вами, — сказал Вася, — точно те самые преступники, что убили Ванюшу и кого не могут разыскать. Нас точно тянет на место преступления.
— Да я с ним связался… Я выступаю на суде, как эксперт, — рассеянно сказал Яков Кронидович. — А ты, Вася?
— Я думаю, что и мне придется выступить… Но все не знаю как.
Они дошли до перекрестка и повернули назад. У забора были навалены доски.
— Сядемте, дядя.
— Каким же образом ты думаешь выступить? — садясь на доски, сказал Яков Кронидович.
— Не знаю еще как. Наш закон не позволяет свидетелю показывать от третьего лица… А боюсь, как-то придется обойти этот закон…
Вася замолчал.
— Ну?
— Помните, весною, сюда к нам приходили эти милые дети Чапуры. Вы помните их точный рассказ о Дреллисе, о таинственных евреях, которые у него были накануне убийства Ванюши, о том, как они пошли кататься на мяле, как евреи схватили Ванюшу… Теперь вы от них ничего не добьетесь. Еще Ганя все потихоньку клянется, что на суде под присягой, он все покажет, а девочки меня избегают.
— Что же случилось?
— Oни запуганы сыщиками и матерью, — коротко сказал Вася.
— Вы знаете, дядя, в этом деле — точно тайные, невидимые силы работают.
Яков Кронидович, нагнувшись, палкой чертил по песку. Он начертил крест, приделал к концам крючки, отложил палку в сторону и, выпрямляясь, посмотрел на Васю.
— Ты знаешь, что это такое? — спросил он.
— Свастика… Противомасонский знак…
— Да… так говорят. Это крест с обломанными краями. Торжество масонства над христианством. Кто кого дурачит — масоны христиан, или христиане масонов?… Не нравится мне этот мистицизм! А он все более и более проникает в высшие круги. Мы все думаем от беды отмолиться, отчураться, а не пойти и эту беду победить. Помнишь — Куропаткину в Японскую войну все иконы слали. Ему надо тяжелую артиллерию, да гранаты, а ему иконы.
— Молитва, дядя, много помогает.
— А это знаешь — веpa без дел? а? Масоны и жиды на штурм власти пошли, на гибель русского народа — а мы им: — свастику!!
Яков Кронидович опять нагнулся и чертил на песке пятиконечную звезду.
— И это знаешь?
— Знаю. Еврейская звезда востока. Давидова звезда.
— Да, двумя рогами кверху — отвратительная рожа Люцифера, рога в лучах, козлиная борода внизу… А так — победа над сатаной… Все мистика… Заметил у офицеров на погонах звездочки? Пятиконечные… тоже… Жид-портной двумя лучами кверху нашьет и радуется… Или видал нашлепки резиновые на каблуки делают, чтобы не стаптывались. Практично… А на нашлепке крест выбит… фабричное клеймо… И попираешь ты, христианин, ногами крест. Это тоже — мистика…. А я бы эту мистику по шапке, чтобы народ не смущать.
— И так, дядя, жалуются, что мало свободы. Слишком много запрещений.
— Слишком много свободы, — тихо, как бы про себя, сказал Яков Кронидович. — Вот ты мне весною тогда говорил о крови… И из Библии вычитывал, а я потом все думал, почему так?… Русская кровь, что вода… Лей, сколько хочешь… Ну, а скажем, на погроме, что ли, еврейское дитя толпа убьет… Почему тогда скандал на весь мир! Запросы в парламентах и угрозы самому Русскому Государю?.. Что же — разная, что ли, кровь у Русских и у евреев?
— Разная, дядя.
— Ты говоришь… Ты знаешь это?
— Жиды так учат… Пойдемте, дядя, сегодня вечером к одному ученому человеку. Это профессор древне-еврейского языка, ученый литвин Адамайтис, католический ксендз. Пойдемте к нему — он вам откроет тайны….
— Тайны? Какие?.. Тайн нет…
— Еврейской религии. Вы знаете ее? Вот православное, католическое, лютеранское, какое угодно богослужение, таинства — пойдите в лавку, купите книжку, все, что хотите, прочтете, все как есть… В романах можете прочесть. Граф Толстой в «Воскресении» насмеялся, надругался над православной литургией….
— Книга запрещенная.
— А кто ее не читал в Берлинском издании?
— Положим… Сановники привозили… Стасский хвастал, каждый год привозит, когда один, когда и два экземпляра. Молодежи читать дает… Просвещает…
— Гюисманс "Черную мессу" описал… На здоровье. А вот опишите-ка подробно, как и для чего источают кровь евреи?.. Всеволод Крестовский чуть тронул еврейство — замолчали, захаяли крупного русского писателя. Давно ли он умер?.. А уже забыт… Вот вам мистика.
— Не мистика, Вася, а сила еврейского капитала. И обывательская подлость. Только тронь их. По всему миpy грозный окрик. Не сметь! Кровавый навет! Это неправда! Автор не знает! все это ложь! Ни масона, ни жида не тронь… Мистика! Нет, Вася, не мистика это, а еврейская наглость и наскок. И Государь Император твердо сказал: — пора положить этому предел.
— А если мистика?
— Что же, свастикой ее побеждать?.. Нет, лучше — широким и гласным, справедливым судом… Ну, пойдем, Вася.
— Посидим, дядя, еще немножечко. У меня здесь свидание назначено.
— Дети, опять?..
— Теперь… Нет… взрослые, почти старики.
III
Становилось жарко. Солнце пекло и коротки были жидкие тени акаций. От досок шел смолистый дух. Людские голоса и звуки гармоники смолкли на заводе. Точно притушила их жара. Улица была так пустынна, что, когда показались на ней прохожие, — они сразу привлекли на себя внимание Якова Кронидовича.
— Они, что ли? — спросил Яков Кронидович.
— Они самые.
— Каких, каких только людей, Вася, ты мне ни показываешь, — сказал Яков Кронидович.
— Не все вам, дядя, с мертвыми быть, познакомьтесь и с живыми.
Пожилая благообразная женщина в черной, просторной кофте и такой же юбке, в темном платке, со смуглым лицом в мелких морщинах — местная мещанка или мелкая торговка, шла с каким-то маленьким тщедушным человеком. Серые глаза ее внимательно и пытливо осмотрели, точно ощупали, Якова Кронидовича. Шедший с нею человек был неопределенного возраста с бритым актерским лицом. Он был в черном длинном, рваном, без подкладки сюртуке, с оборванными пуговицами и в смятой, грязной соломенной шляпе, из тех, что выбрасывают за выслугою сроков на помойную яму. Маленький нос-картошка пунцовел между морщинистых щек, не то от загара, не то от пристрастия к спиртным напиткам.
— С героями «Дна» меня знакомишь, — накладывая ладонь сверху на руку Васи и пожимая ее, тихо сказал Яков Кронидович.
— Почти, — сказал Вася и встал навстречу подходившим.
— Здравствуйте, Марья Петровна, — сказал он. — Как дела, Шадурский?
— Что ж дела…, - прохрипел пунцовый нос. — Дела, как сажа бела, сами, чай, знаете.
Он подозрительно посмотрел на Якова Кронидовича.
— Это мой дядя — доктор. Перед ним не стесняйтесь. — Угостите, дядя, Шадурского папироской. Да садитесь, покалякаем.
— Рада, Василий Гаврилович, с вами покалякать, — быстро заговорила женщина. — Все хоть немножко душу отведешь, о горе христианском расскажешь…. Кто нас, горемычных русских людей, нынче слушает?.. Образованные очень даже люди стали! Даве к околодочному зашла рассказать, как умерла Агриппина Матвеевна, — как зарычит: это к делу не относится… Такой тебе страшный!
— Разве Ванюшина бабушка умерла? — спросил Вася.
Женщина села на доски рядом с ним. Шадурский стоял.
— Померла, Василий Гаврилович. И то — семьдесят годов ей было, а так — крепкая старуха, пожила бы и пожила еще, кабы не этакое с внуком ее случилось. Ведь она его как любила-то!! Себе откажет, а его — из школы придет — чайком побалует с баранкой какой? Как ей, Василий Гаврилович, и не помереть было? И собачка-то домашняя поколеет — и ту жаль. Сердце болит. А тут душа христианская. И такою-то страшною смертью. Да кабы кто пожалел-то их! Все с жалостью-то людскою всякое горе терпимей…. А то полиция нагрянула, весь дом перебуровили… Вишь ты какое у них обозначилось…. Мальчика мать убила… Ну бабушка и не стерпела. Вышла…. Что твоя королева! Руки в боки. Как крикнет: "Чего вы тут шукаете, вы бы шукали там где люди его нашли… там шукать не хотите, а до нас ходите"… А вот теперь и померла. С тоски, да с волнения. Очень она тогда раскудахталась. Все хотела к самому Ампиратору идти. Все суда ожидала. Я, говорит, на суде покажу, — зачем там не шукали, где надо…
— А в самом деле, — сказал Яков Кронидович, — разве не было обыска на заводе?
— В том-то и дело, что не было — сказал Вася. Марья Петровна быстро повернулась к Якову Кронидовичу.
— Вот, господин, в том-то оно и есть, что не там ищут. Вот он вам покажет. — Ты, Казимир, — обратилась она к пунцовому носу, — ты расскажи, не бойся. Господа тебя не обидят. Он, господин, фонарщик тутошний. Тут фонари-то еще керосиновые, так утром тогда Ганю Чапурина и Ванюшу видал, как фонари заправлял. Ну, сказывай, как мне сказывал.
— Да что сказывать-то? — недовольно проворчал фонарщик.
— А ты сказывай, как мне сказывал. Иду, мол, утром с лесенкой. А Ганя и Ванюша навстречу… Сказали, на мяле идут кататься… А тут показались Дреллис и еще жид какой-то с черной бородой… И побежали дети… Ну, говори, Казимир… Облегчи душу-то!
— Этого, господа, ни-икак даже сказать невозможно, — наконец, глухо выговорил фонарщик. — Потому… мне свет милей…
И замолчал. Опять заговорила Марья Петровна, точно заботливая няня, помогавшая высказаться фонарщику.
— Видите, господин, очень его били за это. За эти самые рассказы. Вот и боится он теперь. Известно, пуганая ворона и куста боится.
— Кто же вас бил? — спросил Яков Кронидович.
— Ты, Казимир, не бойся… Это — дохтур… Он тебе еще и способие какое может оказать…. Гляди — вылечит тебя….
— А вот, как к следователю меня вызывали, — начал мрачно фонарщик. — Дня за два, что мне идти. Зажигал я, значить, фонари…. И подбежало их несколько. Так-то под бок дали…. Хоть и сейчас трубку приставьте — гудит… Мне — свет милей.
— Видите, господин, — заспешила Марья Петровна, — кабы богатея какого били… Ну, ограбить… А то кого?.. За что?..
— Я-то понял… У следователя был — знать ничего не знаю… Не видал и не слыхал… Ничего по делу показать не могу. Напрасно и себя и меня безпокоили.
— Это по поводу Дреллиса вас спрашивали? — спросил Яков Кронидович.
— Не могу знать-с! — отрубил фонарщик и опустил голову, сделав вид, что ни слова больше не скажет.
— Эх, Казимир… Мне же говорил… Он, господин, как-то в портерной сболтнул, что может показать на Дреллиса…
— Ну, сболтнул… Известно, слаб человек. Размяк очень… А тут сейчас сыщики…. Откуда только взялись. Так меня запутали, так запугали… А как к следователю… дня за два…. ну и под бок…. Так, ваше блогородие, и совсем могут убить… Ничего я не знаю…
И фонарщик быстрой шатающейся походкой отошел от них.
— Ничего Казимир не скажет, — вздохнула Марья Петровна, — очень уже страшное дело…
IV
Вечером Вася шел с Яковом Кронидовичем к ксендзу Адамайтису.
Было душно и в малиновых огнях было закатное небо. И, как все эти дни, далеко в темневшем востоке полыхали зарницы. Точно там, за рекою, готовились новые казни людям.
Они шли пешком по глухим, пустынным улицам, где низкие дома перемежались высокими садовыми оградами. Деревья и кусты стояли неподвижно и точно томились в жарком наряде иссыхающей листвы.
Шумные улицы с игрою световых реклам, и звуками музыки из «биоскопов», «иллюзионов» и маленьких театров остались позади. Здеcь было тихо, и Вася говорил все о том же, о значении крови для евреев.
— Если бы этого не было, если бы это было невозможно, как то говорят они, не жила бы так упорно в народе эта легенда и не писали бы о ней такие поэты, как Мицкевич и Шевченко. Их-то в жидоедстве и черносотенстве нельзя упрекнуть.
Вы помните в "Пане Тадеуше":
" ………………стон Был воплем Зоси заглушен…. Она, обеими руками Судью с усильем обхватя, Кричала резко, как дитя, На Пасху взятое жидами, Когда, чтоб кровь его добыть, Они, укрыв его под полог, Со всех сторон спешат вонзить В бедняжку тысячи иголок!"…— В бедняжку тысячи иголок…. - раздумчиво покачивая головой, повторил Яков Кронидович. — А знаешь, Вася, и труп видал, и вот ты меня, который уже день убеждаешь, а все, как подумаю — и верить не хочу…..
— Послушайте ксендза Адамайтиса. Он вам все объяснит….
— В двадцатом веке!.. Знаешь как-то… в двадцатом веке это особенно жутко выходит…. По контрасту, что ли, с аэропланом и беспроволочным телеграфом?..
— Культура, дядя…
— Знаю, милый… Культура не в изобретениях, а в высоте духа…. И век Возрождения, пожалуй, выше нынешнего….
— И притом, дядя, — теперь толпа, а не личность… А толпа?.. Да вот слушайте, что говорит Тарас Шевченко… Тот Тарас, чей гипсовый бюст в бараньей шапке и бекеше с широким воротом считает своим долгом держать у себя на комоде каждая себя осознавшая курсистка. Это толпа… та толпа, которая может, по нынешним понятиям, государством править…
…"Наплодила, наводила, Та нема де диты — Чи то потопити? Чи то подушити? Чи жидови на кровь продать, А гроши пропити?"…— Ты знаешь, Вася, я и такую «версию» слыхал, что Чапура-мать Ванюшу Дреллису продала…. Какой век!
— В этих низах всего, дядя, можно ожидать…. Они и царя жидам продадут… Пролетариат!..
— Только ли в низах? — вздохнул Яков Кронидович и вспомнил о Стасском…
V
Яков Кронидович, общавшийся со многими людьми самых различных слоев общества, заметил, что в квартирах и домах духовных лиц всегда как-то особенно пахло. У Русских батюшек это был немного церковный запах ладана и деревянного масла, воска от навощенных полов, розового масла и порою крепко, духовито пахло зимними сортами яблок, разложенных по полкам. Анисовками, розмаринами, антоновками пахло из кладовых и прихожих. Покои у них всегда были очень светлые. Много солнца лилось через кисейные или ситцевые гардины и часто в клетках немолчно пели чижи, снегири или канарейки. Мать-попадья, чистая, белая, с пухлыми руками и полным лицом, приветливо встречала гостя, пока сам батюшка поспешно накидывал старую ряску на ветхий подрясник.
У ксендзов также было светло и чисто. Но запах был цветочный. Пахло цветами увядающего букета, или венка у ног мраморной, гипсовой или деревянной Мадонны. Пахло старыми книгами, лавандой и немного ладаном. Вместо дебелой попадьи с радушным лицом и певучим Русским говором, встречала неизменная «племянница», тихое, забитое существо со старомодной прической и скромными манерами — не то служанка, не то родственница. Молча проводила она гостя в кабинет ксендза и жестом просила сесть…
У раввинов, — а их тоже приходилось посещать Якову Кронидовичу, — было всегда сумрачно. Воздух был тяжелый, спертый, и пахло мышами, тлением и чем-то пресным, вековым, чего не могла заглушить курившаяся на куске жести монашка. Встречали там какие-то косматые странные длиннобородые старики в длиннополых лапсердаках, неопрятные и подозрительные. И за стеною было слышно ритмичное бормотанье жиденят.
У ксендза Адамайтиса было темно и, несмотря на раскрытые окна, душно. Ничем не пахло. Встретил Якова Кронидовича и провел в кабинет к ксендзу какой-то молодой человек в длинной черной сутане, похожий на семинариста.
Ксендз, сидевший за фисгармонией и невидный сначала Якову Кронидовичу, встал и мягкими крадущимися шагами подошел к входившим. Он был широкоплечий великан. У него был распевный густой бас, но он его подавил и вкрадчиво-ласково, наклоняя лысую круглую голову, сказал:
— Очень рад, коллега, что вы посетили меня, — обеими теплыми, мягкими руками он принял руку Якова Кронидовича и, нагибаясь полным станом, повлек его за собою и усадил в кресло.
— Вы, коллега, ничего не имеете против того, что окна раскрыты и огня не зажигаю? Не налетели бы комары….
Его дом был на горе и из окон было видно небо, сверкающее зарницами и широкие темные дали.
— Все духота… — сказал он, усадив гостя. — Не отпускает Господь нашим грехам… Курите, пожалуйста…. Мне Василий Гаврилович говорил о вашем посещении. Польщен и обласкан. И готов доложить вам о том, что знаю, что изучил, ибо посвящен во все тайны Талмуда и Каббалы….
По мере того, как он говорил, его голос густел. Он сидел в высоком кресле, в глубине комнаты и в мягком сумраке ночи чуть намечалась его полная фигура. Временами Якову Кронидовичу казалось, что там, в глубине, никого нет и в сумраке родятся темные и мрачные слова глубокой старины и не говорят, но вещают ему.
Темная комната, душная ночь, небо бичуемое зарницами — все это как-то действовало на Якова Кронидовича, взвинчивало его стальные нервы. Вася притаился в углу. Он совсем растворился во мгле и только изредка вдруг красной огневой точкой вспыхивала его папироса при затяжках.
— Русский народ думает, что евреи употребляют в пищу человеческую кровь…. - говорил медленно, будто читая лекцию, ксендз Адамайтис. — Нет… Это неправда… Не только человеческой, а и никакой крови евреи в пищу никак не употребляют. Это им запрещено извечным законом… В книге Левит указано: — …"если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут между вами, будет есть какую-нибудь кровь, то обращу лице Мое на душу того, кто будет есть кровь, и истреблю ее из народа ее; потому что душа тела в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает. Потому я и сказал сынам Израилевым: ни одна душа из вас не должна есть крови, и пришлец, живущий между вами, не должен есть крови. Если кто из сынов Израилевых и из пришлецов, живущих между вами, на ловле поймает зверя или птицу, которую можно есть, то он должен дать вытечь крови ее и покрыть ее землею"… Вот — закон Иудейский… Мы, христиане, живем новым законом, который не знает живой жертвы. Евреи живут законом древним…. У них и от египетских тайных кровавых жертв, и от служения Астарте и Ваалу привилось многое. Они заглянули жадными, любопытными, пытливыми глазами в тайну жизни, и они почуяли сладострастие крови. Отсюда страшный, языческий характер древнего еврейства… Душа тела в крови!
Темнее и тише казалась ночь. Рокот города внизу казался странным клокотанием земного котла.
— Религия трупоглядения…. Окропление и поливание кровью жертвенника…. Запах разверстых брюшин…. сожжение только что умерших животных…. Вонь горящего трупа — "приятное благоухание Господу", — "своими руками должен священник принести в жертву Господу: тук с грудью должен он принести, потрясая грудь пред лицом Господним…" Вот в чем еврейский древний обряд. Это надо представить… Это надо понять…. Ручьи крови, текущие по каменному жертвеннику. Светильники, чадно горящие во мраке. Запах пара убитого животного и священник, потрясающий окровавленной грудью с висящим белым сальником!..
— Но, святой отец… — прервал ксендза Яков Кронидович, — это было… Это было безконечно давно…. Это было тогда, когда весь мир на этом стоял…
— Да, коллега…. Это было… Это только было… Со смертью Иисуса Назареянина прекратились жертвы и приношения. Библия подверглась толкованию…. Она отошла от века. Она устарела… Ее сменил Талмуд…
Где-то внизу и совсем близко прогудел трамвай и когда гул его смолк, в темной комнате показалось особенно тихо. В эту тишину зловещим рокотом загудел бас Адамайтиса.
— "На сорок лет перед разрушением храма, не постигла участь приношения козла, поставленного по правую сторону, ни красный язык не белел, ни вечерняя лампада не горела; двери же храма открылись сами"… Так говорит Талмуд. Синогога стала похожа на солому, из которой вымолочено зерно, на скорлупу яйца, из которого вылупился птенец, на опустевший после отъезда жильца дом… Город и святилище разрушены…. От прекрасного Иерусалимского храма не осталось камня на камне… Самая возможность такого жертвоприношения — "приятного благоухания Господу" — исчезла.
Со дня разрушения храма закрыт доступ молитвам…. Железная поставлена стена между Израилем и Отцом их небесным!.. Осталась одна мистика.
VI
Было долгое молчание. Его не прерывали ни Яков Кронидович, ни Вася. Оно, казалось, входило в какие-то планы ксендза Адамайтиса. Он точно темнотою комнаты и этими паузами своей речи хотел усилить ее впечатление.
— Мистика, — повторил он глухим, низким басом. — Кто не болел и не болеет ею? Мистика толкает православных и католиков от истинной веры в масонство… На одном конце мистика верит в заговор, в магическое значение раввина и Каббалы, на другом — это она противоборствует Богу… Вы думаете, между скромными и трусливыми Иойнэ Вассерцугами и Срулями Перникаржами, набожно молящимися под рябыми талесами по субботам, Карлом Марксом, объявившим войну христианству и создавшим социализм и интернационал, и профессорами, опрокинувшими Эвклидову геометрию и доказавшими рядом формул, что параллельные линии где-то сойдутся, что луч света идет не по прямой линии — так велика разница? Одни боятся Господа и смиренно Ему молятся под талесом и слушают раввина, другие научно доказывают, что Бога нет, потому что боятся, что Он есть. Вы думаете, что у великолепного банкира так же, как у скромного закройщика господина Шпинака нет одинакового страшного уголка души, где царит мистика?
Якова Кронидовича поразило, что Адамайтис повторял ему мысль Стасского.
— Есть моменты жизни, когда всем равно страшно. Вы, верно, знаете эту теперь такую у нас модную пьесу… нет, мистерию скорее, Ибсена — "Пер Гюнт"..
— Отлично знаю. Недавно еще видал ее в Художественном театре, но особенно знаю ее по безподобной музыке Грига.
— Пер Гюнт — образец греха и порока. Ни Бога, ни морали у него нет. Одно наслаждение. Нажива… богатство. Но вот, когда наступает старость и приближается роковой, неизбежный конец… Конец…
Ксендз Адамайтис встал и, взяв какой-то предмет с фисгармонии, точно линейку, протянул ее перед собою. Полный месяц всходил над городом и заглянул в раскрытые окна. Он прочеканил голубым серебром лицо и фигуру ксендза и сделал его, как изваяние из стали. Линейка горела синим светом в его руке. Густой бас был торжествен.
— Тогда, — медленно ронял он во мраке комнаты слова, — является таинственный "плавильщик душ". Он будет ждать его на третьем перекрестке жизни… А там… возмездие… кто знает?.. Ужас? По Ибсену Пеера Гюнта спасает чистая и верная любовь к нему прелестной девушки Сольвейг… Не у каждого есть такая Сольвейг… Но вот, когда стучится этот страшный вестник во образе скелета с косой — тогда… Кто знает, зачем и куда пошел граф Лев Толстой, когда ушел из дома? Не держал ли он путь в Оптину Пустынь?..
Ксендз Адамайтис снова сел и точно исчез в глубоком кресле.
— Я знавал еврейскую семью. И муж, и жена принадлежали к передовой интеллигенции — не Русской, но европейской. Он редактор большой политической газеты, она держала блестящий артистический салон. Конечно: — ни Бога, ни религии. Материалисты… Они на Пасху для своих служащих и знакомых — все Русских — устраивали роскошнейшие розговены. И свинина, и сырная пасха и куличи, и агнец из масла, и "Христос воскресе" из сахара на всех куличах и мазурках… Понимаете? — в этом презрение полное к верующим. Вы — веруйте, а мы к вам снисходим. Капиталу, коллега, все позволено. И Русский хам скушает красное яичко от жида сколько угодно… Ибо в наш век все продажно. В синогоге бывали лишь тогда, когда это надо было для газеты. Над всем смеелись. Их бог — это они сами… Жирный, толстый, масленый с маленькими глазками — он и точно был воплощенным богом капитала. Она до старых лет красивая, видная, порочная до мозга костей, признавала только себя и свою страсть. Она открыто покупала себе любовь молодых студентов, офицеров, адвокатов и смеялась над всякою моралью… Но… у них был единственный сын Мойше. И, когда родился он, и настало время обрезания, они призвали раввина. Они — неверующие — обрезали его, и раввин взял чашу с вином и насыпал в нее немного пепла и опустил каплю крови обрезанного младенца и, взболтав смесь, вложил мизинец в чашу, а потом в рот младенца и так сделал дважды, говоря: — "и я сказал тебе: от крови твоей жизнь твоя"…
Луна поднялась выше и косые лучи ее шли таинственными дорогами в окна и наполняли комнату прозрачным сумеречным светом.
— Тот пепел, что всыпал раввин в вино, взят от чистой льняной тряпицы, напоенной кровью христианского первенца и сожженой. Так делается у старой еврейской секты хассидов… и, когда этот Мойше женился на просвещенной и культурной, ни во что не верующей Софии Абрамовне, докторе медицины, с почти европейским именем, — и брак был, конечно, гражданский… но… накануне брака они ничего не ели — был пост… а потом пришел раввин, достал только что испеченное яйцо, облупил его, разделил пополам, посыпал таким же пеплом и дал обоим брачущимся. И пока они ели яйцо, раввин читал молитвы — и что примечательно: они не смеялись, но были серьезны. И когда их папаша умер, — и были торжественные гражданские похороны, с речами — но без молитв, но ночью, когда никого из посторонних не было, к умершему пришел раввин, взял яичный белок и этот порошок, взболтал их и кропил сердце покойника, говоря — "и окроплю вас чистою водою и вы очиститесь от всех скверн ваших. И дам вам сердце новое и дух новый дам вам и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное" — ибо, коллега, есть три момента в жизни человека, когда мистика побеждает холодный рассудок — это бракосочетание, рождение и смерть… Можно быть каким угодно Карлом Марксом или Эпштейном, а когда станет человек перед явлением, где смерть сопрягнется с жизнью, он чует таинство и ищет где-то опоры там, где его ум блуждает, как путник в лабиринте.
VII
Месяц поднялся высоко и лучи его ушли из комнаты. Лишь таинственный, призрачный свет остался. Давно уже бросил свою папироску Вася. Яков Кронидович сидел неподвижно. Он слушал. Все то, что говорил ксендз Адамайтис, было ему нужно для его дела.
— Не будем строго судить евреев — они не виноваты, — продолжал Адамайтис. — Мы, христиане, приняв новый завет Христа, — положили пропасть между старым — языческим, кровавым, между жертвами — Ваалу-ли, Юпитеру, Зевсу или Перуну — и приняли закон любви и жертвы безкровной… Да и то… нет ли и у нас мостков через эту пропасть в кровавую дохристианскую старину, к человеческой жертве? Было же время, когда при постройке крепостей и больших зданий хватали первого прохожего и убивали, чтобы закопать под фундаментом. На черной Mеccе католических изуверов-сатанистов — еще сравнительно недавно была человеческая жертва… А знаем ли мы все тайны, я подчеркиваю все — тайны масонства? Почему же отдельным еврейским сектам, не признавшим нового завета и заповеди любви к ближнему, но безпропастно уходящим в кровавое средневековье, иногда вот в этих-то мистических случаях не обращаться к тем временам, когда приносились кровавые жертвы? Не забудьте, что цивилизация цивилизацией, — а многое множество людей сидит на Талмуде, где колдовства хоть отбавляй… В Талмуде мы найдем такие указания: — "кто желает увидеть диавола, должен взять утробу черной кошки, впервые родившей, рожденной от первородящей матери, сжечь ее, стереть в мельчайший порошок, посыпать им глаза, тогда покажутся демоны", и, вы думаете, в двадцатом веке не найдется чудака, который захочет это испытать? И вы думаете, что, если этот чудак — ловкий человек, он не станет уверять, что он видел демонов?.. Своего рода — снобизм…
Ксендз Адамайтис ожидал ответа, или возражений, но его гости молчали.
— Слушайте дальше, — продолжал он, — Наш скотобоец бьет скотину, согласно с указаниями науки и гигиены, так, чтобы причинить скоту меньше всего мучений и сохранить мясо, — убоем еврейского скота руководят их священные книги. Это от тех времен — храма Соломонова, жертвенника, политого кровью, и вони сжигаемого тука — "благоухания, приятного Господу"… В нашем Христовом завете ничего этого нет. В Талмуде целые трактаты посвящены крови и убою скота. Ибо в крови — душа: "Кто съел с оливу крови от скота, зверя, или птиц чистых — приносит жертву за грех — «хаттат». За кровь от прокалывания, от вырывания и от кровопускания, хотя бы с нею выходила душа — ответственности не полагается".
— Ванюшу Лыщинского, — вздыхая, прошептал Яков Кронидович, — кололи.
— В Тосефте, — кивая головою и медленно цедя слова, как бы припоминая цитируемые тексты, продолжал Адамайтис, — сказано: "если кто режет потому, что ему требуется кровь, то он не должен резать способом «шехиты», то-есть так, как режет резник, но он или колет, или отщемляет"..
— Ванюшу кололи и отщемляли….
В темной комнате жуткие носились призраки. Внизу, не умолкая, гудел город, и звуки рожков автомобилей, гул трамваев и треск фаэтонов, сливаясь, создавали дикую музыку. Она оттеняла и дополняла торжественную тишину дома.
— И коля, и отщемляя, — мрачно говорил Адамайтис, — резник зажимает жертве рот и читает молитву: "Нет у меня уст отвечать и нет чела, чтобы поднять голову… Да будет благословен!"
— У Ванюши рот был заткнут.
— Так убивают скот… В священной книге Зогар есть указание, что так же должна быть закалаема и приносимая человеческая жертва: …"и смерть «аммегаарец» — то-есть — не евреев — "пусть будет при заткнутом pте, как у животного, которое умирает без голоса и речи… И yбиение должно быть во «эхаде», как при убиении скота двенадцатью испытаниями ножа и ножом, что составляет тринадцать!"
— На нем… На Ванюше… — в глубоком волнении вставая, произнес Яков Кронидович, — было тринадцать уколов!.. На нем написали жиды это страшное: — эхад!..
— Что значить — единое! — сказал ксендз Адамайтис. — Един Бог! — Слово из краткой молитвы, которую, умирая, читает каждый еврей, и вся сила которой в великом слове: "эхад!.. един Господь!".
VIII
Страшная тайна, раскрытая сейчас, наполнила ужасом души говоривших о ней. Яков Кронидович дрожащей рукой закурил папиросу.
— Значит, — ломающимся от волнения голосом сказал Вася — вы убеждены, что Ванюша Лыщинский убит евреями, как жертва.
— Убежден, — глухо сказал Адамайтис.
— Но… тогда… тогда… вскакивая, воскликнул Вася, — какая же страшная кара должна постигнуть виновных!..
— Успокойтесь, — протягивая руку с поднятой широкой ладонью, сказал Адамайтис. — Примите событе, как оно есть. Каждый день евреи, через своих резников, особым ритуальным способом, крайне мучительным для убиваемых, режут скот — и правительства всего миpa, общества покровительства животным во всем мире молчат… Ибо…. это — мистика.
Густая темнота закрыла все предметы в комнате. Едва намечалась в кресле могучая фигура громадного ксендза. Его голос гудел, как из бочки. В открытом окне темноголубыми туманами дымилась лунная ночь.
— Но это люди… Христианские мальчики, — крикнул Вася.
— Не так много… медленно процедил Адамайтис. — Секта хасидов, исповедующая наравне с Талмудом и Каббалу, не многочисленна… В ней многое нам не понятно и страшно… Ее раввины наследственны. Они свили свои гнезда в самых глухих местечках Польши и Галиции, там, где все дышит мрачным средневековьем: в Черткове, Гуре Кальварии, Сада-гуре, Любашове… В Черткове сидят Фридманы… Над Припятью и Стоходом властвуют Шнеерсоны… Не так давно один из этих раввинов проезжал через наш город. Несметная толпа евреев… тысяч десять… собралась на вокзале. От раввина ждали исцелений… чудес… Каждый должен был прикоснуться хотя бы к одежде раввина. Он вышел на площадку вагона… В высоком цилиндре и длинном, восточного покроя, черном дорогом халате… Произошла давка… Смятение…. Могли быть несчастные случаи… Вдруг, — и это было моментально: все схватили один другого за руку, и образовалась громадная, запутанная цепь людей… Я вошел в нее. И ближайший к вагону протянул руку раввину. Тот ее взял… И каким-то толчком, точно сильный электрический ток прошел через меня, шатнуло меня.
— Вполне возможно, — сказал Яков Кронидович. — Нервные токи человеческого телa еще недостаточно обследованы…
— Не в этом дело… Есть таинственные, мистические токи… И лучше их не трогать… Hекий Оза простер руку свою к ковчегу Божию и взялся за него, ибо волы наклонили его, и был поражен за дерзновение и умер у ковчега Божия. Вы касаетесь тайны, затрагиваете страшного незнаемого нами еврейского Бога…. может быть, касаетесь самого ковчега, видевшего кровь первенцев "от человека до скота"…. Падете мертвыми… и вы… и близкие вам… по таинственной, незримой, мистической цепи.
— Ну уж! — сказал Яков Кронидович. Ксендз Адамайтис поднялся с кресла. В темноте ночи, на фоне драпировки, висевшей над дверью — он казался еще больше. Густо зазвучал его предупреждающий голос.
— Мое мнение — не надо трогать этого дела. Там, где мистика, где таинственная цепь людей… Никакими карами…. никакими процессами не остановите…. Боролись с масонами…. Только укрепили их…. Здесь… Раздразните темные силы — и упадет кара незримой черной власти на всех: от царя до последнего ребенка свидетеля… Ибо: "поражу всякого первенца, от человека до скота, и над всеми богами Египетскими произведу суд. Я Господь… Освяти мне каждого первенца, разверзающего всякия ложесна между сынами израилевыми, от человека до скота, мои — они".
— Не верю в такого бога, — сказал Яков Кронидович. — За меня светлый, чистый Христос!!! Я видел тело… Я знаю о горе любивших мальчика людей… Во имя правды и справедливости я должен…
Глухой и мрачный голос ксендза Адамайтиса перебил его:
— Молчать!..
IX
Возвращаясь домой, Яков Кронидович, помимо воли своей, все думал о кратких письмах — доносах Ермократа. Может быть, это нарочно душа его отгоняла все то непостижимо страшное, что услышал он сейчас от этого странного ксендза. Подлинно он, как плавильщик в Пеер Гинте Ибсена, явился напомнить ему о "третьем перекрестке", где ожидает суд и смерть. И эту-то мысль о смерти Яков Кронидович и гнал от себя, думая об оставленной им жене.
"Листочки мха на caпоге… ездили верхом… Значит… слезали где-то в лесу… Ходили по мху"… И была неприятна почему-то эта мысль…. Успокаивало лишь то, что теперь это как-то кончилось и Аля была у родителей. Но растревоженная ксендзом мысль все возвращалась к этому листочку мха, к прогулке пешком в лесу… "Зачем?"
В номере гостиницы Яков Кронидович, к крайнему своему удивлению, застал Стасского.
Когда Стасский поднялся навстречу Якову Кронидовичу с кресла и при свете одной лампочки, горевшей наверху, Яков Кронидович увидел его бледное лицо, коричневую шею и топорщащиеся над нею седые пряди волос — он вздрогнул. Ему Стасский показался призраком.
— Простите, глубокоуважаемый Яков Кронидович, — сказал Стасский, — за нарушение закона о неприкосновенности жилища. Человек пустил меня лишь потому, что знает меня… Я здесь проездом. Завтра утром еду обратно в Петербург… А к вам, помимо удовольствия вас видеть, еще и по важному, неотложному делу… Могу курить?
— Курите, ради Бога…
Яков Кронидович слишком хорошо знал Стасского и его интеллигентские привычки длительных ночных разговоров и потому не удивился, что Стасский, придя ночью, не спрашивает его, удобно это ему, или нет.
— Я люблю эту гостиницу, — раскуривая папиросу, говорил Стасский. — И сам в ней раньше останавливался. Тихо… Покойно… И прислуга вежливая… А ведь, как ни свободен человек, и даже, чем большую свободу он проповедует, тем более любит он раба подле себя… Я к вам по делу.
— Я слушаю.
Мелькнула мысль — не случилось ли что дома — и погасла. Не Стасский бы его об этом уведомил?
Стасский достал с дивана портфель и раскрыл его. Он вынул из него лист бумаги, обернутый в синюю папку и разложил его перед Яковом Кронидовичем.
— Яков Кронидович, — начал несколько торжественно Стасский, — вы знаете мое к вам глубокое, глубочайшее даже, уважение. Вы человек науки… Вы — имя! Своим безпристрастием при анализе человеческих преступлений — вы, многоуважаемый, составили себе европейское имя и ваше положение вас обязывает… обязывает, — Стасский широкой, сухой ладонью погладил бумагу — подписать это обращение.
— Какое обращение?
— Вы посмотрите, кто уже подписал, — сказал Стасский, желтым, прокуренным, крепким ногтем отмечая длинный ряд подписей. — Головка Poccии. Ее мозг…. Лучшие силы интеллигенции… Haукa…. Таланты… Борцы за правду… Гении!.. Вот видите — вот это я подписал… Я… Стасский!.. Я… я… я!.. А тут — академики…. профессора… писатели… члены Государственного Совета… И Думы… художники — вcе, кто чувствует себя европейцем, кто порвал с Русским хамом и у кого… как это… Драгомиров, что ли, сказал…. прошла отрыжка крепостного права… Вот и вы тут должны быть… С нами… Подписывайте.
— Но должен же я, по крайней меpе, прочитать то, что подписываю?
— Э! подписывайте, не читая — Вы мне… мне… и им… не верите, что ли?
— Я верю… Но, Владимир Васильевич, мы часто с вами не сходились в убеждениях и то, что по-вашему было белым, мне казалось черным и наоборот.
— Но авторитет всех этих имен — Стасский подчеркнул слово: «имен» вам ничего не говорит?
— Помилуйте! Он меня подавляет… Но все-таки я считаю своим долгом, прежде чем подписать — прочесть.
— Ладно. Читайте, если вы уже и нам… и мне не верите, — сердито сказал Стасский.
Яков Кронидович стал читать.
"К русскому обществу. По поводу кровавого навета на евреев" — прочел он заголовок.
Перед ним предстал труп мальчика на мраморном столе анатомического театра. Быстро, быстро, молнией, мелькнули рассказы о Ванюше детей Чапуры подле той страшной пещеры, и в его ушах точно снова гудел мрачный бас ксендза Адамайтиса — и эта фраза, что мальчик был убит, как жертвенный скот — "во эхаде"… Русская кровь — вода.
Он читал:
— "Во имя справедливости, во имя разума и человеколюбия мы подымаем голос против новой вспышки фанатизма и темной неправды"… Яков Кронидович ничего не понимал. Он опустил глаза на подписи и думал: "им какое дело?.. Что знают они о Ванюше Лыщинском, о его страданиях и смерти, о горе его близких? Писатели!.. Да, писатели и талантливые и модные… Художники… Что же и они как Одоль-Одолинский, Вырголин и все эти добровольные сыщики, следователи и судьи, наравне с разными подсевайлами и шмарами вмешиваются в это чужое дело? Почему именно в это дело вмешались они и оставляют без своего просвещенного внимания тысячи других, не менее страшных дел? Только потому, что тут замешаны евреи? Он читал дальше: "Изстари идет вековечная борьба человечности, зовущей к свободе, равноправию и братству людей, с проповедью рабства, вражды и разделения"… — "А вот оно что. Это политика! Этот процесс становится орудием политической игры. Кровь Ванюши Лыщинского идет для борьбы с "ненавистным правительством", направлена против «царизма». Кто проповедует рабство, вражду и разделение — правительство, учащее детей петь "братья, все в одно моленье души Русские сольем" — или те, кто говорит: "кто не с нами, тот против нас"? "В борьбе обретешь ты право свое"? Значит, все эти люди… и Стасский, обласканный царем, первый ум России, богатейший помещик — тоже с ними?..
"И в наше время", — читал он дальше, — "как это бывало всегда, те самые люди, которые стоят за безправие собственного народа, всего настойчивее будят в нем дух вероисповедной вражды и племенной ненависти. Не уважая ни народного мнения, ни народных прав, готовые подавить их самыми суровыми мерами, они льстят народным предрассудкам, раздувают cyевеpие и упорно зовут к насилиям над иноплеменными соотечественниками. По поводу еще не расследованного убийства в Энске мальчика Лыщинского в народ опять кинута лживая сказка об употреблении евреями христианской крови. Это давно известный прием старого изуверства"..
— Но ведь это неправда, Владимир Васильевич — отрываясь от бумаги, сказал Яков Кронидович.
— Как неправда?
— Как могли все эти господа подписать такую лживую бумагу? Они были в Энске? Я всех их, если не лично, то по имени знаю… Это все: Петербуржцы и Москвичи… Что, они видали тело замученного мальчика, как видал его я?
— Им совсем не нужно было его видеть.
— Видели они страшное горе матери, тетки и бабушки?.. Горе, доводящее до могилы?.. Видели они мышиную беготню евреев по поводу этого убийства? Сбивание со следа сыщиков, подкупы, застращивание?
— Вы это видели? — с глубоко нескрываемой иронией сказал Стасский.
— Да, видел… Еще сегодня беседовал я со свидетелями этого невероятного убийства.
— Это не важно… Читайте до конца.
— Извольте… "В первые века после Рождества Христова языческие жрецы обвиняли христиан в том, будто они причащаются кровью и телом нарочно убиваемого языческого младенца. Так обясняли они таинство Евхаристии. Вот когда родилась эта темная и злая легенда!.. Первая кровь, которая пролилась из-за нее, по пристрастным приговорам и под ударами темной языческой толпы, — была кровь христиан.
И первые же опровергали ее отцы и учители христианской церкви. "Стыдитесь, — писал св. мученик Иустин в обращении своем к римскому сенату, — стыдитесь приписывать такие преступления людям, которые к ним непричастны. Перестаньте!.. Образумьтесь!.." — "Где же у вас доказательства? — спрашивал с негодованием другой учитель церкви, Тертулиан. — Одна молва… Но свойства молвы известны всем… Она почти всегда ложна… Она и жива только ложью. Кто же верит молве?"… — простите Владимир Васильевич, но вся эта древняя история приплетена сюда ни к селу, ни к городу. Просто не знали, что сказать и сказали что-то, очень умное, но совершенно не к месту. Перед нами не молва, но убитый прекрасный, кому-то нужный и кем-то любимый мальчик. Убитый ужасным, мучительным, способом и спрятанный в пещере…. Это — факт.
— Читайте!
— "Теперь лживость молвы, обвинявшей первых христиан, ясна, как день. Но изобретенная ненавистью, подхваченная темным невежеством, нелепая выдумка не умерла. Она стала орудием вражды и раздора даже в среде самих христиан. Доходило до того, что в некоторых местах католическое большинство кидало такое же обвинение в лютеран, большинство лютеранское клеймило им католиков"… — Неосновательно, Владимир Васильевич, безнадежно, бездарно… Просто… простите меня, хотя и умные люди писали,… но… глупо.
— До конца, — пальцем указал на бумагу Стасский.
— "Но всего более страдало от этой выдумки еврейское племя, рассеянное среди других народов. Вызванные ею погромы проложили кровавый след в темной истории средних веков. Во все времена случались порой убийства, перед целями которых власти останавливались в недоумении. В местах с еврейским населением все такие преступления тотчас же объяснялись обрядовым употреблением крови. Пробуждалось темное суевеpие, влияло на показание свидетелей, лишало людей спокойствия и безпристрастия, вызывало судебные ошибки и погромы… Часто истина все-таки раскрывалась, хотя и слишком поздно"… — Кто, Владимир Васильевич, сейчас влияет на показания свидетелей? Люди, купленные евреями. Тут известный вам Вырголин даже кассу устроил и платит сыщикам и тайной полиции. Да, кому-то нужно замутить это дело. Кому-то нужно отвлечь от евреев подозрение в кровавом преступлении. Все как раз наоборот тому, что написано. Да иначе и быть не могло, ибо писано не на месте, писано, основываясь на предубеждении, а не на знании.
— Читайте!
— "Тогда наиболее разумных и справедливых людей охватывало негодование и стыд. Многие папы, духовные и светские правители клеймили злое cyевеpие и раз навсегда запрещали властям придавать расследованию убийств вероисповедное значение. У нас такой указ был издан 6 марта 1817 года императором Александром I и подтвержден 18 января 1835 г. в царствование Императора Николая I"… — Когда захотели передернуть — то и ненавистный всем этим господам Император Николай I пригодился.
— Как это, — «передернуть», — весь как-то съежился Стасский. — Так, почтеннейший Яков Кронидович, нельзя-с выражаться.
— Да помилуйте, Владимир Васильевич! Ведь все это просто неправда. Погодите… вот у меня есть какая справочка… — Яков Кронидович вынул из синей папки, лежавшей на комоде, бумагу и прочел: "На мемории Государственного Совета по Велижскому делу об убийстве солдатского сына, четырехлетнего Федора Емельянова Иванова, Император Николай I со всею свойственною ему рыцарскою прямотою и честностью написал: — … "разделяя мнение Государственного Совета, что в деле сем, по неясности законных доводов, другого решения последовать не может, как то, которое в утвержденном мною мнении изложено, считаю, однако, нужным прибавить, что внутреннего убеждения, чтоб убийство евреями произведено не было, не имею и иметь не могу. Неоднократные примеры подобных умерщвлений с теми же признаками, но всегда непонятными по недостатку законами требуемых доказательств, и даже ныне производимое весьма странное дело в Житомире, доказывают, по моему мнению, что между еврееми существуют, вероятно, изуверы или раскольники, которые христианскую кровь считают нужною для своих обрядов, — cие тем более возможным казаться может, что, к несчастью, и среди нас, христиан, существуют иногда такие секты, которые не менее ужасны и непонятны. Например, сожигальщики и самоубийцы, которых неслыханный пример был уже при мне в Саратовской губернии. Словом, не думая отнюдь, чтоб обычай сей мог быть общим евреям, не отвергаю, однако, чтоб среди их не могли быть столь же ужасные изуверы, как и между нас, христиан"…
Казалось, Стасский был смущен тем, что Яков Кронидович ему прочел.
— Откуда вы это взяли? — сказал он, протягивая руку к синей папке Якова Кронидовича.
— Я собираю нужные мне материалы.
— Но вы… медицинский эксперт… И только.
— И только. Вы правы… Но именно, как таковой, я обязан знать, возможно ли то, перед чем я стою. То-есть… поясню вам… Это страшное убийство — ритуал, или… случайный садизм?
— Ага… Вот как!.. Ну, дочитывайте до конца.
— "Не к одному римскому сенату были обращены слова христианского писателя, мученика Иустина, который в свое время боролся с тем же суеверием: — "стыдитесь, стыдитесь приписывать такое преступление людям, которые к тому непричастны. Перестаньте, образумьтесь!" Мы присоединяем свои голоса к голосу христианского писателя, звучащему из глубины веков призывом к любви и разуму… Бойтесь сеющих ложь. Не верьте мрачной неправде, которая много раз уже обагрялась кровью, убивала одних, других покрывала грехом и позором".
Яков Кронидович, дочитал листок до конца и передал его Стасскому.
Х
— Подписывайте же, — сказал Стасский, протягивая перо Якову Кронидовичу, — и делу конец, а вам честь и слава.
— Нет! Такое воззвание я никогда и ни за что не подпишу. И я не понимаю, как могли все эти люди его подписать?
— Вы скажете — их купили.
— Нет… Я отлично знаю, что это не такие люди, кого можно купить за деньги… Но все это люди, далекие от жизни, теоретики, верящие в правду и честность всего, что идет против "ненавистного правительства", и не верящие ничему, что идет от его чиновников… Кто-то пришел к ним и принес это достаточно скверно написанное воззвание… Человек напористый… — Заставил подписать… Не деньгами… Но, конечно, купил… Купил лестью, именами, уже заботливо поставленными в голове воззвания… А там и пошло: если такой-то подписал, как могу я не подписать?… Да еще красным флагом перед глазами помахали, а наша передовая интеллигенция не может устоять перед ним — сейчас на рожон кинется.
— Каким красным флагом?
— А этот зов к свободе, равенству и братству — со времен французской революции…
— Великой французской революции, — поправил Якова Кронидовича Стасский.
— Со времен французской революции не дает покоя нашим недотепам. А там дальше о правительстве, которое-де не уважает народного мнения, народных прав, "подавление суровыми мерами" — все это такая мармеладка, от которой ни один студент, или студентка не откажутся — мигом проглотят.
— Это воззвание подписали не студенты и студентки.
— Вижу. Но его подписали те, кому студенты и студентки составляют благодарную галерку. Писатель?… Как не подпишет он такого воззвания? Это заслужить немилость прессы, которая почти вся в еврейских руках. Это попасть под еврейский «херем», быть замолчанным, забытым… или обруганным и оклеветанным… Надо иметь много гражданского мужества, чтобы на это пойти. То же и адвокат. Для него эта подпись — взрыв аплодисментов в ближайшее заседание суда, увеличение популярности, позолота на его вывеску… Академик, профессор — это все люди, кому иногда дешевая слава дороже честного имени… Да и так ли много их подписало это воззвание? На несколько тысяч профессоров — набрали около десятка… Нет, Владимир Васильевич, всю жизнь искал я правду, всю жизнь боролся за правду и ради нее избрал свою тяжелую профессию — так уже увольте — меня-то не купите… Ничем не купите.
— Подумайте, Яков Кронидович… Советую подумать. Вы на линии профессора.
— Так говорят.
— Если вы будете участвовать в этом ужасном деле, вы не попадете в профессора. Коллеги вас забаллотируют.
— Не думаю.
— Хорошо… Допустим даже, что вы пройдете…. Студенты, когда узнают о вашем участии… когда не увидят вашей подписи под воззванием, будут бойкотировать вас… Они не будут посещать ваших лекций.
— Не думаю и этого. Я лучшего мнения о нашей учащейся молодежи.
— Попомните мои слова, — зловеще поблескивая глазами сказал Стасский. — Вы неисправимы. Недаром вы из духовного звания.
— При чем тут мое происхождение?
— Атавизм тянет вас к богам. Вы готовы сами душить еврейский народ и устраивать погромы.
— Нет, Владимир Васильевич, я просто считаю, что именно утаивание правды готовит погром. У нас суд открытый и гласный. Менделя Дреллиса будут судить присяжные.
— О, их подберут!.. Их наберут из самых махровых черносотенцев… из погромщиков… Поверьте… полиция об этом позаботится.
— Полиция к этому никакого отношения не имеет. Вот евреи, интеллигентные, большие евреи, часто спрашивают, что нам, неевреям, в них не нравится? Да вот это-то нам и не нравится, что по всякому делу, которое коснется еврея — они поднимают ужасный шум, мешают правосудию, что они — деньгами ли, своим ли влиянием и авторитетом, заставляют Русских честных людей делать несправедливости, глупости… даже — подлости. Сколько самых ужасных, изуверческих процессов проходят безшумно. Полиция отыскивает убийцу, следователь в спокойной обстановке производит дознание, суд спокойно судит, и убийца получает то наказание, которое он заслужил… Но как только дело касается еврея, — все идет кверху ногами. Спокойствие нарушено. Гевалт гремит по всему миpy. Правда заслонена. Давно ли шумело по всему миру дело Дрейфуса, — из-за него чуть не сражались! Теперь такой же шум пошел из-за Менделя Дреллиса. И уже гибнут люди. Народ жаждет Божьей правды… И евреи везде — в прессе, в науке, в суде искажают эту правду — вот причина ненависти к ним Русских…
— Подписывайте.
— Не подпишу…
Стасский надел шляпу на самые брови и пошел, не прощаясь из номера. В дверях он остановился и, держась за портьеру, зловеще сказал…
— Мы еще встретимся с вами… И в третий раз я буду безпощаден.
И скрылся за дверью.
Под влиянием только что бывшего разговора с ксендзом Адамайтисом, Яков Кронидович вспомнил Ибсеновского "Пеера Гюнта" и страшного мистического «плавильщика» с его мрачным предупреждением:
На третьем перекрестке!.. На третьем перекрестке!
XI
Мистика и правда была… Незримый страшный еврейский бог простер свою руку и, как Oза, коснувшийся ковчега, падали мертвыми все те, кто знал тайну смерти Ванюши Лыщинского.
Не прошло и недели после посещения Стасского, как Яков Кронидович был вызван на вскрытие тел внезапно умерших детей Чапуры — Гани и Фимы. Он вскрывал их в том же анатомическом театре, где вскрывал и Ванюшу, вскрывал вместе с участковым врачем в присутствии чинов полиции и понятых.
Он смотрел на белое, точно мраморное лицо Гани и вспоминал, что Вася передавал ему, что Ганя сказал: — "На суде, под присягой, всю правду покажу". Теперь ничего больше не покажет. Главный свидетель лежал безгласным мертвецом.
— Типичная картина дизентерии, — сказал Яков Кронидович врачу… Микроскопический анализ показывает точную причину смерти. Сомнений быть не может… К погребению…
— Совершенно верно-с, — почтительно проговорил участковый врач, снимая резиновые перчатки. — К сожалению, наука безсильна установить, каким путем попали дизентерийные бациллы в организм детей — естественным, или насильственным.
— Вы подозреваете кого-нибудь?
— Видите ли… Это… конечно, только сплетни… — врач оглянулся на понятых, но те стояли в углу и не могли их слышать. Сторож возился с телами, укладывая их в гробы. — Мне рассказывали в участке. К детям в последнее время ходил прогнанный со службы сыщик Крысинский со своим подручным Подлигайлом. Про мать умерших молва шла, что она торгует крадеными вещами, так знаете, Крысинский думал через нее делать розыски, ну и выслужиться снова перед начальством… Мать их арестовали… все в связи с этим делом… жидовским… Без нее дети заболели желудком. Отец просил Крысинского: — "не ходите, мол, покамест, сами понимать, кажется, должны, дети стесняются вас при такой болезни"… А Крысинский все ходит и все Ганю — врач кивнул на труп мальчика, — пытает, допытывает. И принес пирожные, сказал: — "после поедите". Вот с тех-то пирожных… Ночью… священник был… Исповедал, причастил Ганю и как вышел — в слезах весь… Сказал: — "светлое дитя. Чистая, святая душа"… И стали шептать, знаете, что Ганя-то этот главный свидетель был по жидовскому делу… и что его жиды отравили через этих сыщиков.
— Доказать нельзя, — сказал Яков Кронидович.
— Конечно, конечно… Дизентерийные палочки могли попасть в пирожные самым, так сказать, естественным путем… Дизентерия по городу давно ходит… А все-таки… Не ветром же надуло?
В самом тяжелом настроении духа возвращался в гостиницу Яков Кронидович. "Конечно, и ветром могло надуть", — думал он, — "но Ганя, как Оза, случайно прикоснулся к ковчегу, прикоснулся к еврейской тайне, к их "святому святых", и — пал мертвым. И, помимо воли, — ощущал страх незримого, невидимого возмездия.
В прихожей гостиницы его ожидал Вася Ветютнев.
— Я, дядя, к вам, — едва поздоровавшись, заговорил Ветютнев. — Третьего дня умерли Ганя и Фима Чапуры.
— Я знаю… Я только что вскрывал их тела.
— Их отравили, я знаю это наверняка. Тот самый «подсевайло» Крысинский, который мутит все это дело с самого его начала, отравил их.
— К сожалению, Вася, доказать умышленное отравление бактериями нельзя. Особенно теперь, когда по всему городу ходит дизентерия… Следователь…
Вася перебил его:
— Следователь, дядя… Странный человек! С весны все не мог собраться осмотреть конюшню, где глиняный пол такой же розоватой глины, какая пристала к платью мальчика, наконец, собрался сделать это сегодня. А сегодня….
Вася остановился.
— Ну, что сегодня?
— Да что, — со злобою воскликнул Вася. — Третьего дня, конюшня дотла сгорела.
— С лошадьми?
— Нет, все лошади были на работе.
— Та-ак, — протянул Яков Кронидович и глубоко задумался. Он уже не слушал, что дальше говорил ему Вася, кого он подозревал в поджоге. Его охватило странное, еще никогда им не испытанное чувство безпокойства. Слушая одним ухом Васю, он думал: — "что же это?… таинственный еврейский бог, черные вихри темных неисследованных сил? Просто широко организованный подкуп с целью устранить всех свидетелей этого дела… Последний свидетель — я"…
Когда Вася ушел, Яков Кронидович смотрел на дверь и вспоминал, как, держась за нее, позднею ночью, Стасский грозил ему третьею встречею.
"Совсем Пеер Гюнт", — думал он, — "Но Пеер Гюнт был развратный малый, думающий только о себе и о своих удовольствиях и ему страшен был роковой плавильщик, ожидавший его на "третьем перекрестке", да и то… спасла его святая любовь Сольвейг. Да разве надо быть грешником, чтобы быть раздавленным колесницею еврейского бога? А Озя, простерший руку свою и взявшийся за ковчег, чтобы поддержать его, был же поражен за дерзновение…. Поражены невинные дети Чапупы…. Сгорела конюшня… Так…. при третьей встрече…. на третьем перекрестке… Стасский… У Пеера Гюнта — Сольвейг… У меня?..
И почему-то с отвращением вспомнил письмо — донос Ермократа о листочке мха, приставшем к сапогу во время верховой прогулки с Портосом.
XII
Никогда не нужно возвращаться на то место, где был особенно счастлив. Счастье капризно: оно не сидит на месте.
Валентина Петровна ехала в Захолустный Штаб. Там были ее детство и девичество. Счастливая, невозвратимая пора жизни. Невозвратимая!.. Она родилась в Захолустном Штабе. Она в нем выросла. В институте мечтала о нем — о родителях, о милых друзьях детства. И ей казалось — там небо другое, другой воздух, там особая красота солнца и облаков, и радостно, а не грозно гремит весенний гром. Нигде не могло быть такой красоты природы, как в Захолустном Штабе.
Нигде не было таких громадных раскидистых каштанов, как в его гарнизонном саду, не цвели так пышно сирень и жасмин, как подле их казенной квартиры. А речка Лабунька с ее тихими заводями, с белыми купавками и желтыми кувшинками, с большими листьями, похожими на лотосы далекой Индии!? А поля, поля!.. Их сладкий дух во время цветения, их пряный аромат в дни покоса! Все здесь было удивительно. И эта вечно откуда-то несущаяся музыка, или пение, и это относительное безлюдье при массе людей — и ее верные мушкетеры!
Какие сладкие, волнующие и, вмеcте с тем, чистые воспоминания шли из несказанной прелести кустов, беседок, завитых ярко-зеленым хмелем, с которым дружно переплелись голубые барвинки, и крученые панычи, и где в зной было прохладно, и золото солнечных лучей лишь кое-где тронуло зеленую сень… Вот они! — Атос, Портос и Арамис — ее три мушкетера — Петрик, Багренев и худышка — черный, точно негритенок — Ричард Долле, в пахучих коломянковых кадетских рубахах с одинаковыми алыми погонами клянутся перед нею — девочкой в коротком платье:
— Еtеnds la main еt jurе! — кричали тогда Петрик и Долле, и красивый, в рамке вьющихся волос Портос, поднял руку и все трое, с поднятыми руками сказали в голос:
— Tous pour un, un pour tous!..
Казалось тогда — клятва на веки!!
Все было для нее. Когда она приезжала на станцию Ровеньки, откуда надо было ехать шестьдесят верст, по прямому, мощеному кирпичом шоссе, которое почему-то называли «стратегическим», — ее, дочь командира полка встречал четверик лошадей, запряженных в просторную коляску с солдатом на козлах и ее мама. Четыре часа усыпляющего гула колес, цоканья подков по камням — и показались в низине шпили костела и городской магистратуры, зелень садов, и высокие бледно-желтые казармы. Дымит на плацу пыль, звучит сигнал и издали видно, как скачут пушки в пыли. Их "лихая конная" учится… Потом, когда она приезжала сюда уже барышней — ее ожидали, отец, начальник дивизии, мать и адютант отца, в автомобиле… Ей подносили букет цветов, — и она еxaлa, как королева. Убегало перед ними ровное, «стратегическое» шоссе, и мама с папа рассказывали ей новости Захолустного Штаба. Через час были уже дома!
Она была первой в деревне!
И когда она уезжала на свадьбу, ехали они все вместе, и — какое столпление экипажей с солдатами на козлах — их автомобиль с шофером с унтер-офицерскими нашивками, высокий брэк запряженный «тэндем» драгунского полка, их бывший уланский четверик, кабриолет гусар и лихая тройка донцов, и сколько еще скромных еврейских балагул стояли на обычно пустынном, мощеном большими камнями станционном дворе. Еще бы! Провожали дивизионную барышню!
Полковые дамы надели лучшие платья. Полковые цвета были на их шляпах и лентах. Маленькая платформа едва могла вместить всех приехавших проводить. Молодые корнеты примчали верхом, сделав для этого основательный пробег. Уланы прислали свой хор трубачей. Из соседнего местечка привезли шампанское. Их купе, когда пришел поезд, засыпали цветами: букеты, связки, пучки, и в длинной тонкой рюмочке болезненная орхидея, подарок соседа помещика-поляка.
Поезд задержали вместо обычных двух минут на целых десять — и звуки их полкового уланского марша и крики ура офицеров и дам ее проводили. И долго мотались в воздухе платки и фуражки.
Это было ее последнее воспоминание, последнее впечатление от ее милого Захолустного Штаба. — Станция Ровеньки, полная нарядных дам и офицеров, масса экипажей, шампанское, крики ура и цветы…. цветы… цветы… Она смеется и плачет на груди у матери, и папочка, стоит у окна купе и с его серых глаз к седым усам катятся слезы.
Такою запомнилась ей станция Ровеньки… Такою, или с мамочкой и денщиком на перроне и автомобилем на дворе.
Поезд пришел без опоздания, в пять часов утра. Было свежее, душистое весеннее утро. Во всю цвела вокруг станции белая акация и ее запах одурял. На перроне, кроме дежурного по станции — никого. Вагонный проводник любезно взял ее небольшой баул. Она выглянула на двор. Автомобиля не было.
Стратегическое шоссе, окаймленное круглыми яблонями-кислицами в белом цвету, прямою лентою уходило между ярко-зеленых, подернутых туманною дымкою полей и упиралось в сосновые леса.
Она вышла на крыльцо и постояла, осматриваясь.
Легкий ветерок развевал ленты ее шляпы и после безсонной ночи освежал ее лицо. Голубое небо, где простерлись нежные перистые облака, показалось Валентине Петровне холодным, безразличным и скучным.
Она прошла на станцию. Дежурный ушел к себе досыпать недоспанное — движение здесь было редкое. В телеграфной комнате постукивал лениво аппарат. Телеграфист, накрывшись черною шинелью, спал на лавке. Весовщик, старый служащий, узнал Валентину Петровну и подошел к ней.
— Ваше Превосходительство ожидаете машину? — сказал он.
— Нет… я не предупредила, что еду.
— Навряд ли пришлют… Папаша ваш не совсем здоров… Новый начальник приехали…
— Да, я знаю… Не слыхали, как теперь отец?
— Не могу знать-с….
— Что же мне делать? Мне надо ехать в Захолустный Штаб.
— Позвольте, я сбегаю в местечко, у жида лошадей вам достану.
— Ах, пожалуйста!
Час тревожного, жуткого ожидания… Она давно не имела из дома писем. Последнее было на Пасхе. Мать писала, что отец получил "синий пакет" — его увольняли в отставку по предельному возрасту. Тогда в своем увлечении прогулками и… Портосом…. Она не подумала о всем значении этого…. Она не читала "Русского Инвалида". Она просмотрела его отставку…. Как скоро… И как все переменилось.
Гремя железными шинами подкатила раскрытая тяжелая балагула, запряженная парою кляч. Жид в длинном лапсердаке щелкал бичем по камням…
Балованная дивизионная барышня тащилась в «свой» штаб целых восемь часов, потряхиваясь на неудобном сиденьи, как какая-нибудь вахмистерская жена!
ХIII
Она не узнала Захолустного Штаба.
Как все переменилось за эти четыре года, или тогда она на все это смотрела другими глазами?
По дребезжащему, дощатому, низкому мосту без перил переезжали Лабуньку. Она хорошо помнила этот мост. Последний раз в нем было две свежие доски и они ярко сверкали на темно-сером фоне других досок.
Она их сейчас же узнала. Они побурели, потемнели, но все еще отличались от других досок.
Это Лабунька? Такая маленькая, жалкая! Она точно обмелела и высохла за эти годы. Молодой камыш рос по берегам. Как и всегда, растоптан был спуск на водопой и брод. Брод казался ей раньше значительным и опасным — теперь он был жалок. За обрывистым, невысоким берегом тянулся полковой плац. Он был пуст в эти после-полуденные часы. И слава Богу! Никто ее не увидит! Скучными, пыльными и маленькими показались ей завалившиеся и разбитые валы препятствий.
За мостом началось предместье. Сонные, слепые жидовские лавочки. В низине на затоптанном лугу низкие деревянные конюшни. На коновязях стояли гнедые уланские лошади. Навешены были торбы. Люди ушли, остались одни очередные. Они равнодушно смотрели на мерно потрухивающих в пыли лошадей и на высокую балагулу, где сидела нарядная дама в городской шляпке.
Каштаны гарнизонного сада в высоких свечках белых и розовых цветов ей показались маленькими и жидкими. Сирень отцветала, и черные кисти были безжизненно печальны.
Она не узнавала своего милого Захолустного Штаба. В нем не было прежнего оживления.
В прихожей недружелюбно ее встретил чужой денщик.
Все переменилось.
Но больше всего переменилась ее мамочка. Она располнела, и по старушечьи опухли и обвисли внизу ее щеки. Кожа лица была мягка и дрябла и, когда целовала она Валентину Петровну, — поразили мягкость и вялость ее губ. Она была неровно напудрена — и пестрые краски — буровато-желтая, сизая, белая и розовая чередовались на ее лице под седыми, сильно поредевшими волосами. Обнимая Валентину Петровну, мамочка облилась слезами и поспешно увлекла ее в свою комнату.
— Отец не знает, что ты приехала…. Я нарочно ему не говорила. Его надо подготовить. Так все быстро случилось. Так неожиданно. Спасибо, что приехала. Доктор надеется — это пройдет, почти без следа…
Дряблой и мягкой рукой, такой непохожей на былую мамину свежую руку, она гладила щеки Валентины Петровны и заглядывала любовно ей в глаза.
— Я тебя тут устрою…. Мы ведь здесь живем из милости…. Новое начальство приехало… Генерального штаба… Так нам пока позволили занять эти четыре комнатки… Да, строгое начальство. Вишь ты, все у моего Петра Владимировича не так, как надо.
— Как же случилось это?.. — улыбаясь спросила Валентина Петровна. — Я ведь ничего хорошенько не знаю.
Она улыбнулась матери, чтобы успокоить ее, улыбнулась тому, что ее всегда такая заботливая мать, не подумала о том, что шел четвертый час дня, что Валентина Петровна приехала в пять часов утра на станцию и ничего еще не ела.
Старая мамина горничная принесла на подносе кофе, сливки, булочки и масло.
— Ты, может быть, не обедала, роднуша?
— Нет, мама. Но это после… Как он?
— Ты же его знаешь. Служба для него все…. Мои Старо-Пебальгцы… Моя дивизия! Он этим только и жил…..На Пасху…. Как это жестоко делается нашим правительством!.. Не нашли времени лучше, как в такой светлый праздник…. Михаил Александрович — это новый начальник штаба, ты его не знаешь, из пехотных…. приносит вечером пакет и говорит моему Петру Владимировичу: "это, вам — личное". В пакете… — отставка. По предельному возрасту. Вишь ты, кому какое дело, что отцу твоему шестьдесят лет стукнуло! Он бодр был… Еще на шестой неделе верхом выезжал встречать гусарских разведчиков, возвращавшихся с весенней поездки. Таким молодцом… Им нет дела, что Дембовицкий на лошадь никогда не садится. Из автомобиля дивизией командует, или Свиньин… Говорят, такой толстый, что, прости Господи! пузо, как сядет на лошадь, на холку ей перекатывается. Им ничего… А моему Петру Владимировичу — предельный возраст!.. Ну, мой генерал перетерпел…. Ничего не сказал. Вышел ко мне. Я в зале была. Посмотрела на него. Вижу, он покраснел и жила на лбу напружилась. — "Вот, говорит, Марьюшка, и меня погнали… Стар, говорят… Это за сорок лет службы Царю и Родине благодарность. Осенью пряжку рассчитывал получить"… Но ничего. Вечером вышли мы в сад. Погода у нас такая чудная стояла и сирень в этом году необыкновенно цвела. Сидим. Темно уже стало. Защелкали соловьи. Мой генерал все так как-то безпокойно сидит. За ворот хватается. Я спрашиваю его: — что неудобно тебе, Петр Владимирович"? — "Не знаю", — говорит, — Марьюшка, ворот что-то мне тесноват стал"… Ну так и прошло. Ждали мы приказа и кого назначат. Мой генерал уже никуда и ездить не стал. Тут новое стрельбище построили, инженер из дистанции призжал, чтобы, значит, Петр Владимирович осмотрел его и акт подписал. Не подписал. «Пускай», говорит, "другие осматривают". Достал свои старые приказы, где какая благодарность ему, где какие призы его офицеры или уланы взяли и пометки делает. Я-то понимаю — все в нем надежда, что это: не окончательное. Что еще просить можно…. На Высочайшее имя подать… и со мною заговаривает. Вспоминает, как Государь проездом заграницу полк в Ровеньки вызвал и они в четыре часа шестьдесят верст отмахали и Государю представились и как Государь его благодарил. И вижу, по намекам его, по словам, что одна у него мысль. Не может быть, чтобы его выгнали. Говорит мне как-то: — "разве старость порок? Разве от того, что я сорок лет Царю верой и правдой служил — я хуже стал? В 1906-ом году разве не я во всем крае подавил безпорядки. У меня тогда в полку ни красных флагов, ни недовольства…. А помнишь — в 1908 году кругом инфлуэнца на лошадях была — у меня ни в одном полку ее не было".
Мамочка тяжело вздохнула и замолчала. — Пей, Алечка, кофе, я тебе еще налью. Побледнела и ты у меня. Скучно без Якова Кронидовича-то, — ласково сказала она и как-то неуверенно, робко погладила Валентину Петровну по золотым растрепавшимся в дороге густым волосам.
— Дальше, мама.
— Что ж… дальше… На что надееться-то было?.. Жестокие кругом люди… Да и мой Петр Владимирович службист был. Никакой протекции. Своим гopбом всего достиг. Не любил ездить, да заискивать, кланяться. Спина-то солдатская — негибкая. Ну еще и то — не генерального он штаба… Надежды-то так обернулись… Значит, на прошлой неделе написал он какое-то большое письмо. Даже от меня скрыл… Говорят для Государя, чтобы Государю самому сказали, через барона Фредерикса… Не по команде…. По команде-то знал, что ничего не выйдет. А четвертого дня, утром, как всегда Павел денщик, понес ему газеты "Новое Время" и "Инвалид"…. Прошел к нему… а через малое время… малое такое время…
Мамочка залилась слезами и не могла продолжать.
— Успокойся, милая мама… Бог не без милости. Богу виднее, что надо.
— Бог!.. Конечно, Бог… А только так мне его жалко… Через малое время слышу стук в кабинете, будто что тяжелое упало, а потом хрип… Я вбежала. Лежит голубчик наш, генерал наш, на полу и лицо перекосилось… Послали за дивизионным врачом. Хорошо, Виктор Иванович еще дома был, пришел, сейчас что надо сделали, положили его в постель. К вечеру отошло. Даже говорить стал немного, только еще левая сторона была парализована… Оказывается в "Инвалиде"-то его отставка пропечатана. Увольняется по предельному возрасту в отставку, с мундиром и пенсией, а также — назначается — генерал-майор Замбржицкий… Может, помнишь, он у нас на ценз полком командовал. Со своею женою не жил, все чужих жен отбивал… Вот оно какие пошли назначения! А вечером, со станции телефонят: пришлите автомобиль… Само новое начальство пожаловало. Моему-то генералу спокойствие надобно, вместо того, как узнал — в постели захлопотал: "не хочу, чтобы в гостинице… какая у нас тут гостиница! номера для приезжающих…. клопы одни… и в собрании не хочу… Его право… Его квартира…. Пусть мне позволит четыре комнатки пока дожить, пока не придумаю, куда даваться"… Ведь поместий-то, Алечка, сама знаешь, у нас не было. Все для службы и все от службы. Почитай двадцать девять лет мы просидели с Петром Владимировичем в Захолустном Штабе и не думали, не гадали, что так уезжать придется. Да был бы здоров- поехали бы куда, где недорого… А теперь…
— А как папа?
— Увидишь… Ничего… Ходит… Конечно, ногу приволакивает немного… И левая рука висит. И говорит… как привыкнешь, разобрать все можно. Вчера с Замбржицким даже поспорил… о конных атаках… Ты только не всматривайся в него… Ему тяжело это. Он не любит. Я его подготовлю… Вместе, ужинать будем… Он тебе так-то обрадуется.
ХIV
Папочка показался Валентине Петровне ужасным. Она так любила и уважала отца. Она привыкла его видеть красивым, стройным, подтянутым. Всегда в мундире, или кителе, в праздники с колодкой орденов на груди, в лядунке и перевязи. Он молодцевато ездил верхом, и никто не умел здороваться так, как он с солдатами. Стоит, бывало, девочка Аля Лоссовская, "госпожа наша начальница" со своими мушкетерами Петриком, Портосом и Долле, у Лабуньки над обрывом, а на той стороне, на плацу ровной линией построился их полк. Блестят на солнце белые рубахи, гнедые лошади застыли, однообразно собранные на мундштуках и трубачи на серых лошадях играют полковой марш. Тогда они еще были драгунами. И папочка, на гнедом своем Еруслане, скачет к полку галопом. Четко слышен его голос.
— Здорово молодцы, Старо-Пебальские драгу-уны!..
Таким помнила Валентина Петровна своего папочку. Стройным, с чисто бритыми загорелыми щеками, в седых больших усах…
Он вышел теперь к столу, опираясь на плечо денщика. Левая рука как-то недвижно, мертво висела, но, главное, был рот. Точно папочка хотел свистнуть, и сложил уже рот трубочкой, да так и застыл. Ус с левой стороны был приподнят и неопрятно желтели растрепавшиеся усы, обнажая темные, гнилые зубы.
Валентина Петровна поцеловала руку отцу, и он сделал какое-то странное, будто благословляющее движение.
— Ра… ра… — с усилием сказал он. — My… ка?..
Валентина Петровна ничего не поняла. Мамочка, уже привыкшая понимать отца, пришла ей на помощь.
— Алечка говорила, ничего Яков Кронидович. Занят только очень… И трудно ему в жару.
— Хо-о-е д… твой му… Честно… Я слы-ал… — с усилием сказал отец.
Ему трудно было есть. Он ел неопрятно и стоявший сзади него денщик салфеткой утирал ему рот. Папочке это видимо было тяжело, он сторонился и от того было еще хуже.
— Ви-ишь… Ка-мы… Ни-о… поправлюсь… — с усилием сказал отец, — Виктор Аныч обе-ает… опять… на ко-я…
Мамочка ухаживала за ним. Она говорила за него, как только замечала, что Валентина Петровна не так поняла.
Обед тянулся долго. Папочке трудно было есть и ел он очень медленно. После обеда сидели в столовой. Папочку устроили у раскрытого настежь окна. За окном увядала акация и сладкий запах ее постепенно вытеснял запахи еды. Вдали за лесом пламенело небо и в каштанах пели вечерние песни синички, малиновки и красношейки. В гарнизонном саду кричали, играя, офицерские дети и сухо щелкали ракеты об мячи лаун-тенниса. Там уже были новые мушкетеры, кого не знала Валентина Петровна. Была у них своя королевна?
Когда она ехала в Захолустный Штаб у нее была слабая надежда, что она там почувствует себя опять Алечкой Лоссовской… Нет… она была уже Тропарева и все здесь было чужое, чуждое и точно враждебное.
Мамочка сидела с Валентиной Петровной в глубине комнаты и говорила о пенсии, о долгах, о продаже старого, верного Еруслана.
— Никто покупать не хочет. Не на живодерню же его отдавать? Двенадцать лет верой и правдой служат Петру Владимировичу… Дивизия проводы хочет сделать отцу, а как, если он не оправится?.. После проводов решили и ехать… А куда — все не придумаем… Надо бы, где дешево… И где медицинская помощь была бы… Ведь повториться может…
Черная печаль сидела с ними в комнате, где гасли сумерки.
Превозмогая усталость, Валентина Петровна сказала мамочке:
— Хочешь, я поиграю вам. Может быть, папа послушал бы…
— Петр Владимирович, — повысила голос мамочка, — Алечка предлагает поиграть на рояле. Хочешь послушать?
— А?.. Хо-о-о…
Но в это время под окном, в саду раздался резкий, крикливый, незнакомый голос.
— Вздор-с, Михаил Александрович! Вы-то должны понимать меня — сами пехота. Огонь — все. Огнем надо прокладывать дорогу стрелковым цепям спешенных полков. Лошадь только для маневра, для покорения пространства… Конные атаки — абсурд… пережиток… плац-парадный кунтштюк… Вас не тому учили… Я все переверну…
— Рояль у не-о… В за-е… Не на-до… не надо! — закричал папочка. — Новые метлы… Не надо!.. Не хочу… одол-аться… Поме-аем… так-ике…
Он сделал движение, желая встать. Мамочка подбежала к нему и повела его в спальню.
Валентину Петровна несколько минут слушала разгоравшийся спор в саду.
— Старый трынчик… Я и мундштуки вышвырну… Выправка чудесная, а унтер-офицеры карты читать не умеют… Мировщинка!..
Валентина Петровна тяжело вздохнула и пошла в комнату матери, где ей была приготовлена постель. Она вся была, как разбитая.
XV
Валентина Петровна гуляла по Захолустному Штабу.
Часы были утренние. От домов тянулись длинные тени. Узкие улицы были в прозрачной мгле. Под аркадами подле жидовских лавок было свежо и сыро. Офицеры были на занятиях. Она встретила только старшего адъютанта штаба дивизии капитана Бакенбардова. Она познакомилась с ним незадолго до свадьбы, когда он приехал к ним в дивизию причисленным к генеральному штабу штабс-капитаном. Бакенбардов был сыном крестьянина и очень кичился этим. Теперь на нем были серебряные погоны с черной полоской и аксельбанты. Его перевели в штаб. Он узнал Валентину Петровну.
— Здравствуйте, — сказал он. — Надолго в наши края? Да, вот как оно обернулось… Не ожидал этого Петр Владимирович… А я сколько раз предупреждал его, что так кончится… Нельзя-с: — закон.
— Не вы ли говорили, — сказала Валентина Петровна — закон дышло: куда хочешь, туда и воротишь.
— Говорил-с… точно… Это тем, у кого протекция. А у Петра Владимировича… все равно как у меня… Вот видите и я — пятый год трублю здесь… Почему… Потому что мужик… Да-с… А был бы генеральским сынком, давно бы подполковником стал и штаба начальником.
Валентину Петровну коробило, что Бакенбардов называл теперь ее отца запросто — Петр Владимирович. Тогда — все — "его превосходительство"… "начальник дивизии"… теперь: — Петр Владимирович.
Она спросила Бакенбардова о его жене и простилась с ним.
Молодые уланские корнеты гурьбой прошли навстречу. У них были стики под мышками и пыльные сапоги. Они все были новые, незнакомые. Они почтительно дали дорогу красивой даме и примолкли, разглядывая ее.
В гарнизонном саду няньки и денщики катали колясочки с детьми. У тенниса, за высокой сеткой, на двух роундах с убитыми красным песком площадками и четкими белыми линиями, незнакомые девушки играли с незнакомыми кадетами и гимназистами.
В камышовом круглом кресле сидела полная дама в белом платье и косынке на голове. Валентина Петровна узнала ее — жена Кларсона, дивизионного интенданта. Кларсон поднесла к глазам лорнет и разглядывала Валентину Петровну. Узнала, или не узнала — не все ли равно: — не поклонилась.
Валентина Петровна не обиделась. За вчерашний вечер и ночь она все продумала и поняла. Да ведь и правда, она больше не дивизионная барышня, а госпожа Тропарева, жена профессора какой-то чуждой этому миpy «сугубой» науки. Она уже и не дочь начальника дивизии, любимого и чтимого генерал-лейтенанта Лоссовского — «папаши», а дочь отставного, разбитого параличом никому не нужного старика. Она даже неудобна здесь. Мешает… тактике… игрою на рояле…
Уехать?.. Нет, она останется… Это даже любопытно. Жизнь поворачивалась к ней другой стороной, и на этой стороне не было ни блеска, ни красоты, ни изящества, ни чести… И, глядя на эту сторону, Валентина Петровна уже не так страшилась своего rpеxa.
Она села в глухой, боковой аллее, недалеко от той беседки, где клялись ее мушкетеры. Она развернула французский роман в желтой обложке, начала прорезать его перламутровым ножиком, бросила, опустила руки на колени и задумалась.
Внизу на песке шевелились золотые кружки в прихотливой игре подвижных теней. Вверху в солнечном блеске казались прозрачными листья каштанов. Цветы, в пушинках тычинок, слетали с белых канделябров и падали к ее ногам.
"Проще… проще надо смотреть на это все… Это жизнь… Так недавно… Что? Нету двух месяцев — вечеринка у них по случаю ее дня рождения и именин Якова Кронидовича и «Largo» в их исполнении. Как играл тогда Обри! Он сказал ей, что только с нею он может так играть, потому что она понимает мистику музыки… Понимает ли она? Чувствует, да… Но понимать мистику? Она… такая обыкновенная. Такая… земная!.."
Вспомнила, как в то утро в своем мягком халатике и туфельках стояла она у телефона и от нетерпения переминалась с ноги на ногу голыми ногами, а рядом стояла ее Ди-ди.
"Пожалуй, ее Ди-ди честнее ее… честнее всех этих людей? Если ее отдать кому-нибудь — она будет помнить хозяина и не забудет его… Люди… Стоит ли для них?.. Да… да… конечно, это людская мораль… Грех… Но, если вcе люди грешны?.."
Щегленок сытенький, полный, спрыгнул из зеленой чащи и, попрыгивая, приближался к ней сбоку, поглядывая круглым черным глазком. Тоже: думает что-то.
Солнце, зелень, воздух, эти едва зримые, не то кажущиеся, не то существующие золотые прозрачные пузырьки, что ходят вверх и вниз, что точно играют в воздухе незаметно для Валентины Петровны, овладевали ею и лечили ее. Природа точно приложила мягкую ладонь к ее лбу и спугнула тяжелые мысли.
Бабочка гонялась за бабочкой. Из дворика за садом неслось торопливое квохтанье куры и торжествующий крик петуха. Еще упал колокольчик каштана и, падая, задел другой, стряхнув пыль. Валентина Петровна из ботаники знала значение этой пыльцы.
Старая развратница природа!.. Несказанно прекрасная земля!!!..
XVI
Вечером ей подали письмо из Петербурга… От Портоса… Она спокойно приняла его и, не распечатывая, отложила в сторону и продолжала сидеть с родителями. Она не взволновалась. Что кончено — то кончено. Уже поздно ночью, когда мать ушла устраивать на ночь папочку, Валентина Петровна вскрыла конверт и пробежала глазами письмо. Оно было полно извинений, самой униженной мольбы простить и только не забывать его. Он ее всегда любил. Любил кадетом, юнкером, о ней мечтал в первые годы офицерства, ей молился в Академии.
"Не подумайте", — писал Портос, — "что это была необузданная вспышка страсти — это глубокая любовь, какой я не знал… Я весь горю от боли сознания, что вы не так ее приняли, что вы могли обо мне худо подумать".
На такие письма не отвечают. Такие письма рвут и сжигают.
Но это писал ей Портос. Портос, влюбленный в себя, самоуверенный, богатый и красивый. Он представился ей на Фортинбрасе во всей его мужской красоте. Она точно увидела его блестящие черные волосы под бархатным околышем артиллерийской фуражки, гибкий стан, широкие плечи и красоту его ног.
Она взяла письмо, чтобы разорвать его. От бумаги пахло крепкими, дорогими, мужскими духами и этот запах ей так многое напомнил. Бумага была хорошая с как бы оборванными краями, английская, и на ней ровно легли тонкие строки его твердого почерка. Она спрятала письмо в сумочку, порвала конверт и легла спать.
Она проснулась очень рано. Еще прохладно и по-ночному тихо было в саду. Птицы только начинали петь. За домом, — Валентина Петровна знала, где, — на лугу, подле Лабуньки, где стояли конюшни, трубач играл утреннюю зорю.
Мамочка, измученная непривычными хлопотами с отцом, крепко спала. В раскрытом окне тихо шевелилась занавеска и запах акации кружил голову. Валентина Петровна проворно и без шума оделась, взяла из сумочки письмо и вышла из дома.
Офицерские флигеля спали. Везде были видны белые занавеси спален и от этого окна казались глазами слепых. Сухой и жаркий обещал быть день, но сейчас в тени деревьев и домов еще лежала душистая ночная прохлада.
В городе было пусто. День был не базарный. Лавки под аркадами были закрыты. В пять минут она прошла весь город насквозь и полевой дорогой, где еще тяжела была от росы пыль, направилась к старому католическому кладбищу. Густой рощей стояли плакучие ивы, сирени, тополя и липы, и высокий дощатый забор окружал их. Валентина Петровна по песчаной тропинке обошла его и вышла в поля. Она села на камне в тени забора. Плакучая береза свешивала к ее лицу маленькие нежные листики. У ног цвели большие желтые ирисы. Подле них хлопотливо жужжал шмель. Перед Валентиной Петровной широко расстилались цветущие луга. Золотая куриная слепота, белая ромашка, алые маки розовато-лиловый мышиный горошек, белые шапки цветущей зари пестрым, точно прекрасным восточным ковром лежали до самого дальнего леса. Влево, за оврагом, были совсем зеленые, молодые, только что выбросившие лист поля ржи и пшеницы, и верстах в трех за ними темнел и розовел большой сосновый лес.
Все было полно утренней, настороженной тишины. Здесь не было слышно города с шумами его гарнизона, и только сзади, со стрельбища, доносились редкие ружейные выстрелы.
Валентина Петровна хорошо знала это место. Сюда никто никогда не ходил. В детстве, когда ей хотелось помечтать наедине, почитать одной какую-нибудь книгу — она убегала сюда.
В изящном костюме taillеur из темно-серой шерсти на шелковой подкладке с воротничком и рукавчиками ярко-пунцового бархата, с жакеткой, раскрытой на шелковый пунцовый жилет, вышитый разноцветными шелками старинной вышивкой, изящном творении Надежды Федоровны Шевяковой, в маленькой серой шляпе от Шарля, — с лентами из нескольких тонов пунцового цвета, она казалась на фоне серого кладбищенского забора стройным красивым, городским видением. Длинный тонкий зонтик цвета алых роз с чуть загнутой на конце ручкой лежал на ее коленях. Как ей недоставало здесь ее Ди-ди! Как прыгала бы она в траве, охотясь за полевыми мышами и кротами, как носилась бы она здесь на этом широком просторе!
Ничего и никого ей больше не надо. Ее музыка, ее милая доверчивая Ди-ди, кот Топи, Таня… Марья… Родители… бедная мамочка — ей помогать… Хорошо, чтобы этим все и кончалось.
"Прочтем еще раз и порвем" — подумала она, доставая из за борта длинной жакетки письмо Портоса.
Густые, темные брови нахмурились. Потом поднялись и опустились на место. Лоб стал гладок и чист. Самодовольная усмешка образовала маленькую ямочку на полных щеках и чуть приоткрылся рот. Маленькие пальчики, — она сняла перчатки, — надорвали письмо, разорвали пополам… еще… еще… крошечные кусочки полетели к ирисам. Валентина Петровна встала и отошла к краю забора, где легкий поддувал ветерок. Там полетели, кружась и колеблясь легкими белыми бабочками, остальные клочки униженно-просительного письма Портоса.
Потом она пошла домой. Она шла твердым, спокойным шагом. Из-под длинной, узкой юбки чуть показывался кончик лакированного башмачка. Она себя чувствовала крепкой, сильной, здоровой, гибкой и изящной. Шляпа легко лежала на завитых волосах, зонтик на вытянутых руках она заложила за спину и элегантная, изящная, в сознании, что костюм и она составили одно целое, одну прекрасную картину, она неторопливо и спокойно, с поднятой головкой шла по городу.
Встречные офицеры, спешившие на занятия, оглядывались на нее. Старшие узнавали ее и козыряли ей. Чуть улыбаясь, она кланялась им легким грациозным, царственным движением.
Нет, если она не королевна Захолустного Штаба, — она все-таки сама по себе королева, — если ей так пишет Портос.
Ему она, конечно, ничего не ответит!
XVII
Под вечер, когда алое солнце спускалось к закату и точно пожаром горели окна казарм, Валентина Петровна сидела в маленькой беседке их собственного садика за старым, досчатым покосившимся столом. Папин кожаный бювар был разложен, на нем и стояла его походная, круглая, обтянутая забрызганной чернилами кожей чернильница. На большом листе своей бумаги, пролежавшем целый день под ее душистым «сашэ», Валентина Петровна писала тонкими косыми буквами письмо Портосу.
Она писала то, что пишут в таких случаях честные, «порядочные» женщины, жены обманутых мужей. Она писала, что она ни в чем не обвиняет "Владимира Николаевича", что она сама во всем виновата и казнит саму себя. Что им надо расстаться навсегда. Она не верит его любви. Она замужняя, несвободная женщина. Она глубоко ценит и уважает своего мужа. Перед "Владимиром Николаевичем" широкая, блестящая дорога, и она не должна ничем, даже воспоминанием, мешать ему.
Ей казалось, что она писала холодно и сурово. Писала так, что Портос поймет, что все кончено и уйдет навсегда из ее жизни. На деле — каждое слово ее письма, каждое выражение, несмотря на официальное "Владимир Николаевич" и леденящее "милостивый государь" в начале, было полно почти неосознанной любви и бьющей через края страсти, боящейся, что будет так, как она пишет.
… "Не пишите мне больше… Не смейте мне писать… Это нехорошо и нечестно с вашей стороны писать мне и смущать таким трудом добытый мною покой. Я еще не пришла к окончательному решению. Думаю — молчать… Но видеть вас не могу и не хочу. Уйдите навсегда из моей жизни. Надеюсь на вашу честность — вы уничтожите это письмо. Примите уверения, с которыми остаюсь В. Тропарева".
Она заклеила письмо, и сама снесла опустить его в ящик, висевший у дверей штаба. Теперь — кончено.
Она не знала, вернее, не хотела признать, что между нею и Портосом уже протянулись какие-то незримые нити и точно по этому новому, только что открытому людьми радио, они познают друг друга и читают один у другого мысли.
Портос прочел ее письмо. Сначала он поднял черные брови, но по мере того, как он читал и перечитывал эти строки, радостный огонь все ярче разгорался в его больших, глубоких карих глазах.
Он написал ей большое, на восьми листах письмо и отправил на другой же день.
Валентина Петровна читала его все там же, за кладбищем, в короткой полуденной тени забора и плакучих берез. Было жарко и знойно. Снятая жакетка лежала подле ирисов. От полей шел возбуждающий запах цветов. В небе пели непрерывно жаворонки. Они точно купались в солнечном океане. Одни кончали свои милые, короткие трели, другие их подхватывали, третьи отвечали им снизу из самой зеленой чащи травы, из гнезд. И это пение, то громкое, близкое, кажется, совсем подле, то удаляющееся, несущееся с неба заставляло часто биться сердце Валентины Петровны.
"Как смел он так писать!"
Она читала и перечитывала каждую строчку этого письма. Ее грудь высоко вздымалась. Слезы были на глазах. Румянец заливал все ее лицо. Щеки пылали. Знойная истома охватывала все тело и незримыми мурашами бежала по нему. Страшно подумать, что делалось с нею.
— Ужас! Так, вернo, пишут падшим женщинам.
Он желал ее!
Он не мог жить без ее тела! Он осыпал в письме нежными трогательными именами все уголки ее тела, он восхищался ее ногами, ее грудью, он мысленно целовал ее «божественные» плечи, он вдыхал аромат ее волос, он засыпал в мечтах о том, как он зароет свое горящее лицо в ее лилейной груди, как весь отдастся ей и как они сольются в одно прекрасное целое, Богом созданное для взаимной любви! Он шел гораздо дальше того, что было на лесной прогулке. Он жаждал провести с нею целую ночь, ловя своими устами ее сонное дыхание и чувствуя пламень ее щеки на своей груди!
Он писал ей смело — "ты"!
Какая наглость!!!
"Ты моя — и ничьею ты больше не будешь. Ты только от меня и через меня познала, что такое любовь и никому я тебя не отдам"…
Она читала, читала и читала эти дерзкие слова, такие, каких ей никогда не смел сказать ее муж.
Она порвет это письмо, как порвала и первое. Но ей нужна буря, чтобы унесла она самые мелкие лоскутки его, унесла далеко… на край света.
И все перечитывала — точно запомнить хотела волнующую прелесть этого тонкого мужского разврата.
Как он смел!.. Ей… ей!!
Она не ответила на него. Но Портосу и не надо было ее ответа. Он написал ей новое. И она опять читала его с пылающими щеками, вся трепещущая и точно ощущала телом то, о чем он ей писал.
Он писал ей о своих страданьях от разлуки с нею. Он благословлял эти страдания. "Они очищают меня. Ты для меня святая и чистая. Ты делаешь меня добрым и хорошим. Ты для меня небесная и земная. Я не расстаюсь с твоей карточкой. По воскресеньям я приезжаю рано утром из Красного Села и иду на Николаевскую, чтобы караулить у твоего дома, когда Таня поведет на прогулку Ди-ди. Как она мне всегда обрадуется! И я жму ее тонкие лапки с длинными пальчиками и вспоминаю, что некогда и ты их пожимала. Сколько счастья в этой моей сердечной боли!"
Она рвала эти письма. Она носила их по полям, раскидывала по ветру, точно сеяла по земле эти любовные ласки и ждала, как и во что они вырастут. Конечно, она не отвечала на них.
То, что они не возвращались к Портосу нераспечатанными, было для него самым благоприятным ответом. Он знал, что на них нельзя ответить. Единственный ответ на них был тот, которого он просил: приехать к нему и отдаться.
И он писал их, а она их читала и чем больше читала, тем более чувствовала, не желая самой себе признаться в этом, — "да ведь я люблю, люблю, люблю моего милого, смелого, сильного Портоса…. И мне его так жаль!".
ХVIII
Как и по всей России, и здесь лето было жаркое и душное. Зеленое учебное поле было вытоптано и с утра до вечера клубилось облаками пыли учащихся на ней частей. Осыпались каштаны, расцвел жасмин, благоухала липа. По дворам, в гарнизонном саду у забора и подле беседок гуще и выше выростала крапива и бледная зелень ее цветов пушилась по верху. Лопухи и чертополох поднимали свои головы и пышно разросся и цвел чернобыльник. Лето было в полной силе.
Когда-то "дивизионной барышней" Алечка Лоссовская жила летом по лагерному расписанию. До начала июня шел период эскадронных учений. В садике и на улицах местечка было пусто. По утрам на плацу хрипло, наперебой звучали одинокие трубы, а после обеда и до самого вечера такали выстрелы на стрельбище. Загорелые первым весенним загаром с обгорелыми на концах волосами и усами офицеры с учений спешили в собрание на завтрак, а после завтрака до позднего вечера исчезали на стрельбище. В садике взрослых кадет еще не было — они отбывали в свои лагери — и там возилась, шумела и кричала самая неинтересная мелюзга. С июня начинался период полковых учений. Стрельба оканчивалась и после обеда не каждый день бывали пешие ученья. Теперь в садике появлялись белые кителя офицеров и два раза в неделю по четвергам и воскресеньям играл хор трубачей. Съезжались кадеты старших классов и "дивизионная барышня" была окружена своими мушкетерами.
К концу июня начинался дивизионный сбор. Вся дивизия сходилась к Захолустному Штабу. В садике появлялись офицеры остальных полков и щеголяли широким красным лампасом казаки среди скромных драгун. Начинались общие скачки, состязания, маневры.
Алечка каждое утро видела из окна, как ее папочка выходил на крыльцо, широко крестился и садился на своего Еруслана. На папочке горели золотом погоны, портупея и перевязь, и в белой фуражке и белом кителе он ей казался молодым и крепким. Папочка ехал учить дивизию.
Потом все уходили на долгие кавалерийские и подвижные сборы с пехотой. Захолустный Штаб пустел солдатами, но зато приезжали юнкера и все плацы, порушенные препятствия, таинственные, точно развалины старинных крепостей, стрельбищные валы, оставшиеся лошади — все отдавалось молодежи. В лесу были грибы, в садах яблоки, груши и сливы — и темные августовские ночи, в беседке у лампы располагали к длинным задушевным разговорам. По темно-синему небу странный узор чертили в стремительном и неслышном полете летучие мыши и Алечка и ее подруги боялись, что они вопьются в их белые блузки. Это было время страшных рассказов про покойников, упырей, вампиров и вурдалаков. Петрик ночью один ходил на кладбище показать свою храбрость и вернулся оттуда белее своей кадетской рубашки. Портос разыгрывал хироманта и безбожно мял доверчиво отдаваемые в его распоряжение девичьи ладони.
Потом как-то вдруг и почти всегда неожиданно в холодное осеннее утро раздавалась игра трубачей. Трубы звучали, или это так казалось в холодном осеннем воздухе, — печально. Старопебальгские драгуны возвращались с маневров. Молодежь разъезжалась по училищам и корпусам. Дождливая осень стучала в окна. И теперь Валентина Петровна попробовала жить по этому штабному календарю.
После обеда в открытое окно доносился стук выстрелов, и в мерную редкую стукотню винтовок вдруг врывался еще ни разу неслыханный звук пулемета. Стукнет два раза, простучит пять раз и смолкнет и опять стукнет три раза.
Папочка сидит у окна в соломенном садовом кресле. Его вытянутые ноги укутаны желтой мохнатой попоной Еруслана.
— Пу-е-мет, — ворчит папочка. — Выду-ают тоже… кава-ерии пуе-мет!..
Валентине Петровне тяжело слышать этот точно детский лепет отца.
Она выйдет из дома. Привычной тропинкой пройдет через полковые огороды, где нудно пахнет капустой, к полевой дороге, идущей к Лабуньке. Издали видно военное поле.
Какое странное зрелище! В голубоватом мареве дали, в розовато-серых облаках пыли точно одни, без всадников, бегают лошади. Вытянулись в развернутый строй, выдвинули взводную колонну, опять построили фронт, рассыпались. В невидимых руках сверкает труба и несет рассыпчатую трель сигнала.
Валентина Петровна даже остановилась в удивлении. Да — это «защитный» цвет. В этих желто-зеленых рубахах и фуражках совсем не видно людей. И только гнедые лошади носятся по полю.
Полковник Гриценко учит «их» Старопебальгский полк.
На берегу, у обрыва, над Лабунькой, сидят и лежат хорные трубачи. Старик геликонист, сверхсрочный Андрущенко узнает Валентину Петровну. Он поднимается от своего геликона, замотанного синей суконной лентой, и кланяется ей.
— Здравия желаю, ваше превосходительство… Надолго изволили пожаловать?
— Здравствуйте, Андрущенко, — говорит Валентина Петровна и останавливается, играя раскрытым алым зонтиком.
— Удивлению подобно, — говорить трубач. — Людей совсем не видать. Какова штука!.. Надо бы уже тогда и лошадей, что-ли, покрасить, али попонами cерыми укрыть. Подлинно защитный цвет… А от чего защищать! Японская придумка… Все одно не уйдешь от смерти.
Валентина Петровна смотрит в серое, землистое лицо трубача, испещренное морщинами, на его седые подстриженные усы и вспоминает отца.
— Так надо, Андрущенко, — кротко говорит она.
— Им, — трубач презрительно скашивает глаза на лежащих на траве подле лошадей молодых басистов и валторнистов, — им точно надо… Страх имеют. В атаке защитный не защитит… Это пеxoте куда ни шло.
И лошади у трубачей не серые, а гнедые, и странным это кажется дивизионной барышне.
— А где, Андрущенко, ваш Гайдамак? Помните, мне давали на нем ездить.
— Гусарам сдали. Теперь все под одну масть. Что эскадроны, что трубачи… Тоже… защитные.
Он не одобрял этого.
Валентина Петровна идет ближе к полю, туда, где стоит между двух ветел скамеечка. Как часто сидела она там, глядя, как ее папочка учил свой полк. Там, как воробьи на заборе, уселись детишки — девочки, гимназисты, кадеты. Там уже верно сидит новая «королевна», окруженная своими мушкетерами.
Отсюда видны люди в серо-зеленых рубашках и коричневые ремни офицерской аммуниции, сменившей золото перевязей.
На краю плаца стоит большая серая машина «Русско-Балтийский»… В ней генерал Замбржицкий и Михаил Александрович. Папочка всегда выезжал на конные ученья верхом. Он считал неприличным быть в автомобиле, или в экипаже, когда часть на конях.
Да… другие времена.
Та жизнь, которую знала Алечка Лоссовская, ушла безвозвратно. Идет другая жизнь, и в ней нет места Валентине Петровне Тропаревой, как нет места и ее отцу.
Что ж? Может быть, так надо?… Надо и ей другое расписание…
Защитный цвет!
XIX
Да, действительно, Валентине Петровне был нужен "защитный цвет". Точно раздвоилась ее жизнь и стало две души у нее, а потому и два тела, два образа ей было нужно, чтобы хранить свою тайну.
Дома все было так безотрадно грустно. Папочка не поправлялся. Он все более терял память и забывал слова. Без посторонней помощи он не мог обходиться. А между тем новый начальник дивизии, генерал Замбржицкий, косился на то, что незаконно прислуживает отставному денщик. Да и совестно было стеснять его на его квартире. Папочка, как ребенок, никуда не хотел уезжать из Захолустного Штаба, где прошли его лучшие годы. С трудом уговорили его переехать в Вильну и там через знакомых подыскали квартиру. В доме шла неторопливая укладка. Даже Еруслана удалось продать. Купил еврей, поставщик овса, — купил из жалости к "пану генералу, который никогда не брал взяток и аккуратно платил". Все это было унизительно, тяжело и безконечно печально.
В середине июля решено было перебираться на новое место, не жить уже, а доживать свой век, пока Господу Богу угодно будет послать желанную смерть.
Яков Кронидович писал, что и он к середине июля вернется в Петербург. Он не звал Валентину Петровну. Чуткий и деликатный он предоставлял ей решить — ехать-ли ей к нему, или еxaть помогать родителям устраиваться на новом месте. Он и сам готов был приехать в Вильну и чем мог, помочь старикам.
И, конечно, самое лучшее было бы так и сделать — и ухать в Вильно, где оставаться до августа, когда Портос уедет на парфорсные охоты школы, а потом получит какое-либо место вдали от Петербурга, и сладкая рана, им нанесенная, заживет. Все будет забыто… Навсегда… Тайну своего позора она унесет с собою в могилу.
Но как видно, маленькие лоскутки бумаги, исписанные словами любви, разбросанные по полям и лугам, унесенные ветром за тридевять земель, вырастали в ее сердце и множили слова любви, как множится семя в колосе пшеницы. Она была печальна и грустна в доме; покорным тихим голосом разговаривала с матерью, она ходила за отцом, и огонь ее глаз был притушен длинными ресницами всегда полуопущенных век… А в душе ее непрерывно пело что-то восторженный невнятный гимн, полный страсти. Как часто, когда Замбржицкий уезжал на ученье, она входила в залу, тихо опускалась на табурет, перебирала остатки старых девичьиx нот и начинала играть. Медленно и нежно лилась мелодия, точно пела, рассказывая что-то мирное и покойное. Вот становилась громче, слышнее, уже нажаты педали и быстро бегала левая рука по басовым клавишам. В грозную бурю обращалась тихая песня и вдруг стихала, замирая.
— Что это ты играешь, Алечка? — спросит из соседней комнаты мамочка.
— Largo, Генделя.
Резким движением Валентина Петровна отодвигает табурет, поспешно проходит в прихожую, берет зонтик, надевает шляпу — она не может ходить здесь без нее — и идет, куда глаза глядят. Защитный цвет сброшен. Приспущенные веки подняты, и сияют, сияют, сияют громадные глаза цвета морской воды. В них счастье, любовь и страсть.
Как похорошела она за эти дни! В ногах легкость. Точно и у ней, как у ее Ди-ди, на ногах как бы гутаперчевые подушечки, кажется — прыгнуть, распростереть руки — и полетит в голубую высь, к солнцу, в небо, к далеким, невидным днем звездам, к песням жаворонков.
В кармане жакетки последнее, утром полученное письмо Портоса.
Какие слова у него? Кто подсказал ему эти тысячи нежных слов, какие может отыскать только любовь. И каждое коснулось каких-то незримых струн ее души — и стон этих струн поет и поет в ней великую песню любви.
Какие стихи отыскивает он ей отовсюду — и в каждом письме новые. Пушкин, — кажется всего она перечитала, а этих не знала, Лермонтов, Майков, Полонский, Апухтин — все, точно послушные слуги, явились Портосу помогать ему в его любви.
Она идет по широкой аллее гарнизонного сада и снова, как в детстве, громадными ей кажутся каштаны, уже покрытые молодыми зелеными шишками. На теннисе звонкие голоса молодежи. Подойти?… Поиграть?.. Тряхнуть стариной.
Она подходит к сетке. Она смотрит, как госпожа Кларсон, — она теперь удостаивает узнавать ее, играет с двумя кадетами и гимназистом. Маленький сын Бакенбардова им подает мячи.
О! Как они плохо играют! Как неуклюжи движения госпожи Кларсон!
Валентина Петровна смотрит, тихо улыбаясь, а губы ее, не шевелясь, чуть шепчут стихи, что звучали сейчас в ее сердце.
…"Она была твоя", шептал мне вечер мая, Дразнила долго песня соловья. Теперь он замолчал, и эта ночь немая Мне шепчет вновь: "она была твоя"! В мыслях далекое прошлое.Да, такое-ли уже и далекое? Тихий сосновый лес. Стена елок — точно какой-то храм… Издали несущаяся музыка. И смирно стоящие привязанные к деревьям лошади…
"Как листья тополей в сияньи серебристом Мерцает прошлое, погибшее давно; О нем мне говорят и звезды в небе чистом, И запах резеды, ворвавшийся в окно".От клумбы цветов, окружающей теннисную беседку, жарко пахнет цветущими резедой, левкоями, душистым горошком и гелиотропом. Там целое coбрание больших шмелей.
…"И некуда бежать, и мучит ночь немая, Рисуя милые, знакомые черты".Они ехали тогда, после того, шагом… Он брал ее руку и тихо подносил к своим губам…. Она молчала.
— Плэ!.. рэди!.. — pезко кричат на гроунде.
Кадет, подавая мяч, прыгает и чуть не падает. Кларсон промахивается и делает некрасивый скачок.
— Не люблю, когда смотрят, — кидает она в сторону.
Валентина Петровна тихо отходит от сетки. В ней нет обиды. Она точно не слыхала этих слов.
"Это безумие!" — думает она. — "Как низко я пала. Какая я стала гадкая!.. Это надо кончить"…
Из глубины сердца, из каких-то далеких, далеких далей, чей-то страстный голос шепчет ей:
…"Откликнись, отзовись, скажи мне: где же ты? Вот видишь: без тебя мне жить невыносимо Я изнемог, я выбился из сил"…XX
Надо было решать. Родители Валентины Петровны ехали в Вильно 20-го июля. В этот же день Яков Кронидович возвращался в Петербург. Долг жены был его встретить и все приготовить ему. Долг дечери — перевезти родителей и помочь старикам. Валентина Петровна не знала, на что решиться. Маменька уговаривала ее ехать к мужу. Она уже приспособилась и отлично справится с Дарьей. Начальник Штаба Михаил Александрович был так добр, что давал им своего денщика проводить их до Вильны и устроить там.
— Ты нам совсем не будешь нужна, — говорила мамочка. — Поезжай домой, тебе надо отдохнуть. Видишь, как ты побледнела за эти дни.
Решить она не могла. Она боялась Петербурга. Боялась встречи с Портосом. Bсе эти ночи она не спала. Было душно. Раздражал храп матери. Мешали комары. Tело горело в палящем oгне…. И чуть забывалась — ощущала нежную мягкость душистых усов и точно чувствовала жадные поцелуи Портоса. Если она теперь, в этом состоянии, попадет в Петербург, — она пропала. Все ее твердые, разумные, холодные решения развеются, как дым. Она безвозвратно погибнет… Она станет падшей.
Да разве она уже не падшая?
Большие глаза напряженно смотрели в темноту, где начинало белеть за шторой окно. Ночь проходила, и не знала Валентина Петровна, что это было с ней: страшные муки раскаяния, страх нового греxa, или это было величайшее наслаждение любви, сладость rpеха.
Люблю… любит… в этом грех!?
Молиться? О чем?… О том, чтобы оставил, забыл ее Портос?
Нет… Никогда….
Пусть…. любит… как прежде…
Утром письма.
От него и другое, тоже из Петербурга с круглым, детским почерком на конверте.
Валентина Петровна ушла на свое любимое меcтo, за кладбище. Трава была скошена. Сено лежало в копнах. Она села в копну и вскрыла письмо Портоса.
Он совсем сошел с ума.
"Милая, дорогая, несравненная, солнышко, ласточка", — писал он. — "Яков Кронидович возвращается 20-го июля. Ты приедешь раньше его. Я не знаю, что со мной. У меня такие муки, каких я не могу пережить. Ревность? Хуже… Я хочу тебя!.. Ты телеграфируешь Тане о дне призда, а сама выедешь днем, двумя раньше… Я встречу тебя в Луге и ты подаришь мне, одному мне, — одну, две ночки… Я зацелую тебя… Я заласкаю тебя"…
Валентина Петровна опустила руки с письмом. Было ужасно все то, что он писал.
Никуда она не поедет. Кончено!.. В Вильно — с папенькой и маменькой…
Резким движением она вскрыла второе письмо. Писал Петрик.
И этот тоже!
…"Госпожа наша начальница, божественная!", — писал Петрик и строки лиловых чернил падали вниз и поднимались снова. — "26-го июля в Красном Селе назначены скачки в Высочайшем присутствии на Императорский приз. Ваш верный Атос будет бороться на них за славу Мариенбургского полка. Если вы хотите принести ему счастье — вы будете на этих скачках. Как писатель я не из важных, и передать своими словами чувства вашего верного мушкетера не смогу, разрешите мне изяснить их стишками, списанными мною из одной старинной книжки:
"Ваш взор прекраснее парада, Великолепней, чем развод, Улыбка ваша — вот награда За то, что мой исправен взвод. Как мерный марш церемониальный, Ваш голос звучен, полн октав. Ваш ум высоко гениальный, И строг и точен, как устав! Нет! Никогда сигнал горниста Солдатов цепь не рассыпал Игрой отчетливой и чистой, Как голосок ваш серебристый, Пропевший мне любви сигнал. Пред исполнительным сигналом, Я оробел, смутился ум, Как казначей пред генералом, В ужасный час поверки сумм."Господи! какая ерунда! — подумала Валентина Петровна, — "но ведь в этой ерунде весь ее милый Петрик!"
…"Я собственно хотел вам что-нибудь кавалерийское, но подвернулось пехотное и ударило меня по сердцу. И я решил этими стишками сказать, как вас недостает, божественная, госпожа наша начальница"…
Она бросила письмо Петрика.
"Милый Петрик… все это глупости! Любите вашу Одалиску, а замужних женщин оставьте в покое. У вас есть еще и нигилисточка. Но ей такие «стишки» — я вам не советую преподносить. Сильно потеряете в ее мнении"…
"Что же мне однако делать?"
Она легла лицом в сено. Зарылась в него. Бездумна стала голова. Cyxие стебельки щекотали ее щеки и уши и все казалось, что кто-то ползает по ее лицу. Так — ни о чем не думать, ни к чему не стремиться… Плыть по течению. Судьба… Пусть судьба.
Она встряхнулась… Повернулась лицом в поле. Поправила волосы. Надела шляпку. Лицо было красное, щеки горели.
"Плыви мой челн, по воле волн".
Сзади из-за кладбища стали доноситься песни и музыка. Старо-Пебальгский полк возвращался с полкового смотра.
Когда-то для нее — это было событие!
Теперь ей все равно.
Она невольно стала прислушиваться. Затаила дыхание, открыла рот. Дыхание стало частым, она схватилась за грудь.
Боже мой! Как бьется ее сердце! Трубачи играли вальс… …Тот вальс… "березку"!.. "Я бабочку видел с разбитым крылом"…Корнет делал паузу… Сзади врывались дикие голоса бойкой солдатской песни.
И опять пел корнет и мягко вторил ему баритон:
— "Бедняжка под солнечным грелась лучом"… Нет! Не могу, не могу больше!Она упала, сотрясаясь в рыданиях и билась головой в копне сена. Шляпка сползла с головы. Она вся растрепалась. Слезы лились ручьем по щекам; липли на щеки былинки и cyxие цветы.
"Окаянная я!.. окаянная… подлая… низкая… развратная!.." шептала она, тяжело дыша, и не могла достаточно поймать воздуха широко раскрытым ртом… После обеда она, в своем элегантном taillеur'е, с «защитным» цветом на лице и во всей фигуре поехала в экипаже, который ей одолжил Гриценко в соседнее местечко на телеграф. Там ее не знали. Оттуда она послала телеграмму Портосу: — "выезжаю 18-го скорым"…
Вернувшись, прошла на телеграф Захолустного Штаба и отправила две телеграммы: — Якову Кронидовичу и Тане.
На первой стояло: — "выезжаю Петербург 19-го целую". — На второй: — "приеду 20-го восемь утра".
И успокоенная, решившаяся на что-то, вернулась домой. Она помогала матери в укладке. Под притушенными ресницами глазами, — защитный цвет! — иногда вспыхивал мрачный огонь… и тогда дрожали ее руки и срывался ее голос.
XXI
Накануне Петрова дня, 28-го июня, Портос, наконец, собрался поехать на дачу к Агнесе Васильевне. Она жила в Мурине. Странное и дикое место выбрала она для жизни летом. Вдали от путей сообщения и какое-то глухое. Точно какая-то конспирация. Портос все отказывался туда ехать, ссылаясь на недосуг, на занятия. Тащиться из Красного Села — этакую даль! На своем Мерседесе считал ехать неудобным, всю деревню переполошишь этакою машинищей, да и дорога плохая, поломаться можно. Нигилисточка на этом не настаивала. Писала: — "просто возьмите извозчика от Лесного, рубля три возьмет туда и назад, ехать менее часа". Ехать было нужно, и Портос ехал недовольный и надутый. Он был полон страстной и нежной любви к Валентине Петровне, а нигилисточка, как женщина, ему была не нужна. Как партийный товарищ?.. боялся, что она на этом не остановится.
Он ехал в полдень по жаркому Муринскому тракту, еще Петром Великим проложенному. Большие глыбы розового гранита и серого гнейса, глубоко вобравшиеся в землю, изображали мостовую, но по ним не ездили. Пролетка — не лихача, а того, что называется "хорошего извозчика" — на резиновых шинах, просторная, чистая, с сиденьем, обшитым темно-синим сукном, мягко покачивалась, поскрипывая на пыльной, хорошо наезженной обочине. За пересохшей канавой, густо поросшей бледно-голубыми незабудками, расстилались картофельные огороды и полосы скошенных полей. Сено стояло в копнах, и сладкий дух его сливался с запахом лошади, дегтя и махорки, которую курил за городом извозчик. Тянулись cерые, бревенчатые дома с мезонинами избушкой деревни Ручьи. Многие избы были заняты под дачи. Висело полотно на крылечке, в палисаднике цвели флоксы и львиные зевы и торчал столб со стеклянным шаром.
Сквозь одолевавшую Портоса дремоту, он, позёвывая, смотрел на убогие дачки, на крошечные садики между березок, сиреней и кротекуса, с дорожками, посыпанными желтым речным песком, на cерые щелявые бревна с забойками, так называемого «барочного» леса, на жестяные доски с изображениями топора или багра, на слаженные из тонких дранок заборчики с жиденькими калитками, на мостики через канаву со скамейками вместо перил и думал: — "Какой убогий уют, какая бедность! Там внутри-то — крошечные комнатки с отставшими дешевыми обоями, с клопами, неопрятные постели, розовая скатерть на столе и давно нечищенный, помятый самовар… Какое мещанство!.. В сущности социализм и гонит это мещанство, производит его в идеал. Серенькую жизнь дает как штампованный образец счастья. Стандартизация счастья — всем по одному образцу. Вместо помещичьей усадьбы — дачка в три комнаты, набитая жильцами, где зимою живут хозяева, а на лето за сорок рублей сдают дачникам. Тургеневскую девушку сменяет дачница в мордовском костюме и с прыщами на лбу… Вот к такой он и едет… Впрочем в Агнесе, — он называл ее наедине Несси, — в Несси есть какой-то особый изгиб. Она стоит как бы на грани между барышней помещичьей усадьбы и социалистической стандартизированной девицей — для всех. Этот изгиб в ней везде: в ее тонком теле, где и тела-то нет, в ее лампадах — глазах, в ее темпераменте. Она из тех, кто своими руками задушит, или застрелит… как эта Ольга Палем, что застрелила студента на Пушкинской в меблированных комнатах… И романы с такими всегда где-нибудь в меблирашках, или в таких квартирах, где живут господа Свидригайловы… Или в Мурине.
Портос поежился плечами, поправляя пальто.
"А что-то есть!.. Что-то тянет… И в партию, где такие идиоты и невежды, как Фигуров, Глоренц или эта тупая бабища Тигрина — тянет. Им, этим недотепам — пролетариату — принадлежит будущее и надо уметь ими править…"
В Мурине Портос не без труда отыскал дачу, где жила Агнеса Васильевна. Стояла дачка на отшибе, в третьей линии и была окружена широко разросшимися кустами сирени, жимолости, кротекуса, калины и жасмина. За ними совсем не было видно маленького белого домика с просторным крыльцом, наглухо задрапированным холстом с красными бортами.
На стук отворяемой калитки навстречу Портосу выбежала нигилисточка.
Умела-таки она одеваться! Она появилась на крыльце, грациозным, но и безстыдным движением подняла спереди подол платья, выше колен, показывая расшитое кружевными воланами белье и стройные ножки в черных шелковых чулках и, прыгая через две ступеньки, сбежала к Портосу.
— Отпусти извозчика, — безцеремонно обнимая офицера, сказала она. — Ты у меня ночуешь.
— Не могу, Несси. Никак не могу. Дела. Я извозчика отправил в трактир, пусть накормит лошадь, а через три часа я должен ехать обратно.
— Злой!.. Выдумываешь… Я все знаю… А я-то наварила, напекла, на Ивана, на Петра…
— Не могу, Несси!.. Я к тебе, собственно, по делу.
— Ну, там посмотрим… Идем завтракать…
XXII
После завтрака перешли в маленькую комнату, где висели по окнам густые тюлевые занавески, лежали ковры и стояли знакомая оттоманка и кресла. Портос предусмотрительно сел в кресло. Нигилисточка подошла к нему и гибким, ловким движением опустилась к нему на колени. Обыкновенно он обнимал ее тонкий стан, прижимал к себе, деловой разговор кончался и начинались поцелуи.
Теперь Портос, — не препятствуя ей сидеть у него на коленях, — она была так легка — равнодушно достал портсигар, протянул его Агнесе Васильевне, зажег спичку и дал ей закурить. Она затянулась, откинула голову на тонкой, совсем девичьей шее, и выпустила дым узкой струйкой кверху, сложив губы сердечком.
Он курил, и его темно-карие глаза были холодны и спокойны.
— Что это значит? — быстро спросила она. — Не хочешь?.. — Засмеялась коротким, лукавым смешком и, отставив руку с папиросой, неожиданно прижалась своим лбом к нему и потерлась лбом об его лоб.
— Что же? — повторила она, затягиваясь. — Устал?.. Не можешь?.. Хочешь, выпьем коньяку?
— Оставь меня, Несси, — сказал Портос. — Поговорим о делах.
Она сползла с его колен, перекатилась, коснувшись руками пола, на оттоманку и, разлегшись на ней, сказала:
— Если нужно… Какие дела?.. Десять я любила, девять позабыла… Ах… одного я забыть не могу. Вот и все мои дела.
— Забудь…
— Что?.. — Ее глаза расширились и она привстала на оттоманке.
— Мне не до любви, Несси.
— В самом деле? — Она злобно засмеялась.
— Давай, поговорим серьезно. Ты мой друг… да? — Он протянул ей большую широкую белую руку и она нехотя подала ему тонкие розовые пальчики.
— Ну? — сказала она спокойно. — О чем говорить?
— О партии.
— Ты же знаешь, — пожимая плечами, сказала она. — Программа тебе известна. Представителей ее я тебе показывала.
— Ах, эти… Твои… божьи люди… — морщась, как от дурного запаха, сказал Портос.
Она заметила его гримасу и сказала, сосредотачиваясь.
— Портос! Скажи мне откровенно… по правде… ты зачем пошел в партию?..
Портос курил, глядя через закрытое окно с прозрачными занавесками на поля, расстилавшиеся за палисадником.
— Видишь ли. Иногда трудно ответить на вопрос «зачем», но можно ответить на вопрос — "почему?…"
— Не все ли одно, — лениво процедила она между двумя затяжками папироской.
— Почему я пошел?.. Потому, что я вижу, что при данном режиме Россия не может прогрессировать… Все — случай… Мой начальник дивизии, живя в Бельцах, имел любовницу в Варшаве. Однажды он пpиеxaл невзначай и увидел, что от нее вышел молодой офицер. Он пробыл у ней недолгое время, и после того, как он уехал — ее нашли с простреленным виском. Подле валялся револьвер… Мой начальник дивизии поехал к старшему начальнику и просил замять дело. Никто не поинтересовался, откуда у нее взялся револьвер? Чей это был револьвер? Было это убийство, или самоубийство? Ее похоронили, как самоубийцу, а мой генерал получил повышение. Я был тогда молодым офицером.
— И это был ты, кто выходил от нее?
— Допустим, что и я… Не все ли равно? И вот тогда я задумался и стал наблюдать… Россия идет к развалу. Везде произвол. Я сошелся с некоторыми людьми из партии, соседней с вами, стал посещать Думу… познакомился с тобой и попал в партию. Я в ней ищу того, чтобы такие убийцы-генералы были наказаны. Я ищу равенства всех, я ищу справедливости… Далее… Я не скромник… Я знаю свои силы и свои таланты и я знаю, что при существующем режиме меня засушат и я не получу применения моим силам.
— Бонапартом хочешь быть, — с насмешкой сказала Агнеса Васильевна.
Он не ответил.
— Видишь ли, — сказала она, мечтательно глядя куда-то вдаль глазами-лампадами, — учение Маркса тебе известно?.. И он пытливо ищет справедливости. Не один он… Много людей. Энгельс… Каутский… Герцен… Кропоткин…если хочешь, я… Награда и возмездие в будущей жизни?.. Да не хочу я этого — этой будущей жизни просто-таки нет… Я это знаю… Мне это сказала наука. Ткань сложилась и ткань разрушилась… Так вот пожалуйте — награду и возмездие здесь… сейчас… завтра… сегодня… Так просто. Ты был богат… ты хорошо кутил, имел рысаков… машины. Тебя любили женщины, а я ночевал в Вяземской лавре… Меня ели клопы и вши и я с завистью смотрел на черствую корку… А о любви я и думать не смел… В будущей жизни?.. Да я в нее не верю… Мне подавай в этой… Отсюда простой лозунг — "грабь награбленное!". Это твое. И у тебя есть твое место под солнцем. Сумей его завоевать…
— Мечты о хрустальных городах с термитниками… Мечты о кооперативной лавочке, чтобы не давать наживаться купцу, а брать прибавочную стоимость себе, — медленно, цедя слова, сказал Портос.
— Земли крестьянами, фабрики рабочим… Жизнь без посредника — тунеядца и кровопийцы… Для этого надо, чтобы власть попала в руки именно тех, кто это понимает, кто привык не ценить и не гнаться за жизненными благами, кто понимает бедняка, то-есть, в руки пролетариата. Когда править станут бедные и не знатные, — они найдут средства обуздать богатых и распределить имущество по справедливости. И тебе там нет места. Ты — богатый и знатный… Багренев… Багрянородный… Ты хочешь сесть на горб моих божьих людей и на их спинах проехать в Наполеоны. Это то же, что и было… Старый режим. Ну, допустим ты умный и справедливый, а после тебя?.. Опять твой генерал-убийца… или профессор Тропарев?
— При чем тут Тропарев? — поморщился Портос.
Какие-то злобные огни вспыхнули в глазах-лампадах и погасли.
— Наша мысль, чтобы подлинный пролетариат всего миpa взял в свои руки власть.
— То-есть Глоренцы, Брехановы, Фигуровы и госпожа Тигрина во главе государства? Махровый букет глупости и пошлости!
— Хотя бы и они. Не всем быть умными и чистоплюями.
— Но это же сумасшествие.
— Не больше того, что теперь делается.
— Принимая меня… Вы знали, чего я хочу?
— Конечно… Я тебя насквозь видела.
— Для чего же я вам понадобился?
— Как для чего?.. Для разложения армии. Чтобы в нужную минуту ты увлек ее за собою…
— И дальше?
— Мавр сделал свое дело.
— Ах, вот как!.. Таскать каштаны из огня для… Глоренца или Кетаева.
— Что же Кетаев?.. Был же он диктатором на Урале.
— Полчаса.
— Хоть день, да мой. Это не важно…. Слушай, Портос, я тебе многое сказала. Сказала потому, что я тебя люблю…. Не по-вашему, по-романтическому, а по-своему. Ты мне весь… кругом… от головы до ног нравишься. Я люблю такие натуры, и я говорю тебе, брось…
— Что бросить?
— Брось и думать о Бонапарте. Перед тобою не французский народ, а партия со своими партийными целями. Ты вошел в нее — и ты — песчинка.
— И если явится ваш пролетарский генерал и убьет свою любовницу, и будет еще повышен за это, я должен молчать.
— И еще как! Десять любовниц убьет, а ты молчи…
— Не понимаю я этого…
— Тогда поймешь… Да не будет ли поздно?.. Портос, ты изменил Царской присяге… Ты вошел в партию… И тебе ничего…. Это старый режим. Ну… попадешься…. Выгонят со службы… Сошлют — и все… Помнишь, у меня ты говорил о Федоре Кирпатом…. Так вот — Федор Кирпатый, если ты только помыслишь изменить…
Нигилисточка быстрым прыжком кинулась на Портоса и сдавила его горло тонкими сильными пальцами. Он едва вырвался от нее.
— Да брось… Несси… Ведь и правда — задушишь. Брось шутки!.. Фу!.. — кашляя, говорил он. — Воротник совсем смяла.
— Это, чтобы ты понимал, — зловеще сказала Агнеса Васильевна. Она тяжело дышала. — Я ли, другой ли кто — задушим… отравим… У нас предателей нет.
— А Евно Азеф?.. Не ты ли мне говорила, что у вас каждый десятый служит в охранке?
— Да… говорила… Служит… Но не лезет в Наполеоны. Нам не маленький предатель страшен, а страшна личность. Личность противопоставляется коллективу — и у нас ей нет места. Понял?
— Спасибо за откровение. Значит: дорогу посредственности! Да здравствует пошлость!.. С помыйныцы воду брала — республику учиняла.
Агнеса Васильевна пожала плечами. Она смотрела прямо в глаза Портосу и ревнивый огонь загорался в лампадах.
— Портос, — сказала она. — Я все знаю… Оставь! Не сносить тебе головы… Ты, Портос, сильный, ты человек воли… Все по-своему хочешь гнуть… Брось…. Возьми прут — согнешь… А возьми метлу — не согнешь и не сломишь. Руки скорее обломаешь. Ты пошел с народом — берегись. Я — прут… А партия — метла. Не сломишь!
— Я доносить не стану, — бледнея, сказал Портос.
— Ты и от партии не смей отходить. Как пошел, так и иди… до могилы.
— Ну, это положим… Это моя совесть… Как пожелаю — так и будет.
— Уйдешь… умрешь, — криво усмехнулась нигилисточка. — Ты от меня ушел… к этой… Тропаревой.
— Брось… — вставая с кресла, сказал Портос. — Не смей говорить, чего не понимаешь.
— Ах, так!.. — тоже вставая, сказала нигилисточка. — Портос! Одумайся!.. Мне ли так говоришь?!
— Говорю, что надо сказать. Я прошу тебя не поминать имени госпожи Тропаревой.
— Не поминать даже… Ах, я — презренное существо!.. А там недостижимый идеал… Чистота….Красота… Такая же, как и я… Хуже… Я свободная, у ней — муж!.. Венчанная…
— Молчи, Несси!.. Плохо будет!
— Он еще грозит!.. Да что, Сахар Медович, ты думаешь, — я дура стоеросовая, не понимаю ничего. Не знаю?… да я знаю, что ты в связи с нею… Я все ваши верховые прогулки знаю… Твои письма ежедневные… Собачку встречать ходит!.. Пошляк сентиментальный. Других в пошлости упрекает, а сам!..
— Что это! — вскрикнул Портос, — слежка!
— А ты и не знал? В партию попал и с черносотенной профессоршей связался. Как не следить?
— Несси! Я последний раз тебе говорю: оставь.
Она стояла против него и, молча, тяжело и прерывисто дышала. Ее лицо было бледно. Глубокие складки легли от носа к подбородку и опустили концы губ. От этого лицо нигилисточки казалось постаревшим на много лет и некрасивым.
Портос смотрел на нее почти с отвращением, и она поняла его взгляд. Она повернулась спиной к нему. Ее плечи резко, острыми углами поднялись, она закрыла лицо ладонями и вдруг с истерическим рыданием бросилась на тахту.
Портос пожал плечами, быстрыми решительными шагами вышел из комнаты, надел на балконе шашку, пальто и фуражку и пошел, спокойный и твердый, отыскивать трактир, где его должен был ожидать извозчик.
Его до самого палисадника преследовали звуки всхлипывающих рыданий и истеричные выкрикивания Агнесы Васильевны.
"А, да не все ли равно!" — со злой досадой думал Портос.
XXIII
В том состоянии, в которое привела Портоса нигилисточка, он не хотел возвращаться в по-праздничному пустой лагерь. Ехать куда-нибудь в "злачные места", в Аквариум или в Буфф, ему не хотелось. Там могли быть встречи, там будут приставания "погибших, но милых созданий", а в том состоянии влюбленной размягченности, в котором он находился, ему это было неприятно. Да и рано еще было. А как-то надо было размяться и завершить этот день.
В ожидании, когда извозчик напоит и запряжет лошадь, Портос сидел на чистой половине трактира, куда потребовал себе чаю и разговаривал с половым.
Половой — молодой парень в розовой рубахе и черной жилетке охотно рассказывал ему об уженьи рыбы в реке Oxте, до чего он был великий охотник.
— Тут у Мурина не так-то берет, да и рыба мелка… Дачник, знаете, пугает. Опять же купанье недалеко. Которая рыба сурьезная — этого не любит. Разве что раки…
— А раков много?
— Уйма! И вот этакие попадаются, — с пол-руки показал половой, — рыжие, в пупырышках, что твоя лангуста. Повыше, у Лавриков, между каменьев, такое их место! Полсотни за день наловить можно, если места знать.
— А рыба какая?
— Рыба… ерш, окунь, подлещик, плотва, уклейка — самая для ухи рыба… красноперка, серебрянка… Там и леща, бывает, подцепишь, а окуни с фунт… Щука на жерлицу берет… Налим… Все есть. Только места знать.
— А далеко отсюда до Пороховых?
Портос задал этот вопрос, еще ни о чем не думая, но как только сказал, сейчас же понял, что ему нужно. Конечно: — поехать к Долле. Их третьему мушкетеру, скромному и умному Арамису! Вот с кем вчистую может он поговорить обо всем — и о партии! Не скрываясь… Святая душа Ричард Долле, схимник, отшельник в артиллерийском мундире, одних лет с Портосом, — а мудр, как старец! Портос расспросил о дороге на Пороховые, — сел в пролетку — и опять мягкое покачивание, пыль, запах сена, колосящейся ржи, голубизна незабудок в придорожной канаве, синева зацветающего по узким крестьянским полоскам льна и там и тут, точно часовые с края дороги, высокие лопухи с блеклыми громадными листьями.
Навстречу тянулся воз с сеном. Пахнуло крепко сенным духом, мужиком и дегтем. Портос на ходу схватил пучок сена: на счастье! Он думал о Валентине Петровне. Она так делала. Спрятал в карман.
О нигилисточке он позабыл. Весь отдался мечтам и воспоминаниям о Валентине Петровне. Он вспоминал ее на своем Фортинбрасе. Видел в мыслях тонкую талию, широкие бедра и красиво обтянутую ногу. Да… Это женщина… А как отдалась!
Портос зажмурился, фыркнул от удовольствия, потер руки… Скоро приедет.
Он знал… был уверен, что не уйдет она от него.
Полевая дорога вывела на строгое и чинное военное шоссе. Белой лентой, прямое и ровное, оно уходило в лес. Показались полосатые шлагбаумы, будки часовых. Точно природа подтянулась и по военному стала во фронт. Молодые елки росли рядом — такие ровные, одна к одной. Стояли домики служащих, строгие, одинаковые; низкие одноэтажные деревянные казармы. От шоссе в лес уходили мощеные булыжником дороги, прямые, как просека. Везде были указатели, надписи и часовые.
Надо было заехать в канцелярию, получить пропуск. Справлялись по телефону, звонили к Долле, к дежурному, к начальнику завода. Наконец, дали солдата провожатого — в химическую лабораторию.
Узкой дорогой въехали в густой сосновый мелкий лес. Запахло мхом и можжевельником. Постройки прекратились. Нелюдимое и глухое было место.
Вправо показалась на прогалине маленькая дачка. Солдат остановил извозчика и, выскочив с пролетки, стал звонить у двери, обитой войлоком и клеенкой.
— Пожалуйте, ваше благородие — сказал он. — Их благородие вас ожидает.
Портос отпустил извозчика и вошел в чистую прихожую, где на простой ясеневой вешалке висели помятое, порыжелое, легкое офицерское пальто и старая, тяжелая на вате «Николаевская» шинель с собачьим воротником под бобра.
За дверью раздались шаркающие шаги, глухо позванивали прибивные, не щегольские шпоры, высокая дверь растворилась, и в ней показался человек в длинном черном артиллерийском сюртуке. Он широко раскрыл объятия, стиснул в них Портоса, крепко поцеловал в щеки и губы, потом оторвался от него и, отойдя на шаг, устремил на него восторженный взгляд.
XXIV
— Вот ты какой?! — сказал Долле.
— Вот ты какой, Ричард! — в тон ему ответил Портос.
— Давай, померяемся, — ведь рядом в ранжире стояли. Ты красавец — в передней шеренге, меня, мордоворота, осаживали в заднюю.
Они стали рядом перед прямоугольным зеркалом в ясеневой раме.
— Не перерос…
Долле захохотал от радости. Он был одного роста с Портосом. Но Портос был строен, с ясно обозначенной талией, в ловко сшитом серо-зеленом кителе и в рейтузах, Долле был полноват, как-то все на нем нескладно сидело. Старый темно-зеленый сюртук был кое-где прожжен кислотами и висел на нем мешком. Длинные штаны с узким алым кантом падали на сапоги, стоптанные и порыжелые. Он носил их без помочей и привычным, безсознательным движением подтягивал их. Голова поросла густым черным волосом, остриженным, по-солдатски, бобриком, по щекам и на верхней губе лежали волнистые, не знавшие бритвы черные волосы. Лицо с большим, прямым с широкими ноздрями носом и толстыми губами было смугло-желто. Оно было бы совсем некрасиво, если бы большие умные, темные глаза, в веках с длинными ресницами своим ярким, бодрым и добрым блеском не освещали его и не придавали ему какого-то радостного, любовного освещения.
— Ну пойдем. Нет, ты положительно красавец. По тебе, поди, женщины сохнут. Мне Петрик рассказывал.
— Он бывает у тебя?
— Почти каждое воскресенье. Он не такой, как ты. Un pour tous, tous pour un! Он это помнит.
— Ричард! ты понимаешь….
— Все понимаю, милый Портос. Ко мне далеко. На Пороховые! За Охту! Да еще целая томительная процедура до меня добраться…. Все, брат, я понимаю.
Они сели в простые, зеленым рипсом крытые кресла у раскрытого окна. Окно выходило в лес и запах смолы, мха, можжевельника, гриба и черники шел в комнату.
— Ты, и правда, живешь, как некий пустынник в леcy… Один?
— Почти. Нас здесь трое. Я — мой денщик и солдат мой помощник в лабораторных занятиях.
— Скажи мне… Ричард, — начал Портос и замолчал.
Вопрос, который он собирался задать, показался ему неделикатным. Долле точно угадал его мысли.
— Как дошел ты до жизни такой? — сказал он и весело расхохотался. — Погляди, — становясь серьезным, сказал он, — вот, видишь в леcy круглая, ровная, как бы яма. Она вся заросла молодою сосною и кривою полярной березкой. Кусты черники, и голубика там в пол-аршина ростом. Несколько лет тому назад там стояла такая же избушка, как та, в которой ты сидишь… Там жил такой же чудак, как я, славный артиллерийский капитан Панпушко. Помню, мы маленькими кадетами были, он старшему моему брату артиллерию преподавал. И мы смеялись: пан пушка учит про пушку…Он искал новые взрывчатые вещества и однажды, в ужасный, глухой осенний день, когда моросит в леcy мелкий, нудный, ледяной дождь, там, где стоял его дом, взлетело к небу ярко белое пламя, черным громадным столбом, выше леса, стал темно-коричневый кудрявый едкий дым и, когда он рассеялся — ни домика, ни капитана Панпушки, ни трех его солдат — ничего этого не было. Была в леcy большая, круглая, в свежих, желтых песчаных осыпях, яма с черным пахнущим кислотами дном, в ней лужа воды. И, надо думать, с меланхолическим и равнодушным звоном сыпал туда осенний дождь.
— Значит и ты… по следам Панпушки.
— Да…. Я на счет государства кончил три учебных заведения… Можно сказать: государство меня и моих братьев вскормило. Я в неоплатном долгу перед государством. Мне химия далась… Я… изобретатель… Я должен все отдать государству… Это мой долг….
— Да… положим… Долг… Скажи! — твой труд и твои знания хорошо оплачиваются?
— Так же, как и твои. Жалованьем по чину штабс-капитана и столовыми по должности ротного командира.
— Гм…. Не густо.
— Слушай, Портос! Что бы там ни говорили пацифисты и анти-милитаристы, какие бы конференции мира ни созывали — война будет!
Большими, обожженными кислотами в черных и коричневых пятнах, волосатыми руками Долле закрыл лицо и несколько мгновений молчал, тяжело дыша.
— О, какая это будет ужасная война! — приглушенным задыхающимся голосом сказал он. — Война машин, а не людей… Самолеты… броневые машины… газы… ручные гранаты… пулеметы… Обозы на автомобилях… Подвоз безчисленных снарядов… Налеты на мирные города. Сбрасывание сверху бомб и особых стальных стрел… Не солдат, а техник… Не мужество, а машина… Банкир, еврей Блиох, все это провидел.
Долле быстро оторвал руки от лица и Портосу показалось, что на глазах Долле сверкали слезы. Его лицо горело вдохновением.
— Надо парализовать это. Надо остановить развитие машинной техники и заставить людей не истреблять друг друга, а драться… Вернуть войны, если не к древним временам, то, хотя бы к временам Фридриха, Наполеона… даже… Франко-Прусской войны.
— Не лучше ли совсем прекратить всякие войны?
— Но, милый друг, — ты сам понимаешь, что это невозможно. Это утопия. Пока стоит мир — войны будут. Пока существуют чувства, — ревность, зависть, ненависть — даже любовь — люди будут драться. Весь вопрос лишь в том — как драться!.. И надо уничтожить машины.
— Как же ты их уничтожишь?
— Вот этим я теперь и занят.
— Скажи, если не секрет, что ты надумал?
— Это, конечно, секрет… Но в том виде, как я тебе это скажу — это можно сказать каждому. Потому что никто не поверит, что это возможно. А я уже это вижу…
XXV
То, что говорил дальше Долле — было непонятно Портосу. Долле сел рядом с ним и говорил то шепотом, то порывался голосом и почти кричал. Он прерывал свою речь восклицаниями: — "ты меня понял?.. Понял?.. Они" — он делал просторный жест в сторону завода, — "они меня не хотят понять, но они мне дают все средства для этого. Это все-таки просвещенные люди… Ты знаешь — безпроволочный телеграф…. Теперь на днях и телефон будет… Маркони… да… изобретение-то Русское… Попов, ведь изобрел, ну да, опоздал немного… Волна… по воздуху… и куда угодно ее влияние… Звук… треск… может быть, голос… понял?..
— Ну да, я знаю сущность Маркониевского изобретения.
— Да — дальше…Ты знаешь лучи… Ультра-фиолетовые… Инфра-красные… Радий?..
— Откровенно скажу: о радии знаю только из фарса, который недавно смотрел — "Радий в постели"….
— Ах ты!.. — Долле схватил Портоса за плечи и потряс его. — По- старому, по-кадетскому, тебе салазки за это загнуть бы надо…. Ах ты… Ты слушай!
Он был совсем, как сумасшедший.
— Лучи… все равно, как назовут их… Долле-лучи… Я бы хотел… в его память… Я часто его тут в овраге вижу… беседую с ним… он мне советы дает…
— Кого… покойника?
— Нет покойников… Дух жив… «Панпушко-лучи» хотел бы назвать… Понял?.. Ну, пусть будет — N-лучи… Они, как волны безпроволочного телеграфа, идут от источника по сектору — пускай, скажем… на тридцать километров…. Понял?
Долле трепещущей рукой показал, как волны этих неведомых лучей идут по конусу, как лучи света прожектора и проникают сквозь каменные стены, сквозь бетон, сквозь железо и сталь.
— Понял… понял?.. Таинственная короткая волна в 4 сантиметра…. Теперь понимай дальше. Bcе теперешние машины движутся силою нефти и производных от нее — керосина, бензина, бензола, эссенции и т. д. и т. д. Понял? Поезда, морские суда, автомобили, самолеты, дирижабли — все стоит на машинах внутреннего сгорания. Bсе эти «Дизеля» — все на нефти и от нефти…
Долле не мог больше сидеть. Какой-то восторг охватил его. Он встал и быстро ходил по комнате, размахивая руками.
— А мои лучи, — захлебываясь и похохатывая восклицал он. — Мои лучи…все это… на расстоянии, скажем 30 километров взрывают… взрывают…. Я направил их сноп… И вот горит в доме лампа. Взрыв… пламя… черный дым и лампы нет… Мчится автомобиль… Попал в полосу лучей, а они невидимы… взрыв… пламя и обугленные куски железа. Летит аэроплан…. И вдруг вспыхнул и длинным языком огня упал на землю…. Ты понимаешь: вся их техника… к черту!.. Ни аэропланов, ни броневых машин, ни мотоциклеток — ничего — все взорвано моими N-лучами.
Долле подошел к Портосу, и обнял его. Он сказал нежно.
— Они уже есть, эти лучи…. Только еще очень слабые…. как дети… Недавно я в присутствии начальника завода взорвал ими жестянку керосина… на тридцать шагов. На сорок уже не берет. Рассеивание большое. Сопротивление атмосферы… Это — дети-лучи…. Они подрастут… подрастут…. - шептал Долле и вдруг порывисто вскакивая, вскрикнул громовым голосом:- На тридцать километров!.. Все… взорвано!.. — И сразу успокоившись, сказал спокойно, будничным голосом:
— Ну, пойдем обедать, Портос… А то ты меня и впрямь за полоумного примешь… Духовидца…
XXVI
Обед был простой, но хороший. Его носили Долле из заводского собрания. Была водка, было и вино — очень приличное, Удельное, — и Портос, любитель поесть и выпить, отдал всему должную честь. После обеда он рассказал Долле, не называя себя, все то, что он слышал от нигилисточки. О новом движении — "пролетарии всех стран соединяйтесь", о "диктатуpе пролетариата".
В комнату входили прекрасные, свежие Петербургские сумерки. Тихо шумел за раскрытым окном хвойный лес.
— Ты как понимаешь — пролетариат? — спросил Долле.
— Рабочие и крестьяне, — ответил Портос.
— Да… если бы так… Нет, Портос… Ни рабочий, ни крестьянин управлять государством не пойдет. Во-первых, у него есть его дело — и он считает его важнее и нужнее для себя, чем управление государством, а во-вторых…он никогда не берется за то дело, которого он не знает… Нет… пролетариат, на кого так рассчитывают те, кто пустил в мир эти зажигательные лозунги — это совсем не то… Пролетариат — это бездельники прежде всего. Люди, никогда ничего своего не имевшие, никогда ничего не заработавшие, ни во что не верящие… Это люди — без веры, без отечества, без семьи. В этом их страшная сила. У них нет никакого сдерживающого начала. А замашки иногда… Жутко сказать какие… Да вот — пример… Ты помнишь Смердякова — Карамазовского лакея.
— Ну?… Помню, конечно.
— Так вот, этот самый Смердяков четыре года тому назад служил у меня лабораторным помощником…. Как солдат местной заводской команды…. Такой же философ и богохул. Звали его Ермократ Грязев. Вот тебе типичный пролетарий… И Боже упаси, если они станут диктаторами!.. Сын сельского псаломщика Саратовской губернии. Четырехклассное церковно-приходское училище — и дальше — казалось бы — духовное училище, семинария… псаломщик, дьякон, священник… академия…. Большая карьера… Только — рылом, что называется, не вышел… Рыжая, длиннорукая обезьяна, исполосованная угрями и оспой. Отсюда озлобление на всех и прежде всего на Бога. А потом и отрицание Бога. С такими понятиями — дома оставаться было нельзя. Возле — Волга. Ушел из дома. Бродяжил, крал, Бог его знает, что делал и, наконец, — Петербург, прописка — по этапу домой, и с этапа обратно в Питер — был то, что в полиции зовут "Спиридон — поворот". Тут и захватила его воинская повинность. По росту — гвардия, но морда такая, что гвардейское начальство побоялось такого взять и попал он к нам и, как хорошо грамотный, ко мне в служители. Работа не хитрая. Перетирать колбы и реторты…. Да еще… подай то… столки… разотри… подпили… спаяй. Надо отдать справедливость — работник он был хороший, трезвый и толковый. Да ведь такие-то, Портос, — самые опасные!.. Стал я за ним примечать и, скажу откровенно, — страшно стало. Сижу я за работой. Молча… Делаю соединения… Подумаю — "надо азотной кислоты добавить". Имей в виду, Портос, хотя ты меня немного и принимаешь за сумасшедшего, но я вслух, да еще при солдате, никогда не думаю. И вот — длиннопалая его лапа, поросшая жесткой бурой шерстью, тянется ко мне с бутылью азотной кислоты… Посмотрю на него. Рожа страшная. Рот до ушей — улыбается. Огненные волосы на голове пламенем горят. Без грима черт!.. Другой раз сижу за формулами… Обдумываю… Ничего не выходит. Он сзади меня посуду перетирает. Вдруг косматый палец с длинным грязным ногтем тянется к моему уравнению и сиплый голос говорит: "Вы тут "О два" поставьте, вот у вас и выйдет. Разве не диавол?… Но я… молод был… мне это нравилось… Увлекало меня… В ту пору изобретал я новое взрывчатое вещество. Работал над воздухом… Ну и еще тогда много думал, как усилить взрывчатую силу тринитротолуола. И вот, вечером, может быть, даже и ночью, сижу над формулами, а Ермократ тут же что-то пишет. Он все мне подражал. Я посмотрел на него и говорю: "А знаешь, Ермократ, если в моем составе серную кислоту заменить пикриновой, да придумать что-нибудь более стойкое, чем хлопчатая бумага — такая штука выйдет, что, если ее забить в стальную трубу, а ту трубу закопать в землю, да и подорвать, то весь земной шар разлетится вдребезги, как гнилой орех!" — Шутя, конечно, сказал… У моего Ермократа глаза и зубы разгорелись. Пышет восторгом. «Вот», — говорит, — "это, ваше благородие, здорово было бы!.. Вы бы мне дали, а я бы подорвал! Уж и подорвал бы на славу!".. — "Дурак!" — говорю я ему, — "ведь и сам бы на воздух взлетел, да и я тоже". — "Так за то, ваше благородие, такое бы исделали!"… Вот тогда я и понял, что в Русском пролетарии не то что Герострат сидит, а целый Геростратище. Его научи только — он не то, что храм Дианы Эфесской, — он Успенский Собор, он всю Россию взорвет!
— Кто же научит? — тихо спросил Портос. Он думал о себе. Как ему самому стать во главе таких Ермократов и построить с ними великую славу cебе. Как — Наполеон.
— Жиды, конечно… Масоны… Для них такие люди — клад… Да и в Европе не очень-то любят Россию. Оттуда пришлют учителей… жидов тоже. Дадут и деньги.
— Не очень-то наш пролетариат жидов любит. Может — и по шапке.
— Ты думаешь?..
Портос ничего не ответил. Он сидел, молча, и глядел в окно, все думая о себе, о том, что с такими аморальными людьми можно весь свет покорить, и как их подчинить себе. Долле продолжал.
— Диктатуры пролетариата никогда не будет, но будет диктатура над пролетариатом. Но так как пролетариат ни на что хорошее толкнуть нельзя, — его будут толкать на разрушение. На разрушение христианской веры, государства, семьи… Им будут править враги Poccии.
— Его надо уничтожить.
— Попробуй уничтожить. Когда на поле вырастает один чертополох — его нетрудно выкорчевать, но когда все поле поростет чертополохом — он заглушит весь хлеб, а такие, как Ермократ… Да слушай дальше.
— Я слушаю. Что же Ермократ?
— "Побойся Бога, говорю я ему"… Он посмотрел на меня так сбоку, хитро и, мне показалось, презрительно. Потом совершенно серьезно и очень почтительно спросил: — "Вы, ваше благородие, в Бога-то верите?" Надо тебе сказать, что я по равнодушию и халатности икон в доме не держал. Старых, семейных икон у меня не было — мы же — кальвинисты, покупать новые для моих солдат казалось как-то странным. В церковь — занятый своей работой, ею увлеченный, я ходил очень редко. Все некогда, да некогда… — «Конечно», — сказал я — "как же, Ермократ, в Бога-то не верить?"… И вот тут — всего моего Ермократа точно перекосило, он сморщился, фыркнул, прыснул смехом и с криком: — "ой, уморили, ваше благородие", — убежал в людскую… И с этого дня — я не мог выносить его взгляда. Так презрительно, пренебрежительно смотрел он на меня. И так хорошо, что это было за месяц до его увольнения со службы… Мы расстались…
— Н-да… Я понимаю… Положение не умное… Тебе надо было… В морду!.. Исколотить его до полусмерти…
XXVII
В комнате стало темно. За окном в лесу расстилался зеленый сумрак. Тихо, по ночному стало в лесу.
— В морду?.. Может быть, ты и прав… Надо было — в морду… Но я на это не способен. Тридцать лет нас от этой привычки отучали. Офицер когда-то был псом над стадом овец. Хватал то ту, то другую зубами за гачи, водворял на место. Теперь офицер — овца. Хорошо, если среди овец… А если такие, как Ермократ?..
— Ты боялся, что сдачи даст? Убивать придется?.. Неопрятное дело.
— Такие, как Ермократ, сдачи не дают. Они кляузники… доносчики… Штабс-капитан Долле, академик, ученый артиллерист побил солдата! За что? За то, что тот улыбнулся — ведь он скажет, что хочет, — на то, что он в Бога верует. У нас, Портос, громадная свобода! Неслыханная, безкрайняя свобода… И каждый может верить, или не верить… Ты понимаешь — я ничего не мог сделать. Непочтительно обошелся со мною… Ну… пять суток ареста… Что ему арест?… А мне — скандал. Он молчать не будет. Ты пойми, Портос — они, пролетарии, — сильные. Сильные тем, что им ничего не надо, у них ничего нет, им нечего терять, у них ни чести, ни боязни боли, ни боязни смерти — нет… тогда как у всех остальных…. у нас… слишком много условностей. Портос, растет страшное племя — именно племя — международный народ — потому что ракло юга России, петербургские Спиридоны-повороты, «Вяземские» кадеты, босяки, Парижские апаши и Лондонские хулиганы друг друга понимают… Грабь награбленное… А что мы им противопоставим?… Моральное воспитание детей… Религию упразднили. Теории господина Комба из Франции ползут повсюду… Они… их дети растут по трущобам вне всякой морали — с единым лозунгом — "в борьбе обретешь ты право свое", — мы, в Гааге — этом несчастном городе утопий, готовим "лигу доброты"… Маниловская мармеладка… Шесть заповедей: — "всегда быть добрым"… "Не лгать"… "покровительствовать слабым и помогать несчастным"… "уважать старых и больных"… "быть со всеми вежливым"… "не мучить животных"… Ведь на этих заповедях мы выросли и воспитаны… Это мы перед солдатами обязаны… а они… такие, как Ермократ… Смердяковы-то… Горьковские герои — у них надо быть злым и жестоким, иначе жизнь заклюет тебя… Буревестники… волки… гиены… никогда не говорить правды, лгать, клеветать, отпираться, доносить… слабых душить. Товарищ должен был сильным… Старых и больных — угробить, чтобы не мешали. Вежливость?… не мучить животных?! А, да что говорить! Ты сам понимаешь — там растет сила… Мы воспитывали слабость. Ты говоришь — в морду?
— В морду!.. Избить… Убить его подлеца… Застрелить за его подлую улыбку! — вскакивая, вскрикнул Портос и стал ходить по комнате. — Эх, Ричард!.. На что дворянину дана шпага?
Долле печально улыбнулся.
— Где теперь шпага у дворянина? Да и где теперь дворяне?… Поверь мне… Если они станут на наше место — с Кольтом расставаться не будут, и, если я, солдат, ему, пролетарскому офицеру, скажу, что есть Бог, — он меня застрелит.
— Так что же, Ричард?.. это значит?.. Нам надо у них учиться… Нам надо стать, как они?
— Попробуй.
— Ты видал потом… своего Ермократа?..
— Как же… Он приходит ко мне… По старой дружбе… Навещает.
— И ты его?
— Ты спрашиваешь — принимаю-ли? Принимаю, Портос. Меня учили "быть вежливым"… И я вежлив.
— Где он теперь?
— Он нашел свое призвание. Он служит у профессора Тропарева. Помогает ему потрошить трупы… Наша милая Алечка его как огня боится.
— Да… да… да… Я что-то слыхал… Ермократ… да… Ермократ… Представь, ни разу не встречал его у Валентины Петровны.
— Она его к себе не пускает.
— Что же профессор?
— Очень им доволен…Ермократ ему предан, как собака. Ты знаешь — он профессора в обиду не даст. Просто — своими руками задушит всякого, кто обидит профессора.
— Вот как, — бледно улыбнулся Портос, — чем же господин профессор снискал такую преданность этого… Смердякова?
— Дерзновением над трупами. Ермократ там себя нашел… Он приходит ко мне… рассказывает кого и как они вскрывали. И, если был особенно гнилой покойник — как он рад!.. "Смерть, где твое жало?" рычит… "А вот, где… Сгнил… Вы", — говорит, — "понимаете, Ричард Васильевич… А вы — про Бога!.. Ничего нет… гниют покойнички…. и никакой то есть — души"…
— Ах, сукин сын!..
Портос посмотрел в окно. Ночные тени сгущались над лесом.
— Не пошлешь-ли, Ричард, за извозчиком…. Пора мне и домой.
Долле пошел распорядиться. Когда вернулся, он спокойно сказал:
— Да, сукин сын… Но когда такие сукины сыны в Параскеву-Пятницу верили и по святым местам ходили — лучше было… Не по ним наука.
— Ну?.. Отчего… Наука всегда полезна.
— Вот теперь готовится дело о ритуальном убийстве какого-то мальчика в Энске. И вся пресса и у нас, и заграницей разделилась на два лагеря. Одни говорят — мальчика убили жиды… Другие — это невозможно… в двадцатом веке!
— Кто же так убьет?… Источая кровь… Ты ведь читал?
— Читал… Кто?.. А вот такой же Ермократ.
— Зачем? — глухим голосом спросил Портос.
— А чтобы "такое исделать"… Герострат Российский…
— Да… может быть…
И, когда ехал Портос домой, все вспоминал свой разговор с Долле о Ермократе.
"Хорошая вещь — образование" — думал он — "но только на какие мозги?.. Ермократ — тоже — нигилисточкин божий человек… Постиг тайны бытия… Обезьяноподобный… Живая теория Дарвина… Когда-нибудь такой же идиот, Ермократу подобный, будет изобретать такую ракету — снаряд, чтобы можно было послать ее аж до самой луны и разорвать луну в дребезги… чтобы — такое исделать!
XXVIII
Скорый поезд, на котором ехала Валентина Петровна, приходил в Петербург утром. В Луге он был, едва начинало светать.
Валентина Петровна в своем щегольском дорожном taillеur'е, темно-сером с ярко-пунцовой отделкой, в пунцовом жилете, туго стягивавшем под жакеткой ее молодую красивую грудь, в маленькой серой шляпе с пунцовыми лентами, плоско торчащими сбоку, в том самом костюме, которым она удивляла, восхищала, смущала и возмущала дам Захолустного штаба, со щеками, румяными от без сна проведенной ночи и волнения, но молодо-свежими и крепкими, в шестом часу утра вышла из душного дамского отделения 1-го класса в коридор.
В окнах однообразно были опущены и туго натянуты белые занавески с вытканным вензелем дороги "С.З.Ж.Д.". Электрические лампы ярко горели в коридоре. Их свет, после сумрака купе, ослепил Валентину Петровну. В крайнем окне, где было опущено стекло — трепетала на ветpy занавеска. Колеса под вагоном ровно и монотонно гудели, точно там журчала вода и вагон шел плавно, не качаясь. В коридоре нудно, по-ночному пахло одеколоном, туалетным уксусом и уборной. Валентина Петровна подошла к раскрытому окну и подняла занавеску. Со света вагона на воздухе казалось темнее. В бледном свете проносился мимо Валентины Петровны густой, сосновый лес.
Едва занималась заря. Небо еще было cеpoе и нельзя было определить, какой будет день. Вдруг проплывет мимо лесная прогалина. По желтому песку жидко поросли овсы, голубеет полоска цветущего льна, у самого леса стоят кладки трехполенных дров и надо всем, точно кисейный полог протянут, висит белая пелена неподвижного тумана. Из леса пахнет сосною, смолою, сыростью и грибом.
Громче и гулче простучали колеса под вагоном. Из-под пути вынырнула черная речка и белый пар клубился над нею. Лес оборвался. Позлащенные первыми лучами точно бронзовые сосны веером уходили назад. Копны сена на решетках, покосившаяся избушка, пузатая лошадь и жеребенок в рыжей лохматой шерсти были на лугу.
Солнце, точно еще не проснувшееся, не стряхнувшее с себя сна, скупо лило бледные, но уже слепящие глаза лучи. Сверкал серебром пруд, наполовину заросший камышом и кувшинками, и белые цветы их так многое напомнили Валентине Петровне.
Вставало тихое северное утро и несказанно прелестная и грустная красота была в Божьем мире.
Лес ушел на задний план. Появились среди полей двухэтажные бревенчатые дачи с мокрыми от росы занавесками балконов. Желто-песчаная дорога, с осыпавшимися сухими канавами, шла вдоль домов и упиралась в лес. Шлагбаум перегородил ее. У шлагбаума будка, у будки баба в рыжем полушубке наопашь, в платке, с палкой, обмотанной зеленым, в руке.
Поезд сдержал свой бег и плавно и мягко, как умели это делать машинисты скорых поездов Николаевской и Варшавской железных дорог, стал останавливаться. Показался длинный, низкий, обложенный серым гранитом деревянный перрон, навес вдоль станции и окна большой станционной постройки.
Внизу вздохнули воздушные тормоза, и поезд остановился и затих. В вагоне не было никакого движения.
Валентина Петровна увидала на перроне начальника станции, зябко поеживавшегося в черном пальто. Он стоял за путями под навесом и красная шапка его была далеко видна. По платформе проходил рослый монументальный жандарм в серо-зеленой, чистой, тугой рубахе с алыми погонами и алым аксельбантом, с тяжелой шашкой и револьвером, в ярко начищенных высоких сапогах со складками гармоникой, со звонкими шпорами. Из соседнего вагона — еще поезд не остановился, — соскочил высокий, красивый обер-кондуктор в длинном черном кафтане с голубыми кантами, обшитом по борту и воротнику узким серебряным галуном, со свистком на серебряной цепочке. Чей-то голос у дверей станции торжественно и глухо, точно в пустую бочку, сказал:
— Луга… Десять минут остановки…
Впереди, на краю платформы у зеленого вагона третьего класса заметалась толпа баб с корзинками и увязками, торопясь сесть в вагон. Вагоны первого и второго классов спали крепким утренним сном.
И сразу за этими обычными, естественными лицами большой станции, ранним утром — в глубине, у высоких стеклянных дверей, Валентина Петровна увидала стройную фигуру Портоса. В серой фуражке, в легком пальто, в длинных сине-серых брюках, он показал носильщику в белом фартуке на Валентину Петровну и тот бегом побежал к ее вагону.
Валентина Петровна вышла за носильщиком. В широком проходе между буфетной комнатой и залом третьего класса, ее встретил Портос. Он, молча, поднес сначала одну, потом другую ее руку в перчатках к губам и поцеловал их. Валентине Петровне показалось, что слезы блистали на его глазах.
Дачный извозчик с плохо чищенной маленькой лошадкой, запряженной в городскую пролетку со старыми исщербленными резиновыми шинами их ожидал.
Портос усадил в нее Валентину Петровну и извозчик покатил по блестящей росою булыжной мостовой.
Валентине Петровне казалось, что это во сне она видит белые стволы больших берез, сады с высокими соснами, дачи, где за всеми окнами плоско висели опущенные занавески, а на стеклах была роса, балконы, по которым, на натянутых нитках бежали вверх турецкие бобы и алели кисточками мелких цветов, клумбы с флоксами и петуниями и огненные настурции в длинных деревянных ящиках вдоль балконных перил.
Все было погружено в крепкий дачный сон.
Лавки стояли закрытые с опущенными ставнями. Нигде не было ни души. Как по заколдованному, погруженному в крепкий немой сон городу, в душистой прохладе утра, ехала в неведомую даль Валентина Петровна. Лошадь то скакала, поощряемая кнутом, по песчаной дорожке вдоль мостовой, вертела подвязанным хвостом и прыгала неуклюже, то сбивалась на рысь и часто семенила короткими косматыми ногами. Белая шерсть ложилась на костюм Валентины Петровны и на пальто Портоса.
Они молчали. Во сне не говорят. А это, конечно, был сон!
Лицо Валентины Петровны горело на свежем утреннем воздухе. Ей хотелось есть, спать, отдаться какой-то особой животной нирване, где бы спала душа, а тело жило всеми своими жилками, всеми чувствами, насыщалось, обоняло, осязало, слушало, глядело и ни о чем не задумывалось бы.
Извозчик скоро остановился у подъезда длинного двухэтажного здания с надписью: "номера для призжающих". Валентина Петровна прочла надпись, но не отдала себе отчета, что это значит. Заспанный коридорный в белой рубахе и таких же портах подхватил ее чемоданчик и кордонку со шляпой и пошел впереди. Она послушно оперлась на руку Портоса и стала подниматься по деревянной лестнице, устланной белым холщевым половиком.
В коридоре, несмотря на легкий сквознячок, не совсем хорошо пахло. Коридорный открыл белую дверь с номером, и Валентина Петровна вошла. За нею Портос. Она все делала, молча, как во сне.
XXIX
Как сквозь крепкую утреннюю дремоту она услышала страстные, прерывистым задыхающимся голосом сказанные слова:
— Наконец, Аля, мы одни с тобою… Нам нет дела до всего света… Ты моя… Совсем моя.
Портос снял с нее жакетку и повесил на простую деревянную вешалку. Рядом повисло его новенькое темно-cеpoе пальто с золотыми погонами.
В номере было два окна. Они были раскрыты, но наглухо затянуты белыми шторами. Большая широкая постель, с розовым ситцевым пологом, занимала большую часть комнаты. Она была постлана свежим бельем, одеяло было откинуто. Постель была нетронута. От нее терпко пахло только что брызнутыми английскими крепкими духами. На овальном столе, накрытом бархатною скатертью, в большом фаянсовом кувшине, стоял громадный букет пунцовых роз. Целые пуки белых лилий были на потрескавшемся желтом комоде и розовые и белые гвоздики на двух ночных столиках.
Только это обилие цветов и заметила Валентина Петровна. Только нежный сладкий запах роз, горьковатый аромат гвоздик и одуряющий сильный запах лилий она и почувствовала. Она не видела убогой роскоши провинциального номера, тусклого, покрытого кое-где надписями, зеркала, у которого она снимала шляпку и оправляла золотистые волосы, она даже не заметила олеографии, премии «Нивы», "Боярский пир" Маковского, в черной багетной раме, с боярами с розовыми лицами, засиженными мухами, она не видела пола с облупившейся охрой и потертым ковром у постели и, главное, совсем не заметила пошлого до ужаса ситцевого полога. Только цветы и необычайно милый Портос!.. Пунцовые розы, розовые и белые гвоздики и лилии… лилии… лилии…
На отдельном столе, накрытом белою скатертью, в ногах у постелей, шумел, пуская веселый пар, маленький номерной самоварчик, подле были белый фаянсовый чайник и чашки. В лотке еще горячие булки, коробка конфет, масло, свежая икра, ветчина, бутылка вина и на тарелке громадные темные персики в седом пуху.
Она села к столу. Портос хозяйничал. Она следила как он своими большими сильными руками ловко намазывал ей хлеб слезящимся маслом. Она его ела с удовольствием. И, правда, она же проголодалась.
О чем говорили? Она точно не слышала своего голоса. Кажется, рассказывала о папочке, а Замбржицком, о том, как поразил ее первый раз услышанный ею со стрельбища стук пулеметов. Она сама не отдавала себе отчета, на «ты» или на «вы» говорит она Портосу.
Было очень уютно.
— Знаешь, слышу, со стрельбища вдруг — та-та, потом та-та-та… пять выстрелов…. И как затрещит. Никогда так не слыхала.
— Да, это они сначала пристрелку делали и в бинокль по пыли смотрели, как ложатся пули, а потом перешли на поражение.
— Я никогда еще не слыхала.
Ложечкой, с маленькой тарелки, она ела ледяную икру к пила какое-то душистое вино.
— Я опьянею, милый, — смущенно улыбаясь, прошептала она, когда он доливал зеленую рюмку на высокой витой ножке. — Я ведь ночь не спала. Я совсем устала с дороги. Ничего не понимаю. Мне все кажется: поезд шумит.
Она мешала ложечкой чай и, нахмурив темные брови, выбирала из большой коробки конфеты.
— Все мои любимые… Ты знаешь… Такой баловник.
И как-то просто, естественно и очень мило вышло, что она опустилась к нему на колени, и его большие пальцы ловко и искусно стали расстегивать ее пунцовый жилет. Они же отстегнули сзади кнопки на высокой юбке.
— Ах, как баиньки хочется, — сладко зевая, сказала она и, стряхивая с себя вниз юбку, очутилась на его сильных руках. Он хотел ее поднять, но она быстро сказала:
— А башмаки?
Тугие черные пуговки не поддавались его рукам.
— Постой, я сама.
Она перегнулась гибким станом к своим маленьким ножкам. Он охватил ее за талию.
— Да будет!.. Портосик, миленький… Ты меня щекочешь… Я же не могу так… Что ты со мною делаешь!
Ей совсем не казалось ни странным, ни удивительным, что они оба легли в постель, когда уже день наступал на дворе и в ярком золоте солнечного света были обе оконные занавески. За ними играл на длинной жестяной трубе пастух и мычали коровы. Чьи-то голоса слышались на улице. Скрипели телеги.
Она ничего не соображала. В голове чуть внятно будто играла музыка — все тот же вальс "Березку".
Ах, какой надоедный вальс! И все-таки милый. Да о чем думать? Портос все знает, Портос все умеет и ей так хорошо с милым Портосом.
— Ах, Портос, — вздохнула она, — какие мы с тобою глупые дети… И как хорошо… хорошо… хорошо!..
И забылась крепким сном, совсем так, как писал он ей в письмах. Горячая, зноем пышащая щека легла на его грудь под рукою, а вдоль всей его руки обвивались, щекоча, ее золотистые нежные локоны.
XXX
Двадцать четыре часа какого-то дивного сумасшедшего сна… Они вставали… ели каких-то удивительных рябчиков, белые грибы в сметане, пили шампанское и она, приподняв бокал к своим глазам, смотрела, как за хрустальной стенкой в золотистой влаге играли серебряные шарики.
— Портос… неужели разлука?.. А ведь надо, надо ехать.
И на другой день, в те же утренние часы, когда весь городок спал заколдованным сном, тот же извозчик отвез их на станцию. Портос провожал Валентину Петровну до Петербурга. Он целовал ее в губы в пустом коридоре площадки между двух окон, за которыми бежали леca и поля. Он шептал ей безумные слова и говорил ей адрес той квартиры, куда должна она будет к нему приходить. В крепко спящем утренним сном вагоне одни они не спали.
Перед Петербургом, когда показались плакучие березы и ивы, кресты и памятники Митрофаниевского кладбища, и сонные пасажиры начали выходить из отделений в коридор, Портос ушел в задний вагон третьего класса и в нем доехал до вокзала.
На темном и неприметном перроне Варшавского вокзала Валентину Петровну встречали Таня и Ермократ Аполлонович.
И, когда Валентина Петровна с большим букетом роз, свидетельниц ее греxa, сопровождаемая Таней и Ермократом, несшим ее чемоданчик, подавалась в толпе пассажиров к выходным дверям, из толпы протискался к ней улыбающийся Портос.
— Как это мило, Владимир Николаевич — воскликнула непритворно радостно Валентина Петровна, — что вы приехали меня встретить! Но, как вы узнали что я презжаю сегодня и с этим поездом?
— Добрые люди сообщили.
Валентина Петровна говорила и удивлялась, как спокоен и ровен был ее голос.
"Что же это" — думала она, — "или это Любовь научила меня так лгать? Любовь — это ложь?"
Ермократ позвал извозчиков. Валентина Петровна села с Таней, Ермократ поехал впереди с чемоданом и шляпной кордонкой. Портос не посмотрел на него. Он целовал ручку Валентины Петровны и она ему говорила что-то милое и ласковое, совсем обыденное, то, что сказала бы всякому другому, кто встретил бы ее и что так сухо звучало после тех удивительных слов, что были сказаны несколько минут тому назад в пустом коридоре вагона.
Извозчик тронул, и Портос скрылся на панели за чахлыми деревцами.
Опять Петербург. Он оглушил ее грохотом подвод, лязгом железа, стуком кидаемых с барок на Обводном канале дров, скрежетом трамваев, гудками автомобилей и мерным, куда-то вдаль уходящим, топотом безчисленных ног лошадей, несущихся по всему городу извозчиков, но он ей показался совсем другим, не тем, каким она его оставила. Узкий и темный Обводный канал, заставленный барками, грязный мост, пыльный Измайловский проспект со скучными вправо и влево уходящими улицами «рот», дворники в белых фартуках и черных картузах, поливающие из кишок улицу, радуга, играющая в косых лучах утреннего солнца на разбрызгиваемой воде, лотки с земляникой, кадки с огурцами у панелей, казармы с настежь раскрытыми окнами, где лежали маленькие солдаты армейской пехоты, пришедшей на смену Измайловцам, белый собор о пяти синих куполах с золотыми звездочками, колонна из турецких орудий — все это казалось ей новым, особенно красивым и милым.
Дома Марья целовала ее в «плечико» и говорила, что она приготовила к завтраку, Ди-ди визжала и длинными пальчиками с когтями царапала пуговки и канты на ее юбке.
— Ди-ди! успокойся… Ты так рада? Ну вот видишь — вот и я.
Собака прыгала, стараясь достать ее лицо и лизнуть свежую щеку. Кот Топи, распустив хвост панашом, терся о ее ноги. Левретка в ревности пыталась оттеснить его.
— Постой, Ди-ди… Дай же мне его приласкать.
Она, сопровождаемая извивавшейся и повизгивавшей от восторга собакой и котом, вошла в гостиную. Везде была чистота. Сквозь тюлевые занавеси был виден садик на дворе. Он разросся за ее отсутствие. Она посмотрела на рояль и Таня точно угадала ее мысли:
— Вчера настройщик был… Я вызывала, — сказала она.
— Спасибо, Таня.
Валентина Петровна положила розы на стол. Таня взяла их.
— Тамошние розы? — спросила она. — Какие авантажные.
Валентина Петровна вздрогнула и густо покраснела.
— Да, тамошние, — быстро сказала она.
— Куда ставить их прикажете, барыня?
— Поставьте в спальной около постели.
Она сняла шляпку и, вынув шпильку, поправляла ею перед зеркалом растрепанные волосы. Таня видела в зеркале ее усталое лицо с большими в темной синеве спокойными, счастливыми глазами.
— Устали, барыня?
— Да… ночь не спала… Душно было в вагоне.
— Да, такая жара… и там тоже жарко?
— Да, очень…
— Может, приляжете отдохнуть.
— Нет… Приготовьте мне ванну, я после чая возьму.
После ванны, в нарядном пеньюаре с лентами, с широкими рукавами, с распущенными сырыми волосами — она их мыла, — положенными на подшпиленное на спине полотенце она сидела за роялем, перелистывала ноты и играла то тот, то другой отрывок. Переволновавшаяся от встречи, уставшая Ди-ди лежала подле нее в кресле и спала, насторожив тонкое, большое ухо. Кот Топи развалился на столе между альбомами и спустил к полу мохнатый хвост. Он поглядывал на хозяйку прищуренными зелеными глазами и точно говорил: " я-то все знаю, но никому не скажу".
Небрежно, одною рукою, Валентина Петровна стала наигрывать вальс «Березку». Милый старый вальс! Улыбнулась сконфуженнной улыбкой, потупила глаза, перелистала ноты и стала, серьезно насупившись, играть "Largo".
Разум ей говорил, что она преступница. Как, какими глазами она встретит сегодня вечером Якова Кронидовича? Что будет ему говорить? А если будет то?.. Разум искал выхода из создавшегося положения и не находил. Там, где-то в глубине души с возмущением повторялась фраза, точно на век отпечатавшаяся в мозгу: "Кирочная 88, под воротами направо…. Отдельный ход… Только к нам".
Разум возмущался: "к нам"!.. И это будет! Пройти придется и через это, если она действительно любит Портоса… А сердце билось спокойно и была какая-то сладкая истома во всем теле. Хотелось спать. Мысли путались, не давали они говорить разуму его жесткие, колючие слова… Забыла, что играет… сбилась… Остановилась… сладко зевнула… Долго звенела под черной полированной крышкой потревоженная клавишей струна. Валентина Петровна бросила играть. Опустившись на ковер на колени, она тихо ласкала собаку и разглаживала пальцами тонкое шелковистое ухо. Собака во сне ласково ворчала.
Противоречие между разумом и сердцем страшило Валентину Петровну: "Что же делать?… Что же делать?", — жалея себя, подумала она. — "Но ведь это все уже было… было… Этого не поправишь"…
Уткнувшись лицом в нежную шейку собаки, где шелковистый был пробор белой шерсти, Валентина Петровна плакала. Сама не знала о чем. Было страшно сегодняшней вечерней встречи. Проснувшаяся Диди смотрела на нее большими удивленными глазами. Она протягивала к ней лапы, точно хотела остановить ее слезы и тихо повизгивала.
Кот Топи еще более сузил зеленые глаза и, укоризненно мурлыча, покачивал кончиком опущенного хвоста.
Валентине Петровне было страшно на него смотреть. Ей казалось, что он все знал и понимал ее положение.
XXXI
До вечера Валентина Петровна крепко спала. Встала разбуженная Таней и, когда подошла к зеркалу, была удивлена. На нее смотрело прелестное, свежее лицо. Только глаза, еще хранившие истому, напоминали о вчерашней ночи в Луге. Она чувствовала себя бодрой. И, когда ехала с Таней на Витебский вокзал встречать Якова Кронидовича, ощущала странную, почти враждебную холодность к мужу. Точно не она перед ним, а он перед нею был виноват, и спокойно обдумывала, что и как она ему скажет. Была готова на любой допрос.
Когда на площадке подходившего вагона она увидала мягкую, черную фетровую шляпу мужа, большую, точно еще выросшую, волнистую черную бороду и серое пальто-крылатку, когда и он, увидавший и узнавший ее в толпе, улыбнулся ей приветливой и доброй улыбкой — она вдруг почувствовала, что так ненавидит его, что ей стало страшно, что не сумеет она скрыть своих чувств. Вся ее вина перед ним, все раскаяние, слезы о грехе совершенном — исчезли, как роса от жаркого солнца, от его улыбки собственника — и сразу, точно какой-то невидимый камертон прозвучал в ее душе и указал ей, чего держаться: в ней установился к мужу чуть презрительно-насмешливый тон.
Он обнял ее и поцеловал в щеку. Она вывернулась из его объятий и деловито спросила:
— Не устал?.. Не было жарко?..
— Я ничего. Как ты?
— Я ехала ночью. Было хорошо. Спала, как сурок.
— Дома как?
Он спрашивал и, слушая ее, передавал багажную квитанцию Ермократу.
— Два места, — сказал он Ермократу. — Пойдем, Аля.
Он взял ее под руку. По тому, как улыбался он, как, осторожно прижимая ее к себе, вел вниз по лестнице, она чувствовала, как он ее любит и как жаждет. Ужас и злоба владели ею.
— Я так тосковал по тебе, Аля…И виолончель моя по твоему роялю соскучилась.
Валентина Петровна ухватилась за его слова.
— Что ж… Поиграем.
— Сегодня?
— Ну да… А что?
— Я бы хотел пораньше спать.
Она едва удержалась, чтобы не вздрогнуть.
— Успеем и поиграть и поспать. Или ты устал?
— О нет! Я совсем свеж и бодр…
Он хотел что-то шепнуть ей, законфузился и не посмел. Только приблизил к ней свою черную бороду. И ей казалось, что от крылатки его идет пресный запах покойника.
На извозчике было легче. Городской шум мешал говорить. Если бы можно было так ехать и никогда никуда не приехать!
Дома был ужин… Водка, вино, Валентина Петровна с отвращением смотрела, с каким удовольствием он ел. Она ни к чему не притронулась.
— Что же ты? — спросил он.
— Так, что-то не хочется… Я хорошо пообедала.
Он хотел после ужина идти спать, она хотела задержать, отдалить страшный момент. Уйти от него совсем. Ей казалось, что когда это будет — она сойдет с ума, покончит с собой, как та барышня, которую в парке изнасиловали солдаты.
Она села к роялю и стала играть.
— Что это такое? — спросил он. — Я первый раз слышу.
— Это — Аргентинское танго…. Очень модно теперь.
— Мило… Пустяковина, конечно, но мило.
— Не правда ли?..
Она повторила мотив.
— Да, знаешь, — сказала она, переставая играть, — двадцать шестого июля в Красном Селе скачки в Высочайшем присутствии. Bcе наши будут. Петрик очень просил, чтобы и я была. Для счастья…. Он скачет.
— Ты с Петриком каталась? — спросил он, стараясь говорить просто.
Если бы не было этой вчерашней ночи, если бы не установился в ней насмешливо-лживый тон — она бы солгала. Но теперь она подняла на него глаза морской воды и спокойно сказала:
— Нет. С Портосом.
— Я просил тебя ездить с Петриком, — мягко сказал Яков Кронидович.
— Петрик не мог… А Портосу это ничего не стоило, — холодно сказала она.
"Ах, если бы ссора!" — думала она. — "Охлаждение, хотя на одну сегодняшнюю ночь!.. Да хоть навсегда… Пожалуйста"…
Но Яков Кронидович был далек от ссоры. То, что она ему не солгала — сразу смягчило его, и он с любовью и нежностью посмотрел на нее. Она не видела его взгляда. Ее вызова хватило на мгновение. Опустив глаза, она наигрывала какую-то мелодию на рояле.
— Так что же скачки? — сказал он.
— Пожалуйста, поедем…. Ты знаешь: даже Стасский будет.
— Стасский на скачках! Воображаю!.. А ведь и я никогда не видал, признаться, скачек.
Она опять с вызовом посмотрела на него. «Скачут», — подумала она, — "живые люди, а ты видишь только трупы".
— Хорошо, поедем… Ты скажи Петру Сергеевичу, чтобы он достал ложу.
— Хорошо, — сказала она. Сама думала: "не безпокойся, у Портоса уже все готово"…
Он притворно зевнул. Она поняла, что тянуть дальше нельзя. Сказать ему все — и тогда конец… Но сказать не решилась.
— Что же, Аля… Спасибо, что поиграла. Пойдем спать.
— Пойдем.
Она встала и отвернулась к двери, чтобы он не видел ее лица. Бледно прозвучал ее голос…
"Я как публичная женщина" — думала Валентина Петровна, — "утром с одним, ночью с другим… Но не могу же… не могу я…. Что мне делать?.. Его право!"…
Она с трудом прошла через столовую в спальню. Ноги не слушались ее. Раздевшись, лежа в постели, она ожидала мужа и тряслась, как в лихорадке.
"Я дрянь", — думала она. — "Встать, закрыть дверь на ключ… А будет стучать — послать к черту… к черту… к черту послать" — шептала она пухлыми губами, чувствуя, что вот-вот разрыдается! — "Ведь это же ужас один… Ну… там… любовь… страсть…. я понимаю… а здесь… долг… К черту!..
Над ее головой благоухал букет распустившихся за день роз. Валентина Петровна вскочила, и, не надевая ни халата, ни туфель, понесла его из комнаты… Ей казалось, что розы осудят ее.
В дверях она столкнулась с мужем.
— Что это ты? — спросил он.
— Слишком сильно пахнет. Голова болит, — сердито сказала она.
— Устала, верно?
— Да. Очень устала. Унеси в столовую… "Ничего не видит!.. Ничего не понимает" — думала она, прислушиваясь к шагам мужа. — "Ему все равно, в каком я состоянии… Что я переживаю… О, как он не чуток!.."
Ее лицо было бледно. Ужас, отвращение и ненависть легли морщинами к углам рта. Глаза были закрыты… Яков Кронидович не видел этого.
Он погасил лампу. Чуть теплилась у иконы лампадка…
— Теперь… уйди… — простонала Валентина Петровна, уже не скрывая своего отвращения. — Я устала… Спать хочу.
Едва он вышел, она зарылась головою в подушки, залилась слезами, вся содрогаясь от рыданий.
"Дрянь я… Ничтожная дрянь… Не смогла сказать теперь… Навсегда ложь… Навсегда так… Взлеты и падения… Я падшая женщина… Дрянь…"
Так и заснула ничком, на мокрой от слез подушке в сознании, что вошло в ее душу что-то ужасное и испортило жизнь навсегда.
XXXII
Четырехверстная скачка с препятствиями на Императорский приз и раздача призов за стрельбу из винтовок и орудий, за фехтовальный бой и за выздку лошадей завершала Красносельский лагерный сбор. После нее начинались подвижные сборы и маневры. Красное Село пустело.
Эта скачка безподобно, верно и точно, с мелочными переживаниями на ней ездоков и лошадей, описана графом Львом Николаевичем Толстым в романе "Анна Каренина". С тех пор — Толстой описывал семидесятые годы, — почти ничто в ней не изменилось. Только начиналась она не за речкой Лиговкой, которую скачущим у Толстого надо было переходить вброд, а в трехстах шагах от трибун, и прямо шла на батарею, или как ее называли по-прежнему — трибунен-шпрунг. Препятствия стали выше, солиднее, прочнее. Но за эти годы и сама кавалерия и взгляд в ней на спорт сильно изменились, и Петрик, в десятый раз перечитывавший описание скачек у Толстого, это особенно чувствовал.
У Толстого Вронский скакал так… между прочим. Имел деньги, купил готовую чистокровную лошадь и скакал на ней. Он и приехал на скачки за пять минут до посадки на лошадей. Он любил свою Фру-фру, он понимал ее, но разве была она для него тем, чем была Одалиска для Петрика!? Вронскому, если бы он взял приз — этот приз ничего не прибавил бы и ничего не убавил. Лишний случай кутнуть в собрании, покрасоваться собой. И то, что он сломал на прыжке спину лошади, для Вронского был тяжелый, но мимолетный эпизод, сейчас же заслоненный драмой его любви к Анне. Петрик, переживая все то, что пережил Вронский, даже не мог себе представить, что было бы, если по его вине погибла его Одалиска.
"Нет… лучше самому убиться", — несколько раз шептал он, прочитывая это меcто в романе и всякий раз волнуясь за Вронского.
"Сто раз лучше, чище, благороднее — самому". И он содрогался, читая, как лежала и не могла встать Фру-фру Вронского.
Петрик скакал не для денег. Он мог больше наработать денег, если бы скакал в Коломягах, но он скачки с тотализатором считал недостойными офицера. Там играющая, азартная толпа. Там крики браво, апплодисменты, там могут быть — и свистки. А ни апплодировать, ни свистать толпа не смеет офицеру.
Императорский приз заносится в послужной список офицера. Это отличие. Это награда. Это честь не только для офицера, взявшего приз, но это честь для его полка. Когда он, первым или вторым, подойдет к финишу — трубачи заиграют марш лейб-драгунского Мариенбургского полка — и все будут знать, что Мариенбургские драгуны взяли Императорский приз. Об этом будет напечатано в "приказе по Военному Ведомству", в "Русском Инвалиде" и в газетах — и вся Русская армия узнает, что в этом году Императорский приз взял штабс-ротмистр Ранцев лейб-драгунского Мариенбургского полка. И Петрику было важно не то, что он и есть Ранцев, а то, что этим прославится на всю Россию его полк, Мариенбургские драгуны! И это он их прославит.
Георгиевский крест, значок офицерской кавалерийской школы, медаль за спасение погибающих и императорский приз за стипль-чез — вот что с малых лет было мечтами Петрика. Не богатство, не власть, не любовь женщин, но эти четыре отличия, эти воинственные доказательства — храбрости, знания конного дела, жертвенной любви к ближнему и лихой удали — владели Петриком. Еще молил он у Бога об одном: умереть по-солдатски, на войне — "за Веру, Царя и Родину"…
У Вронского была большая любовь к Анне Карениной, и Каренина должна была быть на скачках.
Вронский принадлежал к Петербургскому свету, а люди этого света считали своим долгом быть на скачках. Вронский скакал на виду у своих.
Скромный Мариенбургский драгун Петрик никому не был известен. У него не было такой любви, какая была у Вронского, он, выходя в «холостой» полк, отказался от семейного счастья, но и ему хотелось, чтобы в этот большой для него день, — он понимал, что он и разбиться может — и для него светило его солнышко и чья-то пара глаз смотрела на него не совсем равнодушно. Вот почему, при всей его нелюбви к «литературе», он написал — и даже "со стишками" — Валентине Петровне, умоляя ее быть на скачках. "Госпожа наша начальница" — была прошлое. Петрик твердо блюл заповеди Господни и знал, что нельзя и преступно "желать жену ближнего своего". Алечка Лоссовская, королевна детской сказки Захолустного Штаба, была для него недостижимая мечта, Валентина Петровна Тропарева — запретный плод. Но в день триумфа, или гибели — Петрику хотелось, чтобы это ее глаза цвета морской воды встретили его победу, или проводили носилки с ним.
Петрик не знал, будет ли она на скачках или нет. Валентина Петровна ему не ответила. Мог это знать Портос, но с Портосом он не разговаривал. Портос был в партии, и Петрик гадливо сторонился его, как изменника.
У Вронского в день скачек было много дел — он заехал к своей Фру-фру только на минуту, предоставив ее попечениям тренера-англичанина — и это Петрику казалось ужасным. Петрик был сам и тренер, и конюшенный мальчик, и жокей для своей Одалиски. Для нее он, при тяжелой лагерной работе, вставал со светом и «тренировал» и сушил свою Одалиску. И за эти утренние часы, когда еще бледно Красносельское солнце, спят и Главный и Авангардный лагери, и над Дудергофским озером стелется туман, закрывающий деревню Вилози, а Горская кажется плывущей над ним, Петрик так сжился с Одалиской, что он не мог представить себе, как это можно день скачек, ее скачек, провести иначе, как не с ней?
XXXIII
Петрик решил отправить Одалиску с утра на скаковой круг и поставить там в конюшню, чтобы она имела время отдохнуть, успокоиться и «одуматься», как сказал ему его вестовой Лисовский.
Он пришел ранним утром к ней на конюшню, Одалиска только что выела свой овес. Лисовский, в мундире, при этишкете, разглаживал попону с капором.
— Одевать, что-ль? — спросил он офицера.
— Да, будем надевать. И поведем с Богом.
— Ну, Господи благослови, — сказал Лисовский, привычным движением рук накидывая легкую, суконную, черную с желтым, цветов полка, парадную попону на Одалиску.
Петрик помогал ему. Он вспоминал, как вчера генерал Лимейль говорил ему, чтобы он не думал о призе, а думал о том, чтобы "хорошо проехать"… «по-офицерски»… "И, смотрите, Ранцев", — говорил ему Лимейль, — "не вздумайте укорачивать стремена по-Слоановски, как это теперь некоторые завели глупую такую моду, или на препятствиях ложиться на шею, выставляя седалище, будто бы по Итальянской системе, — хотя и приз возьмете — под арест отправлю!.. Прежде всего будьте офицером, а потом жокеем… Да, победа за вами"…
Одалиска в капоре с длинными черными ушами, с прорезями для глаз, отороченными желтой тесьмой, казалась незнакомой. Точно дама в бальном наряде и маске. Она и правда казалась Петрику прекрасной женщиной, в которую он влюблен, отправляющейся на бал.
В том размягченном душевном состоянии, в каком находился сейчас Петрик, уже волнующийся предстоящей скачкой, нежно любующийся своей лошадью, — он хотел всем сделать приятное, сделать так, чтобы на где-то далеко внутри него слезами счастья дрожащиие какие-то струны отозвались в другом человеческом сердце и так же слезами задрожали другие струны.
— Лисовский, — окликнул он вестового, разбиравшего поводья выводной уздечки и готового вести лошадь.
— Чего изволите, ваше благородие?
— Ты ведь в ноябре домой?
— Так точно, ваше благородие.
— Что же, дома и невеста есть?
Лисовский сконфуженно посмотрел на Петрика. Не принято как-то было открывать эти нежные стороны солдатской души перед офицером, да еще в "холостом"-то полку, где чего не видал и не слыхал Лисовский за время службы.
— Припасена, — сказал он, не зная, как обернется дальше разговор и на всякий случай стараясь сгладить его какой-нибудь шуткой.
— Подарок везешь?
— Купил платок шерстяной из тех, что надысь вы мне давали.
— А что подаришь на свадьбу?
— Колечко хотел купить, как с охот возвернемся живы-здоровы.
— А что бы ты хотел ей?..
Лисовский не понял Петрика.
— Чего изволите, ваше благородие? — сказал он и повел Одалиску из конюшни.
Петрик пошел с ним.
Широкое военное поле казалось розовым в лучах восходящего солнца. Вдали темнела Лабораторная роща. На линейке Николаевского училища строились юнкера.
Так все это было далеко от маленькой деревни Витебской губернии, откуда был Лисовский. Из-за рощ авангардного лагеря, из-за оврага от Главного лагеря доносился дробный треск барабанов и игра маленьких флейт. Ничто не напоминало тишины Витебских лесов.
— А изба у вас готова? — допрашивал Петрик.
— Хорошую избу, родители писали, поставили в летошном году. Тесом крытая, о двух срубах.
— В ней и жить будете?
— В ней…
— Слушай, Лисовский… Ну вот, представь себе… Ну, чтобы, понимаешь, — полное благополучие…. Чего бы ты хотел?
Они шли, спускаясь к деревянному мосту через овраг у Константиновского училища. Лисовский не понимал, к чему клонит его «барин», и молчал.
— Ну вот, оженились, — стараясь говорить по-мужицки, говорил Петрик, — приехали, огляделись. Чего не достает?.. Чего бы вам обоим хотелось… В хозяйстве… Лошадь есть?
— Будет и лошадь, — сказал Лисовский. Он все боялся какой-то ловушки со стороны офицера. Хотя и не такой его благородие, — а все таки. Кто их, «господ», разберет!
— Чего же не достает? Чего желаете вы с невестой иметь в своем молодом хозяйстве?
— Коровы у нас нет, — хмуро и нерешительно сказал солдат.
— А почем у вас коровы?… Только отличные коровы?
— На Вздвиженье, 14-го сентября, у нас по соседству большая бывает ярмарка. Скота много пригоняют… Целковых за восемьдесят хар-рошую можно корову купить, — улыбаясь сказал Лисовский.
— Слушай, Лисовский… и знай… если она возьмет сегодня первый… даже второй, скажем, приз… Твои сто рублей… Посылай — пусть купят к свадьбе корову… На память о полку… и о ней…
— За что жаловать изволите, ваше благородие… Да это вы… так… поди… шутейно….
— Что ты, Лисовский!
Они, молча, поднимались по пыльной дороге, шедшей по косогору к церкви 1-й гвардейской дивизии. Их сапоги были одинаково пыльны и мягко позвякивали шпоры. Их лица разделяла странная в капоре голова лошади. Чуть похрапывала Одалиска, прислушиваясь к командным крикам на линейке главного лагеря. Впереди, зеркальным блеском, горело Фабрикантское озеро, отражая поднявшееся солнце.
Лицо Лисовского было смущено. Рука под подбородком лошади дрожала.
— Помилуй, Господь, — чуть слышно сказал он. — Не убиться бы вам сегодня…
XXXIV
Когда Петрик с Лисовским и Одалиской пришли на круг, конюшня была еще почти пустая. В ней стояло всего шесть лошадей офицеров, приехавших на скачки из провинции. Хорошо устроив Одалиску и навалив ей в денник выше колена соломы, Петрик вышел на поле.
Еще в будничном своем скучном и грязном, после вчерашних дождей, виде было скаковое поле. Но везде работали люди. Артельные полковые подводы с песком, с гирляндами зелени, с дерном, с шестами разъезжали по полю и по дорогам, ведущим к скаковым павильонам. Солдаты засыпали черные лужи песком, натыкали свежих березовых веников в валы препятствий, развешивали по шестам, наставленным вдоль дороги, идущей от полустанции «Скачки» к трибунам, гирлянды свежей зелени, вешали большие флаги на Царской беседке и на боковых павильонах.
Скупое Петербургское солнце, то проглядывало на лоскутах синего неба, то скрывалось за набегавшие тучи. Подувал свежий, напористый, не холодный ветер и нес запах морской воды с залива.
К пяти часам все изъяны были исправлены и скучные своею пустотою трибуны на пустом поле приняли праздничный вид. По бокам препятствий реяли большие квадратные желтые флаги. Дорога широкой песчаной лентой шла к царскому павильону. От Красного села на подводах, верхом и пешком, тянулись команды трубачей.
Трубачи расстанавливали пюпитры у финиша скачек и старший капельмейстер, собрав полковых капельмейстеров, обсуждал с ними программу и назначал, какому полку какой играть марш.
Конюшня была полна. Многим уже не хватило места, и на лугу подле конюшни вестовые держали лошадей в поводу.
Петрик весь день провел с донским есаулом Поповым, приехавшим на скачки с Австрийской границы. Они обошли круг, запомнили все выбоины и топкие места, потом долго сидели на лавочке подле конюшни, наблюдая за праздничным преображением скакового поля. Есаул был любитель спорта и лошади, что называется чистой воды. В нем не было сентиментальной любви к лошади, как у Петрика. Лошадь есть лошадь — он затратил на нее большие деньги, и она должна ему вернуть их с лихвой. Он был прекрасный наездник и природный знаток лошади и он умел выжать лошадь. Он скакал везде, где это позволяла ему служба: в Ростове и в Варшаве в Пятигорске и Новочеркасске, и теперь привел своего гнедого Балтазара завода княгини Хилковой в Красное на Императорский приз. И приз для него был прежде всего деньги, — и большие деньги, на которые можно купить кобылиц и завести на далеком хуторе маленький завод чистокровных лошадей… Его Балтазар был в великолепном порядке, и узкоглазый калмык, вестовой Попова, глядел за ним, как за принцем. Это был один из сильнейших конкурентов Одалиски. Попов знал всех лошадей, скакавших с ними, и каждую и каждого ездока разобрал до последней косточки. Он высоко ставил Петрика и его Одалиску — на первое, или на второе место — и это льстило Петрику.
— Вы как же, штабс-ротмистр, — говорил есаул, покуривая папироску из черешневого чубучка, — из каких будете, разобрать не могу, из «спорьсменов», или просто офицер — рубаха парень?
— А что вы называете спортсменами?
— Спорьсмены… а вот, к примеру корнет Ясинский, или барон Позен — вы их спросите, как они поведут — они тебе такой ахинеи наплетут — уму непостижимо, чисто арабские сказки — и все наврут, напутают, чтобы тебя с ума сбить. Потому, штабс-ротмистр, очень важно знать, что у твоего соперника на уме. Иной на скачке, со старта, сорвет, понесет, сломя голову, — эва, думаешь, дурак какой, а ничего не дурак. Это он нарочно, заприметил, что твоя лошадь заносистая, горячая, ндравная, так это он, в своей-то будучи уверен, — тебя сломать хочет. Мы с вами в больших шансах и мне интересно потому знать, как мне на вас смотреть? Спорьсмен вы, или нет? Можно вам верить?
— Я — офицер, — со скромною гордостью сказал Петрик.
— А как поведете? — поворачивая к нему загорелое, смуглое, широкоскулое голое лицо, спросил есаул.
Уже приходили специальные скаковые поезда и, останавливаясь у платформы, выпускали пассажиров. По усыпанной песком дороге, между зеленых гирдянд и шестов с Русскими флагами пешком и на извозчиках собиралась публика. Петрик увидал Валентину Петровну. Она ехала на извозчике с Яковом Кронидовичем. Петрик заметил легкую огромную плоскую шляпу цвета старой слоновой кости, перехваченную широкой бархатной лентой блеклого серо-голубого цвета. Пучок ярких алых роз красовался на ней. В этой светлой раме поразительно нежным, девственно прекрасным показалось ее лицо. Петрик поклонился им, но ни она, ни Яков Кронидович не заметили его, заслоненного толпою, лошадьми, гирляндами и флагами. Сердце Петрика сжалось от приступа чистой, святой любви. В голове зазвучала та прекрасная музыка, в звуках которой она ему так запомнилась.
— Знакомых приметили… У меня… никого… — вздохнул есаул. — Так как же поведете-то?
— Я, — восторженно блестя вдруг загоревшимися глазами, воскликнул Петрик. — Largo!
— Чего-й-тa? — наклоняя к Петрику бурое волосатое ухо, переспросил есаул. — Не дослышал я вас, что ли?.. Кентером что-ли, собачьим наметцем поведете?
Весело, откровенно, подкупая блеском горящих счастьем глаз, отвечал Петрик:
— Медленно… плавно… не думая о других… да… свободным кентером…. без посыла, как она сама возьмет.
— Ну те-с? — загораясь его оживлением и выдувая из чубука окурок, сказал есаул.
— А потом!..
— А потом?… На той стороне? — сказал Попов.
— Перед валом с канавой…
— Совершенно точно… перед валом с канавой.
— Прибавлю… незаметно и сильно!
— Так, так, — кивал головою есаул, — ну те-с? дальше?
— На канаву с водой — полным ходом, но без посыла, как сама возьмет. И потом… Что Бог даст! К первому месту, — вздыхая, договорил Петрик.
— Позвольте пожать вашу благородную руку, штабс-ротмистр! Я с вами… Как это вы… без хитрецы и обмана!.. Так, как это все называется-то?
— Largo! — улыбаясь, сказал Петрик.
— Ну…вы лярьго и я лярьго. Вижу, что офицер вы, а не спорьсмен!
От Красного Села, откуда шпалерами до самых скачек стояли, в рубашках и белых безкозырках, солдаты Кирасирской дивизии, раздалось ура. Оно, разгораясь, быстро катилось к скачкам.
Государь Император подъезжал к Царской беседке. Игравшие какое-то попурри трубачи смолкли. Часто зазвонил колокол, приглашая офицеров первой скачки садиться на лошадей.
XXXV
Валентина Петровна, найдя тон обращения с мужем, решила держаться его в своем новом положении. Из обвиняемой своею совестью — она поставила себя в обвинительницы. Все то, что с нею произошло, ее увлечение Портосом, ее измена мужу, произошло не потому, что она дрянь, падшая женщина, как сгоряча назвала она себя в день приезда из Энска Якова Кронидовича, а потому что ее муж не может ей быть мужем. В силу своей страшной профессии он ей противен и ужасен… Нужен развод… Об этом она еще не переговорила с Портосом, но ей было ясно, что это единственный прямой, честный и законный выход, а пока?… Пока оставалась — ложь. И Валентина Петровна забронировала себя легким тоном веселящейся женщины, занятой нарядами, светскими развлечениями и чуть презрительно-покровительственно относящейся к своему старому мужу. Сейчас не он ее «вывозил» на скачки, но она везла своего «байбака», но очень ученого, очень уважаемого мужа на скачки, в свет, и заранее извинялась за его оригинальность.
В дорогом платье от Изамбар, сшитом по ее заказу из лёгкой материи такого же цвета, как и шляпа, — желтовато-сливочного, с рукавами до локтя, расшитом толстым выпуклым гипюром все того же цвета, схваченным у пояса толстым шелковым шнурком с длинными концами с кистями, в длинных шведских перчатках, плотно облегавших ее красивые, в меру полные руки, она была великолепна.
Она уже с извозчика увидала Портоса, стоявшего на легкой галерее, шедшей вдоль лож. Она боялась одного — быть первой. Но в то время, когда она скидывала на руки Якова Кронидовича накидку, к трибунам легкой побежкой плавно подбежала пара прекрасных вороных Ганноверских коней с резаными репицами и мягко подкатил высокий дачный кабриолет. В воздухе послышался благородный запах экипажа, чуть разогревшихся лошадей, дегтя и кожи, к нему примешался запах духов и прелестная Вера Константиновна Саблина расцеловалась с Валентиной Петровной.
И едва лошади отошли от входа на лестницу, как, воняя бензином и грозно фырча, подкатила последняя выписанная из-за границы модель — громадный, открытый, четырех-цилиндровый автомобиль Клеман-Баяр, с закрытыми по новой моде боками, с зеркальным стеклом спереди, и из него шумно стали вылезать генерал Полуянов — он сам и правил машиной и теперь отдал ее подбежавшему шоферу, — Барков с женою и Стасский.
Стасский был неузнаваем. В щегольском летнем английском костюме, в башмаках с белыми гетрами, он точно соскочил с английской гравюры. Тяжелый Владимир 2-й степени выглядывал из-под галстуха. Недаром он был первый ум России — он знал, как куда одеться и где как себя держать. Наверху у ложи их встречал Портос, в «защитном» кителе, в ременной аммуниции при шашке и с большим пуком красных и белых гвоздик. Саблина в драгоценном, из заграницы выписанном специально для этих скачек, костюме из шелка blеu-Nattiеr, серо-голубом, но не холодном, похожем на поблекший высыхающий василек, с юбкой в плоских длинных складках и жакетке, распахнутой на груди и застегнутой у пояса одной большой фарфоровой пуговицей со старинным узором, в полудлинных рукавах, с обшлагами и воротником из тонкого тусклого, золотого кружева, в шляпе из белой соломы, подбитой черным бархатом, с букетом темно-пунцовых роз, была прекрасна. Юбка доходила до щиколотки и из-под нее выглядывали башмачки из шевро с тоненькими перепонками и блестящими из резной стали пуговками. Она была так моложава в этом платье, что никто не сказал бы, что рослый красавец паж и стройная девочка, уже почти девушка, сопровождавшие ее, были ее дети.
— Что это вы, Пог'тос, — весело обратилась она к офицеру, — точно цветочница… Цветами тог'гуете.
— Возьмите, сколько хотите?
— Нет… К моему платью не пойдут… Слишком г'езкие цвета. Дайте Тане.
Таня, ее дочь, вспыхнув до шеи, робко взяла несколько белых гвоздик. Портос подошел к Валентине Петровне.
— К вашему, Валентина Петровна, они как раз подойдут, — сказал он, держа в правой руке красные и в левой белые гвоздики, и значительно глядя на Валентину Петровну. — Выберите, сколько каких хотите.
Валентина Петровна смутилась. Сильно покраснев, она чуть дрожащими руками, точно обдумывая и соображая что-то, взяла две алые и пять белых гвоздик и неловко стала прикреплять их за пояс-шнурок своего платья. Таня ей помогла.
В ее глазах застыли испуг и растерянность. Но никто не заметил этого. Четыре хора трубачей разом, согласно грянули Русский народный гимн, и публика, теснившаяся по галерее, жидко и нестройно закричала ура.
Государь Император с Императрицей и детьми на громадной сильной машине, управляемой полным краснощеким полковником в свитской форме, легко, плавно и безшумно взявшей гору, подъезжал к Императорскому павильону скачек. Генералы и офицеры, члены скакового комитета и среди них заметная, высокая, благородно-осанистая фигура Великого Князя Главнокомандующего, встречали их на каменном крыльце павильона.
XXXVI
Ура и "Боже царя храни" гремели, разносясь по широкому полю. Где-то ржали тревожно и безпокойно лошади. Солдаты, крестьяне окрестных деревень и дачники, собравшиеся на той стороне поля и пестрыми группами стоявшие вдоль канавы, подхватили ура, и оно, точно эхо, перекидывалось и перекликалось отголосками.
На галерее у лож офицеры стояли, держа руку у козырька, штатские были без шляп, дамы звонко кричали ура. Здесь особенно звучными казались громы оркестров, отражавшиеся о тонкие досчатые стены лож. Под ними стояла машина Государя, и видно было то маленькое замешательство, какое бывает всегда при выходе из автомобиля или экипажа.
Стасский, стоявший между Полуяновым и Саблиным, говорил под шум криков и музыки.
— Вот где, а не в государственной думе, не в ответственном перед нею и ею избираемом министерстве, конец самодержавию.
— То-есть? — спросил Полуянов, небрежно державший у козырька руку в коричной кожаной перчатке.
— В этой машине.
— Ну этого я никак уже не понимаю, — пожал плечами Полуянов.
— Русский Государь является народу. Здеcь солдаты… Здесь немудрые сердцем офицеры… Ну и явись, как подобает Русскому Царю… Напомни старое… Золоторизное византийство какое-нибудь… Чтобы в носу защекотало и слеза на глаз проступила. Самодержец!.. Или верхом на каком-нибудь особенном этаком коне, или еще лучше на тройке таких лошадей, что говорили бы сердцу, в драгоценнейшей сбруе, с таким ямщиком кучером, что дамы сразу сердца бы потеряли, подкати, выйди… поздоровайся… Это, как корона… Это та красота, которую Русский народ так любит и ценит. Машина, следующая ступень — штатское платье — это царь без короны, царь без венца… Не венценосный монарх — уже не монарх…
— Это цивилизация, — сказал стоявший сзади Яков Кронидович. У него по щеке катилась слеза умиления.
Стасский обернулся к нему и презрительно прищурил глаза.
— Цивилизация исключает самодержавие. Мы это поймем. И машину, и штатское платье, и цилиндр будем приветствовать… Но только тогда мы самого самодержавия не оставим. Народ? Нет, народу подавай то, что веками отложилось в его сердце. Царь есть царь, а не президент, не американский миллионер, не банкир и не инженер с фабрики… Это рабочим — а не крестьянам… Да еще Русским, которые большие знатоки и ценители этого… Коня и запряжки!
Государь с семьею прошли внутрь павильона, и публика стала размещаться по ложам.
— Вы думаете, — первым за дамами входя в ложу, продолжал Стасский, — вы думаете, Государя все эти — он пренебрежительным жестом показал на теснившийся на балконе Императорской беседки генералитет — поддержат в случае чего?.. Его опора — крестьяне и офицеры, близкие к крестьянам, которые попроще… а этим… интеллигенции-то в мундире, или без мундира, заласканной ли царем, или им пренебрегаемой… этим французская революция в зубах навязла. Вот он, — Стасский глазами показал на Портоса, — значок академический нацепил и уже — Бонапарт!.. А народу — царь в антихристовой машине, что по деревням собак, кур, и детей давит — уже не царь… Великий князь, торгующий вином, не великий князь… Митрополит в пиджаке, на мотоциклетке и без колокольного звона — не митрополит… А, Боже сохрани, если кто из Царской фамилии осквернит свои белые ручки работой?! Мы не американцы какие-нибудь, чтобы у нас священен и благословен был труд — у нас труд — проклятие Божие за Адамов грех, труд каторга, и не труженика, а благостного, прекрасного полубога хочет народ видеть в царе… Увы, самодержавие умирает и отсыхает само собою, и уже не первое царствование. Император Николай I был последний самодержец. А потом… Катилось под горку… Да… под горку-с… И докатилось до Думы и царя в немецкой машине… Настоящая-то Россия дика, очень еще даже дика… Возьмите-ка от лопаря до курда, и от белорусса до монгола — ну-ка, поймут они машину?… А тройку бы поняли! Мы — Азия…. Если Самодержавие — то Византийство… А если пошли в Европу… так там… республика и безбожие.
— Что же, Александр Николаевич — сказал Полуянов, трогая под локоть Саблина — вы не возразите Владимиру Васильевичу? Ведь он, поди, ересь проповедует!..
— Что делать, ваше превосходительство, — тихо сказал Саблин, — но я принужден во многом с Владимиром Васильевичем согласиться… Вывеска говорит о товаре…
Он скрестил на груди руки, опустил прекрасную, породистую голову, и так простоял все время скачек, безучастный ко всему и грустный.
XXXVII
Императрица в большой, белой шляпе, не шедшей к ее лицу, в длинном белом строгом платье стояла у перил балкона беседки и видимо волновалась. Ей предстояло сейчас раздавать призы наездникам за выездку лошадей. Призы — серебряные часы с золотыми орлами и тяжелыми серебряными цепочками, в кожаных футлярах — лежали на большом подносе перед ней. Великий князь и генерал-инспектор кавалерии, генерал Остроградский стояли подле, чтобы помогать ей. Государь стал за нею.
Трубачи перестали играть. Крики и говор в ложах и трибунах смолкали. Зрители, приподнимаясь на носки, вытягиваясь, старались лучше разглядеть, что происходило в Царской беседке.
Шесть полковых наездников-призовиков, на молодых ими выезженных, нарядных, очень кровных лошадях стояли против и несколько левее беседки. Лошади, взволнованные музыкой, криками, движением и шумом, топтались на месте, мотали головами, встряхивая гривками и грызли железо мундштуков и удила. Наездники, бравые, красивые парни — унтер-офицеры, в новеньких зеленовато-серых рубахах, первый раз надетых, хранивших еще жесткие складки, при амуниции и при винтовках, мягко сдерживали лошадей.
— Пожалуйте являться, — раздался властный голос Великого Князя.
На поле сразу стало так тихо, что слышно было, как рипели новые седла и мягко позванивали начищенные, серебряным блеском горевшие шпоры.
Молодцеватый лейб-улан со смуглым загорелым, молодым лицом, с нежными, едва пробившимися кисточками усов на верхней губе, мягко обжал лошадь ногами в тугих голенищах и послал ее вперед легкой танцующей побежкой. Он заставил ее подойти к самому краю ложи и стать боком к Императрице. Лошадь, кося до порозовевшего белка прекрасным черным глазом на ложу, поводя ушами, стала напряженно-спокойно.
Унтер-офицер отчетливо с неуловимо-милым мягким малороссийским выговором рапортовал:
— Лейб-Хвардии Уланского Вашехо Императорскахо Вылычыства полка унтер-охвицер Коцюба…. Конь Ленчик, завода Остроградскахо.
Слышно было, как в ложе Великий Князь, вполголоса спросил генерал-инспектора кавалерии:
— Вашего?
И тот негромко ответил:
— Моего, Ваше Высочество.
Императрица, вспыхнув пятнами по вискам и щекам, взяла поданные ей часы и протянула их наезднику. Унтер-офицер ловко принял часы и, нагнувшись, поцеловал руку Императрицы.
Императрица хотела спросить что-то, но замялась, смутилась и улыбнулась. Громко и спокойно спросил за нее Государь:
— Сам, молодец, вызжал лошадь?
— Так точно, ваше Императорское Вылычыство, сам объезжав коня.
— Какой губернии?
— Полтавской, ваше Императорское Вылычество.
— С дома возишься с лошадьми? Ездил дома?
— Да звисно издив… С хортами по стэпу издыв.
— А, борзятник! — сказал великий князь Главнокомандующий, — что же, повозился с нею? — и он, шутя, подтолкнул генерала Остроградского — Поди — ндравная была лошадь?
— Да трошки помучывся, ваше Императорское Высочество.
Великий Князь сделал знак унтер-офицеру, тот тронул лошадь и красивым, коротким галопом поехал с поля.
На его меcто, упруго покачиваясь в седле, выдвинулся на громадной гнедой лошади рослый, светлобровый и светлоусый кавалергард.
Валентина Петровна, стоявшая с края ложи, переживавшая дни своего детства и с волнением глядевшая на Императора и Императрицу, услышала отчетливый рапорт солдата, говорившего с польским оттенком.
— Кавалергардского Ее Императорского Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полка унтер-офицер Тройницкий. Кобыла Лилия, завода Сопрунова.
Золотисто-гнедая, широкая лошадь стояла покойно. Монументом сидел на ней солдат. Валентина Петровна слышала его короткие ответы на вопросы Государя.
— Калишской… Рабочий… В Офицерской Кавалерийской Школе… По своей oxoте….
Она не слышала дальше. Вопросы и ответы заглушил брюзжащий голос Стасского.
— Все-таки — прекрасен… Я понимаю царистов… Видал я президентов на скачках в Лоншане и grand Palais, их безукоризненные цилиндры и черные пальто… Видал и короля английского в широком цилиндре… ах не то… не то… Это перед нами века воспитания и царственной деликатности… А как хорош Великий Князь!.. Какие они подлинные рыцари и кавалеры Императрицы… Да… уходящие века… Прошедшие векa… Прекрасные века…
— Почему пг'ошедшие?.. Почему уходящие?.. Г" гядущие! — картавя, спросила Саблина. — Всегда, ныне и п'гисно…
— Да, если бы да так, — сказал, вздыхая Стасский. — "Прочее о Манассии и обо всем, что он сделал, и о грехах его, в чем он согрешил, написано в летописи царей иудейских". Написано в летописи царей иудейских, — чуть слышно повторил он, поглядывая на Якова Кронидовича… — И эта летопись кончилась. Всему есть, был и будет конец… Ибо делает он, сам того не ведая, — неугодное Господу.
На минуту в их ложе стало напряженное, неловкое молчаше. Точно незримое заглянуло туда время и приоткрыло будущее….
XXXVIII
В Императорском павильоне продолжалась трогательная близость Государя к офицерам и солдатам, показавшим себя прекрасными стрелками и фехтовальщиками. Государь, далекий и таинственный, становился близким, тонко понимающим солдатское дело. Там происходило то, рассказы о чем в далеких и глухих деревнях великой России творили светлую легенду о Царской милости.
Государь поднялся во второй этаж павильона. В просторном покое стояли, выстроившись в шеренгу, офицеры и солдаты, взявшие призы на летнем состязании за стрельбу. Эти призы состояли из золотого, или серебряного императорского вензеля, набиваемого на шашку или на приклад винтовки, и денег для офицеров, а для солдат из серебряных часов и значка с перекрещенными ружьями на них.
Государь обходил их ряды, брал мишени и смотрел попадания. Сам отличный стрелок, он взглядом знатока осматривал большие круглые картоны.
— Квадрат четыре! — сказал Государь, обращаясь к немолодому капитану стрелку. — Да вы, Агте, себя навсегда зарезали.
— Так точно, Ваше Императорское Величество, остается теперь из ноля и единицы не выйти.
Государь дал замечательную мишень Великому Князю и ее стали передавать из рук в руки.
Солидные, крепкие великаны фельдфебеля гвардейских полков, с туго подтянутыми поясами животами, с цепочками из ружей призовых часов, с красными разъевшимися лицами, бородачи, красавцы, и рядом с ними высокие, стройные солдаты-гвардейцы и тут же маленькие армейцы, все стояли, едва дыша, ожидая, когда к ним подойдет Император. А Государь шел, останавливался, брал в руку мишень, говорил два, три милостивых слова, передавал призовые часы и переходил к следующему. Он был стеснен временем, и он знал это. Он знал, что впереди — семь скачек и все должно быть окончено к семи с половиной часам. Но когда видел особенно счастливое лицо, непринужденную улыбку первый раз стоявшего перед ним солдата, когда строго заученные, трафаретные, уставные солдатские ответы вдруг срывались на простодушно-интимные, мужицкие, мягкая улыбка появлялась на лице Государя, стальной блеск голубым огнем сиявших серых глаз смягчался, и Государь задерживался дольше. "А ну?… а ну?" — точно говорили его смеющиеся глаза, — "вот ты какой!.. а ну! поспорь, поспорь с Государем". В Свите, тесно обступавшей Царя, было смущение. Командир полка краснел до бурой шеи и, сжимая брови, немыми движениями щек и губ грозил разболтавшемуся солдату, а тот никого и ничего не видел, кроме Государя, кроме его доброго лица, и ему так хотелось доказать свою правоту перед самим Царем, так хотелось навсегда "по гроб жизни" унести его образ в самую глушь своей затерянной в лесах губернии.
Маленький, крепкий солдат Самарского полка, настоящий «землеед», "пехота не пыли", коренастый, ловкий, на диво выправленный, стоял против Государя. Зеленоватая рубашка с белой тесьмой вдоль пазухи не шевелилась. Дыхание ушло вовнутрь. Государь, взявший его мишень, рассматривал попадания. Четыре пули можно было ладонью накрыть, все около ноля, пятая ушла вправо.
— Эк куда запустил, — отдавая мишень солдату, сказал Государь. — В седьмой номер! Весь квадрат испортил. Рука что-ли дрогнула?
— Ничего не дрогнула, Ваше Императорское Величество. — У меня не дрогнет, не бойсь… Не такая у меня рука! — бойко ответил солдат. Вся крепкая его фигура с сильными руками как бы подтверждала его слова.
— Однако, пуля-то почему-нибудь ушла у тебя в седьмой номер? За спуск что-ли дернул?
— Это я-то дерну?.. Да побойся ты Бога… Я за белками с измальства хожу… И я дерну!
С командиром полка был готов сделаться удар. На лице Государя сияла его необычайная, несказанно добрая улыбка.
— А вот и дернул!.. — подсмеиваясь над солдатом, сказал Государь.
— Нет, не дернул я… А так толконуло что под руку… Нечистая сила толкнула. Он — враг-от, силен!.. Без молитвы пустил.
— Вот это и есть дернул… Ты какой же губернии?
Сразу становясь серьезным, солдат быстро выпалил:
— Олонецкой, Ваше Императорское Величество!
— Ну, спасибо… Все-таки отличный квадрат — и Государь передал охотнику на белок коричневый футлярчик с часами.
На кругу звонил колокол. Офицеры, скакавшие на первой, двухверстной гладкой скачке, выезжали на круг и проминали, проскакивая мимо беседки лошадей. Государь ускорил раздачу призов за стрельбу и фехтование.
XXXIX
Скачек было несколько. Но, так как на них не было игры и тотализатора, они проходили очень скоро одна за другой. Весь интерес сосредоточивался на последней скачке, большом четырехверстном стипль-чезе. Скачками казаков Лейб-Гвардии Казачьего, Лейб-Гвардии Атаманского и Лейб-Гвардии Сводного Казачьего полков и Собственного Его Величества Конвоя интересовались только офицеры этих частей, знавшие каждого казака. Казаки скакали кучно. Дистанция — одна верста — была мала и шли от места до места в посыле, в плети.
Перед большой скачкой на трибунах, шумевших говорливой толпой, занятой самою собою, разглядыванием дамских туалетов, да очередными городскими и лагерными сплетнями, стало тише. Как-то значительнее показались стоявшие в разных концах поля лазаретные линейки с холщевыми занавесками с красным крестом и врачи и фельдшера с белыми повязками на рукавах.
— Вы на кого бы поставили? — сказал генерал Полуянов, обращаясь к Саблиной, углубившейся в афишу.
— Я не знаю… — обернула к нему оживленное, счастливое лицо Вера Константиновна. — Очень хо'гош Капог'аль под Смоленским уланом…. Я де'гжу за него….
— А вы, Валентина Петровна?
— Я за Петрика!
И Валентина Петровна вопросительно посмотрела на Портоса.
— Никогда он не возьмет первого приза, — решительно сказал Портос. — Никогда и нигде он первым не будет!.. Везде вторым… или третьим… И на скачке тоже.
— Почему вы так думаете? — сказал Яков Кронидович. Ему почему-то стало обидно за Петрика.
— Чтобы быть первым, надо иметь наскок… нахальство… решимость… у Петрика этого нет. Он мягок для этого.
Стасский внимательно посмотрел на Портоса и, взяв Полуянова под локоть, шепнул ему: — "вот этот везде первый… Бонапарт! С большим наскоком!"
— Я все-таки за Петрика! — сказала Валентина Петровна.
— Как угодно… Вот вам бинокль… Петрик как раз выезжает на круг… А вы, Вера Васильевна?
— Я никого же не знаю… Я за… Вон за ту… вон желтая лошадь под маленьким офицериком с симпатичными усиками.
— Извольте… За корнета Ясинского… на Мармеладе. Никогда не возьмет. На фукса хотите!
— Какое вкусное имя! — сказала Саблина.
— Вы, Татьяна Александровна?
Таня смутилась… Она, подражая матери, то шарила глазами по афише, то смотрела на выезжавших на круг офицеров.
— Я… тоже… за Ранцева… как Валентина Петровна… — робко сказала она, мило красная.
— Идет… Кто угадал — коробка конфет за счет тех, кто не угадал.
— Позвольте, — сказал Барков. — Почему же одни дамы. И мы хотим…. На ящик сигар.
— Пожалуй поздно, Ваше Превосходительство, сейчас пускают.
— И не все ли равно, — сказала Bеpa Васильевна, — ведь за проигравших платят мужья.
— В таком случае я предлагаю двойной тотализатор, — сказал Портос.
— Это что такое? — спросила Bеpa Васильевна.
— Это значит, что коробку конфет получают безразлично — пришла лошадь первой, или второй.
— Отлично… Хо-г'ошо пг'идумано, — сказала Саблина.
— Куда же они поскачут? — спросила Bеpa Васильевна.
— Прямо на эту постройку, что перед нами, — сказал Портос.
— И ее будут прыгать?!.. И канаву?
— С нее через канаву.
— Ужас!
— Безумие, — подтвердил Портос. — Почему я и не скачу. Предоставляю другим ломать шеи.
Валентина Петровна в большой бинокль Портоса разглядывала Петрика. При полной амуниции, с нахлобученной на уши смятой фуражкой, с опущенным подбородным ремнем, с тяжелой шашкой — он казался худее и меньше. Его Одалиска с поджарым животом, точно не касавшаяся земли тонкими ногами, странно напоминала Валентине Петровне ее Диди. Петрик ехал, глубоко засунув ноги в стремена и свободно сидя в большом строевом седле со вьюком. Он отдавал честь Государю и смотрел в сторону от ложи, где была Валентина Петровна. Выехав на «дорожку», он повернул лошадь налево, и едва заметным движением поводьев бросил Одалиску, — и она легко и неслышно поскакала по низкой потоптанной траве. Она шла, как лесная коза, и ее упругий галоп еще больше напомнил Валентине Петровне ее левретку. И почему-то воспоминание о любимой собаке сжало ее сердце и наполнило его нежной любовью к милому Петрику.
"Господи!" — мысленно помолилась она, — "Пошли ему удачу!"…
Двенадцать офицеров, в порядке номеров вытянутых ими жребиев, выстраивались поперек веревки в трехстах шагах от батареи.
Черноусый молодцеватый генерал, на рослом вороном хентере, их равнял. Разволновавшиеся лошади вырывались вперед. Серая гусарская Кадриль задирала голову кверху и выскакивала, визжа. Сердито ржал могучий рыжий Флорестан под конно-артиллеристом. Давившие его с боков кобылы волновали его.
Два раза срывали старт.
— Господа… Попрошу назад, — говорил генерал с поднятым синим флагом в руке, ездивший подле них внутри круга. — Корнет Пржеславский, не выскакивайте….
В трибунах повставали на скамьи. Дамы стояли, опираясь на плечи офицеров. Все головы были обращены к месту старта. Волнение скачущих незримо передавалось в публику.
— Обратите внимание, — говорил Стасский Якову Кронидовичу. — Достойно изучения. Психологический момент… Массовая психология…. А… наблюдайте!..
И в полной тишине тысячной толпы кто-то облегченно выдохнул: "пошли!"…
XL
Горячий ветер дохнул в лицо Петрику. Словно в тумане и, как бы во сне, он увидал мелькaние резко опущенного синего флага. Петрику показалось, что от напора ветра фуражка слетит, и он нагнул голову и зажмурил глаза. Фуражка крепко держалась подбородным ремнем. Это продолжалось одно мгновение. Он сейчас же открыл глаза. Их застилала слеза, но и она высохла. Поле быстро бежало ему навстречу и с ним надвигался на него громадный желто-зеленый полуторасаженный вал батареи. Петрик несся на него полным махом Одалиски, увлеченной горячими соседями. Он подумал: — «largo». Или, может быть, это слово ему сказал вдруг очутившийся рядом с ним есаул Попов? Он видел его красные казачьи лампасы и как он, скрипя зубами и скосив глаза, сдерживал своего громадного гнедого жеребца. Петрик набрал повода и легко сдержал прекрасно выезженную Одалиску. Она пошла мерным, широким галопом и компания, лошадей пять, стала быстро уходить вперед. Теперь перед Петриком и есаулом реяли рыжие, черные и белые хвосты, мелькали, точно серебряные, подковы задних ног и видны были всадники, нагнувшиеся к шеям лошадей. Справа их обошел маленький, крепко сбитый Смоленец на караковом жеребце. Он обошел на пол-корпуса и пошел тем же махом, каким шли Петрик и казак.
Петрик смутно видел, как горячая гнедая Победа, шедшая в передней группе, вместо того, чтобы вспрыгнуть на батарею, взвилась козой, делая неестественно громадный прыжок, стараясь перепрыгнуть ее всю, зацепила за гребень ногами и, обрушивая дернины и куски земли, в облаке пыли грузно полетала в канаву. Точно через заложенные уши он услышал, как ахнула трибуна, и в тот же миг батарея надвинулась на него.
Bсе трое: Белокопытов, Петрик и есаул сдержали лошадей, и их сейчас же нагнала еще группа.
Петрик не заметил, как Одалиска вскочила на батарейный вал. На миг черным широким пространством мелькнула канава. Показалась неодолимо широкой. Вправо, комочком, согнувшись, лежал на земле офицер. Порожняя лошадь скакала, болтая крыльями седла и стременами вдоль трибун. Одалиска перепрыгнула канаву и точно передала Петрику свое спокойствие и сосредоточенность. Он теперь не видел ничего, и ничего не замечал, кроме того, что касалось его и Одалиски.
Белый забор мчался навстречу. Подле него закинулся вороной Гандикап и стал поперек забора, мешая прыгать, пришлось взять правее, теряя веревку. Одалиска и Капораль Белокопытова покрыли забор, прыгая много выше; чуть стукнул о него копытами гнедой Попова.
Круг загибал плавною дугою влево. На повороте перескочили вал. Петрик не знал — прибавили-ли они хода или шедшая впереди группа стала ослабевать, но они быстро нагнали ее и на мгновение смешались с нею. Молоденький худощавый конноартиллерист неумело, не в такт скока лошади посылал ее руками и шпорами, а она, уже выдохшаяся на первой версте, не шла на его посыл. Одно время лейб-гусар на серой короткохвостой кобыле держался рядом с Белокопытовым, но и он отстал. Теперь они шли трое впереди всех — и перед ними, уже никем не заслоненное, открывалось скаковое поле с его препятствиями.
Двое стало нагонять их. Петрик по могучему маху догадался, что это шел «Мазепа» под гвардейским драгуном Мохначевым и «Гимназистка» под лейб-уланом Годиско.
Они вышли на дальнюю прямую, и грозный вал с канавой сзади, утыканной вениками с засохшими темными листьями, стал надвигаться на них. Петрик послал поводом лошадь. Казак ловко, в раз, щелкнул своего жеребца под тебенек плетью и они пошли полным ходом. Но их легко обогнали драгун и улан. Они шли в растяжку и перелетели через вал с канавой шутя. Белокопытов выдвинулся вперед, Петрик видел, как он пристально и, показалось Петрику, мрачно, посмотрел на обогнавших, но не выпустил своего порывавшегося вперед каракового жеребца.
Но они все-таки прибавили. Всем своим телом Петрик слился с Одалиской. Он чувствовал, как она, то напрягая вперед, то прижимая к темени уши, следила за шедшими впереди рыжею и гнедою лошадьми и не ослабевала вниманием к шедшим назади.
Они шли теперь на широкую канаву с водою и, казалось, лошадям не взять ее. Перед ними прыгнули улан и драгун. Драгунская лошадь как-то осела задними ногами на канаве, припала к земле, но справилась, однако, должно быть, ушибла ногу и потеряла ход. Петрик, Попов и Белокопытов все так же вместе, дружным прыжком перескочили канаву, прибавили хода, загибая на повороте и стали настигать улана. Тот уже порывисто бил лошадь шпорами.
Одалиска неслась вихрем, и ее рыжая, в золото отливающая грива, горела пламенем над ее шеей.
Между нагнувшимся вперед Петриком и уланом Годиско завязалась борьба и, уже на повороте Петрику удалось обогнать рыжую «Гимназистку». Белокопытов и казак чуть-чуть приотстали и Петрик первым несся на плетень, выходя на прямую, к финишу скачки…
XLI
Валентина Петровна в бинокль Портоса следила за Петриком. Скачка ее волновала. Она поставила на Петрика свою судьбу. Отобрав у Портоса из пучка цветов две алые и пять белых гвоздик, она тем самым в присутствии всех, в присутствии мужа назначила свидание Портосу у него на квартире. Две алые гвоздики означали второй день недели, послезавтра, во вторник, пять белых — пять часов дня. Будет шампанское, что-нибудь необыкновенно тонкое и вкусное, ликеры, цветы… и потом… Все будет, как уже было за эту неделю после их свидания в Луге не раз. Она загадала, — если с Петриком что-нибудь случится, если он придет где-то в хвосте, "без места" — это будет значить, что ей надо бросить эту связь и всею дальнейшею жизнью заслужить прощение. Если Петрик придет первым, это будет обозначать, что Господь простил ее любовь… И она, то краснея, то бледнея, следила за скачкой с сильно бьющимся сердцем.
Перед нею тяжело упала лошадь, и офицер, скатившись с нее, лежал неподвижно. Потом лошадь встала и понеслась за скачущими, и стал подниматься офицер. Какая-то женщина, внизу в трибуне, истерично, в азарте кричала:
— Алик!.. Алик!.. садись… садись… Алик! — Но лошадь ускакала, и офицер, шатаясь и смущенно улыбаясь, без фуражки пошел навстречу бежавшему к нему врачу.
В это время Петрик, красиво сидя на своей рыжей лошади, взял батарею и перепрыгнул канаву. У Валентины Петровны отлегло на сердца. Она безумно хотела, чтобы Петрик пришел первым. Тогда она была бы оправдана. Она сознавала, что это глупо. Придет Петрик первым, или расшибется на препятствии — все равно она грязная, падшая женщина, дрянь, которой нет ни прощения, ни оправдания. И тут же спешила себя оправдать. У кого из ее знакомых нет связи? Разве только у этой почтенной матроны Саблиной, но у нее дети! Может быть, если бы у нее были дети — и она бы удержалась… Дети?!! … От него?.. Пахнущего трупом?…
На дальнем валу кто-то из офицеров упал и не встал. Лазаретная линейка скакала туда. Она даже не обратила внимания на это. Петрик шел третьим.
Улан, драгун, Петрик и рядом с ним Смоленский улан и казак. Кто возьмет? Еще так далеко до конца!
Одним ухом она ловила слова.
— Встает… Нет… Ногою задрыгал… Кончено… На смерть…
— Вот скачут с докладом.
Глазами она следила за Петриком — он обгонял лейб-драгуна, замявшегося на канаве; ухом ловила доклад прискакавшего от препятствия штаб-офицера.
— Поломаны ребра и нога…
— В сознании?
— Пока без сознания, Ваше Императорское Величество… — И кто-то сзади в свите сказал успокоительно:
— Ничего… Отойдет… Где лес рубят, щепки летят.
— Он холостой? — спросил Государь.
— Не могу знать, Ваше Императорское Величество.
И сзади Государя сказали: -
— Женатый. В этом июне женился.
Валентина Петровна слышала слова, но не понимала их страшного смысла. Она жадными глазами следила, как скачущие выходили на прямую.
Петрик шел первым.
Вся публика встала, следя за скачками. В левой трибуне, где публика была попроще, раздавались рукоплесканья и крики. Валентина Петровна слышала, как там кричали: -
— Ранцев!.. Ранцев!.. Не сдавай, Ранцев!..
— Белокопытов… Белокопытов… Белокопытов…
Этот ужасный — так в эту минуту казалось Валентине Петровне, — смоленец, энергично посылая лошадь, выносился вперед. Петрик шпорил Одалиску и посылал ее поводом, но на его посыл она только крутила своим золотым хвостом. Сзади, молотя лошадь плетью по бокам, настигал его казак на рослом гнедом жеребце.
Туман застлал глаза Валентине Петровне. Три лошади в куче подскакивали к трибунам, где был конец скачки, и она не могла разобрать, кто был первым.
Она закрыла глаза и отняла бинокль. Сердце ее билось. Она боялась, что потеряет сознание. Но это продолжалось какой-нибудь миг. Торжественно-плавные рокочущие звуки незнакомого ей марша перебились певучей мелодией Мариенбургского полкового марша. Валентина Петровна когда-то играла его Петрику на рояле. Она поняла: Петрик был вторым.
XLII
Счастливый Петрик, еще румяный от скачки, от волнения, от счастья получить из рук Государя приз, с пакетом денег на груди под мундиром и с серебряным кубком в руке выскочил вслед за Свитой из Императорского павильона. Ура, сопровождавшее тяжелую большую машину Государя, быстро удалялось. За ней неслись автомобили чинов Государевой Свиты. Быстрый шел разъезд.
В ушах Петрика звучали слова Государя. С очаровательной улыбкой, заставившей улыбнуться и Петрика, Государь вспомнил, что их Мариенбургский полк «холостой» и спросил Петрика, есть ли в полку кто женатый. Был один — старый ротмистр — полковой квартирмейстер. — "Значит; — сказал Государь, — "держится полковая традиция?" — "Держится, Ваше Императорское Величество" — быстро ответил Петрик. — "Любовался вашей ездой, Ранцев", — сказал Государь, — "спасибо полку, что прислал такого молодца офицера на скачку на мой приз…" И, подав Петрику деньги и кубок, подошел к есаулу Попову, пришедшему третьим.
Теперь так хотелось Петрику поделиться с кем-нибудь своим огромным счастьем. И он спешил выйти за свитой, чтобы повидать "госпожу нашу начальницу". Но его все задерживали. Генерал Лимейль пожимал ему руку и хвалил за езду.
— Безподобно проехали, Ранцев. Школа может гордиться вами… А что второй — так это не беда. Приедете на будущий год за первым. Одалиска возьмет.
Князь Багратуни горячо поцеловал Ранцева и сказал, что он уже отправил с писарем телеграму в полк.
— То-то там обрадуются ваши!.. Ай, молодца!.. Такой джигит!..
Совсем незнакомые офицеры поздравляли его. Какой-то пехотный генерал с дамой просил показать даме кубок.
И через них, глядя, как пустели трибуны, рассеянно отвечая на вопросы, Петрик искал увидать «божественную». Он увидал ее, наконец. Портос, стоя на подножке автомобиля, подкатывал через толпу свой тёмно-красный Мерседес. Петрик видел, как Портос, соскочив с подножки, стал усаживать Валентину Петровну. Он еще мог подбежать к ней. Тут не было толпы. Никто ему не мешал. Но он не хотел встречаться в этот час, когда он только что так близок был к Государю, с этим — партийным офицером… с изменником. Он сделал несколько шагов вперед. Он надеелся, что Валентина Петровна увидит его и сама подойдет к нему: ведь он все-таки взял приз! Он имел право на поздравление!.. Он как-никак победитель!
Но «божественная» укутывала свою большую шляпу длинным газовым шарфом. Рядом с ней садился Яков Кронидович. Они проехали в двух шагах от Петрика. Королевна сказки Захолустного Штаба не заметила своего мушкетера — победителя. Против нее сидел Портос и оживленно что-то рассказывал ей. Она весело смеялась его рассказу.
На Петрика чуть не наехали ганноверские вороные кони. Саблин, правивший ими, остановил их. Вера Константиновна, а за нею Коля и Таня выпрыгнули из высокого кабриолета.
— Г'анцев, — кричала Вера Константиновна — не увели вашу п'гелестную Одалиску? Ведите нас к ней… победительнице.
И то больное, едкое, может быть, ревнивое — впрочем — на каком основании? — чувство, что темным облаком готово было заслонить ликующее солнце его победы, быстро исчезло. Петрик сейчас увидал свою Одалиску, уже в попоне и капоре. Ее водил с другими лошадьми по кругу Лисовский. Петрику стало стыдно, что ее — он хотел променять на женщину, что не к ней, виновнице своего торжества, он пошел первой. Он благодарно посмотрел на Веру Константиновну и пошел с нею к милой Одалиске.
— Сними попону, — сказал он Лисовскому.
— Ах нет… зачем? не надо, — робко запротестовала Таня. — Ей, верно, так хорошо и уютно!
Но Лисовский быстро и ловко скинул попону. Одалиска, уже остывшая, с слипшейся на плечах, у пахов и на спине, где было седло, шерстью и с громадными еще возбужденными скачкой и победой глазами, вся покрытая сетью вздувшихся жилок стала против Саблиной и ее детей.
— Какая п'гелесть! — сказала Вера Константиновна, лаская лошадь…
Она подняла голову к подъехавшему на кабриолете мужу.
— Не п'гавда-ли, Александ'г? Сколько в ней к'гови!
— Лазаревская, — коротко сказал Саблин. — Берегите ее, Ранцев. Это сокровище, а не лошадь.
Таня прижималась к шее лошади. Коля, оглядывая восхищенными глазами, играя в знатока, обходил ее.
— П'гелесть! п'гелесть! — говорила Саблина. — Благода'гю вас, 'Ганцев, что показали — и подав руку Петрику, она пошла к кабриолету. Таня сделала книксен и протянула тоненькую ручку Петрику. Петрик бросился помочь Вере Константиновне забраться на кабриолет, но она уже ловко поднялась по ступенькам и приветливо помахала красивой рукой, затянутой в серой перчатке — над головой.
— До свиданья!.. — крикнула она.
Петрик остался с Лисовским.
— Ну… идем домой, — сказал Петрик… — Седло где?
— Ивану отдал, ваше благородие. Он повез.
— Ну, вот, Лисовский… И мое… и твое счастье. Посылай сотню рублей домой…
— За что жаловать изволите, — смутился солдат. — Ваше благородие, ей Богу, мне ничего такого от вас не надо… Я и так всем вами доволен.
— Посылай, брат, смело!.. Ты знаешь, что Государь мне сказал?…
Они пошли рядом по пыльной, уже опустевшей дороге. С ними шла Одалиска.
Офицер рассказывал солдату о своем счастье, о чести полка. Солдат его слушал. У обоих было легко и радостно на сердце. Обоим улыбнулся светлый Божий день.
За зеленые холмы Красного Села багровое опускалось солнце. Далеко впереди белели ряды палаток главного лагеря. Петрик знал: его ждут с ужином офицеры Школы. Будет шампанское, трубачи, марши, тосты — будет его праздник. Портоса на нем не будет. Будут офицеры — чести и долга. Партийных с ними не будет.
Он торопился в школу. Порою он протягивал руку и нежно трогал Одалиску за верхнюю губу у храпков. Она — та, кто дал ему это счастье. У Главного Лагеря его нагнал порожний извозчик. Петрик, не желая опаздывать, взял его, и когда ехал, долго смотрел назад, как шла его милая Одалиска подле солдата в родной Мариенбургской форме.
Нежность и теплая любовь заливали волной его сердце.
XLIII
Последнее воскресенье перед отправлением на маневры, а после них в Поставы на парфорсные охоты, Петрик проводил у Долле на Пороховых заводах.
До вечера они гуляли по большому лесу "Медвежьего Стана" и собирали грибы. Вернулись с большими кошелками, полными красных. подосиновиков, белых, березовиков, моховиков, сыроежек, гарькушек и маслянок. Дома в столовой, за большим столом разбирали грибы по сортам… Крепкий грибной запах, запах моха и леса, шел от грибов. Из кошелки Долле выпал красивый большой мухомор с ярко красной шапкой в белых пупырышках.
— Этот как сюда попал? — спросил Петрик. — Ты ошибся?
— Нет, я взял нарочно… Мне надо… Для исследований.
— Для химии, — улыбаясь, сказал Петрик. Он держал мухомор в руке и рассматривал его.
— Ты не обратил внимания, Ричард, — сказал он, — что и в природе красный цвет — знак яда… Опасности… Мятежа… Смерти… Мухомор!.. Какой яркий и прекрасный цвет!.. Точно кто выставил красный флаг, как сигнал крушения… смерти… Бузина… крушина… волчьи ягоды… все ярко красное.
— Ну, а как — же земляника, малина, красная смородина… яблоки… вишни?…
— Не тот, Ричард, цвет… Не такой наглый… Не такой кричащий…
В открытое окно, чуть клубясь сизыми августовскими туманами, смотрел лес. Несколько минут в темневшей столовой была тишина и раздражающе пахло грибами.
— Ричард, — тихо сказал Петрик, все еще пристально разглядывавший мухомор. — Портос в партии?
Долле не ответил. Сумерки сгущались в комнате. Таинственным и странным становился глухой лес.
— Если он в партии, — продолжал Петрик, — я считаю это очень опасным… Партия сама по себе — я тебе, Ричард, рассказывал про нигилисточку и божьих людей — сама по себе ничтожество. Это идиоты… Это невежественное и пошлое дурачье, но дурачье аморальное… Эти люди сами ничего не сделают… Но Портос!.. Я вижу его… Ему такие-то и нужны… Он жаждет власти… Я считаю — таких людей, как он, надо уничтожать… Опасные люди. Ты, как думаешь, Ричард?
Долле раскладывал грибы по газетным листам и делал это так тихо, что никакого шороха не было слышно.
— Ты как думаешь? — повторил Петрик.
— Я думаю… — очень тихо, но внятно и отчетливо сказал Долле — вообще… никого не надо уничтожать.
— Но… если ты его не уничтожишь… Он уничтожит тебя… Что меня!.. Я не о себе говорю!.. Он уничтожит Россию…Государя… Бога!
— Бога уничтожить нельзя, — еще тише сказал Долле.
— Он вытравит Божие имя из людских сердец, — волнуясь, сказал Петрик. — Ты знаешь?… С некоторых пор он мне кажется очень странным… Я его… ужасно как… ненавижу за то, что он стал партийным.
— За то ли только ты ненавидишь его, что он стал партийным?.. Или и другое чувство владеет тобою?
Петрик густо покраснел, но в темной комнате Долле не мог этого видеть.
— Ты задал мне необычайный вопрос, — волнуясь и запинаясь, заговорил Петрик, — я сам себе такого не смел задать. Но, думаю, что я буду искренен, если я скажу, что будь тут другое чувство… по-иному я бы ненавидел его… по иному хотел бы расправиться…
Петрик долго, молча, смотрел в окно. То, что он собирался сказать, было ему трудно сказать. Впрочем… Долле?… Он и правда, как монах отшельник. Ему — можно.
— Я знаю… — глухим голосом начал, наконец, Петрик. — Ты думаешь — ревность?… Нет… к прошлому я не ревную… Да и она… Так ровна была она ко всем нам трем… ее мушкетерам… Нет… Прошлое? Прошлое — светлое… яркое… Настоящее. Что-ж… Кончено… Крест… Крышка… Аминь… Чужая жена… И… не мое это дело… Нет… правда, я ненавижу его за то, что он такой… как тебе сказать… ему все равно… Где ему лучше. А родина погибнет — ему все равно.
— Так-ли это, милый Петрик? Не гибнет ли Родина и помимо него? В государственном организме болезнь. Петрик, если любить Россию — не простить ни концессии на Ялу, ни Японской войны, ни Порт-Артура, ни Мукдена, ни эскадры Рождественского и Цусимы… Ни Портсмутского мира! Где наша слава и победы!? Неудачное темное царствование — и не заглушить этих несчастий ни Государственной Думой, ни открытием новых мощей… Власть мечется в поисках пути, и Портос…
— Портос ее хочет толкнуть в бездну, в эту страшную минуту несчастий. Я слыхал от «них»: — "падающего толкни"… Как по твоему — поддержать или толкнуть надо?
— По всей моей жизни ты видишь, что поддержать.
— Я понимаю… Фигуров — писатель из маляров, озлобленный, завистливый, жадный и необразованный… Или Глоренц — маньяк, ничего светлого не видевший, или эта жаба Тигрина… — Но Портос!.. Портос — богатый, кончивший академию, на широком пути!.. Ему-то и поддерживать… Ему и помогать правительству!.. Нет!.. ему все мало… И он с теми… кто хочет толкнуть… свалить…
— Если помогать-то — нельзя?… Поддерживать — безполезно? — чуть слышно сказал Долле.
За окном в лесу была холодная августовская ночь. Петрику казалось, что там кто-то безшумно шагает по мху, крадется, подслушивает их. Но кто? Петрик знал, что весь участок леса подле лаборатории Долле был окружен высоким частоколом и охранялся часовыми.
— Я убью его, — твердо сказал Петрик. — Рано или поздно — я убью его. Я все думаю… Это — как, знаешь, навязчивая идея: я должен его убить, по присяге. Мне часто снится теперь — я гонюсь за ним с саблею — он от меня убегает… Я убью его!
— Нет, ты не убьешь его, — спокойно сказал Долле.
— Почему? — Петрик встал от стола, за которым сидел и в волнении прошелся по комнате.
— Потому что ты можешь убивать только на войне — без злобы… По долгу.
— Почему без злобы?
— Потому что ты — христианин. Его убить — это надо подойти, подкрасться и — убить… Ты можешь это — безоружного?
Петрик молчал. Он остановился спиною к окну.
— Ну и потом? Ты скажешь: — "это я убил, потому что он был революционер"… А тебе скажут: — "никто не давал вам права убивать даже, если он и самый опаснейший преступник. На это есть судьи, карательные отряды и палачи".
— Как же быть, Ричард?
— Ты можешь донести на него.
— Нет, — отрицательно и, морщась, как от чего-то противного, чем брезгаешь, прошептал Петрик, — донести?… Нет… Нет… Но в 1906-м году мы были же в карательной экспедиции?
— Ты расстреливал? — в упор спросил Долле.
— Нет.
— Скажи мне, как это было… И ты увидишь, что ты не убьешь Портоса… Мы все еще рыцари чести и нам безоружная, даже и преступная кровь противна.
— Да… я помню… Нашему эскадрону пришлось…двух… Я помню… Все мы после суда и приговора были страшно бледны и возбуждены. Командир эскадрона, он должен был назначить взвод и офицера, не хотел назначать и устроил: — по жребию. Приготовили билетики. Мы все собрались… Я хотел тоже тянуть, но командир эскадрона меня остановил. "Корнет Ранцев", — сказал он, — "вы слишком молоды для этого". — Досталось поручику Августову… И я помню, — мы жили тогда в одной комнате, — он не спал всю ночь, и всю ночь курил… На рассвете он ушел со взводом. Я не спал тоже. Я слышал залп и головой зарылся в подушки. А потом Августов целый день пил и не был пьян. И было страшно его белое лицо. Ночью командир эскадрона пригласил местных полицейских стражников, и мы, офицеры, пили с ними, и они рассказывали нам, сколько зверских убийств, поджогов и издевательств над жителями совершил тот, кого расстреляли… И Августов понемногу успокоился. — Петрик помолчал и добавил.
— А командир шестого эскадрона, — им досталось много таких… заболел неврастенией и через полгода застрелился.
— Видишь, — сказал Долле, — а там — преступление налицо, суд, приговор… А ты хочешь…. А если Портос в партии, чтобы предать ее?
— Вдвойне подло, — бросил Петрик.
— С такими взглядами, Петрик, ты плохой помощник России. На нее идет штурм людей без принципа, без морали, без веры — а ты в белых перчатках… Портос их снял — и ты не подаешь ему руки!
— Не могу подать!..
— Петрик… дворянство, рыцарство, честь, дама сердца, дуэль — это не для двадцатого века. Теперь — капитал и пролетарий, предательство, сожительница и — драка или убийство…
— И Портос?
— Дитя века. Он это понял и усвоил.
— Ты точно оправдываешь его?
— Я его не оправдываю. Мне так тяжел теперешний век, что я ушел от него в эту лабораторию. Портос пошел с веком… Таких, как он, тысячи — всех не перебьешь!
— Я знаю одного… и я… убью его!
XLIV
В это мгновение дверь в столовую без стука и без шума стала медленно раскрываться. В ней появилась высокая, темная и, Петрику показалось, страшная фигура. Петрик бросился к выключателю и зажег большую висячую лампу. Ровный сильный свет из-под большого матового колпака осветил человека в длиннополом мешковатом черном сюртуке. Петрик успел заметить безобразное, изрытое оспой лицо, рыжеватую, клинушком, смятую бороду, колтуном торчащие, должно быть, жесткие волосы, узкие глаза без бровей и ресниц в красных веках, длинный, тонкий нос, прорезавший вдоль все лицо, и особенно бросились ему в глаза непомерно, почти до колен длинные руки… Человек этот скрипучим, ласкательно-заискивающим голосом сказал:
— Виноват, Ричард Васильевич, я полагал, вы одни-с. Обедаете…
И фигура так же безшумно скрылась за дверью.
— Кто это? — спросил Петрик, с трудом сдерживая дрожь в голосе.
— Ты не знаешь? Это Ермократ. Мой бывший лабораторный солдат. Теперь он служит у профессора Тропарева препаратором.
— Какая отталкивающая физиономия!
— Тоже — современный человек. В былые времена стоял бы на паперти, странником к святым местам ходил бы, деревенских баб морочил бы, продавал бы им волос Пресвятой Богородицы, или камень от лестницы, что Иаков видел во сне… Теперь… тоже, может быть, в партии окажется и будет доказывать, что Бога нет… Он уже мне доказывал.
— А не зря говорится в народе — Бог шельму метит…
— Я тебе отвечу так же, как и ты мне отвечал — а Портос? Ведь красавец — дальше идти некуда… Ему опереточным баритоном быть, а не офицером генерального штаба. Но будет об этом. Я по запаху слышу: Лепорелло мой принес из собрания обед. Давай переложим грибы на диван, да и попитаемся. Я думаю — и ты аппетит нагулял.
— А Ермократ?
— Он подождет меня на кухне. Я прикажу и его накормить.
Когда после обеда, долго посидев за столом с Долле, и за посторонними разговорами, за милыми воспоминаниями детства отойдя от своей навязчивой идеи, Петрик вышел, прекрасная свежая лунная ночь стояла над лесом. Серебром играло прямое и ровное шоссе, уходя по прямой просеке. Петрик, бодро насвистывая сквозь зубы «Буланже-марш», быстро шел по знакомому пути к Ириновской железной дороге. Он доехал на поезде до Охты и там сел на Невский пароход.
На пароходе полно было рабочих. Настроение у них было праздничное, приподнятое, пьяное. Серое офицерское пальто с золотыми погонами резким пятном легло в темной массе их пиджаков. Какой-то матрос, тоже подвыпивший, куражась, несколько раз прошел мимо Петрика, вызывающе демонстративно не отдавая ему чести, к большому удовольствию рабочих. Петрик также вызывающе демонстративно не замечал этого. Матрос и рабочие становились назойливее, и Петрик чувствовал, что надвигается неизбежный, грубый и страшный скандал.
"Заметить?" — думал он, — "сделать замечание — напороться на возражение… грубость…. Матрос чувствует за собою силу… Рубить придется… А еще не настала пора рубить им головы!"…
Но было мерзко. Петрик гадливо пожимался под своим легким, ветром подбитым пальто, и было у него такое чувство, точно липкая грязь обволакивала его тело. Он не мог не слышать, как пересмеивались рабочие, как подзадоривали они матроса.
— А ну, пройдись, пройдись, перед его благородием, — шептали они и толкали матроса.
И уже пора было начинать дело — а по всей обстановке Петрик понимал, что дело примет дикий и безобразный оборот.
На счастье — как-то вдруг надвинулся берег, пароход мягко стукнулся о веревочные боканцы, заскрипела, колеблясь на взбудораженной воде, пристань и рабочие двинулись к сходням, забыв матроса и офицера. Матрос скрылся в их толпе.
Петрик вышел последним. Он переждал в тени, у кассы, когда ушел переполненный рабочими трамвай. Он сел в следующий совершенно пустой.
Когда ехал, сняв фуражку, прижимался горячим лбом к запотелому холодному стеклу… На душе было смутно и гадко. Точно съел оплеуху. Потерял нечто святое и ценное, загрязнил чистую душу.
И долго, много дней, вспоминал он эту сцену на пароходе и так же, как и в отношении Портоса, не знал, что же надо было делать?
XLV
Учебный год в Офицерской Кавалерийской Школе заканчивался глубокою осенью парфорсными охотами в местечке Поставах, Ново-Свенцянского узда, Виленской губернии.
Дорогая, королевская забава, охота с гончими собаками, несущимися или по искусственному следу, проложенному по пресеченной канавами и заборами, разнообразной местности, или за живым диким козлом, идущим, куда гонит его страх, — охота эта пришла к нам из заграницы и была признана полезной для выработки сердца в кавалерийском начальнике. Такие охоты были везде. В Англии и Швеции существовали специальные общества таких охот. Шведские офицеры удивляли своими охотами по снегу и льду замерзших озер. Охоты эти были в Сомюре во Франции, подле Рима в Тор-ди-Квинто в Италии, в Ганновере в Германии — и Русская Школа не могла отставать от соседей.
В век броневых машин, скорострельной артиллерии, пулеметов и аэропланов, когда в общей и военной литературе все больше и больше появлялось статей о невозможности кавалерийских атак, когда так много писали о своевременности обращения кавалерии в ездящую пехоту и снабжении ее сильными огневыми средствами — охота с собаками казалась средневековым анахронизмом. Государственная Дума неохотно отпускала на нее кредит, урезывала бюджет и Военному Министерству приходилось бороться за него. Великий Князь Николай Николаевич, Главнокомандующий войск Гвардии и Петербургского военного округа, основавший эти охоты, из личных средств поддерживал и помогал Школьной охоте.
Королевская забава… Но на этой забаве падали и разбивались офицеры… И, хотя за все время существования охот на них не было ни одного смертельного падения, — молва расписывала их, как нечто весьма страшное и головоломное. «Лом»… «дрова» — конечно, были. На каждой охоте кто-нибудь "закапывал редьку" — но как-то, почти всегда, благополучно. Редки были поломы ключиц, ребер и конечностей.
Бражников, а с ним все те, кто служил в кавалерии ради красивого мундира, и на лошадь смотрели, как на опасного зверя, на которого лучше пореже садиться, ненавидели эти охоты всею душою.
Петрик и ему подобные, напротив, увлекались охотами. Они знали, что таких охот, такой жизни, такого увлечения охотничьей удалью, такой сладости победы над собою — они никогда иметь не будут — и они ехали на охоты, как на великий праздник.
В Поставах жили все вместе, в одном громадном трехэтажном замке — «палаце» — графа Пржездецкого, арендованном и перестроенном под школу. В нижнем каменном этаже была большая, на полтораста человек, столовая, библиотека, биллиардная, карточная и квартиры начальника школы и его помощника, во втором — деревянном — помещались офицеры по два и по четыре, в светлых, спартански скромно обставленных покоях. В третьем — жили денщики. Общая жизнь, вставание по сигналу, общий чай, завтрак и обед, игры в теннис и футбол, в свободное время, напоминали кадетские и юнкерские годы и молодили офицеров. Вновь крепло школьное товарищество. В свободные часы, когда на дворе был дождь — из камер и по корридору слышались помолодевшие голоса, тут звенела гитара, там бодро пели хором старую школьную «Звериаду», вспоминали юнкерские шутки, возились и боролись… За завтраком играли балалаечники, за обедом — школьные трубачи… Когда они уходили, — кто-нибудь садился за пианино и играл и пел… Совсем особая была в эти дни школа и жизнь в ней — яркая, как будто и праздная и вместе с тем занятая. Вспоминали охоты. Удивлялись, проезжая на другой день шагом, как могли они тут скакать! Восхищались школьными и своими лошадьми и получали крепкую веру в победу на коне: во что бы то ни стало!
Частые пни рубленого леса, болото, ямы для мочки льна, перевернутая глухими бороздами новина, широкие канавы, высокие заборы, крутобережные овраги — как могли все это пройти большим галопом и даже не заметить?… И эта победа над местностью — усугубляла бодрое, веселое, Поставское настроение, делало темп жизни радостно повышенным.
Петрик, отбыв Красносельские маневры ординарцем при Великом Князе Главнокомандующем и заслужив его благодарность, в самом прекрасном настроении духа ехал в Поставы.
Недавний разговор с Долле и досадная встреча с матросом ушли в прошлое. Навязчивая идея, что он должен убить Портоса, его оставила. Он ехал и думал о том, как многообразна жизнь и как в ней каждому отведено свое место и каждый нужен… Их было три — казалось — таких три одинаковых кадета, влюбленных в королевну Захолустного Штаба. И — прошло десять лет — и они все три такие разные… За кем правда?.. И, может быть, по-своему прав и Портос?… Жизнь!.. В ней есть место и нужен Тропарев, вскрывающий покойников, в ней есть — и тоже нужен, — не даром считается первым умом России — Стасский со своими страшными суждениями, в ней нигилисточка, безбожные люди… и Ермократ — и, пожалуй, — самый ненужный в ней — Петрик. Конные атаки… Его девиз — «quand-mеmе» "во что бы то ни стало" — понадобится ли все это? В той сложной и страшной жизни, что увидал Петрик в Петербурге, — не дано ли ему очень красочное место, но место уже пустопорожнее? «Лошадка»… стильный мундир Мариенбургского полка — черное с желтым — Георгиевские цвета, и шефом Государь… бряцание саблей — все это прошлое, уходящее, очень красивое, очень поднимающее дух, но, может быть, и правда — отжившее и мертвое? Красота, подвиг, победа, честь, честность, что, если в этой новой борьбе за Россию не это нужно?…. Долле говорил, — а Долле для Петрика был авторитет — теперь: химия… человек в маске с очками с толстыми стеклами, похожий на демона. N-лучи… радий… таинственные волны, пожар, гибель мирных невинных людей, женщин и детей и — никакого подвига! Только подлость. Честь в том, чтобы обмануть… Честность в предательстве — таков показывался Петрику новый двадцатый век, вступавший во второе десятилетие, и при таком обороте, как-то надо было понять и принять Портоса, партийного офицера.
Навязчивая идея перестала быть навязчивой. Она сменилась раздумьем, и в этом раздумьи было не мало тихой грусти. Этой грусти так отвечала прекрасная Поставская осень, и вся обстановка парфорсных охот.
Последние дни маневров в Красном Селе лили холодные, затяжные дожди, пузырились под ними черные лужи и холодные струи ползли за воротник. Печально чавкали копыта лошадей по грязным глинистым дорогам и безотрадно казалось низкое северное небо, покрытое тяжелыми, темно-свинцовыми тучами.
Здесь, в Поставах, точно еще продолжалось красное лето. Безоблачное небо казалось высоким. Солнце грело. В садах золотые висели яблоки и синие сливы. В цветник перед школьным палацем бурно цвели высокие нежные флоксы, пестрые вербены и темные, мохнатые астры и далии. "Крученый паныч" вился по балконам и переплетался с барвинком. На широких, лесных, песчаных дорогах дух захватывало от крепкого смолистого запаха и Одалиска галопировала по ним, порхая, как мотылек.
Точно жаждавший влаги человек, вдруг коснувшейся тонкого стекла широкого бокала, наполненного ледяным, ароматным, бьющим в нос шампанским и жадно, не отрываясь, пьющий его — Петрик вошел со всею любовью, с полным счастьем в красивую яркую жизнь Поставских охот. Всем сердцем воспринял эту королевскую забаву. Почувствовал себя гостем короля, любимым сыном Российского Императора.
XLVI
День был хмурый и теплый. Туман поднялся утром с полей и так и остался стоять до самого неба — редкий и серый — ни дождь, ни ведро. Кругом ровная, полупрозрачная пелена. В ней, как в мутной, мыльной воде неподвижные стояли кудрявые, пожелтевшие деревья, и частая капель упадала с них на сухие листья.
День был свободный. Охоты не было. Офицеры утром группами по три-пять человек проездили лошадей. На завтра была назначена последняя, самая страшная, самая головоломная охота на 18 верст по искусственному следу, через два дня начинались охоты по зверю. Это уже было только весело. Робкий ездок мог «мастерить», избегая заборов и широких канав. Опасности останутся позади.
Эта завтраком распространился слух, что охота будет необычайной. Ездившие выбирать место для прокладки следа генерал Лимейль и полковник Скачков были серьезны. И хотя никто, кроме них и молчаливого наездника Рубцова, всегда сопровождавшего начальника школы, не видал и не знал, куда ездили выбирать место охоты — между офицерами пошли разговоры, что охота будет до жестокости страшна.
Говорили, что начнется она в двадцати верстах от Постав в березовом лесу, круто пойдет вниз по скату и на самом скате будет забор в два аршина вышины. Рассказывали о рубленом лесе на болоте, о какой-то канаве, которую едва могла осилить знаменитая «Примадонна» генерала Лимейля. Предсказывали "массовый редис", большое «ломайло» и много "дров"…
Кто-то сказал, что, для усугубления серьезности охоты, начальник отдела, полковник Драгоманов приказал дать не тех лошадей, на которых офицеры всегда ездили, а чужих. Каждый будет сидеть на лошади, которой он не знает. И хотя все лошади были хорошо напрыганы и отлично умели ходить по местности, были между ними весьма неприятные. Так, вся школа знала коня Коперника, который был знаменитым звездочетом, и, имея короткий затылок, не признавал ни трензеля, ни мундштука, но, задрав кверху голову, нес, куда хотел. Два года тому назад на нем, весною, в манеже, на смерть разбился на деревянном заборе штабс-ротмистр Балдин. На охотах Коперник всегда падал, и его отставили от них. Была кобыла Змейка, не признававшая канав… были и другие, на которых не ездили, но о ком слыхали самые прескверные рассказы.
Притом завтра — 13-е сентября.
И, как это часто бывает, вдруг создалось такое настроение, что завтрашняя охота так не пройдет, что Поставы потребуют своей кровавой жертвы, и кто-то, вместо эскадрона, получит могилу на Поставском кладбище, или останется навсегда калекой. На минуту за завтраком, все притихли и делали вид, что заслушались балалаечников. Они играли в этот день особенно мастерски.
В большие окна хмуро глядел серый день. Тишина и неподвижность деревьев казались зловещими. Робкий Ванечка Стартов обдумывал план, как ему отделаться от охоты и придумывал, что ему сказать добрейшему доктору Баранову, чтобы тот его положил в околодок.
К концу завтрака за столом, где сидели Портос, Бражников, Посохов и лихой конногренадер Малютин, коротким взрывом прокатился смех. Вдруг поднялся и ожил разговор; собранская прислуга принесла одну, потом другую бутылку вина.
Малютин с бокалом на тарелке пошел к генералу Лимейлю.
Офицеры просили разрешения выпить за здоровье начальника школы. Был короткий пламенный тост. Потом просили разрешения задержать балалаечников на час после завтрака.
Разрешение было дано.
Начальник школы, — он устал, проездив утром более сорока верст в поисках места охоты, он встал до света, — ушел, за ним ушли князь Багратуни и Скачков. Драгоманов подсел к веселому столу.
Давно курили. Было дано разрешение расстегнуться. Со столов убрали остатки сладкого и лишние тарелки. Появились бутылки, блюдца с поджареным соленым миндалем и хрустящее соленое печенье «Капитэн»… Готовился загул.
Шумевший стол, по случаю завтрашней последней охоты, угощал всех. Петрик, любивший товарищеские пирушки, безпорядочные речи и застольные песни, остался и, не думая о Портосе, подсел к краю стола и очутился недалеко от него.
Красивый, моложавый Нежинский гусар, в русых усах, в расстегнутом кителе сел за пианино и, ударив по клавишам, под звон струн, небрежно весело запел:
— Брюнетка жена, муж брюнет,
К ним вхож белокурый корнет.
Охмелевший Бражников хриплым баском спрашивал Посохова:
— От кого происходит Футтер?
— Я не понимаю тебя, как от кого? Наш мастер, англичанин?
— Его студ-бук? Отец и мать?
— Не знаю.
— А ты подумай?
— Отвяжись.
— От "фатер унд муттер" — происходит Футтер!.. Понял?.
Малютин, в черных красивых усах, молодцеватый — весь удаль, в расстегнутом виц-мундире. Он почему-то надел его вместо кителя, остановил игравшего гусара, и сказал капризно:
— Парчевский, брось! Господа — Звериаду… Но слушать мои слова!
Парчевский заиграл мотив Звериады. Несколько голосов с разных концов стола не слишком стройно затянули.
— Как наша школа основалась, Тогда разверзлись небеса, Завеса на небе порвалась И слышны были голоса…— Постойте! — прервал певших Малютин. — Внимание! Слушать меня, запоминать и повторять хором.
И, чеканя слова и отбивая ритм, Малютин запел приятным звучным баритоном:
— Вот мы приехали в Поставы Штаб-офицеров тут нашли С Кавказа, с Конина и Млавы Со всей Руси они пришли.Наладившейся хор дружно подхватил, эхом отдаваясь о деревянные стены столовой:
— И наливай, брат, наливай, Все до капли выпивай!..Загорелые руки тянулись к бутылкам. Наливали себе и соседям. Служащие Филиппа Ивановича и сам буфетчик были на чеку. Настал его день, когда опустошался его собранский погреб и вместе с ним опустошались офицерские карманы. Одетые в белое служители ловко подхватывали кидаемые пустые бутылки и выставляли новые. Филипп Иванович внимательно следил, кто кричал "вина!" и отмечал в своем блокноте.
Малютин, подбоченясь, — он был очень красив в расстегнутом мундире с косым бортом, окаймленным красным кантом с повисшими золотыми орлеными пуговицами и кованым воротником, дирижировал хором и, когда замерли, стихая, голоса, продолжал:
— Прошли охоты мы по следу Потом на зверя перешли. Теперь уж барином я еду Лишь бы поспеть на "ала-ли"…Портос сидел, застегнутый на все пуговицы в чистом и новом защитном мундире, в свежих золотых погонах. Он облокотился на стол, и была видна его большая, сильная рука в крахмальном рукавчике с дорогим камнем в золотой запонке, золотая тяжелая цепь браслета, перстень на пальце. Он держал папиросу в дорогом пенковом мундштуке. Гладкие волосы были причесаны на пробор до затылка и припомажены hongrois'ом. Лицо Портоса не загорело и казалось матово-бледным. Темные глаза блистали из-под густых ресниц, мягкие усы не закрывали рта. Было что-то тонкое и изящное в выточенном, как профиль старинной камеи, лице Портоса, и в складке рта, особенно в подбородке, было что-то неумолимо жестокое. Изящное благородство и открытость Петрик подметил, жестокого не увидал. Может быть, в эту минуту не хотел видеть. У него перед глазами встал прежний Портос, что в белой кадетской рубахе, протянув руку к верху к зеленому своду сиреневой беседки клялся перед девочкой в полудлинном белом платье, опоясанном широкой голубой лентой с большим бантом, девочкой с русой косой, переложенной на плечо. Петрик точно снова слышал взволнованный голос Портоса: "un pour tous, tous pour un!"
"Нет", — думал Петрик, — "не может он, такой красивый, стройный и честный… старый кадет Портос, не может он быть в партии? Не может быть изменником и подлецом!
Та жгучая ненависть и презрение, что владели Петриком все лето, куда-то ушли. Увлеченный красотою удалого и так напоминающего чистое детство, когда сильна товарищеская любовь напева, Петрик решил сейчас подойти к Портосу, сесть рядом с ним, обнять его за шею и петь со всеми любимую юнкерскую песню. А потом пойти вдвоем с Портосом в задернутый пеленою тумана парк и там объясниться.
XLVII
Петрик подходил к Портосу сзади, и ему не видно было его лица. Спиною к нему сидел и Бражников и видно было только разгоряченное лицо Посохова. Петрик был в трех шагах от Портоса. Вдруг ему ясно стало, что никогда не будет примирения. Ненависть и презрение снова овладели им, и Петрику показалось, что вот сейчас, именно теперь должно случиться что-то непоправимое и ужасное. Может быть, сейчас он и убьет Портоса. У него не было оружия, но разве для того, чтобы убить Портоса, надо оружие? Это продолжалось один миг, сотую долю секунды, что он ничего не слышал и не владел собой. Это сейчас же и отлетело, но этот миг точно перевернул Петрика. Та же была столовая, те же офицеры в расстегнутых кителях, песня и Малютин, дирижирующий ложкою хором, но и все было уже другое. Петрик точно получил какое-то сверхчувство, которое заострило все его чувства и он стал слышать все то, что делалось кругом. Он сразу слышал разговор во всех концах стола, но слышал его каким-то придушенным и глухим, точно через трубку телефона. Он почти никого не видел и в то же время удивительно четко подмечал тысячу мелочей, которые раньше никогда бы не заметил. Он остановился… Он слышал, как, декламируя, продолжал свои куплеты Малютин, и Парчевский ему вторил:
— И эта первая охота Всех предыдущих веселей… На утро — новая забота: — Набито тридцать лошадей!..Он видел, как покраснела шея Бражникова и на ней с левой стороны канатом надулась жила, он видел маслянистую улыбку Посохова, и его мутные серые глаза, блиставшие сладострастным блеском и в том особом напряженнейшем состоянии, в каком он находился, — он понял, что разговор шел о женщинах и говорили о них развязно и цинично. Говорил Портос. И опять-таки сквозь общий гул голосов, раздававшихся за столом, сквозь хоровое пение, Петрик ловил слова Портоса и понимал их.
— Пижоны вы… Вам — девки… Никогда они так не отдадутся, как интеллигентная женщина.
На мгновение рычащий бас, повторявший куплеты, заглушил слова Портоса, и Петрик хотел уже отойти, не желая невольно подслушивать, но тут его ставший необычно острым слух поймал, как Портос — и видно было через довольную улыбку — сказал:
— Зовут — Валентина.
— Тиночка славное имячко, — сипло сказал Бражников.
— Я зову — Алечка. Так еще лучше. Волосы — золото, и распустишь их и закутаешь ими лицо — аромат!!
В этот момент Портос почувствовал на себе взгляд Петрика и обернулся. Его лицо стало из матового бледным, меловым, и страшно четко, как на маске рисовались на нем черные брови и черные холеные усы. Он быстро встал и, понимая резкое движение, которое сделал Петрик, прикрыл лицо широкою ладонью.
Петрик, задыхаясь, бросился на Портоса. Но вдруг вместо бледного, мелового и так теперь им ненавидимого лица он увидал свежие золотые погоны с алой дорожкой, четыре серебряные звездочки и накладной номер, увидел золотые чеканные орлы на пуговицах. Он понял, что ни ударить, ни оскорбить офицера он не может, и опустил голову.
Краска вернулась на щеки Портоса. Он опустил поднятую для защиты руку и наружно спокойно спросил:
— Что вам, штабс-ротмистр?
— Ничего, — тихо сказал Петрик, так глядя на Портоса, что розовая краска густо залила его щеки и шею. — Я хотел послушать, что вы рассказываете.
Это было так сказано, что Петрик с удовлетворением заметил, как забегали глаза Портоса и животный, подлый страх засветился в них.
— Мы говорили, Ранцев, про женщин, — сидя и поворачиваясь к Петрику, сказал Бражников, — про милых женщин, любивших нас, хотя бы раз… И вам, милый Ранцев, это неинтересно… Вы — холостой полк… И вы — монах.
Портос уже оправился.
— Я готов всегда дать вам удовлетворение, — негромко сказал он.
— Вы его мне и дадите, — так же негромко сказал Петрик и, обращаясь к Бражникову, небрежно сказал.
— Да… в самом деле… Lа fеmmе nе prеtе раs роur lе сhеval… А завтра такая страшная охота.
И, церемонно раскланявшись, он медленно и спокойно пошел из столовой.
Офицеры, сидевшие с Портосом, заметили, что между ним и Петриком что-то произошло. Что только благодаря офицерской сдержанности и того и другого не было нанесено взаимных ужасных оскорблений и дело не дошло до драки, но произошло что-то очень тяжелое, что может быть искуплено только кровью. Но расспрашивать Портоса они сочли неделикатным и несвоевременным. В конце концов что было? Порывистость "движений Петрика и странность оборонительного жеста Портоса, да интонация голоса и взгляды — непонятно жгучие, с одной стороны, и подло трусливые с другой. Оскорблений ни словом, ни действием не было" — значит, — как будто "инцидент исчерпан". Была какая-то страшная ссора, вспыхнувшая мгновенно и так же мгновенно притушенная.
"Ну и черт с ней", — подумал Бражников.
— Какая муха его укусила? — небрежно сказал он, обращаясь к Портосу.
— Возможно… муха ревности, — в тон ему сказал Портос.
— Ревновать может тот, кто может любить… а Петрик…. он кроме полка, службы и своей кобылы никого любить не может.
— А как же волосы — золото… Неужели отдавалась эта профессорша? — спросил, сладострастно улыбаясь, Посохов.
— Когда-нибудь другой раз я доскажу… Пойдемте помогать Малютину. Парчевский что-то ослабел и плохо ему вторит. Эй! Филипп Иванович! вина! — богатырски на всю столовую крикнул Портос и притворно покачиваясь, пошел к группе офицеров, певших у пианино.
XLVIII
Петрик по веревочной просмоленной дорожке, лежавшей в коридоре и заглушавшей его шаги, прошел мимо карточных комнат, где играли при свечах на трех столах и откуда раздавался крикливый с кавказским акцентом голос полковника Дракуле, открыл стеклянную дверь и вышел на деревянное крыльцо.
Вдруг налетевшая на него буря сменилась полным штилем. На душе было спокойно и крепло решение: убить Портоса.
Петрик по низким и широким деревянным ступенькам крыльца спустился в цветник и без фуражки, с обнаженной головой, пошел через него в замковый парк, бывший за широкой песчаной дорогой, где обыкновенно строились перед охотами.
Туман стал гуще. Шел пятый час дня, а казалось — надвигались сумерки. В аллее каштанов, между сплошною стеною разросшихся кустов жасмина, жимолости и калины, где кое-где краснели пучки увядающих сморщенных ягод, на шесть шагов ничего не было видно. С тихим шорохом падали с листьев водяные капли. Под ноги попадались зеленые колючие шарики конских каштанов. Дорожка едва заметно спускалась к озеру. Петрик увидал его темные воды лишь тогда, когда вплотную подошел к нему. Туман низко навис над водою и озеро казалось безконечным. Недвижно стояли камыши и точно из темно-коричневого бархата сделанные артиллерийские банники, торчали их метелки… Темнозеленые трехгранные, похожие на огурцы, плоды ирисов зеленели у берега. Вода застыла, как постное масло.
"Судьба!"… — думал, остановившись над озером, Петрик. — "Судьба отдала его мне в руки… Да, конечно… дуэль… Какой негодяй?!" — прошептал он. — "Какой подлец!.. И все врет…. Хвастает… Не может того быть, чтобы госпожа наша начальница… божественная… Алечка Лоссовская, недостижимая дивизионная барышня… королевна детской сказки Захолустного Штаба изменяла своему мужу… этому милому, доброму профессору"…
Заложив руки за спину, Петрик медленно пошел вдоль озера.
"Партийный… Сначала человек входит в партию, отрицающую честь и благородство… все эти… буржуазные предрассудки… Без Бога… Как же без Бога-то? Нет… его просто убить надо… И не благородно оружием, но задушить, задавить подлеца… как преступника… Но… он офицер…
Перебивая мысли, сбивая его с их нити, слышались слова… "Золотые волосы… аромат… Распустишь, покроешь лицо"…
Как бы судорога пробегала по всему телу и хотелось сейчас побежать назад и при всех схватить за горло и душить пальцами, пока не сдохнет.
"Как противно было видеть на его лице этот подлый страх. Страх на лице офицера!.. Партийного!.. А все-таки офицера!.. Да… неизбежно — дуэль… Завтра все по команде, по правилам… Но тогда — Суд чести… и придется объяснить, что говорил штабс-капитан Багренев… И потом дуэль… Смерть на дуэли… Это почет… Пушкин… Лермонтов… И этот негодяй и подлец — равную честную смерть?! Да никогда! Просто — приду к нему и скажу — вы, Багренев, изменили присяге, вы вошли в партию, вы говорили гадости про одну, известную вам, святую и чистую особу — вы негодяй и подлец, и я вас убиваю — и застрелить, как поганую собаку! Пусть потом суд и возмездие — он исполнит свой долг офицера и рыцаря-мушкетера!.. Такова судьба…. И если дуэль, то — на смерть… Я и фехтую и стреляю лучше его… Долле мне сказал- "не убьешь"… Посмотрим?"..
Петрик обошел кругом озера и вернулся в каштановую аллею. Все перебивали его настойчивые мысли об убийстве Портоса воспоминания о том, что говорил Портос о "божественной".
"А если правда?.. Она его любит!.. О, какой же тогда он трижды подлец!".
Вся та страшная жгучая ненависть, что постепенно накоплялась с той ночи, когда они шли по набережной Невы от нигилисточки, и Петрик спросил, в партии ли Портос, и тот ему не ответил, овладела теперь сердцем Петрика и отравила ему и Поставы и радость завтрашней лихой и смелой охоты.
Он вернулся в замок в темноте. В столовой ярко горели лампы. Столы были накрыты свежими скатертями. Сто двадцать приборов было расставлено по длинным столам. Трубачи раскладывали по пюпитрам ноты. Высокий толстый капельмейстер совещался с красивым штаб-трубачом. Офицеры собирались к столам.
Школьным маршем встретили трубачи начальство школы.
Петрик со своего места сразу заметил, что Портоса не было. Он не пришел к обеду. Его прибор, стоял пустой. Должно быть, боялся… Чуял свою смерть.
Петрик старался быть непринужденно веселым. Он то разговаривал со своими соседями, то прислушивался к тому, что говорилось за штаб-офицерским столом, то слушал прекрасную игру трубачей.
И сквозь все это точно сквозила неясная мысль: "Надо убить… убить, как собаку."
XLIX
"Тай-та-ри… та-рам-та-тай"… где-то далеко за плотиной и винокуренным заводом, возле конюшень, проиграли на охотничьих рогах школьные трубачи призывную фанфару, и им отозвались из местечка от лазарета другие: "там-та-ри там та-та-тай".. И уже близко из парка против палаца проиграла третья пара.
По старинному, из королевской, аристократической Франции идущему обычаю от замка к замку такими фанфарами оповещать о сборе на охоту, в Школе осведомлялись офицеры о том, что час настал. В столовой растревоженным ульем гудели голоса пивших чай офицеров. Сегодня они были особенно взволнованы, возбуждены и шумны.
Петрик вышел на крыльцо. Точно после вчерашнего дня в природе была сделана какая-то волшебная перестановка декораций. От тумана не осталось и следа. Высокое, бледно-голубое небо по-осеннему было чисто. Туман ночью спустился вниз, лег блестящею росою и повис алмазными каплями на листьях деревьев. Все блистало и горело огоньками под лучами еще невысокого солнца. Парк стоял во всей прелести и пестроте осеннего убора. За вчерашнею завесою тумана вдруг пожелтели и ударили в светлое золото березы, листья каштанов стали тонкими и прозрачными, и по дубу точно кто провел темной сепией. Виноград на ограде стал малиновым и горел огнями, обремененная росою, точно серебром перевитая, трава пожухла и, путаясь, никла к земле.
В недвижном воздухе была разлита такая радость, что черные мысли покинули Петрика и лютая ненависть и презрение к Портосу на время были позабыты.
Он снова увидал необычайную красоту Божьего мира и нежную прелесть Поставского парка и, с молитвою в душе, заколдованный, завороженный свежим, ясным осенним утром, стоял на крыльце и чистыми, все подмечающими, всему радующимися глазами смотрел во все стороны, отдаваясь охватившему его тихому счастью.
В природе было тихо. И безшумно, точно живая картина, показались из-за угла, от дороги с плотины, охотники с собаками. Впереди на рослом гнедом коне ехал полнеющий седой англичанин мастер Футтер, о ком острили вчера, что он происходить "от фатер унд муттер". Он был в черном бархатном картузе, в красном фраке и белых лосинах, в сапогах с невысокими голенищами с желтыми отворотами. Длинный свитой арапник был у него под мышкой. Рядом с ним в таком же охотничьем костюме на поджаром чистокровном гнедом коне ехал заведующий охотами ротмистр Воликовский и большой крутой медный башур был надет у него через плечо. За ними плотной стаей, в смычках, молчаливо, словно тени, шли гончие, помахивая задранными кверху гонами. Все одинаково пестрого окраса, они шли серьезно, озабоченно и деловито.
Три унтер-офицера доезжачих в алых кафтанах и черных охотничьих, жокейских картузах, не шедших к их скуластым русским лицам, сопровождали стаю. Генерал Лимейль умел держать заграничный стиль охоты.
Они прошли и скрылись в садах местечка, будто видение далекого, прекрасного прошлого.
Голоса в столовой становились громче. Видно: все офицеры уже собрались к чайным столам.
Петрик продолжал наблюдать, стоя на крыльце. Несколько минут песчаная дорога между цветником и парком была пуста. Потом оттуда же, откуда вышла охота показалась длинная, медленно идущая колонна. Вестовые, по два, вели в поводу «казенных» лошадей.
Бражников, Портос и многие другие в смене узнавали свою лошадь только по вестовому — Петрик знал всех лошадей Школы. Для него они были как добрые знакомые, точно люди и каждую он знал "в лицо". Он их одушевлял, придавал им сходство с людьми и точно говорил с ними. Он увидал, что его Аметиста дали штаб-офицеру, кандидату на полк, и загордился этим. Значит — в Аметиста верят, значит — он хорошо научил его ходить по полю. Бражниковский вестовой вел привычного барину Жерминаля, — помирволил ему Драгоманов — облегчил его сегодняшнюю охоту. Улыбающийся Лисовский вел Соловья. Это был старый серый конь, знавший Поставы наизусть. Его давали самым плохим ездокам, самым старым штаб-офицерам. На нем ездили «пассажиром», — только сиди и не мешай, а и помешаешь, так Соловей исправит. Про него рассказывали, что он, подходя к препятствию, оборачивал к сдоку свою умную, лобастую голову и говорил человческим языком: "сиди!.. не бойся!"… На нем «переселялись» через канавы и заборы так мягко и приятно, что даже не замечали толчка. Он прыгал, как кошка и никогда не закидывался, не заносил, не «пер», не задевал препятствий и не падал. И с него никогда никто не падал. Он точно поддерживал неумелого ездока. Его давали за отличие, давали начальству, скакать на нем было наслаждение. Петрик понял, что Драгоманов дал ему Соловья как награду.
Петрик смотрел дальше. Он увидал конноартиллериста Левыкина, вестового Портоса. Тот вел худого, длинношеего, безобразного Коперника. Того самого!!.. кто всегда падал, на ком мог здить только маленький ловкий Дербентский, ротмистр Постоянного состава, на охотах ездивший сзади курса "классной дамой"…
"Вот оно что!.. Судьба!"..
Застывшая было в созерцании картины осеннего утра и сбора охоты, мысль о мести понеслась с удивившею Петрика быстротою. Колонна лошадей не успела еще построиться фронтом против палаца, когда Петрик уже все продумал и пришел к решению.
"Портос упадет и расшибется… Не будет же Петрик бить лежачего, разбившегося… калеку? Зло и подлость будут жить. Так редки падения насмерть. Да, если и насмерть? Он умрет честно и красиво на охотничьем поле, во время скачки, как дай Бог всякому! Он, подлец и негодяй, уйдет из этого мира в прекрасный осенний день в ореоле славы и красоты и последнее его ощущение будет — прыжок!.. Нет, не такой смерти достоин Портос! Он должен так, или эдак, на дуэли, или в ссоре быть убитым Петриком. Он должен умереть… — иначе!"…
В три прыжка Петрик был внизу в цветнике, быстро прошел к Лисовскому и тоном, не допускавшим возражения, приказал:
— Возьми у Левыкина Коперника… Пошли его к Соловью!
L
Школьный гусар в черном доломане и краповых чакчирах, вестовой начальника школы, повел красавицу караковую Примадонну к квартире генерала Лимейля. На крыльцо палаца шумной толпой выходили офицеры. Они разыскивали своих вестовых и спрашивали их, как зовут ту лошадь, на которой им предстояло скакать.
Кто остался спокоен, кто побледнел, кто, напротив, покраснел и некоторою суетливостью и говорливостью скрывал свое волнение:
— Господа, кто ездил на Гурии?
— Вам, господин полковник, Гурия? — Отлично идет. Лошадь первый сорт! Немного низко голову несет, зато каждый камешек видит.
— Штабс-ротмистр Ранцев это ваш, кажется, Аметист?
— Мой, господин полковник. Можете быть спокойны. Прыгает великолепно и не тянет.
— А вы на ком?
— На Копернике!..
— Несчастный?!
— Ничего… Бог даст, управлюсь…
Голоса звенели в прозрачном утреннем воздухе и эхом отдавались о бревенчатые стены замка. Офицеры садились на лошадей.
— Везет тебе, Портос, — утренним фаготом хрипел Бражников. — На Соловье!.. Я из всех лошадей школы только его одного и помню. Уж очень приличный зверь… Уважаю таких!
— И тебе не плохо… На своем остался.
— На канавах не верен мой старый Жерминаль, — вздохнул, лаская по шее вороного коня, Бражников.
Драгоманов в красном фраке с арапником в руке — он тоже соблюдал стиль охоты — скакал от палаца к офицерам и на скаку командовал:
— Господа офицеры!
Лимейль садился на Примадонну.
Офицеры пошли неправильною группой за начальником школы. Как было принято, на охоту ездили не строем, но живописной толпой, перемешавшись. Было разрешено курить, и голубоватый папиросный дымок тихо реял над головами в недвижимом воздухе. Проехали местечко и пошли песчаными широкими дорогами, между полей скошенной и вновь зацветающей вики и люцерны, среди лилово-желтых лупинусов, между жнивья, прошли небольшой сосновый лесок и стали подниматься на горку. Прошли то шагом, то просторною охотничьею рысью верст двенадцать, когда на холме у березовой рощи показались красные кафтаны доезжачих, круглые медные рога и пестрая стая гончих.
По знаку Лимейля спешились. Было предложено осмотреть подпруги и покурить.
Разговоры стали коротки, ответы невпопад. Было заметно как даже опытные, бывалые ездоки волновались. Лимейль сердито допрашивал полковника Скачкова. Тот с потным, усталым лицом, — он ездил с двумя унтер-офицерами, тянувшими на веревке большую губку, напитанную лисьими нечистотами, прокладывать след и только что вернулся — докладывал о пути охоты.
— За конским черепом у лужины я повернул по изволоку влево.
— Не топко?
— Сухмень.
— На парах не будет подлипать?
— Нет… Сухо.
— Льняные ямы обошли?
— На пол версты.
— За болотом сняли верхние жерди?
Скачков с недоумением посмотрел на Лимейля.
— Ну и будут дрова! — сердито сказал Лимейль. — Я же вам говорил! Всегда вы так!
— Да там и двух аршин не будет, ваше превосходительство.
— Вам все ничего, а я за каждую поломку отвечаю… Запросы в Думе делают, — досадливо выговаривал начальник школы и выдавал этим свое волнение… — Ну да теперь все равно….
Лимейль пошел к Примадонне.
— Господа офицеры, по коням. Садись!
Его голос звучал торжественно.
Офицеры, как стояли, вразброд, стали садиться на лошадей. Кое-кто крестился украдкой. Футтер и Воликовский с собаками тронули шагом вдоль березовой рощи к чуть заметной на лугу веточке, воткнутой в землю. Там начинался след. За ними большою группою, в сто человек с лишним, за Лимейлем и Драгомановым поехали просторным шагом офицеры. Лимейль решительно и мрачно крикнул:
— Напускай!
LI
Стая гончих надвинулась к веточке. Мастер — черно-пегий выжлец ткнулся носом в землю и повел, весело замахав гоном. Стая сорвалась комком. Тонко, с легким привизгом подала голос какая-то выжловка и, чуть разбившись в лесу, "одних ног" собаки скрылись в высокой, пожелтевшей лесной траве.
Волновавшиеся при виде стаи лошади подхватили и влетели резвым галопом в лес.
Лес был редкий и небольшой. Лошади, почти не управляемые, сами отлично в нем разобрались, и Петрик не заметил, как они прошли рощу и стали круто спускаться к ручью.
На широком зеленом лугу собаки сбились в тесную, красивую пеструю кучу и пошли комком, как говорилось в старину, что "скатертью накрыть было можно". Офицеры выскакивали из рощи широким фронтом и, рассыпавшись, скакали вниз к ручью, текшему в невысоких обрывистых берегах. Своим охотничьим глазом Петрик видел, как собаки, разбившись и разравнявшись перебрели через ручей, многие останавливались по брюхо в воде и жадно лакали, доезжачие подваливали гончих к их мастеру, порская и подсвистывая, — это продолжалось короткий миг и уже вся стая, а за нею доезжачие, генерал Лимейль и полковник Драгоманов перенеслись через ручей и мчались по пологому подъему, покрытому жнивьем в широкие поля, упиравшиеся в горизонт.
Еще видел вправо и немного впереди себя Петрик, как осторожно, сдерживая большого Соловья, спускался к ручью Портос, точно хотел заставить Соловья перейти ручей в брод и как Соловей досадливо крутнул серебряным хвостом, точно сказал с сердцем: — "чего боишься… я знаю, что делать!" и в тот же миг Портос благополучно «переселился» на ту сторону ручья.
Коперник мчался, задрав голову и мотая ею, стараясь отделаться от повода. У Петрика было такое впечатление, что он ввалится в ручей, но Коперник резко, два раза ткнулся перед водой и как-то отчаянно «козлом» перепрыгнул через ручей.
На подъеме хорошо сваленная стая пошла парато и охота растянулась чуть не на версту. На резвом скаку Петрик овладел Коперником и уверенно и хорошо перепрыгнул первый забор. Затем свернули влево, спустились в овраг, миновали какие-то валы, Петрик и не заметил, как он их взял и помчался догонять передних. Радость победы над «трудным» Коперником заливала его сердце теплым током. Петрик отдался красоте и веселью лихой охоты. Свежий ветер несся навстречу и освежал пылающее лицо. Кто-то впереди потерял алую фуражку. Проскакивая мимо нее, Петрик подумал: "прощай, фуражка милая!" — и крепче нахлобучил свою.
Пуста была голова. Коротки и отрывисты наблюдения и так же коротки мысли. На пахоте Бражников, шедший рядом с Портосом, ввалился в черную лужину и забрызгал белого Соловья и свежий китель Портоса. "То-то, поди, ругался в душе Портос", — подумал Петрик.
Синий куст — роща без высоких деревьев — замаячил впереди. Около него стая вдруг скололась, потеряв след, и рассыпалась. Охота приостановилась. Это была передышка на минуту, необходимая для лошадей и для офицеров. Лимейль белым платком вытирал пот с лица, Драгоманов стоял, вытянув длинные ноги в стременах, и строго покрикивал на офицеров.
— Господа!.. не отставать… не отставать… Очень растягиваетесь на охоте!
Собаки сейчас же натекли и подхватили. Охота понеслась за ними. Эта маленькая передышка не освежила, но утомила Петрика. Куда девалось его прекрасное настроение счастливой радости? Светлый осенний день точно померк. Облачко набежало на солнце и тенью покрыло землю. Пахота казалась свинцово-черной. Показался ряд длинных жердяных заборов, кто-то загремел деревом и упал, но вскочил и стал садиться на лошадь, весь серый от черноземной пыли. Коперник прыгал неплохо и Петрик смело шел на заборы. Спустились, захлюпали по воде мокрого луга и за ним вырос забор, показавшийся очень высоким Петрику. Вся охота сразу, точно по команде, сдержала лошадей.
Петрик видел, как собаки, одни перескакивали, другие пролезали под жерди забора, как тяжело, слишком высоко прыгнула Примадонна, и красный фрак Лимейля уже несся, догоняя собак. Офицеры «мастерили», ища где пониже, и это мешало Петрику. Он увидал за забором большой камень и почему-то этот камень привлек его внимание. Он уже направил Коперника и броском рук повелительно приказал ему прыгать, но тут его обогнал тяжело скакавший на большом кирасирском коне штаб-офицер. Он грузно прыгнул, ломая верхнюю жердь, эта жердь столбом метнулась под ноги Коперника, и Коперник вместе с Петриком завалился на поле.
Последнее, что увидел Петрик, был странно привлекший еще раньше его внимание камень, последнее, что ощутил, был дух захватывающий полет и он не мог разобрать — вверх, или вниз, а потом наступило тяжелое небытие.
LII
Пройдя еще полторы версты по мягкой траве, охота остановилась. Собаки скололись и доезжачие, щелкая арапниками, сбивали стаю.
Генерал Лимейль слез с лошади и отдал ее подбежавшему к нему выжлятнику. Полковник Дербентский подъехал к нему с докладом, что на охоте упало двое: штабс-ротмистр Швальбе, который сейчас же сел и продолжал охоту, и штабс-ротмистр Ранцев, оставшийся лежать без сознания, при нем находится наездник, другой послан за лазаретной каретой.
— На ком скакал Ранцев? — спросил Лимейль.
— На Соловье, — сказал Драгоманов.
— На Копернике, — поправил его Дербентский.
— Как на Копернике?
Дербентский и Драгоманов обменялись взглядами. Драгоманов ничего не понимал.
— Зачем было, Николай Александрович, давать, хотя бы и Ранцеву Коперника? — мягко сказал Лимейль начальнику офицерского отдела.
Драгоманов отлично помнил, что он дал Ранцеву Соловья, и Коперника Багреневу, но он понял, что сейчас лучше об этом промолчать, и он тихо сказал:
— Не было больше лошадей. Много набитых и больных. Я думал, что Ранцев…
— Да, конечно… Несчастный случай. Ну да, Бог даст, обойдется…
Домой, с охоты, ехали усталые, но не оживленные, как всегда, а придавленные и грустные. Как это часто бывает, слух быстро облетел всех: штабс-ротмистр Ранцев разбился на смерть.
Когда подъезжали к палацу — охоту встретил школьным маршем с фанфарами хор трубачей. Торжественно бодрые звуки труб казались неуместными и оскорбительными. Генерал Лимейль хотел было отпустить трубачей от завтрака, но, увидев подходившего доктора, знаком руки остановил адъютанта и подъехал к врачу.
— Ну, как Ранцев, Александр Иванович?…
— Бог даст, отойдет. Пока все еще без сознания. Не мог обследовать, что с черепом. Во всяком случае, налицо — сильное сотрясение мозга.
И это сейчас же стало известно всем. По коридорам и спальням гремело ура! Тяжелые охоты по искусственному следу были кончены, впереди оставались легкие и приятные охоты по зверю — одно наслаждение! О разбившемся офицере не думали, каждый понимал: "сегодня ты, а завтра я… Кисмет!"
В столовой, за завтраком, играли трубачи. Разговор был оживлен и шумен. Добрый школьный врач, пришедший к концу завтрака, говорил генералу Лимейлю, что возможно, что офицер и выживет — ему только нужен — покой, полный покой…
Вдали от палаца, в местечке, за номерами для приезжающих Пуцыковича, в чистом деревянном здании школьного лазарета лежал Петрик. Фельдшер сидел над ним. Голова Петрика была забинтована. Пузырь со льдом был на ней. Петрик только что очнулся. Он ничего не сознавал — и не понимал, как это он прямо с прыгающего на сломанную жердь Коперника попал в эту чистую комнату на мягкую постель. И почему, вместо дня, был вечер и горели лампы. Он даже хорошенько не знал, кто он. Он точно все позабыл, позабыл свое имя, и уж, конечно, забыл Портоса и навязчивую мысль, что он должен его убить. За что? кого?… Он точно очнулся после смертельной болезни и выздоравливал…
Более того, точно снова родился в этот прекрасный Божий мир. Он был кротко, по-особенному, детски счастлив. Ему хотелось всех любить, и хмурое серое лицо солдата фельдшера ему казалось несказанно дорогим и милым…. Он тихо улыбался ему. Каждая мелочь его трогала и радовала. Лежать было приятно.
Ему нужен был покой… полный покой… вернуть мысли — их не было… вернуть память — она пропала… Он для себя был «никто». «Никто», только что родившийся и жадно ощущающий радость бытия.
Только голова мучительно страшно болела.
Петрик закрыл глаза. Так было легче.
— Покой… тишина… как хорошо… можно дышать… как сладко дышать… Полный покой!..
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
I
В сентябре, когда Портос был в Поставах, Валентина Петровна получила телеграмму из Вильны, что с папочкой случился второй удар и положение его безнадежно. Она сейчас же поехала с Яковом Кронидовичем к отцу. Застала она его уже в гробу. Вид мертвого отца в парадной форме, в густых, генеральских эполетах, при ленте, с орденами, положенными на подушках вокруг гроба, в маленькой, бедной и тесной Виленской квартире ее поразил. Золото эполет и синий лацкан мундира, эмали и ленты орденов были таким противоречием с низким потолком, крашеным охрой полом и теснотою в комнате, когда приходили певчие и священник служить панихиды, что сердце Валентины Петровны разрывалось от жалости к отцу. Она тупо, сквозь вуаль траурной шляпы смотрела на покрытое кисеею лицо отца и ей становилось страшно.
"Все кончено", — думала она. — "И нет ничего. Ни Захолустного Штаба, ни гнедого раскормленного Еруслана, ни бравых ординарцев, ни вежливых офицеров… Теперь и папочки нет. Имя этому смерть!"…
Она боялась смерти.
Стоя над раскрытой песчаной могилой, слушая надрывное пение, она над закрытым и забитым гвоздями гробом уже думала не о папочке, а о себе. Ей казалось, что смерть приблизилась к ней, что это ей предупреждение за ее грех, за ее постоянную ложь. Ей было жаль самою себя. Она так еще мало жила. Ей так хотелось полной радости жизни. Последнее время, установив образ жизни веселящейся «барыньки», предпринимая каждый день что-нибудь такое, где издали, вполне прилично, на «законном» основании можно было видеться с Портосом, то у Саблиных на теннисе, то в Петергофе, у Барковой, катаясь в коляске по парку, то подле самой школы, у Скачковых в чухонской деревушке Вилози, где звенело пианино в маленькой избушке и дивный голос Лидии Федоровны разносился по всему Дудергофскому озеру, куда, ради музыки, охотно приезжал Яков Кронидович и где так просто и естественно, после занятий появлялся Портос, Валентина Петровна глушила упреки совести. Всегда на людях. Всегда в новом туалете, с улыбкой на расцветших щеках, она прикрывала хмель шампанской игры своей любви радостью развлечений. Теперь ей придется от всего этого отказаться. Траур! Она не пеняла за это на папочку. Он не был виноват. Но судьба!.. Судьба была к ней жестока.
После похорон, где было много народа, были представители всех полков дивизии, она наслушалась комплиментов. Траур к ней шел. Ее расцветшее за пору любви тело все еще было тонким и стройным, глаза цвета морской воды под плерезами были громадны, и свежий румянец щек и яркость губ гасились черным цветом. Закрытая грудь была безупречна, и талия тонка и стройна.
"К чему эта красота!" — думала она. — "Она пройдет… И ее ожидает могила!"
Ее тянуло домой. В Петербург… К Портосу… Она знала, как он ждал ее, как желал! Но надо было остаться до девятого дня, помочь мамочке, уезжавшей доживать свой вдовий век в Полтавскую губернию к двоюродной тетке.
Разговоры о печальном будущем мамочки, ее слова: "дожить бы скорее, а там к нему, моему голубчику, Петру Владимировичу" — пугали Валентину Петровну. Они точно приближали и ее день смерти, а так жадно хотелось еще пожить… с Портосом…
Теперь при ее трауре, по крайней мере на полгода, что ей осталось? Музицировать по вторникам в замкнутом кругу избранных друзей, да ездить в закрытом черном платье на интимные семейные вечера с бриджем и скучными разговорами на злобу дня…
А жизнь тем временем уходила. Коротка была жизнь и каждый ее час казался драгоценным.
В девятый день, стоя на панихиде над свежей могилой с деревянным белым крестом и жестяной табличкой, она тупо смотрела в землю и мысленно вопрошала папочку: "папочка, скажи, — это грех?.. так лгать?.. любить Портоса?.. Папочка?"…
И ей казалось, что она слышит былой ласковый смех папочки… Того папочки, какой ей был всего дороже, папочки, командира Старо-Пебальгского полка. Говорил папочка на ее просьбу дать лошадей ей и Портосу из трубаческой команды: "Алечке все можно!.. Алечке все позволено!".. "Все можно?" — мысленно говорила Валентина Петровна. — "Все позволено?… И Портос?"…
Шумели кладбищенские сосны. Печально, надрывно пели "вечную память" охрипшие певчие и над могилой стояли только мамочка, Яков Кронидович, квартирная хозяйка и Валентина Петровна. Все было кончено. Время было уезжать по домам. Одинокая и заброшенная оставалась могила.
II
В Петербурге Валентину Петровну ожидала радость. Портос был назначен адъютантом при штабе округа и оставался в Петербурге. Об этом просила Валентина Петровна генерала Полуянова — и Иван Андреевич, хитро улыбаясь косящими глазами и поднося к губам ее ручку, сказал: — "Могу ли я вам в чем-либо отказать?" — И устроил это назначение. Вернувшийся из Постав Портос бывал у Валентины Петровны очень редко, всегда по приглашению и всегда на людях, с другими гостями. Этим, по взаимному соглашению, усыпляли ревность Якова Кронидовича. Яков Кронидович получил звание профессора. Тяжелые предсказания Стасского не сбылись. И коллеги профессора, и студенты к нему относились отлично.
Он был счастлив… Почти счастлив. Насмешливо-покровительственный тон, усвоенный теперь Валентиной Петровной, его не раздражал. Правда, — холодок в интимной супружеской жизни стал как будто больше, но занятый наукой, лекциями, отдававший часы досуга музыке, Яков Кронидович с этим примирился. В 45 лет и он не был вулканом страстей, и тот тон сердечной любви и иногда трогательной чистой ласки и всегда полного к нему, к его вкусам и привычкам внимания был не плох. Он любовался своей Алечкой… Он знал, что она его и ничья больше, и ему было хорошо. Он даже забыл о "третьем перекрестке", о третьей страшной встрече с "плавильщиком душ"… Он много работал и, став профессором, сделался рассеянным и забывчивым…. Лишь иногда появлялось в доме что-то, что при большем внимании к домашней жизни казалось бы странным, но Яков Кронидович жил как бы вне дома и нигде не замечал ничего странного.
Не видел он ничего подозрительного в том, что у Валентины Петровны в спальной, на ночном столике, всегда стояли цветы… Четырнадцать белых далий и две золотистые мохнатые, в кровавых подтеках хризантемы… Их вдруг сменяли — и тогда, когда они еще были совсем свежими — пятнадцать белых и шесть пунцовых гвоздик… Всегда двух цветов — белых и каких-то других — цветных. — Но что тут странного: Алечка всегда любила цветы. В Захолустном Штабе их у нее всегда бывало много.
Раза два-три в неделю, утром, когда Якова Кронидовича не бывало дома, на кухню приходил мальчик из цветочного магазина «Флора». Он приносил корзину с цветами белыми и другими. Валентина Петровна сама выходила к нему и почему-то всегда волновалась. Дрожащими руками, сосредоточенная, нахмурив брови и что-то соображая, она отсчитывала цветы. Мальчик записывал, что она взяла, и уходил. Иногда экономная Таня скажет:
— Вы бы, барыня, не брали цветов. Те еще совсем хороши.
Валентина Петровна всегда смутится, покраснеет, точно растеряется и скажет:
— Ах, нет… Эти такие милые… Те… поставьте в столовую… или, знаете, выбросьте их. Астры, как постоят, всегда вода скверно пахнет…
— Да я, барыня, свежей воды налью. Ничего пахнуть не будет. У нас в Захолустном-то Штабе по две недели астры в воде стояли!
Яков Кронидович об этом не думал. Он был очень занят. Жизнь — и это не парадокс — поставляла ему почти каждый день мертвые тела. Стоя перед загадкой смерти, стараясь ее разгадать, он забывал про это обилие цветов. В спальне жены цветы, в столовой, в гостиной, везде букеты. Это было даже приятно. Надышишься тяжелым трупным духом в анатомическом театре — и так-то хорошо придти домой, где всегда свежий, точно оранжерейный запах, то тубероз, то гвоздики….
Потом, — это началось в октябре — стал Яков Кронидович, разбирая свою почту, находить между повесток и писем конверт без адреса, и в нем на листочке белой бумаги отбитые на машинке: "воскресенье три часа дня", или "среда шесть вечера".
Яков Кронидович возьмет бумажку, рассмотрит ее, наморщит лоб, стараясь вспомнить, что это такое… "Воскресенье — три"… "Да я воскресенье с утра и до шести пробуду в Петергофе… Там уездный врач на такое наткнулся, что ничего не поймет… Среда — шесть… Я с пяти на заседании совета. Мистификация какая-то"…
Он бросал бумажки в корзину и сейчас же забывал о них.
В эти дни — если бы он их помнил, — он находил Алю какой-то размягченной, милой, ласковой, в том ее новом вызывающе-насмешливом тоне, который ему нравился, и всегда окончательно недоступной.
— Нет, милый… у меня сегодня мигрень… Голова болит… Череп раскалывается, — скажет она ему с милой улыбкой.
И — точно: личико бледное, под глазами синеет веко, покрытое маслянистой влагой, и смотрит она уже черезчур спокойно и равнодушно.
— И правда, ложись. Отдохни… Ты и точно нездорова… — говорил он со своей милой и доброй улыбкой.
Она не ляжет… Подойдет к роялю и играет ему долго, долго… И он слушает и не может понять, что в том, что она играет.
Любовь… страсть… буря… счастье… или страшная мука!..
— Что ты играла? — спросит он. — Отовсюду понемного как будто?
— Да… Музыка, — вставая скажет она и безсильно опустит прекрасные руки. — А музыка — это ложь!.. Я просто лгала тебе. — Вздохнет.
— Ну… покойной ночи, мой милый.
Тихо подойдет, поцелует его в лоб и, неслышно ступая, пройдет, сопровождаемая левреткой. И слышит Яков Кронидович это оскорбительное щелкание запираемой на два поворота ключа двери ее спальной.
Он и без этого точно не придет!
III
Мучительные иногда бывали ночи. Валентина Петровна, утомленная дневными ласками, вечерней игрой на рояле для Якова Кронидовича или с Яковом Кронидовичем, а более того — этой нудной и отвратительной целодневной ложью, уйдет к себе.
На ночном столике увядает букет "памяти".
Они всегда уславливались на самом свидании, когда встретятся снова, и эти цветы были лишь на случай перемены, для проверки и для памяти.
Он теперь не нужен больше. Завтра коричневый мальчик из «Флоры» принесет новый. Этот станет в столовой напоминать о прошлом.
Валентина Петровна простилась с Таней — теперь она раздевалась и ложилась одна. Таня увела Ди-ди.
— Укройте ее хорошенько. Так холодно сегодня. Она вся дрожит.
— Покойной ночи, барыня.
В спальне тихо. Мягко горела лампочка под темно-желтым шелковым абажуром на ночном столике. Подле цветы. Гвоздики. Их пряный запах кружил голову, мешал заснуть. Тело в блаженной истоме нежилось на мягких перинках. Все было так привычно. Думка под пылающей щекой, большая подушка сбоку. Чуть доносилось гудение города и казалось далеким.
"Портос любит мое тело. Только его. Музыка — прибавление. Может быть, даже лишнее… Развод?.. Это был бы выход. Ну, солгала, обманула, но и исправилась… Если я полюбила… по-настоящему полюбила"..
Да, его она любила «по-настоящему». Всего. Все в нем было мило. Она была его. Ему все было позволено…
"Нет, развод невозможен. Он убьет Якова Кронидовича, этого большого ребенка. Вот ему — тело мое совсем не нужно. И состарюсь я, и подурнею — он все так же будет меня любить, слушать мою игру, мой голос, любоваться моею душою, моим умом и баловать меня. Как я его, такого… покину… Скандал… Ну, скандал скоро забудут. Это теперь как будто даже и принято. Какая из дам нашего общества не имела двух, трех мужей… Но… Портос никогда не говорит о разводе?"
И вдруг точно что-то ей открылось. И это что-то было такое унизительное для нее, такое страшное, что она заплакала.
Она просто — любовница.
Это слово с детства казалось ей оскорбительным для женщины. В нем было нечто принижающее, несовместимое с «королевной», «божественной», "госпожей нашей начальницей". Она стала вспоминать то, что было сегодня, три дня тому назад… Да, Портос бывал груб… Это была ласковая грубость, но — грубость. Он не стеснялся при ней, — при… любовнице. Тогда это казалось милым — ведь она боготворила его. Он был особенный… Сейчас показалось оскорбительным. И будет день, когда он уйдет от нее, бросит ее, как всегда бросают… любовниц. Она не из тех, кто в таких случаях убивает. "Если не я — то смерть!"… Она просто жалкая заблудшая женщина. Жалкая самой себе…
Она вскочила. Когда это будет? Когда она подурнеет. В рубашке и босиком она побежала к зеркалу. Зажгла все лампы. Осветила всю себя. Слезы текли, текли и текли по щекам, подходили к углам пухлого рта, падали на подбородок.
"Нельзя плакать! Не надо плакать! Слезы долбят морщины…. Вот и то, кажется, между бровей"…
Она приближала лицо к зеркалу так, что оно потело от ее дыхания, и щурила прекрасные глаза. Нет, нигде не было морщин. Свежа была кожа, ярок румянец пылающих щек и быстро сохли на них слезы. Она спустила рубашку с груди. Хоть картину пиши! Все было свежо, все цвело, дышало счастьем, радостью любви, везде хранило следы горячих поцелуев, ощущало касания страсти.
"Живу!"…
Валентина Петровна возвращалась в постель, куталась в одеяло, переворачивала омоченную слезами «думку» сухой стороной и засыпала.
Она спала крепко. Потом проснулась. Ей показалось, что кто-то неслышно вошел в ее комнату и сел на постели в ногах. Не страшный… Она открыла глаза. Вся спальня была точно напитана ровным голубоватым светом. Но электрические лампы не горели, портьеры были наглухо задвинуты и далеко было до рассвета. Долга Петербургская октябрьская ночь. Мертвенно тих был город.
То ощущение, что кто-то сидит у нее в ногах, продолжалось. Она стала вглядываться, и все яснее и яснее стала видеть во всех мелочных деталях сидевшую у ее ног фигуру.
Это был папочка!..
Но папочка умер месяц тому назад. Это не смутило и не испугало в ту минуту Валентину Петровну. Она видела папочку таким, каким он был, когда она была дивизионной барышней, а он начальником дивизии в Захолустном Штабе. Он сидел в серой тужурке, так смешно называвшейся "укороченным пальто". Тужурка была расстегнута. Алые лацканы были четко видны. Под нею пикейный белый жилет с золотыми пуговками. Папочка смотрел на Валентину Петровну с любовью и жалостью. Он, верно, «там» все знал про нее — и он ее жалел. Он поднял руку и коснулся ее выпростанной поверх одеяла руки. Она не ощутила его прикосновения. Ни холодом, ни теплом не повеяло от него. Она не испугалась. Папочка гладил ее руку и смотрел ей в глаза своими серыми добрыми глазами. Ни грозы, ни упрека в них не было. Точно говорил: — "Алечке все позволено"…
— Папочка! — вскрикнула Валентина Петровна.
Папочка встал и вышел из комнаты. И, когда вставал, стукнули медные висячие пуговицы тужурки о деревянную спинку кровати. Сухой такой вышел стук.
Папочка прошел к двери и исчез за нею.
Только тогда стало страшно Валентине Петровне. Она зарылась с головою в подушки и тотчас же заснула.
Проснулась она поздно. Диди давно царапалась и визжала за дверью. Валентина Петровна встала разбитая, с тяжелою головою. И весь день преследовал ее сухой стук висячих пуговиц о дерево спинки кровати. Она вспоминала во всех подробностях все, что было ночью, и она не знала — снилось это все ей, или это был призрак?
Ей было страшно ложиться спать. Сухой стук пуговиц казался ей везде. Она уложила в кресло подле своей постели Ди-ди.
Но странно спокоен, тих и глубок был ее сон в эту ночь.
Точно унесла тень отца ее заботы и мучения совести.
IV
В этот ноябрьский понедельник мальчик в ливрейном коричневом пальто «Флоры» утром принес пятнадцать веток душно пахучих, точно восковых тубероз и одну нежную орхидею. Очень дорогую. Валентина Петровна ничего не переменила в составленном кем-то букете.
В то время, как она устанавливала цветы на ночном столике — орхидею в высокую тонкую рюмку, а туберозы в розовую вазочку Розенталевского фарфора, задержавшийся в кабинете Яков Кронидович разбирал утреннюю почту.
Среди пакетов и бандеролей опять лежал точно кем-то нарочно подброшенный анонимный пакетик. Рассеянно, ногтем его вскрыл Яков Кронидович. Клочок наскоро вырванной, с неровными краями, точно газетной бумаги и надпись на машинке: — "понедельник, три часа дня"… и пониже: — "Кирочная, 88".
Указание адреса в анонимной записке смутило Якова Кронидовича. На этот раз он не разорвал и не бросил записки, но стал ее внимательно разглядывать. Кто-то — и таинственный кто-то — определенно назначал ему свидание и указывал место. Что как это судьба — тот "третий перекресток", о котором говорил плавильщик душ в Пеер Гюнте, что как это Стасский зовет его на третью встречу для последнего рокового объяснения? Но зачем Стасскому Кирочная? Его квартира на Моховой, и сколько раз у него там бывал Яков Кронидович?
"Понедельник"… — думал Яков Кронидович, — "да ведь это сегодня. Три часа? В два часа в совете, в Министерстве у Чернышева моста — очередное заседание. Я могу, положим, уйти с него. На повестке — вопросы, стоящие вне моей компетенции. Хорошо… я поеду туда к трем… А дальше? Кого искать? Кого спросить?.. Нет, это просто глупо"…
Но пытливый, трезвый, изощренный в работе ум Якова Кронидовича был такого свойства, что если бы он увидал призрак, — он подошел бы и ощупал его. Он узнал бы его природу. Записка была тоже призрак. Но призрак определенного места — Кирочная 88! — Он пойдет и осмотрит этот призрак. Узнает, кто там скрывается. Это было не любопытство, но жажда знания и еще… малая бравада — в смысле, конечно, "третьего перекрестка".
В пальто и галошах он прошел к жене. Он застал ее в столовой, в необычном насмешливо-ласковом настроении. Очень милом и радостном.
Она встала от чайного стола ему навстречу и, как всегда, поцеловала в щеку.
— Идешь уже, — сказала она. — Ведь у тебя заседание от двух?
— Да… Я в Академию раньше.
— Завтракать будешь?
— Нет, я там и позавтракаю. А ты что будешь делать?
Она села против окна за самоваром. Глаза цвета морской воды рассеянно устремились на окно, за которым тихий стоял туман. Она зябко подернула плечом.
— Не знаю… — сказала она. — Надо бы к портнихе… Да такой туман… Пожалуй, посижу дома. Позвоню ей по телефону.
— Вот и отлично.
— Как думаешь, когда кончится заседание?
Темные ресницы прикрыли на половину глаза, ставшие внимательными и острыми.
— Часам к шести, семи.
— Так поздно… Я подожду с обедом… Если не устанешь, — будем играть.
— Отлично.
Яков Кронидович хотел ее еще поцеловать. Очень красива была она в утреннем капоте и в чепчике на еще неубранных в косы волосах. Она угадала его желание. "Вот еще", — подумала она. — "Какие нежности!" Она взяла чашку и стала пить маленькими глотками чай. Яков Кронидович потоптался с секунду, поскрипывая новыми блестящими калошами по паркетному полу, и пошел из столовой.
"Ушел… и слава Богу!" — подумала Валентина Петровна, торопливо допила чай и, как только услышала, как хлопнула дверь и щелкнул американский замок, прошла в спальню.
Ее прическа и туалет в это утро были особенно тщательны. Для Портоса!.. Она угадала значение неожиданной присылки цветов. Сегодня, в три часа. Отлично! Она приняла приглашение. Ей было скучно дома. В такой туман!.. В такую темень! Там будет чудно! За спущенными наглухо тяжелыми портьерами, в сиянии электрических лампочек будет милый, веселый завтрак, игристое шампанское, икра, дорогие, редкие фрукты. Да… конечно… все это радости жизни, и зачем от них отказываться, если Господь их посылает? Жизнь так коротка! И Портос… Он умеет быть удивительно милым…
За завтраком дома, к огорчению Марьи и Тани, — она ничего не ела.
В третьем часу она позвонила Таню и прошла в переднюю. Сегодня она снимет надоевший ей траур. Он не к лицу ей, такой оживленной и счастливой сегодня. Она надела серого меха шапочку, опустила вуаль с большим узором. Заглянула в зеркало. Она и не она. Не узнаешь!.. С прошлого Благовещения не надевала она этой шапочки.
Таня по шапочке догадалась, что надо ей подать и достала из шкапа шубку из серой белки. Валентина Петровна села на ясеневый стул с высокой спинкой. Диди ласкалась к ней. Таня обувала на ноги серые высокие ботики, обитые белкой. Валентина Петровна подставляла ей одну за другою ножки и тихо под вуалью улыбалась. "Как он их снимать будет!.. Зацелует через шелк чулка ее стройные ножки. Да и стоит! Он это понимает!.."
— Прогуляйте, Таня, собаку…
— Когда вернетесь, барыня?..
— Не знаю, как задержит портниха. Часам к шести….
Она встала. Окинула себя сверху взглядом, ладонью сравняла серебристые складки на шубке. Совсем белочка!
— Не простудитесь, барыня, сиверко очень… Коленки-то совсем шубкой не прикрыты, — заботливо говорила Таня, любуясь своей барыней. — На извозчике, как поедете, полостью хорошенько запахните ножки-то…
Валентина Петровна улыбалась ее ласке. Она не поедет. Зачем? Еще рано. И всегда лучше немного опоздать, чтобы ее ждали. И недалеко вовсе. Ходьба ее согреет. Побежит по жилкам горячая кровь, ударит румянцем в щеки, сделает горячим и частым дыхание. А там…
— Прощай, Таня… На Диди попонку наденьте. Как дрожит она!..
Хлопнула, закрываясь, дверь.
Густой, липкий, буро-серый туман спустился над городом. Было совсем темно. Уже горели по улицам фонари, и от них к небу шли черные треугольники теней. Было тепло и сыро. Эти треугольники теней под небом, скрывшиеся в тумане верхи домов, пешеходы, скользившие точно призраки, — все казалось Валентине Петровне какой-то картиной взбалмошного кубиста. Она не узнавала своего милого Петербурга. По скользким и липким торцам она перебежала Невский. Мелькнули высокие лакированные офицерские сапоги на желтых колодках, выставленные в ярко освещенном подвальном окне сапожника Гозе. Узким коридором вправо ушел Гусев переулок с его одноэтажными особняками. На Бассейном трамвай с ярко освещенными окнами перегородил ей дорогу. Ей показалось, что в трамвае она увидала черную с оранжевым верхом фуражку Мариенбургских драгун. Она вздрогнула… Петрик?.. Нет, Петрик, — она знала это от Портоса, — лежал в госпитале в Ново-Свенцянах… Кто-нибудь из школы, приехавший на смену Петрику.
Она справилась у фонаря со своими маленькими золотыми часиками с бриллиантиками и рубинами вокруг циферблата — подарок Портоса — Якову Кронидовичу она сказала, что это ей подарил отец. Было без пяти минут три. Она пошла тише. На Кирочной, узкой, темной и грязной в этом месте, она, не глядя на номера, сейчас же нашла «тот» дом. Она перешагнула, чуть зацепив резиновой подошвой ботика за железный порог калитки. В подворотне было темно. Под тусклым фонарем висела белая доска с номерами и фамилиями жильцов, живущих во дворе. Против номера квартиры Портоса было пустое белое место. Так настоял Портос. Она толкнула дверь в подворотню. Узкая лесенка в два марша. Как всегда, ярко горело электричество. Чисто… тепло. Пахнуло духами его гарсоньерки. Лестничка шла только к нему. Дверь, обитая темно-зеленым сукном, показалась Валентине Петровне серьезной и строгой. Ярко и холодно блестели золотые пуговки. Темнело не выгоревшее место, где раньше была чья-то медная доска с фамилией. Она потянула за край сукна. Всегда в ожидании ее дверь была приоткрыта. Дверь не подалась. Она позвонила. Слышала, как задребезжал колокольчик и замолк. Никого. Она приложила ухо к двери. Уловила какой-то странный стук. Точно там, в квартире, рубили дрова…
Что он?.. Печку что-ли растапливает? — Какой чудак!.. — Она позвонила еще раз.
Стук прекратился. Ей показалось, что кто-то подкрался к двери с той стороны и стоял отделенный только досками. Это был не он… Не Портос. Портос никогда бы не стал красться. Стало ужасно страшно. И быстро, быстро вдруг забилось сердце в ожидании чего-то неотвратимого.
— Портос! Это я… — негромко сказала Валентина Петровна.
Никто не откликнулся.
Было томительно тихо. Но она чувствовала, что кто-то стоял за дверью и так же, как она, слушал.
Она постояла еще минуту. Потом ужасный, кошмарный страх охватил ее и она бросилась вниз, выскочила в подворотню и побежала на улицу.
Туман стал еще гуще, и черные сумерки ноябрьского вечера свинцовой шапкой накрыли город. В десяти шагах пешеходы казались тенями. Издалека доносились частые звонки трамваев. Извозчики на пролетках подняли кожаные верхи. Шел липкий мокрый снег.
В страшной тревоге, — не случилось ли что с Портосом — Валентина Петровна быстро пошла по улице и чуть не наткнулась на Якова Кронидовича. Он шел не со своей стороны, а вдоль домов и, задрав голову кверху, разглядывал номера над воротами.
Испуганная Валентина Петровна пробежала, нагнув голову, мимо него и остановилась в тени у самого фонарного столба. Она следила за мужем. Она видела, как он долго в раздумье стоял у ворот «их» дома. Черная мерлушковая шапка совсем побелела от снега. Наконец, он решительно позвонил дворника.
Там что-то случилось… И что-то ужасное. Валентина Петровна почувствовала, что еще минута — и она от волнения лишится чувств. Она, шатаясь, дошла до первого извозчика и, влезая в пролетку, дрожащим голосом сказала:
— На Николаевскую, около Невского!
V
Яков Кронидович в совете был очень задумчив и рассеян. Монотонно и скучно читал секретарь протокол прошлого заседания.
Один из членов внес поправку, и чтение протокола затянулось. Яков Кронидович не мог прогнать из своей головы мысли о странной записке. От кого она могла быть? Подозрение на Стасского он откинул. Не в характере Стасского, прямом и слишком резком, было писание таких анонимных записок… Но Якову Кронидовичу все казалось, что эти подозрительные записки должны непременно иметь отношение к тому, Дреллисовскому, делу… И вдруг — его точно осенило. "Да ведь это племянник Вася Ветютнев"… Он еще в Энске сказал дяде: — "прямо писать по этому делу остерегаюсь. Розыски делать буду. Осведомлять буду условно". — "Ну и осведомлял!" Все цифирные записки стали вдруг ясными. Вася находил свидетелей. "Еще недавно… Да, когда, бишь, это было?… Ну да…. на прошлой неделе… Вася писал, что он едет в Петербург. Писал, что свидание необходимо. Сообщит час и адрес… Конечно, Вася! И с чем-нибудь по тому делу! Интересно, однако, повидать его"…
Яков Кронидович не слыхал, как председатель обратился к нему:
— Коллега, вы ничего не имеете против внесения в протокол поправки Ступицына?
Председатель повторил вопрос.
— Задумались о чем-то, — сказал он. — Замечтались.
— Нет, — сказал Яков Кронидович. — Я озабочен. Я получил сегодня деловую записку, вызывающую меня к трем часам. Я колебался… А вот, пораздумав, считаю своим долгом поехать.
Он был необычно взволнован. Председатель и члены это сейчас же заметили.
— Что же, господа, отпустим Якова Кронидовича. Обойдемся без него, — сказал председатель.
— Конечно… на повестке ничего особенного нет, — раздались голоса.
— Я ко второй половине приеду… Мне тут одно дельце, — непонятно самому себе, почему он волновался, сказал Яков Кронидович. — Через час я буду обратно…
И это все не укрылось от членов. Слово «дельце» было непривычно для Якова Кронидовича и оттенило его волнение.
Секретарь просил подписать предыдущий протокол, и Яков Кронидович стал спускаться в большую прихожую. И швейцар, достававший ему калоши и подававший ему пальто, заметил, что Яков Кронидович был "как-то не в себе. Точно ему нездоровилось". Профессор приказал позвать извозчика на Кирочную.
С улицы номеров не было видно и Яков Кронидович, доехав до Знаменской, отпустил извозчика и пошел, отыскивая 88-й номер. Из ворот выскочила какая-то высокая, стройная женщина в сером и быстро прошла мимо. Яков Кронидович не обратил на нее внимания. Он в недоумении стоял у дома № 88. Дом был, как многие дома в Петербурге. Громадный, темный, тусклый, с двумя дворами и высокими флигелями внутри. Кое-где светились огнями окна. Крыша исчезла в тумане. Большие тяжелые, дубовые ворота были заперты, но калитка была открыта. Яков Кронидович постоял у калитки и стал звонить к дворнику.
Младший дворник, только что собравшийся приниматься за чаепитие и потому недовольный, что ему помешали, вышел к Якову Кронидовичу в рубахе и жилетке.
— Скажи-ка, милый, где здесь у вас остановился Василий Гаврилович Ветютнев?
Дворник почесал за ухом, сдвинув на бок собачьего меха шапку и раздельно, точно во что-то вникая, проговорил:
— Вя-тю-тнев… Нет… у нас такого нет…
— Может быть, он остановился у кого-нибудь из жильцов?..
— Все одно — знали бы… Без прописки никак невозможно. Да вот — поглядите сами на доску, может, кого и угадаете?
Дворник показал Якову Кронидовичу на тускло освещенную внутренним фонарем доску и ушел в дворницкую. Яков Кронидович подошел к доске. Против доски была распахнутая дверь, за нею ярко освещенная лестница. Она почему-то особенно врезалась в памяти Якова Кронидовича. Он стал читать фамилии: Козлов, Шульц, Репейников, Гладков, Васильев, Шлоссберг… Он понял, что это безполезное дело.
"Странный Вася", — думал Яков Кронидович. — "Дал адрес и не указал у кого?"
Дочитав до конца фамилии жильцов и, не найдя ни одной подходящей, Яков Кронидович в большой рассеянности вышел никем не замеченный из ворот и сейчас же скрылся в тумане сгустившихся вечерних сумерек.
"Какой это все вздор!" — думал он. — "Какой-нибудь шутник, гимназист какой-нибудь, просто так балуется, а я старый человек, дурака валяю". Но он в душе был доволен, что пошел. Ему показался призрак — он пошел на этот призрак и увидал, что ничего нет.
Раздумывая, размышляя о пределах между таинственным и глупым, между шалостью и предвидением, он шел в тумане пешком, не замечая улиц и позабыв о заседании. Он прошел мимо Знаменской; Надеждинскую принял за Знаменскую и очутился на Литейном. Извозчиков было мало. Все они были заняты. Медленно, непрерывно позванивая, двигались по рельсам трамваи, и их ярко освещенные окна проходили едва приметными желтыми пятнами. Пешеходы были редки. Город казался призраком и жуткое чувство тоскливого одиночества охватило Якова Кронидовича. Он брел в тумане, не узнавая улиц, и был точно вне времени и пространства. Мучительно давило виски. Прохожие становились все реже и казались тенями.
"А ведь в таком тумане и заблудиться не хитро. Джунгли…. Чистые джунгли — большой город… И сколько в нем ежечасно совершается преступлений"… Только выйдя на Фонтанку, Яков Кронидович немного опознался. На Фонтанке туман был так густ и темен, что не было видно ее тихих вод. Пароходы не ходили. Отсчитывая мосты и улицы, путаясь и ошибаясь, медленно, точно в кошмаре, или бреду подвигаясь по скользким от мокрого снега панелям, усталый, вспотевший и запыхавшийся Яков Кронидович после почти полуторачасовой ходьбы добрел до министерства.
"Здорово я блукал, должно быть", подумал он, глядя на часы в швейцарской, показывавшие шестой час.
— Заседают? — спросил он швейцара.
— Еще не кончилось, пожалуйте-с — сказал швейцар.
Яков Кронидович поднялся в зал заседаний.
— А, Яков Кронидович, вы-таки приехали, — сказал председатель. — Я на вас не рассчитывал. Но очень кстати… Скажите… Сколько времени надо, чтобы разделать труп?… Отделить конечности, голову, упаковать в свертки?
Яков Кронидович, казалось, не понимал вопроса. Он вытирал пот со лба. Налил в стакан воды и жадно выпил.
— То-есть, как это? — спросил он.
— Я вам поясню-с… Это все по делу, помните… инженера Гилевича… Убийство в Фонарном переулке…. Сколько лет прошло, а из министерства Юстиции принципиальный запрос.
— Да… вот оно что, — отдуваясь и садясь на свое место, сказал Яков Кронидович, — что же… опытный прозектор, с хорошими инструментами вам в час разделает… Ну, а Гилевич… инженер… он, поди, с непривычки повозился таки… — Яков Кронидович посмотрел на свои массивные часы. — Однако, — сказал он, — я у вас, поди, два часа украл.
— Это ничего, — сказал председатель.
Заседание продолжалось.
VI
Валентина Петровна, шатаясь, держась за перила лестницы, с трудом поднялась к себе и позвонила. Как долго не открывали! И, как перед тою дверью, ее охватил ужас. Могильной тишиною веяло из-за двери. Наконец, послышались торопливые шлепающие шаги и дверь распахнулась в темную прихожую.
— Кто это? — испуганно вскрикнула Валентина Петровна. — Это вы, Марья?
— Я, барыня. Дома-то никого нету. Ермократ Аполлонович с утра уехали, Таня собачку повела прогуливать.
— Зажгите же свет!
— Ах, ты, какая я… Мне-то с темноты и не вдомек, что вам со света не видно.
Валентине Петровне наглым показался яркий свет электрической груши в матовом тюльпане. Вешалка с ее пальто, ротондами и шубками, точно живая, стояла перед нею.
Сидя на ясеневом стуле, она нетерпеливо ждала, когда Марья снимет с нее ботики. Такая она неискусная! Как он их снимал! Как, пожимая ее ножку у щиколотки горячей рукой и приподняв юбки, целовал ее колени… Что с ним случилось?… Где он?…
Сквозь полутемные комнаты она прошла в спальню. Зажгла только одну низенькую, на толстой бронзовой ножке — амур, сжимающий сердце, — лампочку с темно-желтым, приятным для глаз абажуром. Села в том кресле, что стояло у постели. Расстегнула богатое платье.
Но он там был? Он, или кто-то другой? Но кто другой мог быть там, когда никому не было известно их убежище, — кроме них двоих?
Она сидела глубоко в кресле, устремив глаза на окно. Портьера не была задернута, занавесь не была спущена. Свинцово-серым казалось окно. Обыкновенно, если смотреть в него, то за углом дворового флигеля, через голый садик, были видны фонари улицы. Туман был так густ, что сейчас ничего не было видно. Точно плотная серая подушка была прижата к окну со стороны двора. Город точно затих в каком-то испуге. Мелкий сыпал снег и таял на стеклах. Изредка было слышно, как, накопившись на переплете окна, тяжело падала на железный подоконник большая капля.
Сколько времени прошло — Валентина Петровна не знала. Она считала капли. Одна, другая, две сразу, и опять нет… и снова одна.
Кто же там был? Почему на ее призыв не открыл ей двери Портос и не заключил, как всегда, в свои объятия? А, если он был не один? Почему и зачем туда пошел Яков Кронидович? Кого там искал? Портос попал в ловушку!.. Петрика видала она в трамвае, или кого-то другого?
Ее била лихорадка.
Тишина спальни была ужасна. Маленький будильник в перламутровой оправе громко тикал на ночном столике! Страшное время шло неумолимо. И нельзя уже было остановить того неотвратимого, что надвигалось.
Все темнее становилось окно. Надо было встать и опустить штору, но было страшно вставать. Только так, совсем плотно прижавшись к спинке кресла, чувствуя себя кругом подле своих предметове еще кое-как можно было справляться со страхом.
Вдруг она услышала быстрые, четкие его шаги. Ясно, его звоном — он слегка наступал на репеек — позванивали шпоры…
Она нагнулась, схватившись рукою за ручку кресла. Ее глаза расширились. Сердце быстро, быстро билось в груди и делало больно.
Дверь медленно, точно сама собою раскрылась. В легком сумраке, в золотистом отсвете маленькой настольной лампы, в прямоугольнике двери, она увидела Портоса. Его лицо было мертвенно-бледно. Темно-каштановые волосы были всклокочены и сбиты. Они безпорядочными прядями упадали на синевато-белый лоб. Глаза были закрыты. Синий рубец лежал на шее. Портос неподвижно остановился в дверях.
— Портос! — крикнула Валентина Петровна.
Портос не шелохнулся.
— Володя!..
Фигура чуть заколебалась в дверях.
Необычайный страх охватил Валентину Петровну. Громадным усилием она заставила себя протянуть руку, схватила розового орлеца грушу и надавила на пуговку С ужасающею отчетливостью она услышала, как за двумя стенами, на кухне серебряной трелью залился колокольчик. Хлопая дверьми, побежала Таня и остановилась в столовой, не входя в спальню.
Прошло время…. Может быть, секунды… может быть, длинные, страшные минуты…
— Таня! — закрывая лицо руками, крикнула Валентина Петровна.
Фигура Портоса, стоявшая в дверях, медленно исчезла, точно растаяла. Валентина Петровна увидала бледную, едва дышащую Таню.
— Таня… Почему ты не входила? — прошептала, задыхаясь, Валентина Петровна.
— Я не могла войти, барыня, — трясясь всем телом, сказала Таня. — Господин Багренев стояли в дверях.
— Что?.. Что ты говоришь! — воскликнула Валентина Петровна и, вскочив с кресла, путаясь в падающем с нее платье, бросилась к Тане. В столовой, полной света, сзади Тани стояла Ди-ди. Она не подошла к хозяйке. Она стояла, повернув назад голову. Ее тощие уши были приподняты и стояли нервными, настороженными трубочками. Ее пасть была оскалена, шерсть на спине поднялась дыбом, и громадные глаза выражали несобачий ужас.
Валентина Петровна вздрогнула всем телом. Больше всего, казалось, поразила ее пустота на том месте, где она так отчетливо видела Портоса. Она стояла перед непостижимым, нездешним… Потустороннее было перед нею — и в этом потустороннем уже был Портос. В страхе туманна и неясна была мысль, но две отправные линии наметились в ней, два сопоставления: запертая дверь, непонятный стук в комнате, и встреча с Яковом Кронидовичем. Это было страшнее призрака. Потом, через какой-нибудь миг, что-то толкнуло в висок — то, что она переживала сейчас, было так нестерпимо, что не могла она дольше держаться. Таня, столовая, с ярко освещенным, пустым, еще не накрытым столом — все это во всей обыденности своей уже не успокаивало, но раздражало и пугало, все говорило о том, что между нею и ними что-то было и больше всего говорили об этом налитые ужасом выпученные глаза левретки.
Валентина Петровна сделала два неровных скользящих шага и упала на руки подбежавшей к ней Тане.
VII
Петрик поправлялся медленно. Одиннадцать часов он был без памяти, и память возвращалась к нему очень постепенно. Из Постав его перевезли в Ново-Свенцянский госпиталь. Часами сидел он там, то в кресле госпитального сада, то у окна палаты и следил, как на его глазах медленно умирала природа. Пожелтели, потом побурели листья тополей и лип и вдруг налетавшие бури с дождем оголяли ветви. Все больше мертвых листьев валялось по дорожкам сада и гуще и прянее становился осенний запах их тления. В сухую погоду их сгребали в кучи и жгли, и едкий дым проникал в окна. Небо меняло окраску. Вылиняла его прозрачная голубизна и редко было оно без завеси облаков. Постепенно Петрику стали давать книги и, чем дальше, тем скорее и яснее возвращались к нему память и мышление. Точно он снова родился и рос с невероятной быстротой, вновь переживая детство, отрочество, юность…
К ноябрю он был совершенно здоров, — хоть сейчас на коня и перед эскадрон — все вернулось ему и лишь иногда, в минуты непонятного волнения, в его памяти образовывались как бы провалы. Вдруг — то несколько минут, то час и больше — он жил, как бы не сознавая себя, и ничего не помнил, что он в это время делал. Он спрашизал у других больных и с удивлением узнавал, что он ходил по садику, сидел в кресле, читал, даже разговаривал и вполне здраво. Он же сам ничего не помнил. Он сказал об этом врачу. Тот успокоил его. Это бывает. Мозг еще не вполне окреп и устает, а уставая, дает впечатленния забвения. Но рефлективно — тело его будет исполнять все, что нужно. Это не опасно, постепенно и это пройдет. Это: сны наяву…
Чем крепче становилось его здоровье и яснее мысль, тем отчетливее было сознание неизбежности как-то окончить дело с Портосом. Петрик не забыл того, что было в Поставской столовой накануне охоты. Напротив, каждая мелочь, слова, интонация, жесты ему теперь вспоминались особенно ярко, и он сознавал, что это было начало, — окончание будет впереди. Он уже навел справки, и знал, что Портос в Петербурге на своей старой квартире, и он тщательно обдумывал, что ему надо сделать. То ему рисовалось дело таким, что его надо повести законным путем, через суд общества офицеров, через секундантов и разрешенную дуэль. И сейчас видел множество затруднений. Он был в Мариенбургском полку, Портос в Генеральном Штабе. Чей же суд будет разбирать их дело? Смешанный?.. Школьный?.. Суду пришлось бы все раскрыть, — и или рассказать про партию, что пахло, доносом, а Петрик самой мысли об этом не допускал, или напирать на оскорбление женщины, выдать, назвать "госпожу нашу начальницу"… Это никак уже не годилось. Петрику приходилось искать другие пути. Противные ему, незаконные…Он не думал, что Портос окончательно пал. Он все-таки был офицером! Он носил погоны, и эти погоны его обязывали. И он выработал два плана. Первый — дуэль без свидетелей. Они оба напишут записки о том, что решили покончить жизнь самоубийством. Затем в глухом месте дуэль до смертельного исхода… Второй — дуэль с одним свидетелем — Долле.
В Ричарде Долле Петрик был уверен. "Un pour tous — tous pour un" — для Долле, как и для Петрика, не было пустыми словами детской игры. Ричарду можно все открыть, Ричард не побоится взять на себя ответственность секундантства на неразрешенной дуэли и отсидки за это в крепости. Петрик решил, что самое трудное — переговоры с Портосом — он возьмет на себя. Поверстный срок и необходимость побывать в школе, чтобы получить документы и деньги давали Петрику сутки в Петербурге; в эти сутки надо было покончить дело с Портосом. Как? Чем?… Петрик этого еще не знал, но уже решил, что, взяв себя в руки, он поговорит с ним, обо всем: и о партии, и о "госпоже нашей начльнице", а там видно будет. Говорить же будет, как офицер с офицером.
Хмурым и кислым ноябрьским утром Петрик приехал в Петербург Он сейчас же явился в школу, представился по начальству, выполнил все формальности и, отказавшись от завтрака, поехал на Сергиевскую к Портосу.
Было сомнительно, что в эти часы Портос будет дома. Или на службе, или завтракает где-нибудь. Так и оказалось. Нарядный, хлыщеватый денщик, копировавший барина, одетый в серую ливрейную куртку, сказал, что "его блогородие раньше семи часов вечера дома не будут".
Выйдя от Портоса, Петрик взял извозчика и поехал на Кирочную в Гвардейское Экономическое Общество завтракать. На город упал туман и стало темнеть. На Литейном вспыхнули электрические фонари.
Вдруг обгоняя Петрика, из тумана выявился большой «Мерседес» Портоса и в нем Портос. Петрик приказал извозчику гнать за автомобилем. Лошадь понеслась вскачь. В тумане, все время стоявший, держась за плечо извозчика, Петрик скоро потерял из вида автомобиль. Однако он его сейчас же снова увидал. Автомобиль стоял у церкви Косьмы и Демьяна… Разогнавшийся извозчик проскакал мимо него.
Петрик хотел заворачивать назад, чтобы расспросить шофера, когда вдруг заметил Портоса. Портос шел пешком по Кирочной. Его фигура темным силуэтом маячила вдоль домов. Петрик остановил извозчика, бросил ему приготовленные деньги и побежал за Портосом.
— Капитан Багренев, — еще издали крикнул он, задыхаясь от волнения, бега, от густого тумана, глушившего все звуки.
В эту минуту Багренев быстро юркнул в калитку запертых ворот большого, серого дома. Петрик бросился за ним. Он пробежал темный проход ворот и очутился на небольшом асфальтовом дворике. Три крыльца флигелей выходили на него. На дворе Портоса не было. Все бегом, придерживая позванивающую кольцами саблю, Петрик прошел к одним дверям, вошел в подезд. Гулкое эхо по лестнице отразило его шаги. Петрик прислушался. Все было тихо. Он побежал к другому и третьему…. Нигде никого не было слышно. Точно не Портос, а его тень, призрак, вошел во двор и растворился в тумане.
Сдержав волнение, Петрик пошел обратно к воротам. Обитая кожей дверь вела в подвал. Над нею надпись — «дворницкая» и висячий на пружине колокольчик. Петрик позвонил. Дверь открылась, пахнув чадным паром. В ярко освещенном ее прямоугольнике появился парень в ситцевой розовой рубахе на выпуск, в черной жилетке с большой овальной медной дворницкой бляхой на ней, в штанах, заправленных в валенки. Увидав офицера, он снял с головы шапку и испуганно спросил:
— Вам чего?
— Послушай, братец, — сказал Петрик, — сейчас сюда вошел офицер, артиллерийский штабс-капитан Багренев. Это мой товарищ… Мне его необходимо видеть по экстренному делу.
— Мало ли здесь офицеров живет, — равнодушно сказал дворник. — Все академики… Ну, только такого я не слыхал… Багренева.
Петрик дал дворнику серебряный рубль.
— Ты не бойся… Я знаю, что он здесь… Я же его видел. Ничего тебе не будет, если ты скажешь.
— Сказывать-то не велено, — сказал, улыбаясь дворник. — Сами, чай, понимаете… Барынька тут одна, непутевая, к ним бегает… Ну и конечно, квартирка особенная… Мебель носили… Аккуратное гнездышко… хоть принцессу какую принимай…
Он ткнул пальцем на дверь, бывшую в воротах против дворницкой и скрылся в подвале. Тихо звякнул колокольчик над обитой кожей дверью. Медленно рассеялся прелый запах парного дыма. Петрик остался под воротами.
Он ожидал всего, но не этого.
Но как бы по инерции он открыл дверь и вошел на чистую лестницу, двумя маршами ведшую к плотно запертой двери, обитой грубым зеленым сукном. Ему послышался шум за этой дверью. Там была жизнь… Может быть — радость встречи?
Но совместить эту лестничку, ярко освещенную электрической лампой, эту дверь пошлой мужской гарсоньерки для тайных свиданий с «божественной», с "госпожей нашей начальницей" — он не мог. Это была другая. Может быть, тоже с золотыми волосами, интеллигентная, умная, образованная, но только не королевна сказки Захолустного Штаба!
Ломиться сейчас к Портосу было безсмысленно и безполезно. Портос не откроет. У него — женщина, все равно какая. Открыть нельзя. Да и… нечестно… Не по-офицерски. Ждать здесь?… А если… он увидит "госпожу нашу начальницу"?.. Это будет так ужасно, что представить себе этого Петрик не мог. Он вдруг почувствовал, что, как это с ним бывало в Ново-Свенцянском госпитал, в его памяти, в его сознании образовался провал. Что он во время него делал, где был, никогда он этого не узнает и расспросить некого — свидетелей не было. Он снова овладел собою, примерно через полчаса, или час. Он увидал себя на Бассейной. Как он очутился на Бассейной, что он делал все это время — он не помнил. Он даже забыл на мгновение о Портосе. Тупо болела голова. В висках… Он старался вспомнить, что было, и явь мешалась с вымыслом, с кошмарным сном, с тем, о чем думал и что воображал.
Мерно и звонко позванивая, подошел к остановке трамвай № 16. Петрик вошел в него и сел на скамью. Сильно болела голова. Странно крутились мысли! Точно сейчас очнулся он от кошмарного сна. Будто та дверь открылась и он увидал Портоса. Бледное, страшное было у него лицо… Петрик душил его… Петрик посмотрел на свои сильные руки, стянутые коричневыми перчатками. Опять, как тогда, когда ехал он от Долле августовским теплым вечером, и смущал его своим вызывающим поведением матрос, — у него было подсознательное тяжелое чувство, что он поступил не так, как должен поступить офицер, Мариенбургский драгун, что над ним тяготеет гадкое дело…
Он ничего, однако, толком не помнил. Он ехал в трамвае — куда? он не знал. Зачем? как? и после чего? Петрик не сводил глаз со своих рук. Этими руками, непременно в перчатках, он будто и правда душил Портоса. Он снял перчатки и брезгливо спрятал их в карман.
Трамвай медленно подвигался в тумане, все вызванивая, чтобы не наехать на кого-нибудь. Петрик сидел мрачный, углубленный в свои думы. Наконец, трамвай остановился, кондуктор вошел и сказал:
— Рощинская улица. Дальше трамвай не пойдет.
VIII
Петрик вышел из вагона. Было какое-то незнакомое, темное, безлюдное место. В тумане крутился и падал мокрый холодный снег. Петрик стоял на грязном, разбитом шоссе. Сзади него был высокий забор. С мокрых низких ветел, аллеей росших вдоль шоссе, глухо падали на грязную землю водяные капли. Петрик опять вошел в вагон.
— Однако я не туда попал, — сказал он кондуктору, — я поеду обратно.
Когда ехал назад, сознание постепенно прояснялось. Он узнавал улицы. В тумане, в гирлянде фонарей, казавшихся расплывчатыми золотыми шарами, узнал розовое здание и тонущую в клубах паров серую башню Московской пожарной части. Вспомнил манеж и урок езды Валентине Петровне. У Пяти Углов ярко светились широкие окна магазина братьев Лапиных. Он пересел на другую сторону и смотрел, как белым призраком показалась за высокой железной решеткой Владимирская церковь.
"Ничего не было", — подумал он. — "Да ведь я же все это могу проверить. Очень просто"…
Он вышел у Стремянной, пошел на Николаевскую и прошел к крыльцу "госпожи нашей начальницы". Швейцар в синем длинном кафтане, сидя, читал газету.
— Валентина Петровна Тропарева дома? — спросил Петрик.
— Дома-с, почти и не выходили… — сказал швейцар, поднимаясь с деревянного тяжелого стула. — И профессор сейчас вернулись. Прикажете позвонить?.. Должно быть кушать сейчас садятся.
— Нет… я… не хочу безпокоить… передайте им мои карточки.
Теперь все было ясно. Как ему и говорил доктор — эти провалы памяти совсем не страшны. Просто — гулял по улицам… Оставалось побывать у Портоса на Сергиевской и кончить то, что ему так мешало! Был седьмой час. К семи Портос вернется, и они переговорят обо всем.
Портос еще не вернулся, но денщик ожидал его с минуты на минуту.
— Я дождусь его, — сказал Петрик. — Мне надо непременно видеть штабс-капитана.
— Пожалуйте в кабинет.
Петрик снял пальто. Денщик открыл электричество, и уютный кабинет Портоса с большими книжными шкафами мягко осветился. Петрик сел в кресло.
— Прикажете чайку? — спросил денщик. Петрик с утра ничего не ел. «Это» — подумал он. — "окончательно прояснит мне мозги".
— Пожалуй… Дай, — сказал он.
"Если этого не было", — думал он, — "то вот, сейчас откроется дверь и войдет живой Портос. И по душе, на чистоту, по-офицерски, они переговорят обо всем. И о Валентине Петровне и о партии".
Головная боль утихла. На Петрика нашло чувство душевной размягченности. Недавней злобы как не бывало. Не было невозможности простить Портоса. После кошмара, ему стало казаться, что Портос и не так уже виноват. Хвастал тогда — ужасно не хорошо…. Ну и вино тоже… И песни… И с партией можно кончить без доноса… а по-хорошему… Полученные знания… к сведению… Если он что проболтал, так и они тоже. Вот и выходит: баш на баш — квиты… Он встанет и скажет: "Портос я шел убить тебя… Я уже убил тебя в моем сердце — прости меня… Но дай мне просить это прощенье по-настоящему. Давай — переговорим обо всем…. Ты был большим подлецом тогда, когда хвастал своею связью с Валентиной Петровной"…
А вдруг это вовсе не Валентина Петровна? — мелькнуло в голове у Петрика… "Но он сказал: "жена профессора"… И тогда так глупо пел Парчевский: — "брюнетка жена — муж брюнет, к ним вхож белокурый корнет"…
Опять путались мысли. Ясность исчезала.
В углу на камине стояли мраморные часы. На пестром красноватом мраморе артиллерист на коне с банником в руке. Подарок Портосу артиллерийского дивизиона, где он служил. Часы били мелодично и раз и два. Все длиннее были отсчеты их ударов. Петрик прислушался: десять часов.
Денщик заглянул к нему.
— Не идет что-то их благородие, — сказал он.
— Да, вот что милый… Я знаю еще, где он может быть. Я проеду туда. А если мы разминемся, скажи его благородию, что я сейчас вернусь и прошу меня подождать.
Опять Петербургские, уже ночные улицы. Реже стал туман. Мокрый снег нападал на улицы, и они серебряными дорогами уходили вдаль. Лошади скользили на торцах. Черный след вился за колесами. Все падал снег.
Кирочная 88… Петрик сразу узнал дом, не глядя на номер. Дворник в стороне он ворот подметал с панели снег. Петрик быстро и незаметно вошел в ворота. Он подошел к высокой двери. Той двери. Она легко подалась и раскрылась по-прежнему. Ярко была освещена лестница. Петрик позвонил… Тишина ответила на короткое дребезжание колокольца.
Он позвонил еще и еще, и все напряженнее и страшнее становилась томительная тишина за дверью.
Никого не было.
Или, если и был там Портос, — то уже не живой, а мертвый.
Показалось, что холодом смерти веет, несет из-за двери. В дверные щели задувает покойником.
Петрик тихо стал спускаться.
В воротах он столкнулся с дворником.
— Долго разговаривать изволили с господином офицером, барин — сказал дворник.
— А?… что?… да так! — как-то испуганно сказал Петрик и проворно вышел на улицу.
Петрик опять поехал на Сергиевскую в надежде встретить живого Портоса.
Он уже тревожился за него. Денщик встретил его словами:
— Его благородие еще не вернулись, — и денщик был этим, казалось, обезпокоен.
— Я подожду.
— Пожалуйте-с!
Долгая, осенняя ночь тянулась безконечно. Петрик провел ее без сна, неподвижно сидя в кресле. Когда настало утро, он позвал денщика.
— Вот, что, милый, — сказал он. — Я больше ждать не могу. Я сегодня еду в полк. Мой отпуск кончается. Я едва поспею во время. Дай мне бумаги и перо, я оставлю их благородию записку.
Петрик тщательно написал: — "Милостивый Государь, Владимир Николаевич, — я был у вас. Я ждал вас целые сутки… Вы понимаете, что такие дела так не кончаются. Только смертью вы можете искупить… Ведь вы все-таки офицер!"…
Не выходило письмо. Сказать надо было так много. Написать — ничего нельзя. Все равно. Портос поймет. Петрик подписал — "Мариенбургского драгунского полка штабс-ротмистр Ранцев" и, не проставив числа, заклеил конверт, отдал денщику и в десятом часу утра, по первопутку, — за ночь нападало снега и подморозило — поехал в гостиницу за вещами, а потом на вокзал.
Он возвращался в свой родной полк, все предоставив судьбе и офицерской чести Портоса.
IX
Валентина Петровна сейчас же и очнулась.
— Таня, — сказала она, — ты его видела?
— Очень даже видела, — сказала Таня. — Стоят в дверях, я и пройти не могу.
— Так… — медленно протянула Валентина Петровна. Она с мольбою смотрела на Таню. Глазами она просила у нее помощи, — Таня, когда ты пробегала через переднюю, там были его пальто и сабля?.. Ты ведь открывала же ему дверь?
Лицо Тани побледнело.
— Я думала, барыня, вы ему открыли — я думала: он с вами пришел…. Его пальто там не было… Господи!.. Ужас какой!.. Не случилось ли чего с Владимиром Николаевичем?
Валентина Петровна тяжело вздохнула. Ей казалось теперь все страшным в ее уютной любимой спаленке. Если бы пошевелился комод, или вдруг с треском раскрылись бы дверцы шкапа, — она бы не удивилась…
— Таня!.. что же это?… Не покидай меня, Таня.
Несколько минут Валентина Петровна сидела неподвижно в кресле и смотрела на Таню, стоявшую у дверей. Диди успокоилась и ласково ворча, точно мурлыча, прыгнула ей на колени. Валентина Петровна гладила ее нежную шерсть. Это ее успокаивало.
— Барыня, — тихо сказала Таня, — накрывать на стол пора. Седьмой час уже. Кабы барин сейчас не вернулись.
Валентина Петровна подняла голову и долго, точно ничего не понимая, смотрела в глаза Тане.
— Да, — тихо сказала она, — барин… Верно… барин. Не оставляй меня одну, Таня! Мне так страшно!
— А мы вот что, барыня, пойдемте вместе накрывать… Так-то хорошо будет!
Таня хотела идти в столовую, через дверь, где только что стоял Портос, но Валентина Петровна движением руки остановила ее.
— Ах, нет, нет, — сказала она, — пойдем коридором.
В столовой все три груши большой висячей лампы ярко горели. Валентина Петровна с помощью Тани — руки плохо слушались ее — привела в порядок свое упадавшее платье, поправила прическу. Вид ловких, живых движений Тани, бойко гремевшей посудой, ее округлые, полные локти, молодой мускул мягко игравший под тонкой материей платья, белый чепец в каштановых волосах, — чуть уловимый, когда Таня была подле, запах живого, свежего, здорового, чистого, молодого тела, — все это постепенно успокаивало ее и теперь ее мысль уже тревожно билась около того, что с Портосом что-то случилось. И вспоминая страшный темный след на шее, непонятный и безобразный, Валентина Петровна, подражая Тане, перетирала посуду, раскладывала ножи и вилки, и эта работа развлекала ее. Она сознавала, что сейчас прйдет Яков Кронидович и возможно будет объяснение. Внутри себя она говорила: "я на все готова… Ну что ж…. И разрыв. Только бы жив и цел был Портос"…
Когда стол был накрыт, она все не отпускала от себя Таню.
— Барыня, на кухню надо пойти. Спросить, все ли готово у Марьи.
— Пойдем вместе, вдвоем.
— Барыня, — тихо сказала, возвращаясь из кухни Таня, — хорошо ли, что вы в этом платье?..
— Ах, да… Что же надеть?
Голова Валентины Петровны отказывалась думать в эти минуты.
— Пожалуйте, я вам дам ваше обычное черное платье… И очень уже вы бледны.
— Таня, только вы все лампы зажгите в спальной. — Валентина Петровна прошла за Таней и с удивлением смотрела, как Таня смело и спокойно распоряжалась в этой страшной комнате. Таня опустила штору, плотно задернула оконные тяжелые портьеры, подала Валентине Петровне то простое полутраурное платье, в котором всегда бывала дома Валентина Петровна, подала ей пудру, и Валентина Петровна привела себя в порядок — и было время. В прихожей была слышна тяжелая поступь и стук сбрасываемых калош на пол.
— Позвольте, я пойду помочь барину, — сказала Таня…
— Мы вместе.
И ложь, уже привычная, необходимый ей теперь ее "защитный цвет" — помогла ей принять безпечно-равнодушный вид.
— Как ты долго сегодня! — сказала она, подставляя щеку для поцелуя мужа.
— Меа сulра… Меа maximа сulра, — разматывая лиловый в черную клетку шарф, говорил Яков Кронидович. — Ужасный я стал дурак…
Он шел за ней прямо в столовую.
— Можно подавать кушать? — спросила Таня.
— Да, подавайте, пожалуйста.
Яков Кронидович шумно сморкался.
— Не насморк ли у тебя? — сказала Валентина Петровна, садясь на свое место.
— В такой туман… а теперь еще и мокрый cнег… не мудрено и насморк схватить. Ты не выходила?
— Н-нет… — чуть слышно сказала Валентина Петровна.
— И отлично, душечка, сделала. Ни извозчиков… ничего… И трамваи еле идут. А я пешком по всему городу гонял!
Таня поставила дымящуюся паром миску между ними, и Валентине Петровне тусклым через пар казалось лицо мужа.
— Где же ты был? — бледнея, спросила Валентина Петровна.
— На Кирочной?!.. вот где!.. Это от Чернышева-то моста!.. Семь верст киселя хлебать ходил.
— Да-а…
— Это пельмени?.. Мои любимые пельмени?… Я под них, пожалуй, еще рюмку водки хвачу. Налей, дуся.
Она чувствовала, что не в состоянии налить. Так дрожала ее рука.
— Налей сам.
Он со вкусом выпил водку и принялся за пельмени.
— За-ачем же ты ходил на Кирочную? — дрожащим голосом сказала она. — Какой горячий суп… Рот обожгла. Совсем не могу говорить.
— Чудные пельмени!.. Совсем по-Сибирски. Молодец наша Марья.
Ее ноги дрожали под столом. Ее всю бросало то в жар, то в холод. Он точно нарочно пытал ее. Несколько мгновений было молчание. Он жадно ел пельмени.
— Хочешь еще?
— Дай, пожалуйста. Проголодался я страшно. Я ведь не завтракал. Все из-за Кирочной… Написал мне кто-то… анонимно… глупый это обычай… Сегодня… в три часа на Кирочной… Я и подумал…
Он опять принялся за пельмени. Ей казалось, что то, что она испытывает, должны испытывать приговариваемые к смерти, когда им читают слово за словом приговор. Но там нет этих проклятых пельменей! Она боялась, что лишится сейчас чувств. Но она собрала все свои силы и, насколько могла, спокойно спросила:
— Что же ты подумал?
— Да… Вася… Ветютнев… Помнишь, я писал тебе из Энска?..
Она слушала его, а в голове назойливо долбила мысль "Видел он меня или нет?.. узнал или не узнал?"…
— Да… помню, — бледно сказала она.
— Так вот, я на него и подумал. Он с этим делом Дреллисовским совсем с ума спятил. Все боится мести… Ну, и, значит, приехал… и меня вызывал…
— Ты его нашел? — чуть спокойнее, овладевая собою, спросила Валентина Петровна.
— Ну… если бы да нашел!.. Кого там найдешь, когда он ни номера квартиры не указал, ни у кого остановился не написал. Черта лысого там найдешь! Чуть не сто квартир!
Она хорошо знала мужа. Он не лгал. Он не умел притворяться. Кто-то… Кто?.. Донес ему о их свидании, но не посмел назвать, а он, далекий от подозрений, подумал на Васю. Но все это было грозно и страшно.
Позвонили… Она вздрогнула. Швейцар принес визитные карточки Петрика. Она непременно хотела принять его, но Петрик уже ушел.
Она с трудом досидела до конца обеда. После обеда он целовал ее руку.
— Какая холодная, — сказал он. — Здорова ли ты? Спасибо за чудный обед.
— Совсем здорова… Скучно было. Одна да одна. Целый день одна.
— Не поиграешь?
Она чувствовала, что у нее пальцы не будуть слушаться. Просидеть с ним весь вечер вдвоем казалось немыслимым. Отговориться нездоровьем и одной запереться в спальной?.. Нет — На это у нее не было храбрости. И поздно уже. Она сказала, что здорова.
Она подошла к окну и отдернула портьеры.
— Какая ночь, — сказала она. — Как тихо… И сколько нападало снега!.. И тумана почти нет… Может быть это эгоистично с моей стороны… Ты же и так устал и продрог… Но… поедем куда-нибудь… в театр, или кинематограф?.. Тут есть совсем рядом… На Невском.
Якову Кронидовичу не хотелось выходить в холодную промозглую сырость. Но водка и хороший обед его согрели. Ему стало жаль ее. "Она молода — я стар… Если жены изменяют мужьям — виноваты мужья, что не умели их удержать от измены. Женщины — все равно, что дети. Им нужны игрушки и развлечения".
Он согласился.
— Только поедем туда, где не очень парадно, — сказал он, вставая и слегка, незаметно, потягиваясь. — И недалеко.
X
Они провели вечер в Литейном театре. Шла какая-то дребедень. Валентине Петровне показалось неприличным, что на сцену выходил актер, загримированный всем известным генералом, и в полной форме. Он пел куплеты. Публика смеялась. Валентине Петровне это было неприятно. Ей казалось, что так могут посмеяться и над ее покойным папочкой. Впрочем, она мало что видела и слышала из того, что происходило на сцене. Она как бы отсутствовала душою. В антрактах, когда зрительный зал был ярко освещен, она внимательно осматривала публику. Искала Портоса. Она понимала, что это было слишком невероятно, чтобы он пришел, но как было бы хорошо увидеть его не призраком и, когда Яков Кронидович пойдет курить, — узнать, что-же там случилось. Ее мучила записка, полученная мужем.
Кто мог ее написать? Кто мог проникнуть в их тайну? Не до спектакля было. Яков Кронидович, напротив, детски радовался каждой шутке и весело посмеялся над неудачливым генералом. Его мундир на сцене не коробил.
Никого знакомых не было.
Возвращались под частой серебряной сеткой блистающего в фонарных огнях снега. Стук копыт и колес был приглушен. Морозило. Легко было дышать. Туман поднялся и соединился со снеговыми тучами.
Яков Кронидович робко намекнул о своем желании завершить прекрасный день. — Валентина Петровна решительно отказала. У нее разыгралась мигрень?.. Она так устала! Оставив мужа за самоваром в столовой — она ушла в спальню с Таней.
В спальной душно и сладко благоухали туберозы. Орхидея в рюмке казалась стройной и живой. Валентина Петровна позвала Диди. Левретка неохотно поднялась из своей корзинки в телефонной комнатке подле спальни и, потягиваясь и щуря сонные глаза, пошла к хозяйке. Валентина Петровна уложила ее в кресле подле постели и укутала своей, на заячьем меху душегрейкой. Не так страшно казалось с собакой. Она долго не отпускала Таню.
Она боялась призраков.
Хотела уложить Таню на диванчике, но — стало совестно, и она отпустила девушку.
Она не погасила лампочки у постели, оставила другую гореть на туалетном столике и легла в капоте. Так пролежала она всю ночь без сна. То закрывала глаза, то открывала, смотрела в потолок, потом нагибалась к собаке и нежно гладила ее по головке. Левретка ворковала, как голубь, точно говорила — "не мешайте мне спать", и круче сгибалась кольцом. Лишь под утро, когда уже в щель портьеры стала желтеть занавесь, Валентина Петровна погасила электричество и забылась недолгим сном.
"Чему быть — того не миновать", — была ее мысль, когда она засыпала, и с этою мыслью она проснулась.
В столовой часы гулко пробили десять. Таня звенела посудой. Диди сидела, скинув душегрейку, на кресле и смотрела прямо в глаза хозяйке.
Валентина Петровна взглянула на орхидею, на туберозы и вскочила с постели. В теплом халате и в туфлях на босу ногу она побежала на кухню. Не приходил ли мальчик в коричневой ливрее с букетиком цветов?.. Но на кухне никого не было. В ней стыл зимний, утренний холод и на бледно-желтом солнце блестели ярко начищенные кастрюли. Пахло самоварным смолистым дымком.
Кухонный, чисто отмытый стол был пуст. С него мягко спрыгнул Топи и пошел ласкаться к ногам Валентины Петровны.
Она вернулась в спальню и занялась своим туалетом. Она ждала или Портоса здесь, или свиданья с ним. Сегодня!.. Он был ей необходим.
Утром, она несколько раз под разными предлогами выходила на кухню. Все ждала мальчика из «Флоры». Раз даже спросила вернувшуюся с рынка Марью — не приходил ли мальчик? Сама понимала — спрашивать было напрасно, если бы мальчик приходил, были бы цветы. Их не было.
Якова Кронидовича, как всегда, не было дома.
Часов в двенадцать Валентина Петровна надела старую, маленькую шляпку и густую вуаль и сказала, что пойдет прогулять Диди.
Был великолепный зимний день. После вчерашнего грохота и треска мостовых казалось тихо, и громки были голоса прохожих и дворников, посыпавших желтым песком панели. В небе клубились туманы, и сквозь них солнце было желтое, и не больно было смотреть на него. Весело, обрадовавшись мягкому снегу, бежали лошади, и маленькие санки неслись, оставляя рыхлый, серебряный след. Мальчишки-школьники посреди Николаевской играли в снежки. Диди, обезумевшая от света, снега и холода, носилась взад и вперед.
Валентина Петровна отправилась в цветочный магазин «Флору». Она вызвала мальчика в коричневой куртке. Нет, того офицера, что посылал ей цветы, еще не было. Вероятно, сегодня уже и не будет. Он всегда бывал в девятом часу.
Валентина Петровна выбрала несколько больших белых разлохмаченных хризантем и поехала домой.
Надо было жить. Надо было лгать. Ее жизнь давно была ложью. Ехать на квартиру Портоса боялась. На «ту» квартиру — знала, что без приглашения напрасно. Там никого не могло быть.
Вчера, во время обеда, подали карточки Петрика. Значит, Петрик был здесь и это его она видела в вагоне трамвая. Не он ли помешал Портосу? Но, если он помешал вчера — сегодня были бы условные цветы и все объяснилось бы.
Она унесла туберозы из спальни. Она знала, что больше отказывать Якову Кронидовичу она не может.
Была тяжелая ночь. И долго после ухода мужа она лежала на постели навзничь и не могла отрешиться от кажущегося ей запаха трупа. Потом встала и до утра сидела в кресле у окна. Ее ноги стыли. Зябко куталась она в халатик и ни о чем не могла думать.
И прошло еще два дня. — Не было ни цветов, ни письма, ни самого Портоса. Она терялась в догадках.
У Якова Кронидовича были какие-то спешные и сложные дела. Он пропадал с утра до самого обеда… Опять с мертвыми телами!
На третий день утром, за чайным столом, она машинально развернула брошенную Яковом Кронидовичем "Петербургскую Газету". От газеты пахло типографской краской. Четко, по дуге, шла надпись названия. На первой странице стоял заголовок: — "Страшная находка". Она стала читать, сначала равнодушно, без внимания, потом с какою-то странною внутреннею дрожью.
По всему Петербургу были раскиданы части человеческого тела. В трамвае, на пароходе, в Летнем саду, на скамейке, на подъезде Окружного суда были найдены тщательно запакованные, — где рука, где кусок ноги, где внутренности человека. Куски принадлежали молодому мужчине, но кому, за ненахождением головы, определить было невозможно. Полиция сбилась с ног. Надо было отыскать, кто убит, где, кем убит и почему убит. Но даже место преступления не было обнаружено.
Валентина Петровна подняла глаза от газетного листа. Безсильно упали руки. Точно железным обручем сдавило голову.
"А что, если?.."
XI
За обедом, Валентина Петровна протянула газету Якову Кронидовичу и сказала, нервно смеясь: -
— Ты читал?.. Какой ужас!..
Между ними, закрывая лицо Валентины Петровны от Якова Кронидовича, в большой мутно-лиловой копенгагенского фарфора вазе стояли те белые, лохматые хризантемы, что купила она на другой день после ужасного тумана. И Яков Кронидович не видел ее страшно бледного лица и в гримасу исказившей его деланной улыбкой.
Он прожевывал хороший кусок телячьей грудинки, и мягкие хрящики славно хрустели на его здоровых, крепких зубах. Она думала: как может он есть мясо, когда возится с трупами!
— А, как-же! Дело в моих руках. В анатомический театр уже доставили почти все тело. Недостает головы… и еще там… мелочей…
— Вот ты говорил как-то, — сказала Валентина Петровна, с трудом выдавливая из себя слова, — что твоя наука способствует раскрытию преступлений… Ну и вы… ты… узнали, кому принадлежит это тело?..
От ноздрей к ее рту легла глубокая брезгливая складка. Лицо было совсем белое. В глазах горел лихорадочный огонь. Но Яков Кронидович видел его сквозь крученые лепестки хризантем и ничего не замечал.
— Без головы, по неполному телу, определить, кто убит, почти невозможно… — Он был рад, что, наконец, его жена заинтересовалась его делом, его профессией и, как она сказала: — «его» наукой. — Однако, многое уже нами раскрыто.
Он опять захрустел хрящами. Она почти лишалась чувств.
— Например?
Он не столько слышал, сколько догадался, что она сказала.
— Мы знаем: — убит молодой двадцатипяти-тридцатилетний мужчина. Полный сил… Хорошо упитанный… Хорошего общества, ибо тело холеное, тщательно мытое… На руке след браслетки… Пальцы обрублены, и их не нашли… Верно были упакованы отдельно, или брошены так, в снегу затерялись… Убит в тот день, помнишь, когда был туман и я понапрасну искал Васю на Кирочной…
Он говорил это спокойно, почти весело. Ему доставляло удовольствие похвастать, как много уже раскрыла «его» наука и как потому она важна.
— Кто же убил? — спросила она ломающимся голосом.
Теперь и он заметил ее волнение.
— Но тебя это пугает, — сказал он. — Я привык, а тебе это неприятно слушать.
— Нет, говори… Это интересно… Точно в романе… С Шерлоком Холмсом.
— Наша полиция не уступит английской в деле уголовного розыска. Как по телу Ванюши Лыщинского мы определили, что мальчик убит евреями с ритуальными целями, так тут мы говорим, что убийца прекрасно знал анатомию… Это или прозектор, или студент, или, в крайнем случае, — мясник… Так славно разделан труп…
Он сказал это со вкусом. Она содрогнулась, но он опять не заметил. Таня, наконец, убрала эту ужасную телячью грудинку и сняла ее чистую тарелку — Валентина Петровна не притронулась к жаркому. Подали обсахаренные груши в рисе.
— Кто-то задушил его… И, должно быть, не удавил веревкой, а душил долго руками. И была борьба. И этот кто-то был очень озабочен сокрытием преступления. Все, чего касались его руки, все, что имеет индивидуальные признаки, им уничтожено. Но, вероятно, по обстановке, он не мог уничтожить всего, и вот разделал труп умелой рукой и разбросал по городу.
— Зверь, — прошептала Валентина Петровна.
— Нет, зверю никогда до этого не додуматься. Это человек… Положи мне, милая, еще рису. Ужасно вкусно сделано. И соус, верно, с мараскином.
— Хорош человек, — сказала Валентина Петровна, — накладывая на тарелку мужа рис.
— Человек очень умный и осторожный. И без предрассудков. Сделал он свое преступление с заранее обдуманным намерением. Куски тела тщательно запакованы в сахарную плотную бумагу, обернуты, кроме того, внизу вощанкой, и аккуратно перевязаны веревкой… Я говорил коллегам, шутя, если бы мне надо было послать из Анатомического театра в аудиторию или на Женские курсы кусок тела — я бы не сумел лучше запаковать. Теперь чины сыскной полиции доискиваются, кто и когда покупал бумагу и веревки… Да еще надо все-таки разыскать, где было совершено преступление… Тебе моя сигара не помешает?
— Кури, пожалуйста.
Таня, тихо ходя вокруг стола, безшумно прибирала посуду. В столовой с плотно занавешенным окном было слышно, как сипела у Якова Кронидовича во рту сигара. Сизые струи дыма тянулись под лампой и окутывали сложными спиралями лент хризантемы. Валентина Петровна не сомневалась, что эти страшные куски тела, найденные по всему городу, принадлежали ее Портосу.
Но кто его убил и почему?
XII
Если Валентина Петровна, горячо и бездумно полюбив Портоса и так беззаветно страстно отдавшись ему, совершила преступление против верности мужу, против церковной и общественной морали, то те страдания, что испытывала она теперь, были ее искуплением.
Точно тупою деревянною пилою распиливали на части и разбрасывали по городу не тело Портоса, но ее тело, а она должна была молчать и улыбаться и вести тот образ жизни, какой вела и раньше. Принимать, бывать на жур-фиксах, слушать городские и политические сплетни, и играть на рояле.
Газеты сделали из этого убийства шум. И особенно старались об этом еврейский газеты, а таковых было большинство. Приближался день разбора дела Дреллиса и так важно было создать сенсацию и отвлечь внимание общества от их дела. Так же, как и в деле Ванюши, вместе с чинами сыска и следователями, по следам преступления кинулось множество добровольных сыщиков, так и тут газетные репортеры и корреспонденты наполняли столбцы газет кричащими статьями.
Эти статьи были пыткой Валентины Петровны. Она должна была говорить о них с равнодушной улыбкой, ужасаться, жалеть, негодовать, но ровно столько, чтобы не выдать себя.
Уже на другой день после их обеденного разговора она прочла то, чего ждала и в чем была уверена.
"Пропавший офицер", — стояло в заголовке. — "Деньщик штабс-капитана Б., проживавшего на Сергиевской улице, заявил по начальству, что его барин вышел в понедельник на этой неделе около полудня и, сказав, что вернется к семи часам вечера, до сего времени не вернулся. Не есть ли этот штабс-капитан Б. жертва преступления?"… — Она в этом не сомневалась.
А на другой день было подробное описание, как водили этого деньщика в морг, но он отказался признать в полуразложившихся кусках тело своего офицера…
И еще через два дня стояло: — "Тайна гарсоньерки на Кирочной улице"…
Валентина Петровна теперь не ходила на кухню справляться, не приходил ли коричневый мальчик из «Флоры», а кидалась к газетам. И сейчас сидя у окна в столовой, она дрожащими руками разворачивала еще сырой номер. На круглом столике стояли туберозы. Душен и прян был их аромат.
Дворник дома на Кирочной показал, что офицер и дама, бывавшие в специально снятой квартире, каждые два — три дня, как раз с того рокового понедельника, когда пропал штабс-капитан Б., там не были. Дверь в квартиру была вскрыта, в присутствии следователя по особо важным делам, чинами полиции. Корреспонденту "нашей газеты удалось туда проникнуть". И корреспондент, захлебываясь от восторга, что он первый дает газете сенсационное известие, описывал в том личном, коротко возбужденном тоне, каким тогда только начинали писать корреспонденты, то, что он нашел в роковой квартире.
… "Вхожу… Холодный запах удушливой гари поражает меня. Я откидываюсь к двери. Мне почти дурно. Следователь спокойно проходит через маленькую прихожую, где нет никаких следов верхней одежды. В большой столовой, в серебряной вазе гниет ананас. Стоят бутылки вина и ликеров. Нетронутые. Понюхал. Крэм-де-тэ. В спальне следы борьбы. Запекшаяся, затертая кровь на ковре и на полу. В большом камине груды пепла. Тут жгли все. Сукно, полотнища белья… Он весь завален остатками несгоревших вещей. Кругом грязь. Наклоняемся, осторожно в присутствии понятых, начинаем ворошить пепел. Мелькнуло что-то блестящее — коричнево-желтое. Мне послышался страшный запах паленого мяса и волоса. Показался гладкий, обугленный череп…
Валентина Петровна не могла читать дальше. Она откинула газету. В гостиной за дверью Таня подметала полы. Шуршала и стукала о пол щетка. Собака, играя, с лаем прыгала за ней. В столовой сипел, напевая длинную, уныло-уютную песню самовар. Кот лежал клубком на буфете. Пахло свежими булками и чаем. Было тепло и уютно. И так хорошо бывало и там, у того камина, где сидели они часами, переживая восторги любви. На них тогда смотрели красные обуглившиеся поленья и тихо рушились, поднимая искры. На столике были ликеры. Валентина Петровна и Портос были еще раздеты, и приятна была мягкая близость их тел, едва прикрытых бельем. Его голова лежала у ней на груди, и она перебирала, целуя, его густые каштановые волосы.
Та голова лежала теперь в том самом камине. Волосы сгорели. От головы остался череп — гладкий, жирный, блестящий, с комочком угля внутри.
… "Два золотых зуба со свежими коронками в глубине рта", — говорит следователь, ворочая в руках череп. — "По этой примете мы сегодня же установим, кто убит!.."
Да разве было сомнение? Медные пуговицы с орлами и пушками, обуглившаяся ткань золотой рогожки двух пар погон, — тут жгли и пальто и сюртук, кокарда от фуражки, недогоревший козырек, наконец, золотые часы-браслет, золотая цепь браслетки и кольцо…
Уже на другой день вся столица знала, что убит был штабс-капитан Багренев. Чины штаба, Офицерская Кавалерийская Школа служили по нем панихиды и предавали собранные останки погребению.
Валентине Петровне приходилось в меру показывать свою скорбь по убитом знакомом, друге детства, бывавшем у них в доме. Но на панихиду у ней не хватило духа поехать. Только каждый день ходила она во Владимирскую церковь и давала вынуть за упокой раба Божия Владимира.
Следствие шло быстрым темпом и газетные корреспонденции его опережали. Так всегда бывает при слабости власти, когда толпа овладевает правительственным аппаратом и улица врывается в тишину следовательских кабинетов. Искали убийцу.
Валентина Петровна читала лихорадочными, больными глазами, вглядываясь в строки, и каждый день ожидая прочитать и свое имя, или свои инициалы.
"Странное поведение штабс-ротмистра Р.", — читала она. Да, они установили, что в тот роковой понедельник штабс-ротмистр Р… зачем было скрывать за инициалами фамилию? — Валентина Петровна сейчас догадалась — штабс-ротмистр Ранцев, Петрик, был в третьем часу дня в этом доме и расспрашивал об офицере. Дворник сознался, что он показал ему квартиру и, по показанию дворника, этот офицер вошел в нее. Но далее показания дворника расходились с показаниями деньщика штабс-капитана Б. Его все продолжали помещать в газетах под одной заглавной буквой фамилии, хотя по похоронным объявлениям весь Петербург знал, что это — Багренев. Деньщик показывал, что штабс-ротмистр Р. заходил утром, сейчас после того, как его офицер уехал и справлялся о нем, потом зашел в седьмом часу вечера и до десяти сидел на квартире. Он ему еще и чай подавал. Дворник же показал, что офицер, вошедший в квартиру, вышел из нее только в одиннадцатом часу вечера. Он еще удивился, что тот так долго там был и разговаривал с ним. Или деньщик выручал офицера, или дворник не заметил, как офицер вышел раньше и вошел снова.
И в тот день, после обеда, во время молчаливого куренья сигары, Яков Кронидович сказал:
— Ты помнишь, Аля, Ранцев был у нас в понедельник с визитом. Нам за обедом его карточки подали. Я спрошу завтра швейцара, в котором часу он был и зайду к следователю. Это мой долг. И это очень важно.
— Как хочешь, — усталым голосом сказала Валентина Петровна. Ей казалось, что пилившая ее деревянная пила допилила до мозга — и она умрет. Не было больше сил выносить эту пытку.
Она читала потом о странном поведении офицера в трамвае, поехавшего за Московскую заставу. Там же говорилось и еще о какой-то записке, оставленной Р. на квартире Б. Очень странной записке.
Потом какой-то добровольный аноним сообщал о серьезной ссоре, бывшей осенью на охотах в Поставах между Р. и Б., едва не дошедшей до оскорблений и дуэли…
И в двадцатый день, когда Валентина Петровна вернулась от обедни, где горячо молилась за Портоса, она прочла коротенькую заметку, что, по распоряжению Военного Прокурора, штабс-ротмистр Р., в связи с делом об убийстве Б., арестован.
После этого газеты замолчали по этому делу. Как воды в рот набрали. Видно: — военное министерство, взяв дело в свои руки, припугнуло их и прекратило добровольный розыск репортеров и корреспондентов.
Валентине Петровне оставалось ждать, во что развернется этот страшный и так ей близкий процесс.
XIII
Вот и опять две чистенькие комнатки в маленьком домике Адама Хозендуфта на Эскадронной улице. Как в тихий и сладкий приют вошел в них Петрик, после двух лет отсутствия. Осень глядела в небольшие квадратные окна низких покоев. Черна и глянцевита была отсыревшая земля фруктового сада и черные яблони распростерли над нею ломаные линии своих ветвей. На одной торчало забытое яблоко, красное, в коричневых пятнах, уже побитое морозом. Здесь в комнатах, где к его приезду хозяева на прежних местах развесили фотографии групп товарищей кадет и юнкеров, английские литографии скакунов и расставили немудрую мебель Петрика, все говорило о спокойном и уверенном прошлом, о мирной, как поступь машины, рабстве в полку, о солдатах, лошадях, огорчениях и радостях полковой жизни. К его приезду побелили стены, покрасили полы, и свежие половики пестрыми дорожками протянулись из двери в дверь. Мирно гудела растопленная печка и от нее шло чуть пахнущее смолистым ладанным дымком тепло. Здесь ожидали Петрика радости и заботы родного полка. Здесь "госпожа наша начальница", Портос, нигилисточка — были существами никакого отношения не имевшими к полку и совершенно ему чужими и лишними. Лисовский с деньщиком внесли сундук Петрика, и деньщик стал доставать и собирать мундир своего барина. Сейчас и являться командиру полка… а там эскадрон… Жизнь переворачивала новую страницу и, как нельзя было в ней заглядывать вперед, что будет, так нельзя было листать назад. От прошлого оставалось одно воспоминание: о школе, о скачке, о королевских охотах в Поставах, оставалась муть от знакомства с нигилисточкой и ее божьими людьми, острое чувство ссоры с Портосом и где-то в самой глубине притушенный, но не загашенный пожар сильной любви к королевне сказки Захолустного Штаба. И все это было, как главы прочтенного и потерянного романа. Будущее: — эскадрон и — что Бог даст!.. Настоящее — теплая благодарность к хозяевам, так хорошо его устроившим и так мило все для него прибравшим.
— Адамка, ваше благородие, — обратился к Петрику Лисовский, — спрашивал, могет он к вам зайтить с супругой?… Уж они так для вас старались… так старались… Чисто как родному сыну убирали…
— Да, да, конечно, — сказал Петрик, сбрасывая, пальто на постель. — Зови их сюда.
Почтенный еврей в широком, распахнутом на жилете засаленном пиджаке и с ленточным аршином, висящим на толстой шее, сейчас же появился в дверях. За ним показалась полная, благообразная еврейка.
— Здравствуйте, Адам! Добрый день, мамеле. Ну, как без меня жили-поживали?
Петрик за руку поздоровался с хозяевами.
— Живем по-маленьку, пан ротмистр. Вас честь имеем поздравить с приездом, с окончанием школы… И что я пану ротмистру буду говорить… Может быть, пану ротмистру это будет приятно, а может быть — так и нет… При нашей дивизии конно-пулеметная команда будет, и начальник дивизии очень хотят, чтобы пан ротмистр ею командовали. При уланском полку будет команда… И пан ротмистр знает, что сказал господин барон?
— Ну?..
— "Пхэ!" — сказал господин барон. "Пхэ! Пан ротмистр наилепнейший драгон и пан ротмистр не будет покидывать своего полка"… И я тоже, в свою очередь, сказал Суре: — "Суро, пан ротмистр есть преданный сын своего полка. Он его никогда не будет покидывать"… И мы в тот самый день решили с Сурой покрасить свежею охрою полы с панелями и белить стены. Потому что господин барон сказал: — "пхэ!"
Босая девушка внесла в соседнюю комнату кипящий самовар. Мамеле пошла распорядиться чаем. Она сняла чистую холстину с горячих, точно дышащих белых булок. На тарелке масло точило слезу.
— Пожалуйте, пан ротмистр. Чай уже готов. Я вам хлеба намажу, — сказала еврейка.
— Сами сбивали масло, Сара Исаковна?
— Сама для пана ротмистра убилам.
— А что же я не вижу Мойше, — садясь за стол, сказал Петрик. Сара Исаковна села за самовар и хлопотала с чаем, Абрам стоял в дверях спальни.
— Мойше!.. И пан ротмистр не знает, что с Мойше? И пану ротмистру таки никто не писал? Так Мойше совсем человек стал! Мойше потшебуе быть вельки пурыц!. Как он надевал такого синего мундирчика с серебряными пуговками и серых бруков — сам папаша шил, — так я спрашивал себе: — "где этот шайгец? где этот хулиган? Ну, просто какого графа или барона я вижу перед собою!" Мойше уехал в Столин. И такого умный!.. Просто первого ученик. Так это ж я пану ротмистру говору: — голова!
— А Ревекка!
Мамеле тяжело вздохнула.
— Ой Ривка, — сказала Сура. — Большая карьера!.. Такой файн красавица. Ну только мне что-то не очень нравится. Пан ротмистр знает Ривка… Мне даже говорить такого совестно. Ривка-таки нас покинула… Ривка ушла к госпоже Саломон. Пан ротмистр еще не знает. Госпожа Саломон большое файне заведение открыла на Варшавской улице. Господа офицера очень одобряют… Ну, пускай господа офицера, пускай доход хороший… Она мне каждую неделю когда пять, когда десять рублей принесет… Свою книжку в кассе имеет, а только не совсем этого мне хотелось… Мене хотелось, чтобы замуж… И жених-таки был.
Сура заплакала. Абрам укоризненно качал головою.
— Ну и все будет, — сказал он успокоительно и твердо. — Так это же, госпожа Саломон… Это же временно… А там насоберет на книжку… Ну и замуж выйдет!.. С деньгами завсегда лучше… И у нея будут свои децки.
— С чего она так? — смущаясь и покраснев, спросил Петрик.
— Ну, с чего?.. Ну натурально от глупоты. С чего такое делают?.. Пан ротмистр знает… Файвеля Зайонца помнит? Сапожников сын? Ну, Файвель, пан ротмистр знает, через контору себе немножко в Америку уехал… Боялся… Солдаты… А ему аккурат и время. Написал ей, чтобы она деньги собирала, ехала к нему. Так это легко сказать!.. сто долларов!. Это же двести пятьдесят рублей!.. Это же надо долго!.. А тут госпожа Саломон!.. Она же Ривка-то, пан ротмистр же помнит — такая себе файн красивая!.. Такая, даже, авантажная… Так она, как пан ротмистр уехал, сто раз… двести разов красивее стала…. Совсем теперь цымэс! … А тут еще наряды… Цыганские песни…. Я рукой махнул… После поправится… Станет себе опять честной… Ну, Суро, пойдем…. Не будем мешать пану ротмистру… Ему надо сейчас до господина барона идти.
Хозяева простились с Петриком и ушли на свою половину, плотно притворив дверь, обитую войлоком.
Петрик надел на себя собранный денщиком мундир с эполетами. Застегивая перевязь лядунки он смотрел на себя в зеркало и вспоминал Ревекку. Он помнил ее пятнадцатилетней девочкой, с большими, меланхоличными, точно не людскими глазами, откуда смотрела древность породы, с маленькими руками и длинными ногами, с необычайно белыми, красивыми, еще худыми плечами.
"Ревекка у госпожи Саломон", — подумал он. — "А ведь я могу ее там встретить?"..
Эта мысль была неприятна ему. Ревекка выросла на его глазах. Из грязной подростка-девчонки стала взрослой девушкой… Она казалась ему точно родной. И мысли, что ее можно увидеть у госпожи Саломон, показалась ему стыдной.
XIV
Командир, полковник барон Вильгельм Федорович фон Кронунгсхаузен, по прозванию офицеров, барон Отто-Кто еще не кончил своего обычного обхода полка и присутствия на занятиях, и Петрик в ожидании его сидел в деревянной казарме канцелярии в комнате адъютанта.
Адъютант, штабс-ротмистр Закревский, товарищ Петрика, блондин с сухим, под англичанина бритым лицом, с подстриженными по начинавшейся тогда, преследуемой начальством моде, маленькими русыми усами, в защитном мундире в талию, с тонкими Скосыревскими аксельбантами, развалившись на стуле и играя их концами и гомбочками, смотрел на затянутого в парадный мундир Петрика, державшего на коленях каску с черным волосяным гребнем и золотым орлом и манерно грассируя, говорил Петрику.
— Я на тебя любуюсь… Завидую тебе… Право… Я бы так не мог… Два года — по четыре лошади в день… ужас. С меня и одной довольно… Совсем оправился от ушиба?… Маленький шрам… До свадьбы заживет… В нашем-то полку — особенно… Да, твое дело колебалось… Начальник дивизии хотел, чтобы ты командовал пулеметною командою, которая формируется при уланском полку. Скучное дело, брат… Что твоя артиллерия… Двуколки… Колеса… Номера… Прислуга… Тоска… Я понял, что это не для тебя… И повел интригу.
— Спасибо, Серж…
— Я, милый мой, всегда о тебе помнил… А приз, как он вышел кстати!.. И вот при мне… После разбора маневров… Мы ведь в нынешнем году на самой немецкой границе были… На поле, при мне, когда Бомбардос взял нашего барона под руку и повел с собою, барон остановился и говорит: — "ваше превосходительство! Тот-то, кто кончил кавалерийскую школу… тот-то кто взял Императорский приз и разбил голову на охоте, должен командовать конным эскадроном, а не стрелять из пулеметов"… — Он широко взмахнул к границе, где видны были мундиры их пограничников, и продолжал, горячась, — "там, ваше превосходительство, Зейдлицу или Цитену, или фон Розенбергу не предложат командовать какими-то пулеметами… Там это понимают тонко! И я вас прошу мне не мешать командовать Высочайше мне вверенным полком!"
— Так и сказал?.. — спросил Петрик. — А тот — что?
— Ты Бомбардоса знаешь. Он трус… Он суетится и лотошит и важничает тогда, когда за ним стоит эта нуда, этот момент из моментов Петр Иванович, а без него сейчас же потеряется. Он заговорил своим воркующим баском…
Адъютант стал подражать воркующему баску начальника дивизии.
— "Да я", говорит, — "барон, ничего не имею против. Как вам угодно… Я хотел только иметь в своей коннопулеметной команде лучших людей и лучших офицеров". Видишь, какого высокого о тебе мнения Бомбардос! Лучших!.. А? Это ты!.. Это о тебе!..
— Ты не боишься, что начальник штаба настоит все-таки на своем?
— Аbgеmacht!.. Сегодня уже приказ. Гусарского полка ротмистр Галаган назначен командовать пулеметами. В самый раз. Маленький, юркий… и кличка «Пуля»… Идеально вышло! Сногсшибательно! Теперь только «Отто-Кто» все не может решить — второй, или четвертый. Четвертый свободен, во втором Неклюдов женится, и барон уже сказал ему: — "тот-то, кто женится, не нужен полку!".. Он и сам это знает. Зданович его устраивает заведующим случной конюшней в Боброве. Самое место для женатаго!
— Серж!.. четвертый…. просительно сказал Петрик, лапкой протягивая руку к адъютанту и касаясь его рукава.
— Знаю, мой милый. «Отто-Кто» говорил уже — "нехорошо там, где был… Слабость проявит". — А я ему — зато всех унтер-офицеров насквозь знает.
— Спасибо, Серж… Что же он?
— Все еще не решил. Второй распущен очень, и он хотел, чтобы ты его подтянул.
— Серж!..
— Милый! Все знаю, все понимаю, все вижу — как кинематограф Патэ. И уверен, что настою на своем.
Он подмигнул Петрику и добавил:
— Хороший адъютант командует полковым командиром, а полковой командир командует полком, — что-то вроде этого и в руководстве для адъютантов Зайцева сказано.
Закревский похлопал рукою по толстой книге в черном матерчатом переплете.
— Нужна только минута, — сказал он.
В открытую дверь показалось толстое, бледное лицо полкового писаря.
— Ваше благородие, — шепотом сказал он, — командир полка пришли.
Закревский многозначительно подмигнул Петрику, схватил черный мягкий бювар с надписью золотом "к докладу" и, позванивая шпорами, вышел из комнаты. Тонкая струя дорогого шипра потянулась за ним.
Петрик обдернул на себе мундир и поправил кисть этишкета.
Минут через десять адъютант заглянул к нему. Его лицо теперь было холодно, важно и официально строго.
— Штабс-ротмистр Ранцев, — сказал он. — Пожалуйте представляться командиру полка.
В небольшом кабинете, с одним окном, выходившем на широкий грязный, черный, растоптанный лошадьми плац, с голыми разлатыми ветлами бульвара вдали, стоя ожидали Петрика — высокий, худой полковник, с бритым в морщинах лицом, с моноклем в глазу, с жидкими рыже-седыми волосами с пробором до шеи и маленький полный подполковник в черных бакенбардах на полном розовом лице, с носом пуговкой и добрыми улыбающимися глазами — Ахросимов, заведующий хозяйством. Насколько командир полка был типичным немцем — от головы до пят, настолько типичным русским был его помощник по хозяйственной части и хранитель полковых традиций — старший штаб-офицер.
— Пожалуйте-с! — сказал командир полка, едва Петрик показался в дверях.
Петрик вытянулся и отбарабанил уставным тоном, не моргая.
— Господин полковник, штабс-ротмистр Ранцев представляется по случаю окончания Офицерской Кавалерийской Школы и выздоровления после болезни.
— Адъютант! — приказ! — кинул барон и, протягивая руку Петрику, сказал: — поздравляю. Во-первых; — императорский приз… хотя и второй. Тот-то кто взял приз на четырехверстном стипль-чезе — тот достоин… достойный службист полка. Во-вторых, школа — тот-то кто!.. Это важно… Это ученый вместо двух неученых… В третьих — так благополюшна отделались… Я знай. Я сам падал с лошадьми… с лошади — никогда… А главное поздравляю — вернулся в наш славний, славний полк. Ошень рад… Немного отдохнуть… Второй, или четвертый — я еще неделя думай… И не думай жениться… большая глупость… Ошибка давай!.. Никого не влюблен?
— Никак нет, господин полковник.
— Ну, смотри… Тот-то, кто служит — влюблен Государя Императора… Влюблен свой полковой штандарт!! Свой польк!!! И никого больше… Ну, садись, рассказывай нам… как падал?..
Петрик поздоровался с Ахросимовым, и все сели подле большого письменного стола, где в образцовом порядке лежали синие папки «дел», книги руководств и уставов, дневная рапортичка, и в особом лоточке подле большой хрустальной чернильницы перья и тщательно отточенные карандаши черные, синие и красные.
XV
Эта неделя прошла, как прекрасный сон. Петрик делал визиты. По утрам ездил свою милую Одалиску, так приветливо нежным кобыльим ржанием встречавшую его всякий раз, как он приходил к ней на конюшню. Выпала пороша — и он с подполковником Ахросимовым, ротмистром Стрепетовым и поручиком Чеготаевым ездил с борзыми собаками травить в наездку русаков. Он был еще как бы вне полка. Его показали явившимся в полк, но не указали в каком эскадроне его числить и он остался в своем родном — четвертом. По вечерам он или сидел в собрании с офицерами, или дома подчитывал уставы и составлял программы и свои эскадронные расписания занятий.
Прошла неделя, прошло и восемь дней. Барон Отто-Кто все думал. То был понедельник и нельзя было в такой тяжелый день отдавать приказ о принятии эскадрона, то было новолуние, и Петрик уже начал немного томиться бездельем. В среду с вечерней почтой Петрик получил письмо. Это было редкое явление. Письмо было из Петербурга, и Петрик порывистым движением вскрыл его. От Портоса?…
Письмо было от Долле. Химик коротко сообщал ему о смерти Портоса. "Ты, конечно, знаешь из газет" — писал Долле, — "что наш бедный Портос жестоким образом убит на своей квартире свиданий. Он задушен руками убийцы". — Холодная дрожь пробежала по телу Петрика. — "Тело его", — успокоенно дочитывал Петрик, — "разрублено на куски и разбросано по всему городу. Голова сожжена в камине". Ничто из дорогих вещей, бывших на нем, не тронуто. Целью убийства был не грабеж. Предполагается — ревность. Я лично уверен, что Портос убит революционерами из мести, из боязни разоблачений и провокаций. Доигрался бедный Портос. Но этого надо было ожидать. Кто вступает в партию, — тот играет с огнем"…
Это ужасное известие о трагической смерти товарища детских игр развязывало, освобождало от больших забот Петрика. И прежде всего от смутного кошмара, от искания, что же было в туманный понедельник, когда случился у него провал памяти. Не он, но кто-то другой душил в это время Портоса. Петрик допускал — мало-ли что можно сделать при потере сознания — допускал, что в том состоянии ненависти и, пожалуй, ревности, он мог задушить Портоса, но рубить его тело на куски и рассовывать по городу, жечь его голову и вещи в камине — он не мог. Да и времени на это не было. «Провал» продолжался час, даже меньше — а потом Петрик отчетливо помнил трамвай, свое в нем путешествие, улицы в тумане, визит к Тропаревым и долгое сидение на квартире Портоса. И это облегчение от чего-то непонятного и страшного смягчило чувство, всегда внушаемое известием о смерти близкого, знакомого человека. Такая смерть Портоса обеляла, извиняла его в глазах Петрика в главном — в принадлежности к партии. Портос пошел в нее с целью предать ее — это было не по-офицерски, не по «мушкетерски», это было доносом, фискальством, чего не допускала закаленная в кадетском корпусе совесть Петрика, но это не было государственным преступлением. За это брезгают человеком, не подают ему руки, но не убивают его. Смерть Портоса, как-то очищала в глазах Петрика и Валентину Петровну. "Божественная, госпожа наша начальница" — оставалась в сердце Петрика прежней королевной. Петрик понимал, как должна была страдать «божественная». Какие муки и страх испытывать.
Смерть Портоса развязала все узелки его жизни, отодвинула, сняла все то темное, неприятное и страшное, что оставалось за Петриком, теперь была одна сплошная радость любви к полку — и ожидания эскадрона!
А когда через два часа после прочтения этого письма в комнату без доклада ворвался сияющий денщик, а за ним показалась масляная физиономия Лисовского уже с черной «запасной» нашивкой на черном с оранжевым кантом погоне, когда денщик протянул ему желтоватый лист с тусклым оттиском литографских чернил полкового приказа и, задыхаясь от счастья за своего офицера, сказал:
— Ваше благородие, честь имею поздравить… — он фыркнул и шмыгнул носом от радости, — с эскадроном.
И Лисовский, весь радость и восторг, из-за его спины договорил:
— Нашим… четвертым!!.. В эскадроне-то… все… так рады!.. — все думы, все заботы, вся печаль и воздыхание по так страшно погибшем товарище улетели из его головы. Молнией мелькнула успокаивающая оправдывающая мысль: — "да разве мы все не смертны? разве я тогда не мог в Поставах упасть и не встать? Каждому своя судьба!" — и как завершение всего, как точка, как аминь, как стук земли по гробовой доске была короткая, как мысль, молитва: — "Господи, помяни во царствии Твоем раба Божия Владимира и помилуй и прости его".
И потом была уже одна сплошная, глубокая, чудная радость.
У лампы с зеленым абажуром, на столе с уставами был разложен приказ. Денщик и Лисовский стояли за спиною Петрика. Их крепкий солдатский запах, дегтя сапожной смазки, махорки и конюшни чувствовал за собою Петрик. Этот запах ему не был неприятен. Он слышал их напряженное дыхание, а сам по привычке, от доски до доски, читал приказ:
— "Приказ 63-му лейб-драгунскому Мариенбургскому Е. И. Величества полку. 18 ноября 1911 года. № 322. Дежурный по полку корнет фон Боде. Помощник дежурного прапорщик Забородько. Караул от эскадрона Его Величества"..
Толстый палец со тщательно промытыми складками кожи, совсем белой, протянулся из-за плеча Петрика, перевернул страницу и Петрик услышал радостный голос денщика:
— Ваше благородие, вот тута почитайте-ка! Палец показал уже замазанное чьим-то грязным пальцем место. Там значилось: — "ї 16. Временно командующему 4-м эскадроном штабс-ротмистру Волынцеву сдать эскадрон прибывшему по окончании курса Офицерской Кавалерийской школы к полку штабс-ротмистру Ранцеву, коему принять эскадрон на законном основании. О сдаче и приеме мне донести. Справка…" — и стояли статьи и пункты соответствующих приказов по военному ведомству.
Он — эскадронный командир!.. Лихого четвертого!.. Штандартного!..
У Петрика спирало дыхание от волнения. Он с трудом мог написать записку Волынцеву о том, что во всем согласно с соответствующими статьями устава Внутренней службы, он, завтра в 9-ть часов утра, будет принимать эскадрон.
И до утра он не спал. То закрывал глаза и тогда картины самых блестящих конных атак, которые он поведет со своим четвертым на немцев рисовались ему, то он видел, как он падает убитый во главе своего эскадрона и командир полка приказывает его накрыть штандартом и говорит, — "какая славная смерть!.." То он видел себя с Георгиевским крестом, с рукою на перевязи, — так — шуточная рана, — возвращающимся с войны и почему-то идущим через Захолустный Штаб. Впереди далеко трубачи играют марш, а на балконе стоит Валентина Петровна, прекраснейшая из прекрасных, госпожа наша начальница — и она не жена его — в их полку не место женатым — но она горячо его любит и восхищается им… То открывал глаза и в темноте комнаты, куда чуть проникал отраженный отсвет снега, шедший сквозь жидкую белую холщевую штору, да трепетное мигание погасающей под образом лампадки, перебирал всех тех унтер-офицеров и солдат, всех этих рыжих лошадей, кого он так хорошо знал.
Отныне это были — "мои унтер-офицеры!.. мои люди!!.. мои лошади!!.."
Сознание ответственности за всех них заставляло быстро биться его сердце. Он не мог заснуть. Вспоминал «отвинтистов», социалистов, просто тупых лодырей и лентяев — и думал — "в моем эскадроне таких не будет… не может быть. Я воспитаю мой эскадрон в вере в Бога, преданности Государю и любви к нашей Великой России…"
И сжималось сердце. Останавливалось дыхание. И опять вставали в памяти лошади, не идущие на препятствия, боящияся чучелов, закусывающие железо мундштуков и уносящие из строя…
"У меня не будет таких… Возьму на корду. По школьному отработаю в руках… Сам!.."
И не мог спать.
Завтра!
Косой, очень бледный, скромный луч солнца вдруг зазолотил штору и надо было вставать.
Завтра наступало.
XVI
Это была чудная сказка. В детстве того не бывало. Вот… разве производство в офицеры могло сравниться с этим.
Ровно в девять — минута в минуту. Петрик знал: "l'еxactitudе еst la politеssе dеs rois" — а он становился маленьким королем в своем эскадроне. Ровно в девять открылась дверь на тяжелом блоке в большую казарму четвертого эскадрона, и Петрик в парадной форме, в каске, при эполетах, в золотой перевязи, при сабле, вошел в эскадрон.
Он услышал команду: — "смирно!.."
Это скомандовал Волынцев.
Перед ним предстал, точно из-под земли выросший бравый унтер-офицер Солодовников и четко, титулуя его уже, как эскадронного командира, отрапортовал: -
— Ваше высокоблагородие, в 4-м эскадроне 63-го лейб-драгунского Мариенбургского Его Императорского Величества полка происшествий никаких не случалось… Эскадрон построен для опроса претензий!
В тоне рапорта Петрику послышалась необычайная торжественность, радость и будто поздравление. "Милый Солодовников!" — подумал Петрик.
И пока шел рапорт, сзади, за спиной дежурного, мерно звучали команды.
— Эскадрон!.. для встречи!.. Шай на кра-ул!
С лязгом вылетели из ножен сабли, сверкнули в солнечном луче и стали отвесно. Тихо колебались новые, светлой кожи темляки под солдатскими кулаками. Опустились к левому носку острия сабель офицеров, стоявших перед взводами, и штабс-ротмистр Волынцев медленно и важно, держа руку «под-высь» и саблю чуть откошенной назад, пошел к Петрику с рапортом.
После его рапорта Петрик сразу увидал весь свой эскадрон. Он стоял против него и лица солдат и офицеров были повернуты к нему. Горделив и красив был лихой поворот головы, с приподнятым подбородком, с левым ухом у воротника. Суровыми казались свежие лица под медью окованными козырьками черных касок с гребнями из конского волоса. Этишкетные шнуры украшали скромный покрой темно-зеленых мундиров. От касок веяло Суворовскими временами, днями Праги. Из-под козырьков не мигая смотрели славные серые, голубые, карие и желтые глаза. Молодые, чисто вымытые лица были розовые с ярким румянцем здоровья.
"Мои драгуны".
Петрик медленно, в сознании важности минуты, подходил к ним.
Перед серединою первого взвода поручик Петлицын — «пупсик». Милый, славный «пупсик», кумир «барышень» заведения госпожи Саломон и предмет обожания Столинских гимназисток.
Как он серьезен, милый «пупсик». Да ведь он и не «пупсик» сейчас. Он — заведующий разведчиками эскадрона. Он то, чем был два года тому назад сам Петрик. Бархатные брови нахмурены и мягкие русые усы красиво закручены кверху и распушены a la Вильгельм.
"Мои офицеры!"
Петрик уже у левого фланга первого взвода. Левофланговый унтер-офицер Карвовский крепко зажал эфес сабли и видно, как под гардой наморщилась свободная перчатка. Петрик его учил новобранцем. Петрик его готовил в учебную команду. Рядом с ним тоже старый знакомый — правофланговый второго взвода — унтер-офицер Рублев. Из-под каски сияют серо-голубые Новгородские глаза. Чистое лицо в солнечном луче сверкает розовыми тонами здоровья и молодости. Какой он красавец — эскадронный запевало!
"Мои унтер-офицеры!".
И важно и вместе с тем с вырывающимся из-под этой важности несказанным счастьем обладания этим прекрасным эскадроном, вырвалось у Петрика: -
— Здорово, лихой четвертый!..
Мерно, враз, сдержанными, как всегда отвечали в казарме, голосами, драгуны ответили: -
— Здравия желаем вашему высокоблагородию.
Гулко раздалось эхо из-под арок второго полуэскадрона. Загудел железный абажур висячей керосиновой лампы над головою Петрика.
Из-за середины эскадрона показалось славное, красивое, русское, знакомое лицо вахмистра Гетмана. Нельзя было не залюбоваться им! Он уже подпрапорщик — и золотом сверкает его покрытый галунами погон. Золотые и серебряные шевроны горят на рукаве в солнечном блеске, идущем из окна. Рыже-русая борода лопатой выходит из-под бронзовой чешуи подбородника каски. Вся в мелких завитках, чисто промытая и промасленная, точно прочеканена она золотыми нитями. Серые глаза смотрят прямо в глаза Петрику. В них и ободрение, и восхищение, и радость, что Петрик принял их эскадрон. Свой офицер! Кого вахмистр Гетман помнил еще безусым корнетом. Точно говорили эти глаза: — "ничего, ваше высокоблагородие, управимся!.."
— Здравствуйте, вахмистр!
И так же мерно и мягко, как отвечал эскадрон, ответил вахмистр:
— Здравия желаю, ваше высокоблагородие!
"Мой вахмистр!"
Петрик шел вдоль эскадрона, не чуя под собою ног. Он плыл, несся в каком-то прекрасном колдовском сне. Сзади него, опустив саблю острием к носкам, шел Волынцев. Так дошли они до левого фланга. Дальше видна была у стены большая икона св. Георгия Победоносца. Прекрасный серый конь взвился на дыбы над коричнево-зеленым чудовищем змея. Покровитель эскадрона смотрел на Петрика из-под стекла, отражавшего пламя зеленой лампады. Петрик вспомнил, как балагур Пупсик как-то сказал, что надо бы написать св. Георгия на рыжем коне в масть полку и как, молча, строго посмотрел на Пупсика старый вахмистр Гетман, но ничего не сказал.
— Что ж, — обернулся Петрик к Волынцеву, заглянув еще и с левого фланга на равнение задней шеренги и на линию замыкающих унтер-офицеров, — сабли в ножны и к опросу претензий.
Офицеры и унтер-офицеры стали отдельно. Шеренги эскадрона разошлись на два шага и стали друг против друга широкой улицей. Петрик пошел по ней. Это была пустая формальность. Разве могли быть претензии в их Мариенбургском Его Величества полку!? Жалованье и аммуничные выдавались в срок и «папаша» Ахросимов строго следил, чтобы к 5-му числу все требовательные ведомости были представлены в хозяйственное отделение полковой канцелярии. Денежные письма не задерживались ни на час, пищу пробовал ежедневно сам эскадронный и почти каждый день барон Отто-Кто. И, хотя был он немец, Вильгельм Федорович, но был большой знаток в борще с бураками, ленивых щах и грешневой каше. И беда, если она недостаточно упрела! А как положит четыре «порции» вареного мяса на весы, поставит фунтовую гирю — беда, если фунтовая гиря перетянет… Заявить претензию при таких условиях — скандал на весь полк! Это понимал самый последний нестроевой драбант. Рассказывали, что некогда смазливый мальчишка, корнет Мусин, на опросе претензий Корпусным Командиром заявил претензию "на красоту", за что и вылетел с треском из полка. Скверный и старый анекдот!
Петрик шел между шеренг и слышал, как по два-три голоса, точно с каким-то испугом отвечали ему: — не имеем… не имеем… не имеем!..
Потом эскадрон разошелся по койкам. И пока драгуны снимали каски и переодевались из парадных во вседневные мундиры, Петрик прошел в помещение второго полуэскадрона. Там на длинных столах, принесенных из столовой и классной комнат в чинном порядке лежали винтовки. Штыки были отомкнуты, стволы отделены, затворы вынуты. Каптенармус с книгой "осмотра оружия" ожидал Петрика. Петрик брал привычной наметанной рукой стволы за середину и смотрел то "на глаз" в окно, то в маленькое зеркальце, которое ему вкладывал в коробку затвора вахмистр. Серебристой лентой, извиваясь, уходили в какую-то безпредельность нарезы и блистали чистотой. Нигде ни раковин, ни заусениц, ни ржавчины.
"Мои винтовки".
Время летело. Петрик не замечал его полета. Он обходил койки, где однообразно лежали каски, фуражки, шинели, мундиры, сабли, белье, седла и вьюки. Он в эскадронной канцелярии принимал эскадронную книгу и по ней: артельные, переходящие и образные суммы.
Он — бедный человек, неимущий сын вдовы, где-то из милости живущей на хуторе, становился обладателем громадного имущества.
После завтрака в собрании, где все офицеры полка поздравляли его с эскадроном — была выводка.
Рыжие — с белыми отметинами на морде, с лысинами, нарядные лошади шли по годам ремонта мимо Петрика. Почти всех он знал. Солдаты доводили лошадь до Петрика и ставили ее перед ним, как умели ставить лошадь только в русской армии, где с испокон веков выводка была праздником кавалериста.
— Конь Артабан, ремонта 1901 года, — солидно говорил солдат, и старый, заслуженный конь становился в позу и, кося глаз на Петрика, точно говорил: — ну каков-то будешь ты? Будешь только гонять или будешь и кормить? Пожалеешь сверх срока служащего коня? Оставишь еще на год? или продашь татарам на маханину?
— Кобыла Астра, ремонта 1901 года.
— И Астра жива — радостно говорил Петрик. Он помнил ее еще когда был молодым офицером — прекрасную Астру. — А погнулась-таки спинка.
— Лучше нет по препятствиям, — ворчливым баском отозвался вахмистр, стоявший с кузнецом в фартуке по ту сторону лошади против Петрика… — А рубить! Сама навезет!..
Шли, шли и шли лошади, потряхивали гривами, останавливались, сверкали подковами, морщили губы, косили глазами. Все моложе, игривее, легкомысленнее.
Проходил уже последний ремонт.
— Кобыла Лисица ремонта 1911 года…
— Конь Лютый… Конь Люцифер…
— "Погодите, мои милые", — думал Петрик, — "и проберу же я вас и Лисиц, и Лютых, и Люциферов… по школьному…"
Замыкая нарядную шаловливую молодежь прошли рослые и широкие артельные — Шарик и Шалунья…
Росло и росло у Петрика горделивое чувство собственности, сознание ответственности за все это. Высочайше вверенное ему имущество, за эти сотни тысяч рублей, в лошадях и вещах, за людей, за все, за все, чего он становился хозяином.
"Мои лошади!.." "Мой эскадрон!.."
ХVII
Перед перекличкой Петрик долго и обстоятельно беседовал с вахмистром. Обо всем. О том, какие препятствия — по школьному — поставить на эскадронном плацу, какие чучела для рубки и уколов устроить, кого из унтер-офицеров куда назначить. Поговорили, деликатно и осторожно, и об офицерах. Молодых корнетов Петрик совсем не знал, Гетман знал их два года.
Он стоял против сидевшего на стуле в канцелярии Петрика, стоял, рисуясь свободной выправкой, точно ему ничего не стоило так стоять на вытяжку…
— Ну, как же, Гетман, поработаем на славу полку, на радость Царю-батюшке? А?…
— Так точно, ваше высокоблагородие… Воопче их надо только жмать… Отличные есть ребята.
"Жму, жмешь, жмет… Отсюда, очевидно, и жмать, а не жать" — думал Петрик, глядя в серые глаза вахмистра, в его крепкое мужицкое лицо, — "Да, у этого отвинтиста не будет. Он умеет "жмать"…
За дверью гудел выстроившийся на перекличку эскадрон.
— Дозвольте, ваше высокоблагородие, поверку делать? — меняя тон с доверительного на официальный сказал вахмистр.
Петрик был на перекличке. В открытую форточку со двора, запорошенного снегом доносились певучие звуки кавалерийской зори. Ее играл на гауптвахте при карауле трубач. Эти звуки подчеркивали зимнюю тишину большого полкового двора. В эскадроне отрывисто раздавались ответы: — я… я… дневалит на конюшне… в конносуточных при штабе дивизии…
Пели молитвы… Потом накрылись, стали смирно и пели гимн.
Петрик чувствовал себя именинником. Звуки гимна поднимали его еще выше и, казалось, не выдержит сердце, разорвется на куски от радостного волнения.
Из эскадрона, своего, лихого, штандартного, Петрик прошел в собрание, где за отдельным столом офицеры его эскадрона чествовали его ужином. С ними был и «папаша» — Ахросимов, в свое время командовавший этим самым лихим четвертым, был и адъютант — Серж Закревский.
Было вино. Много вина, настоящего, серьезного, какое и надлежит пить в Мариенбургском, лейб-драгунском. Не женатом. — «Мумм-монополь». Экстра сек… Строгое вино. От него не хмелеешь… И все были серьезны. Пупсик не принес гитары и не пел своих песен. Благовой не рассказывал соленых анекдотов. На другом конце стола сидел самый молодой корнет, всего месяц в полку, Дружко, и счастливыми круглыми глазами смотрел, не мигая на Петрика.
"Папаша" рассказывал, как при нем лошади были так выдрессированы, что он на большом военном поле, — "вы знаете, том самом песчаном поле, где дивизию смотрел Великий Князь, — я бывало поставлю эскадрон развернутым строем, скомандую "слезай! — оставить лошадей" — и версты на две отведу людей, делая им стрелковое учение. А лошади стоят, не шелохнутся… И никого при них.
Вспоминали мелочи и кунштюки строевого дела.
— Ты, Петрик, меня, впрочем, не слушай, — говорил папаша. — Очковтирательством не занимайся… Начистоту!.. Теперь времена не те… Все надо знать… Да и война как будто надвигается. Багдадская дорога — это, брат, для России по больному месту удар. Кому восток — России или Германии?
И заговорили о войне, об атаках, о немецкой кавалерии…
В одиннадцать часов папаша ушел к себе. Он любил поспать. И только он ушел — собранский солдат вызвал адъютанта. Его дожидался полковой писарь. Что-то случилось. Серж тряхнул аксельбантом и, не прощаясь, — "сейчас вернусь", — вышел из-за стола. И не вернулся.
Еще теснее сомкнулся вокруг Петрика маленький кружок его офицеров. И говорили серьезно и тихо о том, как учить эскадрон. Такое было настроение у Петрика в этот день. Как бы молитвенное. Точно после святого причастия. Тут было не до шуток, не до поездки к госпоже Саломон, не до корнетского загула. Словно в сознании всей своей ответственности за всех и за все, что он принял, Петрик говорил, как он хотел бы, чтобы шли занятия в его эскадроне.
— В моем эскадроне, — тихо говорил он, — я бы хотел, чтобы не арестами, не взысканиями, не криком, но личным примером и строгою требовательностью, не допускающею отговорок, шло воспитание солдата. Как в школе! Ареста вообще для офицера не допускаю. Арестованный офицер — не офицер… Вон из полка!!.. Позор!!!..
И он рассказывал про школу. Как они работали ежедневно по четыре лошади, как вольтижировали, фехтовали, какие были охоты, как шли собаки.
Корнет Дружко совсем уже влюбленными глазами смотрел на Петрика.
"Умрет за меня… за эскадрон… за полк", — подумал, взглянув на него и поняв его, Петрик.
Был третий час ночи. Собранская прислуга дремала за буфетной стойкой. Петрик разлил остатки шампанскаго по стаканам. Он встал и все встали. Он высоко поднял стакан над головой.
— За полк!
Молча осушил стакан. За ним так же молча выпили вино его офицеры и стали расходиться.
— Так завтра, господа, начнем…
Эту ночь Петрик спал крепким, богатырским сном, как спал когда-то в детстве, в день именин, когда нарадовавшись игрушкам и наигравшись ими он засыпал в своей маленькой кроватке, хранимой ангелом-хранителем.
И в своем полном счастье он не видел никаких снов…
XVIII
Адъютант был вызван дежурным писарем по весьма срочному и важному делу, и дело это касалось Петрика. С ночным поездом из Столина приехал комендантский адъютант со срочным приказом арестовать при городской гауптвахте штабс-ротмистра Ранцева по распоряжению военного прокурора. Ранцев обвинялся в убийстве своего товарища по Офицерской Кавалерийской школе штабс-капитана Багренева с заранее обдуманным намерением. Следователь по особо важным делам ожидал его утром к допросу. Мерою пресечения прокурор избрал арест при городской гауптвахте.
Серж пошел на квартиру командира полка будить барона Отто-Кто.
В старой шинели, в туфлях на босу ногу, со всклокоченными рыже-седыми жидкими волосами, с моноклем в мутном со сна глазу барон вышел к адъютанту в кабинет, где денщик торопливо, дрожащими руками заправлял лампу. Барон выслушал короткий доклад адъютанта, молча протянул руку за пакетом с отношением прокурора и просмотрел его.
— Ну? — сказал он. Это «ну» обозначало, что он ожидает совета адъютанта.
Закревский вспомнил: — "адъютант командует командиром, а командир командует полком", и советовательным, почтительным тоном сказал:
— Придется отправить… Мы не знаем, что там было.
— Вот именно мы нэ знаем. Тот-то кто нэ знает, нэ может действовать… Где Ранцев? — помолчав немного, спросил командир.
— Штабс-ротмистр Ранцев в собрании с офицерами своего эскадрона беседует за стаканами вина.
— Когда идет поезд на Столин?
— В двенадцать часов ночи.
— Утром… Я спрашиваю: утром! — хрипло крикнул барон.
— В десять часов утра.
— В восемь утра вы пойдете к штабс-ротмистру Ранцеву. Отберете саблю и отправите с комендантским адъютантом.
— Комендантский адъютант настаивает, чтобы отправить сейчас. Следователь с утра хочет приступить к допросу. Дело чрезвычайное. Я читал в газетах. Ужасное дело.
— Я газет не читай! — Барон щелкнул пальцем по аккуратно сложенной кипе номеров "Русского Инвалида", — моя газета — вот! Других не читай! Там глюп-сти пишут, как об этом деле Дреллиса… Сутяги… Отправите утром. Молодой шеловек принимай шквадрон. У него голева кругом. Сейчас арест — это невосмошна… ви понимайт это… Это другое убийство… Он мнэ ничего не сказал: — он ничего худого не сделаль. Тот-то кто делает — тот говорит!
— Но, господин полковник, нам отвечать придется.
— Не нам, — господин адъютант, — крикнул барон, — не нам! Тот-то, кто отдает приказание — тот-то и отвечивает. Это я, — он ударил себя в тощую грудь, — это я отвечай. И я отвечай, что офицер невиновен. Арест!.. Такое оскорбление! Эти судейские формалисты — они не понимайт, что офицера арестовать нельзя.
— Господин полковник, такое преступление!
— Никакое преступление!.. Глюп-сти!.. Они бы жидов судили, а не честных офицеров арестовать!.. Утром отправите. Саблю ко мне, сюда, под штандарт… И эти… газеты… мне принесете. Поняли?
— Что с адъютантом делать прикажете?
— Пусть ночует в номерах.
— Разрешите мне, я его у себя устрою.
— Ах, пожалюста… Только поменьше нежности… Он приехал, как враг… Поняли?
— Понимаю.
Барон повернулся спиною к адъютанту и зашлепал туфлями из кабинета. С адъютантом у него отношения были простые, Серж понимал это и не обиделся.
— Штабс-ротмистру Ранцеву скажите, я сказаль — глюп-сти… Я не верю… Ошибка… Ошибка не в счет. И по полку никому не говорить! Молчание.
И, схватившись за голову, со стоном: -
— О, что они делают, что делают!.. — барон исчез в тускло освещенной одною свечою спальной.
XIX
На другой день к большому удивлению всех чинов полка Отто-Кто не вышел на занятия. Удивление стало еще больше, когда Серж сказал за завтраком в собрании, что барон читает газеты. Отто-Кто никогда не занимался политикой.
Действительно, пришедший в обычный час с докладом, адъютант нашел своего командира в глубоком кресле, окутанного волнами сигарного дыма и среди ворохов Петербургских газет. Барон молча подписал бумаги и приказ и, не сказав ни слова, отпустил удивленного Сержа. В час ночи теперь уже адъютант был разбужен командирским денщиком. Барон требовал к себе адъютанта. У подъезда командирского дома стояла полковая бричка, запряженная парою крепких и сытых лошадей. Солдат в полушубке и фуражке, с головою укутанной башлыком сидел на козлах.
— У командира кто-нибудь есть? — спросил адъютант у солдата.
— Никак нет. Командир сами едут в Столин.
— Когда же вы там будете?
— К утру, часам к десяти доспеем, коли кони не подобьются. Колоть большая.
Барон ожидал адъютанта в кабинете. Он был одет в пальто и также, как солдат, укутан башлыком. На диване лежала старая, теплая, на медвежьем меху командирская шинель и, подле, небольшой чемодан. Барон собирался в далекий путь.
— Я уезжай, — коротко кинул барон.
— Господин полковник, вам не лучше обождать утреннего поезда? Мороз большой.
— Я мороза не боюсь. Я старый солдат, — сухо сказал барон — скажите подполковнику Ахросимову вступить командование полком. Я надеюсь завтра ночью быть дома. Если не буду — отдайте приказ, что я уехал по делам службы.
И, ничего не поясняя, барон протянул руку адъютанту и пошел из кабинета. Серж знал, что спрашивать в таких случаях было безполезно. Он догадывался, что барон ехал по делу Петрика.
— Вы, господин полковник, поедете в Вильно?
— Тот-то кто сам не говорит, куда едет, тот не желает, чтобы его спрашивали, — строго сказал барон и вышел на крыльцо. Деньщик устанавливал в ногах чемодан. Барон посмотрел на синее, звездное небо, повернул голову к адъютанту, приложил руку к закутанной голове и сказал: -
— До свиданья, милый…
Он влез с помощью денщика сначала в свою старую шубу-шинель, потом в бричку и сказал солдату: -
— Ну, с Богом, трогай!
Лошади дружно взяли, бричка загремела тяжелыми железными шинами по замерзшей, покрытой тонким слоем снега мостовой и скрылась в ночной темноте. На мгновение в свете далекого одинокого фонаря она выявилась темным силуэтом, отбросила тень на снеговой покров и скрылась совсем. Смолк и стук колес.
Деньщик пошел на крыльцо, адъютант зашагал по деревянной, скользкой, обледенелой панели домой досыпать недоспанное. Ледяной ветер задувал с востока и гудел в голых деревьях, росших вдоль улицы.
"Да", — думал Серж, — "а все таки наш Отто-Кто настоящий командир и своего офицера ли, солдата, в обиду не даст. Даром, что немец!"
И тут же вспомнил портретную галерею предков барона, что висела в зале, где стоял полковой штандарт. Далеко, ко временам тишайшего царя Алексия Михайловича восходили баронские предки и все в русских мундирах! Дрались со шведом при Петре, ходили в Берлин, против Фридриха, при Елизавете; были в Варшаве и Париже. Русские немцы были бароны фон Кронунгсхаузены, жили почти триста лет в России, а русского языка не осилили.
И, кутаясь в свое холостое, суконное, Лодзинское одеяло, Серж думал о бароне, катившем теперь через глухие сосновые леса по прямому, как стрела, Столинскому шоссе.
— "Не завидую ему" — думал Серж. — "Ох, не завидую. А кому-нибудь выручать Петрика нужно. Не может быть, чтобы это он убил Багренева. Просто влип бедный Петрик в какую-то грязную историю и несомненно через женщину… Быть в холостом полку хорошо, но и ах как опасно!.."
И он думал о своем товарище, лихом Петрике, который сидел теперь в пусто обставленной комнате и к кому в окошечко мог заглянуть часовой их однобригадного уланского полка.
"Ох, тяжело бедному Петрику! С его-то самолюбием! С его высоким взглядом на офицерское звание! Ну что же? А если убил? Тут и с мундиром проститься придется. Каторжную шинельку надевать придется… Сказано: — не убий!.."
С тем и заснул потревоженный ночью Серж Закревский, полковой адъютант Мариенбургского Его Величества полка.
XX
Барон Отто-Кто катил в бричке, трясся по камням, задремывал, скатывался на бок, на перед, просыпался, с недоумением осматривал серебряный в инее хвойный лес, белую дорогу с ровными, все на одинаковых промежутках кучами щебня — и думал свои думы.
Он думал о том, как и он был молодым офицером, как и он некогда принимал эскадрон и испытывал такое же восторженное парение, какое вчера испытывал этот славный штабс-ротмистр Ранцев. Он восстанавливал в памяти все прочитанное в газетах, фыркал и бурчал что-то в башлык.
Захватило морозом, защемило, зажгло кончик уха, он потер его, потер заодно и нос и опять дремал под однообразный рокот колес, под мерный стук подков бегущих по замерзшему шоссе лошадей.
Проснулся — и нету леса. Ясное восходило солнце за оснеженными холмами. Все голубо, бело, оранжево было кругом. И так мягки и прозрачны были краски. Высокая кирпичная колокольня и крутая серая крыша красного костела, домики местечка и белые дымы, кольцами вьющиеся из всех труб маячили перед ним. Проехали через просыпавшееся местечко, где открывались лавки, и водовозы везли в больших полузамерзших бадьях, облепленных сосульками воду. Лаяли и бежали за бричкой лохматые, голодные, жидовские собаки, и солдат ямщик отгонял их кнутом. Еще десять верст — и Столин, где стоят уланы, где можно обогреться у гостеприимного их командира, полковника Букетова, или в собрании полка…
Совсем ободняло. Солнце ярко светило, и не грело. Еще жестче стал мороз и кусал за нос и за щеки.
Показались дома города. Вывеска с написанным на ней уланом в полной форме, с синими лацканами с белыми кантами и надпись белыми покатыми буквами — "военный и штатский мужской портной Сруль Перникарж из Варшавы", медный таз парикмахера и надпись "стрижка и брижка за 20 копеек"… Все такое знакомое, почти что родное барону Отто-Кто.
— К командиру прикажете? — оборачивая побелевшее от мороза лицо, спросил солдат.
— Вези прямо на вокзал.
На станции в зале I и II класса, где стоял длинный стол, накрытый белою в крахмальных складках скатертью, с искусственными пальмами на нем, с бутылками с пестрыми этикетками, с ведрами под серебро для замораживания шампанского и с чистыми приборами — барон потребовал себе чаю и бутербродов; он снял шинель, отослал ее солдату в бричку, развязал башлык и согревался в пустом зале. До заграничнаго поезда, который он решил подхватить, оставалось полчаса.
После езды в открытой бричке, ночной тряски, холода и дремоты, мерное покачивание большого пульмановского вагона, тишина в полусонных купе, с полуспущенными шторами, разбросанные несессеры, книги, раскрытые чемоданы показались каким-то небывалым уютом. Барон закурил сигару и погрузился в думы.
В губернском городе, где он вышел, на большой станции, в роскошной парикмахерской, он "навел на себя красоту". Побрился, помылся, переоделся в мундир, надел ордена, нацепил саблю, вынутую из замшевого чехла, надел каску и на извозчике поехал к дому генерал-губернатора.
Щеголеватый генерал-губернаторский адъютант из кавалерийских офицеров доложил барону, что приема больше нет и что "господину полковнику надо, записавшись, пожаловать завтра, ровно к одиннадцати".
— Вы будете первым.
— Скажите его высокопревосходительству, что тот-то, кто приехал защищать офицерскую честь — тот принимается без приема.
— Господин полковник, — пытался возразить адъютант, но барон его перебил: -
— Тот-то, кто ротмистр — тот исполняет приказание полковника.
Командующий войсками сейчас же принял барона. Командующий был генерал, лет шестидесяти, здоровый, крепкий, кряжистый, в меру полный. На нем был китель с двумя георгиевскими крестами и многими значками, короткие шаровары с широким желтым лампасом, заправленные в высокие, мягкие сапоги. Еще густые, темно-рыжие волосы были коротко, ежиком, по-солдатски пострижены. Рыжие большие усы уходили в пушистые подусники и сливались с бакенбардами, торчащими в две стороны. Красное, точно скомканное лицо освещалось живыми, быстрыми рыжими глазами. Весь он был порыв и стремительность. Таким он был, когда в 1900-м году мчался, делая более ста верст в день за боксерами в Гирин, таким был в Японскую войну, когда на прекрасном арабе завода Сангушко, шел во главе Забайкальцев выручать отряд на Ялу, таким же стремительным, бурным, гневным, распекающим, разносящим, хвалящим, благодарящим, всегда нежданным и неожиданным, немного оригинальным или играющим на оригинальность он был и теперь, когда был командующим войсками большого приграничного округа. Звали его в округе за его налеты, за желтые лампасы, за общий красно-желтый весь его облик — "желтою опасностью"…
Барон отлично учел, что только "желтая опасность" — может понять его и может стремительно, все взяв на себя, спасти Петрика.
Командующий войсками фыркнул, раздувая усы и коротко как бы заржал, что обозначало у него смех.
— Рад… Чему обязан внезапным посещением доблестного командира лихих Мариенбуржцев?
Желтые глаза метали золотистые искры огней. Он обеими пухлыми короткопалыми руками пожал тонкую с длинными пальцами породистую руку барона и, как только барон сказал ему, что он приехал, как командир полка, требовать освобождения из-под ареста штабс-ротмистра Ранцева, командующий войсками зафыркал и заговорил так быстро, что ничего нельзя было разобрать. "Бу-бу-бу… дрр… дрр… дрр"… неслось из-под рыжих усов с седеющими подусниками. Барон, казалось, и не старался понять, что ему говорил так скоропалительно его командующий.
Командующий рылся в массе синих папок с делами, валявшихся у него на громадном письменном столе, и не находил того, что ему нужно. Он стоял, и против него — прямой и тонкий, как Дон-Кихот в монокле и драгунском мундире, положив руку на эфес тяжелой сабли, стоял барон Отто-Кто.
— Он… убил… убил… убил… — наконец выкрикнул, заключая свою непонятную речь, генерал.
— Нэт… он не убил, — спокойно, медленно, раздельно произнося слова, сказал барон.
"Желтая опасность", казалось, был озадачен. Он откинулся, держась обеими руками за край стола. Желтые глаза вспыхнули красным огнем.
Опять раздалось бу-бу-бу… дррг… дррг… дррг…
Барон спокойно дождался конца этой скорой и непонятной ему речи и, когда генерал остановился, выпучив на него большие круглые глаза, барон начал медленно делать ему возражения.
— Тот-то кто носит… имеет шесть носить, офицерский мундир Мариенбургских драгун и вензеля Его Велишества — тот-то так нэ убивает.
Барон сделал паузу. Это была слишком длинная для него речь. "Желтая опасность" пронизывал барона огнями своих глаз.
— Ну, — поощрил он барона.
— Тот-то, кто — стреляет на дуэли… — барон показал рукою, как целят из пистолета и стреляют. — Рубит саблей, — барон повысил голос и взмахнул рукой, как бы рубя саблей.
— В запальчивости и раздражении! — выпалил командующий. — Застав с любимой женщиной.
— У нэго нэт любимой женщины, — повторил внушительно барон Отто-Кто. — Он любит свой польк!
"Желтая опасность" снова опешил.
— То есть? Как это — нэт?
— Он мне сказал, что нэт. Тот-то, кто носит погоны и сказал — нэт, — тот-то, значит, — нэт.
— Все равно — задушил… В минуту гнева. Каждый из нас может задушить в состоянии экстаза, невменяемости…
— Задушить… да… Если тот подлец… мерзавец… может… Но рэзать на куски?.. Заворачивать, упаковывать, разносить по городу? — Тот-то, кто — нэ может.
Это было сказано так внушительно, твердо и убедительно, что "желтая опасность" растерялся и несколько минут, долгих минут, они стояли друг против друга, глядя один другому в глаза и молчали.
— Хорр-шо, — сказал командующий, сел в большое кресло, схватил широкий блокнот и стал писать на нем размашисто и быстро. Еще правая рука его продолжала писать на блокноте, когда он левой надавил на пуговку электрическаго звонка.
Вошел адъютант. "Желтая опасность", не глядя, протянул назад руку с листками к вошедшему и пробормотал скороговоркой:
— Коменданту Столина… Военному прокурору… Сейчас…
Адъютант вышел и понес листки начальнику штаба, так как только тот один умел разбирать своеобразные иероглифы, какими писал генерал. Отправив телеграммы, командующий успокоился и рукою показал все еще стоявшему барону Отто-Кто, чтобы он садился. В глазах погасли огневые искры и они стали добрыми и размягченными.
— Вы понимаете, барон, что я сделал?
— Я ошень понимай. Тот-то, кто служит Государю, тот может так делать.
— Да, благодарение Господу Богу, что у нас Государь, иначе… самоуправство… заступничество за офицеров — убийц.
— Он нэ убийца.
— В общественном мнении, питаемом газетами, он убийца и его освобождение поднимет разговоры… а там еще Дума!.. Запросы.
— Тот-то, кто служит Государю, тот-то не думает о Думе…
— Да… Государь… Государь… Только с Государем правда. Только он может выправить ошибки правосудия… И я напишу Его Величеству…
— Пишите — тот-то кто — нэ убил… Тот-то, кто шестный офицер…
"Желтая опасность" уже скрипел пером по бумаге. Иногда он поднимал голову на Отто-Кто, фыркал и снова продолжал писать.
— В России, — сказал он, окончив писать, — где такая пылкая, невежественная и жадная до всякой сенсации общественность… где толпа так много позволяет себе совать нос туда, где ее не спрашивают, как быть без сдерживающего начала Императорской власти? Возьмите дело Дреллиса… Не вмешайся Государь — и невинно убитый мальчик так и остался бы просто жертвой. Убийцы не понесли бы наказания… Ваш офицер Ранцев… Толпа натравила на него следствие, толпа так же натравит на него суд — и новая жертва необузданности и анархизма Русского темперамента. Я пишу Государю: "умоляю, Ваше Величество, сделать распоряжение, чтобы по этому делу прекратился добровольный розыск газет. Вся обстановка убийства показывает, что его не мог совершить офицер, да еще такой, как штабс-ротмистр Ранцев, всего два месяца тому назад получивший, из рук Вашего Императорского Величества приз и имевший счастье видеть и беседовать с Вами"…
— Ошэнь карашо! Тот-то, кто беседовал, кто видел, тот-то неспособен на грязный поступок.
— "Я уверен" — продолжал все быстрее и быстрее писать "желтая опасность", — "что преступление раскроется и убийца будет найден, как найден убийца Ванюши Лыщинского, которого, если бы не Ваше соизволение"…
— Соизволение, ошень карашо!
— Не ваше соизволение — никогда бы не нашли, и я надеюсь, что Ваше Императорское Величество поймете и оцените опять мое самоуправство, самоуправство верноподданнаго Вам Ламайзы-дзянь-дзюня и простите меня"… далее, читая, генерал уже так заторопился, что барон Отто-Кто только и слышал: — бу-бу-бу… дррг… дррг… дррг…"…
Кончив читать свое послание, генерал резким движением встал из-за стола и сказал, успокаиваясь. — Пожалуйте обедать… Моя жена будет очень рада видеть вас, неисправимого холостяка, у себя за столом.
"Желтая опасность" взял под руку барона Отто-Кто и повел его в столовую.
XXI
На другой день после приема эскадрона Петрик встал рано. Только начинал светать тихий морозный ноябрьский день. В окно был виден прикрытый снежком полковой плац. Драгуны шли с уборки, очередные на навозных ларях разравнивали навоз; теплым паром курились обитые рогожей двери конюшень. Петрик наскоро выпил чай и хотел до занятий пройтись по конюшне своего эскадрона, чтобы полюбоваться на своих лошадей. Он надел пальто и пристегивал саблю, когда тревожно, как показалось Петрику, зазвонил дверной колокольчик. Петрик сам отворил дверь. В прихожую шагнул полковой адъютант Закревский. Столь ранний визит Закревского, любителя поспать, бывшего при сабле и надевшего на свое лицо хорошо знакомую офицерам полка «непромокаемую» маску офицальности, заинтересовал и встревожил Петрика. Настолько верил Петрик в свою правоту перед Богом и Государем, что ранний визит Закревского он мог объяснить лишь каким-нибудь особо важным, опасным, секретным и потому почетным поручением ему и его эскадрону.
Петрик попятился в столовую, дал знак денщику, прибиравшему со стола, чтобы он ушел и сказал Закревскому, вошедшему за ним:
— Что скажешь?
— Штабс-ротмистр Ранцев! Командир полка прислал меня, чтобы отобрать у вас саблю и отправить вас с приехавшим за вами из Столина плац-адъютантом на гаупвахту. Вы вызываетесь по Делу об убийстве штабс-капитана Багренева в качестве обвиняемого. Мерою пресечения, по указанию прокурора, назначен арест.
Бледная улыбка прошла по лицу Петрика.
— Это… недоразумение, — тихо сказал он.
— Ни командир полка, ни я в этом не сомневаемся… Но таков приказ свыше.
— Вы понимаете, штабс-ротмистр, что значит для офицера гауптвахта?
— В полной мере.
— Командир полка приказал меня отправить под арест?
— Он приказал исполнить отношение военного прокурора. Я прислан принять ваше оружие и доставить вас плац-адъютанту.
Медленно, медленно, будто все еще в какой-то нерешительности, Петрик отстегивал портупею;
— Изволь, — сказал он, смотря прямо в глаза адъютанту и подавая ему саблю, — но знай, Серж, что ты никогда больше не увидишь ее одетою на мне.
— Ну… полно… полно… — начал было Закревский. — Кто Богу не грешен, кто царю не виноват, — но увидел строгий, ясный взгляд Петрика, неловко пожал плечами и опустил глаза.
"Прав был", — подумал он, — "барон Отто-Кто, когда запретил мне производить арест вчера ночью, как настаивал на этом плац-адъютант, хотевший непременно ехать с ночным поездом в Столин… Вчера Бог знает, чем бы это кончилось… Да и теперь… Бог даст, отойдет… Да и Отто-Кто его так не оставит".
XXII
Узкая, длинная и высокая — точно коробка для папиросных гильз, что когда-то приносила Петрику Ревекка — комната. И такая же, как коробка белая и пустая. Белые потолки, белые стены, некрашенные серо-белые полы. Койка, стол, стул. Высокое казенное, пыльное окно, за ним толстая железная решетка, как в тюрьме. Да это и была тюрьма. В двери — квадратное отверстие и в него видна темно-синяя с желтым кантом безкозырка и молодое лицо часового улана. Солдат стережет офицера!
Петрик вошел в эту комнату, приниженный и пришибленный. Он сел и задумался. Теперь, под ударами судьбы, он восстановил в памяти до последней мелочи все то, что с ним было во время «провала». Он не входил в гарсоньерку Портоса, он только заглянул на лестницу. Он сейчас же вышел на улицу и пошел пешком по Преображенской. Он три раза прошел ее взад и вперед, все думая о Валентине Петровне. Ужасно он тогда мучился. И эти муки и закружили ему голову. Потом он сел в трамвай, поехал, сам не зная, куда. Он подходил к двери гарсоньерки только вечером… Там все было кончено и это ему не казалось, но на самом деле холодом смерти тянуло от двери… Продумать это было важно. Петрик, мысленно расставшись со своим офицерским званием, решил исполнить долг и показать следователю все то, что касается дома на Кирочной. О том, что было в школе, он промолчит. "Да, — у него были натянутые отношения с Портосом… Да, он с ним избегал встречаться последнее время… Да, ему надо было переговорить с ним… О чем?..
— О многом, но не имеющем отношения к его смерти. Об этом теперь лишнее говорить и говорить он не будет! Это имело значение, если бы Портос был жив. Теперь, когда его нет — это забыто!"
Так обдумывал свои показания следователю Петрик. У него было на это время, потому что следователь, не получивший Петрика в назначенные ему утренние часы, не то обиделся, не то был занят другим делом и отложил допрос на два дня.
Петрик твердо решил теперь же с гауптвахты, подать прошение об отставке. Он попросил чернила и бумагу, и караульный офицер, незнакомый ему, совсем молодой уланский корнет, справившись с инструкцией, принес ему и то и другое. Петрик сам надписал свой бланк: -
"Командир 4-го эскадрона 3-го Лейб-Драгунского Мариенбургского Его Величества полка".
Он глубоко задумался. Вот он — мечты долгих, долгих лет. Эскадрон! Его эскадрон! Лихой, четвертый… штандартный!.. Но именно потому, что он лихой, что его охране вверен святой штандарт, что он — их славного Мариенбургского полка — офицер, которого сейчас стережет солдат, — он не может уже им командовать".
В глазах караульного начальника, корнета, Петрик прочел сочувствие, внимание, любопытство, — убийца офицера!.. Но и пренебрежение… И снести это было невозможно…
За дверью топтался часовой. Куда бы Петрик ни шел, часовой шел за ним и нес винтовку с примкнутым штыком.
Позор! Этот позор несмываем и так опозоренный офицер не может командовать эскадроном. Как подойдет он теперь к людям и скажет — "здорово лихой четвертый!" — Как посмотрит он в глаза корнету Дружко, который такими влюбленными глазами смотрел на него вчера, точно хотел сказать: "прикажи умереть- и умру!"…
Как поздоровается с вахмистром и скажет ему: — солдат, бывший под арестом, плохой солдат.
Вчера — маленький бог, хозяин жизни и смерти почти полутораста человек — сегодня арестант, окарауливаемый солдатом. За что?
Петрик осмотрел комнату. На столе лежала книга — Евангелие. Рассеянно, еще не думая ни о чем, Петрик взял книгу и вдруг вспомнил одно место, которое его всегда поражало и понять его он никогда не мог. Он сейчас же нашел его и стал читать, перечитывать, и вдумываться в слова Христа. Это слова Нагорной проповеди. В кадетском корпусе законоучитель, отец Середонин, заставлял учить ее наизусть, и Петрик, глядя в книгу, читал слова вперед, еще не дойдя до того места, где они были написаны.
… "Вы слышали, что сказано древним: "не убивай; кто же убьет, подлежит суду". А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду"…
"Но ведь я… Я не напрасно… Партия… Но нигилисточку «открыл» я… В нигилисточке я виноват. Но я ушел… Он… нет… А его слова о Валентине Петровне?.. Напрасный был мой гнев, или нет? Подлежу я суду за одно намерение, за одну мысль убить Портоса, кем-то другим убитого. И не моя ли мысль — совершила убийство?.. "кто же скажет брату своему «рака», подлежит синедриону, а кто скажет «безумный», подлежит геенне огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь дар твой перед жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу"…
Не мириться с Портосом он шел, но убить. Он придумывал, как это сделать так, чтобы самому наименее пострадать, изобретал разнообразные виды дуэли, но конечная цель была — убить. И то, что Портос убит не его рукою — это только случай. Следствие поймет, что убил не он. Следствие найдет настоящего убийцу — ну, а он? Может он оставаться в полку, спокойно и радостно, как он хотел, командовать эскадроном?
Он не может не разделить хотя части наказания с тем, кто за него убил, кто развязал его от этого страшного дела. Как себя накажет дальше Петрик, он еще не знал. Пребывание под арестом его, еще вчера так страстно говорившего о позоре ареста для офицера — само собою должно лишить его офицерского звания. Отставка — это первое ему наказание, и недрогнувшей рукой он подписал рапорт об отставке.
Он знал, что барон Отто-Кто поймет его. Ему, старому солдату, не надо будет объяснять, почему после ареста Петрик не может оставаться в Мариенбургском полку и носить Государевы вензеля.
Подписав рапорт, Петрик стал спокойнее. Он попросил караульного начальника отправить бумаги в полк — вместе с письмом, где просил адъютанта заготовить прошение и все нужные документы.
Когда на другой день, уже другой, его знакомый караульный начальник принес ему освобождение из-под ареста, Петрик не удивился. Иначе и быть не могло. Он знал, что он убил Портоса только в сердце своем, а правосудие не карает за мысли, за внутренние побуждения. Их судит совесть. И осужденный этою совестью, принявший твердое решение, Петрик вернулся в полк.
XXIII
Барон Отто-Кто, получив рапорт и прошение Петрика, выбросил монокль и посмотрел серыми, влажными глазами на адъютанта. Закревский был уже готов подсказать свое мнение по этому поводу командиру, но тот предупредил его:
— Тот-то, кто сжигает корабли, — сказал он — тот-то еще не тонет… Пошлите штабс-ротмистра ко мне.
В ожидании Петрика барон раскурил большую толстую сигару и подошел к окну. Обширный полковой двор кипел жизнью. По насыпанным на мерзлую землю навозом дорожкам манежей крутились «смены», и неуклюжие новобранцы в желтых, дубленых овчинных полушубках неловко тряслись в сёдлах. Офицеры с бичами стояли посредине манежей и сквозь стекла окна слышны были крики команд и поправок. Знакомая барону картина, знакомая музыка криков и щелкания подков по мерзлой земле. С противоположного конца двора, из низкой постройки трубаческой команды неслись трубные, нестройные звуки; вдруг они прекратились и после минуты тишины сладкий напев модного танца понесся по двору. Он смешался с лязгом железа, стуком молотов по наковальне и ржанием лошадей на полковой кузнице. Издали донеслась песня. Очередной эскадрон возвращался с проездки. Барон прислушался. Его морщинистое лицо изобразило некоторое подобие улыбки. Он любил солдатское пение:
— "Здравствуй милая, хорошая моя, Чернобровая — порядо-шная!отчетливо выговаривал хор. Барон вынул сигару изо рта и повторил за хором:
— Чернобровая — порядошная!.. Придумают тоже.
Он оглянулся, услышав стук шагов и осторожное покашливание деньщика.
— Чего тебе, Федор? — сказал он.
— Ваше высокоблагородие, к вам командир 4-го эскадрона.
— А… Проси…
Барон остро и внимательно посмотрел в глаза Петрику и положил сигару на край пепельницы.
Пока Петрик рапортовал о явке из-под ареста, барон все продолжал присматриваться к нему и точно что-то соображал. Он протянул руку Петрику и, ласково глядя на офицера и не выпуская его руки из своей, сказал таким теплым голосом, какого Петрик никак не ожидал от барона Отто-Кто: -
— Тот-то, кто… по ошибке… тот не считается. Барон оставил руку Петрика, снова взял сигару, осторожно, концом мизинца, стряхнул с сигары тяжелый серый, ноздреватый пепел и затянулся.
— Господин полковник, — дрожащим от волнения голосом начал Петрик. — Вы поймете меня… Ошибка… да… Но офицер под арестом!.. Я не знаю, господин полковник, сидели ли вы когда нибудь под арестом?
— Никогда не сидел, — окутывая лицо белым сигарным дымом, сказал барон.
— Тогда… Господин полковник… Солдаты уланы… Одной бригады… Корнет… Солдаты, которые знают меня… Они заглядывали в окошко… Они стерегут меня… Как преступника… Да… я преступник… хорошо… Все знают… Меня подозревают в убийстве товарища…
Петрика передернуло внутренней лихорадочной дрожью и он приостановился.
— Ошибка следователя, — тихо сказал барон.
— Да, господин полковник… Но… Как же я теперь приду в свой эскадрон и какими глазами посмотрю на вахмистра Гетмана, который никогда под арестом не сидел?! Как посмотрю я на своих унтер-офицеров Солодовникова, Карвовского и Рублева, кому я третьего дня говорил о позоре ареста?.. Что я скажу корнету Дружко? Я говорил ему в день приема эскадрона — что арестованный офицер — не офицер… Я не могу… Господин полковник, простите меня… Я удивляюсь, как я еще могу жить?!. Носить эти священные вензеля!?. Не могу!.. Не смею!.. Не имею права!!!
Петрик заикался от волнения. Большие серые глаза наполнились слезами.
— Пускай скажут… это Дон-Кихотство…
Барон рукою с сигарой остановил Петрика.
— Нэт, — сказал он, — это нэ дон-кишотство.
Широким жестом барон показал на висевшие в зале портреты баронов фон-Кронунгсхаузенов, — от выходца из Митавы рейтара царя Алексея Михайловича до генерал-лейтенанта в шитом воротнике времен Александра II, и сказал: -
— Тот-то, кто всегда служиль — тот вас понимает… Хороший офицер… Кто биль ваш отец?
— Мой отец служил в Старопебальгском драгунском полку. Был ранен в Русско-Турецкую войну… и умер в 1905-м году.
— Та-ак… А дед?
— Дед служил в Карабинерном полку и убит в Севастопольскую компанию.
— Ошень карашо. А прадед?
— Умер совсем молодым от чахотки в Париже. Он служил в лейб-уланах.
— И дальше?
— Сколько помню, и дальше так же… Все военные. Совсем так, как у вас. Вероятно, с Екатерининских времен, если не раньше.
Барон задумался. Он докурил сипевшую сигару, бросил окурок, обрезал новую и закурил снова. Он молча, смотрел на портреты своих предков, точно советовался с ними. Так простояли они друг против друга минут десять, не проронив ни слова. Наконец, барон торжественно проговорил: -
— Тот-то, кто имел таких предков, тот-то не может не служить!
— Как теперь служить? — задыхаясь, чуть слышно сказал Петрик.
Барон молчал. Он курил короткими затяжками сигару, и, когда она дошла уже до половины, вдруг бросил ее, выкинул монокль из глаза, деревянно, точно манекен, шагнул к Петрику, обнял его, прижался своей шершавой, морщинистой щекой к свежей холодной щеке Петрика и всхлипнул. Петрику показалось, что горячая слеза покатилась из глаз барона по его щеке.
— Тот-то, кто!.. — воскликнул, отходя от Петрика и быстро шагая в кабинет, барон — Должен служить!..
И уже из кабинета добавил: -
— Я это устраиваю!..
Дверь кабинета с шумом захлопнулась.
XXIV
Барон Отто-Кто после обеда не ходил на занятия. Это было событие. Но еще большим событием было то, что барон Отто-Кто собственноручно писал письма. Про него рассказывали, что, когда он, молодым офицером влюбился в какую-то барышню-помещицу, он призывал к себе эскадронного писаря и диктовал ему любовные письма. «Теперь», — шептал таинственно в канцелярии заходившим в адъютантскую офицерам, Закревский, — "Отто-Кто пишет письма… собственноручно!"…
Барон писал "желтой опасности", писал начальнику Заамурского Округа пограничной стражи, писал, так говорили, самому министру финансов. Что писал барон — тайну этого хранила большая его печать с баронской короной и сложным гербом баронов Кронунгсхаузенов.
Однажды утром барон вызвал к себе Петрика и пошел с ним в офицерское собрание. В эти часы, когда все были на занятиях, в собрании было пусто. Весело трещали дрова в кафельных печах большого зала и пламя их отражалось в блестящих шашках паркета. Барон послал дежурного офицера за папашей Ахросимовым. Было похоже, что папаша был уже во что-то посвящен бароном. Они втроем обходили зал, где висели портреты Государей, шефов полка, где были портреты командиров полка: — сто двенадцать портретов смотрело со стен. Сто двенадцать командиров почти за триста лет службы полка царю и родине. Они останавливались, молча, у картин Коцебу и Ладурнера и смотрели то на атаку у Дудоровой горы у мызы Красной, то на картины торжественных разводов при императоре Николае I, то на стоявшее под стеклом изображение драгуна на коне из папье-маше, то на большой холст — атаку Монмартра у Парижа, то на витрину с мундиром шефа полка.
Молчали, священнодействуя.
Века славы смотрели на них. Обильная кровь, смерть смертных и безсмертие вечного! И Петрик чувствовал, что все это делается неспроста. Он заметил, что в библиотеку прошел с большой папкой адъютант и точно поджидал их.
Наконец, барон остановился у портрета Государя Императора и торжественно сказал, обращаясь то к Петрику, то к Ахросимову:
— Тот-то, кто любит Государя — тот ему служит до издыхания верно!.. Объясни ему, пожалюста…
И пошел один к адъютанту.
"Папаша" взял Петрика под руку и тихо заговорил. Он говорил ему о большой и славной жизни их Мариенбургского полка, о почивании на лаврах, предками заслуженных — и он говорил о том, как эта слава постепенно создавалась.
— Мы стоим в ожидании войны, мы уже имеем прочно скованную славу, и нашему полку 292 года жизни… Есть части, вступающие лишь в двенадцатый год своей службы. Они куют себе славу тяжелой и опасной работой.
— Готовы? — крикнул барон из библиотеки. — Пожалуйте ко мне.
На большом библиотечном столе были разложены бумаги. Адъютант стоял поодаль.
Барон Отто-Кто был необычайно серьезен.
— Штабс-ротмистр Ранцев, — сказал он. — Перед вами — или… или… или… Или вы простиль… ошибку… и тогда — я рви ваше прошение… Все забыто… командуй шетвертым шквадроном!.. Ну?..
— Господин полковник, я вам объяснил, почему я не могу оставаться в полку… Вы меня поняли… Я прошу дать ход моему прошению об отставке.
— Погоди… Ты слышал, — переходя на ты, сказал барон. — Есть части — куют славу!.. В глухом краю… где никто ничего не знай… Тот-то, кто любит Родину — тот служит на ее границах… Здесь твое прошение об отставке, здесь твой рапорт о переводе… по домашним обстоятельствам в Заамурский округ, в пограничную стражу… снова служить… здесь — рапорт о вступлении в командование эскадроном по выздоровлении… Что хочешь — то и подписывай.
Петрик благодарными глазами посмотрел на барона, широко перекрестился и, нагнувшись, подписал рапорт о переводе в пограничную стражу.
Снова служить!
Потом он разорвал прошение об отставке и свой рапорт о выздоровлении.
— Так, — сказал барон. — Ошень карашо… Тот-то, кто любит службу — будет служить… И наш польк — всегда примет обратно!.. Шестный офицер!..
Через две недели состоялся Высочайший приказ о переводе штабс-ротмистра Ранцева в пограничную стражу. Петрика тепло и сердечно проводили из полка, и он со своей Одалиской и наряженным от полка ефрейтором проводить его — Лисовский уже отбыл в запас — отправился в далекое путешествие — в Манчжурию.
XXV
В конце января Яков Кронидович получил извещение о том, что дело Дреллиса, как называлось дело об убийстве Ванюши Лыщинского назначено к разбору в начале марта. По желанию гражданского истца, выступавшего от имени матери Ванюши, в помощь обвинению были назначены эксперты — профессор Аполонов и ксендз Адамайтис, кроме того вызвали в суд, в качестве самого верного эксперта, как крупнейшую научную величину, и его — Якова Кронидовича. Его показание, его решение считалось главным, основным и его почему-то особенно боялась защита. С ее стороны, в противовес Якову Кронидовичу, Аполонову и Адамайтису были вызваны — профессора Петров — хирург, Савицкий — психиатр и ученый богослов Воздвиженский.
Из Энска Вася, так и не приехавший в Петербург, писал Якову Кронидовичу: — "на суде будет большая схватка. Я виделся с прокурором и гражданским истцом. Вся надежда на вас, ибо вы знаете не только тайну покойного, но и тайну детей Чапуры, и вам можно все сказать… Адамайтис тоже силен… Но… присяжные — люди простые — и они будут терроризированы учеными именами Петрова и Воздвиженского. Да и жидов боятся… Все на вас… и потому — берегите, берегите и берегите себя"…
Прочитав это письмо, Яков Кронидович опять задумался.
В суде ожидалось то, что называется большой день. Лучшие силы Российской адвокатуры — и все евреи — были привлечены на защиту Менделя Дреллиса. Экспертиза сверкала мировыми именами. Корреспонденты со всего света ожидались в Энск для присутствования на деле. Телеграф к этому дню усиливал штат чиновников для передачи больших корреспонденций на всех языках. Гостиницы ожидали наплыва постояльцев, и предусмотрительный Вася заранее заказал комнату для Якова Кронидовича. Дело Дреллиса раздувалось. Всему свету хотели показать: "смотрите: при проклятом-то царизме, какое средневековье царит в России. Могут обвинять евреев в ритуальных убийствах!"… Именно в этой плоскости ставился вопрос о виновности Дреллиса. Дреллис не мог быть виновен, потому что ритуальные убийства со стороны евреев вообще невозможны, а других мотивов у Дреллиса убивать Ванюшу Лыщинского не было. Оправдание Дреллиса было предопределено, и никто не писал и не говорил о Ванюше Лыщинском, точно и на свете не было этого милого, симпатичного мальчика. Яков Кронидович, внимательно следивший за процессом по горячим статьям, то и дело появлявшимся в газетах, думал: — "если бы не было этого шума? Тихо и спокойно прошло бы это дело. Виновный получил бы свои 20 лет каторжных работ и правосудие было бы удовлетворено. И не было бы никакого повода для погрома, для возбуждения против евреев. Да, — ритуальное убийство… Да, очень жестокое. Но виновный наказан по всей строгости закона и потому — нечего волноваться. Кто же разжигал страсти? Кто же тратил деньги на инсценировку большого дня, кто шумел подле него? — Евреи. Им нужно было создать политическое дело и они видели в нем возможность унижения России в глазах всего света… Яков Кронидович понимал, как он, Аполонов и Адамайтис необходимы в этом деле. Особенно он, знавший тайну детей Чапуры, видавший фонарщика и окруженный годами заработанной репутацией честнейшего и правдивейшего человека. Только его авторитет может быть противопоставлен авторитетам Петрова, Савицкого и Воздвиженского, только он, профессор Тропарев, может так сказать, что затрясутся поджилки у слушателей: — "вы думаете, труп не говорит? Дайте сюда мертвое тело — и оно скажет вам всю историю своей смерти!" Яков Кронидович серьезно и тщательно готовил свое показание. Оно должно было быть грознее речи прокурора, и Яков Кронидович знал, что после его показаний Дреллис не может быть оправдан. Заседание будет публичным — и толпы студентов и студенток, тех самых, кого увлекал он на своих лекциях, будут рукоплескать ему. Что скажет после этого хирург Петров? Он не видел трупа… Что скажет психиатр Савицкий? — что человеческая душа не вместит такого ужаса, как человеческое жертвоприношение? Оставьте, пожалуйста, нет такого ужаса, нет такой мерзости, на какую не способна темная человеческая душа! И ксендз Адамайтис своим гробовым басом поведает всю тьму каббалы и секты хассидов…
Яков Кронидович не сомневался в победе правосудия.
Вася писал: — "берегите себя. — Кто же и что может ему сделать в правовом государстве?" И как-то, помимо воли, в его голову ползли мысли — о "третьем перекрестке" Пеера Гюнта, о "плавильщике душ", о странной судьбе библейского Озы, лишь прикоснувшегося к ковчегу и павшего мертвым. Он вспоминал о злобной мстительности еврейского бога, распространявшейся на всех близких… Да, странно… С той поездки в Энск, когда он прикоснулся к этому делу, что-то оборвалось в его доме, в его семье… Аля не та. Она всегда задумчива… много молчит… нервна… как-то проговорилась: — боится призраков… Часто кладет в свою спальню Таню, что так неудобно. Эта странная смерть Портоса, несомненно убитого кем-то из ревности. Кем? К кому его ревновали? Два раза следователь вызывал к себе Якова Кронидовича… Как эксперта только… Он говорил Якову Кронидовичу, что задача следствия отыскать ту женщину, которая бывала на Кирочной. Что она почти найдена… Что это одна молодая, красивая девушка, замешанная в пропаганде в войсках, социал-революционерка. Она как раз на другой день после обнаружения частей тела офицера исчезла из Петербурга и полиция ее разыскивает. А если не она?.. И следователь, поблескивая новым, дорогим пенсне без оправы с выпуклыми хрустальными стеклами, косился на Якова Кронидовича и обрывал разговор. Потом расспрашивал, где и какую покупает он бумагу и веревки для заворачивания частей тела, если их ему надо куда-то отправлять… Это все делал у Якова Кронидовича Ермократ и Яков Кронидович не знал, откуда достают упаковку.
— Да, не знаете… Так… не знаете, — говорил следователь и заговаривал о погоде, о деле Дреллиса, о последнем заседании Думы.
Когда ехал от следователя, Яков Кронидович неприятно пожимался под шубой. Точно не эксперта, а обвиняемого или подозреваемого допрашивали. Конечно, ему не очень было приятно, что Аля много каталась верхом с Портосом. Может быть, он немного и ревновал ее. Весною… и на скачках, но потом особенно после смерти папочки, — Портос перестал бывать у них — и это как-то позабылось… Ревновал — да… Но убил?.. За что? Аля была выше таких гнусных подозрений…
Но какой-то яд маленькими капельками все накоплялся в его сердце и отравлял его существование. И это началось с того дня, когда утром ему сказали в Совете, что он командируется для экспертизы тела мальчика, убитого в Энске, а, вернувшись домой, он увидел в простенке между окнами, под бронзовыми часами, громадный куст цветущей азалии и знал, не спрашивая, что этот куст от офицера Багренева, которого его жена фамильярно называла детским прозвищем — Портоса.
Но какое же отношение имело одно к другому? Убийство мальчика в Энске — и маленькая ревность милой жены? Какая связь между тем страшным своею кроткою обреченностью телом мальчика и этими кусками сытого, холеного, здорового тела, кем-то порубленного и тщательно упакованного?
А все казалось, что связь была. Таинственная… Мистическая… Как у Озы, прикоснувшегося к ковчегу… И что все это, как рок, ведет его неизбежно к страшному "третьему перекрестку", где его ждет — смерть.
С кем же встретится он на этом перекрестке?.. Со Стасским?
И, странно: боялся и избегал встречи с Владимиром Васильевичем.
"Это уже от неврастении", — думал Яков Кронидович, — "а неврастения от переутомления и тяжелого настроения духа жены".
XXVI
Время шло. Все излечивало и стирало время. Та деревянная пила, что пилила Валентину Петровну, не распилила ее сердца и не тронула ее мозгов. Жизнь шла кругом, и нельзя было, не умерев, уйти от этой жизни. Ее побледневшее лицо, ставшие огромными глаза цвета морской волны, — все это объяснялось трауром по отце. И надо было утешить ее и развлечь. Пора было снимать и траур. Прошло четыре месяца, и слишком молода была она, чтобы во всем себе отказывать.
Дамы навещали ее. Им надо было отвечать. Осторожно говорили и о Портосе. Портос, Петрик, Долле — друзья детства, три мушкетера королевны сказки Захолустного Штаба. Валентина Петровна доставала альбом и показывала снимки: — "вот они все — и она с ними".
— И так трагически погиб! — говорила, закатывая голубые глаза Мадонны Вера Васильевна…
— Ужасно, — шептала Валентина Петровна.
— Он был так красив! Какая нибудь сердечная драма… Соперница, или соперник!
— Не знаю.
Валентина Петровна краснела, и Вера Васильевна любовалась ее смущением…
Так постепенно от частых прикосновений к больному кровоточащему месту, то осторожных и деликатных, то грубых и жестоких, это место стало грубеть и боль забываться.
— А Пет'гик-то!.. Г'анцев! — восторженно говорила Саблина. — Вы слыхали! Его подоз'гевали в убийстве Пог'тоса. У них ссо'га была в школе. Его а'гестовали и он от обиды оставил свой холостой полк… Пе'гевелся в пог'ганичную ст'гажу, уехал в Маньчжу'гию… Вы слыхали?
— Нет, я ничего не слыхала. Он мне не писал. — отвечала Валентина Петровна.
— Там, я думаю, тиг'гы есть… Китайцы… Совсем особый ми'г…. Он очень хог'оший ваш Пет'гик… Настоящий офице'г… Он, как мой Александ'г…. Только еще и спог'тсмен п'гитом!
От трех мушкетеров оставался один Долле. Но он никогда не бывал у Валентины Петровны. Стеснялся своих рук, запачканных кислотами.
Яков Кронидович собирался ехать в Энск на дело Дреллиса. 10-го февраля был день Ангела Валентины Петровны, и было решено снять к этому дню траур и устроить скромный музыкальный вечер. Должны были быть все те же, что были и на ее последнем весеннем вечере, когда она играла втроем с Яковом Кронидовичем и Обри Генделевское «Lаrgо». Только не будет Портоса и не зайдет случайно Петрик — пожалуй, два самых дорогих гостя… К этому дню Валентина Петровна разучила с Яковом Кронидовичем и Обри опус 110, третье трио Шумана. Прелестная и очень трудная вещь.
К этому дню Мадам Изамбар ей приготовила очаровательное платье цвета зеленого изумруда. Полоса матового золота окаймляла подол и драпировку бока. Корсаж, расшитый золотою вышивкой, был короток, — и похудевшая Валентина Петровна казалась в нем длинной, стройной девушкой. У Шарля, мосье Николя искусно повязал в ее золотые волосы зеленую ленту с золотой эгреткой.
Таня правильно сказала: — "все проходит". Как-то поблек, позабылся холодный стук висящих пуговиц папочкиной тужурки о спинку кровати… Смело и не думая ни о чем, проходила Валентина Петровна через те двери, где стоял в тот вечер страшный призрак Портоса. Еще боялась оставаться одной. Всегда или Топи, или Диди должны были быть подле, да иногда, когда расшалятся нервы, она упрашивала Таню лечь у нее в спальне. Да, еще не выносила запаха тубероз и когда видела орхидею в магазине, или у знакомых, ей становилось страшно.
Ее первый большой вечер после почти года перерыва ее сильно волновал. Она хотела уйти в музыку, слушать восторги дам и Обри, тонкую критику Полуянова и одобрение желчного Стасского.
В половине девятого совсем одетая для вечера она с Таней расставляла по столам в гостиной хрустальные вазочки с дорогими Ивановскими конфетами — клюквой, черной смородиной и японскими вишнями в сахарной глазури, растертые каштаны — marrons dеguisеs от Балле и мягкие помадки от Кочкурова.
В зале, ярко освещенной сверху люстрой, было празднично и весело. Ноты на раскрытом рояле, на пюпитре, виолончель в чехле, цветы у окон, сладкий запах гиацинтов и духов — все говорило о празднике, о счастье и радости. И то — худое, и хорошее, — страсть и грех, ужас и позор казалось этим днем стирались, как стирается мокрой губкой с доски решенная задача. Остаются мутные меловые полосы. Но, если хорошо помыть… И ничего не будет.
Сухой резкий звонок в прихожей, раздавшийся так неожиданно рано, заставил Валентину Петровну вздрогнуть.
— Кто это?.. Неужели кто из гостей?
Таня побежала отворять двери.
XXVII
— Знаю, знаю, что рано, и барынька, может быть, еще не одета, — услышала Валентина Петровна в прихожей скрипучий голос Стасского. — Да мне надо только барина раньше по делу повидать. Поди и доложи.
Валентина Петровна через столовую и коридор поспешно прошла к Якову Кронидовичу и раньше, чем прибежала Таня, помогавшая раздеться Стасскому, приотворив дверь, громким шепотом сказала:
— Яков Кронидович, ты готов? Там Стасский пришел. В такую рань!.. Хочет тебя видеть.
Яков Кронидович был готов. Он сейчас же вышел в строгом черном «профессорском» сюртуке, так подходившем к его званию и к строгой его виолончели. И почему-то, когда входил в гостиную, ярко освещенную и праздничную, вспомнил ксендза Адамайтиса и третий перекресток Пеера Гюнта.
"Вот он и плавильщик душ".
Стасский на вечер приехал с портфелем.
— А, здравствуйте, — приветливо сказал Яков Кронидович, — как мило, что вы приехали так, что мы сможем поговорить до концерта.
— У меня к вам есть маленькое дело, — строго сказал Стасский.
— А… Дело?.. Ну что ж, пойдемте в кабинет.
В кабинете было сумрачно. Большая, одинокая лампа под желтым шелковым абажуром, накрытым черным кружевом, бросала яркое пятно света на круглый стол и на газеты и журналы на нем. Все остальные предметы — диван, широкие кожаные кресла, шкапы с книгами только намечались в полутьме. И в полутьме было лицо Стасского, его голова с высоким голым черепом и косицами седых волос по шее. В длинном черном сюртуке он походил на старомодного доктора. Чем-то «Фаустовским», роковым, веяло от этого старика.
И точно: — "плавильщик душ" Пеера Гюнта стоял против Якова Кронидовича.
Профессор опять без удовольствия вспомнил о том, что это их третья встреча… Третий перекресток.
Не садясь в предложенное ему кресло, Стасский раскрыл портфель и вынул из него потертый и захватанный лист бумаги с печатным текстом и пестрым узором разнообразных подписей.
— Узнаете? — сказал он.
— К кровавому навету?..
— Подписывайте… Я вам это говорю в последний раз, и говорю серьезно.
— Владимир Васильевич, вы знаете, что я на будущей неделе еду в Энск на разбор дела Менделя Дреллиса. Мое показание эксперта считается гражданским истцом и прокурором самым серьезным. Этою подписью я уничтожу весь его смысл, ибо отрекусь ото всего, что буду говорить.
— Вот и прекрасно. Подписывайте последним. Вашу подпись увидят и она будет самою злою насмешкой над судами, которые я так ненавижу.
— Владимир Васильевич, — отодвигая от себя лист, сказал Яков Кронидович, — можно вам задать один вопрос?
— Хотя десять… хоть сто… Только подписывайте.
— Почему вы — а с вами и вся Русская интеллигенция так стоите за евреев, что не хотите, чтобы малейшее пятно упало на них?
— Отвечу вам вопросом: вы христианин?
— Да.
— Христос — еврей?
— Нет… Он — Бог! — Стасского передернуло.
— Ну, хорошо, — искривляя лицо в гримасу презрительного отвращения, сказал он. — А Божия Матерь?… Еврейка?
— Нет, она: — безневестная и Пречистая Дева Мария — без нации. Она — престол херувимский… Потому и зачатие ее бессеменное, что Христос есть Бог, а Дева Мария — Дева всех племен и народов и никогда не еврейка….
— О! эти поповские глупости! — кривился, как сатана от крестного знамения, Стасский. — Но народ Израильский- избранный народ?
— Так говорит евреями написанная Библия.
— Так говорит вся их история. Мне неинтересны легенды об Аврааме, Исааке и Иакове, сказки о Моисее, но передо мною еврей Карл Маркс и с ним громадная плеяда политиков, экономистов, дипломатов — Лорд Биконсфильд, финансистов — одни Ротшильды чего стоят, художников, музыкантов, певцов — везде еврейский гений, везде свет еврейского ума! И это я вижу без скучной Библии, без старины, вижу своими собственными глазами!
— Что вы хотите этим сказать?
— Что этому народу — дорогу! Вот кому править нами… всем миром!
— То-есть вы в этом сходитесь с масонами и кропотливою и тайною работою готовите владычество евреев над миром. Готовите нового, но уже всемирного царя Иудейского!
— Оставьте сказки про масонов, — желчно сказал Стасский. — Вы отлично знаете, что это вздор и выдумки разных черносотенных союзов — "Двуглавого Орла", "Михаила Архангела" и "Союза Русского Народа". Масоны тут не причем…. И разве… Если бы евреи оказались у власти?.. С их умом, с их талантом, и их гениальными способностями не создали бы они из нашей скучной и безплодной России настоящий земной рай? Они гальванизировали бы нас!..
— Владимир Васильевич, вы это серьезно?
— Ну?… Что вы так спрашиваете?
— А то, что если евреи станут у власти… Это будет самое жестокое правление. Это не отмена смертной казни — а вакханалия смертных казней. Истребление не индивидуумов, но целых родов. Отцов, жен, матерей, детей, до седьмого колена. И, если еврейское правительство станет с кем-нибудь воевать, — оно не будет сентиментальничать, соблюдать постановления Женевских конференций, брать в плен, уважать Красный Крест — оно велит — и как велит! не исполнить нельзя — уничтожать всех — здоровых и раненых, больных и искалеченных, стариков, жен и детей…. Свои граждане — если они не евреи — будут у него рабами, не знающими никаких радостей, никакого просвета — вот вам еврейское царствование, к которому стремятся — масоны!
— Откуда вы все это взяли?
— Из истории еврейского народа… Из Библии!
XXVIII
Сквозь запертую дверь кабинета было слышно, как в гостиной собирались гости. Женские, свежие голоса раздавались там. Здесь, в полутьме кабинета, наступившее после слов Якова Кронидовича молчание показалось ему значительным и — страшным. "Оза коснулся ковчега". Еврейская тайна, раскрытая им год тому назад в анатомическом театре Энского университета, пришла сюда и теперь готова была поразить Якова Кронидовича.
— Подписывайте сейчас же этот лист, — гневно и резко, щелкая темными пальцами по листу, повелительно и строго сказал Стасский. — Подписав — телеграфируйте в Энский суд, что вы отказываетесь от экспертизы… или!..
— Ну, что…или?! — с возмущением воскликнул Яков Кронидович.
Как никогда раньше, он чувствовал себя в эту минуту правым, и в тоже время какой-то холодный ужас проходил по его стальным нервам. Кровь стыла в жилах. Он стал очень бледен.
Стасский выпрямился, точно решившись на что-то ужасное, на какую-то страшную операцию, которой он и сам боялся. Он медленно сложил и спрятал бумагу в портфель и, опустив глаза, чуть слышно сказал:
— Или вы будете опорочены.
— Н-ну!.. Это таки довольно трудно! — криво усмехаясь, сказал Яков Кронидович. — На мне нет никакой вины ни перед Богом, ни перед Государем.
Стасский медленно, шаг за шагом отошел к книжному шкафу. Он был весь в тени. Только на голову его падал легкий отсвет от зеркального стекла шкапа и темная голова его с космами седых волос на темной, худой шее вытянулась. Совсем — орел-стервятник, но громадный, стоял у шкапа и точно копошился, собираясь нанести стальным клювом смертельный удар.
— Будто? — чуть слышно, с какою-то страшною иронией произнес Стасский.
— Что вы хотите этим сказать? — гордо поднимая голову и смело, открыто глядя темными глазами в глаза Стасскому, сказал Яков Кронидович.
— Вы… убийца!..
Якову Кронидовичу показалось, что он ослышался.
— Что? — глухо сказал он.
— Это вы… слышите!.. вы, а не кто другой… Вы убили этого красавца офицера — Багренева!..
Яков Кронидович пожал плечами.
— Нечего… Нечего там… Пускай эти глупые суды, эта подкупленная, трепещущая перед вами — правый профессор — белая ворона, — полиция ищут не там, где надо. Наша общественность… Не маленькие газетные репортерчики — им и Бог повелел ошибаться, не городские сплетники, но общественность все дознала!!!.. В день и час убийства на Кирочной улице вы покинули заседание совета и два часа пропадали неизвестно где!..
Стасский качал головой. Будто и правда громадный стервятник клевал там у шкапа свою жертву. Яков Кронидович, тяжело дыша, напряженно слушал его. И где-то далеко, в самой глубине мозга назойливая мысль повторяла: — "третий перекресток… третий перекресток… найдешь ли ты свою святую и чистую Сольвейг, как нашел ее безпутный Пеер Гинт!?
— В день и час убийства вас видели у того дома на Кирочной, где было совершено убийство… Никто не мог так быстро и так ловко разрубить тело и с таким искусством его запаковать. Вощанка, бумага и веревки взяты из вашего дома…
— Какой смысл!.. какой смысл! — растерянно, чувствуя, что наваливается на него что-то ужасное, тяжелое, что-то убивающее, пробормотал Яков Кронидович, — мне?… убивать?..
Стасский, казалось, наслаждался его волнением и растерянностью. Тем самым движением — или это так показалось Якову Кронидовичу, что тем самым движением, каким тогда в душную, лунную, летнюю ночь протянул линейку ксендз Адамайтис и помянул глухим басом "третий перекресток", где ожидает смерть, — Стасский протянул свой сложенный портфель и сказал зловщим голосом:
— Три дня… Три дня даю вам на размышление… Если за эти три дня вы не пойдете с нами и не подпишете этой бумаги…. Во всех газетах будет напечатано, кто ходил на свидание к офицеру на Кирочную. Тайна гарсоньерки будет раскрыта. И берегитесь… По ней легко найдут убийцу!
— Кто? — как сквозь кошмарный сон бросил Яков Кронидович.
— Ваша жена… Валентина Петровна!
— Это шантаж!.. — воскликнул Яков Кронидович и, сжав кулаки, бросился к Стасскому.
Тот вобрал шею в плечи и неожиданно быстрым и юрким для такого старика как он, движением, скользнул за шкап и притаился в углу между стеною и шкапом.
Это трусливое движение сразу отрезвило Якова Кронидовича.
Он тяжело вздохнул, дрожащей рукою, привычным жестом поправил волосы, с трудом раскурил папиросу, пыхнул двумя, тремя затяжками и сказал глухим голосом, но спокойно:
— Вы у меня в гостях… Пожалуйте!.. Нас ждут! Яков Кронидович распахнул двери кабинета и первым вошел в гостиную.
XXIX
Яркий свет люстр и бра, шум голосов и пестрота красок на мгновение ошеломили Якова Кронидовича. И первая, кого он увидал, была его жена — именинница. В нарядном, зеленом с золотом, платье, придававшем мраморную прелесть коже лица, шеи и рук, она стояла у рояля подле прекрасной Веры Константиновны Саблиной, старшей из приглашенных дам.
Яков Кронидович подошел к Саблиной. Еще смутно, неясно слыша ее слова, он выслушал ее поздравления с прелестной именинницей и пошел здороваться с гостями.
— Хорош!.. Хорош!.. — говорила, очаровательно улыбаясь, в привычном тоне ласковой насмешки Валентина Петровна, — заставляешь себя дожидаться. Дамы и не садились без тебя. Карл Альбертович уже настроил скрипку.
Гости усаживались на диван и по креслам. В ожидании концерта смолкали разговоры.
Яков Кронидович, обойдя гостей, подошел к ящику и стал вынимать виолончель.
— А знаешь, — обратился он к Валентине Петровне, — сыграем вместо Шумана — «Largо» Генделя.
Она пожала обнаженными плечами.
Почтительный и услужливый, преклонявшийся перед Яковом Кронидовичем Обри, уже приготовивший скрипку, неслышно, мягко положил ее на край рояля и, подойдя к сквозной этажерка с нотами, отыскал "Largо".
— Зачем это? — щуря прекрасные глаза, сказала Валентина Петровна.
— Я прошу, — мягко, но настойчиво сказал Яков Кронидович. — Вы, Карл Альбертович, ничего не имеете против?
— Помилуйте! Такая прекрасная, классическая вещь. Лучшее место из оперы "Ксеркс".. И мы с прошлого года не играли, — торопясь, ответил Обри.
— Как хочешь, — с едва приметной презрительно-насмешливой улыбкой сказала Валентина Петровна и обратилась к гостям. — Господа, муж хочет вместо 110-го опуса Шумана играть «Largо» Генделя. Программа меняется.
— Мы слышали ее на вашем последнем вечег'е, в день вашего г'ождения, — сказала Саблина. — Удивительно пг'екг'асная вещь. Александг', - повернулась она к мужу, сидевшему на том самом стулике под часами, где тогда сидел Петрик, — ты не слыхал этой вещи. Послушай, какая пг'елесть!
Валентина Петровна искала глазами Стасского. Его кресло, выкаченное, как всегда, на середину гостиной, было пусто. Его не было.
— А Владимир Васильевич? — тихо спросила она мужа.
— У него дела, — отвечал Яков Кронидович, — он переговорил со мною и уехал.
"Тринадцать!.. Нас тринадцать!" — с отчаянием подумала Валентина Петровна и дрогнувшей рукой дала тон скрипке и виолончели.
Концерт начался.
Пока играл соло Обри, Яков Кронидович внимательно следил за нотами, отсчитывая такт, а в голове ураганом неслась мысль. Он снова переживал все пережитое им сейчас в кабинете. Коснулась и его еврейская месть. И почему-то, перебивая мысль, он повторял песнь Давида, того Давида, о ком он с детства привык повторять: — "помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его". Он впервые прочел ее в Энске у Васи и потом много раз перечитывал в безсонные ночи дома и выучил ее наизусть. Под медленный напев скрипки слова песни низались в его памяти и подготовляли те громы, что должны были сейчас разразиться в звуках рояля шумным прибоем.
… "Потряслась, всколебалась земля, дрогнули и подвиглись основания небес; ибо разгневался на них Господь. Поднялся дым от гнева Его, и из уст Его огонь поядающий; горящие угли сыпались от Него. Наклонил Он небеса, и сошел; и мрак под ногами Его… Я гоняюсь за врагами моими и истребляю их, и не возвращаюсь, доколе не уничтожу их. И истребляю их; и поражаю их, и не встают, и падают под ноги мои…. Они взывают, но нет спасающего; ко Господу, но Он не внемлет им. Я рассиваю их, как прах земной, как грязь уличную мну их, и топчу их… Иноплеменники ласкательствуют предо мною; по слуху обо мне повинуются мне… Бог, мстящий за меня и покоряющий все народы" …… Такого создал себе бога Израиль… И этот бог теперь поражает врагов Израиля — и поражает его, коснувшегося еврейской тайны.
То, что сказал сейчас Стасский, смяло его как уличную грязь. Вот когда и каким ужасным ударом настиг его гнев Божий, вот чем грозил ему еврейский Бог! "Они взывают, но нет спасающего, — ко Господу, но Он не внемлет им!"… Яков Кронидович не поверил Стасскому. "Это клевета", — думал он, но понимал, что никуда не уйдет он от этой клеветы. На третьем перекрестке настиг его "плавильщик душ" и потребовал смерти. О, если бы у него была тоже его Сольвейг!?
Валентина Петровна чуть покосилась на него. Он понял: ему вступать.
Его виолончель запела таким рыдающим напевом, что напряженная тишина в зале стала еще напряженней, молодое лицо Тверской побледнело, а у Веры Васильевны задрожала на ресницах слеза…
И сейчас же мощные удары по клавишам и рокот рояля стал покрывать дуэт скрипки и виолончели.
— Вы никогда еще так не играли, — сказала Якову Кронидовичу Скачкова, едва они кончили. — Вы переживали то, что играли.
— Может быть, — сказал Яков Кронидович. — Сегодня я понял, что Вера Васильевна права: это жизнь.
Он отставил свою виолончель, отошел в сторону и, сидя за гостями в углу, во весь вечер не проронил ни слова. Он все обдумывал и старался понять, что же случилось и что он должен теперь делать? Он понимал, что "первый ум России" зря грозить не будет. Через три дня — клевета, или правда, — но имя его Али и его имя будут замараны. "Бог мстящий за меня и покоряющий все народы" — восстал на него… Его дело сорвано. Ибо, как может он быть экспертом на суде по делу Дреллиса, — если он будет призван, как подозреваемый в убийстве Багренева? Если будет сказано, что там бывала его Аля — какими страшными уликами являются те, о которых сказал ему Стасский? Его Аля — бывала там! Он смотрел на нее, как она аккомпанировала Скачковой, и ничего не понимал. Как могла она так лгать! Так долго, долго лгать!?
Яков Кронидович чувствовал себя загнанным в угол, откуда никуда не выскочишь. "Да, верно! они взывают, но нет спасения"… Подписать эту бумагу? Сдаться перед еврейским наскоком, сойти с широкого пути правды и пойти узкими, заросшими тропинками лжи. Нет, лучше неизбежное… Смерть!"
Но пока не пришла смерть, надо было владеть собою. Надо было подать руку Вере Константиновне и с нею идти за своею женою, шедшей под руку с генералом Полуяновым, к ужину. Надо было занимать своих соседок — Саблину и Баркову, надо было угощать, есть самому, быть радушным хозяином.
У него вечер. Праздновали именины его жены, которая…
XXX
Последними ушли Скачковы. Лидия Федоровна очень трогательно прощалась с Валентиной Петровной и Яковом Кронидовичем и, когда он целовал ее руку, она поцеловала его в лоб, чего никогда раньше не делала. Точно чувствовала она нестерпимую боль в его сердце.
Обыкновенно… в такие дни их общего супружеского музыкального успеха…
В гостиной, где уже погашены были лишние огни и в люстре горела только одна лампочка, Таня прибирала оставшиеся конфеты, ссыпая их по коробкам. Валентина Петровна, сидя на диване, кормила тянушкой Диди. Собака стояла, опираясь передними лапками в колени Валентины Петровны и забавно тянула конфету, липнувшую к ее зубам… Валентина Петровна ласково ей улыбалась.
Когда Яков Кронидович вошел в гостиную, Валентина Петровна встала.
— Ах, я так устала сегодня, — сказала она, томно пожимаясь и скрывая зевоту. — Что Стасский?.. Какой противный?!.. Нас было тринадцать! Только такие гадкие люди, как он, не понимают, что нельзя так поступать в именины хозяйки дома.
Она внимательно посмотрела на лицо Якова Кронидовича. Оно было сурово и печально.
— Что с тобою? — сказала она. — Опять Стасский чем-нибудь тебя расстроил. Ужасный человек! Первый ум России! Куда же придет Россия, если такие умы ею будут править!.. Тебе понравилось мое платье?
Надо было что-то говорить. Она это чувствовала. Нельзя было обоим молчать и она боялась, что он скажет ей что-то ужасное. Он молчал. Его глаза были потухшие и печальные, точно он узнал о каком-то большом несчастьи и скрывал его.
— Ты здоров? — сказала она.
— Да… совершенно.
— Что же ты ничего не скажешь?.. О нашем вечере… О моей игре… о платье… Я хороша была?
Ей было жаль его. И она ласкалась к нему. Таня забрала коробки и понесла их в столовую, чтобы спрятать в буфет. Диди шла за ней.
— Покойной ночи, Аля, — тихо сказал Яков Кронидович.
— Что с тобой? — сердечно сказала Валентина Петровна, подходя к мужу.
Она была готова на все, только бы не видеть этой нечеловеческой печали в его глазах.
Он взял ее обеими руками за голову и крепко поцеловал в лоб. Потом он повернулся и пошел к кабинету, где ему уже было постлано на диване. Валентина Петровна следила за ним глазами. Как ни велико было ее отвращение к нему, сейчас жалость превозмогла это отвращение. Она ждала, что он повернется. Она сделала три быстрых порывистых шага за ним и остановилась с сильно бьющимся сердцем, держась рукою за тумбу бронзовых часов.
Он не обернулся. Беззвучно закрылась дверь кабинета. Слабо щелкнул язычок рукоятки.
Валентина Петровна побежала к себе в спальню и бросилась лицом в подушки. Она поняла: — он все знал. Стасский ему сказал!.. Вот оно: тринадцать!!!..
XXXI
Утром они не видались. Валентина Петровна еще спала, когда Яков Кронидович уехал на какое-то вскрытие.
Валентина Петровна долго гуляла по зимним Петербургским улицам. Теперь, когда она почувствовала, что муж все знает, что ее ложь раскрыта, ей надо было обдумать дальнейшее поведение. Когда был жив Портос — ей это казалось простым. Она уйдет совсем к нему. Но Портоса не было и надо было как-то — или объясниться, или жить, заслуживая годами покорности прощение… Яков Кронидович давил ее своим благородством. Если бы он накричал на нее, топал ногами, оскорблял, даже — пускай, — побил бы… ей было бы легче. Но молчание, деликатный — точно отец поцеловал, — вчерашний поцелуй в лоб — ее убивали.
Свежий, морозный воздух, серебристо-голубая даль Петербургских проспектов, веселая и людная зимняя тишина, где резки были звонки трамваев, редкие гудки автомобилей, покрикивание на лошадей кучеров и извозчиков, где были розовы и точно счастливы лица прохожих, прикрытые прозрачным туманом дыхания; расписанные морозным узором окна магазинов, за которыми горели лампы — все это освежило Валентину Петровну и рассеяло ее черные мысли. Она готова была на все. На самое ужасное… Хоть на то, что он убьет ее. Может быть, потому была готова на это, что отлично знала, что он никогда, никого не убьет.
Яков Кронидович вернулся домой только к обеду. Он долго и тщательно мылся в ванной комнате и переодевался и, когда пришел, Валентина Петровна увидела, что лицо его было необычно красно. Мокрая прядь волос свешивалась на лоб. Борода не курчавилась и не блестела. Если бы Валентина Петровна не знала, что ее муж пьет очень мало и весьма крепок на голову, она подумала бы, что он выпил лишнее.
Они поздоровались, как всегда. Он поцеловал ее в щеку.
За столом Яков Кронидович быстро и сумбурно, действительно, точно пьяный, рассказывал о деле Дреллиса. Это очень занимало его последнее время.
— Они думают — все могут!.. Шалишь!.. Сильна Россия русскими людьми, а не жидами… Я тебе не Стасский… Никаким шантажом они меня не запугают!.. Вздор! И на шантажистов управа какая-нибудь найдется…
Он ничего не ел, но все говорил, говорил, путаясь и сбиваясь.
— Яков Кронидович, — сказала Валентина Петровна. — Не простудился-ли ты? Нет ли у тебя жара? Инфлюэнца по городу ходит.
— А что?
Он сразу как-то осекся, точно испугался болезни.
— Да… Может быть… Может быть… Это бывает…
— Я тебе смеряю температуру.
— Ах, пожалуйста, — снова раздражаясь, сказал он. — Какие пустяки!..
Но она настояла на своем:
Якову Кронидовичу постлали в кабинете и он, как-то вдруг ослабевший и размягченный, покорно дал себя уложить на диване. Валентина Петровна принесла термометр. Он, тяжело дыша, не спускал с нее глаз и, молча, терпеливо ожидал, когда пройдет десять минуть.
— Сколько? — хриплым голосом спросил он, когда она вытащила из-под мышки термометр. Не глядя на него, она уже знала, что очень много. От его тела пышало жаром. Ее глаза прищурились. В них отразился ужас. Но она переборола себя.
— Ничего, — сказала она. — Тридцать восемь и два. Ты простудился сегодня.
— Правда? — спросил он, мутными тяжелыми глазами следя за нею.
Термометр показывал почти сорок!
— Я приготовлю тебе питье, — сказала она, стараясь быть спокойной.
Когда она пришла к нему с графином с лимонадом и со стаканом, он лежал высоко на подушках. Его лицо стало медно-красным, глаза были широко раскрыты. Он был без сознания.
Она села подле в кресло. Два раза он попросил пить, но, когда она подносила ему стакан ко рту, он не мог его взять. Тогда она мочила салфетку в лимонаде и совала ему ее в рот и он сосал ее, скашивая на нее, как ребенок, благодарные глаза.
Диди, тихо позванивая колокольцем, прибежала к ней на упругих лапках. Она прогнала ее сердитым шепотом. Таня приходила звать пить чай.
— Я посижу за вас при барине, — сказала она.
— Нет!.. Нет… принесите мне сюда чашку. Он лежал неподвижно, то закрывая, то открывая глаза. Изредка мучительно стонал.
Безпорядочные страшные мысли длинной нитью тянулись в голове Валентины Петровны. Деревянная пила, что было оставила ее, снова принялась за работу.
Тринадцать!.. Приход и исчезновение Стасского, не поздоровавшегося даже с нею, разговор его с Яковом Кронидовичем и эта внезапная, тяжкая болезнь имели какую-то связь между собою. С замиранием сердца Валентина Петровна с поразительной ясностью перебирала в памяти все подробности с того дня, когда она увидала его в тумане ноябрьских сумерок рассматривающим номер дома, где была их тайная квартира. Он верно тогда узнал… А что, если это он?…
Но все последующее было так естественно и просто. Он никогда бы не сумел так притворяться и лгать. Он — олицетворение правды!
И опять копошилась, загибалась крючками мысль, и впивались те крючки в самые больные места.
"Кто же мог так быстро и хорошо разрубить тело Портоса, так тщательно запаковать"?
И она вспоминала, как несколько раз он говорил, точно восхищаясь, как профессионал, работою ужасного убийцы: — "это я бы так хорошо и чисто не сделал!.."
Ей хотелось спросить его теперь в упор. Расширив прекрасные глаза она пристально смотрела в его потухшие, куда-то ушедшие глаза и мысленно повторяла: — "скажи!.. Ты знаешь… знаешь?.."
Он молчал. Тяжело, с хрипом вырывалось горячее дыхание и была чужой и далекой душа, метавшаяся в этом лежащем подле нее страдающем теле.
Среди ночи такой страх, такая слабость овладели ею, что она шатаясь, пошла к себе. Предусмотрительная Таня оставила гореть по всем комнатам электричество — и все-таки ей везде мерещились призраки. У двери в ее спальню в кресле дремала одетая Таня.
Тревога вошла в дом и не выходила из него.
Валентина Петровна так не ожидала увидеть здесь Таню, что вздрогнула и вскрикнула: -
— Ай! кто это?…
— Это я, барыня… Идите, ложитесь. Бог даст, к утру оправятся барин. Ермократ Аполлонович за дохтуром създили, утром приедет дохтур и все определит. Бог даст — ничего такого и нет. Просто простудившись барин.
Валентина Петровна дала себя раздеть, и легла. Так отрадна ей показалась ее мягкая, уютная постель, что она сейчас же и забылась крепким сном. Но спала недолго. Какой-то толчок вдруг разбудил ее.
"Мой долг!.. мой долг", — думала она, борясь со сном, — "быть там. Он страдает… Он хочет, может быть, пить… Он очнулся — и один там. Боже, как страшно".
Но снова идти туда, по, хотя и освещенным, но таким страшным, пустым, ночным ужасом напоенным комнатам, где, казалось, каждая такая простая днем вещь, мебель, портьера, ночью точно жили своею непостижимою жизнью, ей показалось невозможным — и она сидела в постели и не двигалась.
— Таня, — чуть слышно позвала она, и сама испугалась своего голоса.
Таня не отозвалась. Тогда ей показалось, что Таня пошла сменить ее и Яков Кронидович лежит не один. Если что-нибудь будет нужно, Таня прибежит и разбудит ее. И не в силах бороться со сном, она повалилась на подушки и крепко уснула.
Проснулась она тогда, когда уже брезжил свет холодного февральского утра. За стеной в столовой стукнули брошенные дрова. Там растапливали печи. И этот обыкновенный, такой домашний, мирный покойный звук вернул Валентине Петровне самообладание. Надев халат и туфли, поправив руками у зеркала спутавшиеся волосы она пошла к кабинету мужа.
Марья в столовой растапливала печь, и сладко пахло дымком сухих смолистых щепок. Окно было сплошь покрыто ледяным узором мороза, и оранжевое солнце отражалось в нем. Диди не было, — собака, должно быть, гуляла с Таней. Дверь в кабинет была плотно заперта. Валентина Петровна смело открыла ее. Лампа под желтым с черным кружевом абажуром освещала изголовье постели. Все так же, не переменив положения и с таким же страшным буро-красным лицом, тяжело дыша, лежал Яков Кронидович.
Над ним, впившись в вальки глубокого кожаного кресла длинными волосатыми пальцами обезьяньих рук, сидел Ермократ. На легкий скрип открываемой двери он повернул голову. Конопатое, покрытое оспенными рябинами, худое, в косматой бороде и волосах, лицо его было ужасно.
Валентине Петровне показалось, что это сам дьявол пришел взять душу Якова Кронидовича. Злоба и угроза были в вспыхнувших глазах Ермократа.
Валентина Петровна попятилась от двери, зацепилась за ковер и без памяти упала навзничь на пол.
XXXII
Утром был доктор. Днем был консилиум трех врачей — товарищей Якова Кронидовича. Они долго совещались, потом ходили в ванную, мыли руки и пришли к Валентине Петровне, ожидавшей их в столовой за чайным столом.
По их озабоченным лицам она догадалась, что — плохо.
У Якова Кронидовича было найдено — трупное заражение в очень сложной, неизлечимой форме. Врачи удивлялись, как это могло быть? При Валентине Петровне, не стесняясь, они говорили о том, сколько трупов вскрывал и препарировал Яков Кронидович.
Высокий и толстый Захаров, светило медицинской науки, учеником которого был Яков Кронидович, в седых волосах и кудрях большой, старообрядческой бороды говорил: -
— Чтобы ланцетом задеть себя по шее… Это и студент, первый раз работающий над трупом, никогда не сделает… Одно чувство брезгливости должно остановить… Разве что нарочно…
Дальше Валентина Петровна ничего не соображала. Она слышала слова, даже, кажется, отвечала, но была как бы без сознания. Это — «нарочно», казавшееся таким невероятным коллегам Якова Кронидовича для нее было звеном соединявшим воедино Стасского, Портоса и ее измену.
Они не допускали, чтобы Яков Кронидович мог это сделать нарочно — она поняла, что именно это было сделано умышленно. Яков Кронидович покончил с собой.
Тупая, деревянная пила перепилила ее надвое. Одна половина Портосу — мертвому. Другая Якову Кронидовичу — тоже мертвому, ибо надежды не было никакой.
Ее бледность, отчаяние, ее ответы невпопад были естественны и понятны. Она хорошо жила с мужем. Она не возбудила ничьего подозрения. Ее жалели и ей сочувствовали.
Прошло три кошмарных дня и три ночи. Яков Кронидович не приходил в себя. Температура не спускалась, он сгорал на глазах Валентины Петровны. "Огнь поядающий" коснулся его.
Была глухая исповедь и причащение. После него больной стал тише и спокойнее дышать и, не приходя в сознание, скончался.
В день его смерти из дома ушел Ермократ — ушел и не вернулся. Это было сначала очень неудобно. Смерть внесла в дом так много хлопот и некого было послать. Но продолжалось это недолго. Едва только появилось в "Новом Времени" траурное объявление, заказанное Валентиной Петровной по телефону, как смерть завела свои порядки в ее квартире. Пришли совсем незнакомые, чужие студенты и студентки, какой-то солидный господин весь в черном, — как оказалось — представитель бюро похоронных процессий, спокойно и уверенно распоряжался в квартире Валентины Петровны, как у себя в доме, и Валентине Петровне ничего не оставалось, как отдаться этим людям и предоставить им действовать.
Зеркала были затянуты черным холстом. В гостиной была сдвинута мебель, появился черный катафалк, стучали молотками, носили большие церковные свещники. В раскрытую настежь на лестницу дверь шел свежий воздух и мужики в рубашках, топоча высокими сапогами и дыша морозом, вносили тяжелые кадки с лавровыми деревьями и пальмами. Запертая в спальню Диди жалобно повизгивала, плача.
Жизнь повела приступ на смерть и жизнь победила.
Когда Валентина Петровна, обряженная Таней в полный траур, с лицом прикрытым длинною черной вуалью вошла в гостиную и увидала гроб, покрытый цветами, множество венков, прислоненных к подножию катафалка, желтые языки свечей, священника и дьякона, кадящих гробу и темные волосы и бороду мужа, просвечивающие сквозь кисею, когда после глубокой тишины в комнате, где тесно стали ее знакомые и где было слышно сначала лишь мерное позвякивание колец кадила, вдруг густой и властный голос диакона прервал эту почтительную тишину страшными и непонятными словами:
— Глас осьмый!.. Аллилуйя!
И сдержанно, тихо и уверенно, будто ангельскими голосами ответил дьякону из прихожей хор певчих — Валентина Петровна поняла, что собственно — и нет смерти. Есть жизнь безконечная.
XXXIII
После похорон мужа жизнь Валентины Петровны стала ужасна.
Дома все напоминало: призраки Портоса, отца и гроб Якова Кронидовича. Сквозь запах цветов ей теперь всегда слышался преследовавший ее всю ее брачную жизнь тошный запах тления. Дома она никуда не могла уйти от него. Она не отпускала от себя Таню… Она искала друзей, сочувствия.
Друзей не было.
Тот таинственный обруч, которым в мыслях своих Валентина Петровна соединила над изголовьем умирающего мужа — Стасского, Портоса, его страшную смерть и это ужасное слово «нарочно» — не был больше тайной.
По Петербургу поползла сплетня… И сплетня эта была, что в тайной гарсоньерке бывала Валентина Петровна и что Яков Кронидович из-за нее покончил с собою. И, хотя знали, что следствие дозналось, что накануне убийства Портоса в гарсоньерку проникла и там ночевала некая Агнеса Васильевна Крейгер, состоявшая в партии соцалистов-революционеров, занимавшаяся пропагандой в войсках и одно время бывшая в связи с штабс-капитаном Багреневым, исчезнувшая из Петербурга и разыскиваемая полицией, хотя полиция искала с большим рвением, но и так же безуспешно, некоего Ермократа Грязева, которых именно и подозревали в убийстве и едва-ли не с политическими целями — молва приплетала к этому Валентину Петровну и отношение общества к ней изменилось.
Дамы присылали холодные lеttrеs dе condolеancе, едва ли не списанные из письмовника. Они заходили к ней изредка, но в их разговоре было столько любопытства, раздражавшего Валентину Петровну, что она избегала видеть их. Те, кто бывал у них, кто слушал их концерты, кто пил и ел у них, теперь почти не бывали.
Был Долле, неуклюжий и смущенный, заходил Обри, смотревший на Валентину Петровну взглядом, полным такого сострадания, что лучше бы не приходил вовсе.
Валентине Петровне надо было уехать и она уже решила уехать к матери доживать свой вдовий век, но ее держали дела. Яков Кронидович оставил завещание, где все свое состояние, большею частью в ренте и процентных бумагах, завещал ей. Надо было ликвидировать квартиру и продать мебель. Следователь просил ее остаться некоторое время в Петербурге и для чего-то опечатал рабочий кабинет Якова Кронидовича и комнату Ермократа. Вид запертых дверей с навешенными бирками с печатями усугублял таинственный ужас квартиры, и по вечерам Валентине Петровне чудилось, что там кто-то ходит и слышались там голоса. Жить одиноко в Петербурге было нестерпимо. Доживать свой век, когда еще не стукнуло 28-ми лет — и казалось, что и жизнь-то ее по настоящему еще не начиналась — было ужасно. Были мысли — поступить в сестры милосердия… пойти в монастырь… Как-то не улыбалось ей ни то, ни другое в ее молодые годы, при ее здоровье… при ее свободных средствах…
И мало-помалу все ее мысли сошлись на одном: — "ах! уехать куда-нибудь, где бы никто ее не знал, где бы не слышали ничего про убийство Портоса, где были бы совсем другие, новые люди, которые ее полюбили бы по хорошему".
"Ведь не такая же я плохая!? Неужели никому я не нужна?… Я красивая, молодая, добрая, сильная, талантливая, жаждущая работы, деятельности… и так любящая жизнь!.."
В двадцатый день по смерти Якова Кронидовича она решилась исповедаться. Она пошла не в свой приход, а к священнику о. Александру Васильеву, в чужой приход, пошла к нему, так как слыхала о его светлой жизни и большом уме.
Сначала мучительно, с трудом, но потом все легче, свободнее и просторнее лилась ее исповедь и с каждым словом покаяния тяжесть точно сползала с ее души.
Близко от нее была большая борода лопатой, темная в седине и кроткие старые простые глаза.
Она кончила. Стояла в траурном платье, в черной шляпе с плерезами и длинной до пят вуали, устремив глаза на раскрытое евангелие и золотой крест, и крупные слезы блестящими алмазами застыли в ресницах нижних век. Кротко и тихо говорил ей отец Александр о силе греха, о милосердии Божьем, о воле Господней, о наказании и прощении. — Раскаиваетесь ли вы в совершенном? Она, молча, кивнула головой. Не в силах была говорить.
— Верите-ли вы в Господа и Его милосердие, в Его прощение и Святое Таинство Причащения?
— Не веровала бы — не пришла бы, — утирая слезы тонким платочком, сказала Валентина Петровна.
— Господь по своему милосердию простит вас.
— Что же мне делать?
— Поступайте так, как укажет вам ваше сердце. Господь направит вас. В Него веруйте и Ему доверьтесь.
Со странным облегчением в душе она целовала крест и Евангелие и ей казалось, что Кто-то, необычайно добрый, такой, каким не может быть человек, говорил ей слова отпущения грехов.
На другой день, утром, она вместо черного траурного платья надела белое и в кружевной мальтийской косынке кремового цвета поехала с Таней к обедне причащаться.
Когда ехала назад, по хорошему санному пути — в эти дни нападало много снега — ей казалось, что она не узнает Петербурга.
Все блистало в ярком мартовском солнце. Мороз был небольшой, и весело бежали извозчичьи лошади под серыми попонками, сани стремились куда-то и звучны были голоса прохожих. В матовом синем небе протяжно и печально звучали колокола великопостного перезвона. Упругий ветерок налетал с моря и нес запах каменного угля, смолы: — широкого простора. Валентине Петровне казалось, что дома ее ждет какая-то большая радость!
Не могло быть иначе в такой великий день, когда она, причастницей самого Господа Иисуса Христа, входила в опостылевшую ей квартиру.
XXXIV
Дома ее встретила своими особыми ласками Ди-ди. В столовой Марья приготовила чай — Валентина Петровна, блюдя обычай, ничего не ела и не пила до причащения. На подносе у ее прибора лежало письмо.
Валентина Петровна все в том же возбужденном и приподнятом настроении села за стол и взяла в руки конверт. Загородная семикопеечная марка и странный штемпель почтовой станции «Ляохедзы»… Почерка она сразу не узнала. Маленьким ножичком она вскрыла письмо.
От Петрика… Двадцать дней!.. Десять дней шла к Петрику газета "Новое Время", где в шести черных рамках было напечатано о смерти Якова Кронидовича. Сначала объявляла об этом "убитая горем" вдова, потом Медицинский Совет Министерства Внутренних Дел, Императорская Медико-Хирургическая Академия, слушатели и слушательницы Энского университета, Женский медицинский институт и Императорский институт экспериментальной медицины — эти шесть объявлений сказали Петрику, какое большое и сколькими людьми уважаемое лицо умерло и сказали ему о горе госпожи нашей начальницы и о том, что «божественная» теперь свободна. И под горячим впечатлением самых разнородных чувств Петрик писал Валентине Петровне свое «кондолеансное» письмо. Десять дней шло оно до Петербурга.
Должно быть, когда «запускал» он перо в чернильницу — из нее не вылетала муха, а налиты были хорошие чернила и в эту ночь, как видно, сама «литература» ночевала с Петриком.
Такое чуткое, нежное и теплое письмо было написано им! Он осторожно, утешая ее в двойной потере, — трагической смерти друга и безвременной кончине мужа, намекал ей, что теперь она свободна. Он писал ей, что, попав в глухую Маньчжурию, в постовую казарму — он убедился в том, что в «холостом» полку, с его устоявшимся бытом и трехвековыми традициями — одно, а на глухой окраине в Китайской Маньчжурии совсем это другое.
…"Как говорится, госпожа наша начальница, пишется «конка», а выговаривается «трамвай»… Здесь женатый офицер полезнее холостого, особенно если он командует сотней, или полком. Тут нет офицерских собраний и, если нет смягчающего женского влияния, то остается — пить под луну, под лай собаки, играть в «мяу», или сидеть над ведром с водой в пустом сарае и ждать, когда в особый прорез в потолке упадет в это ведро бродячая по крыше крыса. Невеселая это история… Сколь много может тут сделать женщина, именно, в сковывании этого только зарождающегося военного быта, в создании благородных рыцарских традиций… Такая, как Вы, с детства выросшая в Старо-Пебальгском полку, музыкантша, знающая языки — вы несли бы ту изящную русскую культуру в новый край, что мне, солдату, не под силу…"
Вот оно каким языком заговорил Петрик! Получить такое письмо на двадцатый день после смерти мужа! Не рано-ли?…
В тот же вечер она написала ему ответ. Она писала у себя в спальне, на прекрасных листах великолепной английской, плотной бумаги, писала своими тонкими, большими косыми буквами. И первый раз ей не было страшно в ее спальне одной.
Диди лежала у нее на коленях, но она не мешала ей. Серый кот уютно мурлыкал под зеркалом. Серый кот был большой философ — и он точно говорил: в Маньчжурию, так в Маньчжурию, и там люди живут.
Валентина Петровна писала, что ее жизнь кончена. Она гадкая, подлая женщина, изменявшая своему мужу и, может быть, это она виновница его смерти. Она недостойна жить. В 28 лет она старуха, она изжила свою жизнь и ей остается — монастырь.
Чем больше бичевала она себя, чем больше писала о том, что ее жизнь кончена — тем меньше она верила этому.
Да Петрик и не нуждался в ее уверениях. Он не ждал ее ответов. Десять дней шло письмо туда и десять дней обратно. Ответ она могла получить лишь на двадцатый день, а уже через три дня пришло письмо от Петрика, а там еще одно — и так пошло.
Какая разница была между этими письмами Петрика, что сберегала Валентина Петровна в своем портфеле, — и письмами Портоса, что рвала она на мелкие клочки и развеивала по ветру за кладбищем Захолустного Штаба!
В тех была страсть, жажда обладания ее телом, ничем не прикрытая похоть. В письмах Петрика ни слова о страсти, о той любви, но призыв товарища помочь товарищу, призыв друга подсобить по дружбе. Он присылал ей фотографии казарм, своей квартиры, своей сотни на маленьких белых косматых монгольских лошадках. Он писал ей, чего он достиг с этими лошадьми.
… "В сотне у меня есть прямо феномены. В самой 1 аршин 14 вершков роста, а прыгает два аршина с вершком… У нас уже весна, потаял снег и зеленеет степь. Когда мои лошади в табуне и я еду, они издали блестят серебром, как белое озеро… Такая красота!.."
Он купил по случаю чистокровного английского жеребца — "удивительной езды, чтобы было на чем Вам ездить, божественная!.."
Сумасшедший Петрик!
Он описывал красоту прогулок, охоту на джейранов, на уток и на фазанов, "можно и на медведя и на тигра, если госпожа наша начальница того пожелает". И у нас будут скачки и всякие состязания — этот год еще не могу, а на будущий выпишу часов, как давали у вас в Старо-Пебальгском полку.
Ко дню ее рождения он прислал ей серебряный китайский амулет "с хорошими словами" и написал, что ее ожидают расшитые шелками китайские халаты и курмы, а — "Александр Иванович — это китаец-поставщик — отделывает ей квартиру, как игрушку".
Против воли — она уже жила его интересами. Фанзы, манзы, готовящиеся к состязаниям на призы солдаты- Заамурцы, мудреные китайские названия деревень — все эти Даянельтуни, Шань-дао-хедзы — ей казались родными.
…"Цветут грушевые и тутовые деревья, в огородах все пестро цветущим маком — а какой воздух, какая звенящая даль до самых фиолетовых гор… И как тепло уже!.."
— Что же вам пишут, барыня, Петр Сергеевич — спросила Таня, которой Валентина Петровна показывала фотографии сотни и солдат Петрика.
— Предложение делает. Жениться на мне хочет, такой непутевый, — первый раз улыбаясь, шутливо сказала Валентина Петровна.
— Ничего не непутевый. Как следовает поступает.
— Что вы, Таня!.. Давно-ли мужа схоронила, и трех месяцев нет, а вы замуж!?
— Вы подумайте, барыня… Себя припомните. То вы ошиблись… А тут, как маменька ваша, были бы матерью- командиршей…
И, отдавая карточки Валентине Петровне, Таня пошла к дверям, и уже в дверях, вся закрасневшись, и смутившись, закрывая локтем лицо, проговорила, широко улыбаясь: -
— Что тут одни-то сидим, ровно старухи какие! Чего мы тут не видали в Питербурхе-то этом? То ли бы дело, как в Захолустном Штабе! Так-то вот хорошо!.. С солдатиками-то…
И убежала из комнаты.
XXXV
В мартовский вечер Вася Ветютнев возвращался домой после заседания Энского Окружного Суда. Судили Менделя Дреллиса. Первый раз он, такой сторонник реформ Императора Александра II, усомнился в пользе гласного суда и института присяжных заседателей.
Такая вышла ерунда!..
В суде был "большой день" — но суд показался Васе насмешкой над правосудием. В зале суда были лучшие представители адвокатуры, знаменитый прокурор, а гражданским истцом были привлечены блестящие представители науки в качестве экспертов, им возражали со стороны защиты — европейские знаменитости.
Вася видел, как внимательно и почтительно выслушивали представители радикальной интеллигенции, адвокаты Дреллиса показания разных «шмар», «подсевайл», полицейских сыщиков самого последнего разбора, той полиции, презреннее которой у нее ничего не было. Эти лица обеляли Дреллиса, на суде плели свое хитрое кружево различных «версий», кто и почему мог убить Ванюшу Лыщинского и доказывали, что кто угодно мог убить его, только не жиды. И те же благодушные присяжные повторенные, с тяжелыми золотыми цепочками на волосатых руках, грозно покрикивали на единственных свидетелей обвинения, оставшихся в живых — Марью Петровну и фонарщика Казимира Шадурского. Последний отказался от всех своих показаний и только растерянно повторял: -
— Мне свет милей!..
Центром судебного заседания была медицинская экспертиза. Профессор Аполонов превзошел сам себя. Ясно, точно, будто показывая многочисленной публике и присяжным труп несчастного мальчика, он доказал, как и для чего был убит мальчик.
После его показания читали письменное показание Якова Кронидовича. В зале стояла напряженнейшая тишина.
Бледное лицо Дреллиса, обрамленное черною бородою, стало восковым. Глаза его бегали по сторонам. Точно пришла на суд тень мальчика и требовала возмездия.
Внушительным басом, будто человек иного мира, говорил ксендз Адамайтис. Он цитировал тексты и доказывал полную возможность преступления. В зале суда создавалась страшная, зловещая напряженность. Точно перед нею совершалось снова это преступление. Лица защиты переглядывались друг с другом. На смену одним профессорам выступили другие. Профессора защиты. Хирург с европейским именем, старый профессор Петров старался опорочить показания Аполонова и Якова Кронидовича: -
— Моим предшественником профессором Аполоновым, — говорил он, — было указано, что я и профессор Бадьян, при обсуждении причин смерти Лыщинского разошлись с ним во взглядах. Я, как хирург, также, как и профессор Бадьян, мы имеем свой опыт, и довольно большой, на что указывает наша седина и то положение, которое мы занимаем в обществе и ученом мире. Мы работаем, главным образом, над живыми людьми, между тем как профессора, имеющие дело с судебно-медицинскими вскрытиями, работают над явлениями, которые оказываются уже на секционном столе анатомического театра.
И путем ряда ловко построенных посылок профессор дал совсем другую картину убийства мальчика Лыщинского. Ванюша был просто убит… Да, мучительно, неловко убит, но когда же убийца, если он не профессионал, ловко убивает? Кровь из него не источали — она пролилась сама, как проливается при всяком убийстве. Ему зажимали рот, но его не душили.
Вася помнил, как патетически и авторитетно воскликнул профессор: -
— Я спрашиваю себя, можно ли задушить человека, зажимая ему рот, и отвечаю: — никогда!..
И несмотря на всю нелепость этой фразы — толпа ей поверила. Говорил профессор, а как не верить профессору!? Да еще такому, как Петров!
Профессор отрицал страдания мальчика. Он говорил: -
— Две раны на голове, нанесенные по уклону черепа, очень мало мучительны. Мы вырезаем на голове по 16 опухолей за раз у дам очень нервных — и они легко переносят ранения… Понятие о чувствительности весьма условно… Что мальчик дрыгал ногами — то это могло быть явлением рефлекторным, а не сознательной деятельностью.
С милой грацией любующейся на себя перед толпою знаменитости профессор все страшное убийство представлял, как милую шутку…. Обезкровления не было.
— Ведь и курицу когда режут — кровь есть, — говорил хирург.
Все то, что так тщательно было изучено и доказано Яковом Кронидовичем и Аполоновым, было опровергнуто в чуть насмешливом тоне. Хирург показывал свое превосходство над прозектором.
— Вы говорите — мучительные страдания?… Как понимать это? Как можно причинить смерть, не причиняя мучений? Специальные, особо мучительные повреждения здесь не наносились.
"Тебя бы так" — думал Вася. Он смотрел на сухое, старое лицо профессора. Он был русский, не еврей, но о замученном мальчике он говорил, как о зарезанной курице. В своей лаборатории он привык мучить и истязать животных, на операционном столе он привык к страданиям больных — и вся та сложная и большая драма Ванюши, которую знал Вася — представлена была, как маленький ничего не стоящий эпизод. Убийство — какие совершаются каждый день, и ничего в нем нет особенного, ничего указывающего, чтобы его цели выходили из рамок всякого убийства. Кому-то надо было убить — и убили… Кому-то, — но не непременно евреям.
После Петрова выступили психиатры. Они доказывали, что это было самое обыкновенное убийство.
Ксендзу Адамайтису возражали профессора Воскресенский, Баранов, Любомиров и раввин Земан… Четыре на одного! Они опровергли Адамайтиса.
Вася слышал, как на сказанный Адамайтисом текст Талмуда: — "сказал рабби Иисус: я слышал, что жертвы приносятся, хотя бы и не было храма: что великая святыня вкушается, хотя бы и не было келаим (завесы)… ибо первое освящение освятило на то время и на будущее" — эксперт защиты ответил, что приведенный текст относится ко времени устройства храма Зоровавеля, когда приношение жертв начало совершаться раньше постройки самого храма, на сооруженном для сего жертвеннике.
— Говорят, что евреи примешивают кровь в мацу — заявил профессор Воскресенский, — но такое мнение я считаю фантастическим бредом… Талмуд, кроме нравственного учения, ничего не содержит.
Вася отлично помнил, что Адамайтис ничего не говорил о примешивании крови к маце, но помнили ли это присяжные?
Две правды встало на суде перед присяжными и судьями — и за обе стояли профессора, ученые, люди науки. Какое же уважение могло быть после этого к науке, которую можно было применить и так и эдак? Не было единой истины. Но истина была такая: как на нее смотреть. Если смотреть со стороны обвинения — одна была истина, со стороны защиты — совсем другая. И тут и там были профессора. И где же было разобраться в этом деле простым людям, присяжным заседателям? На суде им точно говорилось:
— Закон дышло, куда хочешь — туда и воротишь. Научный закон такой же.
И ворочать это дышло были призваны они. Дать двадцать лет каторжных работ чернобородому еврею с твердым и умным, бледным лицом, или махнуть рукою и признать, как говорят все эти умные, просвещенные люди, профессора, академики, что мальчик убит… как курица…
"Да", — думал Вася, — "страшное дело суд. И особенно страшное еще потому, что над каждым из них висят слова Христа: — не судите, да не судимы будете, и каким судом осудите — таким и вас осудят"… Как им судить!"
XXXVI
Вася, переживая впечатления суда, вспоминал страстное, вдохновенное слово гражданского истца.
Тот рассказал все то, что ему передали свидетели, дети Чапуры, фонарщик, сам Вася и покойный Яков Кронидович.
Высокий, тощий, в пенсне, с растрепанной интеллигентской бородой, со страстной, быстрой образной речью, он говорил: -
— Господа присяжные заседатели! Я выступаю здесь в качестве поверенного Александры Лыщинской. Много она перенесла по этому делу, и горя ее, ее страданий не выразишь словами! У нее уже нет слез, чтобы плакать. Вы вспомните: лишившись сына, замученного, обезкровленного, брошенного, как падаль, чему она подверглась?! Это было издевательство, надругательство и только простой русский человек может снести все это терпеливо и кротко. Она потеряла сестру, которая любила Ванюшу и не вынесла всего того, что пало на их голову. Она и сама потеряла здоровье и скоро предстанет пред лицо Всевышнего. И вот теперь, перенеся все это, все испытав, она, простой, безхитростный человек, обращается к вам, из которых большинство тоже простые русские люди и просит точного определенного ответа — кто убил, кто замучил ее Ванюшу, ответа, который был бы дан не "страха ради иудейска", а по совести, по вашей совести русских православных людей. Дайте же нам ответ! Его ждет от вас не только Александра Лыщинская, его ждет вся Россия!"
Ни оратор, ни Вася не думали тогда, сколь равнодушна была к этому делу Россия! Ответа присяжных ждала не Россия, но ждал весь еврейский мир, чутко и жадно прислушивавшийся к тому, что скажут простые Русские люди. Он ждал для того, чтобы решить, чего достоин Русский народ. Русский народ держал экзамен перед еврейским миром. И мог получить он на нем или снисходительное одобрение — или жестокую еврейскую месть до седьмого колена!
Две правды стояло перед ними — правда обвинения и правда защиты — и проще всего было искать в таком случае правду где-то посередине.
Два вопроса было предложено на разрешение присяжных заседателей: о событии преступления и о виновности Менделя Дреллиса.
— "Доказано ли, что 12-го марта 1911 года в Энске на Нагорной улице, в одном из помещений кирпичного завода еврея Русакова, 13-тилетнему мальчику Ивану Лыщинскому, при зажатом рте, были нанесены колющим орудием в теменной, затылочной и височной областях, а также в шее раны, сопровождавшиеся поранениями мозговой вены, артерии левого виска и шейных вен, и давшие вследствие этого обильное кровотечение, а затем, когда из Лыщинского вытекла кровь в количестве до пяти стаканов, ему вновь были причинены таким же орудием раны в туловище, сопровождавшиеся поранениями легких, печени, правой почки и сердца, в область которого были направлены последние удары, каковые ранения, в своей совокупности числом 47, вызвав мучительные страдания Лыщинского, повлекли за собою почти полное обезкровление тела и смерть его"?
Тень Ванюши, вызванная показаниями профессора Аполонова и точно приведенная на суд Яковом Кронидовичем, встала перед присяжными, и те ответили:
— Да, доказано…
Россия подписала себе приговор. Она стала в ряд «отсталых» государств. Ее ждала еврейская месть. Россия признала ритуальность убийства.
На вопрос о виновности Дреллиса в совершении убийства — последовал ответ:
— Нет, не виновен.
Чуждый мести, слабовольный и мягкосердечный простой Русский обыватель не посмел к страданиям матери Лыщинского прибавить страдания на каторге убийцы. Он не захотел взять на себя осуждение. Он простил убийцу.
Не судите, да не судимы будете!
Он надеялся, что когда настанет суд жида над ним — жид его помилует. Тем же судом его осудит.
Вася Ветютнев был потрясен. Он перестал верить в правосудие.
Он хотел бросить университет — и идти на военную службу…
XXXVII
У Валентины Петровны испортились ее маленькие часики-браслет. Она сама понесла их на просмотр к часовщику.
Было майское утро, и была та прелестная Петербургская весна, с какой не сравнится никакая южная. Воздух благоухал березовыми и тополевыми почками и казалось мокрые плиты петербургского тротуара излучали это благоухание. Валентина Петровна вышла на Невский и поднималась к Аничковскому мосту. Она задержала шаг, любуясь на Клодтовские статуи голых людей, укрощавших лошадей. Ей почему-то вспомнилось детство, Захолустный штаб, полковой плац… Мысль побежала дальше. Вспомнила Фортинбраса… Портоса.
"Милый Петрик! Купил для меня чистокровную лошадь. И имя какое: Мазепа! завода князей Любомирских. Мазепа! — верно сильная, коренастая, крепкая лошадь, с лобастой почти арабской головой. Караковый в подпалинах… Как… Фортинбрас… Нет… темнее".
От Фонтанки, голубевшей под ясным небом пахло водою и рыбой. Суетливо по ней бежал пароходик и тихо шелестела, плескаясь о гранитные стены, раздвигаемая им волна. Дали Невского были прикрыты легчайшей дымкой тумана. Наверху сияло ясное, голубое небо, еще утреннее, не тронутое облаками. Нестерпимым блеском горела Адмиралтейская игла и золотой ее корабль точно плыл по голубому эфиру. Так смотреть на нее — закружиться может голова. На углу Садовой возы с мебелью пересекли ей дорогу. Кто-то переезжал на дачу. На острова, в Новую Деревню, Лесной, на Лахту, в Сестрорецк? Она не подумала о даче. Запродала мебель. Квартире в июне контракт кончается. На что ей квартира?… В монастырь!..
Она шла легкой упругой походкой. Весенний ветерок, дувший с Невы, покрыл розовым ее щеки, весеннее солнце золотило их мягким загаром. Рядом послушно шла Диди, подрагивая на лапках с подушечками. Встречные обращали внимание на даму с собачкой. Такая молодая — и в глубоком трауре. На бульваре вдоль Гостиного Двора сильнее пахло тополевой почкой. По другую сторону чинили мостовую. Стояли рогатки, торец был снят, и от свежих, обнаженных досок, пахло смолою и дегтем.
Валентина Петровна шла, любуясь Петербургом, и с тоскою ощущая свое одиночество. Одна в этом городе. И сегодня, как вчера, и завтра, как сегодня. Прогулка — и длинный день, который не знаешь, куда девать.
У Екатерининского канала увидала магазин фортепьян и подумала: — "давать уроки музыки. Играть на вечерах… В кинематографе… Стать тапершей… Зачем?.. В монастырь?.. Ах, пожалуйста, куда угодно, только подальше отсюда".
Низкие кустарники сквера у Казанского собора были покрыты нежною молодою зеленью. Садовники из голубой парниковой лобеллии и желтых листиков выкладывали на клумбе хитрый узор. Дети бегали по дорожкам, гоняя обруч. Слышался смех. Шла иная жизнь. Наверно там играли в пятнашки.
Валентина Петровна остановилась. Ей некуда торопиться. Вот тот полненький, как Портос, когда ему было десять лет, а этот худышка — совсем Долле. И, верно, считают, как мы. Считал всегда в их играх Петрик. Он был самый честный. Она стояла и ей казалось, что она слышит голос маленького Петрика: — "раз, два, три, четыре, пять — вышел зайчик погулять. Вдруг охотник выбегает, прямо в зайчика стреляет: — пиф-паф-ой-ой-ой, умирает зайчик мой" — и Петрик толкал ее в грудь, отставляя в сторону — не она будет "пятнать".
Валентина Петровна вздохнула: — "Смешной какой Петрик… Предложение делает… Зовет к себе… Умирает зайчик мой… Когда это было?… Восемнадцать лет тому назад… Целая жизнь!.. И где она? Впереди? или уже позади?"
В магазине Буре, где висели громадные за окном часы, приказчик, красивый французский швейцарец, узнал ее. Он отдал часы на осмотр в мастерскую рядом и предложил Валентине Петровне стул. Она села. Перед нею в витрине за стеклом лежали тяжелые серебряные часы с крышкой и с серебряными массивными цепочками, вытянутыми вдоль них.
Их ровный блеск на фоне черного сукна слепил Валентину Петровну.
— В этом году первый раз батюшка ваш не брали у нас часов. А то каждый год, когда десять, когда и двадцать призовых часов брали.
— Да, — сказала Валентина Петровна, ни о чем не думая и внимательнее посмотрела на лежавшие перед нею часики.
Приказчик, чтобы развлечь покупательницу, вынул часы и стал их показывать.
— Извольте посмотреть какая гравировка на крышках. Вот этот, где драгун прыгает через забор — это за скачку. Внутри на циферблате можно наклеить портрет Государя Императора, или Наследника, есть портреты Императрицы и Великих Княжен для Шефских полков… С тонкой цепочкой на 19 рублей, с толстой, для лучших призов на 23.
Валентина Петровна рукою в перчатке играла массивною цепью.
— Красивые часы. Не модные.
— У солдат они всегда в моде. Посмотрите — эти, с казаками, за джигитовку, эти с книгами и компасами, циркулями и линейками за отличное окончание учебной команды.
— А эти?
— Это — пограничной страже — за постовую службу.
— Да?..
Ее часы были готовы. Там только зубчик соскочил. Приказчик надел ей цепочку браслета на руку.
— Что я вам должна?
— Ничего-с… такой пустяк.
Она встала.
— Что, можно… часов десять по почте послать?
Она спросила, ни о чем еще не думая. Просто — так… Чтобы что-нибудь сказать.
— Куда угодно… В ящик положим, холстом обошьем… Только адрес дайте.
— Я сама пошлю… Вы только запакуйте.
— Слушаюсь. Какие прикажете? В какую цену?
— Лучшие… По двадцать три рубля… Вот таких… "За скачку" — трое… "За отличную стрельбу"…
— Цепочку с ружьями?
— Да… с ружьями… двое… "За постовую службу"- трое… и еще…
— "За разведку", может быть?…
— Да, "За разведку"… двое…. Всего десять…. Вы пришлите мне… Совсем готовые… только чтобы адрес написать.
— Через час у вас и будут.
Она вышла из магазина. Пошла прямо домой. Как-то легче ей дышалось… Точно будто и дело сделала. На двести тридцать рублей купила часов для пограничников Петрика. Откупилась от него…
XXXVIII
После завтрака к Валентине Петровне позвонили. Она так отвыкла от посетителей, что даже взволновалась. Но это принесли часы. Она заплатила по счету, села в гостиной за столик и тщательно по холсту написала адрес Петрика.
"Пусть порадуется… От госпожи нашей начальницы… от королевны Захолустного Штаба королевский подарок".
Она позвала Таню.
— Снесите, Таня, эту посылочку на почту, — сказала Валентина Петровна.
Таня хотела взять пакет, но в это время опять позвонили.
— Что это сегодня, — сказала Валентина Петровна. — Если это не Обри и не Долле — не принимайте. Я никого не хочу видеть.
Через несколько секунд Таня со смущенным лицом вернулась из прихожей, неся на китайском черного лака подносике визитную карточку. Валентина Петровна взяла ее в руки.
"Барон Вильгельм Федорович фон Кронунгсхаузен", — прочла она.
Глаза цвета морской воды поднялись вопросительно на Таню. В золотых глазах Тани прыгал радостный смех.
— Петра Сергеевича полка командир-с, — шепотом сказала она. — Вот такой, и она вытянула лицо и округлила правый глаз, будто в нем был монокль.
— Командир холостого полка, — тихо сказала Валентина Петровна, вставая со стула. — Проси… Что ему надо от меня?
Высокий, тощий, с юношеской в сорок с лишним лет талией, очень прямой, в длинных с острою складкою серо-синих чакчирах, в драгунском мундире, с этишкетом, выпущенным из-под погона, с Владимирским крестом в петлице, с сухим бритым, в морщинах не то английского жокея, не то немецкого пастора лицом, с моноклем, с редкими рыже-седыми волосами, аккуратно расчесанными на пробор через весь затылок до желтого воротника, барон, изобразив на лице своем некоторое подобие улыбки, склонился к Валентине Петровне, целуя ее руку и по тому, как барон взял ее и как целовал, она почувствовала, что он увидал, прочувствовал и оценил всю красоту ее руки.
— Пожалуйста, барон, — смущаясь, сказала Валентина Петровна. Она хотела сказать "чему обязана Вашим посещением?", но ей это показалось нелюбезным, и она замялась. Барон стоял в трех шагах от нее и рассматривал ее через монокль. Так вероятно он разглядывал ремонтных лошадей, на глаз оценивая толщину кости под коленом, ширину груди, спину, круп. Ей стало неловко под его взглядом и она покраснела. Покраснев, стала досадовать на себя.
— Садитесь, барон… Прошу.
Барон продолжал стоять.
— S-so!.. — с полным удовлетворением сказал барон. — S-sо!.. Тот-то кто любит свой польк — тот любит своих офицеров! — торжественно начал он, все не садясь. — Я ошень любиль ротмистра Ранцева, Вы его тоже любите?
— Да… мы друзья детства… Он очень хороший человек.
— Мало сказать — хороший шеловек. Он хороший офицер… Он хочет женить на вас. Тот-то, кто собою вам жертвоваль — тот-то достоин вашей любви.
— Вот как, — чуть улыбаясь, сказала Валентина Петровна, — вы, командир холостого полка, говорите о женитьбе вашего офицера?
— Тот-то, кто ушель в Пограничную стражу, — тот-то не в холостом полку. Тот-то может жениться. Тот-то должен жениться.
— Так… я, признаться, барон, ничего не понимаю, — сказала Валентина Петровна.
— Я приехаль… сваха… сватом к вам. Он ошень просиль…. Я знай… Как ваша матушка, я ее знай, в Захолустном Штабе помогайт вашему папе, так вы помогайт ротмистру. Тот-то — достоин.
— Я в этом, барон, не сомневаюсь, что Петр Сергеевич достоин самой прекрасной двушки, как невесты… Но я… Я-то чувствую себя совсем не достойной его.
— Глюп-сти! — решительно сказал барон. — Я это понимай, — я все хорошо знай. Он мне все, все, все писаль… Как отец… Я ему биль и есть отец, и я прошу нэ отказывать.
— Не знаю, право… Вы меня застаете врасплох. Я, откровенно говоря, никогда не думала об этом.
— Есть вешши, сударыня, где думать нельзя. Надо — сердце… Надо — раз-два и готово… Это — атака и женитьба… Если подумаль: — "я атакую" — нэт атаки — сердце не выдержаль…. Если подумаль: — "я женюсь", стал думать: "зашэм я женюсь, буду-ли я счастлив" — тот не женится. Это, как Гоголь, — вы, наверно, знаете, смеялись… Тот-то, кто женится, тот телеграфирует два слова: — "да… еду"… вот и все. И вы это сделаете. Тот-то, кто любит, — тот это делает.
Валентина Петровна стояла перед бароном, опустив голову. Она подняла ее и вдруг увидала себя в зеркале. Весенняя, утренняя прогулка оживила ее щеки, глаза сверкали в черном обводе густых, загнутых вверх ресниц. Траур делал ее еще моложе, тоньше и стройнее. На мгновение мелькнула мысль о монастыре — и стало так жаль себя… Чугунные кони на Аничковом мосту встали перед глазами. И не только кони… Даль звала. Все эти фанзы и манзы, простор до фиолетовых гор казались чудесными — и с Петриком не страшными. В ушах звучала Бородинская симфония — "В степях Азии" — и точно пела, переливаясь, как горный ручей странная, меланхоличная, медлительная жилейка и ей вторило побрякивание колокольцев тихо бредущего по пустыне верблюжьего каравана. Безкрайние горизонты, золотые восходы, румяные закаты раскрывались перед нею и жизнь была не в прошлом, а в будущем — и прекрасным казалось продолжить ее рука об руку с Петриком, — кому все и всегда во всех играх верили. И в жизненной игре она ему поверит.
Он — офицер.
Барон посмотрел на свои часы-браслет.
— Тот-то, кто сделал свое дело, тот телеграфирует — да!..
— Барон, — сказала Валентина Петровна.
В это время Таня, в платочке, показалась в дверях.
— Барыня! можно войти?
— Что вам, Таня?
— Посылочку взять… На почту… Вы приказали… А то запрут почту-то!
Барон скользнул глазом по адресу на коробке. Он выбросил монокль и согнулся опять к руке Валентины Петровны.
— Оставьте, Таня… Я сама… отвезу… не надо на почту, — густо покраснев, сказала Валентина Петровна.
Барон шагнул к дверям в прихожую. В дверях он остановился, почтительно и церемонно еще раз отвесил низкий поклон Валентине Петровне, выпрямился и вставил в глаз монокль.
— S-so!.. — сказал он. — Тот-то кто!..
Это "s-sо!" — было победно-торжествующее.
Барон исчез в дверях. Валентина Петровна с сильно бьющимся сердцем опустилась в кресло. Ди-ди с радостным визгом прыгнула ей на колени. К ногам Валентины Петровны подбежала проводившая барона Таня. В золотых ее глазах сверкало, переливаясь, как шампанская игра, — счастье.
— Барыня!..едем!.. — крикнула она, заливаясь шаловливым смехом.
Август 1929 — март 1930
Дер Сантени, Франция
КОНЕЦ



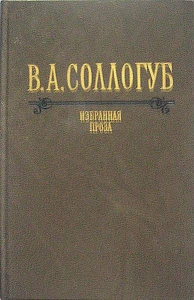

Комментарии к книге «Largo», Петр Николаевич Краснов, генерал
Всего 0 комментариев