Леонард Юлианович Пирагис Красавчик
I Беглые
— Теперь только пробраться сквозь кусты и отдохнем. Хорошее местечко там знаю. Увидишь вот.
Митька уверенно свернул с дороги на тропинку, едва заметной полоской вившуюся среди густых зарослей ольшаника. В белой ночной мути терялись очертания кустарника, и он казался бесформенной плотной массой, приникшей к земле. Тропинку трудно было разглядеть среди кустов, но это не мешало Митьке двигаться вполне уверенно: он шел, почти не приглядываясь к дороге, как человек, хорошо знакомый с местностью. Не оборачиваясь на ходу, он говорил:
— Тут я в прошлый год целый месяц прожил. Место, брат, роскошь да и только… Шикарно тут… Сам увидишь — вот погоди… Шевелись, Красавчик, теперь уж скоро.
Красавчик «шевелился», стараясь не отставать от товарища. Но, видно, он меньше Митьки привык к подобным дорогам. В то время, как Митька беззаботно двигался вперед, Красавчик поминутно спотыкался на корни, до того зашибая ноги, что приходилось закусывать губу от боли. Он останавливался на секунду потереть ушибленное место, и тогда почти терял из виду фигуру Митьки, пропадавшую среди мглы белой ночи и кустов. Красавчик с трудом нагонял товарища, что было почти не под силу усталым ногам.
— Иди ты потише! — не выдержал он наконец.
Митька обернулся.
— Устал здорово? — сочувственно спросил он. — Потерпи немного, сейчас дойдем… Скоро уже…
И сбавил шагу. Красавчик молча шел за ним. Митька ступал почти не слышно, и ноги его тонули в сумраке тропинки: казалось, он не шел, а плыло его туловище среди какой-то плотной темно-серой массы, покачиваясь и колеблясь, словно челнок на зыби.
Шли с полчаса. Красавчик поминутно перекидывал с плеча на плечо тощую котомку. Она была почти пуста, но все-таки сильно тяготила плечи, нывшие словно после побоев. Наконец Митька воскликнул:
— Пришли, Миша!
Красавчик вздохнул полной грудью и одним прыжком нагнал товарища.
Заросли расступились перед ними, образуя небольшую площадку, ограниченную крутым обрывом. Глубину обрыва заполнял седой сумрак, и ничего нельзя было разобрать внизу. Только долетал оттуда какой-то невнятный нежный ропот, словно перешептывались в глубине оврага бледные призраки ночи. Красавчик прислушался к шуму.
— Речка?
— Ручей. В нем головлей много поутру наловим. А теперь давай-ка костер разводить.
Красавчик кинул на траву сумку и нехотя пошел за приятелем собирать топливо. Он страшно устал: все тело так и ломило, а ноги отказывались повиноваться и были тяжелы, точно свинцовые. Митька тоже чувствовал сильную усталость, но бодрился и, собрав остаток сил, принялся за работу; только треск пошел по кустам, вспугивая спящих птиц. Пример товарища заразил Красавчика, и вскоре внушительная куча хвороста была на площадке.
Митька принялся разжигать костер; Красавчик лег возле него на траву.
Роса приятно освежала вспотевшее, горевшее от долгой ходьбы тело, и мальчик с наслаждением прижался лицом к траве, чувствуя приятную негу, разливавшуюся по членам. С ног точно тяжесть спадала. Казалось, будто за день на них постепенно наматывался пройденный путь и теперь спадал понемногу, рождая истому.
Вспыхнул огонек. Затрещали сухие ветки… Неуверенно заскользили по хворосту язычки пламени, точно нащупывая и пробуя добычу… Потом потянулись выше, разбежались вокруг кучи хвороста и, соединяясь, поднялись кверху трепещущим огненным столбиком. Светлый отблеск заиграл на траве и кустах, сорвав с них призрачный покров белой ночи.
Митька прикинул в костер еще охапку хвороста и откинулся на траву.
— Тут мы и поживем немного. Как думаешь? — спросил он.
— Мне все равно.
— Мне тоже… Ужинать будем?
Красавчику было не до ужина. От усталости клонило ко сну. Веки слипались сами собой. Он еле расслышал вопрос приятеля и вымолвил, поборов на секунду дрему:
— Завтра…
Митька засмеялся.
— Завтра? Ну, до ужина-то не дотерпишь… Так не хочешь, Красавчик, а?
Красавчик не ответил. Невнятно как-то прозвучали слова Митьки его затуманенному слуху. Он хотел было переспросить, но желание это мигом пропало и лишь легкий вздох вылетел из груди. Мальчика сковал крепкий сон.
С минуту Митька глядел на уснувшего. Хмурая ласка светилась в его глазах и губы слегка улыбались. Потом его самого начало клонить ко сну; Митька зевнул. Потянулся было к котомке с провизией, но видно раздумал ужинать, махнул рукой, примостился возле Красавчика и вскоре уснул.
Тихо стало на площадке. Прыгали и извивались мелкие тревожные тени вокруг костра, потрескивало пламя, и из оврага доносился невнятный говор струек воды. Саван белой ночи стал гуще, плотнее. Слепая мгла прочно присосалась к земле, опутав ее покровом загадки.
И Митька и Красавчик были бездомными бродягами, несмотря на то, что Митьке было 12 лет, а Красавчику едва минуло 11. Митька остался сиротой четырех лет от роду и сохранил о родителях лишь смутное воспоминание. Что касается Красавчика, то он вообще не мог с уверенностью сказать, были ли у него когда-нибудь родители. С тех пор, как он стал помнить себя, он знал лишь горбатую старуху со злым хищным лицом, вечно грязную и полупьяную. Ее он называл теткой Палашей. Так ее звали и еще несколько ребят, живших у нее; Митька тоже. За глаза дети звали старуху Крысой.
Обитала Крыса в громадном каменном доме, укрывшемся в узеньком грязном переулке. Дом был мрачный, старый, с потрескавшимися и облупленными стенами. За домом издавна установилась плохая репутация, и полиции частенько приходилось заглядывать в его трущобы. И нельзя сказать, чтобы посещения эти нравились обитателям дома: они далеко не ладили с полицией.
В грязных конурах дома ютилась нищета, наряду с преступлением. Нищие, искусно разыгрывающие калек, воры, грабители и даже убийцы находили себе приют в «Пироговской лавре», как называли сами жильцы свое огромное логово. Случалось даже беглым каторжникам скрываться от преследований в Пироговской лавре и это нисколько не стесняло ее обитателей: наоборот, каждый из них был готов помочь, чем угодно, этим отверженным и досадить полиции.
Старая Крыса пользовалась большой известностью в Пироговской лавре. Половина населения дома нуждалась в ее услугах, так как она охотно покупала краденые вещи и замечательно ловко сбывала их.
Помимо скупки краденого Крыса промышляла также и нищенством. Сама она, впрочем, не собирала милостыню: для этого у нее было около дюжины мальчиков и девочек. Большинство из них были отданы Крысе самими родителями за известную помесячную плату, но были и сироты вроде Красавчика, за которых Крыса никому не давала отчета.
Ребятишки с утра выгонялись на улицу и к вечеру должны были доставить старухе определенную сумму. Если случалось кому-нибудь из маленьких рабов Крысы не добрать хотя бы нескольких копеек, Крыса жестоко избивала несчастного. Плеть у нее была казачья, а рука тяжелая.
Один Митька занимал в квартире Крысы особенное положение. Он был вольным жильцом у нее. Презирая и ненавидя старуху, он все-таки вынужден был жить у нее, так как некуда было деться. Несмотря на юный возраст, у Митьки были уже серьезные счеты с полицией. Он бежал из тюрьмы для малолетних, куда попал за какую-то кражу, и поселился у Крысы, так как жить у нее было безопасно. Несмотря на свою темную деятельность, старуха умела устраиваться таким образом, что полиция ее не беспокоила. Митьке это было на руку.
Для Крысы в свою очередь Митька был выгодным жильцом. Она боялась, как бы Митька не покинул ее, и угождала ему насколько могла.
Митька промышлял воровством. Выросший среди подонков общества, он в раннем детстве еще постиг все тайны сложного и опасного ремесла воров-карманников и пользовался среди них довольно большой известностью под кличкой Митьки-Шманалы.[1]
К нищенству Митька питал глубокое презрение. Собирать милостыню, как это делали ребятишки Крысы, было в его глазах делом, недостойным мужчины. Поэтому к сожителям своим по квартире он относился свысока и постоянно держался в стороне от них, точно аристократ какой-то, случайно попавший в дурное общество. Только к Красавчику проявлял он некоторую симпатию. Влекла ли его к нему природная мягкость и нежность мальчика или другое что, — трудно сказать. Только Митька почти с первого дня водворения у Крысы взял его под свою опеку, и нельзя сказать, чтобы опека эта была шуточной.
Красавчику хуже всех жилось у Крысы. Нежный, хрупкий и беззащитный мальчик терпел постоянно обиды от товарищей, да и от старухи ему доставалось больше, чем другим.
Он довольно равнодушно сносил побои, что крайне возмущало Крысу. Кроме того, красивое лицо мальчика, странно-раздражающе действовало на старуху, а вечно-грустные, большие карие глаза приводили ее в бешенство. Вообще у Красавчика была странная наружность, не соответствующая обстановке, в которой он вращался. Временами казалось, что он походил на принца, вздумавшего, прихоти ради, облачиться в лохмотья и опуститься на дно жизни. Это-то и возмущало Крысу, зачастую колотившую мальчика без всякого повода. Точно хотелось старухе отвести душу на нем, выместит на красивом ребенке свое уродство, свое безобразие, с детства доставшееся в удел. И она издевалась над ним:
— Ишь красавчик какой выискался! Уж я разукрашу тебя, будешь доволен!
Иногда она устраивала целые представления к великой потехе ребятишек. Вечерком, на досуге, осушив добрую половину полштофа, старуха подзывала к себе Красавчика.
— Поди-ка сюда, миленький. Чтой-то я тебя день-деньской не видывала, соскучилась даже. Ну, поди же к тетке-то, племянничек родненький. Красавчик мой…
Голос у старухи звучал притворной нежностью, а глаза смеялись и скрывали в себе какой-то хищный огонек — предвкушение злорадного удовольствия.
Заслышав старуху, со всех углов квартиры начинали собираться ее маленькие обитатели, бросив орлянку и три листка, так как предстоящая потеха над Красавчиком обещала куда больше удовольствия, чем эти повседневные игры.
Красавчик не спешил на зов родственницы, а старался забраться подальше в какой-либо темный уголок, а то и вовсе выскользнуть из квартиры. А Крыса между тем жаловалась:
— Ну, видите, какой племянничек-то у меня… Нет того, чтобы подбежать к тетке, обнять да поцеловать… Прячется… Ох, горе мое!
И вздох старухи покрывался смехом восторженных слушателей: так комично разыгрывала Крыса роль любящей родственницы.
— Маешься день целый, — продолжала старуха, — рада хоть вечерком-то душу отвести с родственничком. Мишенька, где ты, родимый?
Пауза. Старуха сокрушенно качала головой и прислушивалась, точно ждала отклика.
— Не идет. Уж вы, ребятишки, разыщите мне его, а то стосковалась я.
Мальчишки только этого и ждали. Со смехом, целой оравой кидались они и волокли бледного, дрожащего всем телом мальчика к Крысе.
— Не идет, тетка Палаша, упирается!
— Упирается? Экий ведь непокорный! К тетке родной не идет!.. Где бы приголубился другой, а он нако-ся! Ну-ка давайте мне его, красавчика нашего.
Костлявые пальцы, изогнувшись, как клюв хищной птицы, вцеплялись в ухо мальчика. Начиналась потеха.
Старуха била, щипала мальчика, всячески потешаясь над ним, и прикидывалась в то же время любящей родственницей. Питомцы ее встречали громким хохотом всякую шутку старухи. Для них это было большим развлечением. Только Митька один оставался в стороне и хмурился. Трудно было сказать — жалел ли он Красавчика или ему просто не нравился этот вид забавы.
Благодаря Крысе, прозвище Красавчик установилось за мальчиком.
В том мире, где вращался Красавчик, прозвища неизбежно даются каждому. Каждый из маленьких рабов Крысы обладал, кроме имени, еще и прозвищем, обличавшим его физические или духовные качества. Был тут Петька-Палач, Ванька-Жгут, Фронька-Чудный Месяц. Среди уличных ребят это были самые обыкновенные прозвища. Зато кличка «Красавчик» казалась сотоварищам Мишки чем-то очень смешным и даже позорным. Петька-Палач неминуемо вступил бы в драку с каждым, кто осмелился бы назвать его подобным именем. Своими прозвищами мальчишки гордились даже: им казалось, что это были самые подходящие клички для мужчин в том смысле, в котором понимали они это достоинство. В глазах питомцев Крысы самым блестящим казалось положение Сашки-Барина, прославленного вора и громилы. Сашка-Барин был известен всему темному миру Петербурга. Знали его не только, как опытного вора, но и как отчаянного ножовщика. Сашку боялись, перед Сашкой благоговели все его собратья… Сашка-Барин, кроме того, всегда отлично одевался, носил на пальцах дорогие перстни и от него пахло хорошими духами….
К Крысе Сашка-Барин частенько наведывался, чтобы сбыть кое-что из краденого. Держался он при этом, как настоящий барин, приводя в восхищение несчастных ребятишек. После его ухода по углам квартиры долго велись разговоры о нем, и каждый из питомцев Крысы надеялся, что со временем займет в свете положение не хуже Сашки-Барина.
Сашка и тот обратил как-то внимание на необычное прозвище Мишки. Кличка и ему показалась забавной.
— Красавчик? А что это у вас за Красавчик появился? Этот? Ха… ха!.. — разразился смехом Сашка, вертя перед собой смущенного мальчугана.
При этом присутствовал Митька. Он недолюбливал Сашку и не благоговел перед ним, как другие. В лице Сашки-Барина он видел какого-то выскочку, опасного соперника на пути к воровской славе, к которой Митька стремился всей душой. Когда Сашка заходил к Крысе, Митька не вылезал из своего угла, наблюдая со злобой, как бесцеремонно держится Сашка. «Форсит», думал Митька и злился и завидовал Барину. Насмешка над Красавчиком кольнула его. Ведь что бы там ни было, а Красавчик был «своим». Если Барин над ним издевается, то значит и всех задевает. Митька вспыхнул.
— Чего пристал, Барин? — выходя на середину комнаты вызывающе бросил он.
Это было верхом дерзости. Мальчишки, смеявшиеся вместе с Барином, замерли. Сашка и тот опешил.
Митька, с трудом сдерживая волнение, подошел к Красавчику и оттолкнул его в сторону.
— Уйди.
— А ты откуда взялся? — сердито-изумленно спросил Сашка.
— А оттуда, — указал Митька на угол, из которого только что вышел.
Глаза Митьки сверкали из-под нахмуренных бровей. Лицо горело. Всей позой он выражал дерзкий, отважный вызов.
— А, Шманала! — узнал Сашка и покраснел вдруг от досады. — Ты это чего?..
Он шагнул к Митьке, желая расправиться с ним. Митька не отступил. Только злее и решительнее стал его взор, да правая рука скользнула к левому боку, где у него всегда имелся небольшой финский нож. Сашка заметил это движение и остановился.
— Ишь ты какой! — свистнул он и уже без досады, а с любопытством посмотрел на Красавчика.
— Да, такой! Подойдешь — перо[2] в бок пущу.
И видно было, что Митька не шутит: всем обликом своим он напоминал дикую кошку, готовую броситься на врага. В глазах Сашки зажегся огонек восхищения. Он одобрительно усмехнулся.
— Молодец, Шманала, люблю таких! Толк выйдет из тебя… Только не подумай, грехом, что слабо мне стало: не твоему чета перья ходили на меня… А молодец ты — это правда. Понравился ты мне… Всегда так действуй.
— У тебя не спрошусь, как действовать! — отрезал Митька, отходя от Сашки с угрюмым, хмурым видом. Возбуждение у него проходило вместе с тем, как противник оценил его. Он снова забился в свой угол.
Этим дело и кончилось. В глазах товарищей Митька покрыл себя неувядаемой славой. Для Красавчика же история имела свои выгоды: даже перед Крысой Митька почему-то счел долгом заступиться за него.
— Только тронь его, старая ведьма! — подошел как-то Митька к старухе в тот момент, когда она по обыкновению вздумала было потешиться над Красавчиком.
И звучала в его голосе такая нотка, что старуха отшатнулась в испуге. Она не посмела даже бранью разразиться, а только прошипела:
— Ишь змееныш!
— Змееныш, — спокойно согласился Митька, — а Красавчика не смей трогать. Даже если без меня тронешь — все равно потом кишки выпущу!
Крыса видимо испугалась. Красавчику после этого легче вздохнулось: редко осмеливалась старуха наградить его тумаком и только изощрялась в брани по его адресу.
Красавчик после этого случая почувствовал к Митьке искреннюю признательность. Незаметно она сменилась более теплым чувством, перешла в привязанность и даже в тайную любовь. Митька в глазах Мишки был теперь не только покровителем, но и героем. Он гордился его покровительством и всячески старался сойтись с ним ближе.
Но Митька оставался вполне равнодушным и, казалось, не замечал мелких робких проявлений чувств Красавчика. По-прежнему он был холоден с ним и сторонился от него, как и от остальных «плакальщиков» — презрительная кличка, которой наградил Митька нищенствующую армию Крысы. Редко-редко, но и то только с глазу на глаз перекидывался он с Красавчиком парою фраз и тогда голос его звучал дружескими нотками, а в глазах просвечивала хмурая ласка. Так может смотреть только сильный на слабого, нуждающегося в защите.
Красавчик, хотя и вырос под опекой Крысы, однако не был похож на остальных ее питомцев.
Вокруг себя он не видел хорошего примера, никто никогда не говорил ему ни о честности, ни о других добродетелях, — но что-то чистое, жившее в его душе, мешало ему пасть, слиться с оравой наглых ребятишек, знакомых с пьянством и другими пороками.
Он никак не мог дойти до кражи. О честности, правда, Красавчик знал очень мало. Все вокруг него не только занимались кражами, но и смотрели на хорошую кражу, как на подвиг. Крыса в свою очередь благоволила к юным карманникам. Сплошь и рядом дети приносили ей кошельки, портсигары и другие вещи, которые можно найти в карманах зазевавшегося прохожего, и Крыса брала их. За ужином воришка даже поощрялся рюмкой водки и лучшим куском.
Красавчик не мог отважиться залезть кому-либо в карман. Мешала робость, страх перед чем-то непонятным.
Нищенствуя, Красавчик тоже вел себя не так, как другие. Несмотря на долгую практику, он не мог осмелиться выклянчивать подачку. Обычно выбирал он какой-нибудь уголок и молча провожал прохожих печальным взглядом. Красивое грустное личико обращало на себя внимание. Ему охотно подавали милостыню и редко возвращался Красавчик домой, не собрав нужной суммы.
Вообще Красавчик не подходил к логову Крысы, как белый чистый цветок не подходит к помойной яме. Ему и самому казалось иногда, что он случайно попал к Крысе. Раздумывая подолгу об этом, он доходил даже до того, что в памяти как будто пробуждалось воспоминание о чем-то другом, более отрадном и хорошем. Вспыхивала в мозгу искорка, и вырисовывалось из мрака прошлого какое-то красивое доброе лицо. Слышался даже голос, нежный и тихий, и чудился какой-то особенный приятный аромат. Но нельзя было различить в тумане милое лицо, неуловимо звучал голос и все походило на какой-то волшебный сон.
Однажды он рискнул даже спросить у Крысы о своих родителях. Старуха пытливо поглядела на него, точно стараясь узнать, с какой целью был задан вопрос. В хищных глазах ее скользнуло что-то опасливое, но горбунья сразу овладела собой.
— Отец твой — царствие ему небесное — братом родным мне приходился. Помер он, когда тебе и годика не было. А мать — непутевая она была — пьяная на улице подохла. Одна я у тебя, тетка родная, и осталась только.
Может быть сироте иногда и приятно бывает узнать, что у него имеются родные, но Красавчика совсем не утешило заявление старухи: больно уж непривлекательна была его единственная родственница. Пришлось примириться однако и отбросить красивые грезы о призрачном прошлом.
И чем старше делался Красавчик, тем постылее становилось ему у Крысы. Тянуло его от нее куда-то. Куда? Он сам не знал, только тошно, тяжело становилось ему. Хотелось убежать подчас. Летом, нищенствуя в дачных местностях возле Петербурга, он видел жизнь, совсем не такую, как его. Тоска охватывала мальчика, душа стремилась к иной жизни, которой он не знал, но которая должна быть лучше, отраднее. Лежа где-нибудь в перелеске, он мечтал об этой жизни, создавал разные красивые картины. И шум деревьев над головой, и голубое чистое небо, и золото солнца на траве — все говорило ему о чем-то прекрасном, существующем на свете, к чему нужно только подойти, чтобы взять.
И чем больше раздумывал Красавчик, тем больше убеждался в необходимости избавиться от Крысы, от всех ее питомцев, переменить жизнь. И только Митьку одного не хотелось бросать.
«С ним бы и уйти, думалось: — он хороший, с ним все можно… Мы бы зажили вместе».
Но Красавчик не знал все-таки, как осуществить свою мечту, и напрасно ломал голову, пока случай не переместил его в другую обстановку, но совсем не такую, о какой он мечтал.
Стоял как-то Красавчик на углу людной улицы, провожая просящим взглядом прохожих. Вдруг неподалеку раздался крик, поднялась страшная суматоха. Красавчик хотел было пойти на шум, но откуда-то вынырнул запыхавшийся Митька. В момент сунул он в руки Красавчика ридикюль и бросился бежать, крикнув на ходу:
— Затырь![3]
Красавчик не сразу понял, в чем дело. Только когда мимо него пронесся городовой и несколько человек, сообразил он, что Митьке грозит опасность. Это заставило его забыть и о ридикюле и обо всем на свете. Напряженно следил он за убегающим товарищем и мучился за него, видя, как прибывает толпа преследователей. Опомнился Красавчик только тогда, когда чья-то сильная рука схватила его за ворот, и над самым ухом прозвучал суровый вопрос:
— Это у тебя откуда?
Какой-то бородатый мужчина держал его одной рукой, а другой указывал на ридикюль.
Красавчика ударило в холодный пот.
Собралась толпа. От страха Красавчик забыл даже про Митьку. Когда подошел городовой, он не мог сдержаться, и слезы ужаса и стыда холодными тяжелыми каплями покатились из глаз. Сердце замирало и в голове мутилось. Кругом колыхались, точно в тумане, злые враждебные лица; гул голосов слился в какую-то грозную волну, готовую захлестнуть маленькую дрожащую фигурку.
Красавчик силился сказать что-то и не мог от слез и от страха. Его тормошили, на него кричали, потом грубо потащили. Он уперся было, но здоровенный пинок заставил повиноваться. Красавчик плохо понимал, что нужно от него этим людям, но чувствовал, что впереди его ждет нечто страшное и беспощадное.
В участке он встретился с Митькой. В вонючей, грязной, полутемной арестантской находилось человек шесть всякого сброда. Среди них, как человек бывалый, восседал Митька, совсем спокойно рассказывая о чем-то, точно все случившееся было пустяком каким-то.
Увидев Красавчика, он изменился в лице.
— Ты? — злобно вырвалось у него. — Не сумел и этого сделать?! Эх…
Но жалкий, перепуганный вид товарища остановил ругательство, готовое сорваться с уст.
— Эх, брат! — с укоризной покачал Митька головой. — Засыпал[4] ты меня… Да и себя… Ну, да не впервой — ладно! Тебя бы вот выпутать только.
И на следствии в сыскной полиции Митька всячески выгораживал товарища. Даже снес терпеливо пару пощечин, которыми наградил его сыщик, будто бы за запирательство. У Красавчика сначала было желание выпутаться из истории, но потом желание это пропало. Митьку не выпустят с ним — об этом говорил и сам Митька, — а жить без него Красавчику казалось совсем скверно. Крыса его не пугала — жил он у ней и до знакомства с Митькой. Просто чувствовал, что тоскливо будет ему без Митьки, к которому он привязался, точно к родному. И Красавчик решил разделить Митькину участь. Как бы тяжела она ни была, — все же легче чувствовать возле себя друга. Кроме того, и Митьке, глядишь, не так скучно будет. И Красавчик решился.
На суде он неожиданно для товарища заявил:
— Мы вместе работали. Я всегда помогал ему.
И солгал так просто, так беззастенчиво, что даже судья удивился тону, каким Красавчик сделал свое заявление.
— Вместе работали? — переспросил он. — Как это работали?
Под проницательным взглядом судьи Красавчик смешался.
— Воровали… — краснея, чуть слышно выдавил он.
Митька так и впился взглядом в товарища.
Тот улыбнулся в ответ и Шманала понял, в чем дело. Он нахмурился, а в сердце между тем шевельнулась признательность, зажглась теплая искорка.
Их осудили. Оба попали в тюрьму для малолетних. Митька второй раз уже вступил в ее стены и держался, как человек бывалый. Он даже гордился слегка знанием тюремных порядков и не без важности посвятил в них приятеля.
— Недолго тут мы побудем, — заявил он Красавчику в первый же день пребывания в тюрьме.
— Выпустят? — осведомился тот.
Митька засмеялся.
— Выдумал тоже! Прямо винта нарежем.[5]
В первое время жизнь в тюрьме показалась Красавчику не хуже жизни у Крысы. Он находил даже, что работать в столярной мастерской[6] гораздо лучше, чем торчать на улице и собирать милостыню. Однако не прошло и месяца, как стало грустно и тяжело. Подневольная работа, грубые окрики надзирателей, наказания делали жизнь в тюрьме день ото дня все тяжелее. И Красавчик загрустил, стал вянуть, словно срезанный цветок. Ложась на чистую хотя и грубую постель, мальчик вздыхал, вспоминая грязные нары, на которых приходилось спать у Крысы. Там он вставал, уходил из дома и, свободный, бродил по шумным улицам. Здесь с утра ждала его большая белая комната мастерской, где не смолкали молотки, визг пил и шуршание рубанков… Работа под надзором, колотушки мастеров и надзирателей, бранные окрики и толчки. И так каждый день. Томилась душа, и сладкой музыкой звучали ей слова Митьки, шепотом передававшего планы на будущее.
— Мы уйдем отсюда, Мишка, уйдем совсем из города — в лес, к чухнам. В прошлое лето я там два месяца жил — хорошо было. Не унывай и будь посмирнее, чтобы пауки[7] не догадались, что мы винтить собираемся… А мы им бороду-то устроим.[8] Увидишь вот…
И Красавчик представлял себе этот лес… Золото солнца на деревьях, мягкий зеленый мох… Ясное голубое небо в вышине, в котором тонут шумливые верхушки стройных сосен, веселый птичий гомон… И забывалась работа в такие минуты, глаза устремлялись мечтательно в более матовое стекло, казавшееся бельмом на фоне стены… Шум мастерской превращался вдруг в мягкий ласкающий гул леса… Красавчик забывал про работу и стоял, как зачарованный до тех пор, пока внушительная затрещина не возвращала его из мира грез к действительности. Сдерживая тяжелый вздох, принимался мальчик за постылую работу… Горечь поднималась в душе и слезы обиды застилали взор.
Подошла весна. Лишь только сошел снег, юных арестантов начали выгонять на работу в огородах, громадной площадью подступавших к самому зданию тюрьмы. Нужно было взрывать почву и сбивать в длинные гряды взрыхленную землю. Эта работа нравилась Красавчику. Хотя и здесь были ненавистные надзиратели, окриками и пинками подбодрявшие юных рабочих, но зато весь день можно было дышать свежим весенним воздухом, ощущать на себе теплую ласку солнца. Над головой в голубом небе бежали белые облака, принимавшие самые причудливые формы, звенела радостная песнь жаворонка. Всюду проглядывала юная травка, ярко-зеленая, веселая, и лес, видневшийся вдали над высоким забором, зеленел день ото дня. Красавчик примечал, как унылую черноту его покрыл сперва легкий зеленый налет, нежный, как пух. И с каждым днем налет этот становился ярче и красочнее, пока не превратился в густой зеленый убор, совершенно закрывший печальную наготу деревьев. Зажелтели цветы одуванчика. Их Красавчик собирал тайком и уносил в камеру, где клал под подушку и любовался ими по ночам при тусклом свете лампы, горевшей всю ночь.
За работой на огородах время шло как-то незаметно. Пролетел апрель и наступил май. Красавчик даже тосковал меньше. Наработавшись вволю за день, надышавшись свежим воздухом, он засыпал почти мгновенно, чуть добравшись до кровати. Не было времени предаваться печальным думам.
С Митькой Красавчик редко видался за это время. Работал Шманала в другой партии, и только по вечерам, когда сходились по камерам, после переклички, удавалось друзьям перекинуться парою фраз. Красавчику казалось иногда даже, что Митька нарочно уклоняется от разговоров с ним. Он как-то сторонился Красавчика, и если бы не особенная нежность, звучавшая в тех двух-трех словах, которыми он изредка дарил друга, можно было бы подумать, что Митька совершенно охладел к нему.
На самом деле Митька по-прежнему питал к приятелю нежные чувства. Показная же холодность была только военной хитростью с его стороны. С наступлением весны обычно тюремные надзиратели усиливали бдительность по отношению к юным арестантам. С весной начинались побеги из тюрьмы, и начальство тюремное зорко следило за тем, чтобы заключенные не шушукались по уголкам.
Митька твердо решил убежать вместе с Красавчиком и ему не хотелось навлекать на себя подозрений. Он хорошо знал, что «духов»[9] можно провести лишь полнейшим хладнокровием и примерным поведением, и старался вовсю. За ним, как за бывшим беглым, особенно следили. Он знал это и делал вид, что тюрьма его нисколько не угнетает, что у него нет никаких поползновений вернуть себе свободу.
Для Красавчика поведение Митьки было загадкой. Он разрешил ее только тогда, когда Шманала шепнул ему однажды:
— Сегодня ночью увинтим. Клещ дежурит…
Сердце Красавчика радостно вздрогнуло. Ему хотелось расспросить друга о подробностях плана побега. Но Митька добавил только:
— Как уснут все, оденься потихоньку и ляг под одеяло… После этого он отошел в сторону, делая вид, что не замечает товарища.
Спать ложились в 9 часов. Красавчик улегся в постель, снедаемый любопытством и тайным страхом.
Клещ запер камеру и, когда все успокоилось, улегся, позевывая, на «надзирательскую» кровать. Не прошло и четверти часа, как храп его врезался мощным аккордом в дыхание спящих арестантов. Дети, утомленные работой на воздухе, заснули, едва улеглись в кровати.
Красавчик, весь дрожа от волнения, поднялся, Чутко прислушался и принялся одеваться. Он на минуту задумался, надевать ли сапоги. Решил однако, что они могут служить помехой — и не надел. С сильно бьющимся сердцем юркнул он снова под одеяло и стал ждать, чутко вслушиваясь в тишину, нарушаемую храпом и дыханием спящих.
Ему послышалось вдруг, что скрипнула половица в дальнем углу комнаты, возле дверей… А вот, словно бы тихо звякнул ключ… Красавчик замер в тревоге, вдруг охватившей его… Кровь прилила к голове и стало жарко, точно в бане. Потом волна холода прошла по телу, капли пота осели на лбу, и руки стали влажными.
Он слушал, затаив дыхание, но не было больше посторонних звуков… Прошло минут пять.
И вдруг над самым ухом пронеслось точно дуновение ветерка:
— Вставай… Готово… Только тише, Красавчик.
Красавчик ждал этого и все-таки вздрогнул всем телом. Как-то машинально поднялся он с постели и на четвереньках пополз вслед за другом, укрываясь в тени шеренги кроватей. Сердце стучало так громко, что мальчику казалось, будто оно может разбудить всех в камере. Он весь дрожал от страшного волнения.
Доползли до дверей. Без шума и скрипа отворил их Митька. Они были только притворены, так как Митька заранее отомкнул их ключом, украденным у спящего Клеща.
В длинном коридоре было пусто и темно. В конце его мутнело прямоугольное пятно окна, точно призрак, стоящий на страже. Беглецы бесшумно двинулись к нему.
Окно выходило прямо на огороды. Снаружи его охватывала решетка из продольных железных прутьев но это не смущало Митьку.
Тихонько распахнув окно, он нащупал один из прутьев и свободно вынул его из гнезда.
— В прошлый раз я отсюда утек, — шепнул Митька. — Прут этот мне товарищ показал… Васька-Косой, с которым мы винтили тогда. Вылезай!
Красавчик не заставил себя ждать. Минуту спустя, он лежал в мягкой рыхлой земле, поджидая товарища. Митька спрыгнул только тогда, когда притворил плотно окно и вставил на место железный прут.
— Нечего «духам» показывать лазейку — заделают. А она, может, и еще пригодится, коли не нам, так другим, пояснил он Красавчику, пробираясь по огородам в сторону перелеска, темневшего вдали.
Слишком коротка белая майская ночь, и друзья еле успели добраться до ближайшего леса, как совсем разоднело. Забившись в непролазную чащу кустов, они решили переждать день, чтобы ночью тронуться в путь.
Митька думал направиться вдоль Финляндской железной дорогой к Белоострову, в окрестностях которого он бродил прошлое лето.
— Хорошо там, — говорил он другу. — Рыбу руками хоть лови по ручьям и в озере. Дачников-господ там много — есть кому ягоду и грибы продавать… И местечки такие я там знаю, что ни один черт не сыщет. Увидишь, как хорошо. По дороге тоже есть у кого стрельнуть на табак да хлеб… Лучше этого не придумать…
Красавчик лежал, зажмурившись, на свежей зеленой траве. Говор приятеля сливался с лесными звуками и казалось ему, что не Митька, а лес, вся природа кругом нашептывает о новой, незнакомой, но красивой жизни.
Ему безразлично было, куда идти, лишь бы не видеть тюрьмы и старой горбатой Крысы. Была бы воля только, лес да Митька еще. И Красавчик чувствовал себя совершенно счастливым.
Первый день приятели провели в тревоге: боялись, что наткнется на них кто-либо и по платью узнает, что они за птицы. К утру же второго дня они почувствовали себя в безопасности: их укрыли заросли ольшаника — опушка громадного леса, тянущегося вглубь Финляндии.
II В укромном уголке
Проснувшись, Красавчик поднялся не сразу. Прямо в глаза глянуло бледно-голубое прозрачное небо и точно очаровало мальчика своей бездонной глубиной. Розовые клочки облаков медленно ползли в вышине и забрасывали в душу Красавчика что-то радостное, розовое, как и они сами. Думать ни о чем не хотелось… Вспомнилась было тюрьма, Крыса, бывшие товарищи, но только проскользнули в памяти и исчезли, точно темные призраки. Вздохнулось полной грудью, так легко и свободно.
Солнце давно уже взошло, но лучи его не проникли еще на площадку. Было сыро и сумрачно. Кое-где только золотилось кружево кустов и на фоне неба казалось резким и четким, точно вычеканенным из металла.
Гомозились птицы. Со всех сторон неслось чириканье и посвистывание, переплетавшееся в веселый радостный гомон. Красавчик прислушался к звукам утра и ему показалось, будто где-то далеко-далеко какой-то многоголосый хор поет тихую торжественную песню… В нее врываются голоса птиц, и песня от этого становится радостнее. Но минуту спустя, очарование пропало: торжественный гимн превратился в размеренное журчание струек воды. Красавчик снова вздохнул полной грудью и поднялся, почувствовав легкий озноб от утренней сырости.
Черные головни костра, затянутые серым слоем пепла, валялись возле. Тут же лежала и котомка, сооруженная Митькой из куска рогожи и веревки. Митьки же не было. Трава, не успевшая выпрямиться, обозначала место, где он лежал. Красавчик посмотрел по сторонам. С трех сторон обступали его кусты, сгрудясь ярко-зеленой пушистой стеной. С четвертой — за обрывом — поднимались стволы молодого сосняка, желтые, точно янтарь. Дальше хмурилась темная зелень старого леса, облеченная в пурпурную корону из солнечных лучей. — Как хорошо!
Красавчик даже подпрыгнул от радости, забыв о товарище. Звонкая переливчатая трель, сыпавшаяся с неба, привлекла его внимание. Красавчик поднял голову и различил черную точку, трепетавшую в голубой глубине. И долго следил он за жаворонком, пока тот не опустился кружащим полетом к земле…
Вспомнил о Митьке. Его все не было. Это слегка встревожило, но он тотчас успокоил себя:
— За хворостом верно ушел.
Но в кустах было тихо. Не слышалось треска ломающихся ветвей. Только вздрагивали кое-где тонкие веточки от прыжков неугомонных птиц. Очевидно Митька ушел не за хворостом. Но куда же?
В укромном уголке.
— Ми-итя! — решил окликнуть Красавчик.
С одной стороны кусты заглушили крик, но зато внизу, под обрывом, он отдался звонким гудящим эхом. И снизу же откликнулось:
— Здесь я!.. У ручья!..
Красавчик подошел к обрыву.
Трудно было проникнуть взором сквозь густую заросль кустов, лопуха и трав, покрывавшую почти отвесный склон оврага. Блестящая змейка бегучей воды извивалась среди зелени, то зарываясь в ней, то с шумом прыгая по камням.
— Где ты? — тщетно стараясь увидеть друга, спросил Красавчик.
— Здесь. Правее смотри.
Затрясся большой куст бузины, склоненный над водой. Вглядевшись, Красавчик увидал возле него Митьку. Тот улыбался, глядя вверх. И улыбка эта была радостная, веселая, какой Красавчику не случалось еще видеть у Митьки.
— Что ты там делаешь? — тоже улыбаясь, спросил Красавчик.
— Головлей ловлю. Катись ко мне!
— Я давно поднялся, — сказал Шманала, когда Красавчик спустился вниз, — до солнца еще. Смотри, сколько рыбы наловил.
В ямке, вырытой в песке, билось несколько черных скользких рыбешек. Красавчик присел возле них на корточки.
— Ишь ты! Раз… два… четыре… восемь штук! Здорово… А чем ты их ловишь?
— Руками. Посмотри вот.
Митька вошел в воду. Осторожно обойдя камень, он быстро сунул под него обе руки и через секунду вытащил из-под него головля.
Красавчик захлопал в ладоши.
— Ловко… Давай его сюда скорее, а то вырвется вше!
— Не вырвется… Лови!
Мелькнув в воздухе, рыба забилась в траве на берегу. Красавчик кинулся к ней. Восторг охватил его, когда в руке затрепетала скользкая, верткая рыба. Бережно отнес ее мальчик и положил в яму к другим рыбам.
Ему захотелось самому попытать счастья в охоте. Он вошел в воду и, подражая Митьке, стал обшаривать под водою камни. Но не везло как-то. Подчас и скользила под пальцами рыбья чешуя, однако Красавчику не удавалось схватить рыбу: она вывертывалась и уходила прямо сквозь пальцы.
— Хватит! — прервал Митька ловлю. — У меня уж 15 штук накопилось. А у тебя?
— Ничего.
Митька фыркнул.
— Рыболов тоже! Ну, да наловчишься потом… Сначала-то и у меня ничего не выходило… Пойдем-ка стряпать теперь.
Рыбу испекли в горячей золе. Завтрак получился вкусный. По крайней мере Красавчик находил, что ничего вкуснее ему не приходилось есть.
Впервые пришлось Красавчику есть завтрак, сооруженный собственными трудами, и это приводило его в восторг. Он восхищался ловкостью, с которой Митька развел костер и зажарил рыбу. Ничего подобного не приходилось еще видеть.
— Ловко ты делаешь все это, — не мог не похвалить он приятеля.
— Ну, еще бы! — отозвался тот. — Ведь прошлое лето я два месяца прожил в этих местах — научился.
Красавчик задумался на минуту.
— А не скучно тебе было?
Митька вскинул на него глаза.
— Чего скучно?
— А одному-то?
— Не-ет, — протянул Митька, возясь у костра. И добавил после молчания: — Вдвоем-то понятно веселее, хоть и одному скучать-то не приходилось. Тут дачи недалеко и станция… На станцию я шманать ходил…
— Ходил?
— Понятно, ходил.
Митька бросил мимолетный взгляд на товарища и нахмурился.
— Чего глаза-то выпучил? Деньги нужны же были…
Замолчали. Красавчик уставился взором в огонь и долго глядел на костер, не мигая. Митька занялся рыбой и по отрывистым резким движениям его было видно, что он недоволен чем-то. Наконец, Красавчик спросил робко:
— А теперь?.. не будешь шманать?
Митька прочел тревогу и грусть во взгляде товарища. Он сердито дернулся и буркнул сквозь зубы:
— Чего говорить об этом…
И разговор больше не клеился. Пропало веселое настроение, словно что-то тяжелое придавило его. Красавчик погрузился в грустное раздумье. Митька же злился почему-то: впервые разговор о воровстве поднял что-то тяжелое в его душе, и это было в высшей степени странно.
Когда поспел завтрак, настроение поднялось. Уплетая рыбу, друзья повеселели и к концу трапезы болтали с прежней веселостью: темное, что надвинулось внезапно, отошло, и снова на душе у друзей было радостно и легко.
Поели и развалились возле костра в живописных позах. Митька вынул махорку из кармана и занялся свертыванием «цигарок». Одну для друга, другую — себе.
— Теперь совсем на своей воле зажили, — заговорил он. — Только здесь-то мы не останемся, Миша. Здесь нам нечего околачиваться.
— Почему?
— Место плохое. Как тут жить на открытой полянке? Я знаю местечко получше. Недалеко отсюда… Есть тут озеро, а на берегу пещера. В ней я жил прошлое лето и теперь в ней заживем. Отдохнем вот только и пойдем туда. Там чудо и только. Дачи близко… Станция тоже…
При упоминании о станции Красавчик кинул на Митьку тревожный взгляд. Но взор Митьки был безмятежно спокоен, и тревога Красавчика погасла.
— И пойдем туда, — продолжал Митька. — Ты что думаешь?
Красавчик ни о чем не думал. Так хорошо было лежать на мягкой траве и ощущать теплую ласку солнца, что ни одна мысль не лезла в голову. Кроме того, ему было все равно, куда идти. Была бы только свобода и лес. Он кивнул головой.
— Мне что? Пойдем, хоть сейчас.
— Ну денек-то побудем тут еще. Отдохнем, как следует, и тогда пойдем.
Солнце начинало припекать. Жарко становилось на площадке, и друзья перешли под тень кустов.
— Легче тут немного, — заметил Митька, скидывая однако толстую серую арестантскую куртку. — Скинь и ты — право хорошо.
Красавчик последовал примеру друга. Приятная прохлада охватила тело. Оба с наслаждением разлеглись на траве, здесь, под кустами, еще влажной от росы.
Куртки, по-видимому, дали новое направление мыслям Митьки. Швырнув окурок «цигарки» в кусты, он, повернулся к приятелю.
— Нам надо бы одежу сменить, Красавчик. В этой штуке, он ткнул кулаком в куртку, — нас и распознать могут. Тут не смотри, что чухны живут, а полиция-то русская. Фараоны разнюхают мигом. Одежу непременно сменить надо, а то засыпемся.
Красавчик был настолько далек от каких бы то ни было мыслей, связанных с тюрьмой, что забыл даже о тюремной одежде, которую носил. Опасения Шманалы показались ему справедливыми.
— Правда, — согласился он, — а где другую одежу взять?
— Где? — Митька отвел взгляд в сторону.
В прошлое лето он попросту украл себе коломянковую куртку со двора какой-то дачи. По его мнению, это был самый простой и самый верный способ переодеться. Но он почему-то воздержался предложить этот способ Красавчику. Он знал, что Красавчик не согласится, и мысленно обозвал его «дураком» и «трусом». Как нарочно, Красавчик спросил в эту минуту:
— А в прошлое лето ты как же?
Лукавая улыбка скользнула по губам Митьки.
— В прошлое? Да просто стырил… Сушат дачники на заборах разные рубахи ну, я и взял себе одну.
Из скромности Митька умолчал о том, что «стырил» он не одну, а несколько рубах. Не рассказал так же и о том, что лишние рубахи были проданы владельцу постоялого двора возле станции.
Красавчик ничего не ответил. Только в глазах его скользнуло, опасение. Митька заметил это и раздражение шевельнулось в его душе.
— Тебе-то, понятно, «слабо» станет пойти на это… «Плакальщик» ведь ты… Может, выскулишь у дачников нам по рубахе?
Насмешка больно резанула Красавчика. Он поглядел с укоризной на Митьку.
— Зачем говоришь так? Я ведь… — дрогнули губы, и Красавчик не договорил.
Митьке стало жалко товарища.
— Пошутил я, Миша, — хмуро вымолвил он, — не сердись… А насчет стрельбы это я верно сказал, — продолжал он. — Коли не стырить, так выскулить по рубахе придется. Надо будет к дачникам пойти. Пострелять… Я уж надумал как…
Слова Митьки неприятно подействовали на Красавчика. Точно взял кто-то вдруг его радостную, ликующую душу и погрузил во что-то мрачное и холодное. Он точно сразу перенесся к Крысе, в прежнюю постылую обстановку. Красавчик даже кинул вокруг недоумевающий взор: не пропали ли яркая зелень, теплая ласка майского дня и веселый беспокойный птичий гомон? Стремясь на свободу, он мечтал о другой, неведомой, но счастливой жизни, в которой даже тенью не проскользнет печальное прошлое. Он думал зажить с Митькой совершенно по-новому и, вырвавшись из тюрьмы, ни разу не вспомнил о своем прежнем ремесле. Слова друга камнем легли на душу. Красавчик вздохнул и пригорюнился, как человек, которого безжалостно вырвали из области фантазии и кинули в скучную, серую действительность.
От Митьки не укрылась подавленность приятеля. У отчаянного питомца Крысы — Митьки-Шманалы — была чуткая душа. Он понял друга, хотя и странной показалась ему причина его печали.
— Эх, Красавчик, — почти с досадой вымолвил он, — да ведь один раз пойдем только! Потом уж не будем стрелять. Так разве, если на табак да на хлеб понадобится… А когда ягоды да грибы пойдут, то ни стрелять, ни шманать не нужно будет — собирать будем и продавать. Чего ты? Да и теперь-то, когда будем ходить, — я буду говорить, а ты только ходи со мной… Тебе-то и дела будет, что ходить со мной да молчать. Понятно, если спросят о чем, то ответишь — я научу тебя как. Понял?
— Понял. Да это все равно, ходить или говорить… Думал я, Митя, что не нужно этого будет… Вот я почему… А уж раз нужно, то пойдем…
— Ну вот и молодец! — оживился Митька. — Ты хороший парень! Не пойти ли нам сегодня за рубахами-то?
Красавчику было безразлично, когда идти. Мечты его все равно потерпели крушение. Его утешало только, что в недалеком будущем все-таки не нужно будет собирать милостыню.
— Мне все равно, — вздохнув проговорил он.
— Ну и ладно. А не искупаться ли нам? — предложил Митька, чтобы развлечь приятеля. — Айда, брат, к ручью.
— Пойдем, — оживился Красавчик.
Вода в ручье оказалась холодная: долго купаться не было возможности. Друзья скоро снова забрались нагишом на площадку. Обоих била дрожь от студеной воды и приятно было подставить горячему солнцу иззябшее тело.
— Брр… — вымолвил Митька. — И холодная же вода! Не иначе, как ключевая.
Он шлепнул по плечу Красавчика:
— Сойдемся, что ли?
Красавчик, смеясь, согласился. Оба сцепились в клубок и с хохотом покатились по поляне. На белом теле Красавчика смугло выделялись упругие члены Митьки, шутя перебрасывавшего и катавшего по траве приятеля. Громкий смех наполнил полянку, спугнув птиц с кустов.
— Что это у тебя? — прекратил Митька борьбу и, отдышиваясь, уставился пальцем в левое плечо Красавчика. — Что это?
— Где? — еле вымолвил тот сквозь одышку.
— Да на плече.
— Ах, тут! Родимое пятно…
— Впервые вижу такое родимое пятно. Посмотри-ка, ну ровно бабочка коричневая… Вот крылышки, хвостик, головка… Усы даже… Ей-ей, как вырисовано… Совсем бабочка…
— А раньше ты не видал его у меня? — усмехнулся Красавчик. — Ведь сколько времени вместе жили.
— Не пришлось. Эх, да! — вспомнив воскликнул Митька. — Колька-Палач говорил мне про бабочку у тебя на плече. Ты с ним на Бабьей речке купался, так видел он, правда! И бывают же такие штуки… Только неспроста это…
— Почему неспроста?
— Да так, — уклончиво заметил Митька, — только уж запомни, что неспроста, уверенно добавил он, одевая белье.
Одеваясь, Красавчик задумался. Почему-то вспомнилась вдруг Крыса, Колька-Палач и другие ее питомцы. Почему-то уверенность Митьки, что «неспроста» у него родимое пятно приняло форму бабочки, выдвинуло в памяти горбунью и старых сотоварищей. До этого он не говорил с Митькой о Крысе, а теперь почему-то захотелось потолковать о ней. Когда оделись и улеглись на солнцепеке, он спросил:
— Ты знал Крысу до того, как стал жить у нее?
Тема разговора даже Митьке показалась странной. Он с недоумением взглянул на Красавчика.
— Знал. Чего это ты о ней вспомнил?
Красавчик пожал плечами.
— Не знаю. Может не к добру это…
— Понятно, не к добру. Разве чертовки вспоминаются к добру? — наставительно заметил Митька.
Красавчик мысленно согласился с ним. Однако старуха продолжала занимать мысли и он не мог удержаться от дальнейших расспросов.
— Когда же ты узнал ее?
Митька фыркнул.
— Я то, братец, знаю ее года четыре, а слыхал про нее много от людей, знавших ее и по 20 лет. А ты мало что ли знаешь ее? Племянник ведь… И мало ли она колотила тебя? Забыл, что ли?
В воспоминаниях этих было мало приятного. Красавчик съежился…
— Спасибо тебе, — тихо вымолвил он. — Ты вступился.
— Чего там, — махнул Митька рукой, и что-то хмурое, угрюмое, почти волчье скользнуло в его взоре. — Сволочь она, вот что!
Он отвернулся, как бы отказываясь от дальнейших разговоров, но, минуту спустя, снова повернул лицо к товарищу. Оно было хмуро и в глазах горели искры ненависти.
— Ведьма она! — каким-то глухим голосом заговорил он. — Ей бы давно в каторгу надо… Знаешь ты, что она делала раньше когда ты-то и на свет не родился?
Красавчик потряс головой, превращаясь в слух: по тону Митьки он понял, что узнает нечто необычайное.
— Детей она крала и уродовала… Ноги, руки ломала им, каленым железом глаза выжигала… И много еще чего делала… Убить ее мало!.. Делала она эти штуки, когда еще с мужем жила… Знаешь Егорку-Курчавого, которого застрюмили[10] в прошлый год на мухе?[11]
Красавчик утвердительно кивнул головой.
— Ну, вот… Курчавый знает Крысу лет 20. Еще она тогда в Одессе жила. Рассказывал про нее Егорка разное… В чайной у Доброхотова сидели мы, года два тому. Он и мужа ейного знал. В Одессе они вместе детей коверкали, уродов из них делали…
— Зачем? — чуть ли не холодея от ужаса, спросил Красавчик.
— Тоже спросил! — криво усмехнулся Митька. — Думаешь, все такими херувимами, как ты, стрелять ходят? Нет, брат, нищенкам нужны ребята пострашнее, чтобы господ жалобить… Вот Крыса и делала таких, что страх смотреть на них было, и продавала их разным нищим. Потом вышло у нее в Одессе такое дело, что никак больше жить там нельзя было. Она с мужам — в Питер. В Питере она тоже взялась бы за прежнее дело, да мужа тут пришили… Ваську Карзубого знаешь? Ну вот он его и пришил. Ночью в «Виндаве» Крысин муж в карты сжулил, а Карзубка его пером… Пришил… Без мужа-то Крысе нечего стало делать. Говорят, он мастером был ребят уродовать, а она только таскала их. Вдовая Крыса начала плакальщиков держать да «купленным»[12] промышлять… Лет десять поди этим живет… Вот она какая, Крыса-то… Че-ертовка!
Митька с остервенением вытянул последнее слово и плюнул.
— Бросим говорить о ней… Сволочь она и только. Пойдем-ка, брат, лучше к дачникам рубахи стрелять…
Но Красавчик не мог успокоиться; то, что узнал он про Крысу, делало горбунью чудовищем каким-то. Он содрогнулся, подумав что было бы с ним, если бы он не приходился ей родственником. Дрожь прошла по спине, когда мальчик представил себе муки, которые терпели несчастные дети. Кровь стыла при мысли, что ему могли каленым железом выжечь глаза или переломить руки и ноги…
— А как же делали они? — спросил Красавчик и в глазах его, устремленных на друга, светился ужас.
— Что делали? — не понял Митька.
— Да детей калечили.
— А кто их знает. Не видал я. По-разному, верно…
— По-разному… — шепотом повторил Красавчик. — И много они покалечили?
— Пожалуй не мало… Да брось ты их, Миша! Говорить противно. Пойдем-ка лучше дело делать.
III Митька-«плакальщик»
Красавчик поднялся с травы вслед за Митькой и потянулся к куртке, но Митька остановил ого.
— Куртку-то оставь!
Красавчик с удивлением посмотрел на него.
— Не поймешь, что ли? — продолжал Митька. — Ведь к дачникам мы пойдем, а там и на фараона налететь можно… В куртках идти не годится.
Красавчик недоумевал.
— Да как же идти тогда?
— А так. В сорочках прямо. Это даже лучше ведь погорельцы мы будем.
— Погорельцы?
Красавчик так и застыл на корточках, протянув руку к курткам, валявшимся под кустами. Лицо его выражало страшное недоумение и стало до того потешным, что Митька звонко расхохотался.
— Ну, да, погорельцы, — сквозь смех пояснил он: — ну значит, после пожара. Папенька с маменькой сгорели, в огне, сестра-малолеток тоже, а мы еле выскочили прямо в рубахах… Штаны люди добрые дали, а то бы и вовсе нагишом пришлось по дачам ходить…
Красавчик не мог понять, шутит Митька или говорит серьезно. Шманала то и дело прерывал свою речь смехом, так что под конец Красавчик тоже начал улыбаться.
— Ты не смейся, — заметил Митька, — я ведь всурьез говорю, — и продолжал уже вполне серьезно: — Комедь мы такую сломаем: братья мы с тобой, жили с родителями в деревне Сороки, под Питером. Две недели тому погорели. Три дома сгорело в деревне, ну и наш тоже. Ночью мы из огня выскочили, в чем были, понимаешь?
Красавчик начинал понимать. Он подивился в душе изобретательности приятеля.
— Тятька с год тому помер, — плаксивым тоном заправского нищенки продолжал Митька, — помогите, милостивцы сиротиночкам бедным. Мамка сгорела… Бездомные мы, бесприютные… Одежонки нет ли какой, благодетели?
Митька нараспев вытянул это жалобным голосом в то время, как глаза его лукаво усмехались Красавчику.
— Ну что? здорово? — торжествующе спросил он.
Красавчику Митька напомнил нищенствующую армию Крысы. Юные рабы горбуньи точно таким образом выклянчивали подачку, выдумывая разные небылицы, чтобы разжалобить сердобольного прохожего. Сам Красавчик не прибегал к подобным приемам и поразился, откуда они у Митьки. Ведь Митька презирал «плакальщиков» и всегда промышлял лишь благородным ремеслом «фартового».[13] Он не мог скрыть от приятеля своего удивления.
— Где ты наловчился этому? — Митька самодовольно улыбнулся.
— Я все смогу. Да и не трудно быть «плакальщиком» — это каждый может. Вот пошманать попробуй! — Митька многозначительно кивнул головой, как бы желая выразить этим движением всю трудность своего ремесла. В нем заговорила своеобразная профессиональная гордость.
— Да, пошманай-ка! — не без важности добавил он. — На первом пистончике[14] заметут…[15]
Митька махнул рукой с солидным видом многоопытного, знающего человека и продолжал с легким презрением в тоне:
— А скулить — это плевое дело. Скулить всякий может…
— А я вот не могу, — тихо и как бы виновато, проговорил Красавчик.
— Ну, это ты!
Красавчик покраснел слегка: в голосе Митьки звучало странное безнадежное осуждение. Митька хотя и любил Красавчика, но в глубине души таил горькую мысль, что из него ничего «путного» не выйдет.
— Ну, заговорились мы! — спохватился Митька, поднимая глаза к солнцу. — Уж второй час, поди. Снарядимся-ка в путь!
Он выпустил поверх брюк сорочку и опоясался тонким ремешком от штанов.
— Вот так. Валяй-ка и ты.
Грубые холстинные сорочки могли сыграть роль блуз. Красавчик заметил это, и в нем замаячила надежда уговорить Митьку вообще ограничиться таким костюмом: несмотря на наружное равнодушие, ему совсем не улыбалась мысль ходить по дачам, собирая милостыню. Но Митьку трудно было уговорить.
— Сказал тоже! — возразил он. — А это куда денешь?
Он обернулся спиной к приятелю и ткнул себя кулаком между лопаток.
На сорочке стояли какие-то черные знаки. Красавчик не умел читать и потому не понял их значения.
— Что это?
— Буквы: пе, те, эм, — пояснил Митька (когда он впервые попал в тюрьму, его там обучили грамоте). — Это значит: петербургская тюрьма малолетних. Понял?
Красавчик кивнул головой.
— Долго находишь в таком костюме-то? — продолжал Митька. — Теперь мы пока клеймо землей затрем — ну, на раз сойдет… А потом новые рубахи нужны.
Красавчик молчал, соглашаясь с Митькой. Раз на сорочках имелись клейма, они не могли быть безопасными.
Следуя указаниям друга, он взял горсть земли и принялся натирать ею спину Митьке, пока грязное пятно не закрыло предательских букв.
— Пониже тоже потри, — наставлял Митька, — на лопатке тоже можно — пусть рубаха выглядит грязной, а то одно пятно на спине тоже не ладно.
Потом он собственноручно занялся Красавчиком. Минуту спустя, сорочки мальчиков покрылись слоем грязи, точно друзья целую неделю провалялись в болоте.
— Вот так хорошо! — не без удовольствия заметил Митька, обозревая свою работу. — Ни один леший не додумается теперь, что у нас на спинах было. Ну, возьми котомку и айда!
— А куртки? — вспомнил Красавчик.
— Мы их в кусты запрячем. Тут никто не найдет.
В испачканных рубахах, босиком и без шапок друзья представляли собой довольно печальную картину. Митька понимал это и смеялся, запрятывая куртки в кусты.
— Таким, как мы, обязательно подадут. Барыни — они жалостливые, пожалеют сирот.
А Красавчику не по себе было от этого смеха. Тяжелое давило душу. Им овладела та же тоска, что томила постоянно у Крысы.
Он побрел за Митькой с тем же грустно-покорным видом, с каким каждое утро выходил из логова горбуньи за сбором милостыни. Для него померк как-то сразу ясный день, птицы словно запели тоскливее. А ручей… Красавчику чудилось в его беспокойном ропоте что-то угрюмое и даже зловещее.
Митька, наоборот, вел себя так, словно собрался на веселую потеху. Он шутил, смеялся над своим плачевным видом и сиротством. Вообще он точно переродился. Хмурый, замкнутый у Крысы и в тюрьме, он в лесу вдруг переполнился жизнерадостностью; она так и брызгала из него. Это и радовало и удивляло Красавчика: он был рад перемене в друге, в то же время удивлялся, как можно быть веселым, когда идешь на такое постылое дело, как нищенство. Веселость Митьки поражала еще тем, что он, презиравший «плакальщиков», словно радуется тому, что превратился вдруг в «плакальщика». Этого Красавчик никак не мог понять.
Какая-то узкая быстрая речонка преградила путь. Голубой ленточкой извивалась она в высоких холмистых берегах, то разливаясь тихим прозрачным озерцом, то широкими складками гоня струи воды… В них золотом дрожали солнечные лучи и уродливо расплывались отражения сосен, глядевшихся в воду с уступов берегов.
Нужно было перебраться вброд. Митька уверенно сошел в воду, засучив штаны.
— Мелко тут, — не оборачиваясь, сказал он. — Иди за мной, только не поскользнись скользкие камни тут.
Течение било в босые ноги. Они скользили на камнях, и на каждом шагу можно было упасть. Митьку даже это забавляло. Он балансировал, сопротивляясь течению, и, хохотал.
— Ха-ха! Хорошо бы в одежде искупаться! Тогда бы мокрые мы еще больше настреляли… Верно, Мишка?
Красавчик не выдержал. Веселое настроение приятеля его начинало злить. Последняя шутка вывела из себя.
— И чего ты радуешься-то? — со злобой крикнул он.
Митька в это время выбирался на противоположный берег. Возглас приятеля заставил его обернуться. С лица его не успела сбежать еще веселая улыбка, и в глазах светились лукавые огоньки. Красавчик насупился.
— И чего радуешься-то? — повторил он. — Рад, что в плакальщики записался?
Погасла улыбка на лице Митьки. Что-то хмурое набежало. Он пытливо поглядел на Красавчика, точно желая проникнуть в глубину его души. Вспыхнуло в нем странное чувство; оно обычно появлялось, когда задевали в нем гордость карманщика, и тогда Митька был способен на ножовую расправу.
— А ты-то чего поешь? — начал он медленно и как-то зловеще.
Но вид унылой фигуры приятеля, бредшего по воде, казавшейся несчастной, обездоленной какой-то, подавил злое, готовое вырваться наружу. Сострадание родилось в душе, проснулась хмурая ласка. Митька улыбнулся и протянул руку приятелю.
— Давай пособлю…
А когда Мишка очутился на берегу, он добавил, не выпуская руки друга и глядя куда-то вглубь леса.
— Из-за тебя я плакальщиком стал. Без тебя разве пошел бы я стрелять?
И в голосе Шманалы чувствовался ласковый укор; так укорять может только любящий отец или старший брат. Красавчик почувствовал себя виноватым. Ему вдруг жалко стало, что он обидел приятеля.
— Верно, из-за меня, — тихо сознался он. — Не сердись на меня: мне тяжело так…
Митька слегка пожал руку Красавчика и промолвил сочувственно:
— Знаю, у Крысы тебе тоже тяжело было — видал я. Только все, брат, это ерунда. Не унывай. Ведь раз какой-нибудь и пойдем-то… Вот те крест, что больше не пойдем. А смеюсь я потому, что смешно будет околпачивать сердобольных барынь. Сам увидишь, что весело будет… Погорельцы, бедные братья, увинтившие из тюрьмы. Не смешно ли?
Митька снова расхохотался. Смех его подействовал даже на Красавчика: он слегка улыбнулся.
— Ну вот, так-то лучше! — поймал улыбку Митька. — И чего право печалиться, когда хорошо так тут!
И верно, хорошо было. Стройные стволы сосен высились кругом, тихо покачивая мохнатыми верхушками. Солнце светило сквозь них, золотым кружевом переливаясь по мягкому слою сухих хвой, устилавших землю. Справа речка сверкала, извиваясь в зеленых берегах, и шептали о чем-то непонятном ее торопливые воды. Лесной жаворонок задорно сыпал сверху коротенькую трель, словно приглашая веселиться вместе с ним. И только одинокая кукушка где-то далеко-далеко повторяла свой вечный тоскливый вопрос.
Красавчик невольно поднял взор кверху. Раскидистые ветки сосен, казалось, плавали в голубом небе, уходя в его бездонную глубину. Вот с одной из них вспорхнула темная точка, нырнула ввысь, в золотистое солнечное море, и звонкая трель коротенькой песни посыпалась оттуда. Птичка описала круг и снова опустилась на ветку, а где-то в другой стороне ей ответила такая же звонкая веселая песнь.
— Верно, хорошо! — вслух подумал Красавчик и тихий восторг наполнил его… Светлая радость затеплила огоньки в глазах и даже пробилась легким румянцем сквозь щеки. Он засмеялся без всякой причины: стало вдруг радостно и легко.
— Давно бы так! — одобрил Митька. — Хныкать нечего тут. Все хорошо и весело. Споем-ка!
И, не дожидаясь ответа, он затянул звонким альтом:
В Петербурге я родился, Воспитался у родных, Воровать я научился С самых малых лет своих…Это была ухарская песня воров, которая больше всего нравилась Митьке. Ее бесшабашный мотив, в котором проскальзывала порой грусть, был как-то не у места среди торжественной лесной обстановки. Красавчик сразу почувствовал это и ему показалось, что эхо, как-то недоумевая, разносит звонкий голос друга:
Имел английские отмычки, Имел я финское перо, Я не боялся ни с кем стычки, И мне зарезать все равно…Митька оборвал вдруг песню, словно смутившись чего-то. Последняя нота замерла где-то вдали тоскливым откликом, слившись с далеким криком кукушки. Тоскою повеяло.
— Не выходит что-то песня, — как бы удивился Митька. — С чего бы это? Ведь всегда хорошо выходило…
Он покачал головой и на минуту погрузился в раздумье. Потом поглядел на Красавчика и улыбнулся.
— Не такие тут песни петь надо, — заметил он.
Красавчик молчаливо согласился.
— Другую запоем! — не унывал Митька.
Но в памяти вертелись лишь разухабистые воровские мотивы, которые — Митька почувствовал это — не вязались с обстановкой, не «выходят» здесь. Тщетно поискав в памяти подходящую песню, Митька плюнул сердито:
— Черт с ними, с песнями! Попоем потом, а теперь скоро и дойдем уж — делом нужно заняться.
Выбрались на дорогу. Она извивалась между деревьев желтой песчаной полосой, то пропадая на поворотах, то снова появляясь лентой. Глубокие колеи, бороздившие ее, доказывали, что по ней часто ездят. Да и теперь слышался скрип колес где-то позади мальчуганов.
— Эта самая дорога и есть, — сообщил Митька. — Там вот у озера и будут дачи.
Он стал совершенно серьезен. Деловитость отразилась на лице. Брови нахмурились слегка, и Митька стал похож на прежнего Шманалу, собравшегося на «работу».
— Ты ничего не говори — лучше будет, наставлял он. — Слушай, что я буду говорить, и наматывай на ус. Уж это я буду пушку лить,[16] а ты молчи. Помни только, что погорельцы мы. Не забудешь?
— Ладно, — согласился Красавчик.
Теперь его начало уже интересовать, как-то Митька справится со своей ролью.
За одним из поворотов дороги лес расступался, дугой обходя обширную поляну. Дорога зазмеилась среди зеленых холмов и стала заметно опускаться. Куча яркой зелени лиственных дерев виднелась впереди. Среди нее мелькали красные железные и черепичные крыши и сверкала какая-то серебряная полоска.
— Вот они — дачи-то, — указал Митька. — А там вон озеро. Вишь сверкает…
Лошадиный топот, раздавшийся совсем близко, заставил Митьку замолкнуть. Он обернулся.
Из леса вынырнул небольшой, изящный шарабан-двуколка. Гимназист лет 12-ти правил жирной маленькой шведкой, Рядом с ним сидела дама, вся в черном, и длинная полоса крепа развевалась на ее шляпе.
— Ну, Мишка, держи ухо востро, — шепнул Митька. — Сейчас попробуем. Барыня-то вдова видно — лучшего случая и не найти.
Шарабан поравнялся с мальчиками, и Митька вдруг стал неузнаваем. На лице его изобразилось мигом что-то жалкое, слезливое. Он странно как-то всхлипнул и побежал за экипажем.
— Барыня-благодетельница, — услыхал Красавчик плаксивое причитание, — подай милостыньку Христа ради сиротинкам-погорельцам. Отец помер, а мать на пожаре сгорела. Ба-а-рыня, миленькая… Заставь Богу молить… Изба сгорела, мамка…
Красавчик забыл о своей роли. Вытаращив глаза от удивления, он следил за приятелем. Митька, жалкий, приниженный какой-то, бежал возле двуколки, тягучим молящим голосом выпрашивая подачку. Это было так непохоже на Шманалу, что Красавчик не мог придти в себя от изумления. Незаметный жест Митьки заставил его опомниться: Митька движением руки звал его к себе. Красавчик почувствовал, что кровь хлынула ему в лицо, но все-таки побежал за другом.
С минуту дама и гимназист с любопытством глядели на странную пару. Митька не переставал клянчить, а Красавчик молча бежал рядом с ним, не смея почему-то глаз оторвать от земли. Никогда еще он не собирал милостыни таким необыкновенным способом и весь горел от стыда.
Во взоре дамы отразилось сострадание. Движением руки она велела гимназисту остановить лошадь, и Красавчик ясно услышал фразу, сказанную вполголоса:
— Несчастные дети.
Красавчик еще больше смутился, а Митька воспользовался случаем, чтобы повторить длинный ряд причитаний. В голосе его дрожали слезы, когда он закончил:
— Ни рубашечки, ничего нет у нас, милостивица… Все погорело… Не найдется ли барыня, у тебя одежонки какой… Холодно так-то ночью в лесу… Голодно и холодно, — вспомнил он любимую фразу Крысиных плакальщиков.
Дама раскрыла ридикюль и принялась рыться в нем. Острым хищным взглядом скользнул Митька по ридикюлю, но мгновенно же физиономия его приняла страдальческий облик.
Дама протянула монету. Митька взял ее, униженно кланяясь и крестясь:
— Дай Бог тебе доброго здоровья, благодетельница-барыня. Бог не забудет тебя… Живи на радость деткам… Дай тебе Бог…
Ласковая улыбка осветила лицо дамы. Она еще раз окинула взглядом фигуры юных бродяг:
— Откуда вы, детки?
Голос был мягкий, ласковый и печальный. Красавчику никогда не приходилось слышать такого обращения. Голос дамы проник ему в душу и тронул в ней тоскливое что то, какие-то погибшие мечты… Он поднял глаза и встретился на минуту со взглядом дамы. Печален был взгляд ее и ласков в то же время.
— Откуда вы, детки?
— Из деревни Сороки, барыня, — беззастенчиво солгал Митька. — Под Петербургом это… Погорели мы… Пол деревни сгорело… Ма-амка… то-оже…
Он даже всхлипнул, словно воспоминание о сгоревшей «мамке» терзало его сердце. Красавчику не по себе стало: ему казалось преступным лгать такой доброй ласковой барыне.
Дама вздохнула. Кинула любящий взгляд на гимназиста, потом снова обернулась к нищенкам.
— Придите ко мне вечером, я вам приготовлю кое-что из платья. Вот адрес мой. Читать умеете?
— Умеем, умеем! — торопливо воскликнул Митька.
— Я живу вон в этих дачах, продолжала она, указывая белым квадратиком картона на дачи впереди. Приходите вечером, часов в девять. Ну, а пока прощайте, милые.
Гимназист тронул вожжи, и лошадка бойко побежала по дороге. Митька послал вслед двуколке несколько благодарностей и обернулся к приятелю. Он весь сиял торжеством.
— Что, ловко брат? Ломыгу[17] дала да еще одежу обещала… Что, брат?
Он подпрыгнул даже от избытка чувств и весело рассмеялся.
— Барынь-то этих всегда провести можно. Какую угодно пушку заряди — все сойдет… Не умею я стрелять по-твоему, а? Чего ты опять кислишься?
Красавчик не разделял восторга приятеля. Правда, он был доволен успехом, но в то же время его мучило что-то. Угрызения совести кололи душу. Стыдно было того, что Митька прибег к такому обману, чтобы получить подачку. Ему захотелось сказать об этом другу, но он не умел определить своих чувств и сказал только почти шепотом:
— Нехорошо это, Митя! — Митька даже рот раскрыл.
— Что нехорошо?
— А все это… Вот барыня… Ты соврал…
Он путался, сбивался и робко как-то глядел на Митьку, словно боясь, что тот не поймет его.
С минуту Митька недоумевал. Потом сердитый огонек вспыхнул в его глазах.
— Это нехорошо, что я одежу достал и ломыгу?
Он вызывающе глядел на Мишку, и недоброе что-то слышалось в его голосе, угроза какая-то. Красавчик совсем оробел.
— Да не то я, Митя… Не понимаешь ты, испуганно возразил он. — Не то я хотел сказать…
Митька продолжал смотреть молча. Потом презрение отразилось в его глазах. Он плюнул.
— А ну те к черту… Баба несчастная.
И сердито дернувшись, пошел дальше, весь горя негодованием и презрением. В мыслях он продолжал ругать приятеля и приходил к грустному заключению, что с таким «хнычем» им не зажить так, как хотелось ему.
Красавчик виновато брел позади. Тоскливо, неприятно было у него на душе. Он шел понурившись, пришибленный и убитый. Ему было неприятно, что Митька рассердился, не понял его, и в то же время чувствовал вину перед другом. Ведь чуть ли не ради него Митька разыграл комедию с дамой. Ведь не будь его, Шманала иным путем добыл бы себе нужную одежду, не унижаясь до выклянчивания и наглого обмана. И с его, Красавчика, стороны пожалуй нехорошо было упрекать приятеля…
Эти мысли растравляли мальчика. К горлу у него начинало подкатываться что-то горькое, и туман застилал глаза. Было так горько, так скверно на душе, что хотелось плакать.
Митька обернулся и приостановился немного.
— Чего ты застрял там? — крикнул он.
И в голосе его звучало еще раздражение, хотя и затихающее, правда. Он подождал товарища и пошел рядом с ним, хмурый угрюмый. Он не глядел на Красавчика, продолжая еще сердиться, хотя в душе почему-то жалел приятеля: уж больно убитым и огорченным казался он.
«Черт с ним, пусть! — с раздражением думал Митька. — Вперед умнее будет… Для него хлопочешь, а он… Да без тебя стал бы я что ли скулить перед барыней и этим шкетом — синей говядиной? Черт бы брал их…»
Митька сплюнул со злостью. Красавчик кинул на него робкий взгляд. Митька поймал его и больше нахмурился.
Все еще молча вошли в поселок. По обоим сторонам дороги потянулись дачи, но друзья не обращали на них внимания, целиком поглощенные разладом. Митьке и хотелось уже сказать Красавчику какое-нибудь ласковое слово, но мешало что-то. Какое-то упрямство, странное и непонятное. Митька начинал злиться даже на самого себя, но это не только не помогло, а ухудшало дело. Красавчику казалось, что Митька злится на него, и он в свою очередь боялся заговорить с приятелем.
— А вы откуда, посадия?
Друзья вздрогнули услышав этот оклик, и испуганно обернулись: их настигала громадная широкоплечая фигура, туго перетянутая полицейским мундиром.
— Урядник! — меняясь в лице, прошептал Митька.
Он с отчаяньем оглянулся по сторонам. Но поздно было убегать: полицейский был в каких-нибудь пяти шагах.
Урядник вплотную подошел к мальчикам.
— Вы откуда взялись? — повторил он, окидывая строгим взглядом юных бродяг. От него не укрылось замешательство мальчиков и взгляд его стал подозрительным.
Красавчик совершенно растерялся. Встреча была такой неожиданной, что мальчик никак не мог понять, откуда взялся полицейский. Ужасная мысль, что урядник понял, кто они, невольно заставила задрожать.
Громадная широкоплечая фигура урядника казалась внушительной. Грозный взгляд требовал ответа. Красавчик кинул на товарища отчаянный взгляд.
— Мы… мы, — начал Митька, тщетно надумывая, что бы соврать: он не был подготовлен к подобной встрече, и вся его находчивость пропала, словно смел ее, как мусор метлой, грозный вопрос.
— Что мы, мы? — передразнил урядник. — Воровать пришли? Кто вы и откуда?
Положение становилось отчаянным. «Засыпемся» — пронеслось в голове Митьки, и неприятный озноб прошел по его телу. Он кидал кругом отчаянные взгляды, словно стараясь увидеть где-нибудь якорь спасения. И каким заманчивым, каким родным и близким казался ему в эту минуту лес, темной стеной видневшийся позади зеленых холмов.
— Воровать пришли? Ах вы обормоты! Я вам покажу…
Урядник выругался и схватил Митьку за шиворот.
— Отвечай же, посач!
За пазухой что-то кольнуло. Митька вспомнил вдруг недавнюю встречу и чуть не вскрикнул от радости.
— Никак нет, ваше благородие, — бойко вымолвил он, чувствуя, как обычная самоуверенность возвращается к нему. — Мы не воровать пришли, а идем к барыне.
— К какой это барыне еще?
Вопрос звучал насмешливо, с недоверием. Митька добыл из-за пазухи визитную карточку и протянул уряднику.
Тот повертел карточку перед глазами, прочел и уже с удивлением поглядел на детей.
— К госпоже Шахматовой? Кто это звал вас туда?
Митька заметил, что урядник сбавляет тон, хотя все еще глядит недоверчиво, и стал развязнее.
— А сама барыня. Говорила, чтоб придти сегодня обязательно. Одежу она обещала дать.
Митька почти нахально глядел в глаза уряднику. Тому объяснения показались удовлетворительными. Он выпустил Митькину рубаху и возвратил карточку.
— А откуда вы-то?
— Из Петербурга! — выпалил Митька. — Барыня-благодетельница приехать велела, а мы пешком пришли лесом — денег не было у мамки на машину-то.
Урядник пригрозил пальцем.
— Ну-ну, смотрите! Чтобы к завтраму и духу вашего тут не было… Увижу если, так плохо будет.
И он нерешительно как-то пошел, оставив мальчуганов. Пройдя несколько шагов, обернулся и снова погрозил пальцем. У него был такой вид, словно он сожалел о добыче, вырвавшейся из рук.
— Ну, пронесло! — облегченно вздохнул Митька, когда урядник скрылся в каком-то проулке. — Нанесло же проклятого!
— Да-а, — протянул Красавчик, ощущая еще неприятную дрожь, — ведь замести мог…
— Мог, — убежденно подтвердил Митька. — Ну в другой-то раз мы не попадемся. Ишь ведь, фараон несчастный.
Пережитая опасность развязала языки. Друзья забыли о недавней размолвке и долго толковали о случае.
— Да, на счастье барыню на нас нанесло, — говорил Митька, — без карточки трудно было бы выпутаться… Хорошо, что я вспомнил о ней.
— Верно хорошо, — согласился Красавчик, чувствуя искреннюю признательность к даме в трауре. — А что было бы, если замели нас?
— Фьють! — Митька сделал выразительный жест рукой, и Красавчика даже холодом обдало.
— В тюрьму снова? — упавшим голосом спросил он.
Митька язвительно сощурился.
— Нет, во дворец!
Друзья проходили мимо небольшой, но красивой дачи, тонувшей в густом саду. Громадные кусты сирени окаймляли почти непроницаемой для глаза стеной узорную чугунную решетку. Сочные гроздья белых и лиловых цветов свешивались на улицу и нежный аромат окружал дачу. В просвете между кустами виднелись дорожки, усыпанные красным гравием, и клумбы, полные цветов. Несколько статуэток выглядывало из густой зелени…
Дачу почти не было видно за листвой. Сквозь плющ проглядывало несколько колонок и крыша с башенками и балкончиками. Даже на крыше были растения: через резные перила балкончиков и зубцы башенок свешивались лапчатые и перистые листья тепличных растений; несколько пальм горделиво покачивали раскидистыми верхушками.
Красавчик остановился восхищенный.
— Красиво как! Митя, посмотри-ка: и на крыше сад!
Митька окинул дачу снисходительным взглядом человека, повидавшего на своем веку много чудесного.
— Да, — согласился он. — Богатые верно живут. Красавчику дача казалась каким-то сказочным дворцом. Он устремил взгляд вглубь сада, в надежде увидеть кого-нибудь из счастливых обитателей дачи, словно это должны были быть не обыкновенные люди, а феи какие-то или, по меньшей мере, принцы. Но в саду было пусто. Только птички щебетали в кустах. Вздох вырвался из груди мальчугана.
— Вот пожить бы там! — мечтательно прошептал он.
Ему казалось, что жизнь в такой даче и есть та новая, чудная жизнь, к которой он стремился. Там, в этой красивой постройке, все должно быть по иному, чем везде. Красавчик не мог определить ясно, что именно должно быть в ней по иному. Красивая уютная дача очаровала его и в воображении он населил ее людьми, на которых должна была лежать светлая печать обособленности.
«И я… мы с Митькой тоже так заживем», — подумал он и кивнул головой с таким видом, точно осуществление этого плана не вызывало никаких сомнений.
— Тут бы стрельнуть можно! — вывело его из задумчивости практическое замечание Митьки.
Жалко было расставаться с чудесным домом, как бы воплотившим его мечты о новой светлой жизни.
До вечера приятели бродили по поселку. Митька ухитрился разжалобить еще нескольких сердобольных барынь и в результате около двух рублей мелким серебром бренчало у него в кармане. Он был в самом веселом настроении и болтал без умолка.
— Теперь, брат, мы долго можем жить припеваючи, говорил он. — Завтра утречком переберемся в пещеру на озере, о которой говорил я. Только не на этом озере она, а в той стороне, в лесу. Рыбу там будем удить…
Он засмеялся, вспомнив о том, как удил рыбу на озере в прошлом году.
— Там рыбаки есть, — пояснил он, — так они снасти расставляют под рыбу: ну, ночью можно пошарить по снастям — большие рыбины попадают… Увидишь вот.
— А поймают если?
— Вздуют, понятно. Меня чуть не поймали раз… Удрал только. Рыбак там, старый такой, здорово ругался. Потешно так. По-чухонски лаялся…
Митька изобразил ругающегося старого финна. Вышло довольно забавно. Красавчик так и покатился со смеху.
В ночных похождениях за чужой рыбой была доля какой-то особенной, таинственной прелести. Это совсем не походило на кражу или на «стреляние» и казалось даже заманчивым. Красавчик слушал рассказы Митьки и в глазах его горели искорки восхищения.
Настала пора идти за обещанным платьем. Митька прекрасно знал поселок и без труда отыскал нужную дачу. Это был скромный двухэтажный дом, весь укрытый широкой листвою раскидистых каштанов. Стоял он на берегу озера и садом соприкасался с самой водой. Дом был красивый, просторный, но Красавчику он не понравился. Невольно он сравнил его с тем чудесным домом и нашел почти жалким. Сад был, правда, большой и полон цветов, но и ему было далеко до уютного садика той дачи.
— Дом как дом, — вслух выразил он свою мысль и вызвал ею удивление приятеля:
— А тебе какого же надо?
— Да не мне… Так это я.
Красавчику почему-то не захотелось посвящать друга в свои мысли и он уклонился от прямого ответа.
Митька покачал головой.
— Черт знает, что с тобой делается. То ты как человек, а то вдруг точно спишь и сны видишь.
Митька, сам того не ожидая, попал в цель. Красавчик удивленно поглядел на него: сны наяву — это действительно было так похоже на данное состояние Красавчика.
В саду и на крытой террасе никого ни было видно. Друзья обошли дом и остановились возле высоких тесовых ворот. Со двора доносился чей-то голос; кто-то напевал песню о Мальвине, как ее снаряжали к венцу.
Приятели переглянулись.
— Постучать в калитку? — нерешительно спросил Митька.
— А вдруг да не эта дача?
— Ну так что ж? Не воровать идем…
Митька взялся за щеколду и стукнул ею. Красавчик робко встал поодаль.
В ответ на стук загремела цепь и раздался хриплый простуженный какой-то лай. Митька невольно отступил на шаг.
— Собака…
Пение на дворе смолкло. Послышался шум шагов по деревянным мосткам, и тот же голос, что пел, говорил собаке:
— Тише, Фараон, цыц!
Скрипнула калитка, и в ней показался седобородый мужчина в фуражке и фартуке. Мутные голубые глаза с любопытством скользнули взглядом по фигурам детей.
— Вам чего, братцы?
В мягком старческом голосе звучали добродушные нотки. Лицо старика тоже казалось добрым и простым и походило на какую-то икону.
— Барыню нам повидать, — переминаясь с ноги на ногу, сказал Митька.
— Барыню? — Снова старик окинул взглядом ребят и добавил неторопливо: — А почто?
— Да говорила она, чтобы придти нам, — смущаясь почему-то, пояснил Митька. — Барыня Шахматова.
Старик кивнул толовой.
— Барыня Шахматова точно здесь. Ну, коль сказывала сама, то ступайте.
Он медленно отодвинулся от входа и рукой поманил детей.
— Ступайте. Вона крылечко в углу… На кухню пройдете, там кухарка будет. Ступайте.
Громадная лохматая собака со злобным лаем кинулась из угла. Друзья в страхе попятились. Старик тихо рассмеялся.
— Испугались? Не бойтесь, на цепи он. Цыц ты, Фараон, дурной пес: не видишь нешто, что ребятенки пришли. Эх, дуралей старый!
Он добродушно бранил собаку, и та, точно поняв его, смущенно съежившись, убралась в будку. Только черные глаза, сверкавшие из-под лохматой шерсти, проводили друзей до самого крыльца кухни.
Плотная толстая женщина встретила мальчиков на пороге кухни. Сперва она как будто удивилась, однако не успел Митька рта раскрыть, как она заговорила.
— Это вы, сиротиночки несчастные? Идите, идите в кухню-то… Барыне я скажу сейчас… Сейчас… сейчас…
Кухарка неуклюже засуетилась, выдвигая из угла две табуретки.
— Присядьте вот, сердечные… А я сейчас барыне скажу… Ах вы бесталанные!
И в словах и во взглядах, которыми награждала она ребят, было много искреннего, неподдельного участья. Жирное красное лицо ее выражало столько жалости, что, казалось, вот-вот из оплывших жиром глаз брызнут слезы. Видимо, она уже знала о «бедных погорельцах» со слов барыни.
Кухарка скрылась в комнатах. Митька кинул на друга предостерегающий взгляд.
— Смотри, Красавчик, не провались, — шепнул он, — говори так, как я учил, если будет спрашивать.
Он заранее подготовил друга к роли, которую надлежало сыграть перед госпожой Шахматовой. Это была довольно сложная роль, и Митька побаивался, как бы Красавчик не «сдрейфил».
— Не забыл ничего? — с тревогой осведомился он.
— Нет.
Красавчик не забыл наставлений приятеля, но все-таки не был уверен в своих способностях выдержать роль. Он чувствовал, что не вынести ему скорбного ласкового взгляда дамы, что он обязательно собьется и перепутает что-нибудь. Это и волновало и пугало мальчугана. Он чувствовал во всем теле какую-то странную дрожь и ему хотелось, чтобы кухарка как можно дольше не возвращалась. Совсем бы хоть даже не пришла.
Но нет. Хлопнула дверь, должно быть, в коридоре. Раздались шаги и голоса. У Красавчика даже дыхание замерло; один из голосов принадлежал даме. Он вскочил с места точно собираясь убежать, и кинул на Митьку беспомощный взгляд.
Тот шепнул хмуро:
— Держись! — и встал, тоже заметно волнуясь.
Госпожа Шахматова вошла в кухню. Следом за ней кухарка несла объемистый узел. Взгляд Митьки мигом ощупал его, и он с трудом подавил улыбку удовольствия.
«По костюму поди, а чего доброго и сапоги еще», — подумал он.
— Ну вот, милые, собрала я вам кое-что из платья, — ласково зазвучал мягкий голос Шахматовой. Она передала узел Митьке, и тот рассыпался в благодарностях, с опытностью заправского босяка призывая на «благодетельницу» тысячи милостей неба.
А потом началась пытка. Митька, впрочем, развязно отвечал на вопросы госпожи Шахматовой. Он подробно описал мнимый пожар в «Сороках» и, всхлипывая, тер кулаком глаза, когда заговорил о том, как «сгорела мамка». Рассказ вышел таким трогательным, что невольная слезинка скатилась по щеке госпожи Шахматовой. Кухарка слушала, подперев ладонью щеку, тяжело вздыхала и причитала со слезами в голосе:
— Бедные! Сердешные! Сиротиночки несчастные!
И сокрушенно покачивала головой в такт причитаниям.
Когда же приходилось Красавчику отвечать на какой-нибудь вопрос, он не знал куда деться. Его бросало сразу и в жар и в холод. Краска заливала лицо, он беспощадно теребил подол рубахи и не мог глаз оторвать от половиц. В эти минуты ему хотелось сквозь землю провалиться, чтобы не чувствовать на себе затуманенного слезой взгляда Шахматовой.
— Ну, а что же вы будете дальше делать?
Этот вопрос даже Митьку застал врасплох. Он молчал, не находя подходящего ответа.
— До сих пор вы скитались по лесам, неужели и дальше так будете жить?
Митька смутился. Однако выдавил сквозь зубы.
— Нет…
— А что же? Родные у вас есть?
Митька насупился. Он начинал себя чувствовать также хорошо, как если бы его поймали в краже.
Госпожа Шахматова задумалась. Она прониклась участьем к юным бродягам и думала каким бы образом устроить судьбу несчастных детей. Митька чутьем угадывал ее мысли и начинал трусить: кто знает, что взбредет ей в голову? Нужно было чем-нибудь предупредить ее благодетельные порывы.
«В приют еще надумает пристроить», — подумал Митька, и от одной этой мысли его бросило в жар.
Не даром Митька прошел трудную школу «фартового». Постоянные опасности, необходимость вывертываться из самых скверных положений изощрили его изобретательность. Выручила она и в этом случае.
— Мы, барыня, в Сестрорецк пойдем, — сказал он, оживляясь немного. — Знакомый там, земляк, работает на заводе… Он обещался работу нам найти…
— Да?
В голосе Шахматовой звучало легкое недоверие. Но ее нетрудно было убедить. Дело наладилось, и Митька вздохнул облегченно: свободе их не грозило никакой опасности.
— Ну что ж, Бог с вами, идите… Можете сегодня переночевать здесь.
Митька замялся. Ему хотелось поскорее выбраться из этого дома, в котором он начинал видеть уже чуть ли не ловушку.
— Спасибо, барыня добрая, — отклонил он предложение. — Мы уж лучше пойдем. Светло ночью теперь… Скорее дойдем.
— Ну, как хотите. Христос с вами… Только, дети, если вы вдруг не найдете вашего знакомого в Сестрорецке, то возвращайтесь ко мне… А теперь покушайте на дорогу. Феклуша, дай детям поесть.
И ласково, сердечно простилась она с мальчиками. Красавчика даже поцеловала в лоб.
— Как звать тебя? — спросила она, держа в ладонях голову мальчика.
— Мишка, — краснея, пролепетал он.
— Миша? Помни, что я говорила. Если плохо будет, то приходите ко мне. Не забудешь?
— Не забуду, — шепнул мальчик и дрогнули, опустились его пышные ресницы. За душу схватила непривычная ласка, затронула в ней что-то тоскливое, больное… Слеза выкатилась и упала прямо на тонкую белую руку…
— Ну, Господь с вами, милые. Пусть вам Бог поможет, бедные дети! — взволнованно проговорила госпожа Шахматова. Она перекрестила мальчиков широким крестом и быстро вышла из кухни. Митька заметил, что, выходя в коридор, она приложила к, глазам белое что-то, должно быть платок. И у него закоренелого фартового, стало как-то скверно на душе. Впервые шевельнулось незнакомое ощущение нехорошего, гадкого, и первый раз в жизни Митька почувствовал недовольство собой, хотя и блестяще выполнил предприятие.
Кухарка меж тем собрала на и стол. Добрая женщина суетилась так, как будто принимала самых дорогих гостей.
Друзья совсем не чувствовали голода, и заботы кухарки только смущали обоих. Митька хмурился и в душе далеко не благословлял кухарку. Ему хотелось уйти поскорее, а судя по тому, как хлопотала Фекла, трудно было надеяться скоро развязаться с ней.
— Кушайте, милые мои… Кушайте, ангельчики…
«Ангельчики, — ухмыльнулся про себя Митька, — тоже сказала! Знала бы только…»
За стол все-таки пришлось сесть. Фекла пуще засуетилась, накладывая на тарелки всякой всячины.
— Кушайте, родненькие, кушайте… Вот курочки кусочек положу… Кушай, милый… Вот котлеточка еще… Кушайте, сиротиночки вы мои…
В заботах кухарки было что-то чисто материнское. В жалостливых ласках, которыми она осыпала друзей, сквозило нечто такое, что смущало обоих. Приятели недавно сытно поели в чайной у станции и теперь через силу проглатывали вкусную пищу. Это огорчало сердобольную женщину.
— И что это вы плохо кушаете? Вы не бойтесь, родненькие… Ведь барыня сама велела…
Митька поблагодарил и намекнул на то, что им нужно торопиться.
— К утру в Сестрорецк нужно попасть, — заметил он, поднимаясь с табурета. Красавчик последовал его примеру.
— Так и покушайте на дорогу, а то как же на голодный живот идти?
Она неудомевающе развела руками.
— Как же так?
«И пристала же!» — с сердцем подумал Митька.
— Спасибо, благодетельница, — по-нищенски приниженно поблагодарил он, — сыты мы, спасибо… Дай Бог здоровья тебе.
Кухарка совершенно растрогалась.
— Не стоит, милые вы мои… Ну Христос с вами, идите… Дайте-ка я соберу вам поесть в дорогу.
И когда, наконец, друзья выбрались из гостеприимного дома госпожи Шахматовой, в руках Красавчика был увесистый кулек с разными закусками.
— Ну что, брат, — торжествуя спросил Митька, когда дом Шахматовой скрылся за кучей деревьев, — худо разве вышло? Вона сколько добра у нас теперь.
Лицо его расплылось в лукавую, довольную улыбку.
— Тута, брат, хлопая кулаком по свертку с одеждой, — продолжал он, — не только рубахи, а и штаны и, пожалуй, сапоги есть… Ну да, вона, вишь прощупываются… Погляди на…
— Видишь, что значит уметь, как за дело взяться…
Красавчику не понравился самодовольный хвастливый тон приятеля.
— Вышло не худо, — заметил он, — а все барыня. Добрая она.
Он ощущал еще на щеках прикосновение мягких ароматных рук, а на лбу — нежный поцелуй. Было как-то приятно и грустно. Что-то теплое, как ласка матери, охватило душу и мягкой грустью присосалось к ней.
— Добрая, хорошая барыня, — снова повторил он…
— Добрая, — согласился Митька. — Это верно.
Выбрались на поле. Последние лучи солнца таяли на хмурой зубчатой стене леса. Легкий туман клубился вдали, всползал на деревья. Казалось, белая ночь выдвигала полчища призраков, чтобы захватить мир, погрузить его в странное бледное очарование.
IV Художник Борский
Было раннее утро, и прохладную полутень леса только в вышине прорезали красные солнечные лучи, румянцами горя на верхушках сосен. Розовая дымка тумана стлалась по озеру, и в спокойной тихой воде отражались червонные пятна облаков и застывший, словно очарованный лес, громоздившийся по уступам берега.
Митька и Красавчик успели позавтракать уже и выползли из своего нового убежища — пещеры, открытой Митькой во время прошлогодних скитаний.
Пока еще не было никаких планов относительно предстоящего дня, и приятели расположились на берегу. Митька курил и щурился, следя за голубоватыми струйками дыма. Красавчик сидел возле него, обхватив руками колени и задумчиво глядел на озеро.
Нежный розовый туман постепенно таял, словно кто-то осторожно сдувал его. И яснее становилась даль, четче вырисовывались очертания деревьев на противоположном берегу и домиков, ютившихся под ними. Уходили последние призраки белой ночи, скрытой под мутным покровом загадки и озеро, и небо, и лес, и дома.
Проснувшийся лес был полон птичьим гамом и теми особенными таинственными звуками, в которых скрыта жизнь леса, его могучее дыхание.
Кликала тоскливо кукушка и отзывался ей деловитый стук дятла, словно молоток неутомимого столяра… Тревожно каркнула ворона вдали и затрещало где-то в лесу, словно упал кто-то большой и тяжелый.
Векша мелькнула в воздухе пружинным скачком и крикнула, точно у нее захватило дыхание от головоломного скачка. Покачалась на тонкой ветке и снова прыгнул, резко крикнув; так в цирке подбодряют себя криком гимнасты, совершая головоломные сальто-мортале.
Красавчик слушал звуки леса, следя взглядом за рассеивающейся дымкой тумана, и на душе у него было светло и легко, розово от нежного тумана на озере, от клочков легких облаков, купающихся в золотом солнечном море.
Больше недели жили приятели в пещере над лесным озером. Место было глухое безлюдное. Только по ту сторону озера лепились к крутому берегу несколько домиков рыбачьего поселка, а кроме него кругом на несколько верст не было жилья. Пещеру надежно охраняли от постороннего взгляда густые кусты. Они казалось всползали по отвесной стене и никому не могло прийти в голову искать среди них отверстия пещеры.
Внутри пещера была довольно просторна: приятели отлично устроились в ней. Каменистый пол устлали слоем листьев; из них же соорудили две мягкие отличные постели. Тюремные куртки заменяли одеяла. В общем, это было восхитительное убежище, которое Митька не без гордости величал «нашим домом». Красавчик находил, что не гордиться таким домом невозможно, хотя он и был не так великолепен, как тот чудесный дом в дачном поселке, который положительно не выходил у него из головы.
Больше недели друзья прожили, ничего не делая, ни о чем не заботясь: милостыня, собранная Митькой, кормила их.
Спокойная жизнь в лесной глуши вносила покой и в душу Красавчика. Прошло так мало времени со дня побега из тюрьмы и еще меньше со дня последнего нищенства, а Красавчику казалось, что все это было давно, очень давно. Даже хищный образ Крысы как-то затуманивался в памяти, и прошлое походило на страшный сон, который кончился наконец.
Друзья не вспоминали прошлого. Митька иногда от скуки, пускался в область воспоминаний. Он рассказывал другу кое-какие эпизоды из своей, фартовой деятельности. Все это были подвиги, которыми Митька гордился и которые создали ему славу ловкого карманника. Он воодушевлялся при этом, снова переживая все опасности и приключения, которыми была его память.
И не просто от скуки Митька рассказывал обо всем этом. Он питал в душе надежду что Красавчика увлекут его рассказы и с осени он бросить свое ремесло плакальщика. Относительно дальнейшей жизни у Митьки не было никаких грез и мечтаний. Он знал, что осенью придется кончить привольную жизнь в лесу и взяться за старое ремесло. И когда Красавчик делился С НИМ мечтами о неведомой новой красивой жизни, он слушал его с недоверчивой улыбкой, как слушает взрослый лепет ребенка. Потом сердился вдруг и обрывал фантазию друга:
— Полно врать-то!
Он снисходительно относился к мечтам Красавчика, не придавая им значения, и в то же время решил с осени вывести друга «в люди». Это значило, что Шманала хотел сделать его своим неразлучным другом и товарищем по профессии.
Быть в приятельских отношениях с «плакальщиком» казалось зазорным. Товарищи фартовые обязательно засмеют. Это впрочем не очень беспокоило — все знали, что с Митькой шутить опасно, хотелось просто помочь другу устроиться лучше. В своих силах Митька не сомневался. Он знал, что под его руководством самый захудалый «плакальщик» быстро превратится в опытного карманника. Многие из плакальщиков лопнут от зависти, узнав, что сам Шманала взялся руководить Красавчиком. Это тоже льстило.
Но Красавчик странно относился к рассказам Митьки. Описание самой ловкой кражи выслушивал он вполне равнодушно. Только когда рассказ касался какого-либо опасного момента, столкновения с сыщиком или полицейским, из которого Шманала ловко выпутывался. — Красавчик возбуждался. Но и тут его возбуждала главным образом не прелесть опасностей воровской жизни, а страх за участь друга, смешанный впрочем с долей своеобразной гордости за него. Равнодушие приятеля огорчало Митьку, но он не оставлял надежды, решив, что до осени времени много.
День окончательно сменил ночь. Растаяла дымка тумана на озере и засверкало, заискрилось оно под лучами солнца.
От домиков на противоположном берегу, казавшихся за далью какими-то игрушечными хибарками, скользнуло по глади воды несколько лодок… Взметнулась из ближнего затона большая серая птица и, тяжело хлопая крыльями полетела над водой.
Митька докурил «цигарку», сплюнул и обернулся к другу. Он хотел сказать что-то, но взглянул ни озеро и на минуту приковался взглядом к лодкам. Острый глаз его различил по-видимому что-то занятное. Митька хмыкнул под нос, точно смеясь над чем-то в кулак и хлопнул по плечу Красавчика.
— Давно я их ждал!
Мишка недоумевающе оглянулся по сторонам, отыскивая взглядом тех, кого ждал его приятель. Митька расхохотался:
— Не там, брат, ищешь. Ты на озеро гляди. Вон они, лодки-то.
Красавчик ничего не понимал.
— Ну что ж, что лодки? Нужны они тебе?
Недоумение друга еще больше развеселило Митьку.
Он скорчился в три погибели и зажал нос ладонями, неудержимо хохоча.
— Чего тебя разбирает-то? — улыбаясь спросил Красавчик.
— Да то, что ты ровно ничего не смыслишь, ну, прямо ровно ничего… Не лодки мне понадобились, а рыба. Понимаешь?
Красавчик покачал головой.
— Какая рыба?
Митька безнадежно махнул рукой.
— Все-то тебе разжевать нужно. На лодках, видишь, люди? Ну, это рыбаки. Рыбу ловят они, а на ночь снасти поставят… Мы и пошарим в снастях, понял теперь?
Красавчик улыбаясь кивнул головой.
— Давно бы так сказал. Мы с Ванькой Косым в прошлом году у Вольного острова миног так ловили. Потеха была!
Теперь изумился Митька.
— И ты ловил?
— И я понятно… Я и Косой…
Но Митька продолжал смотреть недоверчиво. Он с ног до головы обозрел приятеля, словно впервые видел его. Ему казалось просто невероятным, что Красавчик мог участвовать в подобном похождении. Откровенно говоря, в душе он считал товарища трусом, и давно решил, что только благодаря этому качеству Мишка не мог примкнуть к «фартовым». И теперь ему показалось, что Красавчик врет, «форсит» перед ним.
— И ты? — снова переспросил он, пристально глядя в глаза другу, словно выискивая в глубине их скрытую ложь.
— Ну да. Чего ты так смотришь? Не веришь?
Митька раздумчиво покачал головой. Совершенно неожиданно он открыл в приятеле новое, чего и не подозревал в нем. И не хотелось верить этому, и раза три Красавчик должен был повторить что он таскал чужих миног пока наконец Шманала поверил. Он покачал снова головой и улыбнулся, как улыбается человек, натолкнувшийся внезапно на приятную неожиданность. Нежная ласка засветилась в глазах Митьки: в этот миг Красавчик стал ему еще дороже, еще ближе.
Воспоминание об этом похождении зажгло особый какой-то задорный огонек в тихих глазах Красавчика. Не ожидая просьб, он сам пустился в рассказ, оживляя его жестикуляцией, что с ним редко бывало:
— Мы с Ванькой у Чугунного моста купались, а он вдруг говорит: «Хорошо теперь миног жареных поесть, хочешь?». «Хочу», — говорю. «Пойдем, — говорит, — посмотрим вентера, близко тут». Ну мы и пошли. Дошли до Емельяновки, угнали челнок и поехали к Вольному… За челнок то мне было боязно — чужой он все-таки, да Ванька сказал, что на место потом отвезем. Ванька место знал… Приехали, а там на воде колобашки красные плавают и много их. «Давай тянуть», — говорит Ванька. У каждой колобашки веревка. Потянули за одну и вытащили этакую соломенную вроде штуку, как бы сахарную голову. Сунул Ванька руку в нее — вытащил миногу. Бьется она страсть как, вертится, извивается. Кинули вентер назад, за другой взялись, и тут откуда ни возьмись — рыбак! Кричит, ругается… Мы — винта, он за нами. Рыбак-то на лоцманке никак был, а мы в челноке, ну и удрали в тростники, а ему не больно-то ловко было гнаться за нами в тростниках, — отстал. Только ругань мы слышали вдогонку. А и здорово же ругался рыбак!
Красавчик даже разрумянился. Глаза его блестели и поминутно рассказ прерывался смехом: воспоминания о проделке доставляли ему удовольствие. Митька со снисходительной улыбкой слушал рассказ. Когда Мишка кончил, он одобрительно кивнул головой.
— Здорово. Не знал я об этом. Не знал…
И добавил задумчиво:
— А я-то трусом тебя считал…
— Трусом?
— Понятно. И все наши тоже… А ты вот какой!..
И Митька покачал головой с видом человека, решающего какую-то сложную загадку.
Тут новое лицо появилось на сцену и прервало разговор друзей.
Это был высокий мужчина, одетый в белую чесучовую пару. На лохматой черноволосой голове у него небрежно сидела помятая панама. Через плечо был перекинут на ремне желтый ящик. Незнакомец подошел неслышно и с минуту стоял позади друзей, незамеченный ими.
— Доброго утра, ребята!
Приятели испуганно вздрогнули и обернулись. Митька вскочил на ноги и кинул тревожный взгляд вглубь леса, словно определяя шансы на спасение от какой-то неожиданной опасности. Незнакомец заметил это движение, и добродушная улыбка появилась на его смуглом лице.
— Вы не бойтесь. Не съем я вас. Да и разве похож я на людоеда?
Он весело засмеялся, обозревая друзей каким-то пытливым, ищущим взглядом.
Красавчик тоже поднялся и глядел на пришельца робким и удивленным в то же время взглядом. Так смотрит любопытная серна, впервые увидев человека.
Ни в лице незнакомца, ни в манере себя держать нс было ничего подозрительного, предательского. Он скинул с плеча ящик и присел возле друзей.
— Что вы тут делаете ребята? Откуда вы?
Митька кинул на него угрюмый взгляд исподлобья. Ему крайне не нравилась развязность незнакомца, и в душе хотелось послать его в преисподнюю. Но Митька был дипломатом и не хотел навлечь на себя подозрений резким ответом. Кроме того, незнакомец не походил на сыщика.
— Гуляем мы тут, — ответил Митька, уклоняясь от ответа на второй вопрос.
— Дело, ребятишки, дело! — одобрил пришелец. — Есть тут где погулять.
Он вынул папиросу из массивного серебряного портсигара. Закурил и разлегся облокотясь на ящик.
— Братья вы или просто товарищи? — снова спросил он.
— Товарищи, — буркнул Митька, следя привычным взглядом за рукой незнакомца, опускающей в карман портсигар.
Красавчик заметил взгляд Митьки и струхнул: видно было, что тому приглянулся портсигар. Неприятно стало на сердце, и он даже побледнел слегка. А когда Митька словно невзначай ближе придвинулся к незнакомцу, его бросило в жар.
«Господи, свиснет, ей-богу, свиснет!» — пронеслась в голове мысль, и даже пот осел на лбу у бедного мальчугана.
А господин как нарочно теперь обратил на него все свое внимание. Он несколько минуть молча, сосредоточенно вглядывался в лицо Красавчика, и видимо это доставляло ему особенное какое-то удовольствие. В черных проницательных глазах незнакомца сперва было холодное, ищущее какое-то выражение. Потом в них вспыхнули огоньки почти восхищения.
— А ты славный мальчик, ей-богу! — воскликнул он, швыряя окурок. — Как зовут тебя?
— Мишка, — еле вымолвил Красавчик, боясь взглянуть в лицо незнакомца.
Все его внимание поглотил Митька, теперь уже почти вплотную подсевший к незнакомцу. Для Красавчика были ясны намерения друга, и он положительно дрожал от ужаса. Ему казалось, что вот-вот Митька будет уличен в краже, и от стыда и от страха его бросало то в жар то в озноб. Язык прилипал к гортани.
Странное состояние Мишки обратило внимание пришельца.
— Что с тобой? Боишься ты меня что ли? — голос был ласковый, дружелюбный.
Мишка робко взглянул в глаза пришельцу, и ему стало нестерпимо стыдно за приятеля. Ну, как можно обворовывать такого хорошего барина? Красавчик кинул на Митьку негодующий взгляд. Тот ответил ему полу дерзкой, полу презрительной, чисто «фартовой» улыбкой. Незнакомцу суждено было расстаться с портсигаром.
А он был далек от каких бы то ни было подозрений. Не обращал внимания на Шманалу и всецело занялся Красавчиком.
— Где ты живешь? — задал он вопрос.
— Тут, недалеко, — покраснел от смущения Мишка, опасаясь, что незнакомец пожелает знать более подробный адрес.
Но тот удовлетворился ответом.
— Та-ак, — протянул он, обдумывая что-то.
Взгляд его продолжал скользить по фигуре мальчика.
— Вот что, Миша, — барабаня пальцами по ящику, заговорил незнакомец. — Может быть ты хочешь заработать несколько рублей?
Незнакомец улыбнулся и продолжал.
— Ты не удивляйся, дружок. С такой мордочкой, как у тебя, всегда можно заработать. Я, видишь ли, художник и хочу написать тебя… Тебе нужно будет приходить, ко мне каждый день, ну, и за это я буду платить. Понял?
Красавчик смотрел истуканом, ровно ничего не понимал. Он понимал только одно, что от него требуют чего-то, за что будут платить деньги. Это походило на наем на работу.
— Согласен ты?
Красавчик ответил не сразу. Предложение художника казалось ему чем-то невероятным. Заработать несколько рублей! Заработать, а не выклянчить! Для Красавчика это было почти непостижимым. Он недоверчиво оглядел незнакомца, полагая, что тот только шутит. Но лицо художника было серьезно, и он требовал ответа.
— Согласен?
Волны бурной радости поднялась в груди мальчугана, и сердце сильно-сильно забилось.
— Согласен, согласен! — вырвалось у него.
Художник ласково улыбнулся. Вынул карточку из бумажника и отдал Красавчику.
— Зовут меня Борский, и живу я в поселке за лесом. Знаешь?
— Да.
— Спроси там меня, и каждый покажет тебе, где я живу. А приходи завтра же утром, в такое время. Придешь?
Красавчик утвердительно кивнул головой.
— Вот и хорошо. По рукам, значит? Каждый день я буду платить тебе по рублю. Понял? Ну, а пока прощайте ребята. Так завтра утром я тебя буду ждать, Миша.
Художник поднялся с земли, ласково кивнул головой на прощанье и ушел. И Красавчик и Митька проводили его взглядом, пока чесучовый пиджак не скрылся за береговыми зарослями.
Красавчик сиял. Неожиданный заработок, словно с неба свалившийся, казался ему необъятным счастьем. Живая фантазия мальчугана мигом сопоставила действительность с затаенными мечтами о перемене жизни, и первый заработок в его глазах являлся прочным залогом к осуществлению этих мечтаний. Ведь подумать только, что он, бывший плакальщик, каждый день будет зарабатывать по рублю! И в уме вырастала длинная вереница этих дней и каждый представлялся в виде большого блестящего, новенького серебряного рубля. И много, много их… сотни, тысячи… Не счесть всех…
И захлебываясь от волнения, Красавчик делился с другом планами на будущее:
— Теперь мы хорошо заживем, Митя! — говорил он, и глаза его горели радостными огоньками, а лицо румянилось, словно отсвечивая счастье, заполнившее в эту минуту все его существо. — Подумай только Каждый день он будет платить по рублю, и у нас будет много денег… Шутка, что ли?
Митька хмуро молчал. Он не глядел даже на Красавчика и, казалось, не слушал его. Только когда Мишка зашел слишком далеко, выразив надежду, что сможет заработать столько денег, чтобы купить такой же красивый дом, как тот, что они видели в поселке, Митька иронически улыбнулся.
— Заехал тоже! — насмешливо прервал он приятеля: — Заработай, попробуй! Много ты наработаешь у этого барина, как бы но так… Знаю я этих длинноволосых!
Презрительный жест, которым сопровождалось последнее замечание, словно осадил Красавчика. Смутная тревога проникла в его душу.
— А что ты знаешь? — робко, точно боясь за крушение своих надежд, осведомился он.
Митька уже сердито нахмурился.
— А то, что карман-то у них пустой, резко отрезал он. Знаю я, шманал ведь. Шманать-то их легко, правду сказать. Иною обшаришь со всех концов, а он и не чует, точно спит… Такие они… рохлястые… А толку никакого. Найдешь если ломыгу так и хорошо… Бочат[18] почти ни у кого нет, а если и срежешь,[19] так черные… Ну их!
И Митька сплюнул, выражая этим свое полное презрение «длинноволосым», у которых трудно было поживиться чем-нибудь карманнику.
Слова Митьки внесли долю разочарования в душу Красавчика. Он знал, что Митька ничего не говорит зря, и приуныл.
— А может не все они такие, выразил он робкую надежду Барин-то, кажется, не из таких, чтобы зря болтать. К чему бы ему надувать-то?
— Может быть этот и богатый, черт его знает, — сумрачно согласился Митька. Портсигар у него кажись всамделе настоящий скуржевый.[20] В угрюмом взгляде Шманалы проскользнуло что-то лукавое. Он сунул руку за пазуху.
Красавчик, весь захваченный мыслью о предстоящем заработке, забыл о портсигаре. Теперь вспомнил и движение Митьки точно пришибло его. Он широко раскрытыми глазами следил за Митькиной рукой и краска начала сбегать с его лица.
— Ты… ты… украл? — с трудом прошептал он, словно выпутывая слова из чего-то плотного, тяжелого, придавившего их.
Митька самодовольно ухмыльнулся.
— Понятно.
И добыл из-за пазухи портсигар.
У Красавчика и руки опустились. Он побледнел и печально понурился. Ему казалось, что сердце его начинает холодеть.
— Все пропало теперь, все пропало… — шепнули его побелевшие губы, и он отвернулся, закусив нижнюю губу… Горький клубок подкатывался к горлу.
Митька, поглощенный рассматриванием портсигара, не заметил, что творилось с Красавчиком. Он раскрыл портсигар и, найдя пробу, с довольной миной захлопнул его.
— Скуржевый, — одобрительно вымолвил он, — целковых 20 стоит, а то и больше. Посмотри-ка, Красавчик.
Но Мишка и головы не повернул, точно не слыхал друг. Это слегка озадачило Митьку.
— Миша! — позвал он.
Никакого ответа. Рука Красавчика нервно ломала какую, то щепку, и он делал странные движения, словно безуспешно старался проглотить что-то, застрявшее в горле.
— Миша! — снова позвал Митька уже несколько робко.
Красавчик нехотя обернулся. Губы его дрожали, и в глазах, затуманенных слезами, светился немой печальный укор. Взгляд этот проник в душу Митьки, и что-то тревожное шевельнулось в ней. Митька почувствовал себя виноватым.
— Чего ты? — пробурчал он, вертя в руках злополучный портсигар.
— Ничего… Сам знаешь… Теперь… теперь уж ничего не заработать у этого барина… Эх, Митя…
Горло совсем перехватило… Слезы покатились из глаз. Красавчик кинулся лицом в траву.
Митька растерянно вертел в руках портсигар, не смея почему-то взглянуть на приятеля. Он слышал глухой плач, и жалость к другу шевелилась в душе. В ушах его еще стоял веселый говор Красавчика, мечтавшего о честном заработке, и Митька вдруг почувствовал себя гадко: в нем шевельнулось сознание совершенного скверного поступка. И странным было это чувство: никогда еще Митька не переживал ничего подобного.
Он робко взглянул на распростертого Красавчика. Плечи того судорожно вздрагивали, волосы сбились, и в них запутались тонкие грязные пальцы. И среди сияющей торжественной природы такой несчастной и убитой горем казалась эта маленькая хрупкая фигурка, что совсем-совсем скверно стало на душе у Митьки. От жалости защекотало что-то в горле, и Митька окончательно почувствовал себя преступником. Он насупился пуще прежнего и нерешительно пододвинулся к Мишке.
— Миша, — дрогнувшим голосом произнес он, дотрагиваясь до плеча друга.
Тот дернулся так, словно желая скинуть с себя Митькину руку. Митька виновато отдернул ее.
«Эх, все хорошо было, нанес же черт этого барина, — со злобой подумал он и добавил: — А меня-то тоже дернула нелегкая!»
Впервые в жизни он не чувствовал удовлетворения от удачной кражи и не мог гордиться своим подвигом. Горе друга переворачивало душу. Митька кусал губы, не зная, чем утешить Мишку, и на чем свет стоит клял себя.
— Миша, брось реветь-то, — снова вымолвил он. — Мы уладим это как-нибудь… Не знал я право, что так выйдет…
И виноват ли ласковый голос, которым это было сказано, или обещание уладить дело подействовали на Красавчика, но он повернул к приятелю заплаканное лицо. Глаза взглянули вопросительно из-под влажных от слез ресниц.
— Устроим, верно устроим, — повторил Митька, — не плачь только, Красавчик. Мы сделаем все… Эх, право нелегкая меня дернула спулить портсигар!
— Зачем это ты?
От упрека снова сделалось скверно на душе. Митька отвел взгляд от товарища.
— Так просто… по привычке…
— А говорил, что не будешь шманать… И теперь вот мне нельзя идти к барину.
Странное, совсем непривычное чувство шевельнулось в Митькиной душе. Это было раскаяние и искреннее желание исправить совершенное. Он не мог выносить укоризненного взгляда товарища и хмуро глядел на озеро.
— И если бы барин поймал тебя, — продолжал Митька, — ну что бы тогда было?
В этих словах слышалась просто тревога, бескорыстная тревога доброго друга за участь друга. Это было уж слишком для Митьки. Сердце его сжималось и на глазах проступила подозрительная влага.
— Ну полно, Миша, — угрюмо вымолвил Митька, — будет. С портсигаром мы дело сладим, а потом… Вот тебе крест, что не буду шманать больше… пока мы с тобой…
Обещание было торжественное. Мишка радостно вскочил с земли, и глаза его снова заблестели и засияли, точно лучи солнца отразились в воде после дождя. Он схватил за руку Митьку.
— Не будешь? Ей-богу, не будешь?
— Сказал раз, — тоже веселея отозвался Митька. И прибавил, чтобы переменить разговор:
— А портсигар ты завтра снесешь барину. Скажешь, что нашли мы на траве, будто выронил он. Понял?
Это был такой простой и великолепный выход из скверного положения! Мишка мигом оценил его и с признательностью пожал руку друга.
— Ты всегда все обмозгуешь! — воскликнул он.
И обоим улыбнулся снова померкший было день. Заискрились солнечные улыбки на озере, торжественной радостью повеяло от ясной небесной лазури и даже, казалось, улыбаются хмурые сосны, покачивая приветливо мохнатыми верхушками. Легко и радостно било на душе у Мишки: обещание товарища являлось прочным залогом новой жизни. Она заманчиво улыбалась впереди и сверкала и искрилась так же, как блестело и искрилось под солнцем тихое лесное озеро.
И Митька чувствовал себя хорошо. Как ни странно, но обещание, сорвавшееся, у него сгоряча, нисколько не тяготило его: веселое радостное настрое его друга вносило покой и тихую радость в его душу. Митька почувствовал вдруг, что готов сделать для Красавчика что угодно и нисколько не удивился этому: все казалось в порядке вещей.
До вечера друзья бродили по берегу озера, купались и ни на минуту их не покидало хорошее настроение. Рыбаки, как и предполагал Митька, действительно поставили снасти на озере: мальчуганы, подойдя к поселку, видели на воде тяжелые деревянные поплавки. Было твердо решено ночью отправиться за чужой рыбой, и друзья насмотрели для этой цели легкий челнок все в том же рыбачьем поселке.
К вечеру вернулись в пещеру. Развалясь на постелях и закусывая колбасой с хлебом, приятели беседовали о ночном похождении.
— Беда, что ночи-то теперь совсем светлые, — говорил Митька, — если случится кто-нибудь на берегу, так заметить могут. А рыбаки народ злющий… В прошлом году меня чуть не убил чухна один… Еле убежал…
— Ну и теперь убежим, — беспечно заметил Мишка. — Убежим, понятно. Рыбы лишь бы набрать…
В пещере темнело. Вечерний сумрак ложился на озеро, затуманивая противоположный берег. Вода курилась слегка от росы.
Белая ночь постепенно набрасывала призрачное порывало на озеро и хмурый лес. Утихали лесные звуки, словно умирала жизнь в мохнатой иглистой чаще… Замолк лесной жаворонок, последний стук дятла заглох в отдалении, и на несколько минут стало тихо в лесу. Потом новые звуки наполнили его — начала дышать белая ночь, населив лесную чашу призраками и тайнами.
В пещере стало совсем темно. Красавчик, лежа в одном ее углу, с трудом различал темный силуэт друга, лежавшего у самого входа. Митька наблюдал сквозь заросли кустов за наступлением ночи, выжидая наиболее удобный момент, чтобы двинуться в путь.
— Нам подойти бы к домам; когда совсем стемнеет, — говорил он, — челнок тогда легко будет забрать…
— А с челном-то что будем делать потом?
— А пустим прямо на озеро. Найдут его, некуда ему деться-то… Ну, пойдем, что ли, как раз пора.
Красавчик поднялся с земли вслед за Митькой, и оба выскользнули из пещеры, словно тени какие-то.
На озере стояли сумерки, какой-то полупрозрачный туман. Сквозь него мутно поблескивала темная вода. Деревья тонули в белой мути, сливались и походили на кучу теней, беспорядочно перепутавшихся друг с другом.
Где-то кричала ночная птица. Её жалобные крики точно предостерегали от какой-то неведомой опасности. Озеро поблескивало словно громадный загадочный глаз, высматривавший что-то.
Мальчуганы шли по берегу озера, храня молчание. Обоим было немного жутко, точно обвеивали их своим дыханием грядущие опасности. Все было так загадочно и таинственно кругом. Лес казался сквозь призрачную завесу воздушным и легким, точно это были не тяжелые угрюмые сосны и ели, а души их, покинувшие на время свои массивные тела. Странные звуки доносились из лесной глубины: то треск веток под чьими-то тяжелыми шагами, то чей-то таинственный шепот, а то и дикий протяжный стон ночной птицы, от которого невольно пробегали мураши по спине.
Таинственность ночного похождения клала на детей свою печать, холодком жути вея на их души. Молчали оба, точно боялись, что голоса их вызовут какой то неожиданный и странный переполох в загадочной тишине белой ночи.
Подошли к рыбачьим лачугам. Залаяла громко собака на ближнем дворе, и лай её хриплым эхом разнесся далеко кругом. Друзья замерли.
— Разбудит всех проклятая, — шепнул Митька. — Чтоб ей пусто!
— А мы пойдем дальше, — тоже шепотом предложил Красавчик, — может она и зря лает.
— Пойдем.
Тихо, крадучись стали пробираться между несколькими хибарками, криво лепившимися к высокому берегу. Вот, наконец, и место, где насмотрели челнок…
А вот он и сам, странно выползший на берег, словно рассматривающий что-то занятное.
Сдерживая дыхание, влезли приятели в челн. Митька нащупал весла на дне.
— Ну, все, слава Богу, кажись… — вымолвил он, отталкиваясь веслом от берега.
Челнок уперся было, точно не желая везти похитителей, потом дрогнул, повинуясь силе, и с легким шуршанием скользнул на воду.
А собака лаяла между тем, хрипло, надрывисто, точно охваченная смертельным беспокойством. Угрозой проносился её лай по тихой воде, предостережением отдавался в лесу за хижинами.
— Ишь заливается! — пробурчал Митька, ловко работая веслами. — Ну, полай, полай, голубушка не страшно нам.
— А может быть не на нас она, — заметил Красавчик.
— Может, — согласился Митька. — Ты, Красавчик, смотри за поплавками то, чтобы не проехать нам.
Мишка устремил все внимание на воду, стараясь не пропустить место, где расставлены снасти. Митька греб, тихо погружая весла, чтобы не производить лишнего шума.
— Стой! Правее возьми! — вдруг скомандовал Красавчик. — Есть колобашка тут…
Митька гребнул веслом и обернулся. Красавчик возбужденно двигался на носу, наклоняясь к воде.
— Есть, есть… Вона в руке она у меня… Веревку нащупал.
Он повернул к приятелю возбужденное лицо. Митька вдруг рассмеялся.
— Чего ты? — слегка недоумевая спросил Мишка.
Митька подмигнул лукаво.
— Что мы сейчас делать-то будем?
— Как что? Рыбу таскать понятно.
Митька расхохотался.
— Воровать просто, — отрезал он.
— Воровать?
Красавчик растерянно как-то оглянулся по сторонам.
— Но это не воровство ведь.
— А что же, по-твоему? — ядовито спросил Митька. — Ведь рыба чужая.
Это обескуражило Мишку. Он не хотел сдаваться, однако.
— Да как же, — с досадой вымолвил он, — не воровство это. Это не деньги и не вещи, а рыба, и её много тут… Это не воровство…
Красавчик твердо был уверен, что таскать рыбу не воровство, и только не мог пояснить приятелю разницы между намеренной кражей и рискованной шалостью. Он возмутился даже.
— Ошманать кого-нибудь — воровство, — с горячностью доказывал он, — портсигар взять из кармана воровство, а рыбу взять из сети — не воровство. Ведь мы никого не шманаем. Разве ты не понимаешь?
Напоминание о портсигаре неприятно подействовало на Митьку. Он нахмурился.
— Ну, ладно. Пусть по-твоему будет. Нарочно я сказал это. Давай лучше снасть вытянем.
Оба увлеклись работой и не заметили, как на берегу, возле домиков показалась человеческая фигура. Человек несколько минут следил за мальчиками, потом вдруг побежал к челнокам, стоявшим невдалеке от изб.
Друзья тщетно пытались вытянуть снасть. Рискуя опрокинуть легкий челнок, оба перевесились через борт и в четыре руки тянули веревку, но снасть даже не поддавалась усилиям.
— Фу, черт! — выругался запыхавшийся Митька. — Так у нас ничего не выйдет. Надо в воду влезть.
— В воду? — удивился Красавчик.
— Ну да. Разденусь вот и нырну посмотреть, что там со снастью. Это момент один. А то до утра будем плясать вокруг этой колобашки безо всякого толка.
И не теряя времени, Митька скинул рубаху и штаны. Через минуту он уже погрузился в воду.
Мишка следил за ним взглядом, но, обернувшись случайно, онемел от неожиданности: прямо к ним от берега мчался легкий челнок, управляемый каким-то рослым парнем.
— Рыбак! — с ужасом воскликнул Красавчик.
В ответ на восклицание рыбак пустил какое-то ругательство по-фински и погрозил кулаком. Мишка не понял ругательства, но зато жест был настолько красноречив, что он невольно схватился за весла.
В этот миг вынырнул Митька. Он ухватился за челн и тяжело дышал, почти потеряв способность говорить.
— Митька, бежим! Рыбак настигает! — волнуясь крикнул Красавчик.
Митька посмотрел в сторону, откуда надвигалась опасность. Вражеский челнок был всего в нескольких саженях и Митька понял, что им не успеть спастись бегством.
В минуту опасности мозг Митьки привык работать с непостижимой быстротой. И теперь прошло не больше двух-трех секунд, как в голове его зародился смелый план избавления от опасности. Не сказав ни слова, Митька оттолкнулся от челнока и бесшумно поплыл навстречу врагу.
Красавчик остолбенел. Он ожидал от Митьки чего угодно, но не думал, что тот сам сдастся рыбаку. Ничего же другого он не видел в Митькиной проделке.
— Митька! — крикнул он другу. — Вернись!
Но тот продолжал плыть, словно и не слыхал оклика.
Прошло не больше минуты. Рыбак был совсем близко. Он бранился во все горло и грозил. Красавчик различал даже злобное лицо врага.
Вдруг произошло нечто непонятное. Челнок рыбака сделал странное движение, Непонятное проклятье сорвалось с уст финна, и с громким плеском он погрузился в воду. Челнок, перевернутый вверх дном, несколько секунд одиноко плавал на взволновавшейся воде. Потом вынырнула голова его владелец. Фыркая и кашляя, он поплыл к опрокинутому суденышку.
Все свершилось так неожиданно, что Красавчик застыл в недоумении. Он готов был видеть чудо во всем происшествии и, разинув рот, наблюдал за рыбаком, совсем забыв о грозившей опасности.
— Греби, Миша, скорее греби! — вывел его из оцепенения голос приятеля. — Я по пути влезу в челнок.
Мишка взялся за весла и легкий челнок заскользил по озеру, оставляя за собой злополучного рыбака и его опрокинутое судно.
— Что, брат, здорово? — спросил Митька, осторожно влезая в челнок с кормы.
Глаза его смеялись, лицо подергивалось от сдерживаемого смеха.
— Это ты его опрокинул?
Митька только головой мотнул: смех душил его, он не мог дольше сдерживаться и звонко расхохотался.
Красавчик не замедлил присоединиться к нему, и два звонких смеха, сплетясь вместе, далеко разнеслись по озеру. Вероятно, они коснулись слуха злополучного финна, потому что оттуда, где плавал он, донеслось длинное громкое ругательство. Судя по интонации, это было самое страшное ругательство, какое только имелось в запасе у рыбака. Друзьям же оно показалось только забавным, потому что они ответили на него еще более звонким хохотом.
Челнок все дальше и дальше уносил их от места приключения. Вот показался высокий берег, как бы окутанный туманом, а там и темная масса кустов, оберегающих пещеру…
V Приятная весть
Всю ночь Красавчик не сомкнул глаз. Сперва его волновали только что пережитые приключения, а потом захватили мысли о предстоящем дне. Он рисовал себе различные картины того, как придет к художнику и, что будет делать у него. Он не имел ни малейшего представления о художниках и никак не мог сообразить, какого свойства работа ожидает его. Тщетно пытался Красавчик проникнуть в смысл загадочных слов: «Я хочу написать тебя» — ничего не выходило.
«Написать тебя», — было крайне сложной загадкой. Мишка понимал только, что в этих словах заключается работа, за которую будут ему платить. Дальше этого не могла проникнуть его мысль. Другое дело фантазия. Она создавала самые чудовищные представления. Так Мишке казалось, что он не что иное, как письмо, которое художник собирается написать. Представлялась за одно и большая бутыль чернил (о чернильницах Красавчик знал лишь то, что они стоят на окнах магазинов) вместе с большим пером, какие приходилось видывать в витринах писчебумажных магазинов. Интересовала мысль: как-то возьмется художник за дело и больно ли это будет.
Митька спал сном праведника. Его ничто не волновало и не беспокоило. Раскинулся на моховой постели, запрокинув голову, и хмуро улыбался чему-то во сне. Это была улыбка ободрения и ласки, странной угрюмой ласки. Снилось ему, что Красавчик стал наконец «человеком» и показывает свою первую добычу. Это бумажник, наполненный деньгами.
Груды пестрых бумажек высовываются из всех отделений, тут сотни, тысячи рублей.
«Молодец, молодец! — одобряет Митька. — Ай да, Красавчик!»
Кругом нависли «фартовые». Тянутся любопытными лицами, сверкают завидующими взглядами. Слышатся завистливые похвалы. А он, Митька, стоит возле друга и гордо заявляет:
— Это мой ученик!
Вдруг странное смятение. Лица «фартовых» побледнели. Все сбились в беспокойную кучу, потом шарахнулись, рассыпались по сторонам.
— Обход! Обход!
— Беги! Беги, Мишка! Винти! — хочет крикнуть Митька и не может: что-то свинцом надавило грудь. Ужас охватил и оледенил кровь… Выросли перед глазами темные фигуры городовых, чья-то рука схватила Красавчика. Заметался в ужасе Митька и проснулся.
— Что с тобой? — испуганно спросил Красавчик. — Заорал ты так, что за версту поди слышно было.
Митька обвел всполошенным взглядом пещеру, друга и вздохнул с облегчением.
— Фу, так это сон был!
— Какой сон? — полюбопытствовал Мишка.
— Потом расскажу, ладно.
В поселок пошли вместе. Митька от скуки решил проводить Красавчика. Кроме того, он боялся, что одному Мишке не найти дорогу. Когда огибали озеро, Митька толкнул приятеля.
— Смотри.
В заросли возле берега стоял челнок. Он не был привязан и тихо покачивался на зыби.
— Это наш верно? — предположил Красавчик.
— Понятно. Видно его не искали еще… А здорово я чухну выкупал?
— Ловко!
Оба рассмеялись.
Красавчика, однако, ночное похождение мало интересовало, Его упорно занимала мысль о том, что придется делать у художника. Мишка решил поделиться ею с другом.
— Как ты думаешь, зачем я понадобился барину? — спросил он.
Митька покачал головой.
— А черт его знает. У господ разные блажи бывают.
— Он сказал, что хочет написать меня. Что это значит и как он будет меня писать?
Митька фыркнул.
— Написать? — он вскинул веселый взгляд на приятеля. — Да письмо ты что ли какое, ненаписанное?
— Вот и я думаю, — улыбнулся Мишка. — Ведь не чернилами же он меня мазать будет? — нс совсем уверенно добавил он.
— Тогда ты совсем красавчиком выйдешь! Хо-хо! — расхохотался Митька. — За целковый, знаешь, он тебя разукрасит…
Митька оборвал вдруг смех и схватил за руку руга.
— Чухна… тот… вчерашний.
По тропинке, навстречу мальчуганам шел высокие безусый парень. Стоило Красавчику взглянуть на него, что бы убедиться, что это был их недавний враг. Финн курил трубку и, казалось, не замечал детей. Шел прямо на них, попыхивая дымом.
Митька замедлил шаг.
— Узнал нас чухна или нет? — озабоченно шепнул он другу, не спуская глаз с рыбака.
Рыбак приближался не спеша, по-прежнему не обращая внимания на друзей. Только раз он кинул быстрый хитрый какой-то взгляд на мальчуганов и этого было достаточно. Митька перехватил взгляд и лукаво ухмыльнулся.
— Как бы не так. Тебе ли поймать нас, чухонское рыло, — пробурчал он. — Готовься винтить, Миша!
Он почти поравнялись с рыбаком. Равнодушное, словно каменное лицо финна вдруг преобразилось. Злобой вспыхнули глаза и он быстро подался вперед, протянув руки.
Два прыжка в стороны, топот быстрых ног и финн остался один на тропинке, нелепо растопырив руки. С секунду он недоумевал. Громкий хохот позади передернул его всего.
Митька и Мишка издали кивали ему головами и хохотали во все горло. Финн позеленел от злости.
— Hellevetti! — грозя кулаками зарычал он.
— Поймал, чухна? — дразнился Митька.
Финн сделал было движение, точно собираясь пуститься в погоню. Но понял видно, что это было бы бесполезно, и только прокричал своим маленьким врагам, неистово грозя кулаком:
— Затам я вам, тармоеты… Рипа чужая таскать… Лодка воровать… Лютей топить… Затам… Затам…
И в ярости добавил еще какое-то ругательство. Оно у него вышло таким смешным, что мальчуганы разразились неудержимым хохотом.
— А теперь он нас ловить будет, — заметили Мишка, когда, насмеявшись вдоволь, приятели двинулись дальше.
— Пусть ловит! — беспечно ответил Митька, срывая прутик с куста. — Пещеру ему не найти, а в лесу пусть погоняется за нами — только весело будет.
Но Красавчик не мог так легко отнестись к встрече. Злобный мстительный взгляд финна врезался в память и внушал тревогу. На душе залегло скверное предчувствие, что обозленный рыбак сыграет какую-то мрачную роль в их свободной жизни.
Подходили к поселку. Митька взял у приятеля карточку художника.
— Мигуновская, 32, — прочел он. — Где это будет? Да знаешь, Миша, это кажется и будет тот самый дом, что понравился тебе.
— Где сирень и разные фигуры в саду?
— Ну да. Тут написано: «Мигуновская, 32». — Мигуновская улица и будет сейчас, как кончается дорога, а дом 32 как раз будет тот самый дом или рядом с ним… Знаю я…
— Неужели тот самый?
Мишка даже взволновался.
— Говорю я…
— Хорошо бы это было! — вырвалось у Красавчика.
Митька с изумлением посмотрел на него.
— Что же хорошего?
Мишка не знал, что ответить. Он и сам не знал что хорошего будет, если дом окажется тем самым. Просто проникнуть в чудесный дом являлось для него какой-то заветной мечтой. Странная радость наполняла его душу при одной мысли о возможности такой удачи, рождались какие-то светлые предчувствия. Красавчик даже зарумянился слегка. Он поглядел на друга мечтательным взглядом.
— Не знаю я, Митя, только мне очень хочется.
Дом оказался тот же. Едва увидели номер на чугунной решетке, как Мишка весь задрожал от волнения.
— Этот! Этот!
Он крепко ухватился за руку Митьки, и голос его звучал радостью, даже восторгом.
Митька покачал головой. Странным и непонятым казалось ему поведение Красавчика.
Он не мог уяснить причину радости, вдруг охватившей друга.
— Ну, я пойду, Миша, — сказал он. — Ты найдешь дорогу домой-то?
— Найду, а ты куда?
— Пошляюсь чуть-чуть и домой потом. Может на станцию загляну.
— На станцию? — легкая тревога проскользнула в голосе Красавчика.
Митька уловил ее и слегка нахмурился.
— Не бойся, — буркнул он, — ведь обещал я.
Мишке стало совестно. Он покраснел слегка.
— Не о том я, Митя, — смущенно произнес он. — Ну, пока прощай…
— Прощай. Так не заблудись, смотри… С дороги в лесу вторая тропка направо, а не первая, помнишь?
Это Митька прокричал уже на ходу.
— Помню, — успокоил его Мишка — Ну, прощай!
— Прощай.
Оставшись один возле калитки, Мишка снова почувствовал сильное волнение. Он чувствовал, что лицо его почему-то пылало, а руки и ноги странно дрожали Несколько минут простоял он перед запертой дверью, не решаясь прикоснуться к белой фарфоровой кнопке звонка.
Сад казался ему теперь еще роскошнее, чем в прошлый раз. Причудливые клумбы, полные цветов, заросли сирени и других каких-то кустов, осыпанных розовыми пушистыми цветами, делали сад каким-то сказочным. Белые статуи, видневшиеся из-за листвы, казались зачарованными героями волшебных сказок, а дом с резаными колоннами и башенками — дворцом, в котором обитает фея.
И долго бы стоял Мишка возле калитки, если бы в саду не показался какой-то старик, в фартуке и в фуражке, с метлой в руке. Он заметил мальчика и подошел к калитке.
— Тебе чего? — довольно недружелюбно спросил он.
Сухое коричневое лицо старика, поросшее седой бородой и усами казалось угрюмым и суровым. Седые ниточки бровей хмуро нависали над глазами.
У Мишки на минуту язык присох к гортани от волнения. Он не мог вымолвить ни звука.
— Чего глазищи пялишь? — еще строже вымолвил старик. — Кого нужно тебе здесь?
— М… мне… господина Борского… — выдавил, наконец, Мишка.
— Борского? Леонида Аполлоновича? А пошто он тебе?
Старик уже с любопытством обозревал фигуру мальчика.
Мишка, как мог, пояснил, в чем дело. Лицо старика несколько прояснилось. Ворча что-то под нос, он распахнул калитку.
— Входи.
Красавчик нерешительно сделал шаг вперед.
— Да иди, не бойся: собак нету здесь, — ободрил его старик.
Он шел за стариком почти машинально. Голова его была словно в тумане каком—то, он ничего не видел и не слышал. Пошел вслед за провожатым по каким-то ступенькам и очнулся только тогда, когда очутился в сенях, наедине с какой-то высокой плотной женщиной.
Старик исчез. Женщина же ворчала, ни к кому не обращаясь:
— Новая блажь нашла… Бродяг разных в дом напускать… Неугомонный… Ну, иди за мной!
Это она крикнула Мишке… Огорошенный резким окриком и намеками на каких-то разных бродяг, которые он принял на свой счет, Красавчик робко поплелся за женщиной. Они поднялись по широкой лестнице, украшенной ковром и цветами, во второй этаж. Отсюда железная винтовая лестница вела еще выше. Женщина начала взбираться по ней, кляня себе под нос и какого-то барина и крутую, неудобную лестницу.
Красавчик карабкался вслед за ней и чувствовал себя точно во сне. Казалось, вот-вот он проснется и исчезнет широкая спина женщины и витая лесенка и сам дом, и он очутится снова в пещере над лесным озером.
Взобрались. Жестом велев мальчику подождать, женщина постучала в какую-то дверь. За нею глухо прозвучал знакомый, но недовольный почему-то голос:
— Кто, там?
— Я, барин, я — Марфа.
Красавчик удивился, что голос женщины теперь не таил и тени недовольства, а звучал ласково и подобострастно.
Раздались шаги за дверью, щелкнул ключ. Красавчик увидел знакомую фигуру художника, облаченного в широкую, длинную серую блузу. Брови Борского были слегка нахмурены, точно он был недоволен, что ему помешали. Увидев мальчика, художник ласково улыбнулся, и улыбка эта смыла недовольство. Глаза его засветились добрыми, хорошими огоньком.
— А, пришел, Миша? Ну, и отлично. Иди, брат. Вы, Марфа, можете идти.
Он подался вглубь комнаты, жестом приглашая Красавчика войти. Тот робко переступил порог.
Громадная комната вся была залита светом. И стены и потолок у нее состояли из окон, местами задернутых цветными шторами. На полу у стен и на треножниках стояли картины. Одна громадная занимала чуть ли не пол комнаты. В углах и даже посреди комнаты возвышались какие-то статуи, на табуретах и мягких диванах валялись палитры, кисти, ящики с красками. В комнате царил такой беспорядок, точно её обитатель спешно готовился к отъезду.
Красавчик не ожидал увидеть что-нибудь подобное и остановился в изумлении. Картины, глядевшие отовсюду, напоминали ему выставку на окне художественного магазина на Морской, у которой часто и подолгу стаивал Мишка, смотря на картины. Теперь ему показалось, что он попал в такой магазин, но краски и кисти навели его мысль на настоящий путь. Он сообразил вдруг, что художники и есть те люди, что пишут картины. Он уже с любопытством взглянул на Борского.
Борский наблюдал за мальчиком, не мешая ему оглядеться и прийти в себя. Сперва недоумение, а потом любопытный взгляд Красавчика открыли художнику мысли, проносившиеся в маленькой голове. Он улыбнулся.
— Да. Миша. Я художник и пишу разные картины — ничего не поделаешь. Тебе не приходилось разве видывать художников?
— Нет, — смущенно ответил Мишка. Он не знал, куда деть руки, и теребил ими куртку. Но тут они казались какими-то неуместными, и Красавчик поспешил засунуть их в карманы.
Правая рука натолкнулась на что-то плоское и твердое. Это был портсигар художника, о котором Мишка совершенно забыл. Он поторопился извлечь его.
— Вот, покраснев вдруг до корней волос, — промямлил он, — мы нашли… вы потеряли… вот…
Рука, протягивавшая портсигар, дрожала… Красавчик боялся глядеть на художника, опасаясь, как бы тот не заподозрил истину.
— Мой портсигар? — воскликнул художник. — А я-то думал, что потерял его невозвратно, Спасибо, Миша, спасибо. Ты совсем славный мальчик, оказывается.
Мягкая рука погладила Красавчика по щеке, потом взяла за подбородок и приподняла опущенную голову. Глаза мальчика встретились с ласковым взглядом художника. Мишка покраснел еще пуще: его смущала непривычная ласка и похвала, казавшаяся незаслуженной.
— Ты не бойся меня, Миша, — звучал мягкий хотя и густой голос, — я тебе ничего дурного не сделаю.
Мягкий ласковый голос располагал к себе, Мишка почувствовал влечение к этому лохматому смуглолицему человеку с такими проницательными и добрыми в то же время глазами. Глаза эти ободряли и ласкали в то же время под их взглядом исчезали смущение и неловкость, точно лед таял под лучами солнца.
— Ну, возьмемся теперь и за работу, прервал разговор художник. Ты не устал?
— Нет.
— Есть хочешь, может быть?
Мишка горел нетерпением узнать, в чем будет заключаться его работа. Он отрицательно покачал головой.
Тут начались странные, совершенно непонятные для Красавчика приготовления.
Художник окинул его пристальным внимательным взглядом. Потом выдвинул на середину комнаты мягкий табурет и усадил Мишку. Отошел шага на два и снова внимательно поглядел на мальчика.
— Не… не то, — покачал головой художник и, снова подойдя к Мишке, начал бесцеремонно поправлять руками положение головы и рук мальчика, точно тот был не живым человеком, а просто куклой.
— Не шевелись и голову вот так… Руку сюда… Да не так… Правую немного выше… Экий ты! Локоть-то не нужно оставлять… Вот так… Говорю, убери локоть!
В голосе Борского звучало нетерпение и даже раздражение; Мишка перетрусил, подумав, что рассердил чем-нибудь художника. Тот же был поглощен до такой степени постановкой натуры, что не замечал испуганного лица мальчика.
— Ногу на ногу… Так… Подайся немного вперед… Да не верти же голову… Не шевелись… Так, хорошо…
Художник снова отошел на несколько шагов и, как показалось Мишке, взглянул на него таким свирепым взглядом, что у бедняги душа ушла в пятки. Невольно он двинул рукой.
— Говорю, не шевелись! — прикрикнул художник, но заметил испуг в лице мальчика, и ласковая улыбка скользнула по его губам. — Ты не бойся, малыш… Нужно сидеть совсем тихо, — мягко пояснил он, — это нужно мне.
Наконец приготовления были кончены. Художник подвинул мольберт и взял в руку уголь.
Мишка весь поглотился вниманием. «Как это он писать будет?» — промелькнула мысль.
— Теперь совсем, совсем не шевелись. Когда устанешь — скажи.
Захрустел уголь на холсте. Художник быстрыми взмахами наносил черные черты, поминутно бросая на Красавчика странные, проницательные взгляды…
«Это-то и значит верно написать меня?» — думал Красавчик, следя за работой художника. Он сидел тихо, боясь пошевелиться, даже вздохнуть.
Художник весь ушел в работу и, хотя часто посматривал на Мишку, но казалось, будто не замечает его. От этого Мишкой овладело странное, жуткое чувство. Ему казалось будто он окаменел, превратился вдруг в какую-то вещь, на которую можно смотреть и в то же время не замечать.
Долго думать об этом не пришлось. Красавчик скоро почувствовал усталость: он не привык подолгу просиживать в одной позе. Прошло всего несколько минут, а ему уже показалось неудобным то положение, которое художник придал его членам… Заныла рука в локте… Захотелось передвинуть ее немного, но Мишка боялся и геройски решил выдержать до конца.
Зачесалась спина. Сперва слегка, но через минуту зуд стал почти невыносимым. Мишка еле сидел. Рука сама тянулась назад, и трудно было удержать ее на месте.
«Сказать разве, что устал?» — подумал Мишка, взглянув на художника.
Тот совершенно ушел в работу и с таким увлечение вычерчивал углем на холсте, что Мишка не рискнул слова вымолвить.
«Заругает чего доброго!»
Спина чесалась так, что не было сил терпеть. Напрасно Мишка сжимал зубы и старался забыть про зуд — он невыносимо напоминал о себе. Даже слезы навернулись на глазах у бедняги.
«Ох Господи! Не вытерплю, не вытерплю!» — почти шептал он, между тем как художник и все в комнате закачалось и расплылось, как в тумане.
«Не вытерплю, ей-богу!»
Мишка страдальчески сжал веки. Две крупные слезы выкатились из глаз.
— Что с тобой?
Удивленный и даже испуганный голос художника заставил Мишку вздрогнуть. Он открыл глаза. На лице художника было участие и недоумение.
— Ты устал? Отдохни тогда.
— Спина! — чуть не с плачем вырвалось у Красавчика и он с наслаждением почесался.
Громкий смех Борского смутил мальчика. Он растерянно взглянул на художника, и волна беспричинного стыла залила густой краской его личико.
— Зачесалася, — потупляя взор, прошептал он, точно оправдываясь.
— Это бывает, — еле сдерживая смех, ободрил художник мальчика, — бывает… И всегда, знаешь, зачешется, когда не нужно..
Мишка вполне согласился с этим и приободрился слегка.
— А дело у нас клеится! — все еще с бурной веселостью в тоне продолжал художник. — Вот посмотри-ка!
Ему хотелось рассеять смущение Красавчика и он подвел его к холсту.
— Ну-ка, кто это?
Мишка взглянул на полотно, отступил и потом уставился взглядом на Борского. И во взгляде этом было столько изумления и удивления, что художник опять рассмеялся.
— Ну, кто же это?
— Я… — пролепетал Мишка снова воззряясь в полотно.
Не было сомнения. На холсте был он, собственной персоной. Из ряда черных черточек ясно выступало его лицо, его фигура.
Мишка опять поглядел на художника тем взглядом, каким смотрят на сверхъестественное и непонятное. Во взгляде этом было почтение и даже что-то вроде страха.
— Ловко! — вырвалось у Мишки одобрение, развеселившее в конец художника.
Мишка ушел от Борского в этот день гордый и счастливый. В кармане побрякивали два блестящих серебряных рубля, и в затуманенной от счастья голове сладко звучали слова художника: «Приходи завтра утром снова. Вот тебе деньги: рубль за работу, а второй за то, что нашел портсигар. Спасибо и будь здоров».
Мишка не шел, а летел домой. Он торопился поделиться с другом своим счастьем.
«Вот вытаращит-то глаза, — раздумывал он, вприпрыжку несясь по пыльной дороге. — Ишь, что говорил про таких баринов: денег у них нет… А это что?»
Красавчик звонко рассмеялся и, вынув монеты, подбросил их. Рубли зазвенели, сверкнув в воздухе.
И Мишка ловко поймал их на лету. Звон монет преисполнил гордостью его душу.
— Заработал, не выплакал! — воскликнул он, пускаясь вскачь по лесу.
Душа его ликовала, и ему казалось, что все вокруг ликует так же, как он: жаворонок, сыпавший с неба звонкую трель, и лес впереди, и поле, залитое ярким солнечным светом.
Митьку он нашел в пещеру. Шманала лежал на своем ложе и о чем-то думал. Когда появился Мишка, он встряхнулся, как человек, отгоняющий от себя докучливые мысли, и улыбнулся другу.
— Что ты так долго?
— Нельзя было: работа.
Это было сказано не без важности.
Митька снова улыбнулся снисходительно. Он, казалось, не имел ни малейшего желания спрашивать о чем бы то ни было, и холодность эта слегка охладила пыл Красавчика. Он вытащил из кармана рубли и подбросил их на ладони, думая этим произвести впечатление. Но Митька был в этот день что-то слишком хладнокровен.
— Два? — спокойно спросил он, впрочем одобрительно улыбаясь.
— Два. Один за работу, а другой за портсигар.
Митька поморщился.
— Не нужно бы брать.
Красавчик остолбенел.
— Не нужно?!
— Не нужно, — повторил Митька, — ну да раз взял — все равно.
Мишка ничего не понимал, но потребность поделиться с другом впечатлениями дня, рассеяла недоумение. Он присел возле друга и прямо залпом выложил ему все: и о том, какой добрый и ласковый художник, и о том, как пишут кого-нибудь, и наконец, как похоже «написал» его художник.
Митька слушал, снисходительно улыбаясь, и в то же время видно было, что мысли его заняты совсем не рассказом, а чем-то другим. Хотя губы его и улыбались, но в глазах светилась какая-то упорная дума.
Красавчик наконец заметил это.
— Что с тобой, Митя?
Вместо ответа Митька поглядел на приятеля странным каким-то взглядом.
— А ты знаешь, что Крыса в тюрьме?.. Засыпалась…
— Ну-у?
Мишка так и застыл, подавшись туловищем к приятелю.
— Верно, засыпалась?
— Верно, раз говорю!
Весть была крайне необычайна. В первую минуту она ошеломила Красавчика, не вызвав в его душе никаких определенных ощущений. Потом злорадство шевельнулось в душе.
— Так ей и надо! — вырвалось у Мишки.
Митька пытливо взглянул на товарища.
— Ты рад, небось?
— Рад… Пусть попробует, как сладко в тюрьме.
Но тут вспомнились вдруг унылые дни, проведенные в тюрьме, побои, грубые окрики и брань, и грусть охватила. Красавчик представил себе Крысу в таком положении, и горбунья показалась уже не страшной ведьмой, а просто несчастной женщиной. Жалость шевельнулась, Мишка вздохнул.
— Не-ет, — тихо проворчал он. — Чего мне радоваться? Она сама по себе, а мы сами по себе.
Но все-таки несмотря на чувство жалости, весть о том, что Крыса в тюрьме, носила в себе и нечто приятное. Мишка вдруг почувствовал себя легче, свободнее. До сих по его кошмаром угнетала мысль, что когда-нибудь он может снова очутиться у Крысы, а теперь этот гнет отпадал. Невольно сорвался с губ опасливый вопрос:
— А ее скоро выпустят?
Митька безнадежно свистнул.
— Ну, нет. Нам-то ее никогда не увидеть.
Только теперь Мишка вспомнил, что так и не спросил у друга, откуда у него такие поразительные новости. Он с удивлением поглядел на Митьку.
— А как ты узнал?
— Про Крысу?
— Ну да.
— А на станции.
Красавчик шире раскрыл глаза.
— Сашку-Барина встретил, — пояснил Митька как-то нехотя. — Он мне и сказал. Замели ее, когда она фартовое покупала. Сашка говорит, что пауки давно за ней следили. Узнали как-то про ребятишек ейных. Говорят, у нее и краденые ребята были…
Митька остановился и бросил на приятеля хмурый взгляд.
— Ты тоже краденый, — угрюмо добавил он.
— Я краденый?
Мишка даже привскочил.
Шманала продолжал лениво, точно не замечая движения приятеля:
— И ты краденый и Сонька Горбатая… А Сашка-Барин звал меня работать с собой в Финляндию, — переменил Митька тему разговора, которую, по-видимому, мало нравилась ему.
Заявление это было достаточно, чтобы направить мысли Красавчика в другую сторону. Сразу тревога засветилась во взоре Мишки.
— Звал?
— Звал: «Мы с тобой, говорит, много дел натворим. Ты, говорит, такой, какого мне надо…»
— Ну, а ты?
— Я сказал, что не пойду.
Красавчик вздохнул облегченно и любовно поглядел на друга.
— Так и сказал, Митя?
— Да. Что, я не могу один что ли работать?
Митька отвел взгляд в угол пещеры, точно смутился чего-то.
После истории с портсигаром художника, Шманала почувствовал себя очень скверно. Он ничего не говорил Мишке, но в душе его совершался мучительный переворот. Ему почему-то вдруг опротивело ремесло, которым он так гордился. И это мучило, угнетало его. Ни словом не обмолвился он о том, что предложение Сашки, которым бы он гордился два месяца тому назад, теперь вызывало в нем какое-то странное брезгливое чувство.
Весь вечер Митька был хмур, подавлен чем-то и почти не разговаривал. Красавчик, несколько раз заговаривал с ним о Крысе, неизменно сводя разговор на волнующую его тему о том, что он «краденый». Но Митька не поддерживал разговора, и хмурился еще больше, точно беседы эти были ему крайне неприятны. Красавчик не мог понять, что твориться с другом. Пытался он развеселить приятеля, но ничего не помогало.
Улеглись спать рано, но заснуть не могли. Митька хоть и притворялся спящим, но чуткое ухо Красавчика улавливало в тишине кое-какие звуки, говорившие о том, что Митьке не спится. Он ворочался на своем ложе, и, как показалось Мишке, даже вздыхал.
Красавчика тревожило состояние друга. Несколько раз хотелось ему подойти к Митьке, расспросить его, утешить, если можно было. Он чувствовал, что Митьку мучает что-то, и мучился за него. Однако расспросить приятеля не решался: Митька не любил, когда приставали к нему с участием.
Совсем стемнело в пещере. Только сквозь просветы кустов мутнел бедный сумрак белой ночи. Из лесу доносились ночные шелесты и шумы.
— Миша! — раздался вдруг в пещере тихий оклик. В нем слышалась нежность и глухая тоска.
Мишка встрепенулся.
— Что, Митя?
Молчание.
Охваченный странным волнением, Мишка болезненно-чутко прислушался, но Митька молчал.
— Что, Митя? — снова спросил он, и от волнения голос его задрожал.
— Поди ко мне…
Одним прыжком Красавчик переселился на постель друга. Его встретили две горячие руки и обняли словно невзначай.
— Мишка, — раздалось шепотом, почти над самым ухом, — ты не уйдешь от меня?
Это было сказано с такой непривычной для Митьки тревогой и тоской, что у Мишки невольно прошибло слезу. Он прижался к другу и почти не осознавая что делает, обвил его шею рукой. Митька не сопротивлялся.
— Митя, да что ты?! Что ты говоришь? Зачем? Как же я могу, — взволнованно заговорил Красавчик. — Как же я могу уйти от тебя?.. Мы всегда вместе будем…
— Мало ли что может случиться, — уклончиво заметил Митька. — Вот ты краденый, — помолчав немного добавил он, и по тому, каким тоном говорилось это, видно было, что Митька решил высказать все самое главное, что волновало и тревожило его: — Ты краденый и у тебя могут найтись мать с отцом… Ну, — голос снова дрогнул, — тогда ты и уйдешь от меня… Тогда…
— Нет, Митя! — горячо прервал Мишка, крепче сжимая шею приятеля. — Ей-богу, не уйду… Вот тебе крест…
И Мишка торопливо перекрестился левой рукой, правую он не решился отнять от шеи друга.
— Ну, спасибо…
Точно тяжесть какая-то свалилась с Митькиной души. Мишка почувствовал, что руки Шманалы слегка прижали его стан. Это была единственная ласка, на которую решился Митька. Как бы ни незначительна она была, но душа Красавчика наполнилась ликованием. Он плотнее прижался к другу, но Митька нежно отстранил его.
— Пора спать, Миша.
Было похоже, что Митька устыдился своей слабости.
VI Митька осиротел
Больше недели прошло, не внеся ничего особенного в жизнь друзей. Красавчик ежедневно посещал художника, и тот уже успел написать его в нескольких позах. Митька обычно сопровождал друга в поселок, потом возвращался к озеру или бродил по лесу, поджидая приятеля. Два-три часа, что приходилось ему проводить в одиночестве, тянулись как-то чересчур медленно, и Митька удивлялся даже, как ухитрился он в прошлом году прожить в одиночестве целых два месяца. В первые дни, проводив друга, он направлялся на станцию, где и просиживал пару часов, не особенно скучая. На станции постоянно толкался народ, приходили и уходили поезда, внося некоторое оживление.
Время проходило почти незаметно. Но в конце концов оказалось, что посещать станцию было далеко небезопасно, и Митьке пришлось отказаться от этого развлечения.
Сидел как-то Митька на скамейке возле входа в буфет и от нечего делать следил за резвящимися ребятишками. Двое мальчуганов бегали взапуски по платформе, наполняя знойный сонный воздух визгом и гамом. Рядом с Митькой сидела толстая сонная няня, по временам кричавшая сердитым голосом на детей по-немецки. Митька не понимал ее и только по тону догадывался, что она запрещает что-то ребятишкам, но те мало обращали на нее внимания, и это, главным образом, забавляло Митьку. Он посмеивался про себя и мысленно поощрял шалунов:
— Так… так… подальше ее пошли…
Из буфета вышел высокий плотный господин в светло-сером пальто и котелке на голове. Мальчики мигом прекратили возню и подбежали к скамейке. Толстая нянька начала что-то быстро говорить господину, указывая поминутно на ребятишек, сразу притихших и виновато потупившихся.
«Жалуется, подлая, — подумал Митька. — А это отец, должно быть…»
Тут заговорил по-немецки же незнакомец, очевидно браня шалунов. Голос показался Митьке странно знакомым, и он внимательно присмотрелся к незнакомцу. Тот стоял спиною к нему, но тем не менее плотная фигура казалась знакомой.
Митька напряг память, силясь припомнить, где ему приходилось слышать этот голос и видеть эту солидную фигуру. Долго думать не пришлось. Незнакомец повернулся и Митька почувствовал трепет: это был сыщик Жмых, как его прозвали в темном мире, с которым Митьке не раз приходилось сталкиваться. Жмых хорошо знал Митьку, и юный бродяга почувствовал себя замечательно скверно, точно его вдруг посадили на иголки. Взгляд сыщика рассеянно скользнул по Митькиной фигуре…
«Узнает, узнает» — задрожал Шманала, стараясь в то же время ничем не выдать своего волнения.
Холодные серые глаза Жмыха отразили легкое изумление и внимательнее пригляделись к мальчику.
«Узнал!»
Сердце сильно застучало в груди у Митьки. Он не сомневался, что Жмых знает о побеге из тюрьмы: этот сыщик всегда особенно интересовался Митькиной особой. Между юным карманником и опытным сыщиком даже было нечто вроде состязания, и Митька не раз дурачил Жмыха, чего тот не мог ему простить. Не было сомнения, что теперь Жмых не упустит случая отомстить. Времени нельзя было терять. Митька и вида не подал, что узнал сыщика. С самым равнодушным видом поднялся он со скамьи и пошел не торопясь по платформе. Нужно только обогнуть станционное здание и тогда задать тягу. Не оглядываясь, Митька чувствовал, что Жмых следовал за ним, и он еле сдерживал себя, чтобы не броситься бежать со всех ног, что было бы равносильно гибели: по одному знаку Жмыха его задержали бы.
Впереди показался поезд. Сторож ударил в колокол. На платформу вышел начальник станции и следом за ним жандарм. Это ухудшало положение, так как Митька внезапно очутился между двух огней. Он видел как жандарм поглядел сперва на сыщика, а потом на него и ему стало ясно, что Жмых подал знак.
Положение становилось безвыходным. Несколько мгновений мозг Митьки отчаянно работал. Он окинул взглядом перрон, подходивший поезд и вдруг его осенила безумно смелая мысль… Лишь бы поезд подоспел вовремя!
Поезд был всего в нескольких саженях. Митька чувствовал, что через секунду Жмых схватит его, и ускорил шаг. Жандарм шагнул ему наперерез. Рука Жмыха коснулась плеча. Митька видел, что и жандарм сделал торопливое движение. Он отчаянно рванулся, прыгнул и перелетел через рельсы, почти по буферами паровоза.
Крик ужаса раздался позади и мгновенно потонул в грохоте колес поезда. Живая стена замедляющих бег вагонов отделила Митьку от преследователей. Через минуту он уже был вне опасности.
— Меня вздумал ловить, рыжий черт! — бормотал он, пробираясь пустынным закоулком. — Как бы ни так!
Радость за счастливое избавление и гордость наполняла его душу. Он вспомнил попутно случай, когда Жмых был так же ловко одурачен им, как и сегодня, и рассмеялся.
— Сыщик тоже! — презрительно протянул он и даже сплюнул. Холодком обдало воспоминание о поезде, который мог ведь и задавить… Митька содрогнулся… «Что бы тогда Красавчик делал?» — подумалось.
Митька постарался отогнать эту мысль и представить себе лица сыщика и жандарма в тот момент, когда поезд отрезал его от них… снова стало смешно.
— Крикнул-то Жмых!.. А тот ругался верное здорово…
И опять Митька расхохотался во все горло.
«А на станцию-то теперь больше не сходишь, — подумал он в эту минуту. — Верно Жмых живет здесь и теперь поднимет историю».
Митька не ошибался. В то время, когда гордый и довольный своим подвигом, шел он через поселок, Жмых беседовал с жандармом. Жандарм сообщил ему, что часто видел Митьку на станции, и это навело сыщика на некоторые размышления. Занятый Митькой, Жмых даже пропустил поезд, на котором собирался ехать в Петербург вместе с женой и детьми. Зато его, видимо удовлетворила беседа с жандармом.
«Шманала скрывается где-нибудь в окрестности, — решил он про себя. — Нужно оповестить местную полицию». И уже на следующий день у местного урядника было предписание задержать Митьку, при нем прилагалась его фотографическая карточка и подробное описание примет.
Вечером Митьке было, что порассказать приятелю. Друзья лежали на песчаной косе, вдававшейся в озеро, и Шманала не без доли самодовольства описывал Мишке свое приключение. Красавчик слушал, почти не переводя дыхания. Когда дело дошло до прыжка под надвигающимся поездом, Красавчик изменился в лице.
— Ведь тебя раздавить могло! — в ужасе воскликнул он.
— Могло, — спокойно согласился Митька. Ему было приятно, что Красавчик перепугался за него. — Могло, да не раздавило, — повторил он. — Я и не из таких передряг выходил живым.
Он улыбнулся, как бы желая успокоить волнение друга, но это не так-то легко было сделать. Мишка ясно представил себе картину, как Митька прыгает через рельсы, а на него надвигается грохочущее и шипящее железное чудовище. Его дрожь проняла и сердце похолодело при мысли, что Митька мог сорваться, упасть и тогда… Красавчик даже зажмурился от ужаса, точно все происходило сейчас на его глазах…
— Митя, — он поднял на друга молящий взор, — не ходи больше на станцию.
Митька усмехнулся.
— Не бойся, не пойду. Теперь туда носа не сунешь… Да и так-то надо держать ухо востро.
— Почему «и так»? — не понял Красавчик.
— А Жмых, думаешь, уступит? Он теперь будет ловить — только держись. Чует он, что мы здесь.
Мишка испугался.
— Откуда он знает?
— Где мы живем он не знает, — пояснил Митька, — а чует только, что мы поблизости хоронимся… Теперь и к дачникам ходить нужно с опаской.
Замолчали. Звенела тонкая рябь, набегая на камни, шуршала выкидываясь на песок. Красные лучи солнца трепетали на ней, переливались малиновыми оттенками. Лес глухо шумел и из него доносилось монотонное тоскливое кукование…
— Митя, — нарушил молчание Мишка, — чего им нужно от нас? Ведь ничего мы им не делаем, зачем же им ловить нас?
Тоской и тревогой звучал вопрос.
Митька нахмурился.
— Зачем? А кто тогда сидеть в тюрьме будет? — мрачно иронизировал он. — Мы с тобой теперь отпетые… Хоть самую расчестную жизнь будем вести, а все-таки, коли сцапают нас, то засадят.
Он швырнул в воду камень, подвернувшийся под руку, и, следя за кругами на воде, продолжал:
— Они не дадут нам покоя… Уж если возьмутся за кого, так доконают… Не дадут житья.
И Митька рассмеялся злобно и горько. От этого смеха и от слов повеяло такой безнадежностью, что сердце Красавчика тоскливо сжалось.
— Доконают, — шепотом повторил он, и горечь залегла в душе. Страшно становилось, точно нависло над головой что-то неумолимое, что должно было «доконать», «не дать житья…» И было это до слез несправедливо.
Покойно было кругом… Но в самом этом покое, казалось, притаилось что-то страшное, опасность, выжидающая момента, что бы доконать… Шум леса точно предостерегал, а тоскливое ликование хватало за душу, словно накликало беду.
Митька совсем нахмурился… Он переживал то же, что и Красавчик. Кроме того, горькой насмешкой казались ему благие намерения бросить опасное ремесло, которые он пока таил только про себя. «Брось, не брось, — думалось, — все равно сцапают и запрячут. Ведь мы как бы меченные». Но тут же утешил себя: «А черт с ними! ведь снова сбежать можно!»
И, успокоенный этой мыслью, почти вымолвил вслух:
— Брось печалиться, Миша! Что будет, то будет! Пока мы еще поживем, не так ли? Увинтили же мы раз из тюрьмы, увинтим и еще двадцать раз, коли надо будет. Это уж я тебе верно говорю! С Митькой-Шманалой не пропадешь!
Красавчик грустно усмехнулся.
— Не хотелось бы совсем попадаться…
— И не попадемся! Брось кукситься пока… Пойдем-ка поедим с горя… Пора ужинать.
С этого дня Митька прекратил посещения станции, да и появляясь в поселке, он соблюдал крайнюю осторожность: Жмых по-видимому жил здесь на даче и попадаться ему на глаза совсем не входило в Митькины расчеты.
В половине июня погода испортилась.
Как-то утром Красавчик проснулся совершенно окоченевшим от холода. В пещере было темно, холодно и сыро. Мишка накинул на плечи арестантскую куртку, закутался в нее, но и куртка, казалось, пропиталась мозглой сыростью, не согревала. Мишка корчился, жался под курткой, тер неприятно застывшие руки, а ледяная дрожь пробегала по спине… Он не выдержал наконец и встал.
Митьки в пещере не оказалось. Это озадачило Мишку. Он выглянул сквозь кусты, мутный туман окутывал озеро и лес. Сквозь его массу проглядывали, точно призраки, верхушки деревьев, бледные, расплывчатые. Небо было мутно-серым, тяжелым и, казалось, нависало между деревьями. Из туманной мглы падали мелкие липкие паутинки дождя.
«Куда ушел Митька?» — задумался Красавчик, нерешительно поглядывая в холодную сырую пустоту. Он хотел было выйти в из пещеры, но не решился: слишком холодно и неприглядно было в лесу. Мишка вернулся, и уселся на корточках в углу пещеры, кутаясь в куртку и дыханием стараясь согреть руки. Долго сидеть не пришлось. Послышался треск кустов у входа. Какая-то темная масса вкатилась в пещеру. Послышался голос Митьки.
— Красавчик!
— И…я, — щелкнул зубами Мишка, высовывая голову из-под куртки.
Митька притащил громадную вязанку хвороста.
— Ну и погода, — заговорил он, сбрасывая хворост на пол. — Осень чистая… Холодно страсть… А ты чего в угол забился?
— Г…греюсь… — У красавчика зуб на зуб не попадал.
— Ну там-то не согреешься… Вот сейчас костер разведем. А ты очень прозяб?
— Очень.
— На вот, возьми пока и мою куртку. Только мокрая она.
Митька накинул свою куртку на голову приятеля.
— А ты как же? — услышал он глухой вопрос.
— А мне и так жарко. Я согрелся, собирая хворост.
Митька великодушно соврал: оставшись в легкой коломянковой рубашке, он задрожал от холода.
Отсыревший хворост плохо разгорался и отчаянно дымил. Митька долго раздувал огонь, пока яркое пламя не выкинулось столбиком над кучкой топлива.
— Ну вот, — красный от натуги, заявил Митька, — огонек на славу.
Мишка присел к костру. Закутанный в две куртки он походил на клубок тряпья, из которого выглядывало посиневшее лицо с дрожащими губами.
Дым от костра наполнял пещеру, рваными клочьями вырывался сквозь кусты у входа и терялся в тумане. Защипало в горле и глазах, но стало теплее.
Митька хлопотал у костра, готовя завтрак. В золе пекся картофель. Маленький жестяной чайник шипел на угольях — друзья обзавелись кое-каким хозяйством на заработанные Мишкой деньги.
— Не пойдешь сегодня к барину? — спросил Митька, передавая приятелю кружку с горячим чаем.
— Как не пойду? Нужно идти, — заволновался Мишка. — Ведь он ждать будет.
— Дождь…
— Дождь ничего… Не размокну. Вот обогреюсь, и хорошо будет…
Но как-то плохо подвигалось согревание. Красавчик жадно глотал горячий чай. Он обжигал внутренности, но снаружи плыла по коже мелкая, неприятна дрожь. Голова казалась странно тяжелой и болела немного… Слегка покалывало левый бок.
Лицо хотя и отошло, но тепло не вызывало на нем румянца. Глаза как-то потускнели и вообще, Мишка выглядел понурившимся… Митька обратил на это внимание.
— Что с тобой? — тревожно вглядываясь в лицо друга, спросил он.
— Ничего… Холодно, — вяло ответил Мишка.
— Ну согреешься, ничего…
И он подбросил в огонь охапку хвороста. В костре зашипело, повалил, густой дым, и пламя заглохло на минуту; потом пробилось, вскинулось на ветки, полизало их и столбом поднялось кверху, почти достигая потолка пещеры.
— Жарко…
Митька, разгоревшийся, вспотевший, отодвинулся от костра.
— Что в бане! — улыбаясь добавил он.
Красавчик не находил этого. В пещере хотя и было жарко от костра, но по спине его ползли мурашки, и было холодно, точно за воротом рубашки лежал кусок льда. Мишка чувствовал себя очень скверно. Ему не хотелось даже шевелиться, и он точно застыл, скорчившись у костра.
Как ни плохо было Красавчику, а все-таки он отправился к Борскому. По дороге он разошелся немного. Сперва голова будто бы сильнее разболелась и закружилась, но потом это прошло. Мишка даже побежал наперегонки с другом и как будто бы согрелся. Когда подходили к поселку, ему стало даже жарко. На щеках проступил румянец, глаза заблестели каким-то странным блеском… Сухие ладони и ступни ног горели… Голова же стала как будто тяжелее.
Борский, здороваясь с Мишкой, задержал его руку в своей и пытливо заглянул ему в глаза.
— Что это? Жар у тебя?
Пощупал лоб и спросил участливо:
— Ты не болен? У тебя ничего не болит?
После бега у Мишки сильно кололо в левом боку, так что трудно было дышать, голова болела, и тяжелые горячие веки закрывались сами собой. Однако он покачал головой:
— Мне холодно было, и мы бежали… Я и согрелся.
Ответ удовлетворил художника.
Теперь Мишка позировал лежа.
Он расположился на ковре в нужной позе. Поза была удобная, и Красавчик мог лежать, не меняя положения часа два. Сегодня это было на руку: он чувствовал, что не мог бы сидеть — отяжелели почему-то вдруг все члены и голова кружилась.
Он лежал с полчаса. Было нестерпимо жарко и это удивило Мишку. И что страннее всего, несмотря на жар, по телу пробегала легкая дрожь, совсем не холодная: точно обдавали кожу мелкими каплями теплой воды. Болел бок и было трудно дышать… Губы запеклись… Голова кружилась…
Потом начали твориться совсем странные вещи… Какой-то теплый туман окутал мозг, и все поплыло, закружилось перед глазами… Мелькнуло лицо художника, картины… Потом стены заколебались, раздвинулись… Откуда-то вынырнул Митька, но какой-то необыкновенный, смешной… Мишка потянулся к нему, но он скорчил гримасу и пропал… Вспыхнули вдруг яркие цветные огни… От них стало нестерпимо жарко… Что это? Господи! Да ведь это тюрьма горит… Так и пылает! Вот и Крыса в ней… Силится выскочить из огня, ругается и зовет на помощь… Да спасите же ее, а то сгорит… сгорит… Сыщики прибежали… Чего им нужно? Что? Нет, он не убежал из тюрьмы… Он просто «краденый», а сам никогда не крал… Зачем же в тюрьму… Красавчик силится отбиться от сыщиков и вдруг видит, что это собаки напали на него… Помогите, а то они разорвут! Собаки… А вот кто-то стоит и смеется, злобно смеется… Ах да, ведь чухна-рыбак… Славно его выкупал Митька в озере… Ха-ха-ха! Но Митька где же?.. Вот поезд надвигается, гремит и шипит… Огонь пышет из трубы… Страшно глядят яркие глаза-огни, красные, точно кровью налились… Митька показался… Смеется и прыгает под поезд… Красавчик крикнул от ужаса… Все пропало и стало темно и пусто… Никого нет… Страшно…
* * *
В этот день Митька напрасно поджидал друга. Наступил вечер. Серый дождливый день потускнел, туман спустился над озером. Стало холодно, неуютно.
Митька раздул огонь и принялся готовит ужин, поджидая приятеля. Он прислушивался к каждому звуку извне, надеясь услышать знакомые поспешные шаги. Но время тянулось, а Красавчика не было. Митька начинал беспокоиться.
Сперва он не особенно тревожился. Красавчик запаздывал иногда, когда художник увлекался работой. Митьке угнетали только одиночество и унылый, словно осенний, вечер. Он досадовал на друга, и еще больше на художника.
«Черт бы побрал этого барина! — раздраженно думал он, вороша от скуки хворост в костре. — За целковый целый день держит. Тоже штука! Да и Красавчик тоже… Мог бы уйти кажется… Поблажать тоже нечего…»
Но потом, когда стемнело, Митька всполошился; так поздно Красавчик никогда не возвращался. Тревога начинала охватывать Шманалу.
— Куда он делся? — вслух раздумывал Митька, вслушиваясь в ночную тишину. — Заблудился что ли?
Но этого быть не могло: Мишка прекрасно знал дорогу. Не иначе, как случилось с ним что-нибудь скверное.
И предчувствие недоброго начинало заползать в Митькину душу, вместе с тем, как сгущались ночные тени.
Митька несколько раз срывался с места и выходил из пещеры. Плотный туман и ночная мгла мешали видеть. Даже звуки, казалось, глохли в плачущей ночи. Было странно тихо в лесу. Только монотонно шелестел дождь, да вздыхало что-то в вышине, навевая жуть.
Постояв немного, Митька возвращался в пещеру, и острая тревога все больше охватывала ого.
«Не замели ли его? — думал он, беспокойно ерзая на месте. — Не может быть… Жмых…»
Митька вдруг побледнел. Господи! Ведь Жмых знает Мишку! В сыскном он допрашивал его. Не иначе, как засыпался Красавчик.
И Митька уже не мог спокойно сидеть в пещере.
Костер начинал гаснуть, не до него было Митьке. Он не замечал ни костра, ни того, что помимо дыма, едкий запах горелого картофеля наполнил пещеру. Охваченный тревожными мыслями, Митька забыл про ужин, и обуглившиеся картошки тлели в костре.
— Пойти поискать, что ли?
Митька вслух задал этот вопрос, точно советуясь с кем-то. Но никто не ответил. Вспыхнул только с легким треском в костре тонкий сучек, вскинулся на мгновение яркий язычок пламени, разбросав тени по углам пещеры, и потух. Митька вздрогнул, машинально взял охапку хвороста и подкинул в тлевшие уголья…
Шелестел дождь за пещерой.
Митьке стало вдруг жутко. Одиночество и тревожные думы тяжело угнетали душу. Мучила неизвестность Мишкиной участи.
Пойти поискать? Митька сделал нерешительное движение…
Но где искать? Мишка и сам бы нашел дорогу домой. Разве только случилось с ним что-либо в дороге? Может вдруг ногу свихнул и лежит где-нибудь в лесу? Ведь бывают же случаи… Тем более, что дорога в лесу не из ровных, взять хотя бы овраг — в нем и днем-то черт ногу сломит…
И услужливое воображение нарисовало Митьке жуткую картину: Мишка, беспомощный, лежит в овраге и не может подняться. Стонет, зовет на помощь, плачет поди…
— И чего я сижу тут, дьявол проклятый, когда Мишка, может, ждет не дождется помощи… У, черт коричневый! В зубы за это надо!
Жажда деятельности вдруг охватила Митьку. Робкая надежда закралась в душу. Торопливо застегнул он суконную куртку, пригасил костер и, вооружившись толстой палкой, вышел из пещеры.
Холодная мгла и туман обступили его со всех сторон… В темноте не видно было дороги, и Митька двигался почти ощупью. Он знал на память каждый изгиб тропинки и не боялся сбиться с пути. Шел уверенно.
Митька чутко прислушивался к каждому шороху. Он напрягал зрение, стараясь разобрать что-нибудь во мгле туманной ночи. Из плотной пелены тумана выплывали только темные очертания деревьев и кусты. Подчас они казались фигурами людей, и тогда Митькино сердце радостно вздрагивало… Но обман скоро обнаруживался, и разочарование горечью охватывало душу.
Минут через пятнадцать Митька подошел к оврагу. Журчание ручья, донесшееся откуда-то из глубины, сказало Митьке, что он добрался до обрыва. Он нащупал палкой склон и остановился: почудился легкий стон где-то в глубине оврага. Сердце усиленно забилось.
— Миша! — позвал он, и голос дрогнул от волнения.
Никто не ответил. Митька напрасно напрягал слух: только ручеек плюхал внизу да дождь шелестел.
Он решил спуститься вниз. Склон оврага стал скользким от дождя. Ноги разъезжались в размокшей глине. Опираясь на палку. Митька сделал несколько шагов, потом споткнулся о какой-то корень и помчался вниз точно с ледяной горы. По пути наткнулся на деревце и сильно ушиб голову.
— Ишь черт! — выругался он, поднимаясь возле самого ручья и потирая ушибленный лоб, — тут не то что ногу, а и шею можно свернуть.
Приключение даже ободрило его немного. Раз он скатился в овраг таким необычным способом, то и Мишку могла постигнуть та же участь. Противоположный склон оврага был гораздо круче, и Красавчик легко мог вывихнуть ногу.
«Ведь бульонные ноги-то у него, — подумал Митька, — если я сверзился, то он, очень просто, ногу свихнул».
Чиркая спичку за спичкой, Митька положительно ползал по оврагу, обозревая каждый куст, каждую выемку почвы и чем дольше шарил он, тем больше иссякала надежда разыскать друга.
— Мишка!!! — несколько раз звал он.
Призыв звучал нежностью и тоской. Затаивая дыхание, он ждал ответа, но отвечал только ручей своим непонятным бормотанием.
Выбившись из сил, Митька присел возле мокрого куста. Его начинало охватывать отчаяние.
«Не иначе как засыпался», — думал он, и горько становилось на душе при этой мысли. Он представил себе ужас и отчаяние друга, попавшего снова в руки полиции. Вспомнил, как Мишка добровольно разделил с ним тюремную долю, и что-то тяжелое залегло на грудь… Пожалуй Митька и заплакал бы, но не умел.
Свобода без Красавчика потеряла для него всякую цену. Жутким, тоскливым было одиночество. Мрачная ночь, наполненная унылым шелестом нудного мелкого дождя, навевала тоску. Зловещим казался ропот ручейка, — точно колдунья творила невнятные заклинания.
На заре вернулся Митька в пещеру. Неуютной, пустой показалась она ему, Мишкина постель с арестантской курткой, наброшенной поверх сухих листьев, выглядела жалкой, покинутой. У Митьки даже в горле защекотало. Он почувствовал вдруг себя страшно одиноким, покинутым и осиротевшим, жизнь обесцветилась в ого глазах, померкла, стала вдруг тусклой и холодной, как и серый рассвет, мутными клочьями пробивавшийся сквозь кусты в пещеру. Митька кинулся на свою постель, и невеселые думы охватили его.
Нужно было что-нибудь предпринять. Если Мишку арестовали, то и ему нечего делать на свободе. Нельзя же оставить Красавчика одного. Если страдать, — так уж вместе. Только бы узнать наверное, что с Мишкой.
«Схожу к барину, — раздумывал Митька. — Узнаю у него, может, что-нибудь, и если Мишку застремили, то сам засыплюсь… Черт с ними… Из тюрьмы и снова винта нарежем… Эх, недолго на свободе пожили, Миша, Миша…»
VII У художника
Митька с нетерпением ждал утра, чтобы отправиться к Борскому. Он не сводил глаз с отверстия пещеры, за которым светлела серая муть. Утро занималось как-то особенно лениво. Дождь прекратился, но туман, казалось, и не думал рассеиваться. Он прильнул к озеру, залил молочной массой лес и только ближайшие деревья поглядывали сквозь него какими-то бледными призраками. Митьке казалось, что совсем не дождаться ему момента, когда можно будет пойти к художнику.
По мере того, как светлела серая муть за пещерой, у Митьки созревало твердое решение во что бы то ни стало отыскать исчезнувшего друга. Он не умел тешить себя несбыточными надеждами, и был убежден, что Мишка толкается где-нибудь в местной арестантской.
Раз Красавчик арестован, то нужно было прежде и узнать, где он. Митька привык находить выход из любого положения и теперь раздумывал о том, как бы выручить друга. Митька знал, что Мишку не отправят в Петербург раньше, чем через несколько дней, и это его утешало: он надеялся, что за это время ему удастся найти способ помочь товарищу. Если же попытки не удадутся, и самого Митьку поймают, то они снова будут вместе. Один Митька не мог оставаться на свободе и все равно «засыпался» бы нарочно, чтобы соединиться с другом.
— А, так мы еще посмотрим, — хмуро ворчал Митька, — кто в дураках останется. Бегали мы из тюрем, не то, что из участков… Бороду настроим еще.
«Бороду настроить» он собирался Жмыху, которого считал виновником Мишкиных невзгод. По его мнению, только такой заклятый враг его, как сыщик, мог быть замешан в таинственное исчезновение друга.
Наконец рассвело совершенно. Туман на озере порозовел и начал таять. Постепенно вырисовывались кусты и деревья, и очертания их становились определенными и четкими… Наконец, пробился из-за леса красный луч и зажег яркий румянец на воде, заиграл на деревьях… Воздух стал чист и прозрачен.
— Пожалуй, можно пойти, не торопясь, — решил Митька.
Было очень рано, когда он добрался до поселка. Улицы были совершенно пусты. Только кое-где в садах дворники работали метлами, да мелькала белая фигура булочника со скрипучей корзиной за спиной.
Митька подошел к даче Борского. В ней не было заметно даже признака жизни. Никого не виднелось ни в саду, ни в окнах дома. Митька остановился.
— Дрыхнут все, — подумал он. — Подождать придется.
Неподалеку от дачи оказалась скамейка, и Митька присел на нее. Громадная мохнатая собака вынырнула откуда-то и подошла к нему. Митька опасливо отодвинулся, но собака и не думала открывать враждебных действий. Серьезно, деловито обнюхала она Митькину ногу, посмотрела ему в лицо большими умными и глазами и, вильнув хвостом уселась рядом. Митька осторожно прикоснулся рукой к ее голове.
— Ишь ты, какая хорошая собака…
Пес искоса следил за движениями Митькиной руки, но не противился ласке. Хвост его разметал песок на дороге.
Судя по солнцу, было не больше шести часов утра. Митьке приходилось вооружиться всем своим терпением, что бы выждать часа три-четыре. Ждать в том состоянии, в котором находился Митька, было своего рода пыткой, и он был рад обществу собаки — она немного развлекала.
Понемногу жизнь на улице стала оживляться. Проехал в красной телеге мясник, за ним зеленщик…
Звонко разнеслись в утреннем воздухе их крики:
— Мя-ясо! Мясо! Мясник приехал, господа!
— А вот зелень! Зелень и редиска молодая! Огурчики зелены! Молодой картофель!
Хлопали окна в кухнях. Высовывались заспанные лица кухарок… Из калиток дач выходили какие-то женщины с корзинами.
Митька от скуки наблюдал за всем происходившим. Его развлекали крики торговцев, забавляли женщины, торговавшиеся с ними до упаду.
— Рипа! Рипа!
Возглас привлек Митькино внимание. Финн-торговец проходил мимо с кадушкой на голове.
— Рипа живой! Живой рипа!
Голос показался как будто знакомым. Митька внимательно пригляделся к торговцу. Лида чухонца не было видно за кадушкой, а фигура не представляла собой ничего особенного.
— Все они чухны одним голосом говорят! — решил Митька и перестал интересоваться рыбаком. Его заинтересовала громадная колымага, выехавшая на улицу из какого-то переулка.
Зато чухна проявил к Митькиной особе живейший интерес. Он случайно взглянул на него и уже, казалось, не мог оторвать глаз от мальчика. Лицо его хотя и оставалось по-видимому спокойным, но во взгляде который он кидал на Митьку было что-то недоброе. Если бы Митька видел этот взгляд, то вероятно не следил бы так безмятежно за странным фургоном неимоверно скрипящим несмазанными колесами.
— Сыр… Колбаса… Масло, — прочел он надпись на стене странного экипажа и почувствовал некоторое разочарование.
Ему почему-то казалось, что в таких колымагах должны заключаться вещи поинтереснее.
Он отвернулся было от фургона со скучающим видом, как вдруг чьи-то сильные пальцы схватили его за шиворот. Митька рванулся изо всей силы, пуговица оторвалась у ворота, но пальцы не поддались. Грубая рука езде вдобавок опустилась ему на плечо.
— Попался… Попался, шортова пойка![21]
Теперь Митька узнал голос и почувствовал себя не особенно хорошо: это был тот самый рыбак который по его милости принял когда-то ночью холодную ванну.
— Попался!
Безусое лицо злобно глядело на Митьку бледными голубыми глазами. Рыбак крепко держал его одной рукой за ворот, а другой сжимал плечи с такой силой, что становилось больно.
Митька растерялся только в первую минуту. Вслед за тем к нему вернулось самообладание.
— Чего тебе нужно, чухонская образина? — дерзко спросил он. — Чего на людей бросаешься? Пьян, что ли? Пусти сейчас же.
Финн даже опешил от неожиданности. Потом покраснел вдруг и не заговорил, а прямо зашипел от злости:
— Я шухонская образина? Я пьяный? Ты шортов мальчик… Ты… Ты… О, и покажу тебе… Бутешь знал… Нет… Я тебя не пушшу… Нет… Я покашу тебе, как чужой рыпа брал, людей топил…. Покашу…
Митька понимал, что дело плохо. Что Чухонец рассвирепел и от дерзости и от неприятных воспоминаний. Однако он надеялся еще выпутаться.
— Слышишь, чухна, оставь лучше, а то худо будет! — пустил он в ход угрозу. — Пусти, говорю…
— Пустить? Нет, брат…. Пойдем к урядник… Полицая пойдем…
Это совсем не входило в Митькины расчеты… Он сделал отчаянное усилие и рванулся. Куртка затрещала по швам, все пуговицы отскочили от ворота, но руки чухонца не поддались. Неуклюжие, корявые, они точно тисками держали мальчика.
Положение становилось отчаянным. Рыбак, бранясь наполовину по-фински, наполовину по-русски, потащил Митьку по дороге, точно котенка… Спастись казалось, не было возможности. Но тут вдруг неожиданно подоспела помощь.
Собака с беспокойством наблюдала за началом сцены. Сперва она казалась равнодушным зрителем, но по мере того как убеждалась, что ее новому знакомому приходится плохо, начала обнаруживать живейшее участие. Сперва она заворчала тихонько, словно предостерегая, потом решительно придвинулась к рыбаку и оскалила зубы. Ее честная собачья натура не могла выносить насилья, и она видимо решила вступиться за слабого.
Рыбак не заметил грозных предостережений пса. Увлекшись местью, он, вероятно, и вовсе не видел собаки. Не обращая внимания на рычание и оскаленные зубы неожиданного защитника Митьки, он потащил его, захватив в охапку, словно младенца.
Этого собака не могла выдержать. Громадный детина, обижающий ребенка, в ее глазах, вероятно, казался извергом, заслуживающим наказания. Пес свирепо зарычал, двумя громадными прыжками нагнал рыбака и через секунду все трое лежали в пыли. Еще мгновение, — и Митька стремглав мчался по дороге, а чухонец отчаянно ругался…
Но недолго торжествовал Митька. Когда он хотел юркнуть в первый попавшийся переулок, какие-то фигура преградила ему дорогу, и новые руки схватили его. Митька с разбегу ткнулся в синее сукно и даже оцарапал щеку обо что-то медное…
— Куда так торопишься, братец? Погоди-ка…
Митька поднял голову и совершенно упал духом: его держал урядник.
— Так, так… Ты мне, кажись, знаком, парнишка… Ну, понятно… Ишь сам так и наскочил… Дай-ка поглядеть на тебя.
Урядник внимательно пригляделся к лицу пленника, и усмешка шевельнула его усы…
— Э, ты что за птица?.. Мы никак встречались с тобой. Ну, понятно…
Митька дико вскинул глаза на полицейского и рванулся.
— Ха… ха… — загоготал урядник, крепче обхватывая жертву, — так тебе не нравится эта кличка, а?
Митька понял, что теперь все пропало.
«Ну, Миша, мы встретимся раньше, чем нужно!» — подумал он.
Сопротивляться и вырываться было бесполезно, чухонец с торжествующей физиономией спешил к ним. Два врага были налицо.
— Да, я Митька-Шманала! — дерзко глядя прямо в глаза урядника, проговорил Митька. — Ты поймал меня, твое счастье. Веди куда хочешь…
И нахмурившись, исподлобья поглядывая по сторонам, он пошел за урядником. В этот миг в Митькиной душе проснулся похороненный было прежний Шманала — отчаянный вор, гордость маленьких петербургских «фартовых».
* * *
Борский был искренно огорчен болезнью Мишки. Он не на шутку испугался, когда «натура» его вдруг разметалась на ковре и начала бредить. Художник бросил кисти и краски и поспешил к Красавчику.
Убедившись, что у мальчика сильный жар, Борский бережно перенес его на диван и позвонил.
— Матвей, — обратился он к вошедшему на звонок лакею. — Сейчас же отправьтесь к госпоже Шахматовой и попросите ее ко мне. Скажите, что она нужна к больному ребенку. Если ее нет дома, найдите другого врача. Тут на Сабировской есть, кажется какой-то, хотя лучше бы было пригласить Анну Иосифовну.
Когда лакей ушел, Борский присел на стуле возле дивана.
Красавчик метался по временам и бредил. Глаза его были открыты, но потускнели и на раскрасневшемся личике жуткими тенями скользили выражения муки, горя и даже отчаяния. Художник прислушался к отрывистым несвязным фразам и изумление отразилось на его лице: из уст мальчика вылетали странные слова.
Мишка бредил тюрьмой, Крысой, звал Митьку… Раз даже он закрыл лицо рукой от воображаемых побоев.
— Оставь меня… Не твой я… Краденый… Не мучь меня… не бей…
И страдание исказило нежные черты красивого личика. Художник положил ему руку на голову.
— Видно много пришлось тебе пережить, малыш, — вымолвил он с состраданием. — Но, Боже мой, причем тут тюрьма?..
Он встал и в волнении прошелся по комнате. Кто этот мальчик? Кем бы он мог быть?
Художник до сих пор мало интересовался этим вопросом. Он видел в Красавчике великолепную натуру и никогда не расспрашивал много о его семье и домашних. Эти расспросы всегда смущали Красавчика и он почти нехотя отвечал на них. Борский отнес это на счет застенчивости, но вот теперь, из отрывков бреда он узнал, что мнимая застенчивость была просто следствием вынужденной лжи. Мальчик бредил тюрьмой, говорил о какой-то Крысе… Неужели же он успел побывать в тюрьме?
Кто-то из дачников недавно рассказывал ему о малолетнем карманном воришке, бежавшем из тюрьмы. Его будто бы чуть не задержали на станции. Неужели это он?
Художник внимательно, с любопытством пригляделся к мальчику, словно видел его впервые. С минуту он глядел на Митькино лицо. Потом покачал головой:
— Нет, этот не из тех. Лицо у него слишком чисто и невинно… Не может быть. Бред, вероятно, просто плод расстроенного воображения.
Его размышления прервало появление Шахматовой.
— Леонид Аполлонович, я к вашим услугам, — проговорила она, появляясь в дверях. — Я что-то не совсем хорошо поняла Матвея. Он приглашал меня к больному ребенку. Откуда вы взяли больного ребенка, скажите пожалуйста?
Борский улыбнулся.
— Случаются на свете странные истории, Анна Иосифовна, ничего не поделаешь. Случился и у меня больной мальчик. Вот посмотрите… И прошу вас, Анна Иосифовна, облегчите страдания моей редкостной натуре. Это знаете, дивный мальчик, которому может позавидовать ребенок с картины Флавицкого.
Шахматова быстро подошла к дивану и отпрянула изумленная.
— Миша! Он у вас?
Художник насторожился.
— Вы знаете его?
Шахматова сделала неопределенное движение рукой.
— Погодите, теперь не мешайте… Помогите лучше раздеть его.
Анна Иосифовна долго и внимательно выслушивала больного. Лицо ее стало серьезно, даже сурово. Что-то тревожное было в ее глазах, когда она повернулась к художнику.
— Не хорошо, — сказала она. — У мальчика воспаление легких и в довольно опасной форме. Вы предупредили родных?
Как ни был Борский серьезно настроен, но не мог сдержать улыбку.
— Вот те раз! Да как я мог их предупредить, когда я их не знаю… Не знаю даже, где живет мальчик. Вы, Анна Иосифовна…
— Я знаю не больше вашего, — перебила Шахматова. — Дайте мне написать рецепт и пошлите в аптеку, а там я расскажу вам, при каких обстоятельствах я познакомилась с Мишей.
Шахматова быстро написала рецепт и вручила его Борскому. Тот позвонил.
— Наше знакомство завязалось довольно странно, — задумчиво глядя на больного сказала Шахматова, когда лакей ушел, захватив рецепт.
Она подробно описала художнику свою встречу с Мишкой и Митькой и затем их посещение ее на следующий день.
Они должны были уйти в Сестрорецк, и мне странным кажется, что Миша здесь… Очень странно… Может быть они наврали мне тогда?
Она задумчиво покачала головой. Борский пожал печами.
— Кажется, что и мне Миша лгал, — заметил он. — Этого мальчика положительно окутывает тайна. Вот послушайте…
Мишка снова начал бредить… Он стонал, и несвязные обрывки фраз перемешивались со стонами.
И художник и врач прислушались.
Опять Красавчик бредил тюрьмой, кражей… Потом нежно заговорил с кем-то. Имя Митьки несколько раз сорвалось с его губ.
Анна Иосифовна переменилась в лице.
— Леонид Аполлонович, не может быть, чтобы это был тот мальчик! — воскликнула она.
— Убежавший из тюрьмы? — подхватил Борский. — Вы значит тоже слышали эту историю? Конечно, не может быть… Я сам подумал было, но теперь вспомнил, что случай имел место утром в те часы, когда Миша позировал мне.
— Может быть тот, его товарищ?
— Может быть… Но что мне делать с этим?
Анна Иосифовна недоумевающе посмотрела на художника.
— То есть, как что, делать? Его нужно лечить, за ним нужен хороший уход. Перевозить его сейчас никуда нельзя и потом, неужели вы, Леонид Аполлонович, не хотите его оставить у себя на время болезни?
Борский сконфузился слегка.
— Вы не так меня поняли. Само собой разумеется, что он останется у меня. Я спросил у вас совета о том, как бы разыскать его родных, если они у него имеются. Ведь я его встретил просто в лесу и ничего не знаю о нем.
Анна Иосифовна поднялась со стула.
— В этом отношении я не могу вам помочь…
Мишка снова заметался по дивану, Шахматов подошла к нему.
— Господи, каким знакомым кажется мне его лицо, проговорила она. — Где я могла раньше видеть его?.. Право, не могу вспомнить. Только кажется, что давно когда-то я видела это лицо… Странно…
Она задумалась, точно силясь вырвать из глубины прошлого какое-то воспоминание. Художник улыбаясь посмотрел на нее.
— Мальчику лет одиннадцать, — заметил он, — а вы выглядите так, будто перебираете в памяти факты, случившиеся лет двадцать тому назад.
Анна Иосифовна засмеялась.
— Правда. Я роюсь в довольно отдаленных временах. Но даю вам слово, что мальчик напоминает мне кого-то.
— Возможно, — согласился Борский. — Мальчик этот не совсем обыкновенный. Вы не обратили внимания на его родимое пятно?
— Родимое пятно? — Шахматова с интересом взглянула на художника. — Разве оно такое странное?
— И даже очень. Прямо, точно бабочка…
— Бабочка!
Краска вдруг сбежала с лица Анны Иосифовны.
От волнения она опустилась на край дивана. Художник переполошился.
— Что с вами, Анна Иосифовна? Ради Бога, вам дурно?
— Нет… Ничего… Покажите мне пятно, где оно?
Борский не мог понять странного волнения, овладевшего Шахматовой. Пожав плечами он, отвернул рукав Мишкиной сорочки и показал родимое пятно. Шахматова низко склонилась над ним и, казалось, не могла оторваться от странного знака, которым природа отметила Красавчика.
Когда, наконец, она подняла голову, на лице её были красные пятна, губы дрожали от сильного волнения и слезы сверкали на ресницах.
— Анна Иосифовна! Что с вами?
— Ничего, — улыбнулась Шахматова, — я разволновалась, как подобает женщине, но не врачу. Это пройдет сейчас… Господи, какое счастье?
Художник недоумевал. Ему непонятно было волнение Шахматовой, он не мог объяснить, почему это глаза Анны Иосифовны сияли радостью, несмотря на слезы, хотя и догадывался смутно, что всему тому причина родимое пятно Красавчика. Все это было в высшей степени странно, и любопытство начинало донимать Борского. Однако он удержался от расспросов, боясь сделать неловкость.
— Дорогой Леонид Аполлонович, — заметила Шахматова недоумение художника. — Это прямо чудо, чудо совершилось. Боже мой, как это я не могла узнать мальчика, когда он как две капли воды похож на нее… Она была точь-в-точь такая же девочкой… Ах, да, — улыбнулась она, — ведь вы ничего не знаете еще… Простите меня — я страшно разволновалась. Дайте мне, пожалуйста, глоток воды, и я все расскажу вам.
— Это сын моей подруги детства ни больше ни меньше, отпивая воды из стакана, поданного художником, — начала Анна Иосифовна. — Это целый роман, очень печальный роман. Моя подруга потеряла сына, вернее он был похищен у неё больше девяти лет тому назад… Это было в Одессе. Несчастная мать до сих пор неутешна… До сих пор она ищет бесплодно своего ребенка. Не далее, как месяц тому назад, я получила от неё письмо, в котором она писала, что никаких следов её Володи не обнаружено. Она очень богатая особа, и сколько средств потратила на поиски, но все напрасно… Теперь вы можете понять мою радость, мое волнение, когда я узнала в этом мальчике исчезнувшего сына моей подруги. И зовут его не Миша, а Володя… Фамилия его Струйский… Он внук сенатора Струйского…
Отец его умер три года тому назад. Говорят, что похищение единственного сына подорвало его здоровье.
Это был ряд самых необыкновенных сообщений. Борский не мог в себя придти от неожиданности. Господи! Думал ли он когда-нибудь, что модель его окажется внуком важного сановника! Это было и невероятно и забавно. Он засмеялся.
— Я рад за Мишу, то есть за Володю, — вымолвил он, — и искренно желаю, чтобы все это вышло так, как вы говорите. Но не ошиблись ли вы, Анна Иосифовна?
— Нет, я не ошиблась, я не могу ошибиться… А вы просто злой скептик, да еще неучтивый… Ну да я не буду больше с вами разговаривать… Спешу домой и сейчас же напишу письмо в Харьков (она теперь в Харькове). Господи, сколько радости у неё будет!.. До свидания! Вечером я опять зайду. Смотрите, берегите мальчика… Впрочем, с завтрашнего дня я сама превращусь в его сиделку. Да, чуть не забыла на радостях: переместите вы его в другую комнату. Здесь слишком много света, и потом отвратительно пахнет красками.
— Все будет исполнено, — иронически поклонился Борский. — Мы из сил выбьемся, ухаживая за больным… ведь внук сенатора, — авось поможет карьеру сделать… Не шутка! Какая досада, что я не чиновник!
И Борский весело рассмеялся. Смехом ответила ему и Шахматова, скрываясь за дверью. Борский пошел проводить ее.
VIII Телеграмма. Заключение
Анна Иосифовна не пожалела трудов, и благодаря ее стараниям, Красавчик начал поправляться. Болезнь была тяжелая, в течении десяти дней жизнь мальчика висела на волоске, и Шахматова почти не отходила от его постели. Она сильно волновалась.
— Боже мой, — говорила она Борскому, — подумайте только что будет, если он умрет! Бедная мать! Она с ума сойдет. Найти сына и потерять его уже безвозвратно! Нет. Я не могу допустить этого, и Бог не может быть таким несправедливым, чтобы разбить сердце бедной матери. Да вот, кстати, почему-то от неё нет вестей. Странно в высшей степени!
Добрая женщина беспокоилась, не получая ответа на свое письмо. В нем она подробно описала все приметы мальчика и обстоятельства, при которых нашла его. Она умолчала только о серьезном положении больного, чтобы не беспокоить напрасно мать.
Красавчик меж тем начал поправляться. Когда впервые он пришел в себя, то был страшно удивлен необыкновенной обстановкой, в которой очутился. Удивление впрочем было мимолетным, так как сознание еще было утомлено болезнью. Думать ни и чем не хотелось, какая-то лень овладела мозгом. Он только кинул изумленный взгляд по сторонам и тотчас же закрыл глаза… Сквозь сон он слышал какой-то шорох у изголовья, кто-то склонился над ним, обдав приятным запахом цветов, и чей-то тихий голос прозвучал далекой музыкой:
— Слава Богу! Опасность миновала.
Все это было точно во сне. Когда Красавчик снова проснулся, он был убежден, что это был сон. Проснулся он ночью. В комнате было темно, и Мишка вообразил, что он в пещере, лежит на своей постели, а в противоположном углу спит Митька.
— Митя! — позвал он и удивился собственному голосу, такой он был слабый.
Потом попробовал поднять руку и снова пришлось удивиться: рука была точно свинцом налита и еле шевелилась.
— Митя! — снова позвал он.
У изголовья шевельнулся кто-то. Слабый свет ночника скользнул по ширме, и прямо над головой Красавчика склонилось чье-то лицо. Это его озадачило.
— Где я? — спросил он недоумевая.
— Ты болен, мой мальчик, — ответил ласковый женский голос, — и тебя здесь лечат. Теперь ты уже поправляешься и тебе нужно побольше спать и нельзя разговаривать. Постарайся уснуть, милый…
Голос показался Мишке знакомым. Где-то он его слышал? Он попытался напрячь память, но она отказывалась работать… клонило ко сну…
«Завтра подумаю», — решил Красавчик, опять смыкая глаза.
С этой ночи выздоровление Мишки пошло в перед быстрым темпом. Спустя неделю, ему было позволено уже вставать с кровати.
Мишка чувствовал себя неловко по отношению к Борскому и Шахматовой. Первая встреча с Анной Иосифовной привела его в замешательство. Он вспомнил всю ложь, которую придумал тогда для неё Митька, и покраснел даже, встретившись с ласковым взглядом Шахматовой. Она поняла, в чем дело, и само, собой разумеется, постаралась и вида не подать, что заметила его состояние.
Анна Иосифовна ухаживала за ним, а художник часто навещал его. Он приходил, садился возле постели и развлекал Мишку, рассказывая ему забавные вещи. Он прекрасно умел развлекать, слишком прекрасно, так даже, что Шахматова иногда прерывала эти развлечения, находя их вредными больному.
Мишке не доставало только Митьки. Если бы Митька мог приходить к нему, то он чувствовал бы себя совершенно счастливым. Но Митька не приходил, и незаметно тоска стала прокрадываться в Мишкину душу. Это заметила Шахматова.
— Что с тобой творится? — спросила она однажды. — Чего тебе не достает?
Лицо у неё было такое доброе, внушало столько доверия, что Красавчик готов был открыть ей причину тоски. Но как было говорить о Митьке, не выдав тайну их пещеры, а с ней вместе и тайны прошлого? При одной мысли о том, что художник и Анна Иосифовна узнают вдруг, что они за птицы, Красавчик похолодел.
— Так это… ничего… — уклонился он от ответа.
Борскому он охотнее бы поверил тайну. Борский их видел в лесу и вообще ближе знал, чем Шахматова. Но кто поручится, что он сохранит секрет пещеры, не выдаст его? Тогда Митька не будет в безопасности. Нет, уж лучше потосковать немного, чем рисковать свободой друга.
Мишка и удивлялся и огорчался тому, что Митька не подает о себе вестей. Часто и подолгу он смотрел в окно на дорогу, в надежде увидеть приятеля. Но Митька упорно не появлялся.
«Боится засыпаться, — думал Мишка, с тоской созерцая пыльную дорогу. — Ведь Жмых-то не шутит тоже».
И догадка эта успокаивала его. Он вполне оправдывал друга: зачем ему рисковать, когда они увидятся через какую-нибудь неделю?
Красавчик был доволен, что никто в доме Борского не о чем его не расспрашивает. Он чувствовал, что не мог бы соврать людям, к которым начинал питать сильную привязанность. С другой стороны, и правду говорить было как будто опасно. Создавалось крайне неприятное положение, и странная боязнь охватывала его, когда кто-либо раскрывал рот, чтобы спросить его о чем-нибудь. Мишка не вольно вздрагивал, ожидая, что вот-вот зададут ему какой-либо коварный вопрос. Но никто не заикался ни о чем нежелательном для Красавчика. Все, точно сговорившись, даже ни одним намеком не обмолвись относительно жизни друзей. Раз только Борский вспомнил Митьку, но тотчас же его прервала каким-то вопросом Анна Иосифовна и притом посмотрела так строго, что художник смешался. Если бы Мишка видел этот взгляд, то понял бы, что все, действительно, в сговоре насчет того, что бы не беспокоить его какими бы то ни было воспоминаниями.
Третью неделю жил Красавчик у Борского, а о Митьке не было ни слуху ми духу. Это, наконец начало тревожить Мишку. Помимо тоски, беспокойство о благополучии приятеля начало мучит его. Он не мог представить себе, чтобы Митька, раз он жив, здоров и на свободе, не дал бы знать о себе. Это было не в обычаях Митьки. Поневоле беспокойство охватывало Красавчика.
И долго бы пожалуй, томился Мишка неведением, если бы не случай, открывший ему все, что произошло с другом.
Как-то утром Красавчик, сойдя вниз, услыхал вдруг в одной из комнат разговор, заставивший его невольно насторожиться. Чей-то незнакомый голос упомянул про Митьку, и этого было достаточно, чтобы сердце Красавчика усиленно забилось. Он прильнул ухом к неплотно притворенной двери и весь превратился в слух.
— Так что, господин, — говорил незнакомый голос, — Митька Шманала сознался, что убег из тюрьмы с товарищем, по прозвищу Мишка-Красавчик. По полученным полицией сведениям у вас находится неизвестный мальчик. Полиции тоже известно, что Шманала был дружен с Красавчиком, а потому есть основание предполагать, что Красавчик скрывается здесь. Дозвольте взглянуть на вашего мальчика.
Красавчик слушал ни жив ни мертв. Он похолодел даже, и в голове у него мутилось. Понадобилось прислониться к двери, так как силы вдруг покинули его.
«Засыпался Митька, — вбилась в голову мучительная мысль. — Засыпался!»
— Но я и говорю вам, — слышался голос Борского — и в нем звучали негодующие нотки, — что у меня находится лишь внук сенатора Струйского. Понимаете вы это?
— Как не понять, — незнакомый голос как бы стушевывался. — Понимаю. Да начальство послало меня… Сами знаете, господин, служба… С урядников вот как тянут…
— Все равно вы ничего не добьетесь, лучше и не настаивайте. Я не намерен предъявлять вам ребенка. Понимаете? Если же вы еще осмелитесь беспокоить меня, то я буду жаловаться.
Голос художника был гневен. Он еще говорил что-то, но Красавчик не слышал. То, что узнал он про Митьку, лишило его способности слушать и соображать.
Митька засыпался! Засыпался!
Только эта мысль вбилась в голову острым клином и порождала отчаяние Ну что теперь он будет делать без Митьки? Не лучше ли было умереть, не выздоравливая?
В мозгу рисовалась знакомая унылая картина тюремной жизни, и Митька в качестве арестанта… Жалость и ужас в одно и тоже время сжимали сердце… Спазмы перехватывали горло… Мишка вдруг дико, пронзительно как-то всхлипнул, зашатался и упал на пол, корчась в судорожных рыданиях…
— Митька! Митька! — стоном вырвалось из губ.
За дверями послышалось испуганное восклицание, раздались поспешные шаги, и к Мишке подоспел Борский. Он наклонился над ним, и лицо его выражало сильный испуг, даже побледнело.
— Что с тобой, Миша? Чего ты?
Красавчик слова не мог произнести. Слезы градом катились из его глаз, рот судорожно искривлялся и только слово «Митька!» вылетало из него. И было в этом восклицании громадное горе, граничащее с отчаянием, и жалость и любовь.
Художник бережно поднял его, сел в кресло и усадил Красавчика себе на колени.
— Чего ты плачешь? Что с тобой? Ничего очень скверного не случилось с Митькой, успокойся…
— О… о… он… за… а… а… сы… па… а… лся… — еле выдавил Красавчик сквозь рыдания.
— И это тебя так расстроило? Было чего плакать.
Холодный тон Борского так поразил Мишку, что он даже плакать перестал. Широко раскрыв глаза, он смотрел на художника. Ему казалось немыслимым, чтобы кому бы то ни было казалась безразличной судьба Митьки.
— Я без него не могу, — тихо вымолвил он. — Не могу…
И хотя теперь Красавчик не плакал, но в глазах его и в голосе, каким он произнес это, было столько горя, что Борский растрогался.
— Ну, успокойся, милый, — поглаживая волосы на голове мальчика, сказал он, — ты расскажи мне про Митьку, и тогда, мы может быть, подумаем, как бы помочь ему.
Ласковое поглаживание и задушевный тон успокоили Мишку. Кроме того, сам художник намекал на возможность помощи Митьке, и этого было достаточно, чтобы ободрить Красавчика. Он понял, что теперь нечего скрывать от Борского прожитое, и с жаром стал рассказывать про Митьку и их дружбу. Он рассказал и жизнь у Крысы и про то, как Митька взял его под свою защиту, потом про тюрьму и побег, а затем и про жизнь в лесу. Борский ни звуком не прервал рассказа. Он даже не смотрел на Красавчика. Только рука его нежно обнимала стан мальчика, а другая гладила по волосам. Когда Мишка кончил, рука как бы невзначай соскользнула с его головы и смахнула что-то с глаз своего владельца.
— Бедный ты, Миша, много тебе пришлось выстрадать…
Голос художника дрожал, и взгляд, нежно обращенный на Мишку, был затуманен.
— Да, Митька и вправду был твоим верным другом, — продолжал Борский — а за дружбу прощаются многие грехи. Не бойся, милый, мы выручим его из тюрьмы.
— Правда?
Глаза Красавчика заискрились. В них светились восторг и безграничная признательность.
— Неужели выручим?!
Художник улыбнулся.
— Конечно, выручим, тут и говорить не о чем. Ему не место в тюрьме.
Красавчик даже в ладоши захлопал.
— Опять мы с Митькой заживем! — вырвалось у него радостное восклицание.
— Пожалуй, что и заживете, — задумчиво согласился Борский. — Только уж не прежней жизнью.
Мишка удивленно поглядел на него.
— Не прежней?
Ответить Борскому не удалось: в комнату положительно влетела Анна Иосифовна. Она была страшно взволнована и вся, казалось, сияла. Точно горел внутри нее какой-то чудный огонь, отсвечивал в глазах и пробивался румянцем сквозь щеки. Она вбежала в комнату и замахала какой-то бумажкой.
— Ну, Миша, нет и не Миша, — теперь ты Володя, — закричала она, — готовься встретить маму… Понимаешь ты, мать твоя едет к тебе… Понимаешь, у тебя нашлась мама!
И в порыве восторга Анна Иосифовна принялась душить в объятьях Красавчика, покрывая поцелуями его бледное личико.
— Получили вести? — спросил ее Борский.
— А вот читайте. Телеграмму прислала. Оказывается, она за границей сейчас, ну, и мое письмо значительно запоздало.
Она перебросила Борскому листок бумажки. Тот развернул его и прочел вслух:
«Боже мой, неужели это правда, милая моя? Я боюсь умереть от радости. Сегодня выезжаю. Обними и расцелуй моего бедного Володечку».
— Вот я и обнимаю и целую, — засмеялась Шахматова. — Господи Боже мой, разве я думала когда-нибудь, что маленький бродяга, встреченный на дороге, окажется сыном Зои Струйской? Только одного я не понимаю: где у меня были глаза? Как это я сразу не узнала его? Ведь он до малейших подробностей похож на мать, и если его одеть девочкой, то я могу подумать, что Зоя моя снова стала такой, как тогда, когда мы вместе ходили в гимназию.
Красавчик довольно равнодушно отнесся к событию. Оно было до того громадным и неожиданным, что даже не могло взволновать сразу. Он растерянно смотрел на Шахматову и Борского, и застенчивая улыбка блуждала по его губам.
— Мать… мама… — шептал он, точно силясь поглубже проникнуть в смысл этого слова.
Потом вдруг румянец пробился сквозь бледную кожу его щек. Что-то неизъяснимо радостное забилось в его груди и наполнило все существо искрящимся счастьем. Точно сквозь туман, выплыло в памяти какое-то милое, но забытое лицо и почудился странный приятный запах… Красавчик зажмурился, и блаженная сладкая истома охватила его тело… Это был тот же волшебный сон, который грезился ему когда-то у Крысы.
Но вдруг замерла радость в груди… Грустное воспоминание развеяло волшебный сон. Две слезы выкатились из глаз.
Художник и Шахматова изумленно переглянулись.
— Что с тобой, Володя? Неужели ты не рад тому, что у тебя нашлась мама?
Напоминание о матери вызвало счастливую улыбку, и была похожа она на луч солнца, брызнувший из-за туч непогоды.
— Я рад… рад… Вот Митьки только нету… Зачем он в тюрьме…
И снова печаль темным облаком окутала лицо Красавчика. Дрогнули губы.
— Ну, не горюй, — утешил его Борский. — Сказал я, что мы вызволим твоего Митьку. А уж раз я сказал, так сделаю. У меня, видишь ли, есть такие знакомые, которые могут сделать это. Успокойся, дорогой, и давай лучше будем веселиться, чем хныкать.
Приключения Красавчика кончились. Хотите знать, что было дальше?
Художник Борский сдержал свое слово. У него было много влиятельных друзей, и не прошло двух недель, как Митька оказался на свободе. Нечего и говорить, что мать Красавчика встретила его точно второго сына. Друзья снова оказались вместе, но теперь уже навсегда.
Для них началась совершенно новая жизнь. Были приглашены учителя, и под их руководствам Митька-Шманала и Мишка-Красавчик готовились в гимназию, а спустя два года оба облачились в серые шинели и шапки с блестящими новенькими вензелями.
Может быть, читатели, вы встречали когда-нибудь двух гимназистов. Они всегда неразлучны. Один поменьше ростом, нежный такой и красивый, точно с картины снят, а другой — крепкий, здоровый мальчик со смелым лицом и хотя небольшими, но тяжелыми кулаками. Кулаки эти хорошо знакомы всем, кто когда-либо пытался обидеть друга их владельца. Гимназисты эти Митька и Мишка.
Оба хорошо учатся. Говорят, что Мишка проявляет большие способности в рисовании, а Митька отличный математик. В общем, оба — славные мальчуганы и из них выйдет толк. Пожелаем им всего хорошего.
КОНЕЦ
Примечания
1
Шманала (на воровском жаргоне) — карманный вор.
(обратно)2
Финский нож, кинжал.
(обратно)3
Спрячь!
(обратно)4
Подвел.
(обратно)5
Убежим.
(обратно)6
В тюрьмах для малолетних устроены различные мастерские, в которых юные арестанты обучаются ремеслам. В Петербурге, помимо колоний для малолетних преступников, расположенных в окрестностях, имеется и тюрьма (на Арсенальной ул.). В то время, к которому относится наш рассказ, жизнь юных преступников в тюрьме была обставлена крайними строгостями. Суровые наказания, до розг включительно, сопровождали всякую провинность. В настоящее время (1914 г.) положение вещей изменилось. Излишние строгости отменены, и к розгам прибегают в редких, исключительных случаях.
(обратно)7
Надзиратели.
(обратно)8
Надуем.
(обратно)9
Надзирателей.
(обратно)10
Поймали.
(обратно)11
На чердаках.
(обратно)12
Краденым.
(обратно)13
Вора.
(обратно)14
Кармане.
(обратно)15
Поймают.
(обратно)16
Врать.
(обратно)17
Полтинник.
(обратно)18
Часов.
(обратно)19
Украдешь.
(обратно)20
Серебряный.
(обратно)21
Мальчик.
(обратно)


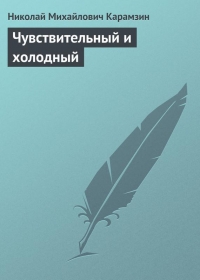
Комментарии к книге «Красавчик», Леонард Юлианович Пирагис
Всего 0 комментариев