Алла ДЕМИДОВА Бегущая строка памяти
«…Судьба подарила мне встречи со многими людьми, но моя эгоистическая память фиксировала только то, что касалось меня. Обычно осуждают людей, которые пишут „я и…“. А как же по-другому? Ведь это пишу я…»
Вступление О СВОЙСТВАХ ПАМЯТИ
Что такое память?..
Сегодня ночью я читала «Полторы комнаты» Бродского. Он вспоминает о ленинградской квартире, где жил с родителями, и пишет, что образы прошлого всплывают в сознании картинками. Но: свои воспоминания Бродский записывает как литератор — предложения у него длинные, иногда переходящие в философские размышления. Поэтому картинка возникает только тогда, когда он передает какую-то одну запомнившуюся реплику.
Ну, например, они с отцом звали мать между собой «Киса», «Муся». Ей это не нравилось, а они выражали свои эмоции кошачьими междометиями: «мяу», «мурмяу»… и в конце концов она привыкла и стала откликаться. От этого «мурмяу» — ассоциативно — у меня возникла картинка их быта, ведь «мяу кур-нау» присутствует и в нашей семье, поскольку рядом — животные.
А накануне я прочитала изданные дневники Золотухина — «На плахе Таганки». Это воспоминания совсем другого рода. Он писал по принципу «Что вижу, о том пою». Я как-то заглянула в его тетрадь во время репетиций, думая, что он записывает замечания Любимова, а на самом деле он писал: «Вошла Демидова. Села рядом». Он это делал не для фиксации факта, а для разбега руки, потому что все время хотел писать, и, надо сказать, ему это удавалось. Даже в дневниковых записях, когда он набирает разбег и попадает в какую-то «жилу» он ее разрабатывает, и получается отдельный литературный рассказ.
У меня… с памятью плохо. События налезают друг на друга, и я не запоминаю последовательности. Я забываю имена, цифры, рассказанные кем-то анекдоты, плохо запоминаю лица. Память держит только тексты пьес и стихи. Тексты пьес я вспоминаю по мизансценам, если прохожу их мысленно. Стихи же можно уложить в «быструю» и «дальнюю» память. Быстрая нужна, когда необходимо запомнить текст для кино или телевидения, а когда читаю стихи на эстраде, то запоминаю их как роли, то есть перекладываю слова на образы или цвета, а лучше — на мысленные цветные картинки.
Иногда я не понимаю, для чего всю жизнь много читаю, ибо все прочитанное быстро забываю или присваиваю, причем присваиваю как собственное знание. Думаю, причина этого в актерской профессии, когда присваиваешь текст роли, чужой характер, привычки, судьбу, наконец. Наверное, любое знание, перерабатываясь, присваивается. Гёте в разговоре с Эккерманом заметил (когда англичане обвиняли Байрона в плагиате): «Что я написал — то мое, вот что он (Байрон. — А.Д.) должен бы им сказать, а откуда я это взял, из жизни или из книги, никого не касается, важно — что я хорошо управился с материалом!»
В детстве, как и все, я жила в коммунальной квартире. У нас была одна маленькая комната, поэтому мне не разрешали включать свет ночью, — это мешало всем спать. И тогда я ухитрялась читать под одеялом с карманным фонариком. Это мое бесконечное чтение — своего рода наркотик. Ведь читаю я не только для того, чтобы утолить любознательность, это как раскладывание пасьянса — чтобы уйти от своих мыслей. Недаром я иногда так глубоко окунаюсь в детективы, а потом, через полгода, опять читаю те же романы как новые — они не остаются у меня в памяти.
Но неожиданно, ассоциативно картинки из прочитанного, увиденного в кино или кем-то талантливо рассказанного возникают в сознании иногда более ярко, нежели картинки моего собственного прошлого. То вдруг, как вчера, в агонии бессонницы возникнет фраза из клипа Киркорова: «Ночь. Все спят…» — и будет повторяться до бесконечности, то, уже на грани сна, я вижу Бродского в старой ленинградской квартире. Причем вижу очень явственно, даже болезненно. Понимаю, что это не сон, а только что прочитанное, но оттолкнуться от этой картинки не могу. И ругаю себя: «Зачем мне это нужно? Мне нужно спать!..»
В свои же воспоминания я ухожу редко. Только последнее время я стала вспоминать детство, но не школу, не Москву, а Владимир, где жила у бабушки в войну и потом проводила каждое лето.
Передо мной всплывают картины природы, запахов, звуков. Но чтобы это пересказать — надо быть профессиональным писателем. Сюжетные узлы вспоминать трудно еще и потому, что очень многие живы. А ведь каждый видит мир по-своему, пропускает поступки других через себя, и мои воспоминания могут кого-нибудь обидеть.
И потом… у меня слишком мало было в детстве любви, чтобы вспоминать о нем с любовью. Хотя детские «безобидные» воспоминания, которые рассказываются как анекдоты, у меня есть.
Ну, например. Когда началась война, я была у бабушки под Владимиром. В октябре из Москвы уже невозможно было уехать, и мама пошла во Владимир пешком. Наконец она дошла, взяла меня на руки и спросила: «Девочка, где твоя мама?». Я — по-владимирски на «о» — ответила: «Долё-ёко!» — и помахала рукой в сторону Москвы. Но никакого штриха к моей биографии этот семейный рассказ не прибавляет. Или еще помню, как отец приехал на побывку с фронта и мы спускались с горки: он на лыжах, а я — стоя на его лыжах сзади, вцепившись в его ноги.
Для меня нет границы между выдуманным, прошлым и настоящим. Я запоминаю только свои душевные дискомфортные узлы или благодарность (редкую!) от общения с людьми. Больше ничего: ни стран, ни дат, ни событий. Вениамин Александрович Каверин как-то назвал это актерской памятью. Видимо, он прав. Те несколько извилин, которые нам природой даны для запоминания, у актеров заполнены текстами пьес. Я не могу вспомнить свой номер телефона, телефон мамы, которой звоню каждый день. В воспоминаниях одно время налезает на другое.
Однажды дошло до абсурда. Моей приятельнице подарили летом белого пушистого кролика. Ее такса Долли тут же стала на него охотиться. Тогда их поселили в разных комнатах, стали выгуливать по очереди, и дача сразу превратилась в сумасшедший дом. Кролика надо было отдавать. Но куда?! И тут я вспомнила, что мы с Володей, моим мужем, как-то нашли ежика со сломанной лапкой. Принесли домой. Днем он где-то спал, ночью топал по комнатам, а потом весь пол был в какой-то зеленой жиже. Прошел месяц, нам надо было уезжать, и мы отдали ежика сыну нашего знакомого, — сын был председателем кружка юннатов. Ежик там долго жил. И я предложила приятельнице, что мы отдадим кролика, как отдали ежика. Возвращаюсь домой, рассказываю Володе. Он выслушал и говорит: «Алла, дело в том, что ежика мы с тобой нашли двадцать лет назад, а сыну Цуккермана сейчас под сорок и живет он в Израиле…»
…Мне рассказывал Илья Авербах: в самый тяжелый момент своей жизни он не мог оставаться ночью один, потому что во сне пытался выброситься в окно.
Его привязывали, кто-то с ним ночевал. Но он был врачом и знал, что освободиться от этого можно, только поняв причину.
Он стал вспоминать свою жизнь — все ситуации, в которых он должен был бы выпрыгнуть. И не мог вспомнить. Но вдруг, в случайном разговоре, мать рассказала ему, что так долго его рожала, что он уже начал задыхаться. Потом было какое-то последнее усилие, и он выскочил Как только он это услышал и увидел эту картинку, он перестал во сне рваться к окну.
Так и меня, наверное, больше всего бередят картинки моего прошлого, которые еще не «проявились» — не облечены в слова. Когда я вспоминаю детство, я пытаюсь что-то расшифровать. Иногда мне это удается, но чтобы избавиться — надо рассказать, а рассказывать — не хочется… Хотя, когда я читаю мемуары старых актрис или, например, те же воспоминания Бродского мне интересно, потому что я этих людей воспринимаю как близких, а про близких хочется узнать все. Читать чужие письма и дневники не принято, но весь мир зачитывается дневниками Толстого или письмами Чехова. Потому что они для нас не чужие. Узнав лучше жизнь художника, легче, мне кажется, разобраться в «корнях» творчества. Поэтому, если и мне вспоминать не лукавя, можно, я думаю, восстановить, что толкнуло меня в мою профессию.
Иногда мне кажется, что профессию я все-таки выбрала неправильно. И я не считаю, что моя жизнь удалась, что я самовыразилась. Может быть, когда в юности я была на перепутье, надо было выбрать другую дорогу. Но страх перепутья, «совковое» детство, боязнь жизни — надо было после университета начинать работать, я не была к этому готова (мое поколение вообще инфантильно — практически все начинали поздно) — заставили меня опять идти учиться. На этот раз судьба толкнула меня в Театральное Училище имени Б. В. Щукина, и дальше все покатилось само собой. Дальше я уже не стояла на перепутье, я принимала жизнь, какую мне давала судьба. Или случай. Кто-то из древних мудрецов заметил: судьбы не существует — есть только непонятая случайность.
…Судьба подарила мне встречи со многими людьми, но моя эгоистическая память фиксировала только то, что касалось меня. Обычно осуждают людей, которые пишут «я и…». А как же по-другому? Ведь это я пишу, поэтому — «я и имярек». Театровед или литературовед восстанавливает портрет человека, даже и не зная его близко. Но это совсем другое. А когда ты хорошо знаешь человека, он поворачивается к тебе только той стороной, которой хочет повернуться. Например, Высоцкий был очень многогранен, а ко мне всегда поворачивался одной и той же стороной. Я видела и другие его стороны, но ко мне они отношения не имели. Поэтому некоторые мои воспоминания кажутся однобокими и короткими. Я ведь специально ре рисую многогранник, я показываю только одну сторону — «я и…».
Пусть меня простит читатель, если он найдет в этой книге кое-что из моих же прежних книг или старых интервью. Тот же Высоцкий. Я уже один раз зафиксировала свою память о нем — написала целую книгу, и если начать рассказывать заново, это будет ложью. Хотя мелкие факты, которые вспоминаются случайно, я и буду прибавлять.
Ахматова писала, что не верит, когда в воспоминаниях появляется прямая речь. А мне кажется, что в памяти иногда очень точно фиксируется какая-то фраза или ответ. И именно прямая речь — самая достоверная деталь воспоминаний. Остальное — ощущения, они окрашены сегодняшним днем, а фразу из прошлого не окрасишь.
Но даже когда возникает картинка прошлого, когда уходишь по коридору назад, на это наслаивается сиюминутная жизнь. Я сейчас вспоминаю прошлое, но в то же время раздражена неприятным телефонным разговором и помню, что мне через час надо уходить. А в подсознании постоянно свербит будущая работа бунинские «Темные аллеи». Это наслоение времени и ощущений в обычных воспоминаниях передать практически невозможно.
Кстати, «Темные аллеи» — это тоже воспоминания, но записанные литературно, в стиле больших мастеров. Эти длинные фразы не столько воссоздают картинку, сколько дают наслаждаться вязью пера. Но это ощущение получаешь при чтении, а когда их произносишь, восхищение письмом теряется. Тем не менее я стараюсь интонацией и какими-то нужными мне акцентами воссоздать для зрителей бунинскую картинку. Но: эту мою картинку будет разрушать режиссер, который видит «Темные аллеи» по-своему. И до окончания работы меня больше всего беспокоит — чье видение возьмет верх. Ведь написанное и сказанное и переведенное на экран — это не одно и то же.
Это волнение, эта боль от работы, наверное, будет возникать у меня еще не раз. Ведь и сейчас я вспоминаю какие-то свои промахи и неудачи многолетней давности. Но вспоминаю так, как будто это случилось только что. И я начинаю стонать, «я стенаю» — как писал Толстой в дневниках. Иногда я невольно начинаю стонать вслух, и дома меня спрашивают: «Что?», я говорю: «Что-то вступило в спину». А на самом деле это я ощущениями перекинулась в прошлое…
* * *
…У меня сегодня съемка, а вечером спектакль. Встаю в 6.30 утра, хотя я гипотоник и утром до 12-ти вялая, ничего не соображаю и не умею. В 8 часов я уже сижу на гриме. В основном всегда гримируюсь сама, не доверяя гримерам. Ненавижу этот процесс ужасно. Каждый раз забываю, с чего начать. Пытка продолжается часа два. Потом на площадке, долго и нудно переругиваясь с режиссером и другими актерами, разбиваем сцену на мизансцены и планы.
Объявляется перерыв.
Я не обедаю во время съемок, поэтому в перерыве опять сижу в гримерной как неприкаянная, в тяжелом парике, стянутая корсетом. Болит голова. После перерыва опять долго собираются, раскачиваются, потом снимают не мои планы. Я жду. Приблизительно за сорок минут до конца смены приступают ко мне. Ставят свет. Болят глаза. Я уже устала от ожидания и бездействия. Помреж посматривает на часы — я опаздываю на спектакль. Наконец — хлопушка. Снимают очень трудный для меня кусок, со слезами, с переходом настроения. Конец. На бегу сбрасываю костюм, парик, почти не разгримировываюсь — некогда, — бегу на спектакль. В машине перебираю в уме только что отснятый кусок и с ужасом понимаю, что сыграла его не так, как нужно и как бы хотела. В самом мрачном настроении влетаю в театр. «Вишневый сад». Опять грим, костюм, парик.
Перед началом спектакля, когда мы все стоим за кулисами, лихорадочно в уме перебираю всю роль, особенно останавливаясь на трудных для меня кусках «подводных рифах». Выхожу на сцену. С первых реплик своих товарищей понимаю, что многие не в форме, не хотят слушать друг друга. Играют «вполноги». Очень медленно для меня раскручивается первая часть — ожидание приезда Раневской. А мне нужен совсем другой ритм, я в него «впрыгиваю». (Хотя только что кому-то доказывала за кулисами, что стремление во что бы то ни стало создать темп может привести лишь к искусственной живости, мысль всегда должна предшествовать слову.) Но сейчас мне нужен ритм, пусть ненаполненный, но ритм! Раздраженная, хотя в таком настроении почти не могу играть, я пытаюсь «поднять» сцену. Схлестнулись глазами с Высоцким. Он, чувствую, чем-то тоже недоволен. Своим. И еще эта неудобная для меня мизансцена на детском стульчике. Стараюсь этот кусок скорее проскочить. Вроде бы промахнула, слава Богу. Выход Пети Трофимова. 2–3 реплики — у меня очень трудный, один из самых опасных кусков роли — крик, слезы (я не люблю и не умею кричать): «Гриша мой… мой мальчик… утонул. Для чего? Для чего, мой друг?» Продираюсь сквозь вишневые деревья (настоящие), кресты, кресла, проклинаю про себя режиссера, который придумал эту идиотскую мизансцену: сам бы так каждый спектакль, и думаю о том, чтобы не зацепить платьем гвозди, которые натыканы со всех сторон. Ругаю себя и рабочих, что так каждый раз, они оставляют гвозди на сцене, а я после спектакля забываю им об этом сказать. В антракте переодеваюсь. Пью очень крепкий кофе, чтобы физически дотянуть до конца.
После спектакля раскланиваемся. Я смотрю в зал. Они так же хлопают, ни больше ни меньше, — шел ли спектакль хорошо или из рук вон плохо. Легкое презрение к ним, чужим, далеким. Вяло разгримировываюсь. Вяло, в плохом настроении, уставшая, опустошенная, еду домой. Пытаюсь что-то съесть, что-то прочитать, ложусь. Пытаюсь заснуть, а в голове опять и опять прокручивается, как в плохом надоевшем фильме, сегодняшний неудачный день. Ругаю себя и мучаюсь из-за того, что неправильно сыграла кусок в картине. Но нельзя же быть 10 часов на старте! Надо было бы отказаться от съемки… Но как-то с годами мой максимализм притупляется, и я уже думаю, что уходить с площадки, срывать съемку неэтично по отношению к другим актерам, которые так же ждут, как и я. Ведь недаром же я с неприязнью отношусь к актрисам, которые капризничают на площадке. Правда, капризы капризам рознь, некоторые капризы я понимаю и охотно сама бы покапризничала — почему это я должна отвечать за непрофессионализм других работников, за плохую организацию производства, ведь перед зрителем же — я. Однако капризничать не умею, не научилась, к сожалению. И если будет нужно, опять буду вставать в шесть утра, мокнуть под дождем с температурой, играть, пусть после 10-часового простоя, самые ответственные эпизоды (как в «Шестом июля» например, когда под конец смены снимали речь Спиридоновой. Но почему-то тогда я была в форме, значит, можно и сегодня бы…). И на своих товарищей по театру напрасно злюсь, — может быть, у них день был потруднее моего попробуй-ка покрутись с телевидения на радио, в театр, в магазин… Но все-таки зачем разговаривать за сценой почти в голос, когда у меня на сцене самый искренний момент роли?! Ворочаюсь с боку на бок. Не могу заснуть. Теперь уже окончательно.
Четыре часа ночи. Встаю. Пью чай. Смотрю в окно, напротив дом кооператив работников какой-то промышленности — ни одного освещенного окна. Счастливые — они-то спят: оттрубят свои положенные 8 часов, и хоть бы хны. Нет, вроде бы зажглось одно окно. Тоже кто-то мается. Принимаю снотворное. Сплю…
* * *
Я люблю зеркала. Но отношение к зеркалу у меня мистическое. В японском театре «Но» перед выходом на сцену есть, как говорят, зеркальная комната. Актер, отражаясь во множестве зеркал, должен внутренне сконцентрировать эти отражения в одно и только после этого выйти на сцену.
Любой актер перед выходом на сцену смотрится в зеркало, не — «как я выгляжу?», а с чисто подсознательным любопытством — ведь отражается уже фантом. И этот фантом должен стоять перед глазами, когда играешь.
Поэтому в названии всех моих книг так или иначе зашифровано зеркало. Первую книгу я назвала «Вторая реальность» (то есть отраженная), вторую — «Тени Зазеркалья». А эту книгу хотела назвать «Осколки зеркала», но недавно вышла книга сестры Андрея Тарковского именно с таким названием.
Тогда я подумала, что память моя — ассоциативная. Как в вязании — одну петельку вытянешь, за ней потянется другая, может быть, даже другого цвета… И из этой мозаики памяти сложатся портреты людей, ведь я буду вспоминать не только себя.
Но оказалось, трудно без потерь переносить мысль из головы к руке, от карандаша — к бумаге. Для того чтобы овладеть секретами письма, нужно было писать по крайней мере, каждый день, а я писала урывками и иногда не очень откровенно — не потому, что пыталась что-то скрыть, а потому, что писать откровенно нелегко, — надо смотреть на себя чуть-чуть со стороны и выбирать точные слова, чтобы откровенность эта была ясной и конкретной. И потом… обязательно ли нужна откровенность во всем, что касается твоей жизни?
«Когда б Вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда…» — но нужно ли этот сор выносить из избы?
Что же, помимо внешних причин, меня сдерживает вспоминать бездумно и безоглядно?
В 1974 году Театр на Таганке был на гастролях в Набережных Челнах. Помимо спектаклей, мы давали шефские концерты. Обычно на такие концерты собирался весь город. Ждали выступления Высоцкого.
Итак, Володя пел: «Я не люблю, когда стреляют в спину, я также против выстрелов в упор…» Мы, актеры, стояли за кулисами, тоже слушали эту песню, и я сказала, что не люблю, когда о таких очевидных вещах кричат. На что мне один наш актер, обернувшись, резко ответил: «Да, но то, что не любит Высоцкий, слушает весь город, затаив дыхание, а то, что не любишь ты, никого не интересует…»
ВЫСОЦКИЙ
Сейчас для меня существуют два образа Высоцкого, почти не смешиваясь между собой. Один — тот, которого хорошо знала при жизни, с которым репетировала, ссорилась, мирилась и который хоть и не был близким другом, но был очень близким человеком, про которого я вполне могла в свое время написать, как он удачно вел «мужскую тему» в наших актерских дуэтах (за что получала резкие отповеди от его поклонников). Я его очень хорошо чувствую и сейчас. Знаю, как бы он поступил в той или иной ситуации, какой бы шуткой реагировал на какое-либо замечание. Могу по фотографиям определить время, настроение, в котором он находился в тот момент, когда делалась эта фотография.
А другой образ — он возник после многочисленных воспоминаний, после теоретических статей о нем, после тех его стихов, которых я не знала раньше. Этот Высоцкий принадлежит всем, и я напрасно обижаюсь на незнакомых людей, которые открыли его для себя недавно, полюбили и подходят к нам, знавшим его, отчитывать за какие-то, как им кажется, неблаговидные поступки. Первая реакция — возмущение: какое они имеют право?! А вторая — имеют, ибо любовь эгоистична и всегда присваивает себе объект любви.
Так о чем вспоминать? О том, как Володя пришел в наш только что организованный Театр на Таганке, а перед этим посмотрел дипломный спектакль «Добрый человек из Сезуана» и решил (по его словам) во что бы то ни стало поступить именно в этот театр? Пришел никому не известный молодой актер, сыгравший до этого лишь несколько небольших ролей. Или рассказать о его сияющих глазах, когда он однажды появился в театре в новой вязаной коричневой куртке, передние полочки которой были из искусственного меха? Или о том, как постепенно вырисовывалась внешняя пластика невысокого широкоплечего человека в узких, всегда очень аккуратных брюках, в ярко-красной шелковой рубашке с короткими рукавами, которая так ладно обтягивала его намечающиеся бицепсы. Как постепенно исчезала одутловатость еще не оформившегося лица и оно приобретало характерные черты — с волевым упрямым подбородком, чуть выдвинутым вперед…
Я не помню, кому пришла в голову мысль, сделать костюмом Гамлета джинсы и свитер. Думаю, это произошло потому, что в то время мы все так одевались. А Володя за время двухлетних репетиций «Гамлета» окончательно закрепил за собой право носить джинсы и свитер. Только цвет костюма в спектакле был черный — черные вельветовые джинсы, черный свитер ручной вязки. Открытая могучая шея, которая с годами становилась все шире, рельефнее и походила уже на какой-то инструмент, на орган с жилами-трубами, особенно когда Высоцкий пел. Его и похоронили в новых черных джинсах и новом черном свитере, которые Марина Влади привезла из Парижа. Над гробом свисал занавес из «Гамлета», и черный свитер воспринимался тоже гамлетовским.
К костюму у него было какое-то особое отношение — и в жизни, и на сцене. Ему, например, не шли пиджаки. И он их не носил, — кроме первого, «твидового». Правда, один раз на каком-то нашем очередном празднестве после спектакля, когда все мы уже сидели в верхнем буфете за столами, вдруг явился Высоцкий в роскошном пиджаке — синем блейзере с золотыми пуговицами. Все застонали от неожиданности и восторга. Он его надел, чтобы поразить нас. И поразил. Но больше я его в этом блейзере никогда не видела. Тем удивительнее было для меня его решение играть Лопахина в белом пиджачном костюме, который ему не шел, но подчеркивал какую-то обособленность Лопахина от всех остальных персонажей спектакля и очень помогал ему в роли.
А его неожиданные порывистые движения… Как-то в первые годы «Таганки», на гастролях в Ленинграде, мы с ним сидели рядом в пустом зале во время репетиции. Он что-то прошептал мне на ухо, достаточно фривольное, я резко ответила. Он вскочил и, как бегун на дистанции с препятствиями, зашагал прямо через ряды кресел, чтобы утихомирить ярость. Я ни разу от него не слышала ни одного резкого слова, хотя очень часто видела побелевшие от гнева глаза и напрягшиеся скулы.
У меня сохранилась фотография: как-то на репетиции «Гамлета» Любимов мне сказал что-то очень обидное, я молча отвернулась и пошла к двери, чтобы никогда не возвращаться в театр. Володя схватил меня за руку и стал что-то упрямо говорить Любимову. На фотографии запечатлено это непоколебимое упрямство: несмотря ни на что, этот человек сделает так, как он хочет.
Вот эта его самодостаточность меня всегда поражала. Мне казалось, что иногда он мог сделать все, что хотел. Вообще я думаю, что он ждал счастливого дня, когда сразу делал все дела, которые до того стопорились. Этот счастливый день он угадывал заранее особым звериным чутьем. Я помню, как-то после репетиции он отвозил меня домой, сказал, что ему нужно по дороге заехать в Колпачный переулок в ОВИР за заграничным паспортом. Был летний день. Я ждала его в машине. Пустынный переулок. И вдруг я вижу: по этому горбатому переулку сверху вниз идет Володя, такой ладный, сияющий. Садится в машину и говорит: «Сегодня у меня счастливый день, мне все удается, проси все, что хочешь, все могу…»
Однажды после душного летнего спектакля «Гамлет» мы, несколько человек, поехали купаться в Серебряный Бор. У нас не было с собой ни купальных костюмов, ни полотенец, мы вытирались Володиной рубашкой. А поодаль, в удобных пляжных креслах, за круглым столом, накрытым клетчатой красной скатертью, в купальных халатах сидели французы, пили вино из красивых бокалов. Было уже темно, но они даже не забыли свечку, и эта свечка на столе горела. Мы посмеялись: вот мы у себя дома, и все у нас так наспех, «вдруг», а они — в гостях, и все у них так складно, по-домашнему, основательно. Через несколько лет за границей мы с Володей были в одной актерско-писательской компании и все вместе поехали к кому-то в загородный дом. Когда подъехали к дому, выяснилось, что хозяин забыл ключ. Но не ехать же обратно! Мы расположились на берегу реки, купались, так же вытирались чьей-то рубашкой. А рядом благополучная буржуазная семья комфортно расположилась на пикник. Мы с Володей обсудили интернациональное качество творческой интеллигенции полную бесхозяйственность — и вспомнили Серебряный Бор.
На гастролях у него в номере всегда было очень аккуратно. Володя любил заваривать чай, и у него стояли бесконечные баночки с разными сортами чая. А когда появилась возможность покупать экзотические вина, он любил собирать красивую батарею из бутылок и не позволял никому дотрагиваться до нее. Все дразнили его за скупость, но он был тверд, а потом, в какой-нибудь неожиданный вечер, все разом выпивалось — неизвестно кем, почему, вдруг…
…Упрекают нас, работавших с ним вместе, что не уберегли, что заставляли играть спектакли в тяжелом предынфарктном состоянии. Оправдываться трудно, но я иногда думаю: способен ли кто-нибудь руками удержать взлетающий самолет, даже если знаешь, что после взлета он может погибнуть. Высоцкий жил, самосжигаясь. Его несло. Я не знаю, какая это сила, как она называется: судьба, предопределение, миссия? И он — убеждена! — знал о своем конце, знал, что сердце когда-нибудь не выдержит этой нечеловеческой нагрузки и бешеного ритма. Но остановиться не мог…
От него всегда веяло силой и здоровьем. На одном концерте как-то он объявил название песни: «Мои похороны», — и в зале раздался смех. После этого он запел: «Сон мне снился…»
На гастролях в Югославии мы посмотрели фильм Бергмана «Вечер шутов». Там есть сцена, где актер очень натурально играет смерть. После фильма мы шли пешком в гостиницу, обмениваясь впечатлениями, и я заметила, что актеру опасно играть в такие игры — это трясина, которая засасывает… Высоцкий со мной не согласился. А через какое-то время я прочитала в его стихотворении «Памяти Шукшина»:
Смерть тех из нас всех прежде ловит, Кто понарошку умирал…Конечно, он жил «по-над пропастью», как он сам пел. Конечно, мы это видели. Конечно, предчувствие близкого конца обжигало сердце.
После окончания гастролей в Польше в начале июня 1980 года мы сидели на прощальном банкете за огромным длинным столом. Напротив меня сидели Володя и Даниэль Ольбрыхский с женой. Володя, как всегда, быстро съедал все, что у него было на тарелке, а потом ненасытно и жадно рассказывал. Тогда он рассказывал о том, что они хотят сделать фильм про трех беглецов из немецкого концлагеря. Эти трое — русский, которого должен был играть Володя, поляк Ольбрыхский и француз (по-моему, Володя говорил, что договорился с Депардье). И что им всем нравится сценарий и идея, но они не могут найти режиссера. Все режиссеры, которым они предлагали этот сценарий, почему-то отказывались, ссылаясь на несовершенство драматургии. Вдруг посередине этого разговора Володя посмотрел на часы, вскочил и, ни с кем не прощаясь, помчался к двери. Он опаздывал на самолет в Париж. За ним вскочил удивленный Ольбрыхский и, извиняясь за него и за себя, скороговоркой мне: «Я сегодня играю роль шофера Высоцкого, простите…» В это время председательствующий Ломницкий, заметив уже в дверях убегающего Высоцкого, крикнул на весь зал: «Нас покидает Высоцкий, поприветствуем его!» И вдруг совершенно интуитивно от «нас покидает» меня охватила дрожь, открылась какая-то бездна, и, чтобы снять это напряжение, я прибавила в тон ему: «Нас покидает Ольбрыхский, поприветствуем его…»
В августе 1980 года в Доме творчества «Репине» мы с друзьями сидели, и каждый рассказывал, в какой момент он услышал весть о смерти Володи. Мне врезался в память рассказ Ильи Авербаха: «Мы жили в это время на Валдае. Однажды вечером я вяло пролистывал сценарий, который мне перед отъездом сунул Высоцкий, читал этот сценарий и раздражался, что сытые, обеспеченные люди предлагают мне снять картину о гибнущих от голода… Я читал и ругал их захламленные красной мебелью квартиры (хотя сам живу в такой), их „Мерседесы“, их бесконечные поездки через границу туда и обратно. И во время моего сердитого монолога я услышал по зарубежному радио сообщение о смерти Высоцкого. После шока, после всех разговоров об ожидаемой неожиданности этого конца я уже перед сном опять взял сценарий и стал его заново перечитывать. Мне там нравилось все. И я подумал, какой мог бы быть прекрасный фильм с этими уникальными актерами и как Высоцкий был бы идеально точен в этой роли…»
Подобный «перевертыш» в сознании и оценке я наблюдала очень часто и у себя, и у других.
Может показаться, что мы и оценили его только после смерти, но это не так. Масштаб его личности и ее уникальность ощущал каждый в нашем театре, пусть по-своему. Но мы начинали вровень и жили вровень. И у нас никогда не было иерархии.
Когда сейчас читаешь переписку Карамзиных или Вяземских 1837 года, поражаешься, как они могли злословить по адресу своего друга, — ведь это Пушкин! Как могли отказать в долге — Пушкин просил у Вяземского и у Нащокина денег взаймы, чтобы уехать от кошмара петербургской жизни в Михайловское, и те, имея деньги, отказали. Ведь эти деньги могли бы, может быть, спасти Пушкина от гибели! Но, видимо, у каждого своя судьба.
В 1977 году на гастролях в Марселе Володя загулял, запил, пропал. Искали его всю ночь по городу, на рассвете нашли. Прилетела из Парижа Марина. Она одна имела власть над ним. Он спал под снотворным в своем номере до вечернего «Гамлета», а мы репетировали новый вариант спектакля на случай, если Высоцкий во время спектакля не сможет выйти на сцену, если случится непоправимое. Спектакль начался. Так гениально Володя не играл эту роль никогда — ни до, ни после. Это уже было состояние не «вдоль обрыва, по-над пропастью», а — по тонкому лучу через пропасть. Он был бледен как полотно. Роль, помимо всего прочего, требовала еще и огромных физических затрат. В интервалах между своими сценами он прибегал в мою гримерную, ближайшую к кулисам, и его рвало в раковину сгустками крови. Марина, плача, руками выгребала это.
Володя тогда мог умереть каждую секунду. Это знали мы. Это знала его жена. Это знал он сам — и выходил на сцену. И мы не знали, чем и когда кончится этот спектакль. Тогда он, слава Богу, кончился благополучно.
Можно было бы заменить спектакль? Отменить его вовсе? Можно. Не играть его в июне 1980-го в Польше? Не играть 13 и 18 июля — перед самой смертью? Можно. Но мы были бы другие. А Высоцкий не был бы Высоцким.
Прошел срок — довольно большой — после его смерти. Я его теперь чаще вспоминаю, чем раньше. Он до сих пор мне дарит своих друзей, о существовании которых я даже не подозревала. По-другому я смотрю фильмы с его участием, по-другому слушаю его песни…
В своей книге «Высоцкий, каким помню и люблю» я вспоминала, как Высоцкий пришел в Театр на Таганке, как медленно, но неуклонно — от роли к роли — он рос, как мы репетировали «Гамлета» — долго и мучительно, почти два года (премьера была 29 ноября 1971 года), и как менялся его Гамлет за десять лет существования спектакля…
Не стану повторяться, приведу лишь свои дневниковые записи, связанные с Высоцким, которые, может быть, передадут ощущение сиюминутности происходящего.
ИЗ ДНЕВНИКОВ
1974 год
19 марта. «Гамлет». Прошел ужасно. Я не люблю, когда Высоцкий в таком удачливом состоянии, — трагедии не получается…
21 марта.…Худсовет по поводу юбилея театра 23 апреля… Высоцкий забежал на минуту, покрутился, поздоровался, перекинулся словами и убежал… Вечером — «Антимиры». Володя читал потрясающе!
18 апреля.…«Гамлет» прошел отвратительно. Много накладок. Занавес еле-еле ползал и вдобавок перекосился. Мы боялись, что он опять рухнет. Ритмы были сбиты, особенно в «Быть или не быть», Володя нервничал, жал, играл «с позиции силы» — то, что я больше всего в нем не люблю, агрессивность. Все играли как в вату. Публика кричала «браво»…
23 апреля. Юбилей театра. 10 лет. 12 часов — в фойе зажгли свечи. Мы основоположники — «кирпичи», как нас окрестили, — 10 человек (Славина, Кузнецова, Комаровская, Полицеймако, Петров, Колокольников, Возиян, Хмельницкий, Васильев и я) с этими свечами прошли мимо вывешенных внизу всех наших афиш и поднялись в верхний буфет. Там выпили шампанского. Мне всегда почему-то стыдно немного этих ритуальных действий. Потом стали приходить гости и поздравлять. Вознесенский принес в подарок щенка, большого, розового, с голубыми глазами, с красным лаковым ошейником. Сказал, что это волкодав и что он будет охранять театр. С общего согласия, отдали этого щенка мне, и я помчалась с ним домой… Вечером — «Добрый». Цветы, «ypa», «браво»… Огромный банкет, человек на триста. Длинные столы, в верхнем фойе ВТО. Я за столом с вахтанговцами — Яковлевым, Максаковой, Ульяновым, Парфаньяк. В зале — концерт-капустник. Веня, как всегда, постарался. Жаль, что меня не взяли… Высоцкий сочинил длинные стихи. Прекрасно! Фильм о нашем «Гамлете». К сожалению, мои неудачные куски. Фильм о гастролях в Алма-Ате. Разошлись поздно.
26 апреля. «Гамлет». До середины июня «Гамлета» — не будет — Высоцкий уезжает во Францию…
13 июня. Утром — репетиция «Гамлета». Володя подарил брелок с круглым камешком[1]. Очень нежен, в хорошем настроении. Вечером — «Гамлет» — наша сцена — хорошо. Высоцкий после заграницы несколько дней живет в каком-то другом ритме. Видимо, шлейф не нашей жизни.
24 июня.…вылет в Набережные Челны на гастроли. Сидели с Высоцким… говорили о житье-бытье, о Париже, о Марине…
28 июня.…каждый день спектакли и бесконечные концерты. Нас вывозят то на какие-то стройки, то в цеха.
1 июля. Высоцкий договорился с кем-то, с каким-то начальством, нам дали маленький катер, и мы, несколько человек, поехали в Елабугу. Туда добраться можно только водой. Всю дорогу Высоцкий пел — «отрабатывал катер», — нас угощали. Приехали… Долго искали дом, где жила Цветаева. Как всегда, самый контактный и хозяйственный — Высоцкий. Ощущение — как за каменной стеной. Наконец нашли. Дом заперт.
Постучались к соседке. Она, немного прохиндейничая: «Не понимаю, чего в последнее время ходят и ходят. Вот недавно приезжали писатели и с ними сестра Цветаевой, все расспрашивали. Сестра старая, седая, лохматая, с палкой. Все ходила по кладбищу, ведь никто не помнит, в каком месте похоронили Цветаеву, и вдруг она как закричит, забьет палкой о землю: „Вот тут она похоронена, тут, я чувствую, тут!“ Ну, и на этом месте могилу сделали. Я испугалась, домой убежала. А чего, кажись, расспрашивать? Она-то и прожила у нас дней десять в конце лета, в начале войны. Снимали с сыном у соседей угол. Я-то ее ни разу не видела. А в то воскресенье ее сын, Георгием, по-моему, звали, ходил с моим сыном — они одногодки — картошку копать, чистить поле под аэродром. Вернулись. Вдруг он прибегает к нам весь белый: мама повесилась. Я не ходила смотреть, но говорят, повесилась она в пристройке, потолок там низкий, она колени подогнула, а чтоб замок не ломали, она изнутри дверь веревкой завязала. А на керосинке теплая жареная картошка была для сына… Тот дом вообще несчастливый. Столько раз его перестраивали, а там все равно какие-нибудь несчастья.
Сейчас он весь перестроен. Той комнаты и пристройки уже нет. А кто она, писательница, что ли?» Мы пошли на кладбище, нашли могилу Цветаевой. Кладбище старое, большое, зеленое. С каменной оградой-входом. Могила ухоженная, аккуратная. На сером скромном камне написано: «Марина Ивановна Цветаева, 26 сентября 1892 — 31 августа 1941 года». На могиле положен кем-то маленький букетик свежей земляники и новая одна сигаретка. Кто-то до нас был. Но кто, в этом забытом Богом месте?
2 июля. Опять несколько концертов. Высоцкий обзавелся уже друзьями. Они его кормят, обслуживают, приглашают в гости. Он мне откуда-то достает постоянно свежий кумыс. Вечером повел в гости, в семью, по-моему, главного инженера, местные интеллектуалы. Большая нестройная библиотека. Очень правильная семья. Для нас — как образцово-показательный урок. Обратно шли по середине широкой улицы. Жарко. Из многих открытых окон слышались записи Высоцкого. Мы посмеялись…
3 сентября. Начало сезона. Гастроли в Вильнюсе. Любимов — в Англии. У Высоцкого — новая машина — «БМВ». Он на ней приехал из Москвы с Иваном Дыховичным.
5 сентября. Высоцкий, Дыховичный и я после утреннего спектакля поехали обедать в лесной ресторан под Каунасом. За рулем — Ваня. 200 км — скорость не чувствуется. Высоцкий нервен. Ощущение, что все время куда-то опаздывает. Везде ведет себя как хозяин. Говорить с ним сейчас о чем-нибудь бесполезно не слышит. Его «несет».
10 сентября.…Я в Москву на «Выбор цели» и «Мак-Кинли». Приехала на вокзал, вспомнила, что забыла для проб парик, кинулась обратно в гостиницу. У гостиницы долго ищу такси. Дождь. Подъезжает на своей роскошной машине с концерта мокрый Высоцкий. Весь в цветах. Я кинулась к нему — выручай, подвези на вокзал — опаздываю. Отказался! Ужасно!
12 сентября.…возвращаюсь в Вильнюс. Прием в редакции газеты «Советская Литва», бесконечные рассказы Любимова. Мы подыгрываем. Злой Высоцкий. После «Павших» заехали за ним с Дыховичным. Он забрал машину по-хозяйски. Сел за руль, рванул резко с места, и мы помчались. Вечером совместный чай в номере. Общение с ним в таком состоянии невозможно…
13 сентября. 8.30 — телевидение. Около двух часов плохой импровизации. Каждый — в своей «маске»: Любимов — о возникновении театра, Смехов — о требованиях к актерам театра, Золотухин — о «Хозяине тайги», Филатов — свои стихи, Высоцкий — песни вперемежку из «Павших» и хорошо — «Колея»! Я сказала, что завидую легкости их таланта: взял гитару — запел… 12 часов «10 дней» — я не занята, сидели на солнышке перед служебным входом с Любимовым. Он рассказывал о Лондоне и опять — что делать с театром, как дальше нам жить, о хороших-плохих актерах. Я гнула линию, что хороших надо выделять и беречь, он опять про команду и равенство. В 15 часов — прием у секретаря ЦК. Обед. Высоцкий не может усидеть на месте больше пяти минут — чувствую, что сорвется. Вечером «Кони». Ваня, Володя — с концерта — отдали мне все свои цветы… Володя, по-моему, начал пить, но пока в форме.
14 сентября. Высоцкий запил. Сделали укол. Сутки спит в номере. Дыховичный перегоняет его машину в Москву…
30 сентября. Володя, я, Ваня ездили в Москву. Вернулись на гастроли в Ригу. Любимов уехал в Италию, — в «Ла Скала» будет ставить оперу Луиджи Ноно. Днем ездили в Сигулду. По дороге Высоцкий рассказывал, как снимался в Югославии в «Единственной дороге». Купил там Марине дубленку — очень этим гордится. Вечером после «Доброго человека» ужинали в ресторане большой компанией за несколькими столиками. Валера, Нина, Веня, Митта, Янковский, Ваня. Володя тихий, молчаливый и важный, ходил от стола к столу…
4 октября, пятница.…Переезд на гастроли в Ленинград. Высоцкий попал в аварию за семьдесят километров от Ленинграда. Перевернулся. Сам, слава Богу, ничего — бок машины помят…
8 октября.…Утром репетиция «Гамлета». Пристройка к новой сцене. Репетируют в основном свет и занавес, как самое главное. После репетиции большой когортой во главе с Любимовым поехали на телевидение. Там то же, что и всегда.
9 октября.…Утром — опять репетиция «Гамлета». Занавес заедает вечером помучаемся. Отчуждение с Высоцким. Сказалось на вечернем спектакле. Я играю красивость, особенно в первом акте.
Надо больше заботиться о сыне. Как мы все повязаны отношением друг к другу!
21 октября.…Ездила к художнице смотреть рисунки к нашему «Гамлету». Туман. Разбила машину. Вечером концерт — Володя сразу откликнулся познакомил с мастером, который за два дня починил ему его «БMB». Рассказал о Черногории, о стихотворении Пушкина и о своих стихах про Черногорию.
26 октября. «Гамлет». Пробовали с Высоцким что-то изменить по ходу. Не получается. Я подстриглась, играла с короткими волосами — очень мешает, надо тогда целиком менять рисунок роли. После спектакля на машине Высоцкого (как сельди в бочке) помчались в редакцию «Авроры». Какое-то пустое, ночное помещение: Филатов читал свои пародии, Высоцкий пел, Ваня пел, Валера пел, я, слава Богу, промолчала. На всех нас сделали шаржи.
30 октября. Собирались в Москву. Мою машину перегоняет Авербах. Я накупила массу картин. Забит весь багажник. Смешно загружался Высоцкий. У него много подарков и покупок, тоже забита вся машина. Багажник не закрывался. Он терпеливо перекладывал, багажник все равно не закрывался. Он опять перекладывал — не закрывается. Махнул рукой, резко захлопнул багажник, там что-то громко хрустнуло, он сказал, что, наверное, петровские бокалы, но не стал смотреть…
1 ноября.…В Москве. Позвонил Высоцкий — повесился Гена Шпаликов.
30 ноября. «Гамлет». Играли хорошо. Перед вторым актом — долго не начинали, сидели с Высоцким на своем гробе, говорили о смерти, о том, что будет — после… Сказал, что сочиняет про это песню. Начало, по-моему, «Лежу на сгибе бытия, на полдороге к бездне…» Потом о «Мак-Кинли». Он написал семь баллад. Должны вместе сниматься где-то в Венгрии.
Я понимаю, что в этих записях, к сожалению, мало информации о Высоцком. Но у меня была своя жизнь, свой круг друзей, работа в кино, которая занимала тогда почти все мое время. Но я подумала, что за нашими совместными гастрольными обедами, нашим бытом читатель, может быть, почувствует атмосферу, в которой тогда жил Высоцкий. А если будет более пристально обращать внимание на даты, то яснее поймет состояние Высоцкого в разные периоды его жизни — изменения в поведении, когда болезнь его затягивала, и ощущение вины после…
В феврале 1975 года мы начали репетировать «Вишневый сад». Поначалу репетиции шли без Высоцкого. В начале мая я решила послать ему телеграмму.
1975 год
26 мая.…приехал Высоцкий. С бородой, сказал, что растил ее специально для Лопахина. Рассказывал про Мексику, Мадрид, «Прадо», Эль Греко. Объездил полмира.
28 мая.…Высоцкий сбрил бороду — посоветовал Эфрос. Репетиции «Вишневого сада». Высоцкий сразу включился.
6 июня.…Репетиция «Вишневого сада». Поражаюсь Высоцкому: быстро учит текст и схватывает мизансцену. После репетиции Высоцкий, Дыховичный и я поехали обедать к Ивану. Володя как у себя дома. Рассказывал, как они с Мариной долго жили тут, как завтраки переходили в обеды… Домой отвез Володя — жаловался…
7 июня.…Черновой прогон «Вишневого сада». После репетиции Володя, Иван и я поехали обедать в «Националь»: забежали, второпях поели, разбежались, Я заражаюсь их ритмом.
9 июня. Целый день репетиции «Гамлета». Вечером собрались ехать в Ленинград. Я по своим делам, Володя с Иваном на концерт. Паника с билетами. Конечно, достал Высоцкий… Полночи трепались. Новые песни, которые я не слышала раньше. Что-то про погоню и лес, очень длинная и прекрасная — «Что за дом притих»…
10 июня.…В Ленинграде. Долго искали такси. Пошли пешком завтракать к друзьям Высоцкого — Кириллу Ласкари и Нине Ургант. Кирилл смешно показал Высоцкого, когда тот был еще студентом и ходил в широких клешах и тельняшке. Приехал Авербах. Мы с ним поехали на «Ленфильм». Вечером собрались дома у Авербаха… Втроем опять на поезд — завтра «Гамлет». Опять полночи трепались — две бессонные ночи. Высоцкому — привычно, а мне каково?..
11 июня.…Я опоздала на репетицию минут на двадцать. Высоцкий и Иван, как ни странно, пришли вовремя. Обедали у Дыховичных. Раки. Вспоминали с Высоцким, какие прекрасные красные раки в синем тазу дал нам Карелов в Измаиле, когда снимались в «Служили два товарища». Много вспоминали. Хохотали. Вечером «Гамлет» — хорошо.
12 июня. Репетиция «Сада». Высоцкий быстро набирает, хорошо играет начало — тревожно и быстро. После этого я вбегаю — лихорадочный ритм не на пустом месте. Вечером 600-е «Антимиры». Вознесенский читал после нас.
13 июня. Утром репетиция. Прогнали все четыре акта. Очень неровно и в общем, пока плохо. Смотрела Наташа Рязанцева — ей понравилось. Днем продолжение собрания. Любимов кричал, что покончит со звездной болезнью у актеров… Вечером «Гамлет». С Володей друг другу говорим: «Ну, как жизнь, звезда?»
19 июня. Прогоняли для Любимова «Вишневый сад». Любимов смотрел вполоборота и недоброжелательно, ибо все его раздражало. От этого, конечно, мы играли отвратительно. Вечером — «Кони». Любимов зашел за кулисы, спросил меня, почему я играю Раневскую такой молодой, ведь она старуха. Я ему ответила, что Раневской, видимо, всего 37–38 лет (старшей дочери 17 лет). Он удивился, наверное, никогда не думал об этом. Спросил, почему такой загнанный у всех ритм — я что-то стала объяснять, он прервал и стал говорить про Чехова, но совершенно про другого…
20 июня.…Вечером репетиция «Сада», монолог Лопахина, «ерничанье»: я купил — я убил… Вы хотели меня видеть убийцей — получайте. Часов до двенадцати говорили с Эфросом и Высоцким о театре, Чехове и Любимове…
26 июня.…Репетиция «Сада» с остановками… Потом прогнали два акта. Был Элем Климов — ему это скучно. Он, видимо, как и Любимов, не признает такого Чехова. Замечания Эфроса — удивительно точно и по существу. Многие не берут его рисунок, может быть, не успевают. Наш разговор об этом после сказал, что раньше пытался добиваться от актеров того, что видел и хотел, но со временем понял — актер выше своих способностей не прыгнет, а здесь для него главное в спектакле — Высоцкий, Золотухин и я.
27 июня. Прогон «Вишневого сада». Вместо Высоцкого — Шаповалов. Очень трудно… Замедленные ритмы. Я на этом фоне суечусь. Без Высоцкого очень проигрываю. Замечания. Спор Эфроса — Любимова (Чехов — Толстой). Прекрасная речь Эфроса о Чеxoвe~uнтeллuгeнme. Любимов раздражался, но сдерживался. Они, конечно, несовместимы… Я опаздывала на вагнеровское «Золото Рейна» Шведской оперы.
Встала, извинилась и пошла. Любимов взорвался, стал кричать о равнодушии актеров, что больше не хочет разговаривать, выгнал всех из кабинета. По-моему, с Эфросом у них серьезно. Я умчалась.
28 июня. Прогон «Сада»— для художественного совета. Они ничего не поняли. Выступали против. Много верноподданнических речей перед Любимовым…
6 июля. Премьера «Вишневого сада». По-моему, хорошо. Много цветов. Эфрос волновался за кулисами. После монолога Лопахина — Высоцкого («я купил») — аплодисменты, после моего крика — тоже. Банкет. Любимова не было. Конфликт.
31 октября.…Вечером репетиция «Вишневого сада»— перед началом сезона. Половины исполнителей не было. Высоцкий еще не вернулся, а Шаповалов не пришел. Эфрос был расстроен. Думает перенести спектакль на свою сцену, со своими актерами.
2 ноября. Утром репетиция «Вишневого сада». Приехал Высоцкий — в плохой форме…
3 ноября. Утром репетиция «Гамлета». Любимову явно не нравится наш «Вишневый сад» — постоянно об этом говорит к месту и не к месту. Вечером «Гамлет». Высоцкий играет «напролом», не глядя ни на кого. Очень агрессивен. Думаю, кончится опять запоем.
4 ноября.…Вечером прогон «Вишневого сада». Опоздала. Меня все ждали. Эфрос ничего не сказал. Первый акт — хорошо, второй акт очень плохо: не понимаю, кому говорить монолог о «грехах», — Высоцкий слушает плохо, играет «супермена». Ужасно! Все на одной ноте. Третий акт — средне, обозначили, четвертый — неплохо. Мне надо быть поспокойней.
18 ноября. Все дни черные, ночи бессонные. Очень плохое состояние…
21 ноября,…вечером репетиция «Вишневого сада», вместо Антипова вводим Желдина…
23 ноября. «Вишневый сад». Народу!.. Кто принимает спектакль — хвалит, кто видел летом, говорят, что сейчас идет лучше…
29 ноября,…репетируем «Обмен». Трифонову не понравился «Вишневый сад». Это понятно. Звонил Эфрос, прочитал письмо Майи Туровской. Хвалит спектакль, меня, Володю.
30 ноября.…Вечером «Вишневый сад». Очень много знакомых. Все хвалят. Меня даже слишком. Флеров сказал, что это не Чехов. Каверин очень хвалил. После спектакля зашел Смоктуновский с женой и сказал, что такой пластики не могло быть в то время, его жена возразила, а Таланкин на ухо мне: «Не слушай…» Окуджаве — нравится, Авербах — в восторге, но сказал, что после «родов» третьего акта четвертый играть надо умиротворенно.
8 декабря.…«Вишневый сад». На каждом спектакле за кулисами Эфрос. Володя ко мне, как я к нему в «Гамлете». После спектакля бесконечные звонки. Лакшин.
23 декабря.…Вечером «Вишневый сад» — замена вместо «Пристегните ремни». Публика обычная. Реакции другие… Теперь спектакль пойдет хуже. Я плохо играю первый акт, он для меня неясен. Отношения непрочищенные, «болезнь» Раневской надуманна. Высоцкий стал спокойно играть начало, видимо, решил идти вразрез с моим завышенным ритмом; а в этом спектакле нельзя: мы все играем одно, повязаны «одной веревкой». Попробую с ним поговорить…
Примерно в 1975 году у нас с Володей родилась идея найти и сыграть пьесу на двоих. Мы понимали, что пришло время скрупулезного исследования человеческих отношений, и на смену большим, массовым ярким представлениям придут спектакли камерные — на одного, двух исполнителей. (Так, впрочем, потом и оказалось…) Долго не могли выбрать пьесу: то я предлагала сделать композицию по письмам и дневникам Софьи Андреевны и Льва Николаевича Толстого (как эти два человека по-разному оценивают одни и те же события своей жизни), то Володя привозил откуда-нибудь новую пьесу, которую нужно было переводить, да и идеи для нас были не очень животрепещущие…
Наконец нам перевел пьесу Теннесси Уильямса «Игра для двоих» Виталий Вульф. В пьесе два действующих лица: режиссер спектакля, который он ставит по ходу пьесы, сам же и играет в нем, и сестра режиссера — уставшая, талантливая актриса, употребляющая (по замыслу Высоцкого) наркотики, чтобы вытаскивать из себя ту энергию, которая в человеке хотя и заложена, но генетически еще спит и только в экстремальных ситуациях, направленная в русло, предположим творчества, приносит неожиданные результаты…
Высоцкий в этой работе был и партнером, и режиссером.
По композиции пьеса делилась на три части: 1-й акт — трудное вхождение в работу, в другую реальность, когда все существо твое цепляется за привычное, теплое, обжитое, и нужно огромное волевое усилие, чтобы оторваться от всего этого и начать играть; 2-й акт — разные варианты «игры» (причем зритель так запутывался бы в этих вариантах, что не смог бы отличить правду от вымысла) и, наконец, 3-й акт опустошение после работы, физическая усталость, разочарование в жизни, человеческих отношениях и рутинном состоянии театра (сестра погибает от наркотиков и непосильной ноши таланта…).
Высоцкий придумал очень хорошее начало. Два человека бегут, летят друг к другу с противоположных концов сцены по диагонали, сталкиваются в центре и замирают на несколько секунд в полубратском-полулюбовном объятии. И сразу же равнодушно расходятся. Я — за гримировальный столик, Высоцкий — на авансцену, где говорит большой монолог в зал об актерском комплексе страха перед выходом на сцену. Причем у самого Высоцкого этого комплекса никогда не было, но он произносил это так убедительно, что трудно было поверить, что он вот сейчас начнет играть.
Оформление Давид Боровский придумал для этого спектакля простое — на сцене были свалены в беспорядке детали декораций спектаклей, в которых мы с Володей играли: в левом углу груда смятых деревьев из «Вишневого сада», гроб из «Гамлета», кресло и дверь из «Преступления и наказания», что-то из Брехта и поэтических спектаклей и два гримировальных стола — Высоцкого и мой.
На сцене мы прогнали вчерне только первый акт, причем зрителей было в зале только двое: Боровский и случайно зашедший в театр кинорежиссер Юрий Егоров. В театре к нашей работе относились скептически, Любимову пьеса не нравилась, и он открыто говорил, что мы, мол, взяли ее из тщеславных соображений, ведь пьеса была написана Уильямсом для двух бродвейских звезд.
Второй акт оказался очень сложным по постановке, и мы остановились. В это время у нас начались гастроли в Польше, мы уехали, вернулись в начале июня. А через полтора месяца Володи не стало…
Я оценила партнерство Высоцкого в полной мере, когда стала играть без него… Он был неповторимым актером. Особенно в последние годы. Он абсолютно владел залом, он намагничивал воздух, был хозяином сцены. Не только из-за его неслыханной популярности. Он обладал удивительной энергией, которая, саккумулировавшись на образе, как луч сильного прожектора, била в зал. Я обнаружила это случайно, когда однажды мы хорошо играли «Гамлета». Я вдруг почувствовала это кожей. Потом, не говоря ему, долго проверяла это свое состояние. Как-то Володя не выдержал и спросил меня: что это я за эксперименты провожу и иногда меняю из-за этого мизансцены. Я рассказала. Оказывается, он давно над этим думал, знает у себя это состояние, готовится к нему, есть ряд приемов, чтобы это состояние усиливать, а иногда это поле натяжения с залом видит почти физически и заметил, что оно рвется от аплодисментов. «Когда зритель попадает в это поле — с ним можно делать все, что угодно», — говорил он.
Высоцкий, как никто из знакомых мне актеров, прислушивался к замечаниям. С ним легко было договариваться об игре, о перемене акцентов роли. Он мог играть вполсилы, иногда неудачно, но никогда не фальшивил ни в тоне, ни в реакциях. А при этом — какая-то самосъедающая неудовлетворенность. И нечеловеческая работоспособность. Вечная напряженность, страсть, порыв.
После Гамлета Высоцкий уже не работал с Любимовым над большими ролями. В «Мастере и Маргарите» он был утвержден на роль Бездомного, но эту роль не захотел даже репетировать, в «Трех сестрах» хотел играть Вершинина, но назначен был на Соленого, который тоже был ему неинтересен, а на Свидригайлова в «Преступлении и наказании» я его уговорила уже в самый последний период работы над спектаклем, почти перед премьерой.
…Я вижу, как он уныло бродит за кулисами во время этого спектакля, слоняется молчаливо из угла в угол тяжелой, чуть шаркающей походкой (так не похоже на прежнего Высоцкого!), в длинном, сером, бархатном халате, почти таком же, как у его Галилея; только теперь в этой уставшей фигуре — горечь, созерцательность, спокойствие и мудрость — то, чего так недоставало в раннем Галилее. Две эти роли стоят, как бы обрамляя короткий творческий путь Высоцкого, и по этим ролям видно, сколь путь этот был нелегким…
1980 год
13 июля. В 217-й раз играем «Гамлета». Очень душно. И мы уже на излете сил — конец сезона, недавно прошли напряженные и ответственные для нас гастроли в Польше. Там тоже играли «Гамлета». Володя плохо себя чувствует; выбегает со сцены, глотает лекарства… За кулисами дежурит врач «Скорой помощи». Во время спектакля Володя часто забывает слова. В нашей сцене после реплики: «Вам надо исповедаться», — тихо спрашивает меня: «Как дальше, забыл». Я подсказала, он продолжал. Играл хорошо. В этой же сцене тяжелый занавес неожиданно зацепился за гроб, на котором я сижу, гроб сдвинулся, и я очутилась лицом к лицу с призраком отца Гамлета, которого я не должна видеть по спектаклю. Мы с Володей удачно обыграли эту «накладку». В антракте поговорили, что «накладку» хорошо бы закрепить, поговорили о плохом самочувствии и о том, что — слава Богу — отпуск скоро, можно отдохнуть. Володя был в мягком, добром состоянии, редком в последнее время…
18 июля. Опять «Гамлет». Володя внешне спокоен, не так возбужден, как 13-го. Сосредоточен. Текст не забывает. Хотя в сцене «Мышеловки» опять убежал за кулисы — снова плохо… Вбежал на сцену очень бледный, но точно к своей реплике. Нашу сцену сыграли ровно. Опять очень жарко. Духота. Бедная публика! Мы-то время от времени выбегаем на воздух в театральный двор, а они сидят тихо и напряженно. Впрочем, они в легких летних одеждах, а на нас — чистая шерсть, ручная работа, очень толстые свитера и платья. Все давно мокрое. На поклоны почти выползаем от усталости. Я пошутила: «А слабо, ребятки, сыграть еще раз». Никто даже не улыбнулся, и только Володя вдруг остро посмотрел на меня: «Слабо, говоришь. А ну как — не слабо!» Понимая, что это всего лишь «слова, слова, слова…», но, зная Володин азарт, я на всякий случай отмежевываюсь: «Нет уж, Володечка, успеем сыграть в следующий раз 27-го…»
И не успели…
25–27 июля. Приезжаю в театр к 10 часам на репетицию. Бегу, как всегда, опаздывая. У дверей со слезами на глазах Алеша Порай-Кошиц — заведующий постановочной частью. «Не спеши». — «Почему?»— «Володя умер». — «Какой Володя?» — «Высоцкий. В четыре часа утра».
Репетицию отменили. Сидим на ящиках за кулисами. Остроты утраты не чувствуется. Отупение. Рядом стрекочет электрическая швейная машинка — шьют черные тряпки, чтобы занавесить большие зеркала в фойе… 26-го тоже не смогли репетировать. 27-го всех собрали, чтобы обсудить техническую сторону похорон. Обсудили, но не расходились — нельзя было заставить себя вдруг вот встать и уйти. «Мы сегодня должны были играть „Гамлета“…» — начала я и минут пять молчала — не могла справиться с собой. Потом сбивчиво говорила о том, что закончился для нашего театра определенный этап его истории — и что он так трагически совпал со смертью Володи…
* * *
О Высоцком сейчас написано много книг, где мифы переплетаются с реальностью, правда — с вымыслом. Моя книжка «Высоцкий — каким его помню и люблю» была написана, кстати, первой. Я основывалась тогда на расшифровке его концертных выступлений и кое-каких документах, которые тогда нашла в ЦГАЛИ (они тогда только начали собирать о нем материалы). Там, например, были анкеты, заполненные Высоцким, видимо, наспех, с ошибками дат, я их так и опубликовала, к сожалению, без комментариев и сносок об этих описках, поэтому потом получала рассерженные письма от читателей, что, мол, не знаю основных дат в биографии Высоцкого. Но книжка тогда писалась наспех — надо было ее успеть сдать к сроку, что, впрочем, не помешало, как это часто бывает, пролежать рукописи в издательстве довольно-таки долго.
Здесь же, в этой книжке, я буду неоднократно вспоминать еще и еще раз Володю, как и других моих товарищей, с которыми мы долго играли на «Таганке».
ПЕРВОЕ ПАРИЖСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ
Первый раз я приехала в Париж с «Таганкой» в 1977 году. Мы жили на Плас Републик — это старый, бывший рабочий район Парижа. Играли в театре «Шайо» на площади Трокадеро, куда нас возили на автобусах. Я помню, мы сидим в автобусе, чтобы ехать на спектакль, и, как всегда, кого-то ждем, а в это время вся площадь заполняется демонстрацией с красными флагами. Мы не смогли проехать, и спектакль задержали часа на два. Я тогда посмотрела на наших актеров, все еще были молодые, но у них стали такие старые, мудрые глаза… Никто даже не комментировал, потому что боялись высказываться (хоть и «левый» театр, тем не менее всех своих стукачей мы знали в лицо), но глаза были такие: «Чего вы, дети, тут делаете с этими флагами?!» А там — такой ор! Теперь я понимаю, что это не те красные флаги, что были у нас, это совершенно другие игры: выброс энергии, оппозиция, удерживающая равновесие…
Первый раз — Париж. Мы на всех ранних гастролях ходили вместе: Филатов, Хмельницкий, Дыховичный и я. Они меня не то чтобы стеснялись, но вели себя абсолютно по-мальчишески, как в школе, когда мальчишки идут впереди и не обращают внимания на девчонок. Тем не менее я все время была с ними, потому что больше — не с кем.
У меня сохранился небольшой листок бумаги со строками, написанными разными почерками, — это мы: Леня, Ваня, Боря и я — ехали вчетвером в купе во время каких-то гастролей и играли в «буриме»:
Когда, пресытившись немецким пивом, Мы вспоминаем об Испании далекой, Хотя еще совсем не вышло срока И до Москвы, увы, далеко, И неизвестны суть и подоплека (Хотя судьба отнюдь к нам не жестока), Но из прекрасного испанского потока Я выбрала два сердца и два ока.Читателю я даю возможность угадать, кто из нас какие строчки писал. Я помню, там же, в купе, мы ели купленный в дороге большой арбуз. Это было очень неаппетитно и грязно (не было посуды, ножей, вилок, салфеток) — и я от отчаяния и усталости заплакала…
«Буриме» было нашей любимой игрой в гастрольных поездках. По правилам в «буриме» каждый пишет две строчки, но при этом видит он только последнюю строчку предыдущего. Своей первой строчкой он ему отвечает, но ответ этот загибает и дает еще одну строчку — следующему. Листочек превращается в гармошку, и, как правило, эта гармошка имеет смысл. Вот «буриме», в которое мы играли во время гастролей в Югославии.
Высоцкий:
Как ныне собрал свои вещи театр, Таганских глумцов[2] боевой агитатор. Сентябрь на дворе — здравствуй город Белград!Дыховичный:
Нет суточных давно, и я тебе не рад. И «Коля» за окном все ходит затрапезно.Демидова:
А мы летим вдвоем так сладостно, но в бездну. Но все нам трын-трава, пока мы на гастролях.Хмельницкий:
Подходит «Николя»[3] и мы по-сербски: «Моля!» Вернемся по домам и вдруг исчезнет воля.Филатов:
На каждого из нас досье напишет Коля. Унылая пора! Очей очарованье!Дыховичный:
Убожество пера! Анчар и Ваня! Да, голова пуста, когда живот не сыт.Демидова:
Вот почему всегда испытываем стыд. Но солнце за окном, а в сердце лабуда.Хмельницкий:
И все бы ничего, да вот одна беда: «Я правильно купил?..» А впрочем, ерунда.Филатов:
Сегодня — Будапешт, а завтра — Кулунда! Поэтому живи! Живи, пока живется!..Высоцкий:
Хотя я не тот, кто последним смеется (Товаров я в Загребе мало загреб)Дыховичный:
И этого даже мне хватит по гроб. Я алчность в себе ненавижуДемидова:
Мне родина нищая ближеХмельницкий:
Эпитет рискованный. Посмотрим, Что Леня напишет пониже.Филатов:
Пора нам из Сербии смазывать лыжи! —тут кончилась бумажка, а на обратной стороне был текст чьей-то роли.
После спектакля мы обычно собирались у Хмельницкого в номере, он ставил какую-нибудь бутылку, привезенную из Москвы. Леня Филатов выпивал маленькую рюмку, много курил, ходил по номеру, что-то быстро говорил, нервничал. Я водку не люблю, тоже выпивала немножко. Иногда говорила, но в основном молчала. Ваня Дыховичный незаметно исчезал, когда, куда — никто не замечал. Хмель выпивал всю бутылку, пьянел совершенно, говорил заплетающимся языком «Пошли к девочкам!», падал на свою кровать и засыпал. Наутро на репетицию приходил Леня — весь зеленый, больной, я — с опухшими глазами, Ваня — такой же, как всегда, и Хмельницкий — только что рожденный человек, с ясными глазами, в чистой рубашке и с первозданной энергией.
И вот в Париже пошли мы — Ваня, Хмельницкий и я — в пиццерию, в ресторан! У нас было очень немного денег — так называемые «суточные», но мы хотели попробовать французскую пиццу с красным вином. Я сказала, что не буду красное вино и пиццу не очень люблю, а они сказали, что я — просто жадная и мне жалко тратить деньги.
Вообще отношение ко мне — странное было в театре. Сейчас в дневниках Золотухина я прочитала:
«Я только теперь понимаю, насколько скучно было Демидовой с нами». Не скучно. Просто я не открывалась перед ними. Они не знали меня, и мое, кстати, равнодушное отношение к деньгам воспринимали как жадность. Я презираю «купечество», ненавижу актерский ресторанный разгул. Так и в тот раз, подозревая, что эта пицца — чревата, ибо пришли мы в пиццерию в поздний ночной час в сомнительном районе, я попробовала отказаться. Заграничную жизнь я знала лучше, чем они, ибо с конца 60-х годов ездила в разные страны на так называемые «Недели советских фильмов». И уже разбиралась, в каком районе что можно есть и в какое время. Здесь было очевидное «не то», но эту сомнительную ночную пиццу я съела, чтобы меня не считали жадной — ведь каждый платил сам за себя. И, конечно, все мы отравились. Это было понятно с самого начала, но мы — гуляли!
Первая репетиция «10 дней, которые потрясли мир» в «Шайо». Театр «Шайо» на Трокадеро — одноэтажное здание, но под землей, в глубине, — там еще много этажей. Чтобы войти, например, в зрительный зал, нужно долго-долго спускаться по лестнице вниз.
Все гримерные были в подвале, а еще ниже — какие-то коридоры, пустые залы и проходы. Я пошла по ним (вечное мое любопытство!) и поняла, что заблудилась, что это — катакомбы, что выйти я никак не смогу и найдут мой скелетик через несколько веков. И все-таки — иду…
Услышала какой-то звук сцены, обрадовалась. Вышла за кулисы. Но вижу, что это не наши кулисы. Играют американцы, на малой сцене. Я стою за кулисами, они на меня иногда посматривают с подозрением: «Кто это? Откуда возник этот призрак Отца Гамлета?»
Когда я украдкой глянула в зал, там оказалось немного народу, но актеры играют, выкладываясь на 150 процентов. Кончился спектакль. Я попросила меня вывести обратно. Пришла к своим и говорю: «Американцы для двадцати человек играют на износ». Любимов конечно, стал всех накачивать, ругая нас за наше каботинство — любимое его слово в течение долгих лет. (Я, признаться, до сих пор не знаю, что это такое, но всегда предполагала что-то нехорошее.)
Постепенно выяснилось, что у нас тоже мало зрителей, хотя зал огромный, какие-то 200–300 зрителей выглядели случайно забредшими. Чтобы подстегнуть интерес публики, Любимов дал интервью для «Monde», где сказал, что будет судиться с одной советской газетой из-за письма Альгиса Жюрайтиса против его «Пиковой дамы». «Monde» читают все, зрители двинулись смотреть, что это за диковинные спектакли, режиссер которых хочет судиться с Советской властью.
Я стала приглашать своих знакомых французов, они приходят — билетов в кассе нет, хотя зал полупустой, и я их проводила своими «черными» путями.
К середине гастролей наконец выяснилось: продюсер организовывал эти гастроли в то время, когда во Франции были модны левые движения. На «Таганке» он выбрал «10 дней», «Мать» и «Гамлета» (а в Лионе и Марселе мы играли еще и «Тартюфа»). Пока велись долгие переговоры с нашим министерством культуры, во Франции левое движение сменилось на правое, и продюсер начал понимать, что может прогореть с этой «Матерью» и «10-ю днями». Но он застраховал гастроли и, чтобы получить страховку, сделал так, что билетов в кассе не было, — мол, зрители покупают билеты и не приходят…
Играть при неполном зале — очень сложно, тем более в старом, тогда еще не перестроенном, «Шайо». Там в кулисах были бесконечные пространства, голос уносился вбок, в никуда. Надо было говорить только в зал и то — кричать.
И вот играем мы «Гамлета», и в конце 1-го отделения — вдруг какие-то жидкие аплодисменты и голос: «Алла! Б'гаво! Б'гаво, Алла! П'гек'гасно!» Мне Высоцкий шепчет: «Ну, Алла, слава наконец пришла. В Париже…» (А после первого отделения никогда не бывало аплодисментов, потому что Любимов нашу ночную сцену Гертруды и Гамлета на самой верхней трагической точке перерезал антрактом.)
В общем, выяснилось, что это мой старый московский учитель по вождению. Он был уникальным человеком и стоит отдельного рассказа.
Я не хотела, да и не могла из-за репетиций ходить в школу вождения, поэтому мне кто-то из знакомых посоветовал человека, который сможет научить меня водить. Появился старый еврей с черной «Волгой». Теперь я подозреваю, что он вообще не умел водить. Он меня сразу посадил за руль и сказал: «Алла, к'гути!» — и мы выехали на Садовое кольцо. В это время он грыз грецкие орехи, разбивал их дверцей «Волги» (я поняла, что машина не его). Он совал мне в рот грецкие орехи, а я, мокрая как мышь, смотрела только вперед. Я жевала, а он повторял: «Алла, к'гути!» И так мы «к'гутили» несколько дней, причем по всей Москве, потому что возили суп из одного конца Москвы в другой — его тете, а оттуда пирожки — племяннице. В общем, я научилась хорошо «к'гутить» и уже без его помощи сдала экзамен, потому что экзамен надо было сдавать по-настоящему.
У меня в записной книжке никто никогда не записан на ту букву, на которую нужно — я записываю имена или фамилии чисто ассоциативно, а потом долго не могу найти нужный мне телефон. Учитель по вождению у меня значился на «П» — я его записала как «Прохиндея». Время от времени я давала его телефон каким-то своим знакомым, они также «к'гутили», но тем не менее все благополучно сдавали экзамен. И вдруг он пропал. Сколько я ему ни звонила по разным надобностям — моего Прохиндея не было…
И вот, через несколько лет в Париже он пришел ко мне за кулисы после «Гамлета». Выяснилось, что его сыновья уехали, кто — в Израиль, кто — в Париж, и везде открыли автомастерские. А он ездит по сыновьям и живет то там, то тут. И они все пришли на «Гамлета» и кричали «Алла, б'гаво!».
…Париж того времени у меня сейчас возникает обрывочно. Ну, например, после какого-то спектакля Володя Высоцкий говорит: «Поехали к Тане». Это сестра Марины Влади, ее псевдоним — Одиль Версуа.
Мы поехали в Монсо, один из бывших аристократических районов Парижа. Улицы вымощены булыжником. Высокие каменные стены закрытых дворов, красивые кованые ворота. Мы вошли: двор «каре», типично французский. Такой можно увидеть в фильмах про трех мушкетеров. Вход очень парадный, парадная лестница и анфилады комнат — справа и слева. Внизу свет не горел. Мы поднялись на второй этаж. Слева, в одной из комнат, на столе, в красивой большой миске, была груда котлет — их сделала сама Таня — и, по-моему, больше ничего (я всегда поражаюсь европейскому приему: у них одно основное блюдо, какой-нибудь зеленый салат и вино. Все. Нет наших бесконечных закусок, пирожков и т. д.). Володя моментально набросился на эти котлеты.
Тогда Таня уже была больна. Была и операция, и «химия», но уже пошли метастазы. И Володя мне об этом накануне рассказал.
Одиль Версуа — Таня выделялась среди сестер и талантом, и судьбой, и характером. Я знала и третью сестру — Милицу. Когда снимался фильм «Чайковский», она пробовалась на фон Мекк. А я была уже утверждена на Юлию фон Мекк и ей подыгрывала. Актриса она была, по-моему, средняя, но работяга, трудоголик. Они, кстати, все очень разные. Таня была мягкая, улыбчивая, очень расположенная к людям.
Она была замужем за французским аристократом, у них был роскошный особняк в Париже и замок где-то в центре Франции. Но в тот памятный вечер не было слуг — пустой огромный дом и мы, несколько человек.
…Когда мы репетировали с Высоцким «Игру для двоих» Уильямса, я, конечно, понимала, что он потом перенесет мой рисунок на Марину, с тем чтобы играть это за границей. Я это понимала, и тем не менее я репетировала. Последний год мы с ним были довольно-таки откровенны из-за этих репетиций и еще потому, что он мне рассказал про свою болезнь — про наркотики.
Я помню, как мы стоим во время «Преступления и наказания» за кулисами и я ему говорю: «Володя, ты хочешь Запад завоевать, как Россию. Но сколько же на это нужно сил, энергии — это нереально! Там все совершенно другое». Он отвечает: «Но здесь я уже все исчерпал!» То есть ему нужны были новые Эвересты. Но я не думаю, что он бы «раскрутил» Запад. Запад очень консервативен. А уж во Франции вообще не воспринимают новых имен. Только, может быть, в музыке, причем в так называемой «серьезной».
С Мариной у меня никогда не складывались отношения, хотя мы много общались. Но какой-то урок я от нее получила.
В тот период, когда Таня была уже больна, с Володей что-то было не в порядке и с сыном Марины — тоже, мы пришли в ресторан. Она сразу заулыбалась, я говорю: «Марина, с какой стати?» Она: «Это вы, советские, несете свое горе перед собой, как золотой горшок. Но если идешь в ресторан надо веселиться».
Надо соответствовать предлагаемым обстоятельствам. Это — светскость. У меня ее не было, но теперь я стараюсь этому следовать. Совершенно никому не интересно, что у меня на душе, но если я общаюсь с людьми в ресторане, то должна соответствовать этому обществу или не ходить, сидеть дома. И с интервью, кстати, — также. Когда на телевидении сидят со скучными лицами и из них что-то вытягивают клещами… Ну не приходи тогда! А если пришел — должен отвечать, причем отвечать охотно. Это — Маринин урок.
Или нужно обладать такой силой воли (или эгоизмом?), чтобы везде оставаться самой собой. У меня нет ни того, ни другого. Мне запомнилась фотография: в большом зале «Лидо» за большим столом сидят люди — все знаменитые — и улыбаются, позируя перед камерой фотографа. И только одна Лиля Юрьевна Брик сидит, как у себя дома, и что-то ищет в маленькой сумочке. Ей совершенно наплевать, соответствует ли она предлагаемым обстоятельствам. Я, может быть, тоже не стала бы улыбаться, но, зная, что снимают, обязательно слепила бы какую-нибудь «мину».
Тем не менее какие-то западные обычаи я не понимаю. Западные люди в чем-то очень закрыты, в чем-то — шокирующе откровенны. Когда у Высоцкого с Мариной еще не было в Москве квартиры, они иногда жили у Дыховичных. Время от времени мы ездили все вместе ужинать куда-нибудь в Архангельское. И вот Маринина откровенность: «Да, Володя — это не стена. Годы уходят, и надо выходить замуж за кого-то другого…»
Или, например, как-то на спектакле в «Современнике» со мной рядом оказался Андрон Кончаловский, с которым я почти незнакома. Я что-то спросила, и он мне так откровенно стал отвечать, что я поразилась. Но теперь, когда прочитала его книгу, сама поездила по свету, поняла, что это американская откровенность. У нас разные на все реакции.
Я помню, после годовщины смерти Высоцкого мы летели с Мариной в одном самолете в Париж: я — по частному приглашению, она — домой. Мы сидели в экономическом классе, с нами летела туристическая французская группа — такие средние буржуа, очень шумные и непоседливые. Марина сидела с краю, и они все время ее задевали. И она: «Трам-та-там!.. Если бы они знали, кто летит, они бы сейчас ноги мои лизали».
Всю ночь накануне она просидела в кафе около «Таганки». Лицо было невыспавшееся. И вот, уже в парижском аэропорту, мы стоим на эскалаторе и о чем-то говорим, и вдруг я вижу: она на глазах меняется. Лицо светлеет, молодеет, вытягивается, вся опухлость проходит. Я оборачиваюсь: стоит какой-то маленький человечек. Она меня знакомит. Шварценберг — известный онколог. Он стал потом мужем Марины…
Я где-то читала воспоминания одного писателя: перед войной он стоял в очереди в кассу Литфонда. За мной, — пишет он, — стояла пожилая женщина. В дверь вошел красавец — молодой Арсений Тарковский. И вдруг эта женщина на глазах стала молодеть, у нее позеленели глаза, и я узнал Марину Цветаеву…
Много лет спустя мне судьба подарила общение с Арсением Александровичем Тарковским, и я его как-то спросила: правда ли, что у него с Мариной Цветаевой был роман? Он ответил: «Нет, конечно, но она выдумывала отношения, без „романов“ она не могла писать. Этот огонь ей был нужен. Ведь она большой Поэт», — добавил он. «А Вы?» — «А я больше любил жизнь…»
В первый свой приезд в Париж я обросла приятельницами — русскими девочками, вышедшими замуж за французов. Одна из них — Неля Бельска, вышла замуж за Мишеля Курно, знаменитого театрального критика, снималась у Годара, пишет романы на французском языке — даже получила какую-то премию. Вторая Жанна Павлович — врач, ученый, сделала в своей области какое-то открытие. Третья — Ариелла Сеф, стала моей верной подругой.
Я была с ними с утра до вечера, они меня опекали, надарили своих платьев — я приехала в Москву совершенно другим человеком, меня никто не узнавал — другой стиль появился, другая манера держаться.
У Жанны Павлович была собака, которую звали Фенечка. Абсолютно дворовая и такая блохастая, что ее нельзя было пускать в номер. (Тем не менее она постоянно сидела у меня на коленях.) Я как-то спросила: «А почему Фенечка?» — «Ну, потому что у Виктора Некрасова собака загуляла с каким-то дворовым псом (а собаку он вывез из Киева), родился один щенок.» Некрасов сказал: «До фени мне этот щенок!» Но Некрасов дружил с Жанной, и Жанна этого щенка взяла себе. Так возникла Фенечка. Кстати, через много-много лет Фенечка спасла Жанне жизнь. Однажды, когда она поздно вечером гуляла с собакой, Жанну сбила машина, и она осталась лежать без сознания на улице. Если бы она пролежала до утра, она бы умерла. Но Фенечка прибежала домой и притащила Жанниного мужа…
Однажды Жанна, Фенечка, один французский корреспондент и я поехали на машине проведать Жаннин катер, который стоял на приколе на одном из многочисленных каналов в центре Франции и использовался Жанной как дача.
Первые впечатления — очень острые. По-моему, Талейран сказал, что страну можно узнать или за первые 3 дня, или за последующие 30 лет. Каналы, катера, туристы… На многих баржах живут постоянно и даже устраивают выставки своих картин. Обо всем этом я раньше читала у Жоржа Сименона, а теперь убедилась, что собственные впечатления намного ярче.
И вот идем мы все вместе в темном подземном канале по узкому скользкому тротуару вдоль такой же скользкой и мокрой стены. Темно. Слышим хоровое пение — приближается огромная баржа, борта которой упираются в стенки канала. И вдруг раздается «плюх!» — это Фенечка упала в воду. Выбраться сама она не может, тротуар высоко, а баржа приближается. И тогда Жанна ложится в своем белоснежном костюме на склизкий тротуар и, с опасностью также плюхнуться вниз, выхватывает свою Фенечку за шкирку из воды перед носом баржи.
Не хочу комментировать — почему этого не сделал наш приятель, мужчина. Я по своей ассоциации сейчас вспомнила Жанну и лишний раз восхитилась ею.
Когда она впервые села в Париже за руль, мы поехали в театр, и от нее шарахались все машины — едет новичок! — она с моего голоса заучивала стихотворение Заболоцкого:
Целый день стирает прачка, Муж пошел за водкой. На крыльце сидит собачка С маленькой бородкой. Целый день она таращит Умные глазенки, Если дома кто заплачет — Заскулит в сторонке…И у Жанны, и у Нели были сыновья, которые стали моими «подружками». Им была интересна Россия, русская актриса, они пытались понять Россию через меня. Приезжали ко мне в гости, я возила их на Икшу, мы ходили в лес. Ритуал хождения за грибами они знали только по книгам, а тут сами поучаствовали.
Ванечка — сын Нели и Мишеля Курно — первый раз приехал в Россию, когда еще учился в школе. Я в это время очень увлекалась экстрасенсорикой, вокруг меня были всякие «темные» личности — экстрасенсы. Я была обложена самиздатовскими книгами по эзотерическим наукам. Помню, как-то у меня в гостях был Носов, очень сильный экстрасенс. Он показывал, как на фоне черной ткани из кончиков его пальцев исходили лучи, эти лучи были видны. Ваню это так поразило, что после школы он пошел в медицинский институт, стал достаточно известным психиатром и пишет научные труды.
Андрей Павлович — сын Жанны — старше Вани. Когда мы познакомились, он был уже самостоятельным человеком, физиком, занимался пятым измерением. Я помню, все допытывалась у него, что такое пятое измерение. Он мне пробовал объяснять и даже подарил компьютерный рисунок, который я тут же вставила в рамку, потому что это — абстрактная живопись. Я тогда его спросила:
— Пятое измерение — это Красота?
— Да, вполне возможно.
— Это любовь?
— И это тоже.
Я так и не смогла понять, чем он занимается, но разговаривать, гулять с ним ночью по Парижу очень любила. У меня — бессонница, у него — тоже. Мы ходили в бесконечные ночные кино, он, как и я, любил «левые» фильмы и открывал мне западных режиссеров, имен которых я не знала. Мы пропадали на «блошином рынке». Он мог не спать всю ночь, а потом приехать за мной в 6 часов утра, чтобы везти в аэропорт или, наоборот, встретить. С годами он все реже приезжал в Москву, потому что стал более серьезно работать, работал и в Париже, и в Нью-Йорке, стал известным физиком.
Года три назад, в один из приездов в Париж я опять с ним встретилась, мы куда-то пошли, и он мне вдруг говорит: «Алла! Я хочу открыть тебе тайну, о которой никто не знает: за мной следит разведка». Я, из-за наших советских дел, сначала приняла это всерьез, тем более что он физик, атомщик. Но когда он стал мне об этом рассказывать, поняла, что он… сумасшедший, у него началось раздвоение личности. «Однажды, — говорил он, — я шел по Нью-Йорку и вдруг увидел, что на меня надвигается огромная женщина. Я понял: спастись могу только, если разденусь догола. Я разделся, и меня забрали. Месяц я провел в камере. Это были самые счастливые дни в моей жизни…» Он рассказал, как жил в тюрьме, играл в какие-то игры с одним негром и т. д. Я поняла, что он болен, и сказала об этом Жанне. Она ответила: «Да, я знаю». Его стали лечить.
Через полгода я узнала, что он покончил с собой — принял снотворное. Мне очень его не хватает, и без него мой рассказ о парижских друзьях и подругах был бы неполным.
* * *
В Италии, в Венеции, у меня есть подруга Мариолина Дориа-де-Дзулиани. Она — графиня, живет в палаццо. Когда-то, в конце 60-х, она приехала в Москву и так влюбилась в Россию, что поступила на филологический факультет университета, выучила русский язык и стала преподавать русскую литературу и историю в Болонском университете. Она первая написала книгу о гибели Романовых, которую издали и на итальянском, и на русском.
У Мариолины два сына. Один — врач, раньше он Россией интересовался, а потом наступило разочарование, и он перестал к нам ездить. Второй архитектор, очень утонченный, красивый мальчик. Даниэле. Ему было непонятно, почему мама так влюблена в Россию. И вот однажды Даниэле приехал в Москву. Я показала ему русский модерн, который спрятан в московских дворах. Например, на улице Кировской или недалеко от меня, во дворе дома № 6 по Тверской. Он был восхищен и сказал, что впервые видит модерн, собранный вместе в таком количестве. Втроем — Мариолина, Даниэле и я — мы поехали на Икшу. Ночью, посередине поля, у меня сломалась машина — закипела вода в радиаторе. Мы вышли. Низкое летнее небо.
Пахнет мокрой травой, потому что недалеко канал. Но где? Непонятно. И я вспомнила, что в багажнике есть пиво, открыла бутылку и стала вливать в бачок с водой. Даниэле сказал, что это не пришло бы в голову ни одному итальянцу. Так мы и доехали.
В одной комнате спала Мариолина, в другой — я, он — на лоджии. Утром я проснулась, Даниэле сидит и смотрит… Луг, канал, водохранилище — дали неоглядные. По каналу шел красавец пароход, на другом берегу среди леса мелькала электричка, а через все небо проходил белый след от самолета.
Мы пошли в лес, и Даниэле все поражался, как много в России сохранилось невозделанной земли.
Вечером я пошла их провожать на электричку, побежала за билетами. Подошла электричка — воскресная, набитая. Двери открылись, моя пуделиха Машка ринулась внутрь, я крикнула: «Машка!» — не своим голосом, и она проскользнула обратно ко мне в щель намного уже нее. Мы стоим на платформе, и я вижу, как среди дачников с тяпками стоит итальянская графиня Мариолина, как всегда, с уложенными волосами, в браслетах и кольцах, и ее красавец сын с глазами, полными ужаса. Я только крикнула им вслед: «Не говорите!» В то время в электричке нельзя было говорить не по-русски, ведь Икша — недалеко от Дубны, иностранцев туда не пускали.
Как-то приехала Неля Бельска со своим другом Джоном Берже. Джон философ, англичанин, живет в альпийской деревне. Ведет образ жизни Руссо косит траву, доит коров, но в то же время пишет эссе, рассказы и пьесы. Джон Берже — известное в Европе имя.
И вот мы едем на Икшу, и по дороге попадается сельпо. Джон просит остановиться. Я говорю: «Вы можете покупать все, что угодно, потому что у меня есть гонорар за фильм, но не называйте вслух, а показывайте». Он скупил в этом сельпо все: от чугунов до стеганых штанов и телогреек, которые покупал и для себя, и в подарок альпийским пейзанам. В мясном отделе продавалась дикая утка, мы купили и ее, потому что Неля сказала, что умеет ее вкусно готовить. Когда я расплачивалась, кассирша спросила: «А почему он не говорит?» Я отвечаю: «Глухонемой — что поделаешь». Она: «Такой красивый — и глухонемой?!» Мы поехали дальше.
Около железнодорожной станции Икша всегда был ларек «Соки — воды», там продавали и водку. Время от времени этот ларек горел — поджигали, очевидно, свои же, чтобы скрыть недостачи. В данный момент там было написано «Квас». А Джон квас очень полюбил. Однажды в Москве, когда у нас были гости, он исчез, а потом вернулся с огромной хрустальной ладьей, наполненной квасом — сбегал на угол. Потом мне звонила лифтерша и узнавала, не украли ли из квартиры вазу. Потому что, когда она спрашивала, зачем он несет ее из квартиры, Джон молча продирался к выходу — я ведь ему запретила общаться с незнакомыми русскими.
И вот, на Икше, мы вдруг увидели автомат с надписью «Квас» — надо было опустить 50 копеек и подставить посуду. Мы удивились этому европейскому новшеству и опустили 50 копеек. Никакого кваса не полилось. Тогда Неля, вспомнив свою советскую юность, стала стучать по автомату. Оттуда раздался спокойный голос: «Ну, че стучишь? Сейчас налью…» Мы перевели это Джону, он был в восторге.
В общем, можно сказать, что все мои заграничные друзья, которыми я постепенно обрастала, воспринимали Россию через мою форточку.
* * *
Как-то издательство «Гомон» попросило Нелю и Виктора Некрасова поехать к молодому автору Джемме Салем, которая написала роман про жизнь Михаила Булгакова. Она жила в деревне, недалеко от Авиньона, но приехать в Париж не могла — у нее было двое маленьких детей. Некрасов отказался, он плохо себя чувствовал. Поехали Неля, Джон Берже и я.
В деревне, в очень красивом доме, жила Джемма Салем. Ее судьба стоит отдельного рассказа. Она была актрисой, жила в Лозанне с детьми и мужем летчиком. Он попал в авиакатастрофу. Джемме заплатили страховку — миллион долларов. Она бросила театр, дом, взяла детей и переехала в Париж, в одну из роскошных гостиниц. Они стали жить, бездумно тратя деньги. Когда от миллиона осталась половина, приехал швейцарский приятель Джеммы, пианист Рене Ботланд, и заставил ее купить дом.
«Мы купили участок земли с огромной конюшней и перестроили ее», рассказывала Джемма. Действительно, в гостиной был огромный камин — такой мог быть только в конюшне. А на месте бывшего водопоя был сделан фонтан из сухих роз. Дом был очень артистичный.
И вот в этот дом мы приехали с Нелей и Джоном. Они на следующий день уехали, а я осталась и прожила у Джеммы целый месяц. Я стала читать ее рукопись. В начале все время повторялось: Мишка, Мишка, отец позвал: «Мишка!..» Я спросила, кто такой Мишка. «Михаил Булгаков, отец его звал Мишкой». Я говорю: «Не может этого быть, не та семья». Потом читаю описание завтрака: икра, водка… — весь русский «набор». Я говорю: «Этого тоже не может быть». — «Ну почему, Алла, это же русская еда!» В конце Мишка умирал на руках Сережки. Я спросила: «А кто такой Сережка?» — «Сергей Ермолинский». Я сказала, что, когда умирал Булгаков, Ермолинский действительно был рядом, но умирал он на руках Елены Сергевны, что Сергей Александрович Ермолинский жив и вообще это мой друг. «Как жив?! Не может быть, я приеду!..» Так постепенно мы «прочищали» всю рукопись.
Рядом с домом была гора, на которую ни Джемма, ни Рене никогда не поднимались. Из-за моего вечного любопытства я полезла на эту гору и увидела, что там — раскопки древнеримского города. А на самом верху — плато, с которого открывается вид на всю провинцию. Я и их заставила подняться на эту гору, они упирались, но когда наконец поднялись — восхитились. Они потом часто ходили на эту гору и назвали ее «Ала».
И вот однажды под Новый год, вечером, минуя гостиницу, ко мне с огромным чемоданом приехали Джемма Салем и Рене Ботланд. В чемодане, помимо подарков, была коробка стирального порошка, потому что они читали, что в России его нет (и действительно, не было), и огромная копченая баранья нога, которую мы потом строгали целый год, пока она окончательно не засохла. Так Джемма и Рене первый раз приехали в Россию. Наступила ночь, я говорю: «Поехали в вашу гостиницу». Мы сели в машину, шел крупный снег, я подумала: «Повезу их на Патриаршие». Приехали, я сказала: «Выходите». Они: «Это гостиница?» Я: «Нет. Выходите». — «Ой, холодно! Мы устали». — «Выходите!» Они вышли. Каре Патриарших, ни души, все бело. Джемма смотрит и говорит: «Алла! Патриаршие!» Она «узнала»…
Потом я, конечно, свозила их к Ермолинским, потом — на Икшу, потом мы устроили Новый год с переодеваниями, костюмы взяли напрокат в «Мостеакостюме». Рене Ботланд нарядился военным, Володя — Пьером Безуховым…
Потом они уехали. Через некоторое время Джемма прислала мне книжку впечатления от России. Там главы — «У Ермолинских», «Пирожки у Аллы», «Нея. На Икше».
Я долго не видела Джемму, но в прошлом году, когда я была в Париже, она неожиданно меня нашла. Она живет теперь в Вене, сыновья выросли и стали музыкантами, она написала пьесу по булгаковскому «Бегу», которая прошла в Германии и в Австрии. С Рене Ботланд ом они расстались.
БИОГРАФИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ И МЫСЛИ В СВЯЗИ С ЭТИМ
Часто, когда человек вспоминает свое прошлое, жизнь встает перед ним в виде застывших мгновений, серии старых фотографий. То, что много лет назад казалось смешным, сейчас вспоминается с грустью, трагическое — с юмором, будничное — празднично. Изменилась я, изменилось время…
Но когда я мысленно «опрокидываюсь» в прошлое — для меня сегодняшнего дня не существует. Прошлое застыло. Как на фотографии.
Я очень люблю рассматривать старые фотографии. У меня собралось много книг и фотоальбомов начала века. Вот царская фамилия. Фотограф снял их спины. Сильный ветер, грязь. Женщины приподняли юбки — они свисают такими тяжелыми тюками, видны зашнурованные ботинки. Почему мы, изображая высший свет на сцене, всегда играем фасад? Ведь они такие же люди, как и мы, чувства с веками не меняются…
Когда-то, когда я не была актрисой и слушала выступления артистов, мне было интересно все: и как говорят, и в чем одеты, и что было в детстве. Почему же сейчас, перебирая свою жизнь в памяти, я думаю: об этом говорить неудобно, об этом — неинтересно, об этом — бестактно… Что остается? Выставить фасад?..
В детстве я записала в своем дневнике: «Какое же это счастье — быть актрисой. Сегодня ты живешь в 16-м веке, завтра — в 20-м, сегодня ты королева Англии, завтра — простая крестьянка. Ты можешь по-настоящему пережить любовь, стыд, ревность, разочарование через великие творения и великие роли. Тем самым ты как бы расширяешь свою жизнь. А чем шире и многообразнее жизнь — тем меньше страха перед смертью. Ведь ты свое уже получила!»
А когда я сидела в театре и перед началом открывался занавес — со сцены чуть-чуть веяло прохладой, я думала: вот ведь там, на сцене, и воздух-то другой, особенный.
Теперь, много лет спустя, стоя за кулисами в ожидании начала спектакля, иногда с температурой, в легком платье на сквозняке (во всех театрах мира на сценах почему-то сквозняки), я в щелочку занавеса смотрю в зал и думаю: «Счастливые! Они сидят в тепле, в уютных мягких креслах и ждут чуда…»
Как-то, задав вопрос «Где вы работаете?», одна женщина мне сказала: «Повезло вам, каждый день ходите в театр!..» Ей и в голову не пришло, что я туда хожу каторжно работать.
В моем детстве все девочки мечтали быть актрисами. И это особенно проявлялось почему-то в восьмом классе. Но я мечтала стать актрисой, мне кажется, еще в детском саду. И в драматических кружках участвовала чуть ли не с детсадовского возраста.
Пришла на консультацию к педагогу В. И. Москвину в Училище имени Щукина. Даже не могла волноваться, ведь всю жизнь(!) готовила себя к этому. Спросили: «Какую школу окончила?» Ответила: «Фестьсот двадцать фестую».
— Девочка, — сказал мне Москвин, — с такой дикцией в артистки не ходят!
Что делать? После долгих мучений, борьбы с самой собой, решила все бросить, круто изменить образ жизни, даже образ мышления. «Крест на мечте». И, конечно, — в шестнадцать лет все воспринимается в превосходной степени — крест на жизни.
Поворот так поворот. Пошла в университет на экономический факультет. И старалась учиться как можно прилежней. Заглушала в себе мысли о театре, запрещала думать о нем…
Много лет назад я случайно попала в один клуб. Среди прочих секций там была секция массовиков-затейников. Когда все молодые люди разделились на группы, я, конечно, пошла смотреть именно на этих — как же их учат, чему? И что это за смельчаки, добровольно пожелавшие стать массовиками-затейниками?
Их было человек тридцать-сорок. Они расселись по углам большого зала, молчали, с трепетом ждали, когда их начнут учить. Некоторые хихикали в кулак. Кто-то загородился газетой. У кого-то слетели от волнения очки. Когда их стали вызывать — знакомиться, представляться, — видно было, как каждому из них трудно оторваться от стула, а тем более выйти в круг. Все они, как на подбор, — самые застенчивые из застенчивых, некрасивые, сутулые, близорукие… Одни краснели пятнами, другие заикались, третьи шепелявили, и никто не умел танцевать. И когда обучавший их известный затейник совсем отчаялся, перестал улыбаться и острить и понял, что его гигантский опыт не может расшевелить эту аудиторию, он предложил им игры, как в доме отдыха, что-то искать с завязанными глазами или прыгать в мешках. Тут некоторые немного осмелели — с завязанными глазами легче: кажется, что никто тебя не видит. И в мешках они прыгали с удовольствием, с каким-то облегчением. А в общем, это было зрелище мучительное, и я думаю, из этой затеи ничего не вышло. Но все-таки интересно, — и у меня было много поводов вспомнить этот случай, смешной, но более печальный, чем смешной, — интересно, почему же в массовики-затейники добровольно пошли именно те самые ребята, которые пишут письма в журнал «Наука и жизнь» или известным психиатрам: «Как избавиться от застенчивости?»
Я — застенчива. И заметила, что многие актеры патологически застенчивы в быту. Боятся общаться с внешним миром, с незнакомыми людьми. Может быть, я и мечтала стать актрисой, чтобы не быть самой собой? Я помню, как в первом классе учительница попросила принести фотографию моей мамы. Я отыскала старую открытку, на которой была изображена какая-то западная актриса в роскошном длинном платье 18-го века и вклеила на место лица этой актрисы мамину фотографию…
А когда меня спрашивали: «Девочка, кем ты хочешь быть?» — я говорила: «Великойактрисой». Причем для меня «великая актриса» — было одним словом. Впрочем, актерами редко становятся случайно. Почти все актеры с детства мечтают стать «великими». Это призвание.
Я занималась в школьном драмкружке, вела его Татьяна Щекин-Кротова, игравшая главную роль в спектакле Эфроса «Ее друзья». Мы бегали в Центральный Детский театр на этот спектакль, все были влюблены в молодого Ефремова, который играл застенчивого сибиряка. Он нам казался неотразимо красивым.
В университете, на III курсе, пришла в Студенческий театр МГУ, его вел Липский, актер Вахтанговского театра. В его постановке «Коварство и любовь» я успела сыграть служанку. Он умер, и тогда мы решили возродить знаменитую предвоенную Арбузовскую студию. Позвали Арбузова и Плучека руководить нами, они согласились, но в это время Плучека назначили главным режиссером Театра сатиры, а Арбузов сказал, что один — не потянет. Порекомендовал нам Ролана Быкова, молодого актера московского ТЮЗа.
Мы — несколько «старейшин» студии (помню Зорю Филера, он потом был актером «Современника», Абрама Лившица — профессора математики, Севу Шестакова — тоже профессора, который сыграл потом в «Такой любви» Человека в мантии, он практически руководил всем студенческим театром) пошли в ТЮЗ. Я первый раз попала за кулисы. Было очень интересно, какие-то особые запахи. Шел спектакль «Айболит», по которому впоследствии Быков сделал фильм «Айболит-66».
К нам вышел маленький худенький человек в костюме и гриме Бармалея. Когда мы предложили ему руководить Студенческим театром МГУ, он испугался: «Я? Университетским театром?! Да я не смогу!..» Но мы его уговорили.
Тогда же в «Новом мире» напечатали пьесу Павла Когоута «Такая любовь». Для того времени пьеса была странная, непривычная, с повтором сцен — одни и те же эпизоды проигрывались в сознании разных персонажей. Мы взяли эту пьесу.
Как всегда бывает в театре при счастливом стечении обстоятельств, «Такая любовь» стала коллективным творчеством. В ход пошло все: и знания «старейшин» — в университетском театре играли и преподаватели, и профессора, — и молодая энергия Ролана Быкова. Главную роль сыграла Ия Савина, я — жену главного героя. «Такая любовь» стала событием. Это был второй спектакль (после «Современника»), на который пошла «вся Москва».
После этого успеха Быкова сразу же пригласили в Ленинград, сниматься в роли Башмачкина в «Шинели». Там же ему предложили руководить театром, и он оставил нашу студию. Так на самом взлете, уже вкусив хорошую публику, мы опять оказались без руководителя. Пошли какие-то традиционные постановки, например, режиссер Калиновский сделал спектакль «Здравствуй, Катя!» — обычный спектакль по советской пьесе. Мы поехали с ним на целину, целый месяц катали его по степям, иногда играли на сдвоенных грузовиках.
Тем не менее оставаться без руководителя театру было нельзя, и тогда его возглавил Сергей Юткевич. После мобильной, интересной, демократичной работы с Быковым, когда в одном спектакле человек играл, а на другом был осветителем (я, например, была и актрисой, и реквизитором), представления Юткевича о театральной иерархии показались нам устаревшими. Нам хотелось сохранить студийность, но, к сожалению, в одну и ту же реку нельзя войти дважды. Наш театр раскололся, и мы организовали просмотр для набора в студию при Театре Ленинского комсомола. Колеватову — директору «Ленкома» понравилась идея создания двухгодичной студии, которая пополняла бы актерский состав. По всей Москве были расклеены объявления о наборе.
После первого фестиваля (лето 57-го года) повеяло каким-то новым ветром, и идея студийности, само слово «студия» привлекали больше, чем обычное театральное училище. Шел бесконечный поток молодых людей. Помню Зину Славину — она тоже поступала к нам в студию, ее не приняли, но потом мы с ней встретились на курсе Орочко в Щукинском училище.
Наконец студию набрали и начались занятия. Я была кем-то вроде зав. репертуарной частью — вывешивала расписание занятий, созванивалась с педагогами, следила за посещением (хотя смысла в этом не было — ходили все охотно).
На открытие студии опять пришла «вся Москва». Помню молодого Евтушенко, у меня сохранилось фото — Ширвиндт со студийками… Руководили студией Михаил Шатров и Владимир Ворошилов, режиссером был Оскар Ремез, он очень интересно работал, с новым театральным мышлением (как потом сложилась его судьба — не знаю).
Через год меня уволили из студии с формулировкой «за профнепригодность». Дело в том, что весь этот год я продолжала бегать в Студенческий театр МГУ, играть там всякую дребедень, быть реквизитором. Видимо, эта моя раздвоенность и самостоятельность раздражали. Возник конфликт, сути которого я сейчас уже не помню. Но с Шатровым я потом много лет не здоровалась — делала вид, что не замечаю. Когда снималась в «Шестом июля» — фильме по его сценарию — переписала по-своему речь Спиридоновой на съезде. Он ничего не сказал, а роль от этого стала только лучше. Больше ни с Шатровым, ни с Ворошиловым судьба меня не сталкивала.
И вот меня уволили за профнепригодность. Я сидела у памятника Пушкину и ревела. Мимо шла моя приятельница: «Дура, что реветь, пошли в училище!» Она взяла меня за руку и привела в Щукинское училище. Меня приняли, но условно из-за дикции (дикция так и осталась с «шипящими», хоть я и работала с логопедом). Так я попала на курс, который набирала Анна Алексеевна Орочко. На нашем курсе было много взрослых людей, с высшим образованием, а одним из дипломных спектаклей стал «Добрый человек из Сезуана», который поставил Юрий Любимов. И вот с этого «Доброго человека…» начался Театр на Таганке, в котором я проработала тридцать лет…
На первом курсе Щукинского училища я участвовала в спектакле Вахтанговского театра «Гибель богов». Нас было трое — Даша Пешкова (внучка Горького), одна пухленькая четверокурсница, фамилии которой я не помню, и я. Мы должны были танцевать в купальничках, изображая girls. Ставила танец очень известная в 30-е годы балетмейстер, и она сделала такую американскую стилизацию степа.
Каждый день на репетицию приходил Рубен Николаевич Симонов постановщик спектакля, и начинал репетицию с этого танца в купальниках. И каждый раз он говорил: «Аллочка, по вас Париж плачет!» — эта фраза стала рефреном.
Уже потом, после «Гибели богов», я поняла, что он меня выделяет. Но тогда все это казалось абсолютно естественным — и то, что мы репетировали в его кабинете в купальничках, и то, что он приглашал меня домой, читал стихи, рассказывал о своей жене, показывал ее портрет, читая блоковское «…Твое лицо в его простой оправе…». Читал он очень хорошо, с барственной напевностью. Иногда он приглашал меня в театры. Обычно я заходила за ним, и мы шли вместе на какой-нибудь спектакль. Один раз пришла, позвонила. Вышел Евгений Рубенович, его сын, и сказал: «Рубен Николаевич болен, он в театр не пойдет. Вы, Алла, можете пригласить кого-нибудь другого», — и отдал мне два билета…
Поскольку Рубен Николаевич хорошо ко мне относился, я была занята еще в «Принцессе Турандот» (одна из рабынь) и в танцевальных сценах «Стряпухи». И после училища, конечно, очень хотела поступить в Вахтанговский театр. Я настолько этого хотела и настолько была уверена в своих силах, что у меня не было специального отрывка для показа. У меня был спектакль «Скандальное происшествие мистера Кеттла с мисс Мун», его поставил Шлезингер, я играла мисс Мун. У меня была главная роль в «Далеком» Афиногенова, спектакль поставила Орочко. В «Добром человеке…» я была назначена на главную роль, но Любимов захотел работать со Славиной — он с ней до этого делал сцены из «Укрощения строптивой». Но на просмотре в театре надо было сыграть какой-нибудь яркий отрывок, причем не перед Рубеном Николаевичем а перед худсоветом. У всех были хорошие отрывки, а у меня — какая-то муть. И меня не взяли…
К 4-му курсу Рубен Николаевич ко мне, видимо, поохладел. Ведь если бы он очень захотел, он бы худсовет уговорил, — я не прошла из-за одного голоса. Для меня это была трагедия. Я так же плакала, так же не знала, что делать, как когда меня исключили из студии при «Ленкоме»…
Интуитивно я чувствовала, что «Таганка» и Любимов — не для меня. И «Доброго человека…» они репетировали практически без меня, я вошла в последнюю очередь, когда некому было играть маленькую роль — мать летчика. И я хорошо понимала, что я там «сбоку припека», хотя на «Таганку» Любимов меня брал.
Те, кого он не взял, показывались в разные театры. Когда я подыгрывала Виктору Речману на показе в Театре им. Маяковского, Охлопков спросил его: «А что еще у вас есть?» — Речман сказал, что у него есть Лаэрт.
— А кто Гамлет?
— Вот, Алла Демидова, которая подыгрывала мне в Радзинском…
Так и закрутилась эта история, когда Охлопков мне предложил Гамлета. Он дал мне несколько вводных разговорных репетиций, которые я тогда совершенно не ценила. Потом я репетировала с одним из режиссеров спектакля — Кашкиным, который, видимо, был против этой идеи и сразу же сказал: «Ох, челочка как у Бабановой… Все подражаете…» Я провела там месяц и блудной овечкой вернулась на «Таганку».
А в Театр Вахтангова с нашего курса взяли только Алешу Кузнецова. Он был моим партнером, играл мистера Кеттла. Он был самый талантливый у нас на курсе, у него был талант направления Михаила Чехова, он мог играть совершенно разные роли. Рисунок водоноса в «Добром…» — это рисунок Алеши Кузнецова. И лучше него никто эту роль не сыграл. Золотухин тоже делал эту униженную пластику, но он стилизовал, а Кузнецов был настоящий… Но в Театре Вахтангова он потерялся. Думаю, так случилось бы и со мной — в театре обязательно нужно, чтобы вначале тебя кто-то «повел» — дал главную роль в заметном для критики спектакле
Французский в Училище преподавала Ада Владимировна Брискиндова. Мы, конечно, никогда ничего не учили, но ее манеры, ее поведение, ее привычка доставать сигарету, разминать, что-то в это время рассказывая, потом вынимать из сумки и ставить на стол маленькую пепельницу — этот ритуал закуривания казался мне верхом аристократизма. Мне хотелось это сыграть. Поэтому в кино я все время пыталась закуривать как Ада Владимировна. И думаю, что мне это ни разу по-настоящему не удалось.
Когда я училась на первом курсе, в Москву приехал «TNP» с Жаном Виларом. Они пришли в Щукинское училище, и в «ГЗ» (гимнастический зал), где мы с Борей Галкиным (он потом был одним из Богов в «Добром…»)[4] изображали беспредметный фехтовальный бой, а за кулисами его озвучивал Алеша Кузнецов. И мы это так делали, что Жан Вилар сказал мне: «Вот закончите училище, приезжайте к нам в театр».
Первый курс у меня вообще был какой-то «трамплинный», хотя зачислили меня условно. Актеру, особенно вначале, нужно поощрение. Талант надо пестовать, поливать, как редкий цветок. Это я раньше думала, что талант пробивается, как трава через асфальт. Может, трава и пробьется, но кто-нибудь обязательно наступит и сомнет. Во всяком случае, роза на помойке не расцветет. За ней нужно ухаживать, ей нужны особая почва и атмосфера.
Я всегда теряюсь, когда спрашивают «Кто ваши учителя?», потому что дело не в учителях, дело в поддержке. Ведь без тайного убеждения, что ты это МОЖЕШЬ, нельзя идти в нашу профессию. Я на первом курсе получила эту поддержку от Анны Алексеевны Орочко. У меня появился азарт и кураж быть на сцене, мне нравилось делать все, даже беспредметные этюды.
Анна Алексеевна Орочко, первая трагическая актриса Вахтангова (играла Адельму в «Принцессе Турандот»), много нам рассказывала и о Вахтангове, и о развитии Театра имени Вахтангова. У нее там судьба, к сожалению, не сложилась, но актриса, как говорят, она была замечательная. А человек — это уже я сама поняла — мудрый. Как-то мы всем курсом готовили один этюд «монастырь», мы должны были изображать монашек. Этюд был на характерность, и каждый для себя придумывал образ, который предстояло показать. К Орочко подходит одна наша студентка, очень красивая, но такая же бездарная, и спрашивает: «Анна Алексеевна, а можно я в этом этюде буду самой изысканной, самой аристократичной, самой талантливой монашкой?..» Орочко ее выслушала и сказала: «Ну, будь…»
Если же говорить о моей манере или манерности, то это — влияние Владимира Георгиевича Шлезингера и Ады Владимировны Брискиндовой. Больше брать тогда было неоткуда — ни дома, ни в окружении. Но оттого, что я с ними работала и они мне нравились, я, чисто подсознательно, перенимала эту пластику и манеру поведения.
Вообще же в профессии у меня было несколько «поворотов судьбы»: когда первый раз не приняли в училище, когда исключили из студии при «Ленкоме», когда не взяли в Театр имени Вахтангова и когда недавно я ушла из «Таганки». От последнего поворота я еще ощущаю скрип колеса…
Оглядываясь назад, что бы я хотела посоветовать мальчикам и девочкам, мечтающим стать актерами?
Больше доверять себе, своему внутреннему чутью. Не терять достоинства. Особенно в нашей вторичной, зависимой — от режиссуры, от публики профессии. Желание нравиться, — пожалуй, главный недостаток актеров. Это может быть простительно на сцене, хотя, по мне, это и там не перестает быть недостатком. Нельзя нравиться всем. Нужно найти точный адрес, для кого играешь роль, равно как для кого пишешь книгу или рецензию, для кого снимаешь фильм… (Для себя? Или для того, кого ты видишь в зеркале? Оказывается, это разные персонажи.)
Я не знаю ни одного актера, у которого бы не было поклонников, ни одного спектакля, после которого бы не было аплодисментов.
Стереотип устраивает почти всех, с ним легко. Для того, чтобы нравиться миллионам, нужно меньше, чем для того, чтобы тебя поняла сотня передовых в искусстве людей. Поначалу талант узнает и открывает только талант. Затем идет долгое привыкание к только что открытому таланту, а потом привычка превращается в поклонение.
«Новое пробивается в борьбе со старым», «талант всегда одинок» — эти истины давно открыты, и с ними не поспоришь.
НЕБОЛЬШАЯ ЛЕКЦИЯ ДЛЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ ТЕАТРАЛЬНОГО УЧИЛИЩА
Талант, профессия, мастерство и призвание. Какая между ними разница и взаимосвязь?..
Талант, по-моему, не может быть непрофессионален, но мастерство без таланта возможно. Любая профессия в какой-то мере — призвание. Актерская — в особенности. Ибо нигде так явно не бросается в глаза несоответствие человека выбранной им профессии, как в искусстве. Не надо бояться, что не успеешь сыграть какую-то роль, но надо бояться, что рано или поздно тебе скажут: «А король-то голый».
Овладев в школе актерским мастерством, ты еще не мастер, как это ни парадоксально. Чем должен обладать актер? Воображением, чуткостью, эмоциональной заразительностью, спокойствием, мышечной свободой, умением хорошо говорить, слушать, хорошо двигаться. Но это азбука, это ремесло актера. Овладев этими азами, актер становится в лучшем случае ремесленником и никогда не поднимется до открытий.
Когда мы говорим о современном актере, мы имеем в виду прежде всего его личность, индивидуальность. Но мы забыли значение этого слова. Индивидуальность — это то, чем человек отличается от других людей. Индивидуальность — это значит видеть иначе. Но вот тоже парадокс актерской профессии: чем индивидуальное талантливый актер, тем он многогранней. Чем больше людей вмещает актер в своем понимании, тем он талантливее. И тем отчетливее, интенсивнее отражает эти образы в искусстве. Кстати, и в жизни такие люди более терпимо относятся к чуждым проявлениям других.
Настоящего актера отличает неповторимость. Актеры иногда обижаются, что у них «воруют» краски. Но ведь то, что можно повторить — недорого стоит. Нельзя подражать неповторимости. Я поэтому не люблю вводы в чужой рисунок роли и не люблю два состава на одну и ту же роль. Ведь для каждого актера, если он — индивидуальность, нужно особое место в спектакле, особый рисунок, который повторить невозможно. После смерти Высоцкого, например, из репортура театра ушли «Гамлет» и «Вишневый сад».
По моему убеждению, каждый человек может хорошо сыграть одну роль один раз. Особенно в кино. Чтобы быть профессионалом, нужно одну роль уметь играть тысячу раз как впервые и уметь играть разные роли, правда, в пределах своих возможностей. А эти возможности — коридор, широту которого определяет индивидуальность.
На первых курсах театральной школы нужно совершенствовать, шлифовать свои природные данные. Не стараться сразу играть то, что, может быть, никогда и не придется играть, то есть не работать на первых порах на «сопротивление материала». На первых курсах лучше развивать собственные природные способности: заниматься произношением, голосом, жестом, пластикой. Совершенствоваться через усердную работу. Не останавливаясь. Не давая себе передышки, потому что паузы в работе зачеркивают уже начатое, и потом каждый раз нужно начинать сначала.
Я это знаю и по себе, и по другим актерам. Я помню, как трудно было стать перед камерой Смоктуновскому в «Степени риска» после двухлетнего перерыва из-за болезни.
И не спешить. Не суетиться — «а вдруг не успеешь…». Того же Смоктуновского мы узнали, когда ему было уже за тридцать.
Я заметила, что у талантливых людей сидит внутри какой-то стержень, что ли. Что бы они ни делали, чем бы ни занимались, вроде бы побочным, — все, как в воронку, закручивается в их дело.
Таких людей отличает еще и одержимость.
Первые десять лет Юрий Петрович Любимов почти не выходил из своего театра. Каждый день, с десяти утра до трех часов дня — репетиции, иногда мучительные, но всегда в полную силу, в напряженном ритме, а вечером он присутствовал на спектакле.
В постановке Любимова «Товарищ, верь…» был прекрасный театральный образ: выходил лучник и, медленно натягивая тетиву, выпускал стрелу. Стрела летела в «десятку» — в цель, в середину белого листа бумаги…
К сожалению, эту сцену после генеральной репетиции пришлось убрать. На репетиции лучник — олимпийский чемпион — целился, стоя в конце зрительного зала. А на авансцене стоял один из Пушкиных (их было в спектакле пять) Рамзес Джабраилов с листом белой бумаги в вытянутой руке. Стрела летела через весь зал и со свистом пронизывала лист. Так было на репетиции. Но на генеральной, когда в зале уже сидела публика, лучник, видимо, заволновался: стрела попала в руку Рамзеса. Потом все, к счастью, обошлось, рука быстро зажила, но второй раз рисковать Любимов побоялся. Так этот образ остался только в памяти тех, кто видел репетиции.
(Кстати, этот образ «стрелы» был подсказан мною. Это образ из моего сна. У меня было два постоянно повторяющихся сна. Один — лучник со стрелой, всегда попадавший в «десятку», а другой — я на качелях, только они подвешены к небу и их — по восходящей — висит много-много. И я, раскачиваясь, перепрыгиваю с одних качелей на другие. Все выше, выше… А помимо снов, у меня, приблизительно до сорока лет, было ощущение, что меня кто-то несет. Несмотря на неудачи, я знала, что все будет хорошо. Хотя, читая свои старые дневники, наталкиваюсь на ежедневные записи: «тоска», «одиночество», «болезнь», «слезы»…)
Материал и сырье актера — это не только его жизнь и чувства, это еще жизнь и чувства других. Нужно научиться остро наблюдать жизнь, встречаться с интересными людьми, изучать проявления человеческого характера, поступки.
Очень многие люди живут импульсивно, руководствуясь сиюминутным чувством, не понимая последствий своих поступков. Актер в роли должен точно рассчитать причину и следствие каждого поступка своего персонажа.
Каждый человек имеет свою особенность разговаривать, смеяться, подбирать слова, интонировать и т. д. Актер через реплики своего персонажа пытается угадать его характер, манеру поведения, смысл поступков, суть реакций. То есть, отталкиваясь от вроде бы внешнего выражения — от слов, идет к внутреннему смыслу этих слов.
Хорошие актеры, я заметила, почти всегда «ведуны», зная человеческий характер, они могут предугадать поступки людей, рассказать об их прошлом и будущем. На первых курсах лучшее учение для студентов — наблюдение за людьми. Оно может быть в форме игры: разгадывать профессию человека по внешнему виду, характер — по реакциям, ум — по подбору и окраске слов и т. д.
Характер человека — что это? Его суть. Внешне характер проявляется через поведение — реакции, манеру говорить, манеру держать себя в обществе п т. д. Но ведь очень часто поведение человека зависит от воспитания п интеллекта. Следовательно, по поведению нельзя понять характер. Поведение и характер могут быть диаметрально противоположны. Это противоречие, кстати, очень легко и выгодно играть в так называемых отрицательных ролях. Поведением можно прикрыть что угодно, но характер человека обязательно проявится, как бы его ни скрывали, в спонтанных реакциях на неожиданное. (Интересно, как проявится, например, характер Гамлета при встрече с Призраком?)
Разобрав поступки, причинно-следственную связь своих вымышленных персонажей, можно понять, например, причины, заставляющие Раскольникова идти и убивать старуху-процентщицу, и субъективное состояние, позволяющее ему это делать.
Эти игры-наблюдения за другими людьми расширяют фантазию, а внутренние психические перестройки становятся гибче.
Когда мне скучно, у меня про запас всегда есть две внутренние игры: «глазами Пушкина» и «глазами иностранца». В «глазами Пушкина» я, как правило, играю в других странах. Я вхожу в образ Пушкина (конечно, для этого надо многое про него знать, чувствовать все его поступки, предугадывать все его реакции и т. д.) и смотрю по сторонам — очень интересно! А в «глазами иностранца» я играю у себя, особенно когда попадаю в общественный транспорт или в незнакомую компанию или когда тема разговора мне неинтересна — я ведь ни слова не понимаю!..
Помимо изучения своей профессии и изучения характеров людей, нужно учиться у других искусств. Хороший чужой результат в искусстве всегда подхлестывает к работе, хочется и самому сделать что-нибудь хорошее; плохой результат учит, как не надо делать. Правда, чужой результат — это окна и форточки в чужой мир, но самому заставить людей смотреть на мир через свою форточку — это уже свойство таланта, а умение быть в этом убедительным — это мастерство, а невозможность ничем другим заниматься — это уже призвание.
Для того чтобы быть хорошим актером, недостаточно каждый вечер выходить на сцену в чужом костюме и не своим голосом говорить текст роли. Недостаточно заражать своим весельем, волновать своими страданиями — ведь это умеет делать любой человек, рассказывая о своих горестях.
Нужно уметь творить.
Во всех искусствах творец отделен от материала, из которого он творит. Для того чтобы получилась скульптура, скульптор, творец, сначала видит образ внутренним зрением, затем ищет материал, из которого будет сделан этот образ, и потом от этого материала, по прекрасному выражению Родена, отсекает все лишнее, оставляя только то, что видит в своем воображении.
Великое счастье актера (а может быть, трагедия, смотря как к этому относиться) состоит в том, что актер одновременно и творец, и материал, скульптор и глина, исполнитель и инструмент.
Инструмент актера — его тело, голос, мимика. Но если он хочет играть не на балалайке в три струны, а на скрипке Страдивари — нужно шлифовать свое тело, движения, мимику, выразительность голоса, добиваться совершенного владения каждым мускулом. Но и этого мало. Инструмент сам по себе еще не делает играющего на нем мастером, художником. Скрипка Страдивари может попасть в руки Иегуди Менухину — и польется божественная музыка. А может ремесленнику без чувства стиля и вкуса и, Боже мой, что он с ней сделает!
Но, допустим, актер великолепен и как инструмент, и как исполнитель. Однако и это еще не все. Прекрасный рояль может быть расстроен, и тогда даже Рихтер не сумеет извлечь из него чистый звук. Значит, актеру необходима еще и способность мгновенно настраивать себя, входить в рабочее состояние, в атмосферу спектакля, сцены, в жизнь образа. А для всего этого нужна воля, активная творческая воля, опыт и работа.
Но как работать?
Я знаю актеров, очень много работающих над ролью и пьесой. Они долго говорят на репетициях в застольный период и ищут смысл между строк, забывая о первом плане текста. Они любят комментировать автора, открывая у него намерения, о которых автор, возможно, и не думал. Такие актеры играют так же, как говорят — с тысячью тонкостей и оттенков, которых публика не замечает, даже не подозревает, что они есть. Это немного похоже на историю того музыканта, который так хорошо играл, что мог извлекать звуки даже из палки, которую держал в руках. Но, к несчастью, только он и слышал свою игру…
Другие актеры совсем не работают. Учат текст только на репетициях, полагаясь на собственную органику. Иногда это приемлемо в современных ролях. Но в классике такие актеры вряд ли сделают что-нибудь новое и интересное. Чтобы дать новую трактовку классической роли, мало знать всех исполнителей этой роли, мало изучать исторический материал, нужно еще дать свою трактовку, уловить верную ноту, почувствовать, как эта роль может прозвучать в сегодняшнем дне.
Но актер не может работать один. Актерская профессия — коллективная. Сейчас режиссеры-постановщики занимаются общими вопросами, и почти не стало режиссеров-педагогов. У певцов и танцоров до конца жизни есть учителя и репетиторы. Счастье, если режиссер-постановщик еще и педагог, который вместе с актером выстраивает непрерывное существование образа на сцене, когда в роли нет логических разрывов из-за режиссерской идеи, ритма, световых эффектов и монтажных ножниц.
Но и в дальнейшей работе, когда роль играется уже в сотый, тысячный раз, нужен обязательный «третий глаз» — зеркало, которому веришь.
НЕМНОГО ТЕАТРАЛЬНОЙ ТЕОРИИ
В какой же период актер — творец, в какой — материал, в какой исполнитель, в какой — послушный инструмент в руках режиссера?
Вся работа актера над созданием образа распадается как бы на три периода: творческий, ремесленный (технический) и опять творческий. Иногда эти периоды переплетаются, вернее, первые два. Но для скорейшего результата, мне кажется, лучше эти периоды разграничить.
Первый период — дорепетиционный и застольный — когда актер, отталкиваясь от текста пьесы, заданий режиссера, руководствуясь интуицией, вкусом, знанием, создает в своем воображении образ, характер. Эта работа идет в основном без участия интеллекта. Работает подсознание. Правда, чем выше интеллект, тем подсознательные образы точнее соответствуют намеченной цели.
Итак, первый период — дословесный, когда от текста отделяется фантом, образ. Он складывается в мыслях, ощущениях, предчувствии. Ты его «видишь».
Когда вы рассказываете о каком-то человеке, вы его видите перед глазами? Если вы его не видите, рассказ ваш будет неинтересен. А чем яснее вы его видите — тем увлекательнее говорите, вы можете даже показать его интонацию, жесты и т. д. Иногда не-актеры хорошо показывают других людей, потому что они очень конкретно «видят» тех, кого показывают, и их
тонко организованный психический материал позволяет менять себя. Вот это основа актерского мастерства. Именно мастерства, когда человек играет не себя, а образ.
В классике или в хорошей драматургии от текста отделяется образ, который автор создал в своем воображении, своей энергетикой, своим талантом, своим письмом. Образ, который создал, предположим, Чехов. Но у каждого человека, когда он читает Чехова, есть еще и своя фантазия, свое представление о жизни. Поэтому образ окрашивается индивидуальным видением. И оно к образу примешивается.
К концу первого, застольного периода образ, неясно возникавший в подсознаниии, должен сложиться в конкретного, со своим характером и привычками человека. «Когда Бог возжелал сотворить мир, все вещи на мгновение предстали перед Ним».
Этот вымышленный образ может и должен быть полнее, глубже и конкретнее, чем написан в пьесе и чем собственная актерская индивидуальность.
В училище все роли обычно играются по принципу «я в предлагаемых обстоятельствах». Кажется, что человеческая индивидуальность так многогранна, что в разных обстоятельствах человек ведет себя по-разному. И в современных ролях это, в основном, проходит. Но как быть с классикой? Мы не можем ни чувствовать как древние греки, ни жить их внутренней жизнью. Хоть чувства человеческие, говорят, с веками мало изменились, но средства проявления этих чувств в каждое время другие. Изменились человеческая психика, поступки, идеалы. Конечно, это не значит, что классика не имеет никаких точек соприкосновения с современностью. Важно, ради чего ставится тот или иной спектакль, играется та или иная роль. Поэтому неудивительно, что в какие-то годы возникает интерес к Шекспиру, в другие — к Чехову…
После того как образ возник в фантазии, оговорен, определен, начинается второй период работы, чисто ремесленный, — подчинение организма творческому замыслу. Этот период может быть очень коротким, если актер мастер, и может затянуться, если актер новичок, а может и совсем не состояться, если актер не гибок и его организм-материал не слушается его воли.
Помимо этого, идет другая техническая работа: закрепляется текст, запоминаются и отрабатываются мизансцены.
(Кстати, запоминание текста и мизансцен идет как бы в параллель, текст запоминается ассоциативно. Я знаю наизусть несколько пьес, но текст возникает у меня, если я мысленно иду по мизансценам. Иногда перед выходом на сцену с ужасом понимаешь, что не помнишь ни одного слова роли, но выходишь на сцену, срабатывает условный рефлекс, и слова возникают сами собой.)
Итак, идет техническая работа, когда уточняется и закрепляется рисунок роли, когда привыкаешь к партнерам и корректируешь свой замысел с общим замыслом спектакля; когда обсуждается костюм и обживаются декорации; когда часами стоишь в примерочной и завидуешь западным звездам, у которых, как говорят, есть для этого дублерши; когда слезно убеждаешь гримера сделать такой парик, который видишь в собственной фантазии, а не тот, который они делают по журналам мод того времени, и им никак не втолкуешь, что журналы мод — это одно, а жизнь — другое, что любая мода — это пошлость улицы, творчество усредненной человеческой посредствености, но гримеры свято верят журналам мод…
Повторяю, вся эта техническая работа к чисто творческому процессу имеет небольшое отношение.
И только тогда, когда «забыто» все, что прочитано, увидено в чужом творчестве, когда забыты азы учебы, когда природа, традиции, стиль, чувство прекрасного, правдивость, ритмы сегодняшнего дня — растворились в тебе и вся проделанная работа над созданием образа опять ушла в подсознание, — только тогда начинается творчество. Третий период актерской работы.
Период, когда актер преображает ремесло в искусство. Когда актер перестраивает весь механизм своего сознания под влиянием одной своей воли. Перестроив свое сознание до полного совпадения с сознанием другого персонажа, актер тем самым приобретает возможность получить те же ощущения, привычки, то есть тот же жизненный опыт, как тот, кого он играет. Когда актер играет, он как бы проецирует вымышленный и утвержденный в нем на репетициях образ зрителю. Через себя. Как слайд через проекционный аппарат.
Чем точнее и реальнее был увиден этот образ в воображении (первый период), чем совершеннее твоя «аппаратура» (второй период) — тем точнее этот образ будет воспринят зрителями (третий период). Потому что в понятие «игра» входит и восприимчивость зрителя — этот мостик, невидимая нить, связывающая актера со зрительным залом.
Это «проецирование» может идти в театре разными путями. Оно, например, может возникать сиюминутно: зритель забывает о раздвоении «актер — образ». А может быть брехтовское существование на сцене, когда воспроизводится не сиюминутное действие, а рассказывается и показывается действие, которое было. Причем было или с самим рассказчиком, или происходило у него на глазах. Есть и третий путь, например, в нашем спектакле «Добрый человек из Сезуана», — когда, «представляя», отчуждаясь от роли, я тем не менее полностью растворяюсь в ней, «переживаю». Любимов соединил тогда в училищном спектакле две системы, Станиславского и Брехта: у Станиславского — действие, у Брехта — рассказ о нем; у Станиславского — перевоплощение (я — есть…), у Брехта — представление (я — он…); у Станиславского — «здесь, сегодня, сейчас», у Брехта — «не здесь, может быть, сегодня, но не сейчас».
Может быть, для кого-то мои рассуждения покажутся излишне-рациональными, недаром меня часто обзывают «интеллектуальной актрисой». Но если у актера и есть ум, то он не помешает. Особенно — в первом и втором периодах, когда идет подготовительная работа, отбор выразительных средств и т. д. У умного актера работа идет быстрее и точнее. А когда играешь — ум ни при чем. Начинается игра, состояние, о котором так верно написал Пушкин: «…Душа стесняется лирическим волненьем, трепещет и звучит…» Без этой вибрации лучше на сцену не выходить. Хотя иногда и в первом периоде ум актеру заменяет интуиция. Но это бывает редко. Вот, например, Смоктуновский — он актер от Бога. Недаром он про себя говорил, что профессия, талант умнее его. И это правда. Ведь талант — от Бога, как можно быть умнее Бога?!
А моя кличка «интеллектуальная актриса» — это от ролей, которые я играла.
(Кто-то однажды даже обозвал «интеллектуальной овчаркой». И в этот же день… Еду я на Икшу со своими собаками и котом, вспомнила, что не купила им мясо и остановилась у сельпо. Животные остались в машине. Жара. Пока я стояла в очереди, пока то-се, выхожу и понимаю, что выехать не могу, — меня «закрыл» белый роскошный «Мерседес» с открытым верхом. Я такие видела только в фильмах Голливуда. Места было много, но они почему-то встали за мной. Я жду. Хозяев долго нет. Моя машина превращается в сауну. Животных не могу выпустить — боюсь, что разбегутся. Наконец выходят двое — типичный «качок» и накрашенная-перекрашенная девица. Я им говорю: «Я вас жду уже полчаса. Почему нельзя было стать слева или справа? Вы что, не видели мою машину?!» В течение моего монолога они молчат. И наконец она уперла руки в бока, посмотрела на меня снисходительно и жалостливо и беззлобно сказала: «Овца!» И они уехали.)
Я играла сильных, волевых женщин, где важен был не характер, а Тема, все остальное меня мало интересовало. Маменьки, бабушки, жены… — я никогда не играла быт, я его и не умею играть. Мне неинтересно играть просто характер, мне интересна Тема.
…Я, может быть, излишне подробно говорю о профессии, потому что в ней мне все время хочется что-то разъяснить, отделить личность от результата, понять, как влияет личность на результат. Техника актерской профессии, я думаю, со временем мало меняется. Просто есть хорошие и плохие актеры. В конце 20-х годов XIX века один из современников Гоголя написал про него: «Все мы думали, что Гоголь поступит на сцену, потому что у него был громадный сценический талант и все данные для игры на сцене: мимика, гримировка, переменный голос и полнейшее перерождение в роли, какую он играл». Все эти качества необходимы сегодняшнему актеру.
Правильное распределение ролей при конкретном режиссерском замысле половина дела. У актера есть коридор своих возможностей, и если он назначен на ту роль, которую не может или не хочет играть, все стройное здание режиссерского замысла накренится и поползет по швам. Но если актер с небольшими способностями играет свою роль, то для зрителя «хуже-лучше» будет незаметно. Но я все-таки пишу о профессионалах. Для меня большой вопрос — партнерство. С хорошими партнерами я играю хорошо, с плохими — из рук вон плохо. Например, в спектакле «Деревянные кони» на «Таганке» первая часть была построена полифонично, многослойно: на сцене — посиделки, в то же время шел несколько литературный рассказ о моей Милентьевне, а я сидела тут же, и этот рассказ переплетался с внутренними воспоминаниями и видениями самой Милентьевны. Когда актеры играли бытово, включали в свой рассказ сиюминутные оценочные реакции, междометия — все здание спектакля рушилось. Мне становилось очень неловко на сцене, стыдно: что это, мол, я сижу тут перед вами и непонятно кого изображаю, без грима, без слов…
Когда же все участники настраивались на «Тему Милентьевны», прислушивались друг к другу, к залу и к себе — спектакль шел хорошо, и мне было очень легко играть. Ибо просто старуху сыграть, в общем-то, нетрудно. А старость, одиночество старости, способное созерцать, одиночество мудрое, достойное и чуть ироничное, — это уже тема. И эту тему без общей слаженности, настроя на одну волну, без партнеров не сыграть. Но многие актеры не умеют слушать. Заняты только своей правдой, своей жизнью роли. Вести сцену с такими партнерами мучительно. Их реплики летят, как пинг-понговские шарики на кривом столе, — невесть куда…
Когда в хорошем, сыгранном оркестре с прекрасным дирижером несколько инструментов — или хотя бы один — фальшивит, хорошей музыки не будет, хотя нетребовательный, неподготовленный зритель этого может и не услышать.
ИЗ РАБОЧИХ ТЕТРАДЕЙ
Когда говорят об актерской технике, часто слышу термины: «школа представления» и «школа переживания». Но мне кажется, что так называемая «школа представления» — это просто плохая бездарная игра, о которой и речи не должно быть. А что касается «школы переживания» — это тоже вопрос широкий. Что такое «переживание»? Откуда это берется? Просто играть чувства нельзя. В театральной теории общепринято говорить о двух путях актерской работы: внутреннем, исходящем из работы над эмоциями, личного отношения к образу, и «физическом». Мне кажется, второго пути отдельно не существует. «Физическая» работа — это всего лишь компонент общей работы над ролью. Если видишь образ, отделившийся от текста, ясно, что в каждом конкретном случае это дело техники: подходить к образу с внутренней или внешней стороны.
Внешняя сторона образа — это не только его походка, манера говорить, одеваться, тембр голоса и т. д. Здесь, мне кажется, интересно находить парадоксальные реакции, выдавать постоянные «сюрпризы» и для партнеров, и для зрителей. Для этого требуются работа интеллекта и все знания, накопленные до сих пор. Образ, созданный воображением, хочется сразу схватить за внешнюю характерность, исходя из внешнего взгляда (как мы, например, копируем своего соседа). Здесь уже начинается процесс создания персонажа.
Есть актеры, которые каждый раз неузнаваемы в своих ролях.
Станиславский говорил о внутренней жизни персонажа. Но это что такое? Психологический и мозговой процесс. И совсем другое — взаимоотношения персонажа с окружающим миром, его отношения с другим персонажем и главное его отношение к Богу. Здесь уже важны психология и Дух.
Для кого играть? Ученики в театральной школе не могут оторваться от партнера и играют или для себя, заботясь только о внутренней правде и естественности, или для партнера (что очень хорошо для школы), отталкиваясь от его реакции, от его «ноты» роли. Древние играли для Бога, для Дионисия, то есть для «третьего». Через треугольник.
Дело в том, что так называемый «треугольник» — профессиональный термин актеров. «Партнер — зрительный зал — образ», «партнер — режиссер — я» (у Мейерхольда: «автор — режиссер — актер»)… У меня же этот треугольник как у древних. И в трагедии это — обязательно.
«Бог» может быть внутри актера, но лучше его вывести за пределы последнего ряда, чтобы твоей энергией пронизывался весь зрительный зал.
Пример. Эволюция Высоцкого. Первый этап — «для себя» (и так же играл, когда был «болен» — перед запоем), потом — «для партнера» (в «Вишневом саде», в «Гамлете» и после запоя, когда было сильно чувство вины) и, наконец, для «Третьего» («memento mori»).
Станиславский в первом этапе своего исследования: «я» в предлагаемых обстоятельствах («если бы я был Гамлетом, как бы я поступил»). Станиславский в этот период ищет трансформацию персонажа через свое «я». Нет необходимости почувствовать себя другим, нужно лишь войти в обстоятельства «другого»: обстоятельства физические, психологические, социальные, почувствовать его опасности и желания. Персонаж может появиться из актера, изнутри. Таким образом, эмоциональный процесс в роли = эмоциональному процессу только самого актера, а не другого персонажа. Вся работа сводится к нахождению эмоциональной памяти (искать в себе, в своей биографии, в своей жизни аналогичные эмоциональные реакции).
Но он быстро заметил, что эмоциональная память подводит актера. Один спектакль это проходит, но на другом — как ни насилуй свой организм — ничего не получается, актер начинает «качать эмоции», то есть попросту врать. Тогда Станиславский подумал, что, может быть, воля, концентрация воли подхлестнут эмоциональную память. Он начал работать над «желаниями» (в конце 20-х годов), но тоже понял, что день — проходит, на другой — ничего не получается. Тогда он понял, что эмоции и желания не зависят от воли, как мы и убеждаемся на опыте нашей повседневной жизни. Мы хотим любить кого-то, но не любим, и, наоборот, мы не хотим раздражаться, но раздражаемся и т. д. Это происходит само собой. Значит, эмоции надо искать не на этом пути.
NB! Главное — приготовить для них место, и если они возникают — уметь ими управлять.
И тогда Станиславский стал разрабатывать метод физических действий. При использовании метода физических действий встает вопрос — что я делаю? — и внутренне и внешне. Станиславский проводил опыты с актерами, заставляя их чувствовать только внутренне, но никак не выражать это внешне. Он понял, что это чисто субъективное понятие, не для театра. Но когда внутреннее действие выражается через внешнее и это сделано естественно, то возникает энергетический посыл зрителю. Станиславский больше не задавал себе вопросов «что я буду чувствовать в обстоятельствах персонажа?», а: «что я буду делать в этих обстоятельствах?» Ведь то, ч т о я делаю, к а к я делаю зависит от моей воли. В этом — ключ к системе Станиславского.
Направление воли всегда предопределяет объект, то есть к кому эта воля направлена. Итак, можно сделать вывод, что всякое волевое действие требует для своего свершения воспринимающий объект, который притягивает к себе волевой центр. Актер не может играть сам для себя, даже если он на сцене один. Предполагается обязательно партнер. Волевой импульс, посланный актером, принимается партнером (публика, режиссер, Бог…), и он, в свою очередь, отдает этот импульс (вибрацию) обратно актеру. Круг замыкается.
Всякое проявление воли ведет за собой проявление духа и соответствующей ему космической энергии. Дух всегда тяготеет к творчеству. Творчества без воли не существует. Опять круг замыкается. Воля — это дух; дух — мышление.
Теперь меня мало интересовал сам персонаж (например в «Медее»). Другие задачи. Но для зрителя персонаж все-таки возникал. Посыл энергии настолько завораживает зрителя, что ему кажется, что актер преображается.
Метод физических действий предполагает цель — ради чего я это делаю.
Понятие цели связано с другими понятиями — основного события пьесы и роли (задача и сверхзадача). Для духовного развития актера важны: большие цели, большие задачи и большие примеры.
Но какие бы интересные идеи ни развивал перед тобой режиссер, они смогут воплотиться через актера только после очень медленной переработки в чувства, а они, в свою очередь, должны раствориться в темной области бессознательного, где вырабатываются наши мысли. Мысли при игре трансформируются в «мысли-образы». Поэтому и нужны эти длительные изматывающие репетиции. Иначе — выучил текст и пошел на сцену.
Мне в ранние годы на сцене очень мешал самоконтроль. Через какое-то время я заметила, что чем больше устаю перед спектаклем, тем спектакль проходит лучше. Я стала сознательно загружать себя работой, чтобы подавить этот контроль. Потом приспособилась и научилась обходиться уже без этой «загрузки» сознания. В игре надо опираться на бессознательное, «плыть по течению», но когда роль хорошо отработана.
Я заметила, что когда раскладываю пасьянс, то чем меньше о нем думаю и желаю, чтобы он получился, — тем вернее он у меня выходит. А Левин у Толстого в «Анне Карениной» размышляет, что когда он косит и не думает о том, что он косит, то получается гораздо лучше, чем когда думает и осознает сам процесс. Но ведь до этого надо научиться косить и раскладывать пасьянс, не правда ли?..
СМОКТУНОВСКИЙ
Сo Смоктуновским в кино я снималась много: в «Степени риска» (реж. Авербах), в «Чайковском» и «Выборе цели» (реж. Таланкин), в «Тиле Уленшпигеле» (реж. Алов и Наумов), в «Живом трупе» (реж. Венгеров), но в кадре мы с ним не сталкивались. Иногда на озвучании в тонстудии он мне сделает какое-нибудь замечание — и все.
Но его роли в театре я видела все и по нескольку раз. Я уже догадалась, что он, как высокоорганизованная личность, зависит в игре от тысячи причин и играет всегда неровно. Того же царя Федора в Малом он играл иногда сверхгениально, а иногда — на обычном хорошем уровне. Так же неровно, например, играл своего Иудушку Головлева во МХАТе.
Когда мне предложили сниматься в телевизионном фильме «Дети солнца», я ни минуты не колебалась, потому что мы со Смоктуновским были партнерами в кадре. На съемках мы стали сразу же ссориться. Я тогда уже начала писать о нем заметки и иногда специально провоцировала его на какие-то рассказы или реплики.
Книжка моя потом так и называлась: «А скажите, Иннокентий Михайлович…».
Но очень много разговоров с ним и о нем осталось в моих тетрадях, и я себе позволю их здесь расшифровать.
Мы вместе с ним жили на Икше в дачном кооперативе. И очень часто там сталкивались в так называемой «первой реальности».
1985 год
17 января. Икша. Печатаю статью для «Искусства кино» про Смоктуновского. Стук в дверь, неожиданно появляется Иннокентий Михайлович. Прочитала ему кое-какие напечатанные странички — ему понравилось. Рассказал, что смотрел весь материал «Детей солнца». Хвалил. Сказал, что, когда снимался, думал, что у него рак. Сейчас все обошлось, но потом все равно ляжет на обследование. Рассказал, как не спал несколько ночей к концу наших съемок. А я, дура, ничего не замечала. Правда, обратила внимание, что тогда много курил и мало разговаривал. Думала, что из-за сына. С ним вместе на его серой «Волге» — в Москву.
22 января. К 2-м часам — на телевидение. Смотрели материал «Детей солнца». Плохо. На уровне текста. Никакой режиссуры. Чем меньше играть — тем лучше. Сняли меня, по-моему, тоже плохо. Позвонила Смоктуновскому, он согласился, что у меня неровно. Приходила Таня из «Искусства кино» поправки к статье, — естественно, не к лучшему…
На Икше за 20 лет, которые мы там живем, на моих глазах подрастает уже третье поколение детей. Когда сын Инны Чуриковой и Глеба Панфилова Ванечка был еще маленьким, однажды он потерял мячик…
Мы с Инной долго и безуспешно его ищем. Идущий в огород Иннокентий Михайлович присоединяется к поискам, находит и радуется, как Ванечка. Может быть, даже чуть больше. Во всяком случае, внешнее выражение более яркое. Актер. Может быть, во время поисков вошел в образ и стал «абсолютным ребенком» — большим, чем обычный ребенок — Ванечка.
И в своих ролях, мне кажется, чем дальше от себя — тем он был убедительнее и конкретнее. Но дальше от себя — что это? От кого? Кто он на самом деле? Знал ли он сам себя? Какая интуиция его вела по гениальным ролям Мышкина, Иудушки, царя Федора, Иванова?.. Везде спокойная детскость. Нет этого надрывного, современного открытого нерва.
— Иннокентий Михайлович, Вы человек открытый?
— Популярность часто мешает, хотя я сейчас научился относиться к этому равнодушно. Обаяние и мягкость Мышкина, Деточкина, дяди Вани позволяют думать, что я общителен, приветлив и открыт. Но это черты моего лирического героя, как сказал бы поэт.
— Как Вы считаете, какой у Вас характер?
— Плохой.
— Почему?
— Я раздражителен. Мне до сих пор не удалось освободиться от застенчивости детства. Я неуравновешен. Мне в жизни давалось все тяжело. И я стал не таким добрым, каким был раньше. Я часто отказываю людям. Может быть, это защитная реакция от посягательств на мою личную свободу? Не хватает на все сил… Я не предатель, не трус, не подлец… Но я закрыт. Я часто говорю себе, что надо перестать врать, но иногда вру, чтобы не обидеть…
Реакции у него были совершенно непредсказуемые. Кто заставлял его убирать вместо дворника снег в своем дворе по утрам? Зачем искал и привез, а потом волок через всю нашу поляну перед домом на Икше огромный камень на свою клумбу; а потом, когда клумбу «запретили», увез этот камень с поля? Да пусть бы и оставался там! Что заставляло его браться за самую черную работу? Откуда такая открытая улыбка на встречного? И такой грустный, углубленный в себя взгляд, когда остается один. Откуда?
— А я, Иннокентий Михайлович, еду в Куйбышев на гастроли. Так не хочется.
— Что вы, дружочек, там такие вкусные шоколадные конфеты!
Не театр, не памятники, не площади, а конфеты! Глаза при этом светлые-светлые. Прикидывается? Или действительно вспомнил только конфеты? Я потом привезла ему три коробки (оказалось, невкусные), но не отдала — не встретила.
Мы жили рядом, в большом четырехэтажном доме около Икшинского водохранилища. Иннокентий Михайлович принимал участие в поисках места, в строительстве и долголетних походах по кабинетам начальства. Квартира его угловая на четвертом этаже, лоджия — как капитанский мостик, с нее открываются дали необъятные.
Я арендовала у Союза кино двухкомнатную квартирку на 1-м этаже. Наблюдаю с балкона, как в середине прекрасного ромашкового поля перед домом Иннокентий Михайлович копает клумбу в виде буквы S. К концу лета на ней вырастает огромный подсолнух. Он несколько нарушает горизонтальный ландшафт: поле, водохранилище, на другом берегу — лес и деревня. И когда мы сидим на балконе и любуемся летними закатами за водохранилищем, мой приятель, художник Дима Шушкалов, заслоняет этот подсолнух рукой. Нея Зоркая недовольно ворчит: «Это все ваши актерские замашки, Алла Сергеевна, обязательно у всех на виду, в центре поля…»
На кооперативном собрании разразился скандал. Люди в доме живут в основном творческие, эмоциональные — кричали, что они хотят видеть «дикую природу», а не какую-нибудь чахлую железнодорожную клумбу имени Смоктуновского. Постановили: по полю не ходить, ничего не сажать и не нарушать хрестоматийную красоту пейзажа.
На следующее утро Иннокентий Михайлович как ни в чем не бывало спокойно поливал свою клумбу из лейки. А Дима Шушкалов написал его портрет: на фоне ромашкового поля стоит Иннокентий Михайлович с глазами врубелевского Пана, в своих неизменных летних шортах и выцветшей от солнца майке, с перекинутым через плечо полотенцем после купания, а рядом с ним — огромный подсолнух.
— Алла, дорогая, какой стыд! Что же вы мне не сказали, что художник заслонял рукой мой подсолнух. Я бы его с корнем вырвал!
— Ну что Вы, Иннокентий Михайлович, это было так прекрасно: на однообразном фоне ромашкового поля нашей актерской братии вырастает подсолнух — та же ромашка, только большая и по другому окрашенная Смоктуновский!
У него светлеют глаза, и уже совсем по-детски:
— Как, как вы сказали? На однообразном фоне?.. Какой прекрасный образ! Какой точный и прекрасный образ! В следующем году я там посажу два подсолнуха — будем вместе раздражать!
На следующий год ромашек на поле не было, но все поле было в красном клевере, а посередине ухоженной клумбы расцвел огромный красный мак. Один. А еще через год поле было белесое, а в середине клумбы — прекрасная белая лилия. Цветы сажала жена Смоктуновского — Суламифь Михайловна, а семена к этим прекрасным растениям — и на клумбе, и в огороде (лучшие грядки были у Смоктуновских), и на их балконе — привозил Иннокентий Михайлович из Разных экзотических стран. Когда я бывала дома, то подавала им со своего первого этажа воду для поливки. За это получала в подарок то горшочек синих мелких цветочков, то лозу дикого винограда, которая до сих пор растет, правда, уже на балконе Деминых (мне пришлось переехать на 2-й этаж), то корзину моего любимого зеленого горошка…
Клумба, к сожалению, не сохранилась: упорство недовольных оказалось сильнее. Мне очень жаль. Думаю, не только мне одной…
Вскоре после того, как Смоктуновского не стало, мы с Васей Катаняном встретились на опушке леса с Георгием Степановичем Жженовым, который уже много лет живет неподалеку от нашего дома (или мы от него?). Естественно, что разговор зашел об Иннокентии Михайловиче, которого Жженов знал дольше, чем кто-либо из нас.
— …с 1948-го года. Меня после второй посадки определили в ссылку в Красноярский край и сказали, чтобы я сам искал себе работу. Ачинск, Абакан, Минусинск… Но я еще в тюрьме слышал, что вместо всех этих затхлых городишек имеет смысл лететь в Норильск, так как там есть театр какой-никакой. Я оформился у «кума» и подался туда. Добрые люди помогли. И вот там я встретился с Кешей, он уже работал в театре. И мы подружились очень быстро, как бывает в молодости.
— А сколько он там уже работал?
— По-моему, с 1947-го года. Он туда смылся из Красноярска, где у него матушка жила. В Красноярск он вернулся после плена, из которого чудом убежал и чудом избежал репрессий, обычных у нас на Родине для тех, кто побывал в плену. Но все-таки он опасался и подался в Норильск в надежде, что не тронут. Многие ссыльные избежали второй посадки именно в Норильске, их считали возможным не арестовывать вновь, поскольку они и так были уже в Норильске.
Мы с Кешей думали, что именно это обстоятельство уберегло его после плена. Отношения наши были весьма сердечные и вполне ироничные…
— Кстати, кто был старше?
— Я, на двенадцать лет.
— Ироничны, наверное, были Вы к нему — и потому, что у него не было профессионального образования, и потому, что он был моложе?
— Ну, в какой-то степени. Но он мне сразу же показался способным человеком, ведь мы много разговаривали, мы дружили. У нас был восьмиквартирный дом — общежитие театра. Там жил я, ссыльная морда, мне дали комнату, и Кеша все время пасся у меня, а где жил он — даже не знаю. Снимал то один угол, то другой. Я у него никогда не был. В хорошую погоду мы гуляли в парке, а несколько раз он меня провожал отмечаться к начальнику и ждал у крыльца. В такие часы он всегда бывал грустный, понимал, что такое могло быть и с ним. В театре платили гроши, и Кеша пару раз увольнялся, уходил на кирпичный завод, в бухгалтерию. Или в отдел снабжения. Кстати, там Андрей Старостин был главным бухгалтером, тоже ссыльный. Он над Кешей шефствовал, помогал ему. Так что не скажу, что Кеша сильно увлекался театром, был фанатиком. И до 1953 года он два-три раза уходил. Но все же хоть и уходил, однако возвращался на сцену.
— Вы не помните, какие роли он тогда играл?
— В какой-то комедии плаща и шпаги он играл второго любовника, комедийного, а я — серьезного, в «Живом портрете» (кажется, Моретто) я одного Дона играл, он — другого. И в «Хозяйке гостиницы» смешно играл, по-настоящему смешно. Он играл и маленькие роли, и большие.
— А театр большой был?
— Мест 500–600. Играли мы по восемнадцать, а то и больше премьер в год. Все это заставляло работать очень активно и очень быстро. Актеры там были достаточно известные в нашей среде — Константин Никаноров или, скажем, Эдда Урусова (несмотря на преклонный возраст, она недавно играла у Львова-Анохина в «Письмах Асперна»).
— Она была вольнонаемная или…
— Ссыльная. Урусова, кажется, была дворянка. Вообще компания была смешанная — и вольняшки, и ссыльные. Скажем, играли мы «Три богатыря»: Илья Муромец — Никаноров, ссыльная морда, Добрыня Никитич — ссыльная морда и я Алеша Попович — тоже. Царевна и боярышни — тоже ссыльные женщины, а какой-нибудь боярин за семнадцатой колонной — вольняшка. Вот такой был «мхат».
— А о чем вы с Иннокентием Михайловичем говорили?
— Разве все вспомнить? Почти полвека прошло. В 1953 году как-то сидели у меня в комнате за столом, светило солнышко, мы в «неглиже», перед нами «Зубровка» стоит, и ведем мы разговоры «за жизнь». Я говорю: «Кеш, ну я сын врага народа и сам ссыльный, а ты какого черта тут сидишь? Уже кончились времена, когда надо было бояться, Сталин откинул копыта — уезжай отсюда. Ты молодой, способный, я тебе дам рекомендацию…» — и написал письмо Райкину, с которым мы вместе учились в Ленинграде, только он был на курс старше. А Кеша говорит, что у него нет денег. Я дал ему 15 тысяч и говорю, что научу, как надо заработать: «Купи такой-то увеличитель, штатив, остальное я тебе дам. Научишься снимать и быстро заработаешь деньги на поездку». Я тогда фотографией зарабатывал сколько хотел. Но вся беда была в том, что я ничего не хотел — у меня до 1953 года не было никакой перспективы. Вот прожить день — и ладно. Я уже женат был, она была вольняшка, летом я ее отправлял в отпуск, а сам оставался — мне нельзя.
— И Смоктуновский начал снимать?
— Через две недели приносит мне долг. Наснимал. «Вот нахал, — говорю, как же ты так скоро и научился, и заработал? Воображаю твои фотки». Смеется. И уехал с моим письмом. Аркадий Исаакович был где-то на гастролях, они встретились, и Райкин пообещал его взять к себе в труппу, но по возвращении в Ленинград. А пока что Кеша очутился в Сталинграде. Там была Гиацинтова с Театром имени Ленинского комсомола, ей он чем-то понравился, и она пригласила его в Москву. Он уже женился на Римме Быковой и написал мне в Норильск: «женился, в восторге» и все прочее… И вложил фото ее, но не позитив, а негатив — поленился, черт, напечатать. А я долго полоскал его в своей лаборатории, прежде чем проступило ее лицо. Брак их был недолговечным, и когда я потом говорил с ним о сталинградской жизни, он рассказал, что много там пил. Но я уверен, что он сочинял, никогда он не «пил» — сто грамм водки выдавал за литр. Просто ему нравилось так говорить, он ведь любил притворяться.
— А отчего, почему? Это всегда было?
— Да, сколько я его помню.
— Значит, это черта характера?
— О нем говорили, что это было от Бога. Это инстинктивное, несознательное.
— А что с Гиацинтовой?
— Она сдержала свое слово, но в театре были какие-то трудности, и он там выступал на разовых ролях, ночевал в костюмерной. К нему в театре благоволили, особенно девушки, пригревали его, бездомного, старались протежировать. Так бывало во всех городах.
— Он пользовался успехом?
— Да-да. Такой был ироничный, легкий, ни к чему не обязывающий. Но я про этот московский период мало знаю, мы стали общаться, когда он перебрался в Питер — я ведь там работал. Кеша стал сниматься в «Солдатах». В это время Товстоногов приступил к «Идиоту», и репетировал он с Петей Крымовым, прекрасно репетировал. А у Крымова начался запой чуть ли не за несколько дней до генеральной, и Товстоногов его уволил. Тогда редактор «Ленфильма» Светлана Пономаренко сказала ему о Кеше. Он его попробовал, и тот ему сразу понравился. Я рассказываю схематично, но Кеша состоялся в Мышкине и стал «звездой». Я, помню, его спрашивал:
— Как тебе играется?
— Хорошо.
— А почему?
— Знаешь, почему? Я разговариваю тихо, а они все — громко. И они меня слушают, прислушиваются. Потом, года через полтора, я его спросил снова:
— Как тебе играется?
— Плохо.
— Почему?
— Они стали тоже тихо разговаривать. В последние годы в Москве мы с Кешей почти не встречались, жизнь такая суматошная, масса работы, у каждого свои интересы. Он посмотрит меня по телевизору, или я увижу его — и то не всегда позвоним. Книга выйдет — забудем друг другу подарить. Вот здесь, на Икше, еще иногда встречались — я гуляю с внучкой, он идет с купанья или они с Суламифь Михайловной возвращаются из деревни, куда ходили за молоком. Радостно встретимся, немного пройдемся по тропинке — и все…
О Смоктуновском я расспрашивала многих, но в основном, кроме Жженова, все говорили одно и то же. А при жизни я донимала Иннокентия Михайловича глупыми вопросами. Мне казалось, что так легче раскрыть человека.
— Иннокентий Михайлович, Вы можете понять, какой перед Вами человек: добрый или злой, хороший или плохой?
— Редко. Я от природы добер (так и запишите, Алла, голубчик, — «добер») и очень хочу отклика — в разговоре, диалоге, отношениях.
В первый год нашего житья в этом странном доме на Икше я хотела на поле перед домом сделать с детьми спектакль, чтобы все сидели на своих лоджиях, как в ложах, и смотрели бы, как мы на фоне луны и воды разыгрываем пантомиму.
Сижу как-то дома за книжкой, слышу, что в дверь кто-то скребется и жалобно мяукает, открываю — никого. Опять те же звуки. Иннокентий Михайлович! Угощаю его чаем и делюсь своей мечтой поставить детский спектакль на нашем поле. Приглашаю и его тоже участвовать: только два взрослых актера и дети. У него загораются глаза, он смеется, мы фантазируем, как это может быть забавно, а потом — очень грустно:
— Ну что вы, Алла, дружочек, разве можно делать это в нашем доме?..
В тот вечер поразил своей усталой естественностью, погруженностью в себя. Рассказывал о сыне, поскольку разговор зашел о детях. Эта его рана всегда была открыта и болела.
— Иннокентий Михайлович, Вы верите в судьбу?
— Видите ли, Алла, дорогая, как же не верить… Когда я был на фронте, рядом со мной падали и умирали люди, а я жив… Я ведь тогда еще не успел сыграть ни Мышкина, ни Гамлета, ни Чайковского — ничего! Судьба меня хранила. Когда я бежал из плена, то, пережидая день, спрятался под мост. Вдруг вижу: прямо на меня идет офицер с парабеллумом, дежуривший на мосту, но перед тем как глазами натолкнуться на меня, он неожиданно поскользнулся и упал, а когда встал, то, отряхиваясь, прошел мимо, не глядя на меня, а потом стал опять смотреть по сторонам.
Маяковский как-то сказал: «Я — поэт, этим и интересен». Про Смоктуновского можно было бы сказать также: «Он — актер, этим и интересен». Но как же мне интересно расспрашивать и расспрашивать Иннокентия Михайловича о его жизни, читать его прекрасные воспоминания об одном бое во время войны, когда человек не мог понять в аду разрывов — где свои, а где чужие, в кого стрелять и где он находится… И все-таки: «он артист, этим и интересен». Вы знаете, Алла, я ведь только сейчас понимаю, какая трудная наша работа. Я думаю, что ни один зритель, ни один критик и даже многие актеры не понимают этого. Не догадываются о сущности, сложности и редкости этой профессии. Именно редкости. Ведь актеров много, но многие не знают, какая перед ними «топка», какого самосожжения требует эта работа. И где взять силы, чтобы идти дальше?..
Когда я училась в Театральной школе, мы, первокурсники, подрабатывали в массовках на «Мосфильме». Я смотрела издалека на Ромма, Смоктуновского, Баталова и Лаврову в «Девяти днях одного года» и думала, что так работать и общаться между собой могут только очень тонкие, деликатные, интеллигентные люди. Я тогда не думала, что буду вот так сидеть с Иннокентием Михайловичем, пить чай и говорить о нашей общей профессии…
Прошло много лет. Озвучиваем на «Союзмультфильме» со Смоктуновским какую-то картину. Иннокентий Михайлович меня сразу же стал учить интеллигентности, а я озвучиваю какое-то чудище, которое потом превратится в принцессу. И я ему довольно-таки резко: «Делаю как могу — не выше и не ниже своей интеллигентности». Он сразу же замолчал. Не обиделся, а просто замолчал. В «Живом трупе», тоже на озвучании, стал учить интонации, я попросила его выйти из павильона. А на «Детях солнца» стали сразу же ссориться. Но это только на работе. Вне работы с ним легко, он очень смешливый и отходчивый человек. Там же, на «Детях солнца», в Алуште стоим, ждем машину и до слез хохочем — он рассказывает, как вчера должен был выступить на встрече со зрителями в доме отдыха и как в зале было только 15 человек, потому что билеты стоили дешевле, чем танцы или кино. «Кто же пойдет на такого дешевого актера, который стоит 50 копеек за вход. Лучше уж в кино „Берегись автомобиля“ посмотреть…» — говорил, смеясь, Иннокентий Михайлович.
Когда без нравоучений и обобщений, рассказчик он удивительный. Мне до сих пор жалко, что я была его единственным зрителем, когда как-то на Икше, у меня за чашкой чая, он рассказывал, как приехал после многолетнего отсутствия в Красноярск, как его вышли встречать многочисленные родственники, а дети кричали: «Дедушка приехал! Дедушка приехал!..»
— Иннокентий Михайлович, как по-вашему, что такое талант?
— Не знаю. Может быть, это повышенная трудоспособность. Концентрация всех человеческих возможностей. Даже если делаешь сложные вещи, в результате — видимая легкость. Нужно, чтобы легко работалось.
— Вам легко?
— Нет, начало всегда трудное, но когда уже вошел в работу, то дальше уже легко.
— Иннокентий Михайлович, отчего у Вас возникает хорошее настроение?
— Я люблю отдых, природу. Люблю быть с людьми, с которыми мне просто, с которыми можно и говорить, и молчать.
— А что такое простота?
— Простой — это искренний человек. Когда меня знают и понимают, мне просто. Может быть, это импульсивное состояние, дань моменту.
— Но ведь простота часто может граничить с глупостью?
— Поэтому я часто говорю глупо или так думают другие. Люди привыкли видеть то, что принято, а я говорю то, что вижу. Мне как-то один психолог дал тест: надо было нарисовать слона в клетке. У меня вышел слон с ушами, хоботом и хвостом, вылезшими за рамки клетки.
— Да, в рамки Вас не очень втиснешь. Значит, простота — это естественность. А кто, по-вашему, еще естественный человек?
— Их немного. Вот Михаил Ромм, например. Но он был очень мудр.
— Он был молчаливым?
— Нет, очень коммуникабельный. Шел на диалог. Любил выявлять то, что было не на поверхности, чего не было слышно. Его притягивала даже глупость, если она была неординарна.
— Иннокентий Михайлович, а что такое ум? Кто, по-вашему, умный человек?
— Тот, кто анализирует ситуацию на несколько шагов вперед. Это не расчет, а умение предвидеть. Охват обстоятельства с учетом всех ошибок и выводов своей среды.
— Но это никак не совмещается с импульсивностью состояния.
— А вы, Алла, дорогая, хотите, чтобы все было просто?
— А Вы, Иннокентий Михайлович, редко ошибаетесь?
— Ошибаюсь.
— В людях или обстоятельствах?
— Как актер я мыслю более широко и более верно, чем как человек. В нашей работе всегда отсутствует человек и присутствует профессия, которая умнее.
Когда на Икше я видела его серую «Волгу», то знала, что Иннокентия Михайловича можно увидеть в огороде, где он любил, особенно в первые годы, копаться в своих грядках. Или где-нибудь идущим по дороге, но, как ни странно, никогда в лесу.
Я записывала за Иннокентием Михайловичем в разное время, иногда на полях роли, как в «Детях солнца», иногда в отдельном блокноте. Как-то раз он спросил меня:
— Зачем вам это, Алла? Сравниваете с собой?
— Нет, просто потом напишу о Вас книжку. И ка-а-ак напишу что-нибудь эдакое… за все Ваши насмешки надо мной…
— А я не боюсь. Мне обязательно позвонят из редакции и спросят, печатать ли. Так, например, я не хотел, чтобы про меня писала книжку Раиса Моисеевна Беньяш, или Табаков как-то однажды послал статью в газету с критическим разбором моей работы — не напечатали. А я подумал: «Ай, моська! Знать, она сильна…» — Нет-нет, Иннокентий Михайлович, я лаять не посмею. Разве что буду подскуливать иногда. Мы так часто подтрунивали друг над другом. Едем, например, в машине на съемку. Он всегда сидит, втиснувшись в угол за шофером на заднем сиденье. Не знаю, что в этом — отсутствие всякой сановитости (впрочем, этого действительно у него не было) или же:
— Вы садитесь туда, Иннокентий Михайлович, как на самое безопасное место?
— Как это вам, дружочек, могло прийти такое в голову? — это он говорит низким, бархатным голосом, потом переходит на верхние регистры и быстрым-быстрым фальцетом начинает объяснять, причем в этом мелком бисере никогда не можешь понять, что правда, что выдумано, что насмешка, а что истина.
Или — начинает низким полушепотом, но я уже настораживаюсь: «Вы такая гордая, Алла! Подлетаю к вам с улыбкой после спектакля, хочу сказать какие-то комплименты, а вы, чуть повернув голову, так надменно в ответ: «Здравствуйте!..» — вдруг переходит на фальцет и быстро заканчивает: «как будто вы — Смоктуновский, а я — Демидова…» — и вопросительно смотрит — не обиделась ли? — и смеется, довольный.
Когда мне нужно было сдавать о нем рукопись в издательство, я со страхом поехала к нему домой — читать. Ему показалось, что он в тех разговорах, которые я записывала за ним, слишком открыт и не защищен. Но меня поддержала Суламифь Михайловна, и я увидела, какую первостепенную роль она играет в его судьбе, как он ее слушается во всем. Комментируя снимок, где они — молодые, довольные — сидят с Суламифь Михайловной на лавочке в саду, Иннокентий Михайлович сказал: «Жена моя, Суламифь — моя основа и опора… Вот я и опираюсь. Скоро будет тридцать лет, как она меня терпит… У нее огромная сила воли и выдержка. Качества редкие, но в семье необходимые».
Просматривая старые записи наших разговоров, я вижу, что часто он сам себе противоречил. Я сейчас не хотела касаться профессиональных вопросов, но, например, в записи одного дня нашла:
— Вы хвалите меня в Порфирии Петровиче из «Преступления и наказания», а я считаю, что это моя неудачная роль. Достоевский никогда не интересовался профессиональными качествами человека. А меня заставили играть именно следователя.
— Нет, Вы не правы, это очень тонкая работа, там был и следователь, и человек.
— …а если совершенно уйти от профессиональной принадлежности, тогда был бы и гениальный следователь, и очень интересный человек. Мы упустили зерно этого образа, а может быть, и фильма. Надо было пойти по линии бытовых мелочей. Никогда не надо слепо доверять режиссеру. Как было бы хорошо, если бы в соседнем, павильоне можно было бы сыграть этот же образ, но по-своему.
— Эту возможность можно использовать в театре, от спектакля к спектаклю.
— А как это можно сделать, например в «Головлеве», если он идет один раз в два месяца?!
— Какая роль у Вас шла в рост? В «Идиоте»?
— Нет, в Мышкине — сразу же взял высоту, потом ее терял. В царе Федоре, пожалуй. Там сначала много времени уходило на болтовню, а иногда были гениальные показы режиссера, но за год таких нужных мне репетиций было 50, не более. Только через полтора года я освободился от внутреннего диктата режиссера и ретроспективно понял его. Почему я не брал это раньше? Надо доверять режиссеру…Когда я вижу себя со стороны, я хорошо работаю. Я всегда помню все дубли. Например, в «Степи» у Бондарчука у меня была прекрасная работа, а особенно один план — с собакой. На просмотре я вижу, что этого плана нет, кричу режиссеру: «Где?!» — «Потом!» — «Почему.» «Давил!» — понимаете, Алла, дорогая, сглаживают! Все мои прекрасные планы убирают. Снижают до своего уровня. Судят поверхностно — по ярким граням, а не по глубине.
— А эти Ваши оценки — не от ощущение самогениальности?..
— Видите ли, дружочек, я хочу жить, не хочу умирать. Хочу работать. Гениальность — это процесс временной, проверяется временем. Я — работяга, ломовая лошадь. Я ведь очень много работаю… Хорошо, что есть кино, что кое-что зафиксировано. Потом люди разберутся и поймут, что я был неплохой актер.
— Но Вы ведь все равно себя считаете выше…
— Назвал всех дураками и хожу умный. Мы оба смеемся, а потом он серьезно:
— Вы удивляетесь, почему я считаю себя лидером? Но, Алла, дорогая, попробуйте найти актера с 55-го по 85-й год, у которого за плечами: Мышкин, Сальери, Моцарт, Гамлет, Головлев, Иванов, царь Федор… — хотя бы просто по масштабу ролей? А о своей изнанке, о своей гнилостности, о своей болезни души может знать только сам актер. Помните у Гамлета:
Так в годы внешнего благополучья Людей здоровых постигает смерть От внутреннего скрытого недуга…— Что Вы считаете главным в жизни?
— Жизнь.
— Что такое жизнь?
— Чудо, которое не повторяется. Жить — любить, ненавидеть, гулять, работать… Она заканчивается — жаль… Будет то незнание, которое было до жизни.
— Что больше всего Вы цените в жизни?
— Любить, жечь костер на поляне и купаться в море.
— Почему на поляне?
— У каждого человека есть поляна детства. Огромная, красивая. Она дает ощущение общности. На ней ведь невозможно затеряться. Человек — маленький, а на поляне он сам по себе, он ощущает себя. У нас под Красноярском, где я жил в детстве, была такая поляна, загадочная, с голосами неведомых птиц, с извилистой речкой, по вечерам там кричали лягушки. С одной стороны огромная гора, на которой было кладбище, с другой стороны — такая же гора, на которой стоял белоснежный храм. И если есть истоки, корни духовности они у меня все там, на моей детской поляне…
О ДВУХ РЕАЛЬНОСТЯХ
Моя первая книжка называлась «Вторая реальность». Название мне очень нравилось, но друзья говорили, что это заумно и скорее относится к теории относительности. А я хоть и играла когда-то в научно-популярном фильме «Что такое теория относительности» роль ученого-физика и с умным видом объясняла едущим со мной по сценарию вместе в купе несведущим артистам Грибову, Вицину и Полевому эту великую теорию, сама в ней, конечно же, ничего не понимала. Меня пугают сами термины типа «теория относительности». И в бесконечных спорах с моим приятелем, физиком, академиком Юрой Осипьяном — «зачем нужна наука и зачем нужно искусство» — я, когда мне было нечего возразить, загораживалась фразой не то Верлена, не то Валери: «наука простых явлений и искусство явлений сложных». Эта фраза всегда вызывала в споре миролюбивый смех как знак, что, мол, конец, сдаюсь — но тем не менее «науку простых явлений» я уже давно не пытаюсь понять. Хоть в этом и звучит доля женского кокетства: ах, мол, я ничего не понимаю в технике. Кстати, в технике я действительно ничего не понимаю (как, впрочем, и в кокетстве), но лучше об этом помалкивать, это стало такой же стертой, надоедливой истиной, как признание почти всех актеров: «я боюсь летать на самолете» или еще: «перед премьерой я ужасно волнуюсь…»
И все же название «Вторая реальность» мне нравилось. Для меня оно было объемным, многосмысловым. Как-то я прочитала у одного немецкого философа разговор с сыном:
«— Папа, в человеке есть Бог?
— Есть.
— А в животных?
— Есть.
— А в растениях?
— Есть.
— А в растениях, которые отражаются в зеркале?
И тут я не знал, что ему ответить.»
Вторая реальность — растения, которые отражаются в зеркале, и для меня они иногда более реальны, чем в жизни. Все мои роли на сцене и в кино для меня более реальны, чем моя жизнь «на досуге», где я к этим ролям только готовлюсь.
Но эта «вторая реальность» реальна не только для меня, но и для зрителей.
Когда зритель смотрит на сцену, он как бы смотрит на себя в зеркало, и даже не просто в одно зеркало, а в два, три… Помните, в «Гамлете» монолог Актера о Пирре? Гамлет потом объясняет нам, что это слезы актерские, ненастоящие: Актер плачет из-за Гекубы, до которой ему нет дела. Мы, зрители, верим гамлетовским словам и верим, что «актер проезжий этот», говоря о Пирре и Гекубе, плачет и живет страстью фиктивно, по-актерски, а за кулисами будет смеяться и рассказывать анекдоты. Но когда после этой «фиктивной» актерской страсти мы видим страсть самого Гамлета — его слезы кажутся нам настоящими, реальными. Хотя и совсем не такими, как наши слезы, боли и радости. Но если мы пришли в театр со своим «быть или не быть?» — оно немедленно зарезонирует в унисон с «быть или не быть?» Гамлета.
Как в сцене «мышеловки», где бродячие актеры изображают фиктивных короля и королеву, фиктивную сцену убийства короля Гамлета, а настоящие король и королева, смотрящие это представление, приходят от него в ужас, потому что их злодеяние на фоне этого представления оказывается еще реальнее.
Это как если бы вы с зеркалом подошли к другому зеркалу и ваше изображение отразилось бы бесконечное количество раз. Или если бы на картине была нарисована другая картина, так же хорошо, как и первая. Какая картина более реальна? А если бы вторая картина была бы нарисована лучше первой? Это ведь очень часто случается на сцене и в кино — помните, например, фильм Трюффо «Американская ночь»?
Съемочная группа, выведенная в этом фильме, для меня более реальна, чем съемочная группа самого Трюффо. И вот почему: актер, режиссер, помреж, реквизитор — перестали быть на экране просто конкретными людьми имярек — они стали художественными обобщениями, символами, типами, вобрали в себя всю правду наблюдения, авторской мысли. И эта «вторая реальность» стала богаче обыденной жизни.
…В конце 98-го года вместе с театром Анатолия Васильева мы почти месяц играли в театре «Дю Солей» у Арианы Мнушкиной. Мнушкина репетировала новый спектакль — «Tambour sur la digue». Спустя год я его посмотрела. Спектакль — прекрасный! Там актеры играют кукол, а за ними — другие актеры «кукловоды» в черном. Они продевают сквозь «кукол» руки, приподнимают их, а у тех — абсолютно кукольная пластика. «Кукол» бесконечно много, и они все разные. Заканчивается тем, что пол опускается и наполняется водой. Кукловоды бросают кукол (но уже действительно — кукол) в воду. И куклы, которые только что были живыми, плавают, потом их собирают, и они, уже по первому плану бассейна, смотрят на зрителя. В этом был «trompe-l'œil» — обман глаз, то, что мне так нравится в современном французском искусстве и, кстати, в быту.
Однажды я зашла в один дом. На столе красного дерева лежала перчатка лайковая, розоватая, с потертыми швами, с пуговичками. И так она небрежно была брошена… Я говорю: «Ой, какая перчатка!» Мне в ответ: «Померьте!» Я: «Да нет, рука…» — «Да у вас рука узкая, померьте!» Я взяла и не могла поднять — это была серебряная пепельница.
Зазеркалье, trompe-l'œil — это те мистические ощущения жизни, которые меня так волнуют…
В связи с этим вспоминается одна старая китайская легенда.
В некую пору живые существа в мире Зазеркалья имели свой, отличный от людей земли, облик и жили по-своему. Но однажды они взбунтовались и вышли из зеркал. Тогда Император силой оружия загнал их обратно и приговорил к схожести с людьми. Отныне они были обязаны только повторять земную жизнь. Но — гласит легенда — так не будет продолжаться вечно. Отраженные тени Зазеркалья однажды проснутся и вновь обретут независимость, заживут своей, неотраженной жизнью…
Так и искусство — порой оно болеет склонностью к прямому копиизму. «Театр — зеркало…» — когда-то написал Шекспир, и все с удовольствием повторяют эти слова. Но если и брать за основу этот образ, то в театральном зеркале живут другие.
Мне нравятся актеры, которые не выносят на сцену себя, а создают другой персонаж.
Несколько лет назад, после того как Анни Жирардо сыграла в Москве какой-то моноспектакль, жена французского посла пригласила меня на обед, устроенный в честь Жирардо. За столом нас было, по-моему, шестеро, но все три часа, пока длился обед и пили кофе в гостиной, говорила только Анни Жирардо. Она была абсолютно такой же, какой я ее видела в кино и на сцене так же рассказывала «случаи из жизни». Я подумала: где она играет и играет ли вообще? Где грань перехода в другую реальность? Или она, раз в нее попавши, так и осталась там?..
Истинное искусство никогда не бывает бесстрастным зеркалом. Сила и богатство «второй реальности» — в ее объемности, многомерности, синтезе всех тех черт, которые как бы без всякой глубокой внутренней связи разбросаны по жизни. Искусство вскрывает эти связи, находит их и создает свою реальность. Магия искусства — погружение во что-то, что как раз не похоже на обыденную жизнь.
Театр создает сценическое время и пространство. То есть — другую жизнь, «вторую реальность».
СЕРГЕЙ ПАРАДЖАНОВ
Однажды в Киеве, когда со студии, где я снималась в «Лесе Украинке» в 1970 году, мы ехали в гостиницу, кто-то мне показал балкон на одном из угловых зданий. На балконе стоял бюст. Я не очень удивилась бюсту, мало ли их: мы привыкли к официальным бюстам. Но мне сказали: «Это Параджанов». На балконе стоял бюст Параджанова. Это были его балкон и квартира.
Встретились мы тогда лишь однажды — где-то мельком на студии, и после этого я стала получать подарки: уникальные расшитые украинские платья, иногда бутылку вина, гуцульскую меховую расшитую безрукавку. Причем все это не сразу, а с нарочными: кто-то приезжал в Москву, заходил ко мне и говорил: «Это от Параджанова».
Когда в 1979 году мы с театром были на гастролях в Тбилиси, он устроил прием для нашей «Таганки». Я немного опоздала, но, поднимаясь по старой, мощенной булыжником улице Котэ Месхи, уже по шуму догадалась, куда надо идти. Дом номер 10.
Дом двухэтажный, маленький, огороженный небольшим каменным забором. Наверху, над воротами, сидели два, как мне показалось, совершенно голых мальчика и, открывая краны, поливали водой из самоваров, что стояли с ними рядом, всех вновь прибывающих. Мне, правда, удалось проскочить этот душ, когда я входила во двор. Двор тоже маленький. Я сразу обратила внимание на круглый, небольшой не то колодец, не то бывший фонтан; он был заполнен вином, и в этом водоеме плавали яблоки, гранаты и еще какие-то экзотические фрукты. Вокруг этой огромной чаши стояли наши актеры, черпали из нее и пили. Посередине двора на ящиках лежала большая квадратная доска, покрытая цветной клеенкой, — импровизированный стол, на котором стояли тарелки, а в середине в большой кастрюле что-то булькало, шел пар и вкусно пахло.
В левом углу двора был портрет Параджанова, закрытый как бы могильной или тюремной решеткой. «Это — моя могила», — сказал он мне потом. Портрет стоял на земле, а перед ним сухие цветы, столетник и какое-то чахлое деревце.
Все балконы второго этажа были устланы коврами, лоскутными ковриками и одеялами. Сам двор был выложен разноцветными плитками. Сияло солнце. Все сверкало. Было красиво и очень красочно.
А с неба свисал черный кружевной зонтик, он висел в центре двора, как абажур. Меня встретил Параджанов, я сказала: «Какой прекрасный зонтик». Он тут же его опустил, оказалось, что зонтик висел на каких-то невидимых лесках, отрезал его и подарил мне. Я только успела промямлить: «Жалко, ну хотя бы еще чуть-чуть повисел для красоты». На это Параджанов: «Ты видишь, какая ручка! Это саксонская работа. Ты ее отрежь и носи на груди, как амулет, потому что это уникальная работа севрских мастеров. Это Севр». Потом он приказал сфотографировать меня, себя: ему очень понравилось, что я была вся в белом и в белой французской шляпе. Особенно его восхитило, что я была в шляпе — ибо шляп в то время никто не носил, и он все время приговаривал: «Ну вот, теперь наши кикелки будут все в шляпах. Как это красиво — шляпы! Я заставлю их всех в шляпах ходить. Шляпы. Шляпы…» И нас все время фотографировал какой-то мальчик, которого Параджанов отрекомендовал как самого гениального фотографа всех времен и народов. Он никогда не скупился на комплименты.
На втором этаже, за балюстрадой из лоскутных одеял, стояла жена Гии Канчели. Безумно красивая утонченная грузинка. По балюстраде ходили, тут же ели, пили и пели актеры «Таганки» и Театра Руставели и смотрели вниз с балкона, как в театре на представление, которое внизу разыгрывал Параджанов. Среди актеров расхаживал какой-то милиционер, которого Параджанов всем представлял, как на светском рауте. Позже выяснилось, что милиционер пришел из-за прописки, которой у Сережи не было. Тут же был какой-то лагерник приехал к нему в гости. Отдельно справа, на втором этаже под гирляндой красивых сухих перцев, сидела рыжая толстая женщина в байковом цветном халате с большими сапфирами в ушах и молча за всем этим наблюдала. Я спросила: «Кто это?» — «А… Это моя сестра. Я с ней уже два года не разговариваю», — бросил на ходу Параджанов.
Мы прошли в его комнатушку, которая вся была забита коллажами, натюрмортами, сухими букетами, какими-то тряпочками, накинутыми на что-то уникальными кружевами. Ну просто лавка старьевщика. Комнатка Параджанова была очень-очень маленькой. Почти все пространство занимал установленный в середине квадратный стол. На столе было очень много еды в старинных разукрашенных грузинских мисках…
Я ушла быстро, потому что совсем не знала, как вести себя на таком восточном празднике.
В Тбилиси Параджанов познакомил меня с гениальной художницей Гаянэ Хачатурян. У меня есть несколько ее рисунков, жалко, что тогда я не сумела купить ее картины: уникальные, с призрачными фигурами людей и животных. Сейчас они висят в музеях по всему миру. Впрочем, позже я все же приобрела одну ее работу маслом: на темном фоне — разноцветные костюмы и маски странствующих актеров — как воспоминание о том первом моем посещении дома Параджанова.
С тех пор, время от времени, появлялись какие-то люди, словно подарки от Параджанова: художница-мультипликатор Русико, например, из Тбилиси. Она долго потом мне писала письма и присылала свои по-детски примитивные прелестные рисуночки.
Несмотря на то, что часто появлялись посылки с фруктами, я слышала, что Параджанов бедствует, да и живет все в той же маленькой комнатке, а я-то думала, что дом весь его! Соседи, чтобы пройти в туалет или умыться, каждый раз проходили по балюстраде мимо его окна и двери.
Потом я снова была в Тбилиси и однажды в Театре Руставели смотрела «Ричарда III». Сидела в первом ряду вместе с англичанином, который непрерывно фотографировал. Он каждый раз со скрипом вынимал кожаный футляр, доставал фотоаппарат, долго его настраивал, потом громко щелкал и опять с таким же кожаным скрипом убирал все обратно. Через пять минут повторялось то же самое. Этот англичанин меня очень раздражал: я понимала — он ужасно мешает актерам. Видимо, я сидела очень мрачная. Вдруг в антракте ко мне подошли совершенно чужие люди и преподнесли огромный букет свежих-свежих роз. Я спрашиваю: «От кого?» — «От Параджанова».
Потом выяснилось. Шел Параджанов по улице Руставели мимо служебного входа театра. Было жарко, и актеры между сценами выходили на улицу покурить. Параджанов остановился:
— Что у вас идет?
— «Ричард».
— Как идет?
— Да неплохо. Англичане снимают для Эдинбурга, и сидит рядом с ними мрачная Демидова. Ей, видимо, спектакль не нравится.
Параджанов тут же остановил какого-то мальчишку, сунул ему три рубля и сказал: «Вот с той соседней клумбы все розы. Быстро».
Эти розы мне и подарили.
Однажды он узнал, что мы с Эфросом возобновляли «Вишневый сад», и решил сделать шляпы для моей Раневской.
И вот как-то ночью моим друзьям, Катанянам, позвонил один молодой грузинский священник и сказал, что привез от Параджанова для Демидовой две огромные коробки со шляпами, которые нужно сейчас же передать. И хотя этой ночью была гроза, я тут же прибежала к Катанянам за коробками.
Это уникальные шляпные коробки. Обе декорированы. Одна — черная, другая — сиреневая. Каждая из них стоит отдельного рассказа.
Сбоку на черной коробке выложена летящая чайка: Параджанов взял просто два белых гусиных пера, которые у него явно валялись где-нибудь во дворе, крест-накрест склеил их, вместо глаз приделал блестящую пуговицу, и все. Получилась летящая чайка. А тряпку, которую он вырезал из какого-то сине-белого подола, он приклеил снизу, и получилось море. Чайка над волнами.
Еще интереснее дно этой коробки, названное им — «Тоска по черной икре». Но я бы назвала этот гениальный коллаж «рыбой». Плавники этой «рыбы» сделаны из обыкновенных гребенок, чешуя — из остатков кружев, а саму «рыбу» окружают водоросли из ниток, тряпочек, кружев — и все покрашено в черный цвет.
Изнутри черная коробка была выложена картинками из театральной жизни. А с внешней стороны картинками типа «Крупская, сидящая за патефоном»; вырезана и надпись «Гармоничный талант». И вдруг сбоку, неожиданно — фигурка задумавшегося человека. Неожиданность — случайность — это стиль Параджанова в такого рода коллажах.
Внутри этой коробки лежала черная шляпа. Эту шляпу Параджанов назвал «Аста Нильсон». Верх — тулья из черных перьев. Об этой тулье он потом сказал: «Обрати внимание, Алла, эта тулья от шляпы моей мамы». На что Вася Катанян тут же заметил: «Врет, никакой не мамы. Где-нибудь подобрал на помойке».
Коробка из-под сиреневой шляпы была сине-бело-сиреневая, но в другом стиле: Параджанов украсил ее бабочками. Дело в том, что однажды я рассказала ему историю, как была феей-бабочкой для дочки моего приятеля, художника Бориса Биргера. Когда девочка первый раз пришла ко мне домой, чтобы поразить ее детское воображение, я украсила всю квартиру бабочками из блестящей ткани. Большая бабочка висела также и на входной двери. И даже на длинном моем платье, в котором я была в тот день, «сидели» бабочки. Для девочки я на всю жизнь осталась феей-бабочкой. Параджанов не забыл эту историю и прислал мне «привет» бабочкой на коробке.
Изнутри коробка украшена кружевной накидкой, которая раньше, возможно, лежала на каком-нибудь столе. А на донышке приклеено зеркальце из блестящей бумаги, перекрещенное кружевами, как православный крест. И здесь тоже множество картинок, но теперь это были фотографии старинных шляп. Картинки проклеены красными полосками — казалось бы, для чего? А непонятно для чего, но так красиво!
К обеим шляпам приложены кружевные шарфы, к черной шляпе — черный, к сиреневой — сиреневый. Сиреневый расписан от руки лилиями времени декаданса. Когда Параджанов приехал в Москву и мы стали мерить эти шляпы, я его спросила: «А зачем шарфы?» — «Ну вот смотрите: вы надеваете черную шляпу. Хорошо — но это просто Демидова надела черную шляпу. А ведь когда уезжает Раневская, она уезжает, продав свое имение. Поэтому я хочу, чтобы вы выбелили лицо, нарисовали на нем красный мокрый рот и до глаз закрыли лицо черным кружевным шарфом, завязав его сзади, чтобы концы развевались бы как крылья. Причем лицо скрыто как бы полумаской, через черное кружево проглядывает мокрый красный рот и бледная-бледная кожа, и сверху — шляпа. Вот тогда это имеет смысл. Точно так же и сиреневая: когда Раневская приезжает из Парижа, этот шарф, легкий, яркий, как бы летит за ней шлейфом воспоминаний о парижской жизни».
Когда я показала эти шляпы и шарфы Эфросу, он мне не разрешил в них играть. Он сказал, что это кич. Я не согласна, это не кич. Кич всегда несоответствие. Хотя, если вдуматься, шляпы Параджанова действительно не соответствовали спектаклю Эфроса, очень легкому и прозрачному. Эти шляпы утяжелили бы рисунок спектакля. Но сами по себе они — произведения искусства. И, конечно, не кич, а скорее авангард. Мне кажется, что авангард — это прежде всего эпатаж общественного вкуса, но с идеальным своим. А у Параджанова был абсолютный вкус. Шляпы его висят у меня теперь на стене вместе с картинами.
К шляпам было приложено письмо-коллаж на трех страницах. Когда его разворачиваешь, получается длинная-длинная фотография о том, как он делал эти шляпы. На обороте написано: «Алла Сергеевна! 1) Извините — на большее не способен! (не выездной). 2) Шляпа „Сирень“ (условно). Шарф. Середина шарфа обматывает все лицо и делает скульптуру!!! Необходимо очертить рот и нос! Шляпа „Asta Nilson“. To же самое — черный шарф, потом шляпа-заколка…
Желаю успеха! Он неизбежен! Привет супругу».
После тюрьмы Параджанову было запрещено ездить в Москву. Этот город был для него закрыт, но он появлялся иногда инкогнито. Однажды, когда он в очередной раз приехал в Москву, я позвонила Катанянам, чтобы пригласить их на общественный просмотр спектакля о Высоцком, к сожалению, об этом сказали и Параджанову. Он сразу же захотел прийти в театр, тем более что и Любимов его просил об этом. После просмотра было обсуждение спектакля: там должны были быть, естественно, кагэбэшники, потому что спектакль тогда запретили. Может быть, Параджанов и не пришел бы, но Любимов попросил помочь. И Сережа, конечно, пришел, конечно, выступил. После этого случая его опять забрали за нарушение запрета покидать Тбилиси. Правда, это был только повод.
Я помню, как он первый раз собирался за границу, в Голландию. Это было года за два до его смерти. Он опять жил у Катанянов. Как-то придя к ним, я увидела большие чемоданы Параджанова: он вез подарки в Голландию совершенно незнакомым людям — бесконечные шелковые грузинские платки, какие-то вышивки, пачки грузинского чая, ковровые сумки, грузинские украшения и так далее. Тут же он вынимал и дарил нам эти платки. В тот раз я пришла со своей приятельницей-итальянкой, и ей тоже дарились эти платки. У меня до сих пор осталось несколько шелковых платков. Иногда я дарю их «от Сережи Параджанова». Параджанов уверял, что платки из самой Персии, а Вася Катанян тут же комментировал: «Алла, не верь, просто с рынка Тбилиси. И то, не Сережа покупал, а ему принесли».
После возвращения из Голландии он забавно рассказывал о витринах. Так как он приехал в пятницу, в тот же день были назначены пресс-конференция и тому подобные встречи — он был занят, а в субботу и воскресенье все магазины были закрыты, поэтому Параджанову осталось только рассматривать витрины: «Представляете: витрина — подушки, бесконечные подушки или — бесконечные одеяла. И все — разной формы. Это такая красота!»
Я представляю его «зуд», когда он не мог всего этого купить, ведь делать покупки, а потом дарить было его страстью. Причем он мог дарить самые что ни на есть дешевые побрякушки и говорить при этом, что это бесценные украшения от принцессы английской. В то же время Параджанов мог подарить уникальные вышивки незнакомым людям, о которых забывал тут же.
Но все-таки в Голландии он не удержался, его страсть покупать оказалась сильнее закрытых магазинов. Он пошел на так называемый «блошиный рынок» и скупил его весь, целиком. Когда он вернулся после поездки к Катанянам, грузовой лифт не мог вместить всех мешков, которые он привез. Но вот он высыпал покупки: в одной куче оказались серебряные кольца и какие-то дешевые стекляшки. «Зачем, Сережа, стекляшки?» — «Ну, вы не понимаете, кикелки наши будут думать, что это сапфиры и бриллианты».
Не исключено, что он мог и продавать эти подделки, и очень дорого продавать. Но в то же время он мог и дарить настоящие бриллианты совершенно бескорыстно. В этом весь Сережа.
Он любил делать подарки и часто получал их в ответ. Ну, например. Пьем у него чай, вдруг приносят пельмени в огромной суповой миске. Он называет какую-то очень громкую фамилию — хозяина пельменей: ему обязательно нужна громкая фамилия, хотя пельмени могли быть просто от обычного соседа: ему присылали подарки все.
Или как он сам делал подарки. Например, мне. Когда я получала две бутылки вина от Параджанова с нарочным, это вовсе не означало, что он думал обо мне, хотел сделать что-нибудь приятное, пошел и купил вино для меня. Ничего подобного. Просто кто-то подарил ему ящик «Хванчкары», и этот ящик моментально раздаривался, и, значит, в этот момент его племянник ехал в Москву, и в этот же момент разговор зашел о «Таганке» или случайно возникла моя фамилия. Потому мне и доставались две бутылки «Хванчкары».
И так было со всеми людьми, со всеми его подарками. Несомненно, о некоторых людях он вспоминал чаще, о некоторых — реже. Но все это было по случаю.
В Москве он жил у моих друзей — Васи и Инны Катанянов. Дом этот сам по себе интересен — это бывшая квартира Лили Юрьевны Брик со всеми уникальными картинами, скульптурами, мебелью, что остались после ее смерти. Я думаю, что Сережа, помимо дружбы с Катанянами, останавливался там еще и потому, что атмосфера этого дома соответствовала его творческому миру. Иногда он выдумывал, приезжая из Москвы в Тбилиси, что этот чемодан, с которым он приехал, — чемодан самого Маяковского. Без выдумки и игры он жить не мог.
Говорил он постоянно. Он был из тех людей, которые не могут остановиться. Кстати, это очень утомительно — общаться с таким человеком. И когда ты сама устаешь, то не очень легко идешь на такой контакт. И к сожалению, я иногда попросту бежала от этих встреч.
А разговоры… Все в этих разговорах, как в его дарах; все неважно и важно. Начиная от уникальных рассказов «про тюрьму» (хотя половина из них, я думаю, тоже выдумана) до его выступления на той же пресс-конференции в Голландии. Правду от вымысла не отличишь.
Я не слышала, чтобы он особенно много рассказывал про свои замыслы, как любят, например, делать некоторые режиссеры. С ним мог состояться такой разговор:
— Сережа, что Вы будете снимать?
— «Демона». Я хочу снимать «Демона».
— А кто Демон?
— Ну, не знаю. Плисецкая прислала мне телеграмму: хочет сыграть Демона. Ну, эта старуха! Разве я буду ее снимать?
Между тем Плисецкой в это время слались телеграммы с предложениями играть Демона.
В этих разговорах бывали иногда какие-то обидные вещи, но всегда это был фейерверк, а обидные вещи — для «красного словца».
Он даже на стуле не мог сидеть просто так — непременно залезал верхом, потому что делать «просто так» — для Параджанова — невозможно.
Конечно, он был уникальным кинорежиссером, но в душе он был художником-мистификатором. Он любил делать из своей жизни легенды. В этом он похож на Сальвадора Дали, про которого тоже рассказывают бесконечные легенды и мифы. Если бы после Дали остались только картины, он не был бы так знаменит, я думаю. Известен визит к Дали Арама Хачатуряна: Хачатуряна провели в огромный зал, где за пустым столом стояло только одно кресло. «Ожидайте», — сказал ему мажордом и ушел. Послышалась музыка — «Танец с саблями». «Как это прелестно и деликатно со стороны Дали», — подумал Хачатурян. Музыка нарастала, наконец заполнила весь зал своим звучанием. Открылись двери и с саблей в поднятой руке, совершенно голый Дали пробежал через весь зал в другую дверь — она захлопнулась, музыка стихла. Затем пришел мажордом и сказал: «Аудиенция закончена». Вот такой же был и Сергей Параджанов. Прийти в гости и просто выпить чаю он не мог и поэтому сообщал: «Только что навестил персидского шейха, который подарил мне вот этот перстень с бриллиантом, но вообще-то, если нравится, возьми». Или что-нибудь придумывал про чашку, из которой пил. Или тут же нарядит всех сидящих за столом в какие-то немыслимые одежды, найдет какой-нибудь сухой цветок, приколет кому-нибудь к платью и заставит носить весь вечер.
Ему скучно было жить «просто так».
У Параджанова был тонус не среднего человека, его жизненный тонус был завышенный. От этого быстрый разговор, громкая речь, жестикуляция, вечные придумки, хохот. Причем иногда хохот был просто неадекватным, не на «смешное», и наоборот — он мог оставаться равнодушным к явно смешному и смеяться совершенно неожиданному.
При всем этом абсолютная естественность поведения — он говорил всегда то, что думал. Если, например, его спрашивали о том вечере, когда он принимал «Таганку» у себя в Тбилиси, он отвечал: «Ну что вечер? Ужасный вечер. Пришла Демидова, срезала зонт и сразу же ушла. Вот и все!»
Параджанова нельзя определить одним словом, в нем было все намешано. Вы у меня спросите: «Он был вор?» Я отвечу: «Да!» — «Правдолюбец?» — «Да!» «Честнейший человек?» — «Да!» — «Гений?» — «Да!» — «Обманщик?» — «Да!» «Бездарь?» — «Никогда!»
Где был источник, из которого он черпал эту свою неиссякаемую энергию?
Во-первых, я думаю, что источником была сама его судьба, ощущение своей миссии. Причем с годами это ощущение росло. И он даже служил этому.
С другой стороны, болезнь. Не знаю, как диабет проявляется и как он действует на тонус, но думаю, что это тоже оказывало свое влияние.
Тюрьма. Я видела письма из тюрьмы, адресованные Лиле Юрьевне Брик. Каждое письмо — это коллаж. Вставить в рамку и повесить на стену.
Вообще все, чего бы ни касались его руки, надо вставить в раму, ибо все это — произведения искусства. Этим он, кстати, многих заразил — и Васю Катаняна, и меня. Мы жили с Катаняном рядом, по соседству. И под влиянием Параджанова бесконечно (Вася в большей степени) делали коллажи, собирали икебаны, делали лоскутные занавески и наволочки, шили какие-то лоскутные юбки и кофты. Тут всюду Сережино влияние. Собираю я маленький букетик цветов и посылаю их Васе не просто так, а ставлю в красивую вазочку, что-нибудь приклеиваю и тогда уже отправляю. Вася приклеивает мои фотографии, например в Сережиных шляпах, на какой-нибудь плакат известной фирмы. Получается Васин коллаж, но мышление опять-таки Сережи Парджанова. Словно и сделал это сам Сережа.
Он очень любил людей талантливых. В этом смысле, можно сказать, он был снобом. Но это не классический снобизм, он просто очень чувствовал талантливых людей и всем им поклонялся, делал им подарки, общался с ними. Он хотел, чтобы память о нем осталась именно у талантливых людей: не было ни одного талантливого человека, которому Сережа что-нибудь да не подарил. Например, Андрею Тарковскому в их последнюю встречу он подарил кольцо. Майя Плисецкая, когда выступала в Тбилиси, была задарена Сережиными фантазиями.
Талантливых людей он находил не только в творческом мире, это могли быть просто воры, всякого рода странные люди, авантюристы: «Авантюрист? Да, но он талантлив!» Тот милиционер, которого я увидела в его доме в свой первый визит, стал постоянным посетителем — он был «талантливым милиционером». Банальных людей вокруг него я не видела, Параджанов их попросту не замечал.
Утверждают, что Параджанов был абсолютно аполитичным…
Я не знаю, что под этим подразумевается, одни говорят, что посадили его в 73-м не за политику, а за то, что был чересчур яркой личностью, другие пишут, что посадили его за какие-то гомосексуальные или спекулятивные дела, но совсем не за политику! Слухов вокруг Параджанова всегда было много и при жизни и после смерти. Во-первых, я думаю, что хороший художник всегда аполитичен, но в то же время художник всегда в конфронтации к существующему строю. Он был чужаком. Он не соответствовал строю, в котором жил. Он очень выделялся, поэтому сразу мерещилась «аполитичность», «политичность» — а ему было плевать. Параджанов был не угоден, такого человека, естественно, хочется убрать, не разрешить ему работать.
Я никогда не слышала, чтобы Сережа говорил прямо о политике, но о чем бы он ни рассказывал, его мировоззрение было ясно.
Его фильмы продолжали его жизнь, а его жизнь абсолютно отражалась в его творчестве. Одно дополняло другое. Как в случае с Дали, недаром он мне вспомнился. Фильмы Параджанова дополняли его, он — фильмы. Его «реальности» переплетались.
Я видела, например, фотографии людей, которых Параджанов специально находил, он отбирал их, когда начал делать «Легенду о Сурамской крепости». Я видела, как он наслаждался творчеством. Ему даже не важен был результат, куда значительнее было наслаждение, с которым он пристраивал какую-то тряпочку, одевал своих актеров, как он гордился, когда что-то получалось, как он радовался, находя для этого уникальные украшения и реквизит.
Он все умел делать сам, и когда та же «Легенда о Сурамской крепости» получила на каком-то фестивале награду — не то за работу художника, не то за операторскую работу, мне было смешно: это все Сережино, его руки, его почерк. Я просто вижу, как именно он одевает актеров и декорирует кадры, делая почти весь фильм собственноручно.
Тряпочки, аппликации, вышивки, камни, старые ковры — это было его страстью.
Он из всего делал спектакль. Например, в Тбилиси был вечер в Доме кино, посвященный режиссеру-документалисту Василию Катаняну и Инне Гене — его жене, специалисту по японскому кино. Но они были друзья Сережи! Параджанов декорировал этот вечер и сделал из него фейерверк: там были грузинские красавицы в шляпах и длинных вечерних платьях, которые просто сидели на сцене. Для украшения. Женщина за пианино сидела в такой же шляпе, а двух маленьких мальчиков Сережа одел в матроски, но не обыкновенные, а придуманные им самим. Так получился спектакль! Из ничего. И он всем запомнился!
Понимаю, что воспоминания современников ущербны и немножко узки. Например, когда читаешь воспоминания о Пушкине, то удивляешься — ну как же они не понимали, что рядом с ними живет гений, которому — изначально прощается все! А они вспоминают какие-то мелкие конкретные фактики его жизни. Но в то же время, если бы не эти «конкретные» заметки, может быть, мы не сумели бы понять в более широком смысле того же Пушкина. Чем конкретнее, детальнее воспоминания современников, тем они лучше фиксируют душу времени. Без обобщений и «расширенного понимания». Это уже некий второй этап. Поэтому мне и хочется вспоминать только конкретные истории, которые встают абсолютно реально перед глазами, — то, что врезалось и осталось в памяти.
Сережа Параджанов заразил своим маскарадом всех, кто с ним общался. Когда Катаняны приезжали в Тбилиси и шли к Сереже в гости, Инна прибалтийка с немецким воспитанием, очень пунктуальная, дисциплинированная шла в обычной английской юбке, в каком-нибудь буржуазном меховом жакетике, но на голове непременно параджановская шляпа!
Меня в театре иногда обвиняют в декоративности. Я обожаю наворот тканей, не сшитых, драпированных. Я очень люблю шляпы, но тут даже не в шляпах дело. А в том, чтобы уйти от скучного, запрограммированного быта, превратить жизнь немножко в игру, не то чтобы не всерьез к ней относиться, но не так драматически.
О КОСТЮМЕ И НЕ ТОЛЬКО
Классику легко и трудно играть. Легко, потому что прекрасный литературный материал. Широкое поле для выбора собственной тропинки. Трудно, потому что вся классика обросла штампами, предвзятыми мнениями. Актер лишен возможности быть первопроходцем в прямом смысле этого слова. Роль до него уже сыграна и первый раз, и сотый. Одни ее сыграли хуже — те забыты, другие сыграли лучше, третьи превосходно — они создали традицию восприятия. Это передается из поколения в поколение через литературные воспоминания, устные рассказы. Те, кто помнит, например, «Вишневый сад» во МХАТе, рассказывают, как прекрасно играл Москвин Епиходова. Я не видела, но слышала запись Епиходова — Москвина (правда, несовершенную) и уверена, что сегодня он сыграл бы эту роль по-другому, потому что каждое время требует своего прочтения. Ведь роль складывается, в общем, из трех компонентов: драматургического материала, актерской индивидуальности и сегодняшнего дня. Отсюда — бесконечное множество неповторимых вариантов.
Первую роль из классики я провалила: Вера в спектакле Театра на Таганке «Герой нашего времени». Была я, только что закончившая театральную школу, и был Лермонтов — недосягаемая вершина, на которую можно смотреть, только задрав голову. Но так ничего не увидишь!
Хотя вначале было вроде бы все, что создает неповторимость. Прекрасный литературный источник. Очень хорошая инсценировка, сделанная Н.Р. Эрдманом. Нетрадиционное распределение ролей: Печорин — Н. Губенко, Грушницкий — В. Золотухин, Максим Максимыч — А. Эйбоженко, драгунский офицер — В. Высоцкий, от автора — С. Любшин.
Доррер, художник «Героя нашего времени», принес прекрасный эскиз декорации. Сцена была затянута в серое солдатское сукно. А на сцене, чуть вправо от зрителя, — ромбовидный, из белой кожи станок. И белый, прозрачный на свет задник. Очень лаконично и красиво. (Станок и задник, кстати, потом вошли в спектакль «Антимиры».) Печорин — Губенко казался необычным. И он действительно хорошо тогда репетировал. Он, как никто из актеров, точно вписывался в задуманный новый театр, хотя и пришел из ВГИКа и не прошел вроде бы школу «Доброго человека…». Правда, во ВГИКе он прекрасно играл в «Карьере Артуро Уи». И это брехтовское было и в его Печорине. Какая-то замкнутая жестокость: «Нас не надо жалеть, ведь и мы б никого не жалели…» (он очень хорошо читал Гудзенко в «Павших и живых»). И у меня — Веры складывались с Печориным какие-то сложные, интересные отношения.
Для меня Губенко был всегда другим полюсом. Я этот полюс даже не пыталась для себя открывать. Просто знала, что там есть Южный полюс, и знала, что это талантливо. Но никогда не смогла бы делать то, что делал Губенко. Он даже разминался перед выходом на сцену как-то по-особенному. Не как все. Если мне надо тихо посидеть в уголочке, внутренне сосредоточиться на пьесе, на том, что было, что будет, увидеть весь спектакль целиком и главное — конец, то Коля перед выходом на сцену разминался физически. Он делал какую-то свою гимнастику. Я пробовала подражать, тоже прыгала, сгибалась, разгибалась и выходила на сцену совершенно пустой. Я даже увязалась за Колей, когда он несколько лет спустя пошел к немецкому актеру Шаалю во время гастролей «Берлинер ансамбль» в Москве, чтобы попросить Шааля показать нам его сложные разминочные упражнения, без которых, например, Кориолана, как его играл Шааль, не сыграть. Шааль нам эти упражнения показал. Действительно, очень сложные. Я сейчас удивляюсь, почему тогда Шааль, у которого были расписаны минуты, целый час показывал на гостиничном прикроватном коврике свои упражнения двум начинающим актерам.
Эти упражнения мне не помогли. Я даже не пыталась их запомнить и повторить. А для Губенко, видимо, там мало было нового.
И вот такой Губенко — Печорин для меня — Веры — был и непонятным, и притягивающим, и раздражающим, и в чем-то недосягаемым.
Все вроде бы складывалось. Но… слишком много авторитетов вокруг. Я и сейчас боюсь авторитетов. Мне страшно входить в кабинет начальства. Долго боялась актеров Вахтанговского театра, потому что для нас — студентов Щукинского училища — они все были учителями. Это мне мешало в «Чайке», в фильме, где моим партнером был Ю. Яковлев. И думаю, что сцена с Тригориным у меня не получилась так, как я хотела, по этой же причине. Я была ученицей на площадке. В «Шестом июля» я боялась столкнуться в кадре с Шалевичем Блюмкиным. До сих пор не могу избавиться от страха перед Любимовым… И главный авторитет, конечно, — Лермонтов. А там, внизу где-то, мы. Любимов на репетиции постоянно говорил: «Трепетно относитесь к тексту. Это классика! Это вам не Иванов, Сидоров, Петров!»
И хотя все это верно, но в искусстве нельзя с этого начинать. Если берешься — надо работать на равных, как самонадеянно это ни звучит. Тогда может родиться что-то интересное. А иначе всегда будут только ученические экзерсисы.
Довершил провал Веры — костюм. Я всегда начинаю репетировать в своем платье. В чем прихожу на репетицию, в том и выхожу на сцену. Пока не привыкну. Через некоторое время надеваю какую-нибудь длинную нейтральную юбку. И уж потом приходят необходимые детали.
И вдруг! Перед самой премьерой Доррер приносит эскизы костюмов, и их быстро шьют на «Мостеакостюме» — организации, которая в то время обшивала все ансамбли песни и пляски…
…И когда я надела это репсовое бледно-сиреневое платье с буфочками на рукавах, а сверху еще газовый шарфик (очевидно, обозначающий чахоточность Веры), в котором можно было в плохом сне или в шаржированной провинции играть Островского, Грибоедова, Щедрина — кого угодно — всех и никого, но только не мою Веру, с современными резкими движениями, с широким шагом. Веру худую, даже несколько костлявую, на которую давит тяжелое суконное платье (такой я видела себя в воображении), открывая ее худые ключицы. Тут и болезнь, и незащищенность, и трагический конец… Да и на фоне условного оформления, затянутой в сукно сцены, это было бы очень красиво. Надев сиреневое платье, я плакала, ибо поняла — моей Веры не будет. Сшиты костюмы были за три дня до премьеры, ничего изменить было нельзя. И в результате моя Вера получилась безликой, несчастной женщиной в длинном платье, знакомой по безликим спектаклям и плохим иллюстрациям. Наверное, были и искренность, и настоящие слезы, а вот какая она, эта «несчастная» женщина, не запомнил никто — ни я, ни зрители. После этого у меня, может быть, на всю жизнь осталось пристрастное отношение к костюму.
Меня никогда не волнует декорация, и приспособиться к ней я могу очень легко. Возможно, это происходит оттого, что я много лет снимала комнаты и жила по чужим людям, где нельзя было ничего менять. Я жила в комнатах, где на стенах висели фотографии незнакомых людей, и я их или не замечала, или «разгадывала» их характеры, привычки, судьбы глазом равнодушного, хотя и любопытного постороннего. Я жила в комнатах и с вышитыми наивными кошечками, и с павловской мебелью. И это почти никак не отражалось на моем состоянии. А вот от костюма, от того, в чем я одета в настоящий момент, зависит у меня многое и в жизни, и в кино, и на сцене. И почти всегда у меня из-за костюмов бывают столкновения с художниками.
Обычно эскизы костюмов делаются «ансамблево», без учета индивидуальных особенностей. Например, в спектакле «Вишневый сад» Левенталь предложил для Раневской дорожный костюм того времени: жесткие отвороты, корсет, прямая спина. Но Левенталь редко бывал на репетициях и не знал, что характер моей Раневской складывается совсем по-другому. Пришлось почти перед самой премьерой шить, по моей просьбе, свободное, легкое платье, может быть, и не по журналам мод того времени, но такое, которое, я убеждена, могла носить моя легкомысленная, грешная, бездумно щедрая, одинокая Раневская. «Мороз в три градуса, а вишня вся в цвету…» — та же незащищенная беспечность.
(Я помню, как ко мне после спектакля подошла Вивиан, француженка, бывшая жена Андрона Кончаловского, и спросила: «У вас есть выкройка этого летящего белого платья? Мне так хочется его повторить!» И я призналась: «Нет выкройки, потому что мы просто накалывали перед зеркалом и отрезали лишние куски». Это была сплошная импровизация…)
Во время репетиций «Гамлета» Давид Боровский, художник спектакля, принес эскизы костюмов. Решение мне понравилось. Фактура — натуральная шерсть. Из шерсти вязали во все века. И для нашей «Таганки» эти костюмы были кстати. Мы и в жизни тогда все ходили в джинсах и свитерах, поэтому трудный переход на театральные костюмы мог пройти безболезненно. Костюмы различались в основном цветом. Для короля и королевы костюмы были цвета патины. И на фоне серого занавеса король и королева выглядели, как две старые бронзовые фигуры. Красиво. Я об этом вспоминала, когда была несколько лет спустя в Париже, смотрела на собор Парижской богоматери. Был прекрасный пасмурный день. А наверху, на фоне серого неба и серого камня, — бронзовые фигуры в патине.
Идея Боровского была хорошей. Но когда костюм связали, выкрасили и принесли в театр, от идеи не осталось ничего. Мое платье было отвратительного грязно-зеленого цвета. Как в прейскурантах пишут: цвета морской волны. При этом патина не вспоминалась — вспоминались послевоенные детские Трико непонятного цвета. Помня Веру в «Герое нашего времени», где я проиграла, не сумев переубедить Любимова, здесь, в «Гамлете», я начала издалека. Я не говорила, что мне не нравится платье. Но я, например, говорила: «Юрий Петрович, вот я случайно нашла у Цвейга в „Марии Стюарт“, что королевский траур — белый. И венчаются они тоже в белом. Поэтому оправданны будут фразы Гамлета „не износив и пары башмаков“ и „с похорон пошел на свадьбу пирог поминный“, то есть это значит, что не прошло и месяца, как в том же платье, в котором шла за гробом, королева была на свадьбе. Нужно белое платье». Еще через неделю говорю (а Офелии, естественно, сделали белое платье, ручная вязка, угрохали массу денег. Поэтому репетирует Офелия в белом платье, а я пока со своим «цветом морской волны»): «Юрий Петрович, это же трафарет! Всегда Офелию играли в белом платье, возьмите любую постановку „Гамлета“. А невеста-то в пьесе кто? Гертруда. Вы посмотрите, как прекрасно играет Офелию Наташа Сайко. Она играет такую незаметную мышку. Она мышка. Ее в этом серо-коричневом занавесе и не видно. Она не выпячивает себя». И так постепенно я добилась, что для Сайко — Офелии сделали платье в цвет занавеса, оно сливалось с ним, а мне белое. Но, надев белое платье, которого добилась с таким трудом, я поняла, что и в нем не могу играть. Чтобы выйти на сцену в вязаном платье, надо обладать фигурой Афродиты. И тогда (а уже денег нет, потому что перевязывали костюм два раза, и наш занавес — из чистой шерсти, ручной работы), я взяла какие-то два белых платка, которые еще не успели покрасить, сшила — и получилось такое пончо, но до полу со шлейфом, и оно прикрыло мое платье. И еще — надела цепи.
Считаю, что костюм мне очень помог в этой роли. Так же как костюм Аркадиной в фильме «Чайка». Когда утверждали эскизы и мне их показали, я согласилась из-за вечного сомнения — «а вдруг это правильно?». Сшили крепдешиновое платье, мне оно понравилось, оно было цвета увядшей травы, и я подумала — на натуре это будет красиво. При моей худобе я попробую в этом крепдешине сыграть излом, декаданс, вечное актерство. Но когда мы приехали на натуру — это было под Вильнюсом — и я увидела впервые декорацию, я поняла, что костюм мой не годится. Была выстроена маленькая-маленькая дачка, где рядом курятник и убирают сено, рядом рыбалка, хозяйство, а я — нате! — в крепдешине. Для меня Аркадина — хорошая актриса, актриса со вкусом. Она не может ходить в крепдешиновом платье рядом с курами! Но что делать, не поедешь же в Москву перешивать костюм… Я пошла в магазин, купила материал — штофный, тяжелый. С художницей по костюмам Ганной Ганевской (к счастью, она прекрасный мастер своего дела) мы за одну ночь сшили платье. Оно получилось немного театральное, немного актерское — не то халат, не то вечернее (вечернее не праздничное, а вечернее, потому что вечер) — широкие рукава, бордовый шарф, складки на спине. И походка самоуверенной премьерши получилась от этого платья.
Те же муки с костюмом были в фильме «Шестое июля».
Сохранились кинокадры со Спиридоновой. Она была дочерью генерала. Всегда ходила в корсете, в большой шляпе с какими-то перьями, с большими-большими полями. Я согласилась. Спиридонова в хронике — брюнетка с широкими черными бровями. Мне надели черный парик, красивую шляпу, корсет портретно похоже. Но я подумала, что такой костюм меня уведет в классические роли женщин, совершенно не связанных с политикой. И тогда я попросила сшить костюм не на студии, а в современном ателье. Потому что мне нужно было, чтобы это был костюм с современными линиями, из современного материала, но как бы из того времени. Получился такой костюм — длинная юбка, на ней пуговицы, которые носили в начале века. Размер — на два номера больше, чем мой. Мне казалось, что складки, опущенные плечи платья подсознательно вызовут у зрителя чувство обреченности героини…
Или, например, «Тартюф»… Спектакль был хорошо, со вкусом оформлен. М. Аникст и С. Бархин принесли прекрасные эскизы костюмов. Но у меня, Эльмиры, во втором акте — сцена раздевания, а ведь это платье не снимешь! Поэтому я придумала плащ, который можно снять. Придумала верхнюю деталь — фигаро с пышными рукавами, которое тоже легко снимается. После «раздевания» я оставалась в вечернем платье на бретельках, в котором не стыдно показаться перед зрителями. В то же время — целых две детали сняты, и все на глазах у публики. После этого зритель поверит и в другие предлагаемые обстоятельства.
1987 год, 17 июня. Вечером за чаем у Иветты Николаевны — Тамара Синявская, Володя Спиваков, Володя Васильев, Катя Максимова и я. Решили организовать благотворительный концерт, чтобы собрать деньги на реставрацию церкви, где венчался Пушкин…
Тогда слово «благотворительность» еще не произносилось, слово это было забыто после 17-го года.
Но чем привлечь зрителей на дорогие билеты — не только же именами? И мы решили сделать «премьеру премьер», то есть то, что никто никогда не делал.
Катя Максимова с Володей Васильевым подготовили семь новых номеров. Я помню их репетиции. Когда репетируют другие, миниатюрная Катя сидит на сцене под роялем и возится там со своими балетными туфлями, потом она встает и становится царицей, а после опять, как маленькая девочка, сидит под роялем, ждет. А когда мы уходили домой, она была на высоких каблуках и выглядела Дамой.
Еще я запомнила, как Володя Васильев искал костюм для какого-то номера: он попросил снять на видеокамеру весь номер, посмотрел, понял, что этот цвет костюма не подходит, станцевал в другом костюме, опять посмотрел на видеокамеру, понял, что снова не подходит. Я тогда первый раз увидела, как балетные работают с видеокамерой: как в зеркале рассматривают каждое свое движение.
«Виртуозы Москвы» тоже играли все новое, а я подумала: «Что же до меня никто не делал?» — и решила прочитать «Реквием» Ахматовой.
С Володей Спиваковым мы как-то потом вместе летели из Бухареста и, сидя рядом в самолете, размечали «Реквием» — какие куски когда нужно перебивать музыкой. Для «Реквиема» он выбрал Шостаковича.
Видя, как Васильев подбирает костюм, я думала, в чем же мне читать «Реквием». В вечернем платье нельзя ~ «Реквием» читается первый раз, это о 37-м годе, — нехорошо. С другой стороны, выйти «по-тагански» — свитер, юбка просто как женщина из очереди «под Крестами» — но за моей спиной сидят музыканты в смокингах и во фраках, на их фоне это будет странно. Я решила, что надо найти что-то среднее, и вспомнила, что в свое время Ив Сен-Лоран подарил Лиле Брик платье: муаровую юбку и маленький бархатный сюртучок. Муар всегда выглядит со сцены мятым, хотя при ближайшем рассмотрении можно разглядеть, что это очень красивое платье. Но Лили Юрьевны уже не было в живых, поэтому я попросила его у Васи Катаняна. И до сих пор читаю в нем «Реквием».
…Первый раз читаю «Реквием» в Ленинграде. Огромный зал филармонии. Народу! В проходах стоят. Мне сказали, что в партере сидит Лев Николаевич Гумилев с женой. Я волнуюсь безумно, тем более что там строчки: «…и сына страшные глаза — окаменелое страданье…», ведь она стала писать «Реквием» после того, как арестовали сначала сына, а потом мужа — Пунина.
После концерта стали к сцене подходить люди с цветами. И вдруг я вижу: продирается какая-то старушка, абсолютно петербуржская — с кружевным стареньким жабо, с камеей. С увядшими полевыми цветами (а я, надо сказать, очень люблю полевые цветы). И она, раздирая эти цветы на две половины, одну дала мне, а вторую положила на авансцену и сказала: «А это — Ане». По этому жесту я поняла, что она была с ней знакома. Потом она достает из кошелки какой-то сверток и говорит: «Это вам».
Мы уходим со сцены, я в своей гримерной кидаю этот сверток в дорожную сумку — после концерта сразу сяду на «Стрелу» и поеду домой. Идут люди с поздравлениями и вдруг — Лев Николаевич Гумилев — абсолютная Ахматова, он к старости очень стал на нее похож. Рядом с ним жена — на две головы выше. Я, чтобы предвосхитить какие-то его слова, говорю: «Лев Николаевич, я дрожала как заячий хвост, когда увидела Вас в зале». «Стоп, Алла, я сам дрожал как заячий хвост, когда шел на этот концерт, хотя забыл это чувство со времен оных… Потому что я терпеть не могу, когда актеры читают стихи, тем более Ахматову, тем более „Реквием“, но… Вы были хорошо одеты…» Мне это очень понравилось. Он еще что-то говорил, а в конце сказал: «Мама была бы довольна». Я вздрогнула.
Потом, в другой приезд, я ему позвонила, он меня пригласил в гости. Я пришла, он спросил: «Не против, если я покурю на кухне?» — «Да-да, конечно, Лев Николаевич». Он сел, покурил, мы о чем-то говорили, я рассказывала, как читала «Реквием» в разных странах. В это время вошла какая-то женщина и поставила на газовую плиту чайник. Я говорю: «Это кто?» Он: «Соседка». — «Как — соседка?!» — «Ну да, я живу в коммунальной квартире». Он получил свою маленькую двухкомнатную квартиру незадолго до смерти.
…Когда я приехала после этого концерта в Москву — бросила сумку и помчалась на репетицию. Прошло несколько дней, я, вспомнив про сумку, стала ее разбирать, наткнулась на сверток, который подарила эта петербуржская старушка. Разворачиваю: газеты, газеты и наконец какая-то коробка, на которой написано: «Русская водка» и нарисована тройка. Перечеркнуто фломастером и написано: «Это не водка!» Там оказалась бутылка редкого-редкого джина, очень старого. Откуда у нее этот джин?! Бутылку этого джина я подарила Васе Катаняну — ведь он мне подарил костюм.
В Париже, когда я с «Виртуозами» должна была читать «Реквием» в зале «Плиель» (это как наша консерватория), я попросила, чтобы в программке написали историю создания: почему «Реквием», почему в музыкальном зале читается слово, причем не по-французски, а французы терпеть не могут слушать чужой язык. Когда мы приехали за день до концерта, я увидела программку концерта: там было все — даже моя фотография, но почему-то из «Гамлета», и ни слова о том, что такое «Реквием».
И вот — вступление Шостаковича, я выхожу, зал — переполненный, я начинаю читать: «В страшные годы ежовщины…», они зашелестели программками — не понимают, что происходит. А в программке нет никакой информации, кроме того, что я родилась там-то и училась там-то. И начинается ропот. Любых зрителей раздражает, когда они не понимают, что происходит. И тогда я, зажав сзади руки в кулаки, вспомнив, как Есенин читал «Пугачева» перед Горьким (у меня надолго остались кровавые следы, но это действительно очень концентрирует, потому что боль отвлекает сознание), и я — Ахматова каждую строчку сочиняю заново, я не знаю, что будет вслед. Меня держит только музыка и рифма. Я не обращаю внимания на зрительный зал. И чувствую резкую боль в ладонях. И вдруг, уже к концу, я слышу… тишину. Тогда я смотрю в зал и вижу: во втором ряду сидят француженки и плачут. И — бешеные аплодисменты в конце. Потому что французы и бешено ненавидят, и также бешено благодарят.
Тогда я в очередной раз поняла, что поэзию действительно надо читать, не обращая внимания на «предлагаемые обстоятельства», именно «сочиняя», опираясь только на рифму и на музыку — на какой-то внутренний ритм, который надо поймать. И не боюсь после этого читать в любых странах без перевода.
Один раз я читала «Реквием» в Армении после знаменитого землетрясения. Мы приехали с «Виртуозами». Когда приземлился самолет, мы еле-еле прошли к выходу — весь аэродром был заставлен ящиками с благотворительной помощью.
Кстати, когда началась перестройка и в России был голод, эта благотворительная помощь со всего мира шла в Россию тоже. Тогда Горбачев создал Президентский совет (из актеров там были Смоктуновский и я), потому что эта благотворительная помощь неизвестно куда уходила. Мне дали огромный список — лекарства, вещи, еда из Германии и дали телефоны тех мест, куда это пошло. Я никуда не могла дозвониться, наконец, я всех своих знакомых стала просить, чтобы они звонили по этим телефонам. И мы так и не поняли, куда ушла эта многотонная гуманитарная помощь… Так и в Армении — вся помощь, как потом говорили, «рассосалась».
И вот — Спитак. Разрушенный город. Местный драматический театр остался цел, там и проходил наш концерт. В полу моей гримерной была трещина, я туда бросила камень и не услышала, как он упал.
Рассказывают, что первый толчок был в 12.00. В театре в это время проходило собрание актеров, и двое не пришли. И как раз говорили о том, что эти двое всегда не приходят на собрания. Когда был толчок, все люди, которые находились в театре, — уцелели, их семьи — погибли, те двое актеров, которые не были на собрании, — тоже.
Я стала читать там «Реквием», и оказалось, что это не про 37-й год, а про то, что произошло в Армении. Все плакали. Это было абсолютно про них. И вдруг, во время чтения, я увидела, что микрофон «поплыл», а в моем сознании произошел какой-то сдвиг, и я забыла текст. Я смотрю на Володю Спивакова, а он в растерянности смотрит на меня — забыл, что нужно играть. После длинной паузы мы стали продолжать. Потом выяснилось, что мы выбросили огромный кусок. Тогда я поняла, что землетрясение в первую очередь влияет на сознание. Недаром после него нужна долгая реабилитация, особенно у детей.
(Помню, как в Салониках я лежала больная в гостинице, а за окном кричали дети и лаяли собаки, очень сильно. У меня болела голова и была большая температура, а вечером — спектакль. Я думаю: «Ну что же они так кричат!» И вдруг — тишина. И все поплыло: люстра, моя кровать, — это был толчок землетрясения. И опять тишина. А через какое-то время — уже обычный шум. Очевидно, перед землетрясением резко возбуждаются дети и животные, а потом — тишина. У них «плывет» сознание.)
Костюм меня часто спасал и в театре, и в кино, и на концертах. Художнику по костюмам достаточно было не сопротивляться моей фантазии — ведь она шла изнутри, от роли, — и профессионально осмыслить мои смутные желания. Мне очень легко работалось, например, с Аллой Коженковой в «Квартете» и в «Медея-материал» по Хайнеру Мюллеру (оба эти спектакля поставил греческий режиссер Теодор Терзопулос). С Аллой мне не важно было, кто сказал первое «а», главное — она меня очень понимала, а я ей безоговорочно доверяла.
Иногда я брала какое-нибудь платье из «большого Дома» (то есть от знаменитого кутюрье), как это было в «Реквиеме», когда меня спас Ив Сен-Лоран.
Когда я впервые читала «Поэму без героя» Ахматовой в «Новой Опере», меня спас знаменитый японец. Для «Поэмы» я взяла черное гофрированное платье от японского кутюрье Issey Miyake и его же гофрированную золотую накидку.
Костюмы для меня — как маски в древнегреческом театре. Это не только «визитная карточка» персонажа, это еще и кураж — вот, мол, как я придумала!
В жизни — другое.
В молодости мы с мужем жили очень бедно, но я все равно старалась одеваться элегантно. Я даже придумала себе стиль — чуть-чуть английский. Тогда он возникал из ничего, из энергии молодости. Переезжали с квартиры на квартиру со всем имуществом двумя чемоданами, в которых были мои платья. На дорогие чулки не было денег, а надеть дешевые просто не приходило в голову, и когда мы собирались в гости, я рисовала швы на ногах — за их ровностью следил муж.
Конечно, и сейчас иногда возникает желание пошокировать. Но — лишь хорошо знакомых людей. Однажды в свой день рождения удивила приятелей: прилетев из Токио, устроила японский ужин. А каждую перемену блюд появлялась в разных париках. Парик меня ужасно меняет, больше чем костюм или грим. И вот я — то в черном каре, то с рыжей копной волос, то в белом парике а-ля Пугачева. Среди своих это весело, имеет какой-то смысл — в незнакомой компании выглядело бы дико.
Кстати, париками я и актеров разыгрывала. В «Борисе Годунове» Самозванец — Золотухин в сцене разоблачения Марины Мнишек раздевает меня в прямом смысле: срывает лисью шапку и парик. Как-то перед гастролями в Испанию я постриглась под машинку — и никому не сказала, спрятала голову под платком. Идет спектакль. Золотухин срывает шапку, затем парик — а под ним у меня почти голый череп! На сцене все актеры — ах! Любимов в зале — ах! Золотухин мне потом говорит: «А я подумал, что это у тебя еще один парик, тоже хотел снять».
Сейчас я уже могу соответствовать любой ситуации: буду как нужно выглядеть и на приеме у посла, и валяясь с детективом на диване. Ведь в жизни мало иметь свой стиль, нужно, чтобы он гармонировал с предлагаемыми обстоятельствами и временами года. И нужно быть абсолютно естественной. Но что значит быть естественной? Ведь для одного человека естественно одно, для другого — другое…
ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ЕСТЕСТВЕННЫМ?
Казалось бы, будь искренним, и ты будешь естественным. Но можно быть искренним и не быть естественным по отношению к происходящему. Это мы часто замечаем в жизни. А на сцене или в кино можно быть искренним, но неестественным по отношению к своему образу. Я, например, столкнулась с этим на съемках фильма «Отец Сергий» режиссера Игоря Таланкина.
Мне предложили играть Прасковью Михайловну — Пашеньку, к которой отец Сергий приходит в конце и, увидев ее, полную забот о внуках, о пьющем зяте, о доме, увидев ее бедную, бесхитростную жизнь, понимает, что сам он жил неправильно, в гордыне, а жить надо просто, не для себя, а для людей — как Пашенька.
Я пришла в группу в конце съемочного периода, когда отношения в группе уже сложились, когда режиссер уже почти точно знает, чего он хочет; когда главные исполнители уже крепко «сидят в образах», а ты — тыркаешься, маешься и пока не знаешь, что правильно и что нет. И только-только начинаешь нащупывать мелодию образа.
Одна из первых реплик моей героини: «Степа? Отец Сергий? Да не может быть! Да как же вы так смирились!» Я ее произносила, как мне казалось, абсолютно искренне: со слезами, с растерянностью, с жалостью к отцу Сергию и с умилением — «как же вы так смирились?!» — что вот, мол, такой святой человек и в таком виде пришел ко мне. Но потом, когда выстроился характер моей героини, выяснилось, что эта первоначальная искренность была неестественна по отношению ко всему ее поведению в дальнейшем. Она не просто бедная, уставшая женщина, которая стирает, готовит и обшивает всю семью, она еще и дворянка, и для нее отец Сергий не только святой, но и человек ее круга, с которым она играла в детстве и которого просто не видела тридцать лет; и поэтому во фразе «как же вы так смирились?!» не может быть никакого умиления. Это неестественно по отношению к образу и явно будет выбиваться из всей сцены. Здесь должно быть не умиление, а боль, горечь, сочувствие. Иначе это умиление напоминает обычное прохиндейство.
Вы, наверное, замечали, что иногда целые сцены, сыгранные искренне, неестественны по отношению к развитию всего фильма или спектакля. Иногда бывает искренний, но неестественный по отношению ко всему фильму конец. Иногда целый фильм сделан с искренними намерениями, но неестествен по отношению к жанру литературного сценария.
Так что же значит — быть естественным?
— Естественность — это естественность. Кошка естественна всегда, что бы ты про нее ни говорила, — сказал мне мой муж, сценарист.
— А если кошке нужно изображать собаку, что в таком повороте будет естественно для нее и что для собаки?
— Нельзя изменять своей природе и назначению.
— Но то, что естественно для одного, другому покажется, наоборот, неестественным. Кстати, актеру, например, приходится ведь играть и собаку и кошку. Есть общее правило для всех?
— Это мудрствование. Как в детстве: почему красное не зеленое, а белое не черное. В этом, кстати, проявляются твой максимализм и негибкость.
— Спасибо. Но ведь известно, что если человек ни разу не видел зеленого цвета, то ему достаточно, не отрываясь, смотреть на красный предмет, чтобы через какое-то время почувствовать в себе ощущение, дотоле ему неведомое, — так пишут психологи. Так что же такое «неестественно»?
— Ну а что такое плохо? Неестественно, когда предмет не соответствует самому себе, — ответил мой умный муж.
Вот что пишет автор первой русской книги о театре: «Всяк кричит: должно играть естественно, и никто не дает слову сему объяснение. По мнению многих — то разумеется играть естественно, чтобы освободить себя от оков искусства; между тем принимаемое естественным в сем смысле никогда не составит хорошего Комедианта».
(Боже, как хорошо понимали театр в XVIII веке! Сегодня же очень часто актер на сцене так же невнятно лепечет слова, как и в жизни, ибо он «естественен»).
Правда, следует учитывать, что естественным считалось в то время на театре говорить не своим голосом, пафосно декламировать, выкрикивать важные куски роли не партнеру, а зрителю с подбеганием к рампе, причем уходили со сцены герои, обязательно поднимая правую руку. Эта школа Дмитревского просуществовала более полувека, пока не сменилась школой Щепкина.
В своих «Записках» М.С. Щепкин пишет: «…то и хорошо, что естественно и просто!» Но опять-таки как просто? Спиной к публике поворачиваться во время диалога было нельзя. И просто молчать нельзя, а «держать паузу» и т. д. Тысячи условностей!
На смену школе Щепкина, которая просуществовала на русской сцене тоже около полувека, пришла школа Станиславского, у которого на первых порах естественность на сцене почти полностью отождествлялась с натурализмом.
Я не буду подробно разбирать историю развития русского театра XX века, когда на смену натурализму первого периода Художественного театра пришла естественная театральность и праздничность Вахтангова, естественная буффонность и гротеск Мейерхольда, естественная условность Любимова, естественная взнервленность и эстетизация Эфроса… — я хочу только сказать то, с чего начала: на мой взгляд, не всякая жизненная естественность годится в искусстве. Необходимо отказываться от всего случайного, наносного, необдуманно вошедшего в роли, спектакли, фильмы, и сохранять только то, что ведет к цели, к сверхзадаче, к задуманному.
Каждому жанру — опере, балету, оперетте, стихам, трагедии — каждому жанру в театре, кино, на телевидении, радио требуется своя, только ему присущая естественность («соответствие предмета самому себе»).
Однажды на вопрос корреспондента «Что более всего вы цените в человеке?» я, не задумываясь, ответила: «Талант» (Смоктуновский при мне ответил на этот вопрос: «Доброту»). Сейчас я больше всего ценю в человеке естественность, потому что знаю, что это самое трудное в жизни и в искусстве, это требует большой практики, постепенности, длительной привычки, образования, вкуса, внутреннего такта, воспитания, таланта.
На актера значение естественности можно перевести так:
1. Актер естествен, если его игра соответствует жизненной роли персонажа, если он не выбивается из общего рисунка спектакля или фильма и если его игра соответствует современной актерской школе. И, наоборот, актер играет неестественно, если его исполнение соответствует скорее его жизненной роли, а не тому, кого он изображает; если он допускает психологическую «отсебятину»; если он не слышит мелодии всего спектакля, или музыкальной партии своего партнера, или общей музыки всего театра. Если он упрямо остается только самим собой.
2. Актер может все хорошо понимать, знать все про свою роль, общий замысел, но он будет неестествен, если не прислушивается к интуиции, если не слышит требований Природы и Красоты.
А при моей любви к формулировкам я бы сказала, что естественность и в искусстве и в жизни — это обостренный артистизм.
Парадокс Оскара Уайльда, что уже сама по себе естественность представляет собою одну из самых трудных ролей, мне очень нравится, и я бы тоже так сказала, если бы умела говорить парадоксами…
Одним из самых естественных актеров на сцене для меня всегда был Иннокентий Михайлович Смоктуновский, хотя многих раздражала его некоторая манерность рук — «не как в жизни», интонаций… «Ты этим ножичком?» спрашивал неестественным фальцетом Смоктуновский — Мышкин Рогожина после того, как Рогожин выходил из спальни, где зарезал Настасью Филипповну. Мне эта гениальная интонация запала в душу на всю жизнь и раскрыла образ Мышкина до глубин, куда и заглянуть страшно, — до глубин Достоевского…
А в жизни самым естественным человеком был, пожалуй, Василий Васильевич Катанян. Причем абсолютно естественным он был и тогда, когда в длинной восточной хламиде искал в лесу грибы или прогуливался под настоящим японским зонтиком по подмосковной даче, и когда со своим другом Эльдаром Рязановым выступал где-нибудь на телевидении (уж на что Рязанов естественный человек, но Вася и на его фоне ухитрялся выглядеть естественней!).
ПРИНЦ УЭЛЬСКИЙ, МОЙ СОСЕД
В конце 70-х годов мы поселились в дачном кооперативе на берегу Икшинского водохранилища. В этом четырехэтажном доме жили и Смоктуновский, и Крючков, и Таривердиев, и Швейцер… Лоджии загораживали соседей друг от друга, перед лоджией — луг, за ним водохранилище, на другом берегу — деревня, лес, по утрам кричат петухи. И когда выходишь на балкон, нет ощущения большого дома, возникает полное слияние с природой.
Я оказалась на первом этаже, и в первую же ночь мой кот убежал на луг. Я испугалась за него, вышла на балкон. Светит луна, что-то стрекочет в траве, и я стала тихо звать кота, чтобы не разбудить весь дом: «Вася! Васенька!». И вдруг с соседнего балкона мне отвечают: «Алла, я здесь». Так мы познакомились с Васей Катаняном. Нашу встречу он описал в своей книге «Прикосновение к идолам». Книжка прекрасная, переиздававшаяся уже несколько раз.
Вася был режиссером-кинодокументалистом, и судьба его постоянно сводила с необычными людьми. Он с юности дружил с Майей Плисецкой и сделал о ней фильм, дружил с Аркадием Райкиным, Риной Зеленой, Тамарой Ханум, самым близким его другом был Эльдар Рязанов. Снял Поля Робсона — и подружился с Полем Робсоном. А в те времена Поль Робсон — это все равно что сейчас Алла Пугачева. Скорее даже так: Алла Пугачева плюс Ельцин. И вот Вася пригласил Поля Робсона к себе домой на Разгуляй, там у них с матерью было две комнаты в коммунальной квартире. Соседей он предупредил, кто придет, и к их приходу все стали старательно мыть полы. Когда Вася вместе с Полем Робсоном вошел в квартиру, длинный коридор был вымыт. Все двери были открыты, и каждая женщина, нагнувшись и пятясь задом от окна к двери, домывала пол своей комнаты. Так они и встретили Поля Робсона — с подоткнутыми подолами, из-под которых выглядывали сиреневые штаны. А в простенках между комнатами, чтобы не пачкать вымытый пол, уже стояли пионеры — «белый верх, черный низ» — и отдавали салют…
Там же, на Разгуляе, в одной из их комнат стоял рояль. С матерью Галиной Дмитриевной они жили очень бедно и предоставляли этот рояль для занятий студенту консерватории, немосквичу. К неудовольствию всех соседей, он приходил заниматься каждый день. И только через много-много лет Вася понял, что к ним приходил Рихтер.
Когда-то дружили Маяковский, Осип и Лиля Брик с Василием Абгарычем Катаняном и его женой Галей. Застрелился Маяковский, Осип Брик ушел к другой женщине, Лиля вышла замуж за Примакова, в 37-м его арестовали и расстреляли. Лиля стала бояться оставаться ночью одна. Стала пить. К ней ходили ночевать Катаняны — единственные, кто от нее в то время не отвернулся. Ходили по очереди, потому что у них к тому времени уже появился Вася-младший. И вот однажды Василий Абгарыч позвонил своей жене и сказал: «Галочка! Я не приду домой, я остаюсь у Лилички». Лиля Юрьевна хотела вернуть подруге ее мужа со словами: «Ну, подумаешь, делов-то» (любимое Лиличкино выражение в подобных случаях, как рассказывал мне Вася). Но Галина Дмитриевна оказалась гордой, собрала Василию Абгаровичу его вещи и больше никогда не видалась с Лилей. Она стала жить со своим маленьким Васей, изредка выступая в концертах как певица и зарабатывая деньги печатанием на машинке.
Но Вася с отцом дружил, бегал к нему. А у отца с Лилей — открытый дом, в котором бывали все талантливые люди того времени. Может быть, от этой детской привычки общаться у Васи и сложился такой открытый характер и естественность поведения.
Прошло много лет, покончила с собой Лиля, через год умер Василий Абгарыч. И в их квартиру, как единственный наследник, переехал Вася, его жена Инна и его мать. Так Галина Дмитриевна оказалась в той же комнате, в которой жила ее подруга 30-х годов Лиля Брик. В комнате, где Лилей много лет собиралась коллекция подносов, где висел коврик с вышитыми бисерными уточками, который Маяковский купил на восточном базаре в 16-м году и подарил «любимой Лиличке»…
В этой завершенности кругов судьбы есть какая-то жизненная справедливость.
Вася стал душеприказчиком Лили Юрьевны Брик. Ему пришлось разбирать весь ее огромный архив. Он постепенно сдавал его в ЦГАЛИ, закрыв только юношеский дневник Лили и те письма к ней Маяковского, когда он писал «Про это». Мы познакомились с Васей, когда он занимался архивом, и мне довелось прочесть и эти дневники, и письма. И тогда же я восхитилась прекрасными альбомами самого Васи.
Вася ведь никогда не думал, что будет печатать книжку воспоминаний. Он просто делал альбомы — наклеивал фотографии, что-то писал, вырезал, придумывал коллажи. Дело в том, что его ближайшим другом был Сергей Параджанов.
Вслед за Параджановым Вася стал шить занавески из кусков. Резал все подряд, если чего-то не хватало, говорил: «Инна! Помнишь платье, которое Ив Сен-Лоран подарил Лиле? Давай его сюда!» Р-раз — и отхватывал кусок от подола. Как-то, разбирая старые вещи Лили Брик, Вася нашел занавеску, сшитую из маленьких-маленьких кусочков. Он подарил ее Наташе Крымовой. И когда Наташа, решив ее отреставрировать, отпорола подкладку, то на некоторых кусочках оказалось вышито: «Я счастлива» и такое-то число. Эту занавеску шили когда-то Лиля Брик и Лиля Попова — жена актера Яхонтова, и во время работы делали такие заметочки. Теперь эта занавеска висит в квартире Эфросов. Вот такая преемственность.
После смерти Лили Брик все, кто знал ее, приезжая в Москву, стали приходить в гости уже к Васе — ведь это была квартира Лили. Приезжал Ив Сен-Лоран, Нина Берберова, Франсуаза Саган, Соня Рикелли… Так Вася «обрастал» новыми друзьями, помимо своих прежних. И тогда он решил написать книжку. В принципе писать мемуары нетрудно, трудно сохранить свою интонацию, свою манеру рассказа. Вася смог. Его книжка дает полное ощущение беседы. На Икше мы очень часто так беседовали во время вечерних предзакатных прогулок, за чаем, в походах за грибами. Я постоянно приставала к Васе с расспросами, и он почти всегда вспоминал прошлое с юмором.
У меня там нет телевизора, и я приходила к Васе. Мы пили чай, смотрели какой-нибудь фильм, а потом вместо телевизора вдруг оба начинали смотреть в окно — там, за окном, по водохранилищу проплывал огромный четырехпалубный корабль…
Однажды сидим мы с Васей на лоджии и видим красавец пароход, я говорю: «Смотрите, Вася, это плывет, по-моему, бывшая «19-я партийная конференция». Вася засмеялся и вспомнил анекдот: мальчик, увидев название парохода, спрашивает: «Мама, кто такой Сергей Есенин?» — «Отстань! „Сергей Есенин“ это бывший „Лазарь Каганович“.»
Все теплоходы мы знали «в лицо», и была между нами игра: кто с первого взгляда угадает название судна. Мы обзавелись биноклями и подзорными трубами и высчитали закономерность: если четырехпалубный, то или «Феликс Дзержинский», или «Двадцатый съезд партии», если трехпалубный, то имя немного поскромнее, но обязательно партийное или признанного классика — например, зеркало русской революции «Лев Толстой». Если же двухпалубный — то какой-нибудь «Александр Блок» или «Есенин», «Пирогов»… После перестройки названия пароходов стали менять, и партийных имен почти не осталось. Правда, совсем недавно вижу отреставрированный, свежевыкрашенный четырехпалубный теплоход, быстро достаю бинокль — мне интересно, в кого его переименовали, — и вдруг читаю: «Ленин»… Как-то, уже переселившись на второй этаж, над Васей, приезжаю на дачу и вижу на двери записку: «Если Вы на Икше, то спускайтесь обедать в 14-ю квартиру. Принц Уэльский». В этом — весь Вася.
Эти милые Васины записочки я храню, а некоторые у меня висят на стенах как картинки, потому что они и есть картинки — коллажи.
В свое время Вася был страстным поклонником балета. И вот я получаю от него записку на старой фотографии когда-то известной балерины XIX века: «Ее соседскому высочеству А. Демидовой. В честь столетия со дня рождения незабвенной и горячо любимой Цукки (девичья фамилия Сукки) просим пожаловать на малый королевский обед в кв.14. Начало трапезы в 16.30 (время местное). Отказ неприемлем. Шеф-повар пищеблока Катанян и K°». Ну как эту фотографию, да еще с такой надписью, не повесить на стенку! Или получаю я от Васи фотографию собак, среди которых вклеена его фотография, и внизу — подпись: «Мы ждем в компанию дорогого Микки!» Дело в том, что иногда, уезжая, я оставляла у них с Инной моего пикинесса Микки.
Васина жена, Инна Генс — очень известный киновед, специалист по японскому кино. Когда на московские кинофестивали приезжала японская делегация, они всегда приходили к Инне в гости. А Вася играл роль кухонного мужика, и ему это ужасно нравилось. Но каждый раз, когда фестиваль кончался, Инна строго говорила: «Ну хорошо, а на следующий год чем мы будем угощать японцев?» — хотя гости у них бывали каждый день.
И вот однажды, в самый разгар приема японской делегации, когда Вася в ярком фартуке молчаливо разносил гостям коктейли и салаты, госпожа Ковакита — директор известной токийской синематеки, спросила Инну, не знает ли та, где можно найти фильм Василия Катаняна про Поля Робсона, и что она, Ковакита, искала этот фильм даже в Праге… «Кухонного мужика» пришлось разоблачить, и в следующие приезды японцев Вася играл уже самого себя.
Вася Катанян — уникальный человек! В моей жизни такого не было и не будет. Такого богатого дружбой с разными людьми и в то же время остававшегося самим собой, со своим юмором — мягким и чуть отстраненным, с утонченным артистизмом, с абсолютным вкусом на все талантливое и новое.
В апреле 1999 года я поехала на Икшу, и 29-го ночью мне стало очень страшно. Я вышла на балкон. Горел свет, была луна, я посмотрела вниз и увидела, что дикий виноград, который тянется ко мне с Васиного балкона, вдруг распустился. «Как это странно, — подумала я, — ведь вечером были только почки». А тут раскрылись листочки, и среди них на мой балкон тянулась какая-то белая нить. Я дернула за нее, и внизу раздался звон колокола. Тут я вспомнила, что это Вася повесил колокол, а ко мне протянул нитку, чтобы можно было позвонить — и он появится на балконе. Мы переговорим, я в корзине спущу ему какую-нибудь книжку, а он положит мне вместо нее что-нибудь вкусненькое или букетик цветов, связанных особым образом.
…Когда я приехала на следующий день в Москву и позвонила Инне, она мне сказала: «Вася умер. Сегодня ночью в 1.20». Тогда и прозвонил колокол. Это не мистика. Это какая-то близость, не душевная, а скорее духовная.
Теперь, когда я понимаю, что больше не увижу Васю, не услышу его смех, постоянную игру во что-то, не увижу его восточных халатов, барственную походку, неторопливые движения — у меня наворачиваются слезы. Но потом я вспоминаю все его прелестные выходки, его рассказы, его дневники, которые он начал расшифровывать под конец жизни, — и начинаю улыбаться. А на поминках Васи мы даже смеялись. Владимир Успенский, многолетний Васин друг, рассказал, как давным-давно, когда они были молодыми, он зашел на Разгуляй, где его ждали Вася и Элик Рязанов. Он позвонил, и ему открыла хохочущая девушка — изо рта и даже из носа у нее от смеха вылетали монпансье. Оказалось, что Вася, что-то рассказывая, так ее рассмешил, когда у нее во рту была горсть леденцов. В это время раздался звонок, и она пошла открывать. «Потом она стала моей женой», — закончил Успенский.
…И я представляла, как сидел бы с нами Вася и как подхахатывал бы, слушая все наши о нем рассказы…
* * *
Дом без Васи опустел, хотя осталась уникальная квартира Лили Юрьевны Брик с картинами, мебелью красного дерева, прекрасным видом из окна. Напротив окна было повешено зеркало, чтобы этот вид на Москву-реку отражался — так получилась живая картина в красивой раме. Уже при Васе на стенах появились коллажи и рисунки Сергея Параджанова, эскизы костюмов Ива Сен-Лорана.
Осталась Инна — Васина жена, прекрасный человек. На Икше мы с ней играем в карты, раскладываем бесконечные пасьянсы, но нет уже долгих вечерних посиделок за круглым столом, во главе которого когда-то восседала Васина мама, Галина Дмитриевна.
Галина Дмитриевна Катанян сама по себе была Персонажем. Я очень люблю ухоженных старух. У Галины Дмитриевны — всегда тщательно уложенные волосы, красивые платья и кофты, которые Вася привозил ей из своих заграничных поездок. Прямая спина, красивое и в старости лицо. Молчалива. Иногда, при всей их непохожести, она мне напоминала Лилю Юрьевну Брик, которую я узнала за несколько лет до ее смерти.
Очень давно мы с Плучеками снимали вместе дачу в Переделкине. Часто Плучеки шли гулять и заходили в гости к Лиле Юрьевне, которая жила вместе с Василием Абгарычем в двух небольших комнатах с верандой на даче у Ивановых. Иногда Плучеки брали меня с собой. И тоже — ухоженность Л.Ю. бросалась в глаза. Всегда тщательно выкрашенные блестящие волосы, заплетенные в косичку с зеленым бантом. Темные одежды, из которых ничего не помню, значит, были со вкусом и хорошо подобраны. Судя по воспоминаниям, Лиля Юрьевна всегда любила и умела одеваться. Это видно и по ее многичислеиным фотографиям. А в письмах к сестре, Эльзе Триоле, Лиля подробно описывала, что ей прислать: какого цвета чулки, какой номер помады, какого колера пудру. Однажды они с Василием Абгарычем сидели в аэропорту Шереметьево и ждали рейс на Париж. Была нелетная погода, и народу собралось много. Среди толпы ходили два импозантных мужчины и по-французски обсуждали толпу — какие, мол, все серые и неинтересные, как плохо одеты. «Нет, — заметил более молодой, — вон сидит старуха в зеленой норковой шубе и с рыжими волосами, очень интересная». В самолете Лиля Юрьевна оказалась рядом с ними, познакомились. Так она подружилась с Ивом Сен-Лораном, который с тех пор присылал ей чемоданы с красивыми платьями.
Она и в старости следила за собой. Помню ее волосы, бледное, тогда немного квадратное лицо, нарисованные брови и очень яркий маникюр, тонкие руки. Она почти всегда сидела и только невластно распоряжалась: «Васенька, у нас там, по-моему, плитка швейцарского шоколада осталась, давай ее сюда к чаю». Если не хватало маленьких десертных тарелок, в ход пускались глубокие. Этому не придавалось никакого значения. Меня расспрашивала про «Таганку», молодых актеров. Ходила на все вернисажи и премьеры.
Помню в театре: мы сидим в костюмах внизу за кулисами, а вверх по лестнице к Любимову в кабинет подымается какая-то женщина — я обратила внимание на ее сверхмини и высокие сапоги. Я вижу только ее спину и думаю, что это молодая женщина, но с такой окостеневшей больной спиной. Когда она повернулась — я узнала Лилю Брик.
Она уже плохо слышала. Однажды она сидела с Василием Абгарычем в первом ряду на «Деревянных конях», а я по мизансцене сижу у рампы, почти у ее ног, но тем не менее она каждый раз переспрашивала у Василия Абгарыча мои слова, и тот слово в слово, почти так же громко, как я, перессказывал мой текст. Так мы и сыграли в тот вечер вдвоем: я — северную деревенскую старуху, а она — себя с огромным бриллиантом на руке, который отбрасывал всполохи по всему залу.
После ее смерти, прочитав ее дневники, записные книжки, переписку с Маяковским и сестрой Эльзой, я хотела написать книжку под названием «Лиличка». Мне казалось, что уже само название раскрывало мое к ней отношение. А потом подумала — какое я имею право?
О Лиле Юрьевне писали многие. При ее жизни — чаще в дневниках и в воспоминаниях, которые еще готовились к печати. Книги о ней появились только после ее смерти. С разными названиями и разным отношением. Но тайны этой женщины они не раскрывают.
Я только позволю здесь несколько цитат из устной речи Лили Юрьевны, пересказанных мне ее молчаливой подругой тридцатых годов Галиной Дмитриевной Катанян.
Про романы:
«Это так просто! Сначала надо доказать, что у вас красивая душа. Потом — что он гений и, кроме вас, этого никто не понимает. А уж остальное доделает красивое „dessous“ и элегантная обувь».
«Если вы хотите завоевать мужчину, надо обязательно играть на его слабостях. Предположим, ему одинаково нравятся две женщины. Ему запрещено курить. Одна не позволяет ему курить, а другая к его приходу готовит коробку „Казбека“. Как вы думаете, к которой он станет ходить?»
«Когда человека любишь, надо многое терпеть, чтоб сохранить его. — А как же гордость, Лиличка? (пожимает плечами). — Какая же гордость может быть в любви?»
Летом 27-го года Маяковский был с Наташей Брюханенко. Решил жениться. Л.Ю. в разгар своего романа с Кулешовым написала записку: «Володя! До меня отовсюду доходят слухи, что ты собираешься жениться. Не делай этого. Мы все трое женаты друг на друге и больше жениться нам грех».
Маяковский про нее: «Если Лиличка скажет, что нужно ночью, на цыпочках, босиком по снегу идти через весь город в Большой театр, значит, так и надо».
Шкловский на заседании редакции «Нового Лефа» за что-то осмелился сказать Л.Ю.: «Я просил бы хозяйку дома не вмешиваться в редакционные дела» — только его и видели…
О ней писали разное — и плохое, и хорошее. И правду, и досужие вымыслы. Но внимание людей она до сих пор притягивает. В какой бы стране ни зашел разговор об авангарде, о хозяйках салонов, о «русских музах» — всегда вспоминают Лилю Брик.
РАЗМЫШЛЕНИЯ В САМОЛЕТЕ
Чехов писал, что всю жизнь выдавливал из себя по капле раба. А я — наше советское прошлое, наше воспитание. Вернее, отсутствие последнего. Нашу общую «совковость». Мы, конечно, быстрее приспосабливаемся к неблагополучной жизни, чем западные люди, быстрее ориентируемся в жизненных переплетах, но как же я в себе не люблю этот опыт тяжелой жизни, чувство бездомности, неустойчивости, зависимости от чужого мнения. Хочу привести здесь кое-какие мои записки разных лет.
ПИСЬМО К N
…Сегодня я раздражена, поэтому простите некоторую агрессивность моего письма. Может быть, просто устала…
Homo Sovetikus — новый тип людей, независимо от национальности, образования и воспитания. Сформировался этот тип, приспосабливаясь к тяжелой жизни. Бегающие глаза в непривычной обстановке — боится, что кто-то обманет, или готовность обмануть. Как только понимает, что обстоятельства привычные, — моментально хамеет и распоясывается, например, разувается, когда ждет в холле аэропорта в Милане свой рейс, — он уже как бы на своей территории, во всяком случае, рядом. Шаповалов, как только сел в самолет из Лиссабона (в 1-й класс), стал орать: «Наконец-то своя территория!» Он тут хозяин. А до этого тушевался, заискивал, молчал.
Знаменитый актер Т-в кричал (как Тарзан) на эскалаторе в Орли, когда мы возвращались с симпозиума по Станиславскому. Он, видите ли, свободен. Французы шарахались. Любимов тоже кричал, и тоже в аэропорту — в Мадриде. Недаром я всегда думала про них, что они похожи…
Неестественно возбужденное поведение нашей интеллигенции на званых ужинах или обедах. Крохоборствуют. Покупают ненужные дешевые тряпки, которые никак не улучшают их жизнь — ни внешне, ни внутренне. Где можно — не платят, стараются выпить воды, купить себе лекарство впрок, позвонить и т. д. на чужой счет. Думая, что это незаметно для платящих, а платящие могут быть бедными студентами, которые моют посуду, подрабатывая в ресторанах.
Выживаемость у HS — колоссальная. При опасности они, толкая, вернее втаптывая друг друга, стараются сами спастись. Естественно, что выживают сильнейшие. Когда можно — быстро засыпают. Эгоцентризм ужасающий, помощь другому — не приходит в голову. Говорят или о себе, или рассказывают, с их точки зрения, «забавные» истории. Юмор грубый. Живут впрок, «на завтра». Едят тоже впрок. Одеваются всегда не к месту и не ко времени, даже если есть, что надеть, из-за отсутствия внутренней гармонии и вкуса. За границей: мол, кругом чужие, кто заметит — и накупают тряпки впрок, на завтрашний день. А дома — тоже плохо одеты: мол, кругом свои — какая разница. Мало моются, считая, что так полезнее: где-то вычитали, что естественный пот что-то там лечит, что полезно «покиснуть».
Господь с ними. Может быть, поэтому Блок в «Двенадцати» тоже закончил:
«В белом венчике из роз / Впереди Иисус Христос». Мол, Бог с ними. Что с них взять — больные.
И они войдут в царствие Божие?
«Блаженны нищие духом…»
А может быть, в Библии при переводе неправильно поставлены знаки препинания? Может быть: «Блаженны нищие. Духом войдут они в царствие Божие…»
Декабрь 1994 года.* * *
Жизнь нас — советских — учит с опозданием. Обычные навыки, которые западные люди приобретают в молодости, — я познаю сейчас.
1994 год, 18 января. Лечу в Канаду, в Квебек. Симфонический оркестр пригласил меня читать Пушкина и Толстого на концерте, посвященном 100-летию Чайковского. Лечу из Парижа, где у нас — гастроли «Таганки». Играем в театре Барро на Елисейских полях. Меня окружают богатые дамы. Только что, на старый Новый год, я была в дорогом ресторане «Корона», где пела знаменитая Людмила Лопата. О ней, кстати, слышала давно, но только сейчас увидела. У меня был после нашего спектакля огромный букет белой сирени, и я отдала его ей. Она тронута. Расцеловались. Поет низким голосом «Темную ночь», «Синий платочек» и т. д. Ей, как говорят, лет 80, а может быть, и больше, но выглядит она на 50, а улыбка — просто очаровательна. Цыгане: Лиля, которая мне понравилась в «Арбате»[5] лет пять назад, но теперь голос у нее более открытый — эстрадный, и с ней не цыгане, а люди так называемой кавказской национальности, танцуют чечетку, трясут плечами и голоса надрывные. Я не очень вписываюсь в эту атмосферу, мне неуютно, но держусь, улыбаюсь, на голове — какая-то смешная красная бумажная шапка. Поют специально для меня «Очи черные» Высоцкого. Подыгрываю как могу (не догадываясь, что за это надо платить). Виртуоз-скрипач. Кафе «Fleure». Дорогие магазины. Галереи на Сент-Жермен. Вкусная еда известных ресторанов. Меня опекают. «Живу, как богатые дети живут, Тиль-Тиль».
И теперь — лечу в Канаду студенческим рейсом, чтобы подешевле. Вокруг молодые ребята, может быть, летят на каникулы к родным или просто покататься на лыжах. Я сижу, втиснутая в узкое кресло между двумя арабами. Один читает Питера Устинова, а другой, справа, — наушники в ушах, спит, иногда похрапывает, иногда нюхает кокаин. Пересесть некуда — свободных мест нет.
Что меня заставило попросить Боби купить дешевый билет на этот рейс? Экономия? Нет — платит за билет приглашающая фирма. Неопытность. Незнание Их жизни. Мы привыкли к Аэрофлоту, а там — все равно, летишь ли ты 1-м классом или «общим». Тот же запах, то же равнодушие стюардесс. Та же невкусная еда.
Я не подозревала, что здесь разница в цене билетов (а она большая) так определяет разницу комфорта. Но ко всему привыкаешь… Уже не кажется, что тесно. Едят все аккуратно, на подносе не устраивают помойного ведра, как наши (только что возвращались с испанских гастролей Аэрофлотом, со мной рядом сидели две молодые, накрашенные, «экипированные» во все заграничное из нынешних бизнесменок. Так у них через секунду, как в обезьяннике, на подносе было отвратительное месиво).
Обратно летела полупустым рейсом и опять окунулась в «парижскую жизнь». Так холодно-горячо, бедно-богато живу всю жизнь. Ко всему привыкла. Это меня даже образовывает, и я уже легче отношусь ко всем перепадам жизни. Она у меня хаотична. А ведь ритуалы, как это ни парадоксально, дают свободу, но ритуально жить так и не научились.
* * *
1997 год, июнь. Я на театральном фестивале в Sitgese — небольшом, очень красивом городке на берегу моря недалеко от Барселоны. Невольное сравнение с сочинским кинофестивалем — тоже на берегу моря.
Мне не хочется критиковать наш кинофестиваль — чудо, что он вообще существует, что киношники, пресса, продюсеры и бесконечное количество детей, мужей и жен могут бесплатно кормиться, купаться, общаться и смотреть новые фильмы.
Здесь, в Испании, — хорошая гостиница, лучше, чем в Сочи, хотя обслуживают ее несколько человек. Сколько было обслуги в Сочи — не подсчитаешь, на каждом этаже, например, четыре горничные. Здесь — две на всю большую гостиницу. Тем не менее все успевают, каждый день меняют постельное белье и полотенце. Но кормят в Сочи обильнее — три раза в день, много, вкусно (кто дает на это деньги?). Здесь утром — обычный гостиничный завтрак, без излишеств. Потом выдают талон на десять долларов — можешь доплатить еще двадцать и поесть в любом ресторане. Ужин не предполагается.
В Сочи каждый день, с утра до вечера, — фильмы, на которые мало кто ходит. Все сидят или у моря, или в кафе. Здесь вечером — по два спектакля, и достать на них билет очень трудно, залы переполнены.
В Сочи принято менять туалеты, на открытии и закрытии актрисы появляются в вечерних платьях. Здесь — майки, шорты, джинсы с утра до вечера и официальных церемоний нет.
…Когда идешь, например, по улице Парижа, никто ни на кого не обращает внимания, ты в толпе, но ты один. От этого не устаешь. И смотришь только на небо и на прекрасную архитектуру. В Москве же, которую очень люблю, я стараюсь не ходить по улице. Все немного ряженые и постоянно друг друга осматривают. И даже не в толпе — толкаются. Почему? Я, кстати, замечала: плохие актеры на сцене всегда толкаются. Они не видят себя в пространстве и не замечают расстояния между собой и партнером. От некоторых актеров «Таганки» я всегда старалась держаться подальше.
Мелкие и большие неприятности…Как адекватно научиться реагировать на них? Я — гипотоник, у меня парадоксальные реакции, и иногда я мелкие неприятности воспринимаю более болезненно, чем большие. Как научиться принимать эти «неприятности» как урок? Искать, в чем была ошибка. Или принимать эти жизненные катаклизмы как неизбежность общего естественного хода явлений и поступков. И как научиться после них быть другим человеком? Чище.
КАЖДОМУ — СВОЕ
Уходим — разно или розно. Уйдем — и не на что пенять. В конце концов, не так уж поздно Простить, хотя и не понять…Это стихотворение Олега Чухонцева мне очень нравилось, и я дома читала его вслух на разные лады. Иногда просто пела. Но моему коту Васе и этот мой вой и этот ритм ужасно не нравились. Он пулей вылетал на балкон и там, в ванночке с песком, «делал свои дела». Это продолжалось и зимой, когда балконную дверь можно было открыть на несколько минут, а коту не хотелось вылезать на холод: я начинала читать это стихотворение, и кот не выдерживал, летел «делать свои дела». Потом, кстати, когда учила для концерта Блока и Пушкина, я заметила, что чем выше поэзия, тем быстрее кот вылетал на балкон.
Я рассказала эту историю Чухонцеву, мы посмеялись, а присутствующий при этом Фазиль Искандер продолжил это стихотворение дальше наизусть:
…Набит язык, и глаз наметан. Любовь моя, тебе ль судить? Не то чтоб словом, а намеком Боюсь тебя разбередить…Я заметила, что мне очень приятно вспоминать хороших людей.
Но, перебирая свои старые дневники, я часто наталкиваюсь на имена и фамилии, ничего мне сейчас не говорящие. В свое время эти люди присутствовали в моей жизни, оказывали какое-то на меня влияние, я страдала… Но кто они, я сейчас не могу вспомнить. Память их «вымыла».
Не так ли и в истории театра, например, остается только хорошее и интересное. А все злободневное, суетное, завистливое — уходит. Слава Богу, остаются только Таланты. Я не верю ни в какие «прогрессы в искусстве», и если такой отбор памяти существует, то, согласитесь, это хорошо.
И все-таки, почему русский театр оставил в своей памяти так мало имен хороших актеров? Знаменитых имен во все времена было в изобилии, но хороших актеров мало. Их можно по пальцам перечесть. Нынешнее время заполнено «очень средним» поколением — и по возрасту, и по профессии. И поэтому кажется, что театр «упал». Хорошие актеры уходят', потому что хороший актер всегда бережет себя и не втискивается в какие-то сомнительные предприятия. Это по молодости можно бросаться в любой омут, не зная, выплывешь или нет. А потом уже достаточно прочитать пьесу, достаточно знать, какая компания соберется, чтобы увидеть результат. Входить в этот результат или не входить — это твое право (ведь единственная свобода для актеров — это свобода отказа!). Поэтому сейчас хорошие актеры так часто отказываются. А кто играет — играет с плохими актерами и… теряет себя. Но я не хочу называть фамилий, не хочу никого обижать. И какие имена людская память оставит в истории — нам сейчас неведомо…
Конечно, сильно влияет нынешний зритель. Зрительный зал — это партнер, причем основной партнер. Он может быть требовательным, нетребовательным, понимающим, непонимающим и т. д. Хотя вот странность: люди, не любящие и не понимающие серьезную музыку, почему-то не ходят в консерваторию, догадываются, что они там ничего не поймут, не услышат, потому что у них нет опыта. А про театр они думают: ну, это же так легко… А театр, мне кажется, еще более сложное искусство, чем музыка.
Гипнотизер может загипнотизировать зал, если там есть тридцать процентов поддающихся гипнозу. Если этого процента нет, он ничего не сможет. А актерское искусство — тот же гипноз, то же воздействие на подсознание. Актер должен вести за собой, создавать фантом, но необходимо, чтобы зритель был готов увидеть этот фантом. Необходимо, чтобы зритель тоже «играл», а я актер только даю ему толчок. И если в зале нет этих тридцати процентов, то ни один гениальный актер ничего не сможет сделать. А сейчас они собираются только на премьеры. В основном же в зале сидят негипнотизируемые люди, у них закрыты те энергетические центры, которые воспринимают актерскую вибрацию.
Известен рассказ Станиславского о Сальвини. Станиславский смотрел Сальвини, когда тот играл в Москве Отелло. После того как Отелло душил Дездемону, он шел на авансцену с криком «а-а-а», весь зал вставал, мурашки по коже, и у Станиславского — тоже. Станиславский ходил на все спектакли, а на какой-то спектакль опоздал, пришел только к финалу и увидел: старый немощный человек идет к авансцене и слабым голосом кричит «а-а-а», но зал по-прежнему встает. А Станиславский — холодный, как собачий нос. Он спрашивает потом Сальвини: «Что случилось?» И тот объясняет: просто я так распределяю свою роль, что в финале мне достаточно дать сигнал зрителю, и он все доиграет сам. Это же невозможно сыграть! Эти чувства нельзя играть, потому что их неоткуда брать. Ведь от этого можно умереть на следующий же день — разорвется сердце. Кстати, со многими от незнания так и происходит. А надо только распределить все точно, дать сигнал, и зритель сам за тебя сыграет…
Я очень люблю работу Дидро «Парадокс об актере». Считаю, что это основная книга для современного актера — для актера, который играет не себя, а образ. Дидро, например, пишет: «Верное средство играть мелко и незначительно — это изображать свой собственный характер. Вы — тартюф, скупой, мизантроп, и вы хорошо будете играть их на сцене, но вы не сделаете того, что создал поэт, потому что он создал Тартюфа, Скупого, Мизантропа». И еще он пишет, что «слезы актера исторгаются из его мозга». Это значит и то, что актер так распределил подход к слезам, что может не плакать. Заплачет зритель. А у нас в основном плачут актеры — плачут, как крокодилы, — а зрители сидят холодные и ничего не чувствуют.
Конечно, каждый зритель в отдельности воспринимает искусство по-своему. Ибо только равный может понять равного. Индийская мудрость: «Только мудрый может узнать мудрого. Только тот, кто занимается бумажной пряжей, может сказать, какого качества и что стоит данный моток ее». (Поэтому мой кот Вася на высокое искусство реагировал по-своему. Какому-то зрителю подавай смысл увиденного, другому — качество игры и т. д.)
В начале 70-х годов я часто получала после спектаклей письма от «инкогнито». Они не подписаны, и я до сих пор не знаю, кто их автор. Но они мне были интересны, служили «зеркалом». Надеюсь, читатель простит великодушно излишнюю комплиментарность, ибо писала поклонница…
«Мне очень хотелось бы знать, почему Вы так плакали на последнем „Гамлете“? Наверно, Вы сами не сможете объяснить кому-либо мотивы Ваших слез.
Мое отношение к настоящим слезам двоякое. Во-первых, я считаю, что чаще всего слезы мешают полному самовыражению актеров, они мешают подсознательному контролю за линией образа. Можно довольно-таки легко вызвать настоящие слезы, но владеть ими очень трудно. Отсюда плохая дикция, истерика и т. п. А во-вторых, конечно, очень сильное действие оказывают настоящие слезы на публику, сидящую в первых рядах. Если сознание не отключается слезами и актер продолжает работать в полную силу таланта, даже несмотря на потерю чистоты дикции и окраски голоса, слезы заставляют волноваться и плакать зрителей (я имею в виду настоящих зрителей, а не случайных посетители буфета).
Есть актеры, которые по всякому поводу и без повода всегда готовы пустить слезу, актеры, работающие на постоянном истерическом взводе. Лично на меня слезы таких актеров не оказывают никакого эмоционального воздействия.
Но вот с Вами все обстоит иначе. Ваши слезы — редкость. Я бы сказала дорогая редкость. Они сначала нарушили мое обычное восприятие образа, где-то мне показалось, что плачете Вы, а не Гертруда. Почему? Не могу объяснить… И только потом я попала под их непосредственное воздействие. И вот тут-то я сама потеряла контроль над своими чувствами и мыслями, потому что сцена, сыгранная Вами с Высоцким, была просто потрясающей…
…Я вижу перед собой Ваши огромные глаза, переполненные слезами, их глубокий взгляд, полный ужаса, потрясения и любви к Гамлету (?). Вижу руки, застывшие в причудливой вопрошающей позе. Потом еще — страшное лицо, совсем не Ваше, чужое и перекошенное страхом и ужасом происходящего, взгляд полубезумный на Гамлета, протянутые ему руки… Боль во всем облике. И еще как-то сразу сникшую, неживую фигуру, почти унесенную на руках Гамлетом. Он, как ребенка, успокаивающе гладит Вас, а Вы где-то далеко от восприятия и Гамлета, и жизни, только глаза, голубые, в слезах…
Я спрашивала себя после спектакля: понравился ли мне такой вариант игры? Несколько дней я не могла ответить на этот вопрос самой себе. Я точно только знала, что последний спектакль прошел значительно интереснее предпоследнего (для Вас, наверное, он был труднее, Вы, возможно, больше устали).
Знаете, я никогда не хотела бы видеть другого сочетания талантов в спектакле Любимова. Вы и Высоцкий — это идеально. Конечно, Вы знаете, почему… Вы вместе, как два разных полюса магнита, притягиваетесь друг к другу, дополняете эмоционально и оттеняете друг друга. Именно разность Вашего таланта создает единство действия и стиля игры. Конечно, заслуга Любимова, что он сумел увидеть вас вместе. Так здорово смотрится, когда Высоцкий играет на пределе, на взводе, а Вы — прозрачны и хрустально тонки. Контраст в игре четко выражает замысел Любимова. Вот почему мне не понравилось, когда Вы однажды стали кричать в сцене с Высоцким. Пропал контраст, уменьшилось художественное воздействие всей сцены и Вашей игры…
Зачем я Вам это пишу? Возможно, потому, что, к моему глубокому сожалению, я никогда не смогу подойти к Вам и сказать спасибо…»
19 апреля 1973 года.«…И совсем невозможное — я ушла с „Гамлета“ 27 ноября. Первый акт меня действительно убил, я не в силах была смотреть второй. Вот это был любимовский спектакль! „Таганка“ — на износ, бесконтрольная самоотдача, захватывающая атмосфера, уничтожающая безразличие… Как здорово Вы провели сцену с Гамлетом! Ну отчего получается такая гармония в целом, когда по отдельности вы кажетесь несвязуемыми? Никто ничего не может объяснить…»
29 ноября 1973 года.«… Ваш внешний и внутренний облик всегда казался мне резким диссонансом в ярком перезвоне любимовских колоколов. Вы — хрупкая, хрустально-нежная, с резкой современной походкой и мягкой пластикой — не вписывались в общий ансамбль. Но в музыке давно уже прижился диссонанс, и Вы не кажетесь мне чуждой балагану…
Актриса ли Вы театра улиц? Говорят, нет. И все-таки любимовский балаган — Ваш театр. Не знаю, противитесь ли Вы в душе ему или служите правдой и честью, но тем не менее Вы стали его актрисой, диссонансной нотой его мелодий. Ваша милая (увы, такая редкая!) улыбка — не для театра улиц.
…В этот вечер Вы так много улыбались, как будто чувствовали, что кому-то нужна Ваша улыбка. Наверное, в зале находились Ваши знакомые, потому что обычно Вы редко улыбаетесь и часто стоите безучастная, в то время как другие вылезают из шкуры, обыгрывая любой эпизод. Мне никогда не нравилось Ваше безучастие. Мне казалось, что Вам просто неинтересно работать в этом спектакле. А зря, если это так…
Я хотела написать Вам большое письмо, но, зная ваше отношение к зрителям, раздумала.
Мое имя Вам ничего не скажет, только поэтому не подписываюсь. До встречи в театре».
15 декабря 1973 года.«…Не очень понравилась мне сцена с Гамлетом в спальне. И Высоцкий, и Вы играли в отдельности талантливо, но не получилось ансамбля. Я люблю, когда Вы играете мягче, не по-любимовски.
Когда Вы играете на пределе, то Высоцкий невольно начинает работать на какой-то натянутой струне, и кажется, что вот-вот она лопнет… Это здорово, но труднодоступно для простого зрителя. Потому что, чтобы воспринять такую игру, надо самому отдаться целиком Вам, но зрители не обладают страстью и самоотдачей Высоцкого, они не могут воспринять весь ансамбль, не хватает таланта слушать. Чем громче идет сцена, тем больше разъединяется ансамбль и властвует Гамлет.
Ансамбль в этой сцене целиком зависит от Вас, потому что Высоцкий всегда улавливает Ваше настроение, Ваш голос, и я не помню такого случая, чтобы он пытался играть не в Вашем ключе, пытался показать себя одного… Я Вам говорила, что, на мой взгляд, эта сцена проходит у вас гениально, когда она строится на контрастах. Конечно, это мое личное мнение, и вы вправе с ним не соглашаться…
Желаю Вам хорошо отдохнуть и удачных гастролей».
11 июня 1974 года.«…Я была на последнем „Гамлете“ в феврале. Мне показалось, что он прошел лучше, чем предыдущий. Но все равно я никак не могу примириться с энергичным жестом, которым Вы поправляете волосы, он никак не вяжется с Вашим хрупким обликом…
Я все время вижу перед глазами, как Ваша Гертруда мечется по сцене, похожая на огромную белую птицу, крылья которой — Ваши неповторимые руки вздымаются вверх, разводятся вопросительно в стороны и бессильно опускаются вниз. Сцена — клетка, вернее, Эльсинор — клетка, и для Вашей Гертруды нет выхода из нее. А может быть, весь мир — огромная клетка?..
Знаете, когда на репетициях я смотрела спектакль с бельэтажа, у меня неизменно возникало щемящее чувство жалости и боли к человеку, загнанному в клетку жизни. И Гамлет тоже был песчинкой по сравнению с мрачным занавесом, сметающим на своем пути все.
Невольно, зная текст наизусть, там, наверху, я теряла нить слов и увлекалась настроением или построением мизансцен. И невольно (это, конечно, не по соцреализму!) я ощущала ничтожность человека перед силой судьбы, перед Вселенной. А здесь, внизу, в первых рядах, пропадает чувство страха за слабость Человека, и начинаешь жить мыслями и чувствами пленников Эльсинора…»
15 марта 1975 года.Получала я, конечно, и другие письма, и от недоброжелателей — тоже. Я люблю критический разбор своих ролей. Но критика критике рознь. Непонимание всегда рождает злобу и ненависть. Я это опускаю за скобки. Мне дорог разбор понимающего человека.
ПЕРЕД СПЕКТАКЛЕМ
Существуют разные актеры. Один за сутки до спектакля уже никого не принимает, отключает телефон и целиком погружается в предстоящую работу. Другой может за три минуты до выхода на сцену курить, рассказывать анекдоты…
Думаю, что все зависит от роли. Если бы вечером был, допустим, «Гамлет», я сидела бы дома и к телефону бы не подходила, и даже не обедала бы. Потому что Шекспир требует полного растворения в своей драматургии, аскетичности, подготовленности. Даже чисто физиологически. И надо входить в эту роль чистой. А для других ролей, наоборот, надо больше уставать. И я часто это даже намеренно делала. Эльмира в «Тартюфе», например, — тут я старалась уставать перед спектаклем, чтобы у меня не было режиссерского самоконтроля (я этим страдаю). И у других актеров, мне кажется, все зависит от роли. Астангов перед ответственным монологом опускал руки в горячую воду; Щукин, когда играл Егора Булычева, перед выходом на сцену прослушивал Шаляпина: «Уймитесь, волнения, страсти…» — и на этом «раскрепощенном» шаляпинском регистре выходил: «Шурок, Шурок, душно жить в этом мире…» Папазян, как говорили, играя Отелло, взвинчивал себя за кулисами — ходил, как тигр в клетке, и шептал: «Говорят, Папазян — плохой актер… Папазян плохой актер?! Ну, я вам докажу, что Папазян та-а-кой ак-те-ер!!!» — и с этим врывался на сцену.
У каждого свои хитрости и приспособления. Смоктуновский рассказывал, что он перед «Идиотом» заваривал молоко в термосе и брал с собой на спектакль. Я его спросила: «Зачем?» Он ответил: «Вкусно!»…
Я же перед самым выходом на сцену очень сильно тру ладошку о ладошку и потом разогретые энергетически руки прижимаю к горлу (у меня сильнее всего работает эта «чакра»).
Но есть, видимо, общие правила для всех актеров.
Прикажите себе: я хочу почувствовать то-то и то-то! Ничего не выйдет. Этот волевой приказ не сработает. Но если этот приказ будет облачен в какой-нибудь осязаемый образ, результат окажется иным.
Так и перед спектаклем. Если я себе буду твердить: надо хорошо играть, я должна хорошо играть, я буду хорошо играть — из этого ничего не выйдет. Я только войду в нервное, лихорадочное состояние, которое мне не поможет. Но если перед спектаклем «Гамлет» я увижу перед собой мрачные, каменные, серые, мокрые стены Эльсинора и в них затерявшуюся маленькую фигурку сына, который взвалил на свои плечи непосильный груз, то Гертруду мне будет играть уже легче…
Перед спектаклем «Деревянные кони» я старалась приходить в театр в хорошем, добром настроении. Перед началом, сидя за кулисами, мирно болтала с актерами, разгадывала их сны, предсказывала будущее, расспрашивала про детей, рассказывала про свою бабушку, которая прожила до 90 лет и никому не делала зла. Она была очень религиозна, перед смертью сказала мне: «Я думаю, человек живет для того, чтобы встречаться с другим человеком. На года, на день, на минуты… Но это самое главное».
И я готовила себя на встречу с людьми, со зрителями…
… По переделкинскому писательскому поселку гуляли две старухи. Одна с палкой, рука за спину, в телогрейке, длинный фартук, платок шерстяной, а под ним еще другой платок — белый. Вторая старуха более современная. Пальто, видимо, дочь «отказала». Тоже в платке, но повязанном как-то небрежно. Гуляли они не торопясь, по солнышку, в первой половине дня.
Постепенно на репетициях «Деревянных коней» я стала подбирать для себя и телогрейку, и белый платок, а сверху еще один — вязаный, и фартук, и кофту — светло-серую — нужно было перебить мой высокий рост разными цветами юбки и кофты (на эскизе у Боровского было коричневое платье в мелкий желтый цветочек). Репетиции шли туго. Сначала решили отказаться от пояснительного авторского текста, который читал Золотухин. Сразу же вся вводная часть характеристика Милентьевны — вылетела. Роли фактически нет, есть тема. А как эту тему играть, на чем строить роль? Как играть видения? Например, с братьями: «Братья-то как услыхали…» На репетициях за моей спиной вставали четыре брата, и каждому было дано по реплике: «— Одно только словечушко, сестра… — Мы дух из Мирона вышибем…» и т. д. Потом и от этого отказались, все перешло в рассказ Тани Жуковой, игравшей невестку. А я братьев «видела» перед собой только мысленно — причем видела не впрямую по рассказу, а по-своему, по своей ниточке воспоминаний. Действие шло как бы в двух измерениях: с одной стороны, реальный рассказ Жуковой, в котором принимали участие все присутствующие на посиделках, а с другой — шли видения-сны Милентьевны, которые зрители должны были прочитать только в моем взгляде, в моей энергетике. У меня было очень мало слов, и слова в основном обращены к зрительному залу, поэтому эти безмолвные воспоминания играть было трудно. Выручало то, что я сижу на авансцене, хорошо освещена, зал маленький и я могла играть «крупным планом». В больших залах эта двойственность и поэтичность пропадали, оставалось литературное чтение. Просто «посиделки».
…Мне хотелось познакомиться с переделкинскими старухами, но как это сделать; я не знала. Не подойти ж к ним и не сказать, что, мол, я играю вот такую же старуху, расскажите мне о своей жизни. Даже если бы они и стали что-то специально рассказывать, вряд ли мне это помогло бы. А как случайно столкнуться с этими бабками, я не знала.
Сидела я как-то в лесу на скамеечке. Солнце. Снег. Морозно. Идут мои старухи. Видимо, устали. А скамейка одна. Заклинаю про себя: ну, садитесь, садитесь. Подошли. Поздоровались — обстоятельно, не торопясь. Сели. Разговорились: кто, откуда, какая погода… Вторая старуха, разговорчивая (у нас в спектакле такую играла Галина Николаевна Власова), выложила мне всю свою жизнь: откуда она, кто дети, где кто живет, муж был пьяницей, сейчас она живет у снохи и т. д. Милентьевна (так я сразу же прозвала другую) сидит тихо и только трет палкой о снег… Болтливая говорит: «Смотри, палка о снег, как о пшенную кашу». А Милентьевна моя вдруг: «А это я крысу чищу». Это была ее первая фраза. Я спрашиваю: «Какую крысу?» Она: «Да вот попала в сарае в капкан крыса, а я палкой-то и вытащила. Теперь целый день эту палку-то и чищу». Я говорю: «Как крысу? Живую крысу?» Она говорит: «Какое живую! Она там сунула морду за едой, а капкан-то сильный. Ну вот и все насмерть». Я говорю: «Жалко крысу-то!» Первый раз она на меня взглянула: «Кого жалко? Крысу?» Я говорю: «Ну так, грех, наверное. Ведь сказано „не убий“. Если не убий, значит, никого не убий. И животных тоже не убий».
Вторая тут же рассказала какую-то свою длинную историю, которая увела нас куда-то на Полтавщину в совершенно другое время и была о другом. Помолчали. А Милентьевна, как будто этой полтавской истории не было, продолжила свое: «Ну, ведь и людей убивают. Вот у нас был старик, странный был старик… Все говорили, что он ясновидящий — не знаю, я это ни разу за ним не замечала. Ну, кормили его, по домам он ходил. Как-то к нам пришел, а у него по всему телу вот такие вши». Она показала полпальца (кстати, руки у нее вроде бы городские, давно не работавшие физически, высохшие. Узкая ладонь, длинные пальцы — то, чего я стеснялась в своих руках в этой роли и все время прятала руки под фартук). «Вот такие, — говорит, — вши.» А мы говорим: «Что же так, дед?» А он говорит:
«Грех убивать-то». И все. И опять замолчала.
Еще я заметила, что моя переделкинская «Милентьевна» и слушала и не слушала. У нее была какая-то своя мысль. Она только тогда смотрела на нас, когда был какой-то вопрос или когда что-то ее удивляло. Но и это очень мельком, а потом опять — вся в себя.
А я в своей Милентьевне на репетициях все время вертелась: кто говорит, на того и смотрю, головой киваю…
…Перед спектаклем «Деревянные кони», пока зрители рассаживались по местам, я сидела за кулисами в костюме моей Милентьевны и вспоминала Переделкино и двух старух, бредущих по дорожке. У одной за спину закинута рука открытой ладонью наружу. Вспоминала мою владимирскую бабушку, как она молилась перед закатом, вспоминала добрые поступки людей, вспоминала свое одинокое детство. Успокаивалась. Шла на сцену.
БОЙТЕСЬ РАВНОДУШНЫХ
Нынешний театр болен. У него и творческие недуги, и организационные внутренние и внешние. Репертуарная традиция требует огромных цехов: осветителей, рабочих сцены, радистов и проч. Остается в силе и традиция постоянных трупп, где половина актеров бездействует. На новые постановки нет денег, а на старые — публика почти не ходит, так что зрительный зал и сцена по количеству действующих лиц зачастую меняются местами.
Помню, как Николай Сергевич Плотников, с которым я одно время общалась (репетировали вместе у Козинцева в «Короле Лире», он — Лира, я — шута. Работа не получилась — Плотникова с инфарктом положили в больницу, снималась другая пара), так вот Плотников рассказывал, как во время войны они играли какой-то массовый спектакль, а в зале было мало народу, и кто-то из актеров пошутил: «Не дрейфь, ребята, нас больше», и как это вызвало у всех на сцене такой параксизм смеха, что пришлось закрыть занавес.
Последнее время появилось много театров и спектаклей кочующих, без собственной площадки. Открываются фестивали театров, у которых нет помещения. И, кстати, поиски новых форм, новых путей театрального искусства на сегодняшний день легче осуществлять в театрах именно такого рода — они гибче по структуре, мобильнее.
Широко развился антрепризный театр, возникший в 90-х годах на волне перестроечной свободы. Театральные агентства, соединив группу известных актеров и режиссера, выпускают спектакль за спектаклем и прокатывают их по городам и весям. Публика любит своих звезд, покупает дорогие билеты, аплодирует, а потом равнодушно забывает эти представления.
Чтобы привлечь зрителя, обычно берутся западные пьесы, приглашаются актеры и режиссеры из других городов и стран. Но результат тот же получаются спектакли-однодневки.
(Я, кстати, одной из первых рискнула броситься в неведомое одиночество. Но если «Федру» в Москве приняли, правда, большей частью — поклонники Виктюка, то следующий спектакль моего театра «А» — «Квартет», где была эпатирующая откровенность текста, змеиная пластика мизансцен, странная двуполость играемых персонажей, изрядно шокировал публику. А критика к моим поискам осталась совсем равнодушной.)
Театр без помещения — тоже коллективный труд многих людей. В каждом спектакле таинственным образом заключены идеи драматурга, режиссера, художника, актеров. Целые жизни этих создателей — с их муками, открытиями, сомнениями, потрясениями, разочарованиями… Куда направлена эта жизнь? К глазам, но это не только зрелище. К ушам, но это не только текст. К разуму, но это не только идеи. К сердцу? Но как? «От сердца к сердцу — только этот путь я выбрала себе, он прям и ясен»…
Хороший театр — всегда порождение своего времени. Если спектакль остается «живым» и через несколько лет, то лишь потому, что он меняется с течением жизни. И умирает, если окостенело застывает на уровне создавшего его времени.
Иногда в спектакле изначально заложены пророческие силы, способные воздействовать на нас глубоко и долго. Таких спектаклей немного, они остаются в памяти людей, в истории театра. Эти шедевры, как и в любом искусстве, нельзя запрограммировать, но почва для их возникновения нужна.
И хотя без хорошего актера нет живого театрального искусства, основной двигатель в театре, конечно, режиссер. Его талант и воля. Очень часто во время репетиций, когда вроде бы и прояснилась уже идея, найдено нужное направление, какая-то неведомая сила вдруг начинает мешать двигаться дальше, громоздит препятствие за препятствием, как технические, так и художественные. Актеры теряются, отступают, некоторые совсем выходят из спектакля, в труппе начинается брожение, и вот именно в этот период очень важна сила «видения» режиссера, его организаторская воля. Окруженный инерцией и непониманием, он упрямо тянет спектакль в гору. Но «один в поле не воин», и в театре тоже. Повторюсь, это коллективное искусство. «Авторских» спектаклей не бывает.
Самое пагубное для театра — равнодушие. Справедливо было сказано: не бойся врагов, не бойся друзей, бойся — равнодушных. Равнодушие — болезнь, смерть. Дети не могут быть равнодушными. Или звери, например. Равнодушие в театре наступает тогда, когда теряется чувствительность — главное в нашем театральном деле. Бывает, конечно, усталость и от этого — временное равнодушие, но такая болезнь излечима. Неприятно в театре лицемерие критики, друзей и товарищей по работе, но если есть голова на плечах, эта болезнь тоже не страшна и носит локальный характер (хотя и может быть хронической). Страшен фанатизм, особенно фанатизм в приверженности к старым идеям, старым работам, когда-то долго пребывавшим на пике успеха. Такой фанатизм тоже форма равнодушия, как ни парадоксально это звучит.
Равнодушие и талант несовместимы. У таланта могут быть шоры, пристрастия, он может чего-то не разглядеть в данную минуту, может быть эгоистичным — но только не равнодушным. Талант может быть даже не умным, если под умом понимать свойство человека оценивать людей и обстоятельства. Но работает интуиция — конкретное и правильное решение можно принять и без понимания. Иногда талантливый человек сам до конца не хочет додумывать всего — таких людей мы знали в старые времена.
Но сейчас настала пора, когда театр должен активнейше включиться в процесс выживания, в процесс возрождения духовной нашей жизни. И на этом пути не может быть художников ранодушных, безразличных, лицемерных, приспосабливающихся к требованию зрителей. Ведь сегодняшний зритель чаще всего, увы, НЕ ПРАВ.
Или у нас сегодня разные интересы? Ведь то, что нравится в театре мне, зрителя оставляет равнодушным, а то, что нравится зрителю — не нравится мне. Так зачем выходить на сцену?..
Меня последнее время часто обвиняют в «западничестве». Мол, все Парижи, Нью-Йорки и Барселоны, а почему бы и наших зрителей не осчастливить своими спектаклями?
Расскажу, как я играла года три назад «Медею» в Алма-Ате. Зал переполнен, играю — в зале тишина, такая, что муха пролетит — слышно. Думаю про себя, как я сегодня хорошо играю и какие умные зрители — все понимают, ведь трагедия. Не шелохнутся. Финал. Слабые аплодисменты меня, надо сказать, удивили — ведь так хорошо все шло. Прибегает в ужасе директор — публика гуляет по фойе и ждет 2-го акта. «Алла Сергеевна, выручайте, играйте дальше, или они потребуют деньги обратно…» Я отказалась. Но на следующий день после последней реплики Медеи «Уходите, скорее уходите, разрушена я мукой…» я незаметно беру приготовленный заранее микрофон, отступаю на середину планшета, осветитель резко дает на меня сверху свет, и я, через микрофон, начинаю весь спектакль заново. Шла сплошная импровизация. Публика кричала «Браво!», а я для себя решила: дальше Урала — ни ногой.
* * *
Очень давно, в начале семидесятых годов, у нас был диалог с Григорием Михайловичем Козинцевым, записанный журналистом Цитриняком для «Литературной газеты». Диалог предполагался между маститым режиссером и молодой актрисой. Тогда я заведомо шла на конфликт и пыталась «вытащить» Григория Михайловича на разговор об отношениях актеров и режиссеров. Уж больно, я помню, мне в то время надоели жалобы режиссеров, что западные актеры играют лучше наших. Мы тогда примитивно защищались, что, мол, в классике на театре и мы не лыком шиты, а в кино у Антониони, Феллини, Бергмана каждый заиграет, что порой главное даже не актерская игра, а точное режиссерское решение. Вы же знаете, как беспомощно выглядит актер, даже очень хороший, в сцене, где все случайно, непродуманно, где невнятная среда, шелуха слов, неосмысленный фон. В такой «замусоренной» атмосфере самые искренние чувства могут показаться фальшью, подлинные слезы — глицерином, любовная сцена, сыгранная на полной отдаче, — карикатурой. А когда атмосфера найдена, актер, выстраивая свою роль, может ожидать именно того результата, которого он добивается.
Григорий Михайлович очень мягко уклонялся от спора и только вскользь упоминал, что, мол, раньше актеры были не просто «любимцы публики», а «властители дум». Это, может, и слишком высокое определение, но в любом случае хочется видеть значительность духовного мира актера.
Я: Вы считаете, что сейчас таких актеров нет?
Козинцев: Актеров такого уровня не так уж часто, к сожалению, увидишь в кино… Скажем, Михаил Ульянов в «Председателе» или Серго Закариадзе в «Отце солдата»…
Я: Григорий Михайлович, простите, что я Вас перебиваю, но тогда давайте говорить как профессионалы: не будем повторять ошибок тех критиков и зрителей, которые путают роль, образ и профессиональный уровень актера. Давайте отделим от актера драматургический материал. Потому что одному повезло и ему достался Трубников, а другому не повезло. Давайте тогда выясним вот что: почему талантливые актеры в театре добиваются успеха гораздо чаще, чем в кинематографе?
Козинцев: Да, образ на экране — это не только работа актера, это общий труд сценариста, режиссера и актера. Это верно. Но не совсем. Вспомним гения русской сцены Щепкина. Мы считаем, что его славу составил Городничий. Увы, нет: как ни странно, посредственный водевиль «Матрос» — Щепкин сыграл в нем за год до «Ревизора»… Конечно, чем лучше драматургия, тем легче раскрыть себя актеру. Тем не менее история театра показывает, что и не на таком уж глубоком материале актеры создавали сценические характеры, обладавшие огромной силой воздействия. Я приведу пример. Одна из знаменитейших фигур мирового театра — Робер Макер, образ, созданный в пьесе под тем же названием французским актером Фредериком-Леметром. Как-то я достал и прочитал пьесу. Это очень слабая мелодрама, которую читать сейчас невозможно. Но в свое время впечатление от игры Фредерика-Леметра было таким, что Робер Макер стал символом целой эпохи. О нем писали философы и поэты. Домье создал серию гравюр, навеянных игрой актера…
Козинцев явно не слушал меня, не понимал, зачем со мною говорить, но не хотел идти на конфликт и рассуждать о современных актерах. Тем не менее я упорно гнула свою линию — конфликт: режиссер — актер. И, нарочно сгущая краски, жаловалась на всесущность режиссерскую, когда режиссер влезает во все детали: не доверяя оператору, строит кадр за оператора; не доверяет художнику, не доверяет актеру… Он учит актера. А актера на съемке научить играть нельзя.
В училищах четыре года способных людей учат те, кто профессионально и специально к этому приспособлен, — педагоги. И тем не менее они все равно не выпускают законченных артистов. А режиссер берет девочку «с улицы», иногда даже без способностей, и думает, что в несколько месяцев может сделать из нее актрису. А когда берет профессионала, то переучивает на свой лад. Один режиссер учит играть роль так, как он ее себе представляет, идя от себя, от своей пластики, голоса, даже интонаций…
Григорий Михайлович стал говорить об актерах-ремесленниках, об отсутствии в кино репетиционного периода, о том, что актер приезжает иногда после суеты своих каждодневных дел на один день, а нужно снимать самый важный кусок… И как таких актеров не поучить?!
Я тут же встала на защиту актерского цеха: мол, введите актера в атмосферу сцены, расскажите о правилах игры, расскажите, какой вам нужен в этой сцене ритм, проходная это сцена или важная… Все остальное актер сделает сам. Это его профессия, за это он получает деньги. Только не делайте его беззащитным, когда он работает вслепую, когда он не знает, какой дубль без него выберет режиссер, руководствуясь не непрерывностью актерского существования в сцене, а логикой выстраивания фильма. Кстати, часто актер, зная это, на всякий случай играет все дубли одинаково, чтобы потом при монтаже как-то сохранить естественность. Или, не зная конечного порядка сцен, на всякий случай нагружает эмоционально почти каждый кусок. Я уж не говорю о молодых, начинающих актерах, прошедших унизительный, тяжелейший отбор-конкурс, когда роль еще не обговорена, а нужно уже играть самый ответственный кусок, не успев привыкнуть ни к специфике производства, ни к людям, с которыми предстоит работать, ни к жанру сценария, если таковой имеется…
Я недавно зашла в павильон. Актер снимался первый раз. Играл главную роль. Ему нужно было просто переложить газету с окна на тумбочку и сказать какую-то незначительную фразу… Словом, проходной кусок, связка. Но не ладилась съемка, что-то там не было готово, группу лихорадило, прибегал директор картины, устраивал скандал, режиссер нервничал. И вся ответственность за эту неразбериху валилась на бедную голову молодого актера. И он уже не просто так, между прочим, перекладывал газету, но с перепугу играл в этом куске всю свою роль и даже больше…
Козинцев: Но ведь в кинематографе бывают положения, когда важна именно молодость. Точность возраста, которую гримом не достигнуть. Поэтому приходится брать человека, который не является профессиональным актером. И здесь дело режиссера в том, чтобы зритель не чувствовал разницы в игре профессионального актера и непрофессионального.
Я: Нет, все равно будут «ножницы», Григорий Михайлович, потому что, взяв непрофессиональных актеров, надо весь фильм решать в этом ключе, а это уже будет другой жанр. Или профессиональный актер должен играть как непрофессионал.
Козинцев вежливо со мной не согласился и замолчал. Видимо, устал от бессмысленности разговора. Мне тоже давно уже не хотелось спорить. Но магнитофонная лента крутилась, и я стала нападать вообще на кино, которое оградило себя рамками «кинематографично — некинематографично», о том, что, например, в козинцевском же фильме «Гамлет» монологи шли за кадром, а если и были на экране, то в сокращенном, «кинематографичном» виде… И уже совершенно запанибрата стала говорить, что и в козинцевских фильмах актеры играют ненамного лучше, чем в остальных, а Смоктуновский Гамлета сыграл намного ниже своих возможностей, хотя эта роль и принесла ему вроде мировую славу, но это уже к делу не относится, и прав, мол, был Бернард Шоу, когда говорил, что роль Гамлета вообще не знает неуспеха…
Сейчас, вспоминая свой разговор с Козинцевым, я поражаюсь больше не своей наглости, потому что робею в основном перед чужими по духу, мироощущению людьми, а Григория Михайловича, несмотря на разницу поколений, на разницу взглядов, вкусов и образования, считала близким себе человеком и робости перед ним не испытывала. Да и встретились мы не в первый раз. Я у него пробовалась в том же «Гамлете» на Офелию, и потом, много позже, репетировала с ним и с Николаем Сергеевичем Плотниковым «Короля Лира». Я просилась на роль шута. Козинцев очень внимательно отнесся к моей просьбе и отдал много времени репетициям. Конечно, и на эту роль я не могла быть утверждена — бралась не за свои дела… Как-то в Париже я посмотрела спектакль Стрелера «Король Лир», где роль шута исполняла женщина (правда, она же одновременно играла и Корделию — такой был режиссерский ход), и подумала, что нельзя женщине играть эту роль, Григорий Михайлович был прав.
Нет, сейчас меня поражает другое: как бездумно я прошла мимо многих прекрасных, умных людей! Почему меня тогда так мало интересовал их внутренний мир, почему я не умела или не хотела различать намерения и результаты — и от этого у меня складывались такие однозначные оценки людей и их поступков? Почему я тогда себя считала — о, ужас! — умной и даже пыталась внушить эту мысль некоторым своим близким друзьям и зрителям? Почему я только сейчас начинаю понимать, как неимоверно трудно играть и снимать классику и что уж роль Гамлета, что бы про нее ни говорил Шоу, одна из самых труднейших ролей, и сыграть в ней даже одну сцену, предположим, сцену с флейтой, — это уже заслуга? Почему я только сейчас понимаю, какую трудную, талантливую жизнь прожил интеллигентнейший и умнейший человек — Григорий Михайлович Козинцев?..
…Совсем недавно, читая его вышедшие в печати дневники, наткнулась на этот день. Он пишет, что не понимал, зачем и о чем шла речь с Демидовой…
АНТУАН ВИТЕЗ. «ФЕДРА»
Когда Вася Катанян дал мне прочитать переписку Эльзы Триоле с Лилей Брик, я обратила внимание, что там часто мелькает имя Антуана Витеза. Особенно в 60-70-е годы. То Витез приезжает к Эльзе с какими-то детьми (у него к этому времени была маленькая дочка), то просто — «заходил Антуан Витез», то — «мы едем смотреть его постановку в Марсель» или — «видели его спектакли „Клоп“ и „Баня“ в Марселе. Очень хорошо и интересно…». И — подробное описание этих спектаклей.
В 1963 году у Арагона вышли два тома «Истории взаимоотношений Франции и СССР», тогда Витез был секретарем Арагона, подбирал иллюстрации к этой «Истории…» и часто ездил в Москву. Он выучил русский язык, переводил Маяковского — не только пьесы, но и стихи. Приходил к Лиле Юрьевне Брик.
В последние же годы, когда Витез приезжал в Москву, Вася Катанян просил его расшифровать некоторые имена, упомянутые в переписке. Витез все помнил: людей, события, годы… Там же, у Васи, он как-то взял с полки том Арагона «Elsa» и прочитал свое любимое стихотворение «Mon sombre amour d'orange amere». Вообще читал он стихи очень хорошо, монотонно, но удивительно красиво.
Собственно, познакомилась я с Витезом намного раньше, во время первых гастролей «Таганки» в Париже. Витез в то время работал в Бобини, на окраине города, куда я с моими новыми французскими друзьями ездила смотреть его экспериментальные спектакли.
13 января 1987 года умер Эфрос, а в феврале мы играли его «Вишневый сад» в театре «Одеон».
Дарить после спектакля цветы во Франции не принято, их приносят в гримерную перед спектаклем. Моя гримерная, как в голливудском фильме про звезд, была вся уставлена корзинами цветов. После спектакля я лихорадочно стирала грим и мчалась куда-нибудь со своими друзьями — в кафе, в ресторан или просто в гости. Я, кстати, давно заметила, что почти все актеры во всех странах после спектакля спешат — неважно куда, может быть, просто домой. Вероятно, в этом сказывается обычная человеческая деликатность — не задерживать после спектакля обслуживающий персонал, или же свойства и привычки чисто профессиональные — скорее сбросить «чужую кожу» и войти в собственную жизнь.
И вот однажды после «Вишневого сада» ко мне в гримерную зашел Антуан Витез. Как он раздражал меня своим многословным разбором «Вишневого сада» и моей игры! Он говорил об эмоциональных перепадах в роли, которые ему по душе, об экзистенциальной атмосфере сегодняшнего театра… Я устала, знала, что внизу меня ждет Боря Заборов с компанией, чтобы идти вместе, в кафе, и поэтому не особенно Витеза слушала — я быстро вытирала грим, отмечая про себя, что по-русски он говорил хорошо — очень жестко, со скороговоркой парижского интеллектуала, но почти без акцента.
После этого знакомства он написал обо мне статью — «Комета, которую надо уметь уловить». Видимо, он назвал ее так потому, что я ужасно спешила и его не слушала… Тогда же, после «Вишневого сада», Витез сказал, что хочет со мной работать. Я такую фразу слышала не раз от западных режиссеров, но, зная, как трудно это воплотить из-за нашей неповоротливой советской системы, и к этому предложению отнеслась как к очередному комплименту.
Но на одном из официальных ужинов продюсер наших гастролей г-н Ламбразо поднял тост за меня и сказал, что дает деньги на любой спектакль любого режиссера в Париже с моим участием. Это было услышано представителями нашего посольства, и в то время им по каким-то своим причинам выгодно было эту идею поддержать.
Директором «Таганки» был Николай Дупак, а Витез был тогда художественным руководителем — по-французски директором — театра «Шайо», в котором проходили первые парижские гастроли «Таганки». И вот мы с Дупаком ходим в «Шайо» на переговоры. Однажды пришли, а у Витеза — сотрясение мозга, он упал, сильно ушибся, но, несмотря на это, слушал нас очень внимательно. Потом сказал, что приедет в Москву, и мы поговорим всерьез. На прощание он подарил мне видеокассету со своими спектаклями.
Его «Антигону» я запомнила надолго…Полулагерные железные кровати вдоль всей сцены, окна с жалюзями, через которые пробивается резкий свет. По этим световым контрастным полосам понимаешь, что все происходит на юге. Иногда жалюзи приподнимаются, и видно, что за окнами идет какая-то другая городская жизнь. По изобразительному ряду, мизансценам и необыкновенной световой партитуре это был театр совершенно иных выразительных средств, чем тот, к которому мы привыкли.
В «Шайо» я посмотрела в его постановке «Свадьбу Фигаро». Во втором акте, в сцене «ночи оошибок», меня поразил свет — странный, мерцающий (софиты с холодным светом были тогда еще неизвестны театру, я их увидела впервые). И движения персонажей были какие-то нереальные, «неправильные». Потом Витез объяснил, что этот эффект создавался за счет медленного вращения большого круга, а внутри него был круг поменьше, который крутился в другую сторону. Когда актеры попадали на эти круги, непонятно было, в какую сторону они идут. Сценографом этого спектакля был грек Яннис Коккос. Главную роль играл знаменитый Фонтана, и мотором спектакля, конечно, был он. Он потом перешел вместе с Витезом в «Комеди Франсез», играл там первые роли (я его видела, например, в Лорензаччо) и, заболев СПИДом, умер, начав репетировать и не успев сыграть Арбенина у Анатолия Васильева в «Маскараде».
Когда мы стали выбирать пьесу для совместной работы, Витез предложил мне прочитать пьесы Мариво, которые уже когда-то ставил. Я прочитала Мариво, русские переводы ужасны, рассчитаны на старый провинциальный театр. И я не очень поверила, что в сочетании жесткого постановочного языка Витеза с этими архаичными переводами может родиться что-то интересное.
Витез приехал в Москву, и я ему об этом сказала. Он согласился и, посмотрев цветаевскую «Федру», которую мы сделали тогда на «Таганке» с Романом Виктюком, предложил: «Давайте тоже поставим „Федру“, но Расина». К тому времени он уже был директором «Комеди Франсез» и пригласил меня во Францию для знакомства с труппой.
Он пытался влить в этот театр новую струю, привел с собой своих учеников — молодых актеров — Митровицу, Фонтана, Валери Древиль. Он решил, что Федру я буду играть на русском — ведь она иностранка среди греков. Хотел построить спектакль на жестком соединении культур, манер исполнения, разных актерских школ и разных языков.
Для того чтобы было удобно репетировать, я должна была выучить французский язык. Я приехала в Париж. Витез оплатил мои занятия французским в специальной школе для иностранцев, оплатил проживание. Каждый вечер я ходила смотреть спектакли «Комеди Франсез», сидела на месте Витеза в первом ряду амфитеатра. Иногда приходил он, с ним смотреть было интереснее — время от времени я могла что-то спрашивать. Ну, например, мы смотрели «Много шума из ничего» — спектакль, поставленный до Витеза. Спектакль — изумительный, куртуазный, с костюмами Джи Вань Ши, выполненными в стиле 20-х годов, — льющиеся крепдешины, аккуратные прически, смокинги.
В «Комеди Франсез» почти всегда бывает два занавеса — один постоянный, а второй — сделанный для конкретного спектакля. И вот в начале спектакля в складках второго, шелкового занавеса, кто-то копошился. А когда он полностью открылся, стало видно, что это один из героев в облике английского лорда целуется со служанкой. Его играл удивительный актер Жак-Люк Боте. Когда по роли он падал на колени, чувствовалось, что у него болят ноги. Я подумала: «Даже не забыл про английскую подагру!» На поклонах он хромал больше, чем в спектакле. Я спросила Витеза: «Это актерский принцип — выходить на поклон в роли?» Мне это понравилось, я и сама часто думала: «Как странно — сыграл трагедию, а потом улыбчиво кланяешься, мол, „спасибо за аплодисменты“.» Но Витез ответил: «У него рак и метастазы в ногах. Он доживает последние дни…» Потом, слава Богу, Жак-Люк Боте играл еще долго, сыграл у Витеза в «Лорензаччо», но мизансцены у него были статичные. Спектакль вообще был статичный.
… Жак-Люк Боте пережил Витеза и вместо умершего Фонтана играл Арбенина в «Маскараде», сидя уже в инвалидной коляске. На рисунок роли и всего спектакля это очень ложилось и воспринималось как дополнительная краска.
Витез всегда работал с художником Яннисом Коккосом. Для его последнего спектакля в «Комеди Франсез» — «Жизнь Галилея» — Коккос придумал удивительное оформление: около левых кулис были декорации средних веков, и действие в средневековых костюмах развивалось только там. Но мимо этих кулис, через всю сцену, по диагонали проходили какие-то странные люди в современных серых плащах. Постепенно действие переходило в центр, где были декорации XIX века, и, наконец, заканчивалось у правой кулисы, среди современных домов. И становилось понятно, что мужчины в серых плащах — это те, кто сегодня следит за наукой и за искусством. Думаю, Антуан Витез воспользовался этим образом, зная не только историю Франции, но и советские дела. Ведь одно время он был членом коммунистической партии Франции, но после XX съезда, как многие на Западе, вышел из нее. Впрочем, думаю, что коммунистом он стал скорее из-за своего философского восприятия жизни.
Когда я посмотрела все спектакли «Комеди Франсез», Витез решил меня познакомить с труппой. За кулисами этого театра намного интереснее, чем в фойе, — ведь здание строилось для Мольера. Все осталось как при Мольере: в репетиционных залах и гостиных стоит мебель того времени, висят картины, на лестницах между этажами стоят мраморные скульптуры знаменитых актеров прошлого. Даже гримерные у sosieters — основных актеров — состоят из двух комнат со старинной мебелью: комната для гримирования и комната для гостей. А в кабинете Витеза — кабинете Мольера — даже таз для умывания XVIII века.
И вот, в одной из гостиных Витез устроил в мою честь прием с шампанским. Пришли только мужчины. Пришел Фонтана, Жак-Люк Боте, пришли все прекрасные актеры «Комеди Франсез», кроме… женщин. Из актрис пришла только Натали Нерваль, но она русского происхождения и в нашей «Федре» должна была играть Кормилицу. Витез понял эту «мизансцену» и сказал: «Алла, в „Комеди Франсез“ „Федра“ не получится. На этой сцене все-таки главное — сосьетеры, а они не хотят пускать чужую актрису на свою сцену. Давайте сначала сделаем это с русскими, а потом перенесем в „Одеон“, где часто играют интернациональные труппы».
Антуан Витез приехал в Россию и с моей подачи в репетиционном зале «Ленкома» отбирал московских молодых актеров. Работал он быстро, потому что его ждали в других местах. И каждый раз он сообщал мне свою занятость, чтобы вместе выбрать отрезок времени для репетиций.
Вот, например, записка Витеза ко мне, написанная еще в 1987 году: «Алле. Моя жизнь: Paul Cloudel „Le Soulier du Saten“. Репетиции с 1 марта 1987 по 9 июня 1987. Авиньон. Торонто. Афины. Сентябрь — „Отелло“ в Монреале. Октябрь, ноябрь, декабрь — работа в „Шайо“. Январь — Брюссель. Но обязательно встретимся в этом году. Художником утвержден Яннис Коккос, композитором — Жорж Апержмис, художником по свету — Патрис Тротье…» В конце он добавляет: «Нам достаточно будет месяца сценических репетиций».
Странно, но я почти не помню распределения ролей. Помню, что Кормилицу должна была играть Натали Нерваль, Ипполита — Дима Певцов и какая-то совсем молоденькая актриса — Арикию. Для Витеза было важно, что Арикия очень молода. Помню, как в перерывах между прослушиваниями Витез приходил ко мне, благо что мой дом был рядом. Я кормила его обедом, а потом он часа полтора спал на диване в моей гостиной. Наша театральная система тогда была очень неповоротлива, все надо было согласовывать, а Витез мог приезжать в Москву не больше чем на неделю. И тогда он работал сутками.
С актерами ему было легко. «Актерские труппы, — говорил он, напоминают французскую актерскую среду, но там, где есть постоянные труппы. Разница только в экономической организации. Во Франции всегда существует опасность безработицы». Он рассказывал, что, когда много лет назад работал в московском Театре сатиры над «Тартюфом», ему достаточно было прочитать воспоминания Гольдони о театре, и все становилось понятно: сердечные отношения и социальное положение. «Ничего не изменилось в театральной среде. Я так же работал, как и во Франции, — говорил он, — правда, Станиславский у вас Бог, принято много времени проводить за столом, происходит литературный разбор, а после этого — длинные репетиции. Но в основном, работают немного. Как и в Париже, актеры бегают по заработкам на радио, в кино и на телевидение. Но есть исключения. Можно делать как Эфрос, который работает не по канонам. А у Плучека я работал как хотел. Советский Союз — хоть и застывшая система, но преимущество в том, что она не функционирует. Но индивидуальная инициатива есть, и это вызывает удивление. Из вашей системы нельзя вырваться, но можно „выкрутиться“. Везде безумный беспорядок. Власть выдыхается, она понимает, что ничего не может сделать, она только контролирует».
Московского «Тартюфа» он потом повторил в Париже. «Моя постановка во Франции — это копия русского „Тартюфа“. Я использовал многие находки русских актеров. В Москве я попросил актеров придумать обыск. И они придумали так: вначале приходили полицейские, которые ломали мебель, начинался обыск ужасный вандализм, и только после этого появлялся главный и говорил, что все арестованы. Во Франции я не мог это повторить буквально, так как не было денег на статистов. Но русские актеры ужасно смеялись, придумывая этот обыск. Людовик XIV и Советский Союз… — лучше всех противостояние актеров и тоталитаризма показал в своем „Тартюфе“ Любимов…»
Идея всегда притягивает талантливых людей — Наталья Шаховская принесла нам новый, прекрасный перевод «Федры». Витез сказал, что этот перевод почти адекватен александрийскому стиху Расина. Яннис Коккос и художник по свету Патрис Тротье сделали макет, гениальный не только по конструкции, но и по свету. Источник света должен был быть один — сверху, такой же яркий, как солнце. Для Витеза было очень важно это сценическое решение. Древнегреческая трагедия, как известно, развивалась от восхода до заката. И вот в начале «Федры» появлялись косые лучи восходящего солнца. Кулис не было, выход один — сзади, в глубине, почти в углу. Я должна была выходить из угла и идти, крадучись, по еще темной стене. Знаменитый монолог Федры — ее обращение к солнцу (ведь она внучка Солнца) произносился, когда свет над головой — в зените. Перед смертью Федры освещалась стена, противоположная той, что была в начале. Солнце садилось, и Федра умирала вместе с ним.
У меня сохранилась кассета, на которую Витез начитал все монологи Федры по-французски. Читал он размеренно, с красивой цезурой в середине. Каждая строчка — накат океанской волны. И даже потом, когда мы решили работать на русском, он хотел сохранить дыхание александрийского стиха, его тяжелую поступь. Он был очень музыкальным человеком — недаром писал стихи, для него было важно найти музыку текста. Мизансцены же диктовала сценография Коккоса.
…Тема Федры меня притягивала к себе давно, задолго до Витеза и еще до начала репетиций с Романом Виктюком. Как-то, когда мы с Высоцким уже репетировали «Игру для двоих» Тенесси Уильямса, я попросила его записать все мужские монологи из «Федры» Расина. Записали мы все это на плохой маленький магнитофон, правда, кто-то из радистов «Таганки» сказал, что запись можно очистить. Мне тогда пришло в голову сделать такой спектакль: на сцене — одна Федра, а другие персонажи существуют только в ее сознании, их голоса звучат в записи. Я в то время и не подозревала о «Медее» Хайиера Мюллера, а ведь у него Медея тоже все действие разговаривает с воображаемым Ясоном. Видимо, эта идея внутреннего монолога героини с другими персонажами носилась в воздухе.
Прошло несколько лет, и я рассказала о своем замысле Витезу, отдала ему пленку с голосом Высоцкого. Она так и осталась у него. После его смерти я спрашивала о ней его близких, но никто ничего не знал. Может быть, ее еще можно найти?..
Как-то раз Витез приехал в Москву с Яннисом Коккосом и художником по свету Патрисом Тротье. Наше Министерство культуры предложило им выбрать для «Федры» любую театральную сцепу. Они посмотрели сфремовский МХАТ, «Ленком» и остановились на Театре Пушкина, решив сыграть «Федру» в память Таирова и Коонен. Потому и макет Коккос сделал как бы треугольный, сильно уходящий в глубину — ведь сцена Театра Пушкина тоже очень глубокая. Но осветительного прибора для «яркого солнца», которое нужно было в спектакле, в Москве не оказалось. Поскольку другом Витеза был тогдашний министр культуры Франции Жак Ланг — договорились, что Министерство культуры Франции подарит Театру им. Пушкина осветительный прибор, который послужит солнцем для «Федры».
Переговоры между двумя министерствами культуры велись долго. У меня в бумагах нашлась записка от Антуана, переданная через французское посольство в Москве:
«23 апреля 1990 года. Как согласовано во время нашей командировки в Москве (12–15 апреля), мы изучили все технические проблемы… Общая сумма не превысит 80 000 франков. С другой стороны, возможен прием „Федры“ Театром Европы. Нами рассматривается также и европейский тур под эгидой союза Европейских Театров, что даст возможность использовать систему бартера, предлагаемую СТД СССР в том случае, если французская сторона возьмет на себя покупку добавочного электрического оборудования.
С дружеским приветом:
Антуан Витез, Яниис Коккос, Патрис Тротье и другие»
Это последняя записка, которую я получила от Витеза. Через семь дней он умер.
Апрель 1990 года. Москва. Накануне отъезда Витеза в Париж была Пасха. Ночью мы пошли в церковь на улице Неждановой — он, Коккос и я. Там я встретила своих друзей — Игоря и Нину Виноградовых. Они пригласили нас к себе — разговляться. Служба шла очень долго, Виноградовы все не уходили, и мне уже было неловко — я понимала, что Витез устал, но у меня дома ничего пасхального не было. Наконец, часа в четыре утра мы поехали на улицу Рылеева к Виноградовым. Храм Христа Спасителя тогда еще не восстановили, и я помню, как люди шли по пустому пространству недавнего бассейна со свечками — они несли зажженные свечки из церквей домой. Это шествие было очень красиво и выглядело очень по-московски. Особенно это понравилось Коккосу, и они с Витезом поговорили о ритуальном действе. Приехали к Виноградовым, разговелись. Потом я отвезла Витеза и Коккоса в гостиницу «Украина». Уже рассвело. Мы попрощались, расцеловались и расстались до 26 июля, когда должны были начаться сценические репетиции.
Последнюю свою фразу при этом прощании я запомнила, потому что она мне аукнулась через месяц. Я сказала Витезу: «Даже если у нас по каким-либо причинам не будет „Федры“ — я счастлива, что судьба меня свела с Вами». Потом, в мае, я уехала в Ялту, а когда вернулась, кто-то мне сказал, что по радио было сообщение: умер Антуан Витез.
Через два месяца, 21 июля 1990 года, в Авиньоне был вечер его памяти. Пригласили и меня, я должна была читать монолог цветаевской Федры. На сцене сидели все актеры, когда-либо работавшие с Витезом, и даже министр культуры Жак Ланг, который тоже раньше был актером. Все выходили на авансцену один за другим и читали свой текст по бумажке. Актер, который только вчера играл «Жизнь Галилея», встал и прочитал свой монолог, глядя в текст. У меня же не было ни листа, ни папки. Я думала: «У кого попросить?!» Но слева от меня сидел Жак Ланг, которого так охраняли, как, наверное, не охраняли даже Сталина, а справа — актриса «Комеди Франсез», которая повернулась ко мне в три четверти, мол: «Зачем здесь эта русская?» В общем, я вышла и начала говорить по-французски, что через 5 дней, 26 июля, мы с Витезом должны были начать репетировать «Федру»… и вдруг слышу откуда-то издалека (а зал огромный) полупьяный французский голос: «Что она говорит? Я ничего не понимаю! Что это за акцент?!» Ведь французы терпеть не могут, когда иностранцы говорят на их языке.
И тогда я, разозлившись, сказала, что прочитаю монолог Федры по-русски. В первом ряду сидели жена и дочь Витеза и Элизабет Леонетти — его неизменная помощница. И вот я стала читать и увидела, как они плачут… Хотя я потом не спала всю ночь и думала: «Вот она, наша русская провинциальность.
Даже в маленьком монологе мы хотим что-то доказать, устроить соревнование, а ведь это вечер памяти! Все читали по бумаге — как это было тактично, отстранение». Утром я встретила Элизабет Леонетти, пожаловалась ей, она говорит: «Что вы, Алла! У нас тоже был однажды случай с Мадлен Рено — она забыла очки, а должна была читать басни Лафонтена. Кто-то побежал к ней домой за очками, кто-то предложил свои. Наконец она надела очки, а потом отвела их и книжку в сторону и прочитала наизусть…»
У меня сохранились все программки спектаклей Витеза, сохранился макет «Федры» со всеми вычислениями и эскизы костюмов (отсутствует почему-то только эскиз костюма Федры). Яннис Коккос стал впоследствии режиссером, и я предложила ему доделать этот спектакль в память о Витезе. Но он понимал, что в России работать сложно, а во Франции он не набрал еще такого авторитета, чтобы работать с русской актрисой. Поэтому он сказал: «Я вам дарю и макет, и эскизы. Можете делать спектакль».
«Федру» на сцене Театра имени Пушкина я все-таки сыграла — «Федру» Цветаевой в постановке Виктюка. На этой сцене проходил фестиваль памяти Таирова и Коонен, я получила главный приз — барельеф. На черном фоне бронзовые профили Коонен и Таирова. Он до сих пор висит у меня на стене, но напоминает, как ни странно, не о работе с Романом Виктюком, которая тоже была очень интересна, а об Антуане Витезе. Видимо, несбывшиеся работы дольше остаются в памяти.
Антуан Витез умер 30 апреля 1990 года в Париже. В воскресенье он был в загородном доме своего отца. Почувствовал себя плохо, позвонил Элизабет Леонетти, потом упал около письменного стола. Он умер в машине «Скорой помощи» по дороге в госпиталь. Ему было 58 лет.
Передо мной — несколько французских газет того времени с соболезнованиями Миттерана, Жака Ширака, Жоржа Марше, Жака Ланга и других. Все писали о том, что Витез был удивительным педагогом, актером, режиссером-новатором и прекрасным переводчиком. Последняя его репетиция в «Комеди Франсез» — «Женитьба» Гоголя.
В «Monde» вышла статья Коллет Годар «Жизнь без отдыха»: «С 1966 года Витез сделал 66 спектаклей. 67-м должна была быть „Федра“ с Аллой Демидовой…»
Но, несмотря ни на что, я считаю, что работа с Антуаном Витезом у меня произошла. Годы общения с ним расширили рамки моего восприятия театра. После его «Антигоны», например, я поняла, что, играя трагедию, можно, с одной стороны, держать современный ритм, а с другой — передавать абсолютную архаику чувств, которая исключает мелкие современные оценки «что хорошо, что плохо».
Витеза можно, безусловно, поставить в один ряд и с Бруком, и со Стрелером, но он более авангарден. В музыке есть Шнитке, Губайдуллина и Денисов. Но я выделяю Денисова, хотя кажется, что Шнитке — глубже. Денисов же острей, авангардней. Антуан Витез стоит в искусстве театра особняком, как и Эдисон Денисов в музыке.
…Я до сих пор смотрю все спектакли «Комеди Франсез» и очень люблю этот театр. Когда я туда прихожу, администраторы пускают меня без билета — в память об Антуане Витезе. Кстати, один из самых интересных современных актеров — Реджип Митровица, которого Витез привел в «Комеди Франсез», ушел из театра после его смерти. Ушел в никуда, потому что не представлял себе «Комеди Франсез» без Витеза. Несколько лет назад в Москве я увидела его моноспектакль «Дневник Нижинского». Он играл гениально. И до прихода публики, и после ее ухода он сидел в образе Нижинского. Подойти к нему было невозможно. Но я все-таки дождалась, когда все ушли… Он так обрадовался! Не потому, что меня увидел, а потому, что нас связывал Антуан Витез.
В сентябре 1999 года, собираясь в Париж, я узнала, что в театре «Шайо» появился спектакль «Диалоги с Антуаном Витезом».
Критик Эмиль Копферман выпустил книгу «Диалоги с Антуаном Витезом». Режиссер Даниэль Сулье сделал из этого спектакль. У одного актера была маска критика, другой (сам Даниэль Сулье) внешне был похож на Витеза. Но Витез был и проще, и умнее — он был парижским интеллектуалом, причислял себя к мировой культуре. Актер же, который его играл, был умен, но не был интеллектуалом.
…Я сидела и вспоминала, как мы беседовалили с Витезом о том, что такое интеллектуальный актер. И я тогда соглашалась, что, когда играешь — ум не нужен, это другое состояние, как у Пушкина: душа «трепещет и звучит». Когда начинается эта вибрация — тогда и происходит игра, а умный ты или нет, в этот момент совершенно неважно. Но до этого, когда разбираешь роль, помимо интуиции, нужно еще и знание. И тут ум не помешает.
Конечно, это спектакль для профессионалов. Скорее даже — открытый урок. Приятельницы, с которыми я пошла, — спали, а мне было очень интересно. Я первый раз, зная хорошо человека, смотрела, как его воплотили на сцене. Одно время для меня наслаивалось на другое, одни слова — на другие, память уходила в такие глубины! Поэтому для меня этот спектакль уникален. Ради него одного стоило ехать в Париж. После спектакля мы задержались в фойе — я покупала книжку, и вдруг вышли эти два актера. Я вообще терпеть не могу подходить к актерам после игры, считаю это бестактностью, но тут — не удержалась, сказала Даниэлю Сулье, что знала Антуана Витеза. Он слушал вполуха, видимо, торопился. Потом я что-то еще сказала и он вдруг: «А, так вы должны были играть Федру? Вы — русская?» Я: «Да, я русская». И он сразу переменился. Для меня это был знак от Витеза…
Эмиль Копферман записывал эти диалоги с Антуаном Витезом в 1981 году, но вышла книжка только сейчас. Хорошо бы, конечно, ее перевести на русский язык, но пока соберутся… Вот несколько отрывков в моем несовершенном переводе:
«В театральной системе по-прежнему существует старый порок, и никакой талант, никакая энергия его не преодолевает. Порок этот — презрение к поискам чистого искусства. И поэтому Театр брошен на произвол судьбы, и если он подыхает, то государства это не касается. Поэтому приходится много заниматься административными делами, но, когда я позанимаюсь ими хотя бы два часа, я уже не могу работать. Мне приходится без конца писать письма и т. д. В Театре много говорят о деньгах, но никогда не понимают отношений между теми, кто дает деньги, и теми, кто создает Театр. Это вечный конфликт между Театром и Властью, и из него нет выхода. Быть свободным? — но артист испытывает постоянную неуверенность, так как он бесправен.
Чтобы найти деньги и, например, покрасить потолок в „Шайо“, нужно иметь успех. Единственная наша гарантия — наша оригинальность, и тут нам ничего не поможет, даже пресса, — только мы сами».
«Когда остается 10 дней до начала репетиций, я очень нервничаю, хотя понимаю, что нервозность и неуверенность — это нормально. Но каждый раз все внове. Я боюсь, что в момент, когда мне нужно будет что-то сказать или придумать, я ничего не смогу, все исчезнет. Роль администратора убивает во мне художника. Но я жду репетиций, они меня успокаивают. Репетиции — это единственное время, когда я любому могу сказать, что не могу его видеть…» «Я не люблю застольный период. Работа за столом придумана Станиславским, и ее практикуют во всем мире. За столом создается глобальный образ актера это хорошо, я не отрицаю смысла этой работы, но уверен, что могу обойтись без этого. Существует мнение, что актер бескультурен, необразован, поэтому с ним надо работать за столом. Станиславский боролся против клише на сцене. Работа за столом ставила задачу разбить эти клише, нужно было преодолеть актерское бескультурие и незнание (так как театр всегда был бескультурен). Я не хочу умалять Станиславского, но на практике можно работать над актером вместе с актером. Надо исходить из самого факта присутствия на сцене. Актер на сцене — и для меня (сознательно или бессознательно) он уже в работе. Напрасный труд делать из актера интеллектуала. Стыдно учить актера истории, например: „Вы что, не знаете, что была 30-летняя война, и вы хотите играть мамашу Кураж?..“ Настоящие актеры приобретают культуру в процессе работы. Считается, что драматург и режиссер изначально являются носителями этой культуры только потому, что приносят проект работы. Актеры же, по определению, занимаются трудом, который ничего не имеет общего с интеллектуальностью. Одни интеллектуальны, другие — нет, но это не важно, их профессия в другом. Надо не бояться сказать, даже если обвинят в реакционности, что между интеллектуалом и артистом существует большая разница. Опасно относиться к актерам как к интеллектуалам, но так же опасно говорить, что актеры бескультурны. Именно против этого восставали Станиславский, Брехт и другие „левые“ театральные гении».
«Для меня совершенно очевидно, что не существует связи между театроведом и актером и между музыковедом и музыкантом. Хотя и актер, и музыкант может быть „ведом“. Быть образованным, умным не мешает актеру, но эта культура будет мешать, если она не питает саму его работу. Безусловно, работа актера — это умственная работа, но не интеллектуальная. В процессе выбора между одним или другим жестом отражается знание истории, политики и т. д. Актер сам должен выбрать путь — и в этом заключается его умственная работа. Пойти направо или налево — это уже выбор, роль режиссера — быть внимательным к этому процессу. Каждый раз делается выбор, и каждый раз в результате этого выбора история театра переделывается вновь».
«В консерватории в этом году я начал с того, с чего начинаю каждый год — беру какую-нибудь пьесу, и мы делаем ее от начала до конца. „Три сестры“, „Вишневый сад“, „Триумф любви“… в этом году я взял „Мамашу Кураж“. Сами студенты распределяют роли, или я их назначаю, но это все случайно, это не важно. Мы начинаем сначала, не обходя никакие трудности в маленьких сценах, которые обычно опускают в школе. Начинаем. Я импровизирую — делаю ошибки, потом их исправляю. Сегодня утром, например, мы сделали три страницы. И в следующий раз мы их проиграем, но, может быть, сменим исполнителей. К концу года каждый из студентов проигрывает почти все роли пьесы. Пьеса поставлена, но ее нельзя увидеть. Ее можно увидеть только в воспоминаниях участников.
Я иногда объясняю, почему делаю так или иначе. Поэтому учеба происходит уже при анализе пьесы (например, не изучают Мольера, но по „Тартюфу“ изучается весь Мольер).
В процессе обучения мы ломаем все то, что только что сделали. И мне это нравится. В этом — эфемерность театра. И я люблю театр за это. В любом случае все остается в коллективной памяти. Нам же достается удовольствие от того, что мы создаем эту иллюзию жизни».
2000 год, 28 января. Вечером зашел Анатолий Васильев. Рассказывал про строительство своего театра, которое хотят закончить к театральной Олимпиаде 2001 года. Говорил об административных заботах и как эти заботы убивают в нем художника. Прочитала ему цитаты из книги Витеза. Он посмеялся схожести. Хотя они абсолютно разные…
ПИСЬМО К N
… Вы очень интересно написали о трансформации интеллигенции за последнее время. Но мне кажется, что интеллигенция, если, как Вы пишете, за этим понимать мыслящего, образованного человека, всегда была конформистична.
Для меня интеллигент — это человек, для которого в первую очередь существуют моральные законы. Если они существуют, то человек не меняется независимо от времени. А если для него эти законы никогда не существовали, значит, он никогда не был интеллигентом, а только рядился в эту маску. Поэтому вопрос можно поставить так: «Изменилась ли маска интеллигенции?» Да, изменилась. И не в лучшую сторону, потому что в лучшую сторону человек может измениться только изнутри.
Художник всегда стоит в оппозиции к существующим рамкам. Потому что цель художника — раздвигать эти рамки. Рамки привычного, рамки штампа, рамки творческие, социальные — словом, какие угодно.
Авангардные идеи никогда не воспринимаются массой. Эту схему можно представить в виде треугольника. Масса — где-то в основании треугольника, а пик — всегда художник. И пока масса дорастет в сознании до этого пика, появится другой пик — выше. Кстати, эта схема придумана не мной, а Кандинским.
…Вы ставите интеллигенцию перед дилеммой «молчать или кричать» в отношениях с властью. Но опять-таки под интеллигенцией подразумеваете только слой образованных людей.
…Что же касается молчания, то Андрей Тарковский в фильме «Андрей Рублев» нашел очень точную форму выражения этой проблемы. Гениальный художник живет в страшное время, когда кругом кровь, насилие, агрессия, и он дает себе обет молчания, невмешательства. Потому как если вмешиваться в политику — не надо быть художником. Но, став молчальником, он не может работать, творить именно потому, что рядом течет кровь.
Вмешиваться или не вмешиваться, каждый решает сам. Я в политику никогда не вмешивалась. Но есть какие-то внутренние принципы, согласно которым я принимаю для себя то или иное решение.
Это касается, кстати, и «Таганки». Я всегда была немножко в стороне от всего, что раньше происходило на «Таганке», и даже была в некоторой, может быть, внутренней оппозиции. Мне что-то там всегда не нравилось. Считала, что язык таганской формы — публицистически открытого разговора со зрителем исчерпал себя к концу семидесятых годов. Надо было находить новые театральные формы, ну и так далее. Но Вы же знаете, что, когда встал вопрос раздела «Таганки», я приняла, естественно, сторону Любимова, который создал этот театр. Я не могла не вмешаться.
Все эти аргументы, что Любимов большую часть времени проводит за границей, — досужие разговоры! Очень многие художники, став известными, проводят на Западе отнюдь не мало времени. Если вас не приглашают работать за границу — значит, вы мало того стоите. Они в этом смысле очень чуют талант в отличие от нас. Так вышло, что семья Любимова там живет. Тем не менее он очень много времени проводит здесь, за последнее время на «Таганке» состоялись две очень серьезные премьеры — «Электра» и «Доктор Живаго». Скандал на «Таганке» я считаю самым некрасивым событием в истории театра. Мейерхольда тоже, кстати, как бы закрывали изнутри, там тоже была группа недовольных актеров во главе с Царевым и Яншиным, которые писали статьи в газеты и письма «наверх». И в конце концов, «идя навстречу трудящимся», театр закрыли, а Мастера расстреляли… В творческих коллективах всегда много недовольных. Другое дело — кто пользуется этим недовольством — власть или люди, которые хотят употребить его в своих интересах.
Вы (как и многие мои знакомые) говорите: «Пусть, в конце концов, будут два театра!» А каким Вы видите существование двух театров под одной крышей?! Сетуете, что еще не видели ни «Живаго», ни «Электру», — значит, никогда не увидите. Потому что и «Федра», и «Три сестры», и «Электра», и «Борис Годунов», и «Доктор Живаго», и «Пир во время чумы» — сделаны специально для новой сцены, которую и отобрали губенковцы. Кстати, группа Губенко не имеет ни одного спектакля.
Недавно один депутат сказал мне: «Ну почему бы не дать им попробовать?» — «Хорошо, — соглашаюсь, — давайте мы с вами тоже попробуем. Конфликт в Большом театре, может быть, посильнее и посерьезнее нашего… Вот и попробуем с вами спеть „Бориса Годунова“. Вы — Бориса, я — Марину Мнишек на сцене Большого. Куда актеров Большого? Да пускай куда хотят!.. Мы тоже хотим попробовать!»
Опять же я не за то, чтобы не давать попробовать. Но — на чистом месте. А места в искусстве действительно всем хватит. Всегда идет борьба только за завоеванное. И борются именно те, кто не может сам себе найти место, эту нишу в искусстве. Человек же, который для себя в творчестве его определил, свободен. Ему ничего не страшно…
Все равно время вымывает таланты дьяволов. Они — сиюминутны. Остается светлый талант, талант от Бога, энергия с положительным зарядом.
Вы спрашиваете про Театр «А». Существуем мы как бы на западный манер, нет постоянной труппы. Собираемся компанией, играем спектакль, а потом этот спектакль уходит. Но тем не менее все равно очарование репертуарного театра над нами висит, и мы стараемся сохранять эти спектакли «про запас». Так, например, в репертуаре остается «Федра». Откровенно говоря, я бы ее уже оставила — и время ушло, и, как сейчас понимаю, это надо было делать по-другому. Тем не менее в каких-то гастрольных поездках «Федру» играть иногда будем. Как и «Квартет». Сейчас возили этот спектакль в Токио. Потом повезем в Салоники и т. д. В основном Театр «А» существует на гастрольные деньги. Потому что здесь у нас нет ни сценической площадки, ни спонсоров… А в будущем я думаю о «Медее»…
Простите мне это сумбурное письмо. А ведь хотела только поговорить об интеллигентности… Но может быть, наши таганские «разборки» — лишь пример трансформации этого понятия.
Говорят, что понятие «интеллигенция» есть только в русском языке. И по-разному его трактовали умные люди. Кто интеллигенцию не любил — те нагружали его негативной окраской, и наоборот.
Но вот, например, понятия «civilise» — нет в нашей жизни. Может быть, это и внешнее проявление поведения человека, зависящее от воспитания и условий жизни общества, но отсутствие этого понятия удручает. Civilise — это внимание к ближнему, сдержанность в манерах, допущение противоположной точки зрения, признание достоинства другого и н а л и ч и е своего, да мало ли чего…
Интересно: интеллигентность и civilise соприкасаются или нет? Простите мне эти детские вопросы.
4 ноября 1994 годаИЛЬЯ АВЕРБАХ
Мне не неожиданно позвонили из Ленинграда и попросили приехать на пробы в группу Авербаха. На «Ленфильме» я до этого была только у Козинцева пробовалась на Офелию. Это было время, когда я сама хотела играть Гамлета. Но побыть в кадре со Смоктуновским очень хотелось, да и все, что касалось «Гамлета», меня тогда интересовало. И поэтому, без всякой надежды на успех, поехала надевать на себя маску Офелии. Прошло несколько лет, и теперь опять «Ленфильм», опять Смоктуновский, но уже в картине Авербаха «Степень риска».
Меня утвердили, но со Смоктуновским я тогда в кадре ни разу не встретилась, хоть он и играл моего мужа. Вернее — я его жену. Но зато постоянно на площадке была с Борисом Николаевичем Ливановым. Он играл крупного профессора, врача-кардиолога, но ему не надо было ничего играть, потому что он и в жизни был «генералом». Но это внешне. А так, на площадке, между съемками — постоянные рассказы, смех, анекдоты, юмор, ухаживание.
И как противоположность Ливанову — Илья Авербах, режиссер этого фильма. Это была его первая работа. Сдержанный, молчаливый — «ленинградец», вернее, петербуржец (хотя тогда такого слова в нашей речи не было).
«Степень риска». Сценарий был написан по повести Амосова — знаменитого киевского кардиолога. Это были записки хирурга — о нравственном кризисе и поиске выхода из этого кризиса. Но в фильме нравственный, духовный потенциал ложился на плечи всех трех героев — хирурга перед сложнейшей операцией (Ливанов), физика, который идет на эту операцию (Смоктуновский), и меня — жены, ожидающей результата этой операции. Извечные вопросы о жизни и смерти, об отношениях между людьми, об отношении к своему делу, о нравственном долге. Фильм вышел в 1969 году.
После фильма мне судьба подарила долгое общение с Авербахом. Иногда мы вместе отдыхали в Репино: он со своей женой Наташей Рязанцевой и я с Володей Валуцким. Гуляли, играли во всевозможные игры. Авербах в отличие от нас был спортивным человеком. Он играл в баскетбол, проповедовал английский образ жизни и себя в шутку называл «эсквайром». Курил сигары, потом перешел на трубку. «Джентльмен с головы до ног», — сказал Блок о Гумилеве. Авербах был из того ряда.
Однажды в Репино, в Доме творчества кинематографистов, заказывая меню на следующий день, мы наткнулись на совершенно новые названия, и особенно нас поразило, что наутро будет «земниекубракатис». Из нас никто не ходил завтракать, но тут мы все четверо заказали это заморское блюдо и назавтра пришли утром в столовую. Оказалось, что блюдо с заморским названием — это все, что осталось от ужина, сваленное на большую сковородку и сверху политое яичницей. С тех пор, когда я дома готовлю что-нибудь непонятно-простое, мы зовем это кушанье «земниекубракатис» (а ввел название пришедший на работу в Репино новый шеф-повар, уволенный за пьянство из гостиницы «Астория»). Авербах очень хорошо слушал, хотя сам любил много говорить. И когда в разговоре возникало что-то неудобоваримое, он говорил: «Ну, это земниекубракатис».
Когда он приезжал в Москву, то часто бывал у нас, потому что у него с Володей были нескончаемые планы работ. По разным причинам эти работы никогда не доходили до результата. Они, например, втроем — Наташа, Володя и Илья решили написать сценарий к фильму, который условно назвали «Умняга». Главную роль, конечно, должна была играть я. И черты героини — одинокой редакторши, все понимающей, но забывшей в своем всезнайстве о, мягко говоря, «женственности», — они шутя переносили на меня. Да и вообще меня всерьез к своей работе не подпускали. Они писали друг другу шутливые, смешные письма, они перезванивались, а я ведь «артистка» — что с меня возьмешь. И когда звонил Авербах и спрашивал: «Как дела?» — я отвечала: «Прекрасно». Он очень серьезно удивлялся и спрашивал: «А почему?..»
У каждого из нас есть какое-нибудь любимое словечко — у меня, например, «гениально», а у Авербаха — «прелестно». По любому случаю он всегда прибавлял это свое любимое «прелестно».
Когда я приезжала в Ленинград, то любила заходить к ним в гости. Мне нравилась их тесная, с красной мебелью квартира. Огромный балкон, вернее, терраса, где Ксения Владимировна разводила цветы. Ксения Владимировна Куракина — мать Ильи, актриса, очень красивая женщина с ухоженными седыми волосами, с маникюром, с манерностью петербуржской дамы. И уклад семьи их мне нравился — с обедом и ужином в положенные часы, с «литературными» разговорами за чаем — то, чего у меня никогда не было.
«Джентльменство» Авербаха — его воспитанность, благородство, образованность, доброжелательность, остроумие, — я думаю, хоть и были его отличительной чертой от нас, московских, но не главной. Главное — он был интеллигентом со всеми отсюда вытекающими последствиями: и перепады настроения, и неуверенность в себе, и самоедство, и ненасытность знания — понять, что «за чертой».
У Авербаха было особое свойство — он умел заключать в себе целый мир самых противоположных интересов, умел отдаваться каждому всецело и с легкостью переходить от одного к другому. Он общался на равных с самыми разными по профессии и по интересам людьми. Но это не была всеядность, а какая-то духовная ненасытность, вернее, неуспокоенность, доходящая иногда до смятения души… На протяжении двадцати лет, что я его знала, состояние встревоженности у него росло. Хотя внешне это могло никак не выражаться.
Я отчетливо помню осенний солнечный день в Пушкино, куда мы поехали гулять с ним, его дочерью и моим мужем. И хоть день по внешним приметам был неудачный: при выходе из парка сторож грубо отобрал желтые листья, которые мы с Машей собирали на земле, нас не пускали в ресторан обедать, захлопнулась и не открывалась дверь машины (ключ остался внутри) и еще что-то — на такие «мелочи жизни» часто реагируешь излишне болезненно, но в тот день они нас почему-то не трогали. Мы смеялись до слез, бегали, читали стихи, у Авербаха было удивительно спокойное, тихое и доброе выражение лица. Хотя тогда, я знала, он переживал сильный душевный кризис.
Странная причуда памяти: чаще я вспоминаю Илью в необычном для него тихом состоянии.
«Степень риска». Снимался кусок в больнице. Как правило, все долго привыкают к новой обстановке, на съемках царит хаос. Но, возможно, оттого, что Авербах раньше работал врачом и для него все здесь было привычно, он так быстро и мудро распределил обязанности, что уже через час вся ленфильмовская группа абсолютно естественно влилась в интерьер больницы — все ходили в белых халатах, не было суеты, каждый занимался своим делом, а Авербах сидел в уголке в не свойственной ему скрюченной позе (у него болела язва) и тихо разбирал со мной и Ливановым сцену, которую должны были снимать…
Для меня понятие интеллигентности — в особом качестве души. Интеллигентность не передается по наследству, она не определяется профессией, не приобретается образованием. Это способ мироощущения. Для меня интеллигентами были Радищев («Я взглянул окрест — душа моя страданиями человечества уязвлена стала»), Пушкин, Блок, ополченцы 41-го года. Илья Авербах был абсолютным интеллигентом. Во всех его поступках, в работе, в общении с людьми проявлялось то, что накапливалось обществом в течение многих веков, то, что мы называем культурой. Этим определялись его мысли, чувства, человеческое достоинство, умение понять другого, внутреннее богатство его личности, уровень этического и эстетического развития, постоянное самоусовершенствование души.
С некоторыми людьми подолгу работаешь, общаешься в быту — они уходят, и ты их даже не вспоминаешь. С другими видишься редко, но их присутствие ощущаешь постоянно, на них внутренне оглядываешься, проверяешь свои поступки по их реакции. Они уходят из жизни, но остаются с нами.
Как весело мы начинали, полные сил и творческих планов.
Только вот в этой скачке теряем мы лучших товарищей, На скаку не заметив, что рядом товарищей нет.Эти строчки Высоцкий написал в 66-м году, предвосхитив на десятилетия потери нашего поколения: Гена Шпаликов, Лариса Шепитько, Юра Визбор, Василий Шукшин, Олег Даль, Володя Высоцкий, Илья Авербах…
АНДРЕЙ ТАРКОВСКИЙ
…Твердое, короткое рукопожатие.
Яркое лидерство в разговоре.
Быстрая порывистая речь.
В разговоре с ним не может быть диалога — слишком поглощен своим «я», сосредоточен на своих чувствах и мыслях — поэтому нет дела и неинтересно слушать о поступках и поведении других. По моим наблюдениям, это бывает у людей, у которых было трудное детство и, видимо, для самосохранения выработался эгоизм. И этот эгоизм детства так аукается в общении.
Нетерпелив.
Прямота и исключительная честность.
Язва, но не любит лечиться, не любит таблетки.
Природная интуиция и огромный творческий потенциал позволяют ему думать, что он любое дело может сделать лучше, чем другие.
Нет дипломатии и хитрости.
Иногда — излишняя, раздражающая прямота.
Его натуре чуждо всякое притворство.
Вспыльчив. Вспышки гнева молниеносны. Но незлопамятен.
Упорство и сила духа рядом с поэтичностью, верой в чудеса.
Всегда верит в свою счастливую звезду (я видела фотографию, прокомментированную мне Отаром, снятую в Каннах: стоят спокойный Отар Иоселиани и Тарковский, как обычно, нервно грызущий ногти. Как только в зале объявили, что первый приз фестиваля получил не он, а Брессон, крикнул: «Лариса, собирай чемодан!»)
С возрастом стал спокойнее, мудрее и серьезнее. Терпимее.
Вера в чудо часто приводит к разочарованию. У него это ненадолго. Постоянная внутренняя вера с счастливый конец.
Резко переходит из одного состояния в другое. Нетерпелив, решителен, самоуверен, романтичен.
Выдумывает людей и хочет их видеть такими.
С женой Ларисой всю жизнь на «Вы». Это, конечно, его идея. Она ему подыгрывает.
Под самоуверенностью и некоторой агрессивностью скрывается, очевидно, комплекс неполноценности.
Чувство превосходства над всеми. Над начальством — особенно, что, конечно, им не нравится.
Чтобы быть его другом, надо научиться видеть мир его глазами. Любить то, что он любит, и ненавидеть его врагов.
1987 год, 5 января. Письмо от Джеммы Салем: «Сегодня хоронят Андрея Тарковского на русском кладбище под Парижем. Должны были перевезти в Москву, для чего был заказан цинковый гроб, но Лариса решила по-своему. Перед смертью Андрея они с Ларисой приняли французское подданство — чтобы Лариса здесь получала пенсию».
В начале февраля восемьдесят седьмого года Театр на Таганке был на гастролях в Париже. Многие наши актеры сразу же поехали на русское кладбище Сен-Женевьев-де-Буа, чтобы поклониться могиле Андрея Тарковского. У меня же были кое-какие московские поручения к Ларисе Тарковской, и я решила, что, встретившись с ней, мы вместе и съездим туда. С ней мы не встретились. Но это другая история…
В первый же день я помчалась смотреть «Жертвоприношение». Мы сидели с Джеммой Салем в небольшом уютном зале недалеко от театра «Одеон», где проходили наши гастроли; в зале, кроме нас, было еще несколько человек, случайно забредших на этот поздний сеанс, чтобы отогреться в уютных мягких креслах. Начало сеанса затягивалось, потому что где-то там — в администрации — решалось: стоит крутить кино для такого маленького количества народа? Наконец все-таки смилостивились — не отдавать же деньги обратно, — картина началась. Я смотрела этот фильм и плакала от наслаждения и соучастия и думала, что бы творилось в Москве, какие бы длинные очереди стояли перед кинотеатром! В то время имя Тарковского было под каким-то непонятным полузапретом, и только иногда удавалось посмотреть его старые картины где-нибудь в Беляево-Богородском — в темных залах старых Домов культуры окраины Москвы.
…Уже к концу гастролей, отыграв «Вишневый сад», я сговорилась поехать на могилу Тарковского с Виктором Платоновичем Некрасовым и с нашим общим приятелем — французским физиком Андреем Павловичем, с которым долго ждали Некрасова в его любимом кафе «Монпарнас». Наконец он появился, здороваясь на ходу с официантами и завсегдатаями этого кафе. Мы еще немножко посидели вместе, поговорили о московских и французских новостях, Некрасов выпил свою порцию пива, и мы двинулись в путь.
Сен-Женевьев-де-Буа — это небольшой городок километрах в пятидесяти от Парижа. По дороге Некрасов рассказывал о похоронах Тарковского, о роскошном черном наряде и шляпе с вуалью вдовы, об отпевании в небольшой русской церкви, о Ростроповиче, который играл на виолончели на паперти, об освященной земле в серебряной чаше, которую, зачерпывая серебряной ложкой, бросали в могилу, о быстроте самих похорон без плача и русского надрыва, о том, как быстро все разъезжались, «может быть, поджимал короткий зимний день», — благосклонно добавил он. Сам Некрасов на похоронах не был, рассказывал с чужих слов. Но, как всегда, рассказывал интересно, немного зло, остроумно пересыпая свою речь словами, как говорят, нелитературными и тем не менее существующими в словаре Даля.
Я же вспоминала Андрея начала шестидесятых, когда он нас удивлял то первыми в Москве джинсами, то какой-то необычной парижской клетчатой кепочкой, то ярким кашне, небрежно переброшенным через плечо. К костюму у него было отношение особое.
Когда я у него снималась в «Зеркале» в небольшой роли, Андрей дотошно подбирал в костюмерной мне костюм. Мы перепробовали массу вариантов, но его все что-то не устраивало. Я сама люблю подолгу возиться с костюмом в роли, но даже я взмолилась: «Что же Вы все-таки хотите, Андрей?» Он не мог объяснить и только просил: ну, может быть, еще вот эту кофточку попробуем или еще вот эту камею приколем. В конце концов мы остановились на блузке с ручной вышивкой, поверх которой накинута вязаная вытянувшаяся старая кофта. Потом я поняла эту дотошность — мне показали фотографию 30-х годов. На ней мать Андрея (Рита Терехова на нее похожа) и ее подруга Лиза, прототип моей героини, полная высокая женщина с гладко зачесанными назад волосами. Я на нее совершенно не походила. Почему Андрей хотел, чтобы именно я играла эту роль, — до сих пор не пойму.
Еще раньше — в «Андрее Рублеве» — он мне предлагал играть Дурочку, но я тогда была слишком глупа, чтобы соглашаться играть Дурочку, да еще для меня совсем невозможное — писать в кадре.
В «Солярисе» Андрей опять стал меня уговаривать играть у него. Сделали кинопробу. Мы тогда много спорили: где грань, перейдя которую героиня «Соляриса» из фантома превращается в человека, научается чувствовать. Андрей говорил, что эта грань — в страдании, а я считала, что в юморе, самоиронии. Обнаружив, например, что на ее платье сзади нет пуговиц, она должна рассмеяться. Научиться смеяться и через это — очеловечиться. Ведь страдают и животные, а чувством самоиронии наделен только человек…
Пробы прошли хорошо, и мы решили работать вместе. Но меня не утвердил худсовет «Мосфильма» — я была тогда в «черных списках».
Когда Андрей приступил к работе над «Зеркалом», мне принесли один из первых вариантов сценария. Предполагалось, что Тарковский будет снимать свою мать, где в кадре — бесконечные вопросы к ней: от «Почему ты не вышла снова замуж, когда нас оставил отец?» до «Будет ли третья мировая война?». А в ее ответах, воспоминаниях возникают сцены, в которых мне предлагалось играть ее в разные периоды жизни. Но в это время Тарковскому привели на пробы Риту Терехову, которая была удивительно похожа на его мать в юности. И Андрей с Александром Мишариным, соавтором сценария, все переписали. Сценарий стал абсолютно игровым. Главная роль была у Риты, а мне достался эпизод.
(Много лет спустя прочитала в «Мартирологе» Андрея Тарковского о подготовке «Зеркала»: «Хочу работать с Демидовой. Но нет… Она слишком чувствует себя хозяйкой на площадке…»)
Работать с Тарковским очень хотелось. Я бросала все свои дела и мчалась на студию. «Зеркало», например, долго не принимали. Я раза два или три летала из других городов в Москву, чтобы переозвучить какое-нибудь одно слово. Не зная, как играть, я всегда немного «подпускаю слезу». Снималась, например, сцена в типографии.
Сначала мой крупный план, потом Риты Тереховой. У меня не получалось. Я не могла точно понять, что от меня нужно. Стала плакать. Тарковский сказал хорошо. Сняли. План Риты. Тоже мучилась. Заплакала — сняли. Хорошо. Мы потом с ней посмеялись над этим и рассказали Андрею. Он задумался, занялся другим делом, а потом неожиданно — так, что другие даже и не поняли, к чему это он: «А вы заметили, что в кино интереснее начало слез, а в театре — последствие, вернее, задержка их?»
В этой же сцене снимали мой монолог о Достоевском, о капитане Лебядкине, о самоедстве, самосжигании. «Проклятые вопросы» Достоевского решаются в тридцать седьмом году, когда и происходила эта сцена, а в то время само имя Достоевского нельзя было произносить. Для Андрея все это было очень важно. Вечные вопросы о Боге, о бессмертии, о месте в жизни. Откуда мы? Ведь «Зеркало» — это фильм в первую очередь о тех духовных ценностях, которые унаследовало наше поколение интеллигенции от предыдущего, перенесшего трудные времена, войны и лишения, но сохранившего и передавшего нам духовную ответственность.
Такие вопросы Тарковский средствами кино пытался передать зрителю только через себя, через самопознание и самоопределение. Этот самоанализ рождался в муках и боли, ибо взваливал он на себя решение неразрешимых человеческих вопросов. Отсюда поиски спасения, искупления, жертвоприношения. Тарковский в конце концов принес в жертву свою жизнь.
…Мы подъехали к воротам кладбища, когда уже начало смеркаться. Калитка была еще открыта. При входе — небольшая ухоженная русская церковь. Никого не было видно. Мы были одни. Кладбище, по русским понятиям, небольшое. С тесными рядами могил. Без привычных русских оград, но с такими знакомыми и любимыми русскими именами на памятниках: Бунин, Добужинский, Мережковский, Ремизов, Сомов, Коровин, Германова, Зайцев… История русской культуры. Мы разбрелись по кладбищу в поисках могилы Тарковского, и я, натыкаясь на всем известные имена, думала, что Андрей лежит не в такой уж плохой компании.
Отчетливо помню тот день, давным-давно, когда я еще пробовалась у него в «Солярисе». По какой-то витиеватой ассоциации разговора о том, что такое смерть, мы поделились каждый своим желанием, где бы он хотел лежать после смерти. Я тогда сказала, что хотела бы лежать рядом в Донском монастыре, около стены которого захоронена первая Демидова, жена того знаменитого уральского купца. Андрей возразил: «Нет, я не хочу быть рядом с кем-то, я хочу лежать на открытом месте в Тарусе». Мы с ним поговорили о Цветаевой, которая тоже хотела быть похороненной в Тарусе и что там лежит камень с надписью: «Здесь хотела бы лежать Цветаева». Как известно, Цветаева повесилась в Елабуге 31 августа сорок первого года. Когда ее хоронили, никого из близких не было. Даже ее сына. И никто не знает, в каком месте кладбища она похоронена. Могилу потом сделали условную.
Высоцкий часто рассказывал, как они все дружно жили одной компанией на Большом Каретном и как Тарковский тогда мечтал построить большой дом под Тарусой, где бы они продолжали жить все вместе, коммуной.
Дом под Тарусой Тарковский спустя много-много лет построил, но жил сам там мало…
С этими и приблизительно такими мыслями я бродила по кладбищу Сен-Женевьев-де-Буа. Вдруг издали слышу голос Некрасова: «Алла, Алла, идите сюда, я нашел Галича!» Большой кусок черного мрамора. На нем — черная мраморная роза. Внушительный памятник рядом со скромными могилами первой эмиграции. В корзине цветов, которую мы несли на могилу Tapковского, я нашла красивую нераспустившуюся белую розу, положила ее рядом с мраморной. Мы постояли, повспоминали песни Галича — Виктор Платонович их очень хорошо все знал — и пошли дальше на свои печальные поиски. Нас тоже «поджимал короткий зимний день». Время от времени я клала на знакомые могилы из своей корзины цветы, но Тарковского мы так и не могли найти. И не нашли бы. Помогла служительница.
Тарковского похоронили в чужую могилу. Большой белый каменный крест, массивный, вычурный, внизу которого латинскими крупными буквами выбито: «Владимир Григорьев, 1895–1973», а чуть повыше этого имени прибита маленькая металлическая табличка, на которой тоже латинскими, но очень мелкими буквами выгравировано: «Андрей Тарковский. 1987 год». (Умер он, как известно, 29 декабря 1986 года).
На могиле — свежие цветы. Венок с большой лентой — от Элема Климова, который был в то время председателем Союза кинематографистов и должен был перевезти тело Тарковского в Россию, чтобы похоронить под Тарусой. Но Лариса Тарковская возражала, и Элем остался на похоронах Андрея в Париже.
Я поставила свою круглую корзину с белыми цветами. Шел мокрый снег. Сумерки сгущались. В записной книжке я пометила для знакомых, чтобы они не искали так долго, как мы, номер участка — рядом на углу была табличка. Это был угол 94-го — 95-го участков, номер могилы — 7583.
Служительница за нами запирала калитку. Мы ее спросили, часто ли здесь хоронят в чужие могилы. Она ответила, что земля стоит дорого и что это иногда практикуется. Когда по прошествии какого-то срока за могилой никто не ухаживает, тогда в нее могут захоронить чужого человека. Мы спросили, кто такой Григорьев. Она припомнила, что это кто-то из первых эмигрантов. «Есаул белой гвардии», — добавила она (рядом были могилы белогвардейцев и Деникина). «Но почему Тарковского именно к нему?» — допытывался Некрасов. Но она француженка и была не в курсе этой трагической истории, да и не очень понимала, о ком мы говорим. И мы тоже не очень понимали причины такой спешки, когда хоронят в цинковом гробу в чужую могилу. Почему было не привезти его на родину и не похоронить под Тарусой, как он хотел?..
Сейчас Тарковского перезахоронили в новую могилу, недалеко от старой, потому что в том углу кладбища оставалась свободная земля.
Крест на могиле в псевдовизантийском стиле, со странной для кладбища и Андрея надписью: «Человек, который видел ангела…» На могиле по-прежнему цветы и русские монетки — это кладут приезжающие из России.
Возвращались мы печальные и молчаливые. Долго потом сидели в том же кафе «Монпарнас» на втором этаже. Опять подходили знакомые, иногда подсаживались к нам, пропускали рюмочку, и опять мы говорили о московских и парижских общих знакомых. Кто-то принес русскую эмигрантскую газету с большой статьей-некрологом об Анатолии Васильевиче Эфросе, которого мы недавно хоронили в Москве, с прекрасной рецензией на наш «Вишневый сад» и с коротким, но броским объявлением, что собираются средства на памятник на могилу Тарковского (к сожалению, эту газету у меня потом отобрали русские таможенники). Некрасов скорбно прокомментировал: «Неужели Андрей себе даже на памятник не заработал своими фильмами, чтобы не обирать бедных эмигрантов…» Поговорили об Эфросе, о судьбе «Таганки»… Некрасов был в курсе всех наших московских дел, я ему сказала: «Приезжайте в гости» — он ответил: «Хотелось бы… На какое-то время». Тогда ни я, ни он еще не знали, что он смертельно болен и через несколько месяцев будет лежать на русском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа… в чужой могиле…
ТИПАЖ ИЛИ ХАРАКТЕР
Я сыграла более чем в тридцати фильмах. Работала с самыми разными режиссерами: Тарковским, Шепитько, Авербахом, Райзманом, Швейцером, Аловым и Наумовым, Таланкиным… — но так и не поняла, что и как надо играть в кино. Психическая энергия в кино — на пленке, при технической фиксации не передается, это возможно только в живом контакте, в естественном пространстве сцены и зрительного зала, пронизанном встречными токами.
Видимо, путь актера в кино — это все-таки «я в предлагаемых обстоятельствах». На этом основывались все «типажные кинотеории» — от Эйзенштейна до итальянского неореализма. Ле Корбюзье, например, посмотрев русский фильм «Старое и новое», был восхищен деревенскими стариками-типажами, говорил: «Могут ли с ними соперничать актеры, когда эти люди работали над своими ролями 50, 60 и 70 лет — всю свою жизнь?» В «Похитителях велосипедов» главную роль безработного сыграл типаж, некто Ламберто Маджорани. Он создал один из великих экранных образов мирового кино. И все же всякий раз кино возвращалось к актеру-профессионалу, но, как правило, он играл себя в предлагаемых обстоятельствах.
В кино выбирала сначала не я — меня выбирали. И не утверждали. Потом, в конце 60-х, я сыграла в «Дневных звездах», вроде бы появилась возможность выбирать. И тут оказалось — выбирать-то не из чего: все, что мне предлагали, было скроено на одно лицо, — это были так называемые «умные», интеллигентные женщины, а на самом деле — просто штамп. И я стала искать… от противного. А вокруг твердили: «Ну, Демидова никогда не сыграет других ролей. Вот она раскрылась в „Дневных звездах“ — это и есть ее творческое самовыявление». Тем не менее я пыталась спорить. Поэтому сразу и были перепады: после «Дневных звезд» «Стюардесса», мягкая, лирическая героиня.
После «Стюардессы» — «Щит и меч». Как-то я опрометчиво сказала, что раскаиваюсь в своем согласии играть в этом фильме. Это неправда. Я совсем не раскаиваюсь. Ничего не пропадает даром — ни удачи, ни поражения, ни победы, ни ошибки. Может быть, это были подступы к «Шестому июля»?
После «Шестого июля» стала сниматься в «Живом трупе» — первый раз классика. До этого всегда отказывалась: просто не видела русскую классику на экране убедительной. И, честно говоря, пугал опыт «Героя нашего времени» в театре.
Кажется, было шестнадцать экранизаций «Живого трупа». Но странно: кого ни спрошу, Лизу никто не помнит, хотя ее играли очень хорошие актрисы. Вот Машу, Федю Протасова помнят, Лизу — нет. А по пьесе-то у нее ведь очень яркая роль. В чем же фокус?..
Я поняла: дело в том, что Лизу всегда оправдывали — играли такой несчастной жертвой с платочком у носа. А Толстой, мне кажется, написал ее по-другому.
Лиза не жертва. Она скорее корыстная, нежели добродетельная. Например, есть сцена (ее почему-то из фильма убрали), когда следователь всем троим Протасову, Каренину и Лизе — задает один и тот же вопрос: почему Протасову после мнимого самоубийства посылались деньги? И ведь никто не отвечает.
Толстой оставляет вопрос открытым. Но для себя я решила: они знали, что Федор жив, и посылали ему деньги. Поэтому и Лиза у меня — не просто заплаканная жертва: она знала, что самоубийство Протасова мнимое, вышла замуж за друга семьи… У нее все определенно, разумно и рассчитанно.
После фильма я получила много писем от зрителей, и они спорили с такой трактовкой, но зато эту Лизу на какое-то время запомнили. И спорили, мне кажется, прежде всего потому, что существовал уже штамп — театральный, кинематографический.
Роль запомнилась бы, наверное, еще больше, если бы режиссер сделал этот эпизод со следователем. Тем более что следователя играл прекрасный актер Олег Борисов. Но без режиссерской поддержки актер в кино практически остается один на один со своими концепциями…
По этому же принципу — «я в предлагаемых обстоятельствах» — я сыграла свою недавнюю роль в кино — императрицу Елизавету Алексеевну в «Незримом путешественнике» и роль противной англичанки-ханжи в «Маленькой принцессе», хотя они абсолютно разные.
С директрисой-англичанкой у меня было нечто общее: любовь к неповторимому нашему пикинессу Микки, которого, к сожалению, мало сняли в «Маленькой принцессе» — крупных планов пожалели, а это, как выяснилось, изумительный актер. Кстати, на примере Микки можно понять, что снимающийся в кино является одновременно и типажем, и актером. Что Микки уникальный типаж — никто и не сомневался. Но однажды снимали сцену, в которой Микки лежит на столе, а я в ярости на свою сестру палкой разбиваю стоящую на столе же вазу. На репетиции я ее, естественно, не разбивала, чтобы не переводить добро. Но в первом же дубле я, не рассчитав длину палки, ударила со всего размаха Микки, и он кубарем полетел вниз. Я думала, что на второй дубль он не согласится и на стол не ляжет, но он лег, правда внутренне затаившись от страха. Я не промахнулась, ваза разбилась, и Микки, радостно соскочив со стола, побежал в мою гримерную. Но после этого эпизода он соглашался сниматься только в двух дублях, после чего бежал в гримерную, и никакие уговоры на него не действовали. Сниматься ему, кстати, очень понравилось, и теперь, если ко мне домой приезжает телевидение, он радостно вскакивает ко мне на колени, чтобы быть в кадре.
Я уже не говорю о детях, которые снимались в «Маленькой принцессе». Все они отбирались как типажи, но внутри были прирожденными актерами.
Что же касается императрицы Елизаветы Алексеевны, то я снималась в этой роли в трудный момент своей жизни, на перепутье, и потому могла найти нечто родственное с нею, больной и несчастливой, перечитывающей свою жизнь…
Сценарий «Незримого путешественника» написал Игорь Таланкин, а снимал он фильм вместе со своим сыном Дмитрием.
Снимали очень быстро, в кратчайший срок. Была необыкновеннная рабочая обстановка: площадку нашли в Нескучном саду, в старинном особняке, который специально для фильма отреставрировал Александр Боим, наш художник. Группа подобралась славная — достаточно сказать, что после 19 августа, когда из-за «обвала» кончились деньги, все продолжали работать — не только актеры, но и осветители. От этих съемок у меня сохранились самые приятные воспоминания.
Интересна ведь и сама история. Царь Александр I приехал в Таганрог перед декабрьскими событиями 1825 года. Уже шли донесения про тайные общества, было известно, что декабрист Муравьев готовит на императора покушение. И Александр уезжает в самую что ни на есть глухую провинцию — не в Крым, потому что там Воронцов и придворные, а в заштатный Таганрог.
Туда он вызывает свою жену Елизавету Алексеевну, мою героиню. У нее к тому времени была чахотка, причем в открытой форме, за три недели пути у нее два раза горлом шла кровь. С ее приезда и начинается действие фильма. Царь раскрывает ей свой план ухода в старцы.
Он решился на неслыханное (это потом выйдут на сцену Феди Протасовы, покойный Матиас Паскаль у Пиранделло и прочие «живые трупы») — разыграл собственную смерть, подложив в гроб вместо себя забитого шпицрутенами солдата, как две капли воды на него похожего. Через всю Россию в Санкт-Петербург двигался траурный кортеж с дублером-двойником, ему оказывались высшие почести.
Как известно, Лев Толстой увлекался этой историей, начал писать повесть «Посмертные записки старца Федора Кузьмича», но не закончил, усомнившись в идентичности царя и отшельника. Однако считал, что так или иначе «легенда остается во всей своей красоте и истинности».
Кстати, сейчас практически доказана именно истинность. Эту версию поддерживают и семья Романовых, и, кажется, церковь. Во всяком случае, Патриарх Всея Руси Его Святейшество Алексий II дал нашему фильму благословение.
Говорят даже, что старца Кузьмича все же положили в царскую гробницу. Только проверить это нельзя. Разгулявшаяся чернь после революции 17-го года разорила царские могилы в Петропавловской крепости в надежде найти драгоценности и не ведая по темноте своей, что царей в России хоронили без украшений, как монахов.
А что касается моей героини… Когда-то тринадцатилетнюю бедную немецкую принцессу привезли к одному из самых роскошных дворов Европы. Наследнику было четырнадцать, и они влюбились друг в друга. Но при властной Екатерине, бабушке Александра, они боялись в этом признаться. Два человека прожили всю жизнь, как чужие, параллельно. Однако она, смертельно больная, пустилась в путь через всю Россию, как только он ее позвал. В роли есть хорошие слова: «Я ничего не могу. Господь видит, что я ничего не знаю. Я ничего не могу, я только люблю, я бесконечно люблю Вас…» Поняла это на склоне дней — ей около пятидесяти. Вообще получается довольно-таки современная история подобных супружеских пар-долгожителей: у того и другой романы, дети от других. Александр, победитель Наполеона, въехав на белом коне в Париж, прославился на всю Европу своими амурными похождениями. А теперь они переживают почти медовый месяц, хотя по фильму проходит всего-то два дня. И вот пример мужского эгоизма: весь фильм говорится об его уходе. Он «уходит», разыгрывает смерть. Но умирает-то она! А Александр старцем доживет до 1864 года.
Любая роль оказывает на актера какое-то влияние. Я это по себе замечала. Помню, когда я играла Спиридонову в «Шестом июля», знакомые жаловались на мою категоричность, безапелляционность, неуживчивость. А потом вдруг я переменилась, стала тихой, молчаливой, как говорится, себе на уме. Это я уже принималась за Лизу Протасову в «Живом трупе». Но все эти следы роли относятся только к периоду работы над ней.
Иногда влияние роли нельзя избежать довольно долго. И тогда последующие роли будут неизменно окрашены этой, довлеющей, хотя потом это влияние растворяется в эпигонстве, убывает, как шагреневая кожа.
После работы с Эфросом, после премьеры «Вишневого сада», я не могла года два избавиться от моей Раневской. Что бы я в этот период ни играла, на всех ролях был отпечаток рисунка этого образа. И в фильме Зархи «Повесть о неизвестном актере», и в телеспектакле «Любовь Яровая» в роли Пановой проглядывала моя Раневская. Я об этом знала, шла на это сознательно, иначе отойти от Раневской было бы труднее, и мне пришлось бы и в жизни ее еще долго играть. А на этих, для меня не столь определяющих ролях я как бы «сбрасывала старую кожу».
Вот почему между большими ролями нужен перерыв для того, чтобы освободиться от старого. Обычно о «проходных ролях» говорят как о неудачах актера, но эти «неудачи» неизбежны.
Чтобы подняться на другую вершину, нужно спуститься с той, на которой стоишь. А этот спуск актерам не прощают. Единственное, что можно сделать, это постараться, чтобы «спуск» не затягивался.
Почему же все-таки, когда роль сыграна убедительно, зрителям дается повод смешивать человеческую сущность актера и результат роли? Дело в том, что, как я уже говорила, в кино актер идет прежде всего от себя, ищет в себе самом черты своего героя.
В детстве, когда характер не определен, можно с полной верой в предлагаемые обстоятельства играть в различные игры, очень быстро и легко переключаясь от сентиментальной игры в «дочки-матери» на свирепых «казаков-разбойников». С возрастом эта грань стирается. Подводится одна главная черта характера.
Мы рождаемся с индивидуальным «импульсом», от него зависят наши внешние оценки и впечатления. Это, в свою очередь, превращается в привычку, привычка диктует наши поступки, поступки определяют характер, а характер — это уже «коридор» судьбы. Чтобы изменить судьбу, надо изменить характер, что практически нереально. Поэтому, я думаю, люди с годами мало меняются. Меняются только средства выражения. Для роли главное очень точно понять и очертить характер, а уж он будет диктовать окраску поступков, манеру общения и т. д.
В своей профессии актер вынужден сохранять свойства ребенка. Он должен, как в детстве, быть готовым к переходу от одной игры к другой. Иными словами, оставить только темперамент («импульс») и забыть о своем характере.
Хороший актер прежде всего отличается гибкостью психического аппарата. Актер должен заключать в себе целый мир самых противоположных характеров. Только тогда можно изобразить поступки людей, когда все психологические предпосылки, вытекающие из того или иного характера, известны тебе из собственных наблюдений и переживаний. Понять человека — значит быть им, носить его в себе. Надо уподобиться тому духовному миру, который хочешь постигнуть. Кстати, ведь и в жизни так — поступки людей оцениваются только со своей колокольни. Поэтому обманщик будет оценивать поступки человека только с позиции обмана и т. д.
Актер не может иметь стабильный характер, иначе он будет играть только себя. Понять человека — значит быть этим человеком и вместе с тем быть самим собой. Для кого-то это прописные истины, но научиться претворять это на сцене — очень трудно. Талантливый актер объемлет в своем понимании гораздо большее количество людей, чем обычный, даже очень мудрый человек. В этом отличие психики актера. Слабое отражение духовного мира персонажа, лишенное яркости, плоти, реальности, не позволит актеру играть великие роли великих классиков.
А что касается кино, я бы не советовала начинающим актерам повторять мой путь — играть в кино разные характеры. Лучше всего, по примеру голливудских звезд, проявить свой собственный, а уж потом на него, как шашлык на шампур, нанизывать различные образы — но собственный характер будет стержнем, удерживающим от ошибок. Тогда от фильма к фильму маска актера будет совершенствоваться и надолго останется в сердцах зрителей.
ОЛЬГА БЕРГГОЛЬЦ. «ДНЕВНЫЕ ЗВЕЗДЫ»
Из письма к N:
«…Не люблю эту картину, уже в материале не любила, а когда ее изрезали, разлюбила совсем. Видите ли, судьба фильма — вопрос упрямства. Вот у Тарковского лежит на полке „Андрей Рублев“, а у Таланкина — „Дневные звезды“. Тарковскому говорят: вырежьте эту сцену, и картина поедет в Канн. Он не режет. То же говорят Таланкину. Он режет и пьет. Так продолжается несколько лет. И „Андрей Рублев“ потом едет в Канн, а Таланкин выпускает изуродованное кино».
Не знаю, не знаю… Живу и не знаю, Когда же успею, когда запою В средине лазурную, черную с краю Заветную, лучшую песню мою… О чем она будет? Не знаю, не знаю… А знает об этом приморский прибой, Да чаек бездомных заветная стая, Да сердце, которое только с тобой…Я не знала, что это стихотворение Ольги Федоровны Берггольц. Кто его принес к нам домой и почему оно сразу запомнилось и стало нашей домашней игрой — трудно объяснить. Но если кто-нибудь у нас дома произносил слово «не знаю», другой подхватывал его, и, перебрасываясь строчками, как мячом, мы почти всегда доводили это стихотворение до конца.
Эти строчки были нашими, и мы, не стесняясь, распевали их на разные голоса и мотивы.
Когда на «Таганке» стали репетировать «Павшие и живые», мне казалось, что Ольга Берггольц — это моя роль, мне тогда нравились ее стихи, мне хотелось их читать. Но в ранней «Таганке» все роли отдавали Славиной, новеллу про Берггольц получила она, а мы с Высоцким были заняты в новелле про Гершензона. Но при приеме спектакля нашу новеллу выбросили, и мы остались на маленьких эпизодах. Тем не менее, видимо, мое желание, моя энергия притянули мне роль Берггольц в кино. И я ее сыграла. Но и Высоцкий, кстати, после ухода из театра Губенко получил его роли в «Павших и живых». Играл за него и Гитлера, и Чаплина, превосходно читал стихи Гудзенко.
Когда на «Таганке» шли репетиции, мне хотелось знать все: и как Ольга Федоровна живет, и кто ей помогает по хозяйству, в чем она одета, как выглядит, как читает свои стихи… Мне рассказывали о небольшой квартирке Берггольц в Ленинграде на Черной речке, о тесном от книг кабинете, о новых стихах, которые читала Ольга Федоровна, и о простой женщине, которая, стоя у притолоки в характерной позе, скрестив руки на груди, невозмутимо подсказывала строчки стихов, если Берггольц их забывала. Но вот как читает свои стихи Ольга Федоровна, мне рассказать не могли…
Когда меня пригласили пробоваться в кинокартине «Дневные звезды», я не удивилась и прошла весь длинный путь испытаний с полной уверенностью, что это мое дело и, если меня не утвердят, ошибку сделаю не я.
Повесть «Дневные звезды» я до этого не читала. К счастью, Игорь Васильевич Таланкин — режиссер фильма, дал мне сначала прочитать повесть, а потом уже сценарий. Повесть мне понравилась, очень. После нее сценарий показался грубым, ординарным, прямолинейным. Я, не стесняясь, все это выложила Таланкину. Он со мной согласился и сказал: «Ну что ж, будем эти барьеры преодолевать вместе».
При первом знакомстве с киногруппой я читала стихи Блока. На кинопробах я читала даже монолог Гамлета, но стихи Берггольц с самого начала читать отказалась — не знала как. На мне пробовали пленку, свет, костюмы, я терпеливо дожидалась в коридоре, пока на эту же роль попробуется другая актриса — пробовали почти всех актрис моего поколения. Я выиграла — не потому, что была лучше или хуже их, а потому, что ни на минуту не забывала, что это — мое дело.
Во время съемок я почему-то боялась встречаться с Ольгой Федоровной Берггольц, а ей, конечно, хотелось взглянуть на актрису, которая ее играет. Я под любым предлогом уходила с площадки, когда приезжала Берггольц. Правда, приезжала она редко — мы снимали то в Угличе, то в Суздали, то в Костроме. Потом, после фильма, познакомившись с Ольгой Федоровной, я поняла, что интуиция меня не подвела… Передо мной сидела маленькая, миниатюрная женщина, с приятной картавостью. С неожиданным взлетом рук к волосам, с чуть приподнятым подбородком, с какой-то особенной зябкостью — не физической, а душевной, будто бы нелюдимостью, но на самом деле — с иной, более сложной общностью с людьми.
В начале работы, когда роль не сделана, когда перед тобой «белый лист», ты сам — «белый лист» и не знаешь, за что ухватиться. Вначале я, естественно, схватилась бы и за картавость, и за взлет рук, и за угловатую манеру сидеть бочком на диване, и за многое другое, что характерно и естественно в Ольге Федоровне и противопоказано мне.
Я свою героиню искала в ее стихах и заметках, в схожести биографий. Ведь при всей разности поколений можно найти что-то общее, одинаково волнующее, тревожащее. Я искала свою героиню в себе, в своем настоящем, в своих раздумьях о жизни, в воспоминаниях. У нее — голодное детство с сестрой Муськой в Угличе, у меня с моей двоюродной сестрой — эвакуация во Владимире.
Мы очень голодали во время войны: я помню, как мы сидим с моей бабушкой, сестрой и несколькими беженцами за столом под Новый год; на столе картошка, сухари и гнилая свекла. Мы с сестрой не знали вкуса пирожных, но слышали про них. И вдруг мы почувствовали, что едим что-то очень вкусное, похожее на пряники или орехи. Я не знаю, что тогда произошло, может быть, среди беженцев сидел гипнотизер, и он пожалел нас, может быть, мы так поверили в свою игру, но я до сих пор помню ощущение счастья от несбыточного в тот вечер. Я это чувство часто вспоминала в работе на «Дневных звездах», в сценах, где вот так же чудесно и необъяснимо, словно из небытия, из сказки, — рождаются стихи.
Рождение поэтических образов… Как это играть? Мы впервые с этим столкнулись. Я все донимала Таланкина: вот в сцене, когда в моей зимней блокадной квартире появляется Муська из детства и протягивает мне красное яблоко, как я это воспринимаю — как галлюцинацию или как реальность?
— Как реальность, — отвечает Таланкин. — Оно пахнет яблоком? Конечно. — Но откуда вдруг у меня возникает это ощущение реальности?.. — Не знаю. Как появляются стихи… Да, действительно, я очень реально вижу Муську… Лестницу, по которой мы с ней спускаемся… но каждая ступенька как шаг в пропасть — не знаю, есть там опора или нет… Есть! Дальше… Дух захватывает. Открываются зимние двери подъезда, а за ними — счастье: зеленый луг детского Углича и на нем — я и Муська, а вокруг носится наша любимая собака…
Помните у Блока:
Случайно на ноже карманном Найди пылинку дальних стран, И мир опять предстанет странным, Закутанным в цветной туман.Снимается сцена на пароходе. Сегодняшняя, взрослая Ольга, уже известный поэт, едет в Углич. Шлюз. Ольга стоит, опершись о корму, и смотрит, как постепенно мокрая серая стена шлюза становится все выше, выше — и переходит в такую же мокрую стену камеры, где лежит Ольга и разговаривает с доктором Солнцевым. В тюрьме ее, беременную, били, у нее случился выкидыш, после чего она никогда не могла иметь детей… А потом — опять резкий возврат в действительность: на палубе молодежь твистует под модную песню того времени, орущую из громкоговорителя: «Будет солнце, будет вьюга, будет…», а старая Ольга сидит за столиком в ресторане, небрежным жестом выпивает рюмочку водки и так же полунасмешливо-полунебрежно пишет автограф на только что вышедшем сборнике стихов. Она уже известный поэт, ее узнают… Но как же сложен, трагичен был путь к этой известности, к этой ее чуть рассеянной небрежности! Что это? Наплыв воспоминаний? Нет. Стихи…
Задача была трудная. Нужно было сыграть не просто роль. Нужно было заставить зрителя проникнуть в душевный мир поэта в минуты творческого озарения. Связать настоящее с прошлым, личное с общим. Словом, через жизнь поэта показать вехи времени, когда трагедия личной судьбы сопрягается с трагедией исторической. Проследить этот путь поэта от детских стихов до «колокола на башне вечевой».
В драматургии фильма причудливо сочетались воспоминания, видения и сегодняшняя жизнь героини. Такая структура требовала полифоничного киновоплощения.
К счастью, на картине собрались талантливые люди. В незнаемое мы шли вместе.
По техническим условиям тогдашней пленки нельзя было, например, смешивать черно-белое изображение с цветным, а Маргарита Михайловна Пилихина, оператор фильма, хотела снимать блокадный Ленинград графично — в черно-белой гамме. Поэтому эти сцены снимались на цветную пленку, а от цвета избавлялись другими средствами: черно-белые костюмы, специальный грим (серый тон — от которого шарахались даже ко всему привычные люди на студии). Многие сцены, даже павильонные, снимались на натуре, например: госпиталь, блокадная квартира. Зима в ту пору была, как говорили, такая же холодная и жестокая, как в блокадном Ленинграде. На одной из съемок Маргарита Михайловна так отморозила нос, что лопнула кожа. Была тысячная массовка, и она продолжала снимать. А чтобы легче вести панораму, она, сидя на морозе, разувалась и снимала перчатки. Это детали, но они характерны для нашей группы — все работали самоотверженно…Ольга провожает мужа в ополчение и вместе с ним в колонне идет по набережной. Кто-то запевает:
«Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой…»И вот уже подхватывает вся колонна, и Николай, и Ольга. Сосредоточенный ритм песни. Колонна за колонной. Тут и боль разлуки, и приподнятость братской объединенности. И вдруг сквозь музыку этого марша Ольга слышит другое. Вполне реально! Она поворачивает голову: по другой стороне набережной навстречу идет другая колонна; и песня и лозунги гремят другие: «Долой лорда Керзона!», «Лорду — в морду». И среди этих людей радостно кричащая вместе со всеми четырнадцатилетняя Оля с отцом и Муськой.
Что это? Только режиссерско-операторский эксперимент? Нет, рождение стихов…
Яков Евгеньевич Харон — звукооператор фильма, прошедший ГУЛАГ, образованнейший музыкант, тонко чувствоваший поэзию, — выстроил звуковое решение фильма так, что и оно рождало поэтические образы.
…Пустынный, разбитый бомбами и снарядами зоопарк. Воронки, искореженные клетки. Обгорелые деревья, белый снег. Ольга идет из госпиталя, где умер ее муж. Медленно бредет, спотыкаясь. Через зоопарк на радио читать стихи. Тихо. Только скрип шагов. Какой-то особенный хруст снега. Как хриплый стон. Полуобморочное состояние… И, цепляясь за решетки, Ольга падает. Звон решетки, прутьев, хруст снега, и вдруг после полнейшей тишины, долгой, бесконечной, — карусель и на карусели, как из страшного сна, перебинтованные фигуры…
Что это? Изыск?
Нет. Так тоже рождаются стихи.
Рассказывать о работе над этим фильмом я могу бесконечно. Но для меня и встреча с этими людьми, и Ленинград, в который я попала тогда впервые, и вечное ощущение праздника в душе — для меня все это слилось со стихами Берггольц:
Я никогда такой счастливой, Такой красивой не была…Эти строчки Ольга Берггольц написала в самые суровые блокадные дни…
Ольга Федоровна смотрела готовую картину на «Мосфильме». Меня в зале не было — у нас был спектакль «10 дней, которые потрясли мир». Я волновалась. Зная это, ассистентка режиссера позвонила мне в театр после просмотра и сказала, что все прошло хорошо. Ольга Федоровна во время просмотра плакала и время от времени целовала в плечо сидевшего рядом Таланкина. Я немного успокоилась. Играю спектакль.
Вдруг мне говорят, что в кабинете у Любимова сидит Берггольц и хочет меня видеть. Я, как была в гриме и костюме шансонетки, побежала наверх. Моя первая встреча с Берггольц! Но от несоответствия моего внешнего вида и значимости этой встречи я, много хотевшая сказать, молчала. Ольга Федоровна подарила мне деревянный подсвечник со словами: «Когда свеча горит, человек думает…»
На улице был холодный московский ноябрь, с ледяными лужами, ветром и мокрым снегом, а на ногах у Берггольц были босоножки и шерстяные носки. От этого несоответствия у меня сжалось сердце. Хотелось плакать, говорить ей какие-то теплые слова, утешать. На следующее утро я побежала покупать ей теплые сапоги, но в гостиницу отнести их постеснялась — все еще не проходила неловкость от моего костюма шансонетки и резкого театрального грима. Да и сапоги — это все-таки не цветы…
На 60-летие Берггольц я подарила ей бедуинский кофейник, который купила в Дамаске на восточном базаре, подарила со словами: «Когда кофе на столе человек работает…» Мне хотелось, чтобы Ольга Федоровна написала вторую часть «Дневных звезд» и мы бы продолжали работу, тем более что разговоры об этом велись…
Там же, на юбилее, после торжественной части, я сидела на банкете напротив Ольги Федоровны, и она, устав от напряжения, торжественных юбилейных речей, обилия людей — народу было очень много, — наклонилась ко мне и шепнула со своей милой картавостью: «Вот как заезу под стоу да как начну уаять…» Я сразу же вспомнила мое ощущение в сцене на пароходе, когда Ольга, выпив рюмочку, так тепло-насмешливо смотрит на твистующую молодежь и оставляет небрежный росчерк на подсунутом официанткой сборнике: «От автора…»
После фильма у меня очень долго сохранялось чувство присвоения биографии Ольги Федоровны. И с Марией Федоровной — сестрой Берггольц — я встречалась как со своей Муськой, которую просто не видела много лет. А когда мне попадалось на глаза стихотворение Берггольц, которое я не знала, первым было резкое ощущение: «Господи, я же этого не писала…»
Потом, к сожалению, это чувство ушло. И когда мне приходилось читать стихи Ольги Федоровны на телевидении или со сцены, я их уже читала не как автор…
Я иногда думаю — смогла бы выжить в блокадном Ленинграде? Если бы было дело, поглощающее всю, без остатка, без свободного времени на размышления, может быть — да…
Больная, с температурой 39 «выживаешь» целый тяжкий спектакль и не замечаешь болезни, какой-то внутренний механизм переключает все силы на новую задачу. Однажды я проиграла весь спектакль с сильнейшим радикулитом. Пришла домой — потом целую неделю не могла подняться с постели. «Фронтовые условия». Говорят, на фронте никто не болел гриппом, а в голодном Ленинграде у всех язвенников прошла язва.
Когда теперь я вспоминаю «Дневные звезды», мне иногда хочется еще раз пережить самую прекрасную пору, какая бывает у человека, — самую мучительную, самую радостную, пору открытий, разочарований, надежд… — пору становления.
Помните у Берггольц:
Вот видишь — проходит пора звездопада, И кажется, время навек разлучаться… …А я лишь теперь понимаю, как надо Любить, и жалеть, и прощать, и прощаться…ЭФРОС. «ВИШНЕВЫЙ САД»
1975 год, 24 февраля. В 10 часов утра в верхнем буфете — первая репетиция «Вишневого сада». Пришел Эфрос.
На первую репетицию собираются в театре не только назначенные исполнители, но и те, кто хотел бы играть, но не нашел себя в приказе о распределении ролей; собираются просто «болельщики» и околотеатральные люди. А тут — событие: в театре Анатолий Васильевич Эфрос, режиссер другого «лагеря», другого направления. Пришли почти все…
Любимов впервые уехал надолго из театра — ставить в «Ла Скала» оперу Луиджи Ноно — и перед отъездом, чтобы театр не простаивал без работы, предложил Эфросу сделать какой-нибудь спектакль на «Таганке». Эфрос согласился, хотя у него в это время было много работы. Он только что закончил на телевидении булгаковского «Мольера» с Любимовым в главной роли, у себя на Бронной — «Женитьбу», во МХАТе репетировал «Эшелон» Рощина.
У нас Эфрос решил ставить «Вишневый сад». Распределили роли. По обыкновению нашего театра, на каждую роль — по два-три исполнителя. На Раневскую — меня и Богину, на Лопахина — Высоцкого и Шаповалова, на Петю Трофимова — Золотухина и Филатова.
Высоцкий в конце января на три месяца уехал во Францию, но перед распределением Эфрос говорил с ним, со мной и с Золотухиным о «Вишневом саде», советовался насчет распределения других ролей — он мало знал наших актеров. Но в основном роли, конечно, распределял и утверждал Любимов. Знаю, что Эфрос не настаивал на втором составе…
И вот наконец мы все в сборе, кроме Высоцкого. На первой репетиции обычно раздаются перепечатанные роли, а тут всем исполнителям были даны специально купленные сборники чеховских пьес. Кто-то сунулся с этими книжками к Эфросу, чтобы подписал, но он, посмеиваясь, отмахнулся: «Ведь я же не Чехов». Он себя чувствовал немного чужим у нас, но внешне это никак не выражалось, он просто не знал, как поначалу завладеть нашим вниманием. Рассказал, что только вернулся из Польши, и какие там есть прекрасные спектакли, и что его поразила в Варшаве одна актриса, которая в самом трагическом месте роли неожиданно рассмеялась, и как ему это понравилось. Говорил, что в наших театрах очень часто — замедленные, одинаковые ритмы, и что их надо ломать, как в современной музыке, и почему, например, в джазе такие резкие перепады темпа и ритма, а мы в театре тянем одну постоянную, надоевшую мелодию и боимся спуститься с привычного звука; об опере Шостаковича «Нос», которую недавно посмотрел в Камерном театре, — почти проигрывая нам весь спектакль и за актеров, и за оркестр; о том, как он любит слушать дома пластинки, особенно джаз, когда, нащупав тему и единое дыхание, на первый план выходит с импровизацией отдельный исполнитель, и как все музыканты поддерживают его, а потом подхватывают и развивают на ходу новую музыкальную тему, и почему в театре такое, к сожалению, невозможно; говорил о том, что он домосед, что не любит надолго уезжать из дома, о том, как однажды посетил места, где родился, и какое для него это было потрясение, напомнил, что первая реплика Раневской «Детская…», и с этой фразы перешел на экспликацию всего спектакля. Потом прочитал первый акт, иногда останавливаясь и комментируя. Сказал, чтобы мы с ассистентом режиссера развели без него первый акт и что он через неделю посмотрит, что из этого выйдет.
Мы остались одни. И я стала самостоятельно копаться в пьесе, перечитывая раз за разом одни и те же куски, не обращая внимания на авторские ремарки, которые давно играны и переиграны в театрах и обросли штампами. Я читала только диалоги.
Первый акт «Вишневого сада» Чехов начинает рассветом. Ранняя весна. Морозный утренник. Ожидание. В доме никто не спит. Епиходов приносит цветы: «Вот садовник прислал, говорит, в столовой поставить». Садовник прислал (это ночью-то!). Все на ногах. Суета, и в суете — необязательные, поспешные разговоры. Лихорадочный, тревожный ритм врывается в спектакль с самого начала, он готовит такое же лихорадочное поведение приехавшей Раневской. Да, дым отечества сладок, но здесь, в этом доме, умер муж, здесь утонул семилетний сын, отсюда «бежала, себя не помня», Раневская, здесь каждое воспоминание — и радость, и боль. На чем остановить беспокойный взгляд, за что ухватиться, чтобы вернуть хоть видимость душевного спокойствия? «Детская…» — первая реплика Раневской. Здесь — в этой детской — и сын Гриша, и свое детство. Что здесь ей оставалось? Только детство, к которому всегда прибегает человек в трудные душевные минуты… Для Раневской вишневый сад — это мир детства, мир счастья и покоя, мир ясных чувств и безмятежности. Мир справедливых истин, мир ушедшего времени, за которое она цепляется, пытаясь спастись.
Чехов назвал «Вишневый сад» комедией, хотя это трагедия. Чехов знал законы драматургии, он понимал: чтобы показать тишину, ее нужно нарушить. Трагедия, в которой от начала до конца плачут, рискует обратиться в комедию. И в то же время несоответствие поведения людей ситуации бывает трагично. Герои «Вишневого сада» шутят и пьют шампанское, а «болезнь» прогрессирует и гибель предрешена. Об этом знают, но еще наивно пытаются обмануть себя. Беда и беспечность. Болезнь и клоунада. Во всех поступках героев есть что-то детское, инфантильное. Как если бы дети, говорил Эфрос, играют на заминированном поле, а среди них ходит взрослый разумный человек и остерегает их, предупреждает: «Осторожно! Здесь заминировано!» Они пугаются, затихают, а потом опять начинают играть, вовлекая и его в свои игры. Детская открытость рядом с трагической ситуацией. Это странный трагизм — чистый, прозрачный, наивный. Детская беспомощность перед бедой — в этом трагизм ситуации.
27 февраля. Утром — репетиция «Вишневого сада» без Эфроса. Народу уже мало. Уже нет «любителей» и «заинтересованных», нет и некоторых исполнителей второго состава. Начали разводить по мизансценам. По-моему, не очень интересно и без того ритма, о котором говорил Эфрос.
3 марта. На репетицию пришел Эфрос. Мы, волнуясь, показали ему первый акт. Я вижу, что все не так, как он бы хотел, но он похвалил. Наверное, чтобы поддержать. После перерыва, так же как в прошлый понедельник, прочитал второй акт с остановками и комментариями. Мне показалось, что он был не так включен и заинтересован, как 24-го, видимо, душой был в другой работе. И опять оставил нас на неделю.
В «Вишневом саде» самый трудный — это второй акт. Разговор иногда просто абсурден. Как у клоунов. Эфрос, разбирая второй акт, вспомнил фильм Феллини «Клоуны», который недавно видел, и просил, чтобы первая сцена второго акта — Епиходов, Дуняша, Яша, Шарлотта — игралась как чистейшая клоунада. Каждый ведет свою тему, но это ни во что не выливается. Белиберда, абсурд, клоунада. И все они кричат, не слушая друг друга.
Я помню, что, когда смотрела «Клоунов» в Женеве, у меня был острый приступ аппендицита. Я смотрела фильм и корчилась от боли и смеха, особенно в последней сцене — «похороны белого клоуна». Вот уж когда для меня абсолютно слились в единое ощущение — мысли о смерти, боль и комизм происходящего на экране.
Со скрупулезностью врача Чехов ведет историю болезни. Во втором акте в болезнь уже поверили. О ней говорят. Лихорадочно ищут средство спасения. За Лопахина цепляются: «Не уходите… Может быть, надумаем что-нибудь!» «Нелюбимому врачу» Лопахину раскрывают душу (монолог Раневской о «грехах»), докапываются до причины болезни. На откровенность Раневской Лопахин тоже отвечает откровенностью: говорит о своем несовершенстве, что отец бил палкой по голове и что сам он пишет, «как свинья». Ему кажется, что его сейчас слушают, разговаривают с ним «на равных» и — вдруг — такая бестактная реплика Раневской: «Жениться вам нужно, мой друг… На нашей бы Варе…» От неожиданности, ведь его перебили почти на полуслове, он соглашается торопливо: «Что же? Я не прочь… Она хорошая девушка»… Наэлектризованная атмосфера вызывает неожиданный монолог Пети. Но его тоже никто не слушает, не принимают всерьез. Он в ответ возмущенно кричит: «Солнце село, господа!» — «Да!!!» — и… слышен тревожный звук лопнувшей струны. И как предзнаменование — проход пьяного в черном. Появляются жуткие, трагические символы — как возмездие.
6 марта. Опоздала на репетицию. Эфроса опять нет. Мне скучно и неинтересно. Ссоримся. Завтра не пойду.
7 марта. Разговор по телефону с Эфросом. Он просил ходить на репеттщи, сказал, что, когда придет, будет работать очень быстро, и нужно, чтобы актеры знали хотя бы текст.
10 марта. Показывали Эфросу второй акт. Вместо меня — Богина. Я не жалею, потому что мне все не нравится. Очень тоскливо.
Наконец, через неделю, Эфрос опять пришел на репетицию. Говорил про третий акт очень эмоционально и интересно.
Третий акт — ожидание результата торгов. Как ожидание исхода тяжелой операции. Тут несоответствие ситуации и поведения достигает вершины: стремятся прикрыть смертный страх музыкой, танцами, фокусами. И, наконец, узнают результат операции — смерть… А в смерти виноват тот, кому почему-то доверились, — Лопахин. Ведь это он поехал с Гаевым на торги, чтобы за пятнадцать тысяч, которые прислала ярославская бабушка, выкупить имение, а их, оказывается, не хватило, чтобы проценты заплатить… Гаев с Лопахиным уехали в город на торги, а Раневская затеяла бал, где Шарлотта показывает фокусы. Да какие фокусы! «Вот очень хороший плед, я желаю продавать. Не желает ли кто покупать?» — ерничает Шарлотта. «Ein, zwei, drei!» — выходит из-за пледа Аня — на продажу! «Ein, zwei, drei!» — выходит Варя — тоже продается, но никто не покупает. Вокруг Раневской крутится фантасмагория: кто-то ее о чем-то просит, другой приглашает на «вальсишку», а рядом Дуняша выясняет отношения с Епиходовым. Этот трагический ералаш кончается нелепым выстрелом револьвера Епиходова и ударом палки Вари по голове Лопахина. Монолог Лопахина — «Я купил!..» После напряженного ожидания, после клоунады и ерничанья — истерика Раневской: «А-а-а!..» И на фоне этих рыданий — беспомощные слова Ани о новой прекрасной жизни.
В апреле, вечерами, начались, наконец, репетиции с Эфросом. Пошли с первого акта, и все заново. Роли более или менее мы уже знаем, хоть и ходим по мизансценам с книжками. Я, как всегда, со шпаргалочками, рассованными по всем карманам. Эфросу это забавно. Посмеивается. Относился к нам, как к детям, которых надо чем-то занимать и поощрять. Предостерегая нас от сентиментальности, говорил, что лучше уйти в другую крайность — в ерничанье, хотя успех возможен только тода, когда гармонично сочетаются расчет и ум с сердечностью, детскостью, открытостью. Мне все очень нравится. И его юмор, и посмеивание, и тоже детская заинтересованность, когда что-то получается.
Эфрос ходит с нами вместе по выгороженной площадке — репетируем пока на малой сцене — так же как и мы, с книжкой и быстро-быстро говорит, почти обозначая интонацию и мизансцену. Потом просит повторить, оставаясь на сцене. Но без него ритмы сразу падают, актеры садятся на свои привычные штампы. Эфрос не сердится. Продолжает дальше.
Выход Раневской. Выбегает так же по-юношески легко, как и Аня, чтобы зрителям даже в голову не пришло, что это Раневская. Они привыкли, что она должна «появляться». Мне хорошо — я не видела ни одной актрисы в роли Раневской, поэтому во все глаза смотрю на Эфроса и копирую его как обезьяна. Даже интонацию. Стараюсь схватить быструю манеру его речи. Почти скороговорка, так как слова не важны, они ширмы, ими только прикрываются.
Выбежала, натолкнулась глазами на Лопахина, который стоит с открытыми для объятий руками, не узнала его, прошла мимо и сразу отвлеклась «детская»: «Я тут спала, когда была маленькой» — интонация вверх: И закончила с усмешкой: «И теперь я как маленькая» — интонация вниз.
Пока не разбираюсь — что, почему, зачем. Это потом с этими вопросами я буду приставать к Эфросу, пока окончательно не почувствую его манеру и характер, чтобы мысленно за него отвечать себе на все вопросы.
Утром Эфрос репетирует во МХАТе, вечером приходит к нам. Как, наверное, ему странно и непривычно работать с нами. Да и мы привыкли к другой манере. У нас тоже не бывает застольного периода, но с Эфросом надо работать почти с голоса, то есть по интонациям понимать, чего он хочет.
В конце апреля переходим на большую сцену. Там уже стоит выгородка. В «Вишневом саде» все крутится вокруг вишневого сада. Как в детском хороводе а сад в середине. Левенталь сделал на сцене такой круг — клумбу-каравай, вокруг которой все вертится. На этой клумбе вся жизнь. От детских игрушек и мебели до крестов на могилах. Тут же и несколько вишневых деревьев (кстати, и в жизни, когда они не цветут, они почти уродливы — маленькие, кряжистые, узловатые). И — белый цвет. Кисейные развевающиеся занавески. «…утренник, мороз в три градуса, а вишня вся в цвету». Озноб. Легкие белые платья. Беспечность. Цвет цветущей вишни — символ жизни, и цвет белых платьев, как саванов, — символ смерти. Круг замыкается.
То, что, казалось, мы уже нашли, репетируя на малой сцене, — на большой потерялось. Начинаем с начала первого акта. Опять Эфрос ходит вместе с нами и за нас читает текст. Главное — очень внимательно за ним следить и ничего не упустить. Теперь я понимаю, что первый акт — это вихрь бессмысленных поступков и слов. Слова — ширмы. Ими прикрывают истинное страдание. Но иногда сдерживаемое страдание вырывается криком: «Гриша! Мой мальчик!.. Гриша!.. Сын! Утонул!..» И сразу: «Для чего? Для чего?!» — это спрашивать надо очень конкретно — почему именно на меня такие беды. А потом, смахнув слезы, почти ерничая: «Там Аня спит, а я поднимаю шум».
Нас, исполнителей, потом будут упрекать в однозначности, в марионеточности, да и сам Эфрос в своей книжке будет вздыхать об объемности ролей, но где, например, в Москве, взять актера на роль Гаева, который сыграл бы объемно? Разве что Смоктуновский… Потом мы увидим Смоктуновского в роли Гаева в телевизионном спектакле Хейфица, а Эфрос уже настолько привыкнет к нам, что скажет: «Не нужен нам никакой Смоктуновский, Виктор Штернберг играет Гаева прекрасно и точно».
А что касается марионеток… Ведь натурализм «Вишневого сада» в Художественном театре, как известно, не нравился Чехову.
Андрей Белый о Чехове говорил: «натурализм, истончившийся до символа». А разве можно играть объемно символ? Сразу скатишься в быт. «Вишневый сад» пьеса не о дворянах и не об интеллигентах, а о марионетках. Только марионеточный водевиль усложняется темой смерти.
После 21 апреля мы репетируем «Вишневый сад» только по средам — в остальные дни Эфрос занят — выпускает во МХАТе «Эшелон».
Эфрос приходит к нам вечером, очень усталый. Видно, что плохо себя чувствует — часто сосет валидол. Как-то на репетицию не пришел Шаповалов — Лопахин. Помреж сказала, что у Шаповалова «колет сердце». Эфрос репетицию отменил. Мы, расстроенные, разошлись по домам. Я послала телеграмму Высоцкому в Париж: «Если сейчас не приедешь — потеряешь Лопахина».
С 17 мая пошли регулярные репетиции «Вишневого сада». Теперь Эфрос был целиком наш.
26 мая к работе подключился Высоцкий. Приехал с бородой. Смеется, что отрастил ее специально для Лопахина, чтобы простили опоздание.
Тема «Вишневого сада», во всяком случае нашего спектакля, — это не прощание с уходящей дворянской культурой, а тема болезни и смерти. Это не быт дворянский умирает, а умирает сам Чехов.
Туберкулез медики называют веселой болезнью. А сам Чехов часто цитировал Ницше, сказавшего, что больной не имеет права на пессимизм. Туберкулез обостряет ощущение окружающего. Озноб. Умирают в полном сознании. И в основном — на рассвете, с воспаленной ясностью ума. Весной. И первый акт «Вишневого сада» Чехов начинает весенним рассветом.
«Я умираю. Ich sterbe» — последние слова, сказанные Чеховым перед смертью. «Жизнь-то прошла, словно и не жил, — говорит в конце „Вишневого сада“ Фирс. — Я полежу… Силушки-то у тебя нету, ничего не осталось, ничего… Эх ты… недотепа!..» И далее ремарка: «Слышится отдаленный звук, точно с неба, звук лопнувшей струны, замирающий, печальный. Наступает тишина, и только слышно, как далеко в саду топором стучат по дереву». Это последние слова, написанные Чеховым в «Вишневом саде». Как пророчество тех своих последних сказанных слов… И эту последнюю ремарку Эфрос выполнил абсолютно точно в спектакле, хотя до этого просил не обращать внимания на ремарки, а играть иногда «наоборот» — чтобы уйти от штампов.
Судя по моим дневникам, мы работали невероятно быстро. И в какой удивительной рабочей форме был в то время Эфрос!.. От тех дней осталось ощущение праздника, хорошего настроения, бодрости и нежности друг к другу.
Весь июнь — репетиции с остановками. Кое-какие места спектакля чистятся и уясняются. В это же время — поиски грима и костюмов. Мне по эскизу должны были сшить дорожный корсетный костюм, который моя Раневская никогда бы не надела. Эфрос разрешил мне делать с костюмом что хочу. Левенталь, по-моему, этим недоволен, но его не было на репетициях, и он не знал моей стремительной пластики и закрученного ритма.
6 июня. Утренняя репетиция. В зале сидела Беньяш. Она многое не понимает, хотя ей нравится. Я репетировала в брюках — она не могла понять почему, а для меня на этом этапе неважно, главное — чтобы уложился внутренний рисунок. Да и репетиция была в основном для ввода Высоцкого.
7 июня. Черновой прогон «Вишневого сада». Эфрос первый раз сидел в зале. Потом — замечания. После репетиции Высоцкий, Дыховичный (он играет Епиходова) и я поехали обедать в «Националь»: забежали, второпях поели, разбежались. Я заражаюсь их ритмом. Мне это важно для «Вишневого сада». Я ведь домосед-одиночка, а Раневская совсем другая. Правда, мне не привыкать играть роли, не похожие на меня, но чтобы до такой степени, когда во мне нет ни одной черточки той Раневской, какую предлагает играть Эфрос! Полагаюсь на свое чутье и безошибочность Эфроса.
Высоцкий быстро учит текст и схватывает мизансцену на лету, к Эфросу нежен и внимателен. Хорошо играет начало — тревожно и быстро. После этого я вбегаю — мой лихорадочный ритм не на пустом месте. Если до моего выхода хотя бы ритмом не закручивается первый акт — я сумасшедшая, мои резкие перепады вычурны. Как легко играть после монолога Лопахина — Высоцкого в III акте! Подхватывай его ноту — и все. Легко играть с Золотухиным. Его, видимо, спасает музыкальный слух — он тоже копирует Эфроса. Наша сцена с Петей в III акте проскакивает как по маслу. Жукова — Варя, по-моему, излишне бытовит — и сразу другой жанр, другая пьеса. Не забывать, что Чехов — поэт. «Стихи мои бегом, бегом…» Главное стремительность. После репетиции, как всегда, замечания Эфроса.
20 июня. Очень хорошая вечерняя репетиция с Эфросом. Разбирали по кусочкам третий акт. Монолог Лопахина, ерничанье: я купил — я убил… вы хотели меня видеть убийцей — получайте. Часов до двенадцати говорили с Эфросом и Высоцким о театре, о Чехове…
Во время репетиций я не люблю читать статьи о том спектакле или пьесе, которую репетируешь, но тут я не удержалась и читала о Чехове и «Вишневом саде» все, что попадало под руку: и раннюю статью молодого Маяковского «Два Чехова», и Льва Шестова «Творчество из ничего», и Мережковского, и Чуковского… и все свои сумбурные мысли от прочитанного выложила Эфросу. И он, посмеиваясь, говорил, что из этого не следует, что так можно представить Чехова, выведенным на уровень современности, современного нашего понимания театра и жизни.
Разговора «на равных» между режиссером и актером практически не бывает. У актера почти всегда «пристройка снизу», ученика — к учителю, подчиненного — к начальнику. А у Эфроса к нам, актерам, всегда было отношение взрослого к детям. Не свысока, а так — посмеиваясь: что, мол, с них возьмешь — дети!
Он нам много прощал, не раздражался на нашу «детскую» невключенность или невнимание, но тихо переживал про себя. И мне такие отношения нравились, ведь он так прекрасно знал театр, и естественно, что наши рассуждения часто вызывали у него улыбку. Правда, иногда он забывал, что мы тоже в театре не новички, выходим на сцену уже более 20 лет… — но эта мысль придет ко мне потом, когда Эфрос, несмотря на мое предостережение, станет главным режиссером «Таганки». А сейчас, на репетиции «Вишневого сада», — все было прекрасно, радужно и влюбленно.
Тогда же, в ночной беседе с Высоцким и Эфросом, мы говорили о том, что прежде всего надо понять самого Чехова, ведь Чехов растворился во всех своих персонажах. И Лопахнн — больше всего сам Чехов. Лопахин тоже относится к персонажам «Вишневого сада», как к детям. Он их безумно любит, и они ему доверились, поэтому покупка Лопахиным вишневого сада и для них, и для него предательство. Он это хорошо чувствует. Как если бы сам продал этих детей в рабство. От этого — крик души в монологе, боль, которая превращается в ерничанье, — он закрывается и от себя, п от Раневской пьяным разгулом.
Монолог Лопахина в третьем акте «Я купил…» исполнялся Высоцким на самом высоком трагическом уровне лучших его песен. Этот монолог был для него песней. И иногда он даже какие-то слова действительно почти пел: тянул-тянул свои согласные на хрипе, а потом вдруг резко обрывал. А как он исступленно плясал в этом монологе! Как прыгал на авансцене за веткой цветущей вишни, пытаясь сорвать! Он не вставал на колени перед Раневской — он на них естественно в плясе оказывался и сразу менял тон, обращаясь к ней. Моментально трезвел. Безысходная нежность: «Отчего же, отчего вы меня не послушали?..» Варя раз пять во время монолога бросала ему под ноги ключи, прежде чем он их замечал, а заметив — небрежно, как само собой разумеющееся: «Бросила ключи, хочет показать, что она уже не хозяйка здесь…» И опять на срыв: «Ну да все равно… Музыка, играй… Музыка, играй отчетливо!» Любовь Лопахина к Раневской — мученическая, самобичующая. Абсолютно русское явление. У нас ведь не было традиции трубадуров, рыцарской любви, не было в русской литературе любви Тристана и Изольды, Ромео и Джульетты. Наша любовь всегда на срыве, на муке, на страдании. В любви Лопахина, каким его играл Высоцкий, было тоже все мучительно, непросветленно. Его не поняли, не приняли, и в ответ — буйство, страдание, гибель. Середины не может быть. Как у Тютчева:
О, как убийственно мы любим, Как в буйной слепоте страстей Мы то всего вернее губим, Что сердцу нашему милей!Лопахин сам понимал, что сделал подлость. Он, конечно, уже не купец, но еще и не интеллигент. Когда поехал с Гаевым на торги, он и в мыслях не допускал, что купит, но сыграла с ним злую шутку его азартная душа: когда начался торг с Деригановым, Лопахин включился, сам того не желая: «Он, значит, по пяти надбавляет, я по десяти… Ну, кончилось…Вишневый сад теперь мой!.. Боже мой, господи, вишневый сад мой!» Он не верит еще этому. Уже купив, все равно ищет путь спасения, мечется. Купил еще и потому, что интуитивно понимал, что эта «пристань», к которой он пытался прибиться (к Раневской), ненадежна и не для него.
21 июня.…Репетиция «Сада» с остановками… Потом прогнали два акта. Замечания Эфроса — точно и по существу. Пыталась за ним записывать.
Центр — Раневская. Любопытство к ней — к ее походке, одежде, словам, реакциям. Начинать первый акт надо очень резко. С самого начала — динамика поступков и конфликтность ситуаций. Некоторые слова почти выкрикиваются. «Мама живет на пятом этаже!!!» Гаевское «Замолчи! II» Фирсу. Раневская: «Как ты постарел, Фирс!!!» В этих криках — разрядка напряженности. «Солнце село, господа!!!» — «Да!!!» — не про солнце, а про потерю всего! Незначительные слова вдруг обретают конфликтный смысл. Все развивается очень стремительно. Одно за другим. Не садиться на свои куски, даже если их трудно играть. Тогда просто проговаривать, но быстро. Смысл дойдет сам собой. Главное — передать тревогу. В тревогу надо включиться за сценой, до выхода. Нервность передается от одного к другому. От первой реплики Лопахина «Пришел поезд, слава Богу!» до непонятного звука струны во втором акте. Но все должно быть легко и быстро. Как бы между прочим.
Многие не берут эфросовский рисунок, может быть, не успевают. После репетиции я — с бесконечными вопросами к Эфросу. Он терпеливо объясняет. Сказал, что для него главное в спектакле — Высоцкий, Золотухин и я… Сказал, что раньше пытался добиваться от актеров тех мелочей, которые задумал и считал важными, но потом понял, что это напрасный труд и потеря времени, выше себя все равно никто не прыгнет.
6 июля. Премьера «Вишневого сада». По-моему, хорошо. Много цветов. Эфрос волновался за кулисами[6]. После монолога Лопахина — Высоцкого («Я купил…») — аплодисменты, после моего ответного крика — тоже. Банкет. Любимова не было. Конфликт.
18 ноября.…Все дни черные, ночи бессонные. Очень плохое состояние. Ничем не могу заняться — паралич воли. Звонил Эфрос, спрашивал, кого бы на Симеонова-Пищика, так как Антипова в очередной раз уволили за пьянство.
21 ноября.…Вместо Антипова вводим Желдина. Прекрасный монолог Эфроса о конце. Всему приходит конец — жизни, любви, вишневому саду. Это неизбежно. Это надо постоянно чувствовать и нести в себе каждому исполнителю. Слова не важны. Общий ритм — как в оркестре, когда вводят, например, четвертую скрипку, она слушает оркестр и включается в него…
Еще до прихода Эфроса на «Таганку» в качестве главного режиссера он мне позвонил и предложил совместную работу по пьесе Уильямса «Прекрасное воскресенье у озера Сакре-Кер». Пьеса для четырех актрис. Начали мы репетировать в Театре на Малой Бронной: Оля Яковлева, Марина Неелова, Настя Вертинская и я. Но в это время начались переговоры с Эфросом о его переходе на «Таганку», и репетиции приостановились.
На «Таганке» своим первым спектаклем он заявил горьковское «На дне». Мне досталась небольшая роль Анны, но атмосфера в театре была не для работы, и я попросила Эфроса меня от этой роли освободить.
Как после училища мне страстно хотелось попасть в Театр имени Вахтангова, так и в этот период мне хотелось убежать во МХАТ. Встретилась с Ефремовым на «нейтральной» территории, но меня не взяли…
Но «Прекрасное воскресенье для пикника» Эфрос на «Таганке» все же сделал. Оля и я остались на своих ролях, Настя перешла на роль Марины, а Настину роль сыграла Зина Славина. Вот такие четыре разных «зверя» были в одной клетке на сцене. Собственно, это существование разных представительниц театральных школ, я думаю, и было самым интересным для зрителей.
Для нас на «Таганке», например, никогда не существовало четвертой стены — иногда мы просто обращались к залу как к партнеру, а иногда пространство сцены увеличивали до задней стены зрительного зала. И соответственно в «Прекрасном воскресенье…» я выхожу в своей роли и, обращаясь к Оле, говорю в сторону зала, имея в виду, что там продолжается Олина комната. И мне Оля — от себя — дает реплику: «А вы куда смотрите?» Я говорю: «На противоположную стену…» Так наши импровизации доходили до абсурда. Я играла гранд-даму в шляпе, а Оля играла бытовую домохозяйку. Я выходила — Оля по спектаклю что-то делала у плиты и стучала ножом. Моя реплика — она стучит громче, она говорит — стучит тише. В общем, соревнование началось нехорошее. Или: упала газета, с которой я выхожу, и Оля — р-раз ее ногой под кровать, понимая, что я в своем образе не могу за ней полезть, а газета мне нужна, чтобы потом с ней играть… Но иногда мне это даже нравилось, это подхлестывало фантазию. У Оли был монолог на авансцене, а я сидела в глубине. Я ничего не делала, нет. Но я старалась энергетически — обратить внимание зрителей на себя и снимала напряжение с ее монолога.
Первой не выдержала Настя. Она отказалась играть. «Прекрасное воскресенье…» сняли. Причем Эфрос этот спектакль не смотрел, но, видимо, ему на что-то жаловалась Оля, потому что перед каждым спектаклем он мне говорил: «Алла, поднимайте ритм!» А мне казалось, что ритм падал именно в Олиных сценах, потому что она эту роль решила играть очень бытово. Мне она всегда нравилась в ранних, завышенно-эмоциональных ролях. Но с годами она, видимо, успокоилась и в этом спектакле играла очень бытово, снижая этим ритм. А Уильямса нельзя играть бытово, он, так же как и Чехов, мстит. Но тем не менее от Эфроса всегда доставалось мне. Я, конечно, ему не жаловалась, но…
Перед премьерой он зашел к нам — он всегда заходил перед началом. Перед «Вишневым садом» — ко мне, перед этим спектаклем — все чаще сидел у Оли. Тем не менее я, как и все, получила такое напутствие:
«Наставление моим четырем любимым дамам:
1. Рассчитывайте не на смех публики, а на глубокое тихое внимание. 2. Говорите громче, чтобы не было реплики „Не слышно“. 3. Начинайте вовремя, без задержки. 4. Выходите кланяться, как только начнутся аплодисменты. Не убегайте за кулисы. Стойте достаточно долго на первом плане. НИ ПУХА НИ ПЕРА. А.Эфрос».
Приблизительно через год после прихода Эфроса на «Таганку» я подала директору заявление об уходе. Написала письмо Эфросу. Но потом он меня вызвал, поговорил, успокоил — он удивительно мог успокаивать.
Он был очень демократичен, с ним у меня не было этой дистанции: главный режиссер и подневольная актриса. Я вообще очень ценю редкое сочетание таланта с демократизмом в работе. Так это было с Андреем Тарковским, с Анатолием Васильевым, так совсем недавно — с Евгением Колобовым. Так и с Эфросом. Я его не боялась, и он меня, конечно, уговорил остаться. Я работала дальше.
Но то письмо у меня сохранилось:
«Анатолий Васильевич!
Я пишу Вам, чтобы как-то избежать тяжелого для меня разговора после подачи заявления об уходе из театра. Мне трудно объяснить однозначно и просто причину. Но основная — та, про которую я Вам еще зимой прошлого года говорила, еще до Вашего прихода на „Таганку“. О том, что мы будем присутствовать при агонии старых спектаклей. Поскольку за ними никто не смотрит, они полностью разрушились. Я писала директору театра письмо с предупреждением, что, если „Деревянные кони“ и „Три сестры“ будут идти так, как они идут, — я играть их не буду. Но это ведь в театре воспринимается или как каприз, спонтанный выплеск эмоций, или как „очередное предупреждение“, на которое никто не обращает внимания. Я пробовала сама выяснять отношения с осветителями, радистами, некоторыми актерами, которые не держат рисунок, но опять-таки этого в лучшем случае хватало на один-два спектакля. Я чувствую, что у меня когда-нибудь разорвется сердце на спектакле от напряжения, накладок, отрицательных эмоций, от плохой своей и чужой работы. Мы повязаны одной веревкой: один делает плохо — все валится в пропасть.
Мое заявление и уход из театра — от чувства самосохранения…
Извините, что не поговорила с Вами до подачи заявления, но Вы мне как-то сказали в разговоре: „Если что-нибудь решите для себя — скажете“. Я решила.
Всего Вам доброго. 2 февраля 1985 года».Что же касается прихода Эфроса на «Таганку» в качестве художественного руководителя, его смерти, возвращения Любимова и того, какую роль в этом возвращении сыграл Губенко, — тут лучше приводить факты. Поэтому из своих дневников я выбрала отрывки разных лет — с 83-го по 95-й. Если прочитать их, обращая внимание на даты, то правда, вымысел, чья-либо виновность и последовательность всех событий становятся ясней.
ИЗ ДНЕВНИКОВ
1983 год
1–15 сентября. Гастроли в Омске. Узнала из телефонного разговора с Москвой, что у Любимова после премьеры «Преступления и наказаниям в Лондоне была пресс-конференция, на которой один из сов. посольских работников мерзко пошутил: „Вот, Ю.П., вы поставили здесь преступление, а приедете в Москву там вас ждет наказание“. Любимов заявил собравшимся корреспондентам, что остается в Лондоне и не собирается возвращаться в Москву.
20 сентября. Открытие сезона в Москве. Любимов в Италии — просит отпуск для лечения. Останется — не останется? В интервью сказал, что на „Таганке“ у него нет ни одного единомышленника.
21 сентября. Разговор с Дупакoм[7] о театре. Дал прочитать письмо Любимова об отпуске и ответ ему: Любимову дают официальный отпуск до декабря и платят за его лечение. 3 ноября. Любимов в Болонье ставит „Тристана и Изольду“. По телефону с ним говорил Дупак: Любимов ставит условие возвращения — гарантировать выпуск „Бориса Годунова“.
Любимову продлили отпуск до 1 января.
10 декабря. Звонил Любимов, спрашивал, стоит ли его фамилия на афише. Пока — да.
17 декабря. Худсовет в театре. Пришли Можаев, Корякин, Делюсин[8]. Что делать дальше? Решили писать письмо Андропову, идти на прием к Замятину, звонить постоянно Любимову, для себя сыграть 25 января спектакль о Высоцком. По просьбе Любимова надо начать восстановление „Бориса Годунова“, проводить в интервью и у начальства мысль, что надо подходить к таким проблемам индивидуально (ведь Горький, Станиславский, Немирович-Данченко подолгу были за границей, но они возвращались).
20 декабря. Боровский, Беляев, Жукова, Глаголин, Шаповалов и я ходили на прием к Шадрину. Добились — 25 января играть спектакль о Высоцком. О „Борисе Годунове“: надо идти выше, м.б., к Шауре.
26 декабря. Беляев и я у Дупака — написали письмо Черненко и телеграмму Любимову. „Поздравляем с Новым годом, желаем счастья. Любим. Ждем. Театр на Таганке“. Звонили по начальству — записывались на прием: просить продлить отпуск Любимову и разрешить играть „Бориса“ и „В.В.“.
27 декабря. К 9 ч. утра я и Дупак — на прием к Шадрину (в разговоре припугнул, что из-за любимовских хлопот не будет звания) — проводим свою линию и просим его готовить почву у начальства. Вернулись в театр. Я звонила помощнику Андропова, там мне довольно жестко сказали, что надо обратиться к Черненко, что все вопросы сейчас решает он.
1984 год
11 января. Достали телефон Черненко, я звонила — разговор очень жесткий: дескать, не он один решает эти дела, и он не может заставить Любимова вернуться, если тот не хочет.
15 января. Звонила от Дупака Лапину на ТВ с просьбой помочь записать наши спектакли на пленку. Он кричал, что не собирается записывать антисоветские спектакли и т. д. Бросил трубку.
19 января. Спектакль „Высоцкий“ 25 января запретили. Будем делать вечер. Любимов в Милане. Отвезли в Управление театров наше письмо; подписали Золотухин, Губенко и я.
20 января. В Управлении театров — Дупак, Беляев, Золотухин, Губенко и я. Спектакль „В. В.“ не разрешен. Решили послать телеграммы Андропову и Любимову.
Приехал Смехов из Парижа, 13 января виделся там с Любимовым. Ю.П. постарел, выглядит больным и растерянным.
Ходят слухи, что на „Таганку“ придет Эфрос.
23 января. Письмо от театра Громыко с просьбой послать человека к Любимову на переговоры.
24 января. Написали письмо Гришину.
30 января. Нас, 13 человек с „Таганки“, принял Демичев. Разговор — 2 часа. Просьба от нас — не решать быстро, послать к Любимову официального человека, начать репетиции „Бориса“. В. В.».
Вернулись в театр и на радостях послали телеграмму Любимову: «13 человек были у министра. Разговор долгий и полезный. Решали начать „Бориса“ и другие вопросы…»
1 февраля. Любимов опять дал там интервью нам не в помощь. Мы бегаем по начальству. Я на приеме у Панкина в АПН: советовалась, куда лучше толкнуться. Потом у Бовина, Делюсина, Флерова и т. д. — просила поставить подписи под наше прошение. 6 февраля. Опять идем в Управление. 8 февраля. На приеме во французском посольстве Ваксберг мне сказал, что завтра вечером подпишут приказ об увольнении Любимова. Надо найти Бовина и добиться приема наверху.
9 февраля. Умер Андропов.
15 февраля. В театре сказали, что нельзя ходить по приглашениям на приемы в посольства.
6 марта. Любимов лишен гражданства.
11 марта. Приказ о назначении Эфроса худруком «Таганки».
13 марта. Галя Волчек пригласила меня к себе в театр.
16 марта. Галя Волчек пригласила к себе в театр Боровского, Филатова, Смехова, Шаповалова.
20 марта. Представление Эфроса труппе. Я не пошла.
21 марта. Ефремов сказал, что может меня взять к себе только в новом сезоне, т. к. звонил Анурову (директор МХАТа) Зайцев (зам. министра) и сказал никого с «Таганки» не брать.
9 апреля. Первая репетиция Эфроса. «На дне».
18 апреля. Арестовали наш театральный архив и куда-то увезли.
1985 год
3 января. Пытаемся восстановить «Вишневый сад»… Губенко — на Лопахина. Коля сидел с магнитофоном и уже переписанной от руки ролью. Задавал бытовые и социальные вопросы. Он, конечно, будет неприятен для меня в Лопахине…
4 января. Губенко отказался репетировать Лопахина, сослался на болезнь жены. Думаю, что понял — несовместимость…
5 января.…Эфроса положили в больницу. Оля говорит, инфаркт, но, видимо, просто сильный спазм.
28 января. Звонила Дупаку о световой репетиции — все нарушено. Он сказал, что Филатов и Шаповалов ушли из театра.
1 февраля. Вечером — «Кони». Очень плохо по всем статьям. Написала заявление Дупаку об уходе.
3 февраля. Написала письмо Эфросу. Вечером дома у Эфроса — долгий разговор. Решили — я заявление не беру, а за два месяца что-нибудь решится.
Эфрос говорит, что готов к реорганизации театра. 25 % — на конкурс. Старые спектакли постепенно снимать с репертуара. Он говорит, что ему не трудно, а трудно было только летом, когда его обвиняли…
10 февраля. Эфрос провел изумительную репетицию «Вишневого сада». Говорил: стиль необязательной, несмонтированной хроники. Пробалтывание, бабочки. Птицы порхают, а среди них ходит человек (Лопахин) и говорит — не летайте тут, здесь шрапнель, а они не слышат. Монолог о грехах — как крик покаяния Богу на ноте истерики. На Лопахина — Гребенщикова, Бортника, Дьяченко.
16 марта. Репетиция «Сада». Эфрос сидел скучный. Потом сказал, что мы постарели на 10 лет, что раньше делали спектакль в веселое время и он получился хулиганским и радостным… Предложил сыграть: Раневская — это Любимов, а Лопахин — Эфрос. Думаю, это ему пришло в голову после моей реплики в первом акте: «о мое детство… в этой комнате я спала», — я говорила и думала о Любимове.
7 апреля. Эдисон Денисов сказал, что говорил с Любимовым и тот сказал, что хочет вернуться, если отдадут театр.
23 апреля. День рождения театра. Я не поехала. Рассказали, что был унылый банкет: не то поминки 21-го года, не то рождение первого года. Пьяный Антипов пел «Многая лета Юрию Петровичу…», а Славина — хвалу спасителю Эфросу. Актеры сидели понурые.
1986 год
18 ноября. Выехали с Эфросом на гастроли в Польшу. Во Вроцлаве пресс-конференция. Очень много вопросов Эфросу: зачем он пришел на «Таганку». Он отшучивался.
27–30 ноября. Варшава. «Театр Польски». 28-е — «На дне». 29-е — «У войны не женское лицо». 30-е — «Вишневый сад». Открытое обсуждение спектаклей Эфроса. Резко осуждают его за приход на «Таганку». По-моему, он первый раз услышал эту резкую правду. Прием у министра культуры. Эфрос болен — сердце.
10 декабря. Эдисон Денисов передал письмо от Любимова, написанное мне 8 ноября в Лондоне. Пишет, что ему передали о наших хлопотах и походах с целью его возвращения. «Вспомнилась вся наша жизнь Таганская; сколько энергии вгрохано — подумаешь и удивишься: откуда брали. Возродить „Таганку“? Это как воз родить!..» Дальше Ю.П. пишет, что у него перед глазами фотография Твардовского, который стоит на пепелище своего родного дома у печной трубы, опустив голову. «Напишите, кто хочет работать со мной. Можем ли возобновить наши лучшие работы». Пишет, что не может разорвать сейчас ряд контрактов, обязан их выполнить, работать на Западе. «Напоминаю Вам: я получил официальное разрешение лечиться, после смерти Андропова был выгнан из театра, хотя Андропов передал перед смертью, что я могу возвращаться и работать. Черненко лишил меня гражданства». И в P.S.: «Обнимите, передайте поклон тем, кто помнит, часто вспоминаю вас».
11 декабря. «Вишневый сад». Показала любимовское письмо кое-кому из актеров и Эфросу.
13 декабря. Написала ответ Любимову, отдала Шнитке для передачи.
«Дорогой Юрий Петрович! Если бы Вы знали, как мы Вас ждем! Все. Даже Театр Вахтангова: прошел по Москве слух, что Вы там будете главным режиссером, если вернетесь…
Письмо наше наверху еще не читали, но, по нашим сведениям, — вот-вот… Мы после Ваших весточек предпринимаем кое-какие шаги… время для возвращения сейчас неплохое…
Мы подготовим все, что сможем. Уже восстановили „Дом на набережной“: Идет с огромным успехом. Хотим 25 января сыграть Володин спектакль. Дупаку сказали официально, что можем восстанавливать любой спектакль. На очереди „Мастер“. Если вопрос с Вашим приездом решится положительно, то к приезду постараемся восстановить „Бориса“, чтобы у Вас было меньше черновой работы… Но главное, чтобы вопрос решился юридически, чтобы Ваше имя стояло на афишах… Естественно, поднимая вопрос о возвращении, хлопочем о гарантии Вашего свободного выезда туда-обратно. Когда Вы приедете, соберется вся „старая гвардия“: и Коля, и Веня, и Леня, и Шопен[9] — все, кто сейчас на стороне…Мне кажется, „возродить“ старую „Таганку“ можно. На другом витке: с мудростью, битостью и пониманием…
Как Вы нас обрадовали своей весточкой!»
15 декабря. Узнали, что Горбачев не может или не хочет решать единолично вопрос о возвращении Любимову гражданства. Нужно написать письмо с этой просьбой в Верховный Совет.
23 декабря. «Вишневый сад». В антракте зашел Эфрос, сказал, что спектакль расшатался и он его будет репетировать перед гастролями в Париже. В конце кричали «браво». Опять пришел Эфрос. Поговорили о письме коллектива в Верховный Совет с просьбой о возвращении Любимова. Эфрос это письмо подписал. Что будет, если приедет Любимов? Я успокаивала: естественное разделение. Эфрос со своим репертуаром — на Новой сцене, Любимов — на Старой. Тем более что Ю.П. пишет в своем письме: «Надо работать на Старой родной сцене, там и стены, помогают». Будет два театра под одной крышей и с одной труппой.
30 декабря. «Вишневый сад». Хороший разговор с Эфросом. Он сказал, что, если бы поставил только «Вишневый сад», этого было бы достаточно. Он нервничает. Болит сердце. Сказал, что после Нового года ляжет в больницу.
1987 год
8 января. «Вишневый сад». Перед спектаклем зашел Эфрос. Говорил о худсовете и о гастролях во Франции. Сказала ему, что ночью будем говорить по телефону с Любимовым — он в Вашингтоне ставит «Преступление и наказание».
После спектакля — у Жуковой — Маша Полицеймако, Давид Боровский с женой, Веня Смехов с женой и я. Маша, Таня, Веня, Давид и я по очереди говорили с Любимовым. Он возмущался, разговаривал с нами жестко и нехорошо: «Вот вам же разрешили почему-то сейчас говорить со мной». Нам никто не разрешал — на свой страх и риск. У Давида тряслись руки, но он говорил очень спокойно: «Да, да, Вы правы, Ю.П.», «это верно, Ю.П.».
Мы просили Ю.П. написать письмо в Президиум Верховного Совета о гражданстве. Он не согласился, говорил, что все предатели. Я ему попробовала что-то объяснить, он завелся, высказывал все накопившиеся обиды, просил позвонить Делюсину — тот поможет…
12 января. Общее собрание. Эфроса не было. Все кричали. Очень сумбурно. Выбирали худсовет. Эфрос оставил письмо со списком худсовета. У Наташи Крымовой день рождения — позвонила, поздравила.
13 января. Умер Эфрос. В 2 часа дня — дома — инфаркт. «Скорая». В три часа его не стало. Звонила Наташе Крымовой: там ужас. У меня такое же чувство, как после смерти Высоцкого. Все потрясены.
15 января. Позвонил Леня Филатов — о худсовете с Губенко и об их возврате в театр. Позвонил Боря Биргер — ему сказал Юра Корякин, что Любимов завтра приезжает. Слухи по Москве.
17 января. «Вишневый сад». Перед спектаклем мы все вышли. Я — очень нервно: речь об Эфросе. После спектакля у Дупака — Жукова, Полицеймако, Золотухин и я. О худсовете. Золотухин — председатель, чтобы не подсунули другого. Все ужасно! Докатились.
19 января. В театре собрание. Я не пошла. Выбрали худсовет. Председатель — Дупак. Заместители — Глаголин и Золотухин.
27 января. Пресс-конференция в театре о гастролях во Франции и положении дел. На вопрос о возвращении Любимова пришлось отвечать мне. Потом скучная инструкция: что можно, чего нельзя.
1 февраля. Гастроли в Париже до 17-го.
18 февраля. В «Литгазете» статья В. Розова «Мои тревоги».
23 февраля. Ответ-письмо от коллектива Театра на Таганке.
3 марта. Собрание коллектива. Губенко прошел единогласно.
9 марта. Официальное представление труппе Губенко как художественного руководителя. Его тронная речь; пафосно-официальная и не по существу.
1988 год
8 мая. Любимов приезжает в Москву по частному приглашению Губенко до 13 мая. Встреча в аэропорту. Незабываемо. Он бледен и в глазах за темными стеклами очков слезы.
9 мая. Любимов пришел в театр. Его кабинет — все как было. Начали репетировать «Бориса».
10 мая. Прогон «Бориса». После прогона собрались в верхнем буфете на замечания. Любимов был на удивление мягким, извинился, что, может быть, мешал нам, актерам, когда шептал свои замечания на магнитофон:
«Извините, основные соображения всегда обычны и банальны. Когда мы ставили этот спектакль, основная наша удача была в том, что текст Пушкина звучал ясно и понятно, когда он, отрываясь, выходил из пения и так же естественно уходил в наши распевы. А сейчас вы часто просто декламируете, и я текст иногда не понимаю. Пять лет назад нам ведь и запретили этот спектакль из-за этого мощного текста. Ты, Валерий, иногда кричишь, но ничего не слышно, а когда говоришь тихо, через зал, с посылом, со смыслом, слышно. Главное — мысль. Когда я сейчас говорю с вами, я ведь часто меняю интонацию, но не теряю мысль. Я не люблю терминологию Станиславского, у нас — своя, но основа одна — правда. Вы же часто друг друга не слушаете, мешает много ненужных завитков, структуру стиха нельзя разрушать, как нельзя разрушать музыкальную структуру. Прошу вас посмотреть знаки препинания в тексте. О форме не беспокойтесь… Вы разучились разговаривать со зрительным залом, а ведь мы этому учились еще в театральной школе через Брехта. С годами это свойство стирается. Присмотр нужен жесткий за нашей профессией. Алла, перестаньте держать передо мной экзамен, вы его давно выдержали».
1992 год, 20 мая. Премьера «Электры» в Афинах.
1994 год, 6 декабря. Разговор с Любимовым в Афинах о наших разных взглядах на театр. Встретилась с руководителями «Мегаро» (дают деньги на «Медею»), я отказалась участвовать в этом проекте.
1995 год, 4 июля. Написала по просьбе директора театра заявление об отпуске без сохранения содержания.
После раскола театра на губенковскую и любимовскую труппы (я, естественно, у Любимова) — опять беготня по кабинетам и судам. Ездила по Москве, собирала подписи в поддержку Любимова. Швейцер сказал, что в таганковской истории, как в трагедии, нет правых и неправых…
* * *
…Эфрос мне иногда снится. Недавно приснился, и так явно, что я даже сон запомнила. Во сне я говорила ему: «Знаете, Анатолий Васильевич, вы напрасно порвали с «Бронной». А он: «Там невозможно было жить, там у меня не было друзей». Я: «Но все равно это — ваш театр. И даже если вы не могли работать с теми, кто вас предал, вы бы начали работать с другими но на этой площадке, она — ваша. Там бы вы оставались в собственных стенах, и ваш энергетический заряд многих бы притянул. Эту пуповину нельзя было рвать…» Вот такой у меня был сегодня ночью с ним разговор.
Еще при жизни Эфроса был юбилей Павла Александровича Маркова, мне позвонила Таня Шах-Азизова и сказала, что в Доме ученых будет вечер Маркова. Но сам Марков не хочет присутствовать на сцене, а хочет, чтобы в концерте показали отрывки спектаклей, о которых он писал последнее время, и один из них — «Вишневый сад» Эфроса.
Но ведь «Вишневый сад» нерасторжим на сцены, он весь — одним накатом. Кроме того, на фоне белых стен Дома ученых, но без белых костюмов, надо играть иначе — более объемно, более резко. Но Таня меня уговорила.
Я выбрала сцену с Петей Трофимовым, позвонила Золотухину — он откликнулся. Подумали: не в белых ли костюмах? — но это выглядело бы странно на голой сцене. А я тогда носила длинные юбки и много бус. Эфрос говорил: «Вы, Алла, как новогодняя елка — сверкаете и звените…»
И вот я, как лежала на диване в длинной юбке а-ля хиппи, так и пошла на вечер. Собственно, и костюм Раневской — такой же, только в белом цвете: все развевается, непонятно, где начало, где конец этих тряпок.
Прихожу. Как всегда, опаздываю — вечер уже начался. Слышу знакомую мелодию, подхожу к кулисам и вижу, что это показывают кусок из «Вишневого сада» с Книппер-Чеховой, но запись, очевидно, конца 40-х, потому что Книппер очень старая. И как раз — сцена с Петей Трофимовым. Играют медленно-медленно, и если наша сцена длится 5–6 минут, они треть ее играют минут 10. И я подумала: «Ну, мы в порядке. На этом фоне мы, конечно, выиграем». Правда, потом, когда камера пошла за окно — к расцветающим вишневым деревцам и зазвучал знаменитый вальс, я поняла: видимо, была какая-то особая атмосфера… Закончилось. Гром аплодисментов, просто шквал, как бывает в Парке культуры, когда там молодежь. Я посмотрела в зал: там сидят старенькие академики в черных шапочках и их жены с брошечками на груди. Но аплодируют так, как в юности не аплодировали, и плачут с кружевными платочками у глаз. Тогда я сказала себе: «Алла, подумай! И сконцентрируйся…»
Поскольку вечер продолжался, а Золотухина еще не было, я пошла за кулисы. В Доме ученых две гримерные. Открыла одну дверь — там сидят «старики» в меховых боа, в вечерних платьях, в смокингах и во фраках: Кторов, Степанова, Зуева, Козловский, Рейзен — и что-то говорят светскими, поставленными голосами. Я тут же закрыла эту дверь, потому что своим видом никак туда не вписывалась и вообще они для меня были слишком великими, я не осмелилась бы даже сказать «здравствуйте». Открыла другую дверь — там среднее поколение. Тоже в черных костюмах, но уже в других. Травят анекдоты и смеются. А я в то время не воспринимала закулисную трепотню, поэтому опять закрыла дверь. Нашла где-то стульчик, полусломанный, поставила его за кулисами и стала смотреть. Играют «Чрезвычайного посла» — Кторов и Степанова. Играют все на зал, абсолютно не общаясь (где это знаменитое мхатовское общение и погружение в суть роли?!). Говорят поставленными голосами, видимо, оба немножко глуховаты, поэтому форсируют слово. Играют медленно. Но я завораживаюсь их статью, уверенностью, каким-то благородством внутренним и уважением к слову. Я-то слово никогда не уважала, но тогда подумала, что, видимо, оно несет какую-то функцию, помимо содержания, помимо интонации — какую-то энергию.
После их выступления — опять шквал аплодисментов. Потом играет Зуева Коробочку, Харитонов — Чичикова. Зуева гениальна, хотя наигрывает, как могут только характерные старухи в комических ролях. Харитонов не наигрывает, но мало интересен. Я опять подумала: «Видимо, в старой школе что-то было, напрасно я ее для себя зачеркиваю».
Потом поют Рейзен и Козловский. Рейзен до этого не выходил лет десять на сцену, волновался безумно — у него дрожали руки, когда он держал лорнетку. Они пели «Не волнуйся, наше море…», и Козловский свое «ля» тянул раз в десять дольше, чем Рейзен, а тот удивленно на него смотрел: ждал, когда это «ля» закончится.
В это время появляется Золотухин. Пьянее вина. Он слышит, как поют Козловский и Рейзен, и плачет. И в зале многие плачут от того, как эти два старика гениально поют. Золотухин трезвеет на глазах, понимает, куда он попал. Я ему говорю, что мы можем как-то «проскочить», если будем играть как последний раз в жизни на крупном плане кино. То есть никак не актерски, не подавая реплики в зал, только внутренне концентрируясь на мысле-образах, на партитуре. Это очень трудная техника, но Золотухин — гибкий актер и иногда может мобилизоваться.
Я выхожу на сцену: серые сукна, вместо скамейки из «Вишневого сада» два стула. После вечерних платьев, смокингов и боа — шок от моего вида. Я объясняю, почему я так одета, объясняю суть роли и декораций, пытаюсь ввести зрителей в атмосферу спектакля. Меня плохо слушают, я их раздражаю своим ассоциативным мышлением. Им нужен последовательный рассказ, а у меня его быть не может, я этого просто не умею. Комкая мысли, налезая фразой на фразу, я заканчиваю и говорю: «Воспринимайте нашу сцену как экзерсис»…Мы действительно никогда так не играли — так по-живому, так концентрированно, так нервно. Мы нашу сцену выпалили за три минуты, просто выбросили, как плевок. И мы ушли под звук собственных шагов не было ни одного хлопка…
Когда мы играли, мой внутренний режиссер говорил, что мы играем неплохо. Для себя. Но мы провалились, а отсутствие контакта со зрителем абсолютно зачеркивает внутреннее ощущение. И когда в театре назначили «Вишневый сад», я сказалась больной — я не могла это играть. Потом поговорила с Эфросом, и он очень разумно мне сказал: «Алла, вот представьте себе: в консерватории играют знакомую классическую музыку, а потом на три минуты выходят „Битлз“. Представляете, какое они бы вызвали раздражение! И наоборот — попробовал бы Рихтер сыграть на джазовом фестивале…» Это меня как-то успокоило, и я продолжала играть «Вишневый сад». В Доме ученых я не появлялась много-много лет. Потом, кажется, через год после смерти Эфроса, был вечер его памяти. Его проводили в Доме ученых. И я всю эту историю рассказала зрителям. Когда я уходила за кулисы, одевалась, садилась в машину — все еще слышались аплодисменты, хотя публика была, конечно, другая…
ИЗ РАБОЧИХ ТЕТРАДЕЙ
Я не люблю начинать новую работу. Это доходит до наваждения. Очень часто, когда можно отказаться — я отказываюсь, чтобы не проходить этот мучительный процесс — начало. В театре отказаться трудно, почти невозможно. Но если на роль назначены несколько исполнителей, иногда это выходит само собой — так как я плохо начинаю, меня обгоняют, и я волей-неволей отпадаю. В кино я сейчас соглашаюсь в основном из-за обязательств перед режиссерами, у которых снималась раньше.
Но если я все же взялась за работу — начинается самый трудный период. Появляется неуверенность, я раздражаюсь по всякому поводу — и из-за непрофессиональных гримеров, и из-за костюмов, еле-еле себя сдерживаю, чтобы или не расплакаться, или не нагрубить. В конце концов костюм кое-как найден, грим — то, что умею сама. Вхожу в декорацию. Все чужое — стены, вещи, люди. На площадке много посторонних, которые слоняются без дела, создают суматошно-нервное состояние перед началом съемок, так как всегда что-нибудь не готово и перед самой «хлопушкой» что-то прибивают, переставляют свет, переругиваются или ищут какую-нибудь забытую вещь по всей студии.
Можно бы, конечно, взбунтоваться и сказать, что в такой атмосфере сниматься не буду, но после этого я уже не смогу ничего сыграть.
Обычно, когда размечается мизансцена, я стараюсь выстроить для себя внутренний монолог — что я в это время думаю. Может быть, это обедняет роль и, может быть, лучше играть свободно, используя неожиданные детали, каждый раз меняя рисунок. Если бы я работала с режиссером, которому полностью доверяю, думаю, что была бы более свободна. Но так как снимают маленькими кусками, по нескольку дублей, а на монтажном столе режиссер отбирает дубли и выстраивает сцену, иногда не очень заботясь о ровности и непрерывной логике актерской игры, приходится об этом думать самой и упорно следовать на площадке намеченной заранее линии. Поэтому эти внутренние вехи, фиксация мысли (волевое усилие заставить себя на таком-то месте думать о том-то) намечают какую-то свою линию, свой рисунок роли, иногда слишком нарочитый. Но это, повторяю, от недоверия к творчеству других — это мой большой недостаток, и я из-за него много теряю. И чем дальше я отхожу в роли от себя — тем крепче я держусь своей упрямой линии.
Тем более что в нашей советской системе интеллигенция не могла себе позволить роскошь исповедоваться в творчестве. Мы хранили свои мысли и чувства при себе и в этой борьбе с системой, может быть, потеряли себя. Во всяком случае, я никогда не играла себя и сейчас не смогла бы это сделать, даже если бы понадобилось.
Игра, по определению, не могла быть для умного актера символом искренности и исповедальности. Такой актер не себя играл, а роль. Но я заметила, что чем больше разрыв между жизнью и профессией — между первой и второй реальностью, — тем сильнее человек ощущает себя в профессии. Этот разрыв, мне кажется, характерен для всех профессий. Например, педагог не обязан соблюдать все те благородные заповеди, которые преподносит ученикам; врачи реже, чем все остальные, обращаются за медицинской помощью; а сапожник, как известно, ходит без сапог.
Впрочем, может быть, я напрасно здесь грешу на советскую систему, ибо актер, если он профессионал, всегда будет играть только Роль, размывая свою человеческую сущность.
У прекрасного русского философа Розанова были интересные заметки о театре и актерах. Он писал, что после спектакля, в котором актер хорошо играл, побаивался заходить в гримерную, ибо страшился увидеть там Пустоту или — «увидеть всего-навсего того человека, жизнь которого так срослась с бесчисленными и разнородными ролями, театральными образами, что трагически потеряла собственное, не имитируемое, не воображаемое, а реальное содержание, без которого человек (вне зависимости от глубины его ума и яркости таланта) — только череда масок, за которыми стыдливо таится духовная пустота».
С этим утверждением можно не соглашаться, но нельзя не признать того, что актер по природе своей профессии управляем, он произносит чужой текст «не свои слова чужим голосом» — как определял Куприн. Ведь кажется, что именно на духовно пустого человека легче всего надеть любую маску и, соответственно, поручить ему любую роль. Но в этом и заключается парадокс актерского искусства: с духовной пустотой ничего не сыграешь, роль надо наполнять своей личной (повторяю: своей, а не чужой — авторской, режиссерской) духовностью.
* * *
Почти в каждом искусстве есть свои формальные приемы и законы, но попробуйте установить основные законы в актерском искусстве, и станет ясно, что сколько людей будет об этом говорить, столько же получится и теорий, так как каждый станет говорить о приемах своего творческого «я». Поэтому, говоря об общих законах актерского мастерства, мы всегда ссылаемся на того, кто эти законы обговаривал: теория Станиславского, школа Вахтангова, методы Мейерхольда, брехтовское отчуждение…
К сожалению, в этом списке нет имен актеров, «классики» писали об актерской профессии, уже став режиссерами. Об актерской профессии писали и критики, и психологи (говорят, академик Павлов, изучая условный рефлекс, после обезьян хотел заняться актерами), и литераторы; впрочем, и актеры — но все как бы со стороны, оценивая результат. А если и говорили об актерском мастерстве, то вскользь, словно боясь потонуть в дебрях терминов, в «трясине» подсознания и интуиции.
Я не беру на себя смелость выводить непреложные законы актерского мастерства (их просто нет!) и делать какие-нибудь поспешные выводы. Но если у читателя к концу моей книги сложится представление, пусть противоречивое и нелогичное, об актерской профессии, которая сама так же нелогична и противоречива, как о ней пишут, — я буду считать, что свою задачу выполнила.
Актерский мир — среда особая, «чужаку» здесь многое покажется пустым, непонятным, надуманным, манерным. Я помню, как одна заплаканная зрительница после кровавого финала «Гамлета» зашла за кулисы и, увидев хохочущих Лаэрта, Клавдия и самого Принца Датского (Высоцкий рассказывал какой-то анекдот), сказала: «Ну, конечно, у вас, актеров, все легко…»
А когда актеры играют спектакль после смерти близкого человека? Это что тоже — «все легко»? Но ведь крестьянин после смерти жены идет задавать корм животным и работает по хозяйству. Сцена — то же хозяйство. Острота утраты не притупляется, но жизнь идет своим чередом. Когда у нашего актера Гоши Ронинсона умерла мать, он пришел вечером играть спектакль и, как ни странно, играл намного лучше, острее, ярче, чем всегда. После похорон Высоцкого 28 июля 1980 года мы приехали с Ваганьковского кладбища в театр и вечером играли «10 дней, которые потрясли мир». И совсем недавно, после смерти Олега Ефремова, но еще до его похорон во МХАТе играли комедию Мольера «Тартюф». Перед началом публике было объявлено о смерти художественного руководителя, зал стоя почтил его память минутой молчания, и… началась комедия. Мне жаловался Любшин, что минут сорок расшевелить зрителей было невозможно. Они сидели молча и не знали, как реагировать на происходящее на сцене. Но потом, говорил Любшин, все пошло своим чередом…
Домашняя хозяйка после смерти мужа, с распухшим от слез лицом готовит детям обед, подметает пол, убирает комнату. Сцена — тот же дом, который нельзя оставить без присмотра. Только несоответствие между высоким и земным здесь резче, заметнее.
Я очень люблю наблюдать за актерами во время репетиций, спектаклей, гастролей, за кулисами. Всегда кто-нибудь рассказывает смешные истории, которые, судя по рассказам, происходят почти со всеми. Или идут бесконечные выяснения отношений в гримерных — «разговоры по душам». В бытовых разговорах — обилие цитат из спектаклей, иногда к месту, иногда нет. Бывает, что какая-нибудь фраза становится ответом на все случаи жизни. Например, в первые годы на «Таганке» при нелепицах, неожиданностях, опоздании говорили: «Дон Карлос, здравствуйте!» Видимо, эта фраза возникла при «накладке» в каком-нибудь старом спектакле, да так и осталась в жаргоне. Жаргонных слов очень много, особенно в работе. Может быть, поэтому трудно точно объяснить неактеру какие-то профессиональные моменты — все так обросло жаргонными словечками, старыми и только что возникшими на репетиции, что смысл ясен только посвященным.
Кстати, из-за обилия запоминаемого текста актер и в быту становится просвещенным человеком — ведь у него в памяти навсегда остались пьесы и Шекспира, и Чехова, и Мольера… Я заметила, что актеры очень много читают, помимо пьес и сценариев. Читают все без разбора — от серьезных философских произведений до детективов Марининой, Поляковой, Дашковой. Знают массу стихов, у каждого — свои любимые поэты, и в этой любви доходят до интересных литературных открытий. Любят об этом поговорить, настаивая на своих пристрастиях.
В компании, когда актеров больше, чем «чужих», всегда берут инициативу актеры. И вот уже выслушиваешь в сто первый раз, но всегда с большим интересом, потому что исполняется каждый раз по-новому, легенды про великих актеров, байки про театральные накладки, смешные оговорки.
В «чужих» компаниях, словно выйдя из-за кулис, где они только что весело шутили, были просты, непринужденны, естественны, актеры вдруг начинают играть не свойственную им роль, то впадая в велеречивость, в неестественный пафос, то балагуря, хихикая, то поднимая шум, скандал… Другие, наоборот, делаются невыносимо скучными, банальными, молчаливыми. Все это — защитная реакция от непонимания профессии, которую публика видит только с парадного входа.
Иногда актер начинает искренне говорить о том, что ему дорого и свято, над чем мучается бессонными ночами и трудится в поте лица у себя в театре, а встречает снисходительную усмешку или в лучшем случае торопливый кивок.
Когда при мне случайные попутчики в поезде или малознакомые люди в застольной беседе начинают говорить о театре или кино, я отделываюсь ничего не значащими шутками, полусловами, улыбками, поддакиваниями. Так всем легче. Как-то своему мужу, сценаристу Владимиру Валуцкому, я придумала реплику для его сценария «Повесть о провинциальном актере». В этом фильме главную роль провинциального актера играл Евстигнеев, а его товарища по театральной школе, ставшего столичной звездой, — Стржельчик. И вот после долгого перерыва они встретились, разговаривают, выпивают в гримерной после спектакля, и один другого спрашивает: «Ты женился?» — «Да, давно». — «Кого взял: из наших или из публики?» «Наши» и «публика» — два враждующих мира, при встрече которых высекается искра, возникает поле натяжения, что и является театральным искусством.
На творческих встречах со зрителями или в своих книгах актеры пытаются раскрыть тайны своей профессии, объяснить природу и психологию своего искусства. Но вообще-то — стоит ли раскрывать тайны, стоящие между актером и зрителем? И в чем эти тайны, передаются ли они словами?..
И если все же некая тайна окутывает актерский труд, невольно проявляясь в привычках и манере поведения, — то не ради ли этой тайны зритель приходит в театр?..
Я заметила, что совершенно не могу играть — и считаю это своим большим недостатком — с людьми мне неблизкими, даже если они что-то могут в профессии. Главное — чтобы партнер был одной со мной вибрации. Но если он мне неблизок по духу — стена. Недаром Сартр сказал: «Ад — это другие». Если партнер — «другой», то я не могу играть. Я начинаю проигрывать (причем именно я, не он), а он ничего не замечает.
У меня никогда не было «своего» театра, «Таганка» никогда не была до конца «моей». Легко мне игралось только, пожалуй, с Золотухиным и с Высоцким.
О «Таганке» я, может быть, когда-нибудь напишу отдельную книгу — у меня остались мои дневники, по которым день за днем можно восстановить всю историю театра. Без «Таганки» мне трудно что-либо объяснить в профессии, ведь я проработала там больше 30 лет…
Любимову не разрешили поставить «Доброго человека из Сезуана» в Театре имени Вахтангова, и он принес Брехта в Щукинское училище. Мне кажется, он тогда не знал, какой театр будет делать: неудивительно, что уже на следующем после «Доброго человека» спектакле — «Герое нашего времени» — мы блистательно провалились. Тем не менее что-то продолжало складываться: актеры и близкие театру люди приводили знакомых, кто-то становился другом. Например, для своего вечера попросил сцену Андрей Вознесенский, потом однажды он сам не мог выступить и попросил актеров — так появились «Антимиры».
Своеобразную роль сыграл на «Таганке» Николай Эрдман: его слова «прочищали мозги», а это многого стоит. Студенткой мне казалось, что существует «петушиное» слово — достаточно его услышать, и станешь профессионалом. Такого рода было влияние Эрдмана: его слышал только тот, кто слышал. Например, после одного из художественных советов, на которых все говорили взахлеб и в основном глупости, Эрдман молча курил. Любимов попросил его выступить. Эрдман откликнулся: «Ну что я могу сказать? Актеры — как дети. Пять минут играют и три часа сутяжничают». В следующий раз поостережешься сказать при нем какую-нибудь глупость.
Вначале на «Таганке» не было никакой политики. Это было время поисков формы, эклектики, вкус к которым диктовал зритель. Публика, привыкшая к академическому ползучему реализму, откликалась именно на форму наших спектаклей, не на содержание. Уже потом, после 68-го года, вокруг театра появился круг людей определенных социальных взглядов, возник знаменитый расширенный худсовет (я вообще считаю, что профессия режиссера — не выдумывать, а брать. В этом смысле Любимов абсолютно гениален. Он может услышать шепот осветителя, присвоить сказанное и развить. И в то же время может не реагировать на слова своего ассистента, если они ему неинтересны). Только тогда появилось то самое содержание, которым славилась «Таганка». Пришли новые авторы — Борис Можаев, Федор Абрамов, Юрий Трифонов… Театр научился ставить диагноз болезням общества. Зритель услышал со сцены то, что говорил шепотом у себя на кухне. И эти слова, произнесенные со сцены, формировали общественное мнение.
Что меня держало в этом театре? Ведь очень многие спектакли мне были не по душе своей открытой публицистичностью. Но «Таганка», к чести своей, никогда не опускалась до пошлости. Любимов не ставил современных, так сказать, арбузовско-розовских пьес. Мы предпочитали инсценировки. И потом, мы все были равны. У нас не было иерархии возрастов и званий. И не было традиций — мы начинали на ровном месте. (Помню, шла я как-то в Париже по Сен-Мишель и вдруг в толпе слышу русскую речь: «Провинция — это кладезь традиций», оглянулась — два «русских мальчика» решают свои великие вопросы, и что им этот Париж и толпа туристов из всех стран…) В традиции, конечно, есть и плюсы и минусы. Но для нас, начинающих тогда прорываться в Неведомое, традиции скорее были бы тормозом.
В театре меня всегда спасало то, что я жила на обочине. Но когда на «Таганке» произошел глобальный конфликт, вдруг все выявилось: все болезни, весь гной. Я от этого не бежала, но выходить на сцену в той ситуации не могла себе позволить. Сначала я пробовала, но поняла, что качусь катастрофически вниз. После каждого спектакля не спала ночь. И я стала себя хранить (актеры — хитрые люди): то брала больничный, то делала вид, что куда-то уезжаю и т. д. В общем, «филонила». Но актерам, которые в той ситуации выходили на сцену, видимо, было обидно: что это за белая кость? Они пришли к тогдашнему директору Борису Глаголину и сказали: «Или пусть играет, или пусть пишет заявление об уходе…» Глаголин меня вызвал и спросил: «Хотите узнать, кто это сказал, от кого это желание идет?» Я говорю: «Нет, потому что знаю». И написала заявление. Ушла. А то — может быть, я до сих пор бы там играла…
К «Таганке» в этой книге я буду возвращаться еще не раз, и пусть читатель не думает, что этот театр мне безразличен.
Меня до сих пор интересует моя профессия. Я хочу суммировать мой жизненный опыт, поделиться им с читателем. Понимаю, что многие «истины», о которых я здесь пишу, давно открыты другими, но ведь я здесь пишу о своей жизни и о тех людях, которые на меня оказывали влияние в профессии.
ЗАПОЛНИТЬ ПАУЗУ
Скучаю по актерской паузе. Знаю, что это, пожалуй, самое трудное в театре — «держать паузу». Именно «держать». Это ощущение похоже на телекинез, о котором сейчас много пишут, — когда якобы силой воли или напряжением какой-то другой энергии в воздухе зависает предмет. Точно такое же энергетическое напряжение требуется от актера, чтобы пауза «зависала».
Я помню Николая Симонова в Сальери, в спектакле Ленинградского театра имени Пушкина — незабываемое его начало роли: открывался занавес, в глубине сцены стоял спиной к публике Симонов — Сальери в полнейшей тишине. И чем дольше молча стоял Симонов, тем больше сгущалась эта тишина. Но когда это предгрозовое ощущение уже невозможно было вынести, он резко поворачивался и гневно, отрывисто, со своей характерной и четкой артикуляцией, как молния, разражался долгожданной фразой: «Все говорят: нет правды на земле, но правды нет и выше»… Незабываемо!
Рассказывают, что, когда Михаил Чехов играл Гамлета, он в середине одного монолога неожиданно умолкал, и зависала огромная пауза. Зал напряженно ждал. Когда Чехова спросили, о чем он в это время думал, он сказал, что ни о чем, просто разглядывал гвоздь в полу. Не знаю, правду он про себя сказал или выдумал, чтобы отвязаться от досужих расспросов, но даже если это так, то, видимо, на этом гвозде была такая сильная концентрация актерской энергии и воли, что сам по себе гвоздь ничего не значил.
«Зоны молчания» были в спектакле Анатолия Васильева «Взрослая дочь молодого человека», который он сделал в конце 70-х годов в Московском театре имени Станиславского. После бурных диалогов, которых не помню, наступала пауза — актеры делали салат. Причем интересно было смотреть за тем, как они его делают, то есть за чисто физическим действием, но чем дольше они молчали, тем интереснее было нам, зрителям, входить в зону напряжения, которая уплотнялась почти физически от продолжительности паузы. Актеры не просто молчали, они молчали о том же, о чем тогда молчали мы, потому что все слова были уже сказаны. Жизнь персонажей на сцене и наша были адекватны. А нашу жизнь и нас самих мы тогда научились понимать без слов. Это был, конечно, сознательный режиссерский расчет, но воспринимался он тогда как новый язык театральных выразительных средств, как новое театральное открытие.
И хоть кажется, что мы друг про друга все знаем, мы живем друг от друга скрытно. А скрытные люди, как известно, много говорят — это еще Чехов заметил. Слова в его пьесах — это ширмы, словами герои прикрывают свои чувства. А раскрываются они неожиданно через чебутыкинское «Та-ра-ра… бумбия… сижу на тумбе я» или знаменитое «трам-там-там» Вершинина и Маши. Здесь скрытое бессловесное телепатическое общение уже доведено до простого звука.
У Чехова в драматургии очень много можно найти таких пауз. Все умолкает — остается одно безмолвное осязание. Ощущения на дословесном уровне.
Может быть, это происходит из-за недоверия к слову. У Толстого, например, в пьесах чувство и слово неразрывны. А у Чехова чувствуют одно, говорят другое, поступают совсем невпопад. Сцена Ирины и Тузенбаха перед дуэлью. Говорят о своих отношениях, а не о самом главном — предчувствии гибели, и вдруг: «я не пил сегодня кофе…» Вместо слова — осязание. Паузы заполняются ничего не значащими словами.
Иногда, чтобы выделить какую-нибудь фразу, перед ней нужна пауза. Мне очень нравится рассказ соратницы Ленина Марии Моисеевны Эссен. Она вспоминала, как они с Лениным были в горах в Швейцарии. Красота гор, неба, альпийские луга и снежные вершины. Сидели и молчали. И вдруг В.И. выпаливает: «А здорово гадят меньшевики!»…
… Я мечтаю о том времени, когда мы придем в театр, откроется занавес, актер выйдет на авансцену, сядет в удобное кресло, мы поглядим друг на друга — и замолчим часа на полтора. Но такой актер еще не родился, к сожалению. Впрочем, и зрителя такого тоже нет.
Я не люблю в театре антракты — паузы пустоты. Они снимают напряжение, достигнутое великим трудом вначале. После антракта актерам надо начинать с нуля. (Как я, помню, плакала, когда Любимов в «Гамлете» решил перерезать антрактом нашу ночную сцену Гертруда — Гамлет, самую напряженную, которую мы с Высоцким играли по восходящей. И как нам приходилось начинать с нуля, когда зрители возвращались после антракта из буфета…)
Пауза напряжения — высшее проявление актерской профессиональности. Как-то, глядя по телевизору присуждение профессиональных актерских наград «Золотая маска», я подумала: а не ввести ли в них новую номинацию — за лучшую актерскую паузу?
Актерские паузы бывают не только на сцене — они бывают и в жизни: паузы простоя, и в них надо тоже работать, и работать более напряженно, чем всегда. Я люблю такие паузы между ролями — это паузы накопления. И считаю, что актеру нужно платить не только за работу, но и за возможность на время отключиться от «игры».
Много лет назад на сцене ВТО был вечер Театра на Таганке, и назывался этот вечер-концерт «На досуге». Мы, актеры, должны были поделиться со зрителями, чем мы занимаемся на досуге, то есть в свободное от работы время. Я свое выступление начала, может быть, несколько парадоксально: «На досуге я играю спектакли, снимаюсь в кино, работаю на телевидении…» Но для меня в этом не было парадокса. Основная работа актера — в накоплении знаний: изучение жизни и истории, наблюдение окружающих нравов, привычек, лиц, характеров, чтение книг, общение с интересными людьми, с хорошей музыкой и живописью.
Больше всего в жизни я не люблю ездить. Не люблю собирать и разбирать чемодан. Не люблю обживать новое помещение. Не люблю новых людей… Но жизнь мне все время подбрасывает бесконечные гастроли и новые места.
Это судьба. Обязанность…
Мне однажды просчитывали реинкарнации. Сказали: «Ты была актрисой в Древней Греции». Я: «Но там же не было актрис, только актеры». — «А ты все время была мужчиной, а женщиной только в этом рождении».
И вот несколько лет назад, в Афинах, под Акрополем, в древнегреческом театре «Иродион» устраивалось некое действо: актеры всего мира должны были читать стихи о Греции на своих языках. Там были актеры из «Шаубюне», из Франции — Наташа Парри, жена Питера Брука, из Греции — Папатанасиу, кто-то из Испании, из Италии, а из России — я. Огромный амфитеатр под открытым небом, на семь тысяч человек. Среди публики я вижу Питера Брука, Любимова (он ставил в Афинах Чехова), очень много хороших людей. Профессионалов.
Все актеры должны были сидеть на сцене в белых костюмах с черными папками (как известно, западные актеры не читают наизусть). Белого костюма у меня с собой не было, я одна была в черном, а поскольку я близорукая, то все стихи выучила наизусть и папку с собой не взяла. У каждого актера был мини-микрофон. Начали греки. Микрофоны стали барахлить — то включались, то нет. В публике раздался смех. Подходит моя очередь. Я молю Бога, чтобы мой микрофон отключился совсем — акустика там прекрасная и голоса моего хватит. И действительно, мой микрофон никогда больше не включался. Читают другие. Микрофоны ведут себя по-разному. Опять моя очередь — Пушкин, «Верная гречанка, не плачь, он пал героем…» — и я с ужасом понимаю, что напрочь забыла это стихотворение. Настолько забыла, что не смогла бы даже пересказать своими словами. Сейчас я понимаю, что могла бы прочитать любое стихотворение, потому что, кроме Любимова, по-русски там никто не понимал, но тогда была слишком растерянна. И я стала молиться уже всем Богам (перед моими глазами, наверху — Акрополь): «Если я была здесь актером, помогите!..» и своему святому, к которому всегда обращаюсь за помощью перед выходом на сцену. Встала, открыла рот и услышала не свой голос. Я не знала, какая строчка дальше, — я только открывала рот, а кто-то читал за меня с интонациями, которых у меня никогда не было. И раздались аплодисменты. Я считаю, они не мне аплодировали…
С «Медеей» я ездила по разным странам, играла по 10 спектаклей подряд, но иногда у меня случались «окна» в 7–10 дней. Ехать в Москву не было смысла, и я всегда возвращалась в Грецию, так как основная «база» для репетиций, костюмов и проч. была в Афинах, в театре Теодора Терзопулоса, с которым работаю последние годы.
Как-то воспользовалась приглашением одной греческой актрисы погостить в ее доме на острове Крит. Она дала мне ключи, объяснила, как ехать. Я села на пароход и десять часов провела на палубе, любуясь морем. На берегу взяла такси, назвала местечко, и меня привезли на гору, где было всего пять домов, но только в трех горел свет. И я стала там жить. Полтора километра от моря. И такое отшельничество, такой покой на душе! Тут как раз и начинаешь понимать — когда «глаза зрачками в душу», кто ты на самом деле. Все наши оценки субъективны. Нет ведь объективного понятия добра и зла. Начинаешь вычищать из себя шлак субъективных оценок. Становишься терпимее ко всему, более отстраненно смотришь на свою работу.
Жить одной прекрасно, но, к сожалению, я подвержена ночным страхам. Как-то раз поехала в гости к друзьям в город. Вернулась поздно, а света нет. Кромешная тьма, незнакомые звуки. Я даже побоялась пойти на второй этаж за свечой. Так и сидела во мраке. И вдруг раздался телефонный звонок. Резкий звук в ночи! Ужас! Но обрадовалась необычайно. Это муж звонил из Москвы. Я представила всю ситуацию: как громкая русская речь звучит здесь, на критской земле, причем через спутник, и мне вдруг стало забавно, и перестала волноваться. А потом позвонила Маквала Касрашвили, видимо, Володя рассказал ей о моей тревоге, а позже был звонок из Парижа. Так и прошла эта темная ночь…
В жизни я человек аскетичный. Знаю, что могу жить на Икше, собирая грибы, даже без хлеба. Могу. Но за ту же Икшу надо платить… Это беспокоит и заставляет меня ездить по гастролям.
Недавно побывала на меховых складах Крутиковой. И раньше непременно бы купила себе смешную сиреневую шубу от Крутиковой. А сейчас, пусть даже мне сделали скидку, все равно я ее себе не позволила. Хотя… Может быть, я сама с собой лукавлю? Мне сейчас не очень-то и нужна сиреневая шуба, я ношу более незаметные вещи. Если бы мне очень хотелось, я бы пересилила свою осторожность.
Актер — профессия уникальная, ее надо в себе нести. По-другому жить и реагировать, иметь смелость высказывать свои мысли, носить то, что хочется, не думая о завтрашнем дне. Это советский строй внушал, что актер — такая же профессия, как все остальные, что если мы не из толпы, то мы неинтересны. Наоборот, у актеров изначально другая психика, другое мировосприятие.
Только по молодости лет возможно с утра до вечера заниматься хозяйством, а вечером играть королеву. Вся жизнь после сорока — чем ты занимаешься, что ешь и какую книгу читаешь — все это на лице и на руках. А сейчас, несмотря на то что многое в жизни изменилось, отношение к актерам прежнее или даже более приниженное. В результате общество получает унылых актеров и унылые спектакли. Ведь именно актеры дают ощущение праздника. И если на Западе «звезды» получают сумасшедшие деньги, — значит, это для чего-то нужно обществу. Я сейчас встречаюсь со многими «новыми русскими». Наличие денег дает им какую-то внутреннюю уверенность в собственных словах и реакциях. А талантливому человеку с его вечными во всем сомнениями деньги дают ощущение покоя. Талант деньгами сломать нельзя, а если сломался, значит, мало было дано таланта. И потом, актеру надо платить не столько за работу, сколько за простои и паузы.
ИЗ ДНЕВНИКА
В 75-м году я заболела и летом поехала «попить водичку» в польский санаторий «Поляница-Здрой» где-то в Карпатах. Отдыхающие в основном были польские шахтеры. На соседнем балконе двое из них целыми днями сидели, курили и дискутировали: «Палич чи ни палич?» (курить или не курить). Общаться мне ни с кем не хотелось. Я приходила в столовую позже всех, одна ходила к источнику, чтобы попить целебной воды, и молчала.
Но такое молчаливое житье, повторяю, очень полезно для нашей актерской профессии — появляется сдержанность в использовании выразительных средств, не говоря уже о других, внутренних переоценках.
В 10 километрах от моего санатория в Душниках-Здрой проходил 30-й Международный фестиваль имени Шопена. В доме, где когда-то играл сам Шопен. И я повадилась туда ездить — то на автобусе, то на случайной машине. На открытие фестиваля меня взял директор санатория. Я оказалась среди представителей власти и устроителей фестиваля. Возложение цветов на очередной шопеновский памятник. Одноэтажный дом, где проходит фестиваль, скрыт в парке.
На открытии с оркестром из Вроцлава играли Белла Давидович и Януш Олейничек. Давидович — худая, нервная, пожилая. Красные пятна на щеках и шее от волнения. Волнение передалось и мне — я сидела в первом ряду. Вспомнила своего знакомого, как он на мышах проверял эмоциональную зависимость от физиологического состояния людей. Что ж говорить о нас, бедных. Юный Олейничек волновался за гранью возможного. У меня это вызвало диаметрально противоположное чувство — я оставалась невозмутимой, даже более того, меня его излишнее волнение раздражало. Нельзя быть слугой публики. Тем более такой официальной, как сегодня. Они все равно ничего не понимают. «Они» — никто, а «ты» — мастер. Чем больше перед ними заискиваешь, тем больше они тебя презирают.
Перебирая свои дневники, я наткнулась на записи того периода.
8 августа. В Варшаве, в аэропорту, встретили меня мои старые знакомые Юреч с женой Эльжбетой. Отвезли на вокзал. Там долго ждали поезд в Поляницу. На перроне очень много народу. Студенты, туристы. В основном молодежь, поэтому сразу бросился в глаза один старик, очень элегантно одетый, его провожал пожилой мужчина, а перед ними шел носильщик и вез тележку с горой чемоданов. Чемоданы особенно привлекли мое внимание, так как я всегда езжу с маленькой дорожной сумкой.
Я помню, как с такой же сумкой в 68-м году приехала в Карповы Вары на кинофестиваль, вышла из машины у роскошного отеля, и швейцар меня удивленно спрашивал: «А где ваши чемоданы?»
Оказалось, что элегантный старик едет в моем вагоне. Вагон спальный. Он тотчас же лег, хотя поезд стоял на перроне еще час. Какая-то женщина делала пассы над его головой — он лежал. Видимо, у него болела голова. Юреч еще на перроне про этого старика сказал, что это, видимо, польский американец. Поехали. Какая-то старушка искала туалет, мой старик объяснил, как его найти. Воды во всем вагоне нет. Когда я выходила в Полянице, старика в вагоне уже не было.
Сегодня в 22 ч., в театре Шопена, на эстраду выскочил таким живчиком этот старик. Оказалось, что это Стефан Ашкенази. Ему 82 года. Играл очень спокойно и мудро (я вспоминала, как так же спокойно и немного скучно, на одной ноте Жан Вилар читал французские стихи в Москве в ВТО). Ашкенази играл Моцарта и Шопена. В зал иногда смотрел требовательно и долго. Ему мешала возня фоторепортеров. Он зло и презрительно ждал, когда все стихнет. Потом уже, не обращая ни на кого внимания, играл. Был углублен. Весь в себе. Постепенно подобрел. В зале, маленьком, человек на 50, не больше, сидели в основном профессионалы. Я заметила среди зрителей Беллу Давидович. Овация. «На бис» два раза что-то спокойно и коротко сыграл.
10 августа. С утра лежу, читаю. Болит голова. Кровоизлияние в глаз. Вечером — опять в Душники. Играет Галина Черны-Стефаньска. Играет хорошо, но по-мужски. Я сижу, слушаю и размышляю, что женщина все-таки не должна заниматься искусством. Если талантливы — то слишком не защищены, раскрываются, а там много неженского. И так их становится жалко. Весь талант взращен на подавлении своих женских комплексов, на слезах, неразделенной любви, несчастливой жизни. Предназначение женщины — в другом. «Быть женщиной — великий шаг, сводить с ума — геройство». Черны-Стефанъска пример самостоятельности и неженственности. Села за рояль, первые аккорды как быка за рога, и поскакала. Вчера Ашкенази играл шопеновский вальс прозрачно, как через призму времени, воспоминание о давно прошедших временах — милых и наивных. А эта — села и лихо, по-польски, с закрученными усами, забарабанила. Но потом она все-таки заставила идти за собой. Очень волевая женщина. В конце ей преподнес вазу и букет маленький мальчик, что-то ей говорил и поцеловал руку. Я прослезилась…
Так приблизительно я и жила целый месяц. Когда вернулась в Москву, меня встретил муж, о чем-то спросил, а я разучилась говорить — одни слова налезали на другие.
Рождение слов… Очень интересный процесс. У древних — у Эсхила, например, есть целые строчки — рождение слова: «и-и-и-и…» или «та-та-та-та», «а-а-а-а…». Может быть, будучи поэтами, они записывали процесс возникновения строчки? Ахматова, сочиняя стихи, по воспоминаниям, «жужжала», Мандельштам «пел», а у Пушкина в черновиках остались недописанные строчки в два-три слова. В 20-е годы, когда начиналась другая жизнь, поэты занимались словотворчеством: «Дыр бул щыл убет щур скум». Они хотели изобрести слова, которые бы выражали новую жизнь.
«…ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНЬЕ! ТЫ НЕ СТОЛЬ ПРЕКРАСНО, СКОЛЬКО ТЫ НЕПОВТОРИМО» Иосиф Бродский
1990 год.
Неожиданно раздается звонок: «Это говорит Иосиф Бродский. Мы с Вами не знакомы, но я хотел бы Вас пригласить на вечер, посвященный 100-летию Ахматовой, который я устраиваю в Театре Поэзии в Бостоне». Я спросила: «А кто еще там будет?» — «Анатолий Найман, я, Вы. И с американской стороны актеры и переводчики».
Оформляя эту поездку, я все думала: «Что бы подарить Бродскому?» И когда пошла за билетом, заглянула в «Букинист» недалеко от площади Маяковского. Я знала, что Бродский преподает теорию стихосложения в американских университетах, и, как нарочно, мне попались два сборника XIX века по теории и философии стихосложения. «О, — думаю, — прекрасно!» Покупаю и провожу их со страхом через таможню.
Хотя юбилей Ахматовой был в июне 1989 года, Бродский устроил вечер через полгода, 18 февраля.
Мы с Найманом приехали в Бостон, в Гарвардский университет, за неделю до концерта. Я помню огромные сугробы, расчищенные дорожки, красные каменные дома, белок, которые никого не боялись. А по расчищенным снежным дорожкам из библиотеки — в столовую, из столовой — на лекцию бегали студенты в башмаках на босу ногу, в майках и в шортах.
В Бостоне я была к тому времени не первый раз. Кажется, за год до этого в городском театре мы играли «Федру». Но тогда я жила в гостинице, надо было много работать. А тут нас с Найманом поселили в старый двухэтажный гостевой дом в викторианском стиле, с милым служителем, который готовил нам завтраки. Можно было ничего не делать, гулять, ходить на званые ужины.
Мы с Найманом подолгу гуляли, и я все время расспрашивала его про Ахматову, и по его рассказам у меня сложилось ощущение некой его «близорукости» — из-за слишком близкого расстояния (такое же ощущение, кстати, возникает, когда читаешь записки современников о Пушкине или о Достоевском). Это же ощущение у меня подтвердилось позднее, когда я читала наймановские воспоминания. Видимо, о близких людях писать не стоит, ибо надо все время держать себя в узде.
Обедали мы в профессорском клубе. Однажды я пришла, а там в одном из залов выпивают. Я тоже выпила и закусила, ко мне кто-то подошел. Я говорю: «Я не понимаю по-английски. Вы говорите по-французски?» — «Нет». Так пообщались. Потом пришел Найман, и выяснилось, что я присоседилась к какому-то колледжу, который справлял юбилей… Вот такую мы вели жизнь. Бродский не появлялся.
Наступил вечер Ахматовой. Может быть, потому, что я уже выступала в этом Театре Поэзии и знала, что туда приходят люди заинтересованные, я не волновалась. Взяла две книжки, привезенные в подарок Бродскому, и мы пошли.
Сорок минут до начала концерта. Мы все сидим в пустом зале и ждем Бродского, который должен распределить, кто за кем выступает. А его нет. Наконец появляется. Устроитель подводит его ко мне, мы знакомимся, я ему протягиваю две книжки и говорю: «А вот это я Вам привезла из Москвы». Он, как вчерашнюю газету, не глядя, кинул куда-то за спину. Я подумала: «Ну у ж это слишком!» Он говорит: «Последовательность такая — сначала стихи читаются по-английски, потом по-русски. Все сидим на сцене, русские (нас было трое) — слева, американцы — справа. В конце первого отделения — „Реквием“. Тут я встряла: „Реквием“ — сначала по-русски!» Он отвечает: «Нет-нет, как всегда, сначала по-английски». Я говорю: «Тогда я его не буду читать». Он снисходительно пожал плечами, но спорить было некогда, и сказал: «Хорошо!» И мы сразу ринулись на сцену.
Переполненный зал, хороший, но настороженный. Много русских. Бродский читает Ахматову, так же как свои стихи — поет, соединяет строчки. Чтение на слух — монотонное, не подчеркивается ни мысль, ни метафора, ни подробность, не расставляются логические акценты и не выделяется конец строфы. И только неожиданный обрыв на последнем слове, как спотыкание… Найман читает по-другому, но тоже в основном поет. И мне вспоминается фраза Мандельштама: «Голосом работает поэт, голосом». Американцы читают по-разному. Одна актриса начала «Звенела музыка в саду…» и последние строчки — «Благослови же небеса,/Ты первый раз одна с любимым» — произносит с надрывом, почти со слезами. Дальше я по-русски читаю это же стихотворение как очень далекое воспоминание — еле слышный напев, прозрачно-акварельные краски…. Зал зашевелился. Поняв, что зрители хорошо реагируют на ранние ахматовские стихи, поданные в такой манере, следующая американка читает «Сжала руки под темной вуалью…» так же прозрачно и легко, как я — предыдущее. Потом — моя очередь. А я помню, что Ахматова спустя годы терпеть не могла это стихотворение. И тогда я, войдя в образ старой Ахматовой — надменным, скрипучим голосом, выделяя твердое петербургское «г», почти шаржируя, прочитала «Сжа-ла ру-ки под те-мной ву-алью». Сажусь на место. Бродский мне — тем же голосом старой Ахматовой: «По-тря-са-юще…» В общем, когда я прочла «Реквием», английский вариант уже почти не слушали. Старалась я в основном для Бродского, играла перед ним Ахматову — какой она представляется мне в разные периоды ее жизни.
После вечера был «party» — прием…Бродского обступают пожилые американки, в золоте, с вытравленными уложенными волосами, говорят пошлости, много русских с комплиментами. Бродский, судя по разным воспоминаниям, не стеснялся «отшивать». А тут — нет: слушает, улыбается, курит, пьет водку и все больше бледнеет. Я подумала: «Уйду!» — подошла к нему и говорю: «Иосиф! Я ухожу и хочу Вас поблагодарить за это приглашение. Но мне жаль, что Вы бросили те две книжки, потому что я их привезла Вам в память об Илье Авербахе, который мне о Вас рассказывал». У него посветлели глаза: «Авербах! Нет-нет, эти книжки мне нужны, я обратил на них внимание, спасибо». Я, видя, что он потеплел, признаюсь: «Все последнее лето я зачитывалась вашими стихами». Он опять закрылся как раковина. И тогда я, немного разозлившись, говорю: «Знаете, Иосиф! Я тоже терпеть не могу, когда после спектакля говорят комплименты, это всегда пошло выглядит. Но когда говорят друг другу профессионалы — это другое. Ведь сегодня, простите, но мы оба были только исполнителями». — «Да-да…» — согласился он. После этого мы еще неделю жили в Гарварде, Бродский опять не появлялся…
Наступило лето, и кто-то привез мне книжку стихов Бродского с надписью: «Алле Демидовой от Иосифа Demi-Dieu — с нежностью и признательностью. 9 июня 1990 года, Амхерст. Иосиф Бродский».
* * *
Прошло еще несколько лет. Я в Монреале, в гостинице, — лежу и страдаю бессонницей. Кручу 49 программ телевидения и вдруг слышу… свой голос. И вижу американский фильм об Ахматовой с отрывками из нашего концерта. Причем фильмография Ахматовой — уникальная. Например, куски похорон в Комарово.
Мне как-то рассказывал кинодокументалист Семен Аранович — это был друг нашего дома, — как во время съемок фильма о Горьком он случайно узнал, что в Ленинград привозят гроб с телом Ахматовой.
Он говорил: «Я взял оператора, и рано утром мы поехали на аэродром. Была мартовская поземка, утренняя изморозь. Подъехал старый тупоносый автобус, из него вышли невыспавшиеся писатели в тесных, „севших“ после химчистки, дубленках, — они приехали встречать тело Ахматовой. Я толкаю своего оператора: „Снимай!“ Садится самолет, и по багажной квитанции писатели получают деревянный ящик, который потом не входит в автобус. Наконец втащили. Автобус едет в Союз писателей. Там панихида, народу немного. Выступает пьяная Берггольц. Мы снимаем. Потом — на следующий день, утром — панихида в церкви. Там отпевают не только Ахматову, а кого-то еще. Между тем появляется итальянское телевидение, и во время отпевания Ахматовой становится очень тесно. Я вижу своего оператора издали и только машу ему: „Снимай! Снимай!“ Вдруг меня кто-то хватает за грудки и бьет спиной о клирос, летят пуговицы. А человек, перемежая матом, кричит: „Где вы были, трам-та-там, когда она была жива?! Что вы, как коршуны, налетели, когда она умерла! Перестаньте снимать!“ Это Лев Николаевич Гумилев… День был мартовский, короткий. Все быстро погрузились в автобусы и помчались в Комарове — это в часе езды от города. Народу осталось мало. За окнами автобусов — опять мокрый снег и изморозь, кое-где уже проглядывает земля. Все черно-белое. Очень красиво. Приезжаем на комаровское кладбище. Там, среди сугробов, вытоптана дорожка к задней стене. Проходим гуськом. Дудин, Сергей Михалков что-то говорят. Гроб, как почти всегда бывает, не влезает в яму — его вталкивают. Потом писатели в темных пальто рассыпались по рыхлому снегу кладбища — пошли навещать своих. Мы снимаем, хотя уже темнеет. Наконец все уезжают. Мы курим, обговариваем, что успели снять, что — нет. Вдруг подходит человек, просит закурить. Его забыли. Это Гумилев. Назавтра я стал монтировать, получилось очень хорошо. А дня через два пришел в монтажную что-то доклеить и узнал, что фильм арестован. Из сейфа он исчез, где он — я так и не знаю».
Так рассказывал когда-то Семен Аранович. Но где этот фильм — неизвестно до сих пор. А вот куски этой знакомой мне истории я вдруг вижу в американском фильме про Ахматову, лежа ночью в монреальской гостинице. Может быть, это срезки того фильма, который снял Аранович? И вот я лежу, смотрю телевизор и думаю: «Кто меня так прекрасно дублирует?» Мой голос не заглушен, но в то же время слышен перевод. И тембр — очень красивый, интеллигентный, без американских открытых гласных.
То ли мысль обладает энергией притяжения, то ли наоброт — не знаю. Но через несколько дней раздается звонок: «Это говорит Клер Блюм. Я вас озвучивала в американском телевизионном фильме об Ахматовой. Вы мне очень понравились, давайте вместе работать. Приезжайте в Нью-Йорк». Я говорю: «Я не могу приехать — у меня нет визы. А вот вы в Москву приезжайте». В Москве я спросила Виталия Вульфа, кто такая Клер Блюм. Он мне объясняет: «Алла, вы, как всегда, ничего не знаете. Это „звезда“ чаплинского фильма „Огни рампы“. Она играла слепую танцовщицу». Я думаю: «Ей же 250 лет! Приедет какая-нибудь старушка, и какой спектакль я буду с ней играть?!» Проходит время, раздается звонок в дверь, и входит Клер Блюм. Миниатюрная интеллигентная женщина, выглядит прекрасно — моложе меня. С ней дочь Анна Стайгер — сопрано из «Ковент-Гардена», очень похожа на отца, Рэда Стайгера, и продюсер. Мы сидим за чайным столом и обсуждаем, что можем сделать. Я говорю: «Давайте возьмем два высоких женских поэтических голоса — Ахматову и Цветаеву. Вы по-английски, я по-русски, а Анна споет ахматовский цикл Прокофьева и цветаевский Шостаковича». Анна сразу заявила, что она первый раз в России и никогда в жизни не выучит русский текст, но потом она пела — пела по-русски — и очень хорошо.
Я сказала Клер, чтобы она нашла для себя переводы, а я подстроюсь под них с русским текстом. К сожалению, она выбрала не самые мои любимые стихи. Но другие, как объяснила Клер, переведены плохо.
Потом я приехала в Нью-Йорк, и мы довольно долго репетировали у Клер в маленькой квартире на высоком этаже, из окон которой открывался очень хороший вид на Центральный парк.
С этой поэтической программой мы объездили всю Америку: и Бостон, и Вашингтон, и Чикаго, и Нью-Йорк, и Майами, и другое побережье Лос-Анджелес, Сан-Франциско… Приехав в Майами, я думала: «Зачем мы нужны этой отдыхающей публике?» Но нас принимали удивительно! Меня американцы не знали, но, видимо, решили, что такая «звезда», как Клер, и русскую актрису выбрала себе по росту. Даже на Бродвее огромный зал «Симфони Спейс» (это не центральный зал Бродвея, где играют мюзиклы, а сцена, на которой идут модерн-балеты) был переполнен.
Совсем недавно, под Новый год, мне вдруг позвонила Клер Блюм и говорит: «Может, мы еще что-нибудь сделаем?» Может быть… «е.б.ж.», как писал Толстой в своих дневниках…
* * *
В Бостоне, в городском театре, мы играли «Федру». После спектакля мне говорят, что меня ждет какая-то женщина из публики. Я ненавижу эти встречи с незнакомыми людьми, но тем не менее… Входит пожилая женщина, говорит мне о своих впечатлениях от спектакля. Я ее слушаю вполуха, наконец понимаю, что она из послевоенной эмиграции. Анастасия Борисовна Дубровская, жена какого-то мхатовского актера, игравшего в «Днях Турбиных». Она мне вкратце рассказывает свою историю и говорит: «Я хочу вам подарить вот этот кулон». И дает мне медальон Фаберже с бриллиантиками, на одной стороне которого выгравировано: «XXV лет сценической деятельности. М.М. Блюменталь-Тамариной от друзей и товарищей: Савиной, Варламова, Давыдова, Петровского». Я говорю: «Я никогда не возьму этот медальон!» Она: «Я выполняю предсмертную просьбу моей подруги, жены Всеволода Александровича, сына Блюменталь-Тамариной».
После войны, когда наши войска вошли в Германию, труп Блюменталь-Тамарина нашли в лесу — то ли самоубийство, то ли повесили русские. А жена его, Инна Александровна, урожденная Лощилина, вместе с Дубровской уехала Америку. Лощилина начинала как балерина, но потом обе они попали в нью-йоркский эмигрантский драматический театр, который просуществовал два года (я вообще заметила, что эмигрантские театры — в Германии, в Париже — существуют только два года. Если, по Станиславскому, обычный театр проходит 20-летний цикл, то эмигрантские живут спрессованно: собирают труппу, вроде бы появляется публика, но через два года они рассыпаются).
Когда Инна Александровна умирала от рака, она сказала: «У меня есть от мужа кое-какие вещи, я хочу, чтобы ты ими распорядилась. И вот этот медальон ты должна подарить русской актрисе, чтобы он вернулся в Россию…» Анастасия Дубровская стала ее душеприказчицей.
Выслушав этот рассказ, я сказала: «Ну, хорошо. Давайте я возьму медальон, с тем чтобы потом передать молодой актрисе или дам наказ своим родственникам — если сама не успею, чтобы была преемственность».
Я спросила, почему она решила передать это именно мне, ведь многие же гастролируют в Америке. Она говорит: «Дело в том, что за год до того вы были здесь на вечере Поэзии и вас видела Инна Александровна — она мне тогда сказала вашу фамилию. И когда через год я увидела афишу „Федры“ с вашим именем, я пошла и на всякий случай взяла с собой этот медальон. И вот теперь я с легким сердцем отдаю его вам».
Проходит какое-то время, Анастасия Борисовна присылает мне фотографии Блюменталь-Тамарина в разных ролях и его переписку с Шаляпиным. В свое время я даже хотела писать об этом статью в журнал «Театр», но руки не дошли.
Потом она приехала в Москву (первый раз после своей эмиграции!), жила у меня неделю, ходила в церковь на улице Неждановой.
Мы с ней были не только разных поколений, но главное — разных мироощущений. Она — очень верующая, очень простая. Я бы хотела, чтобы такая женщина была у нас домоуправительницей, распоряжалась моей бытовой жизнью. По утрам, на кухне, она очень хорошо беседовала с моими домашними. Обычно, когда у меня живут чужие люди, я моментально куда-нибудь уезжаю — боюсь бытового общения, а тут она мне не только не мешала, наоборот — мне было очень комфортно душевно.
Она уехала. Мы переписывались. Прошло еще какое-то время. Приезжает ее сын, оператор, и говорит, что она умерла. И привозит уже ее завещание другую уникальную брошку: римское «50» выложено бриллиантиками и написано: «М.Н. Ермоловой 1870–1920 от М.М. Блюменталь-Тамариной 1887–1937».
Я эти брошки не ношу — ни ту, ни другую, но память у меня осталась.
Недавно, перебирая «бумажки», я нашла свое письмо, не отправленное Анастасии Борисовне. Я не часто пишу письма — для меня большая проблема купить марку и найти почтовый ящик, особенно в чужой стране…
Это письмо написано в конце 1991 года, на гастролях в Испании. Теперь оно стало свидетельством времени.
«Дорогая Анастасия Борисовна! Здравствуйте! Надеюсь, что Вы здоровы и у Вас все хорошо. Пишу из Мадрида. Опять играем „Бориса Годунова“. Я Вам, по-моему, говорила, что Годунова играет Николай Губенко. Он — министр культуры СССР. Зрители на это очень реагируют. В Европе это, как Вы понимаете, для них нереально. Когда я летом была в Авиньоне на фестивале, там был прием министра культуры Франции, так перед приемом специальной службой были проверены все уголки и выходы из дома. Несколько рядов оцепления и т. д. Правда, на следующий день это не помешало министру поучаствовать как актеру (он — бывший актер и работал в свое время с Антуаном Витезом) в вечере памяти Витеза и сидеть на сцене рядом со мной.
Наш министр ходит без всяких провожатых, но стал таким махровым чиновником правого толка, что диву даешься: как быстро власть портит человека.
Публики, как ни странно, мало. Но наши гастроли совпали здесь с Пасхой и Страстной неделей. Кто уехал на каникулы, кто в такие дни не ходит в театр. В этом смысле организовано все плохо. В остальном — ничего. Живем в прекрасных гостиницах, много свободного времени, и есть какие-то деньги.
В Испании я второй раз, и у меня тут двоюродная сестра. Она давно, еще в Москве, вышла замуж за испанца и с 60-го года живет в Мадриде. Преподает в университете, а муж переводит русскую классику. Сейчас — „Доктора Живаго“. Очень милые люди. К сожалению, он — испанский коммунист, поэтому для него Идея — превыше всего, но… о политике мы не говорим.
В Москве — плохо. Страшно. Особенно вечером гулять с собакой. Почти голод. Во всяком случае, в магазинах ничего нет. Я привожу с гастролей супы в пакетах. Этим спасаемся. Плохо моим животным, нет мяса. Но им я пока тоже привожу их кошачье-собачью еду. Мне жаловаться грех. Но болит душа за остальных. Особенно за стариков, у которых маленькая пенсия. Утром в окно я вижу, как они бредут с кошелками за молоком. Это пока недорого и утром можно, постояв в очереди, купить. Мама спасается в университетской столовой. Так все как-то приспосабливаются. Но главное — душевная усталость, когда нет веры в какие-то изменения к лучшему.
Мои друзья и знакомые разъехались в разные стороны: кто на время читать лекции в Сорбонне или в Италии, кто — продавать свои картины в Париже, и там пока живут с семьями. Кто — каким-то образом где-то снимается. Это пока не эмиграция, а „на время“, как уезжали „на время“ в 20-е годы.
Мы тоже вернемся сейчас на пять дней в Москву и опять едем с „Годуновым“ в Португалию. Легче, конечно, переехать в Лиссабон из Мадрида это рядом, но наша система до таких вольностей еще не дошла, и мы обязаны ехать через Москву из-за каких-то виз. Глупо! Недаром нашу страну сейчас зовут Абсурдистан. В конце апреля я поеду в Италию на какой-то симпозиум по культуре, а в мае — в Москве. Спектакли и съемки. Я Вам, по-моему, писала, что начинаю сниматься в „Бесах“ по Достоевскому. Я — Хромоножка.
До Испании мы были на гастролях в Штутгардте, и там я видела бродвейский спектакль „На цыпочках“ (не знаю, как он называется по-английски). Очень лихо закрученное шоу о русском классическом балете и об американской классической чечетке. Мы играли рядом (даже артистическое кафе было общее). Их принимали лучше, но наш спектакль, мне кажется, глубже.
Любимов ехать в Москву не хочет, поэтому мы и гастролируем. Он стал скорее организатором, чем творцом. Греки платят деньги, чтобы он со мной поставил „Электру“ для греческого театрального фестиваля, но это в 92-м году, летом. Там, кстати, будут три „Электры“: английская, наша и греческая. Такое соревнование. Но — надо дожить. Я так далеко не заглядываю.
Перед отъездом сюда сдала книжку в издательство. Условное название „Тени Зазеркалья“. О театре, ролях и актерах. Но выйдет тоже в 92-м году. У нас все медленно. И так во всем. Как русский самовар: долго-долго не закипает (надо и разжигать, и продувать, и т. д.), а потом долго-долго не остывает.
Анастасия Борисовна, письмо кончаю. Больше в номере нет бумаги. Ваши ребята, конечно, не объявились. Бог с ними! Но в следующий раз с оказией ничего мне не посылайте, это ненадежно. Мне приятно Ваше внимание, но я пока, слава Богу, езжу и что-то зарабатываю. Помните у Чехова: „Немного, но на жизнь хватает“. Обнимаю Вас. Не болейте. Скоро наша Пасха. Христос Воскрес!
P.S. Анастасия Борисовна, если не трудно, позвоните, пожалуйста, в Амхерст Вике Швейцер и поблагодарите от моего имени за кассету Иосифа Бродского, которую она прислала мне. У меня нет ее адреса. Она очень хороший человек.
Декабрь 1991 года»ВТОРОЕ ПАРИЖСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ
Когда французы берутся за какую-то идею, они сначала в нее «вгрызаются», а потом забрасывают. В 1999 году они решили понять, почему в России молятся на Пушкина. Поставили ему памятник в сквере Поэзии, рядом с Гюго. А в Театре Поэзии, около центра «Помпиду», где до этого русские никогда не выступали, устроили цикл вечеров. Владимир Рецептер, актеры Анатолий Васильев, Юрский, я — каждый выступал со своей пушкинской программой. После наших вечеров зрители устраивали в зале ночные радения. Ставили свечки, гасили свет (так они сломали весь свет, который долго ставил для себя Васильев) и читали Пушкина, севши в круг. А потом кто-нибудь вставал и говорил какой-нибудь «новый» факт биографии Пушкина. И все: «Ах!»
Открывал весь цикл вечеров Андре Маркович, он сейчас заново переводит всю русскую классику. В Малом зале он читал лекцию о Пушкине. Я пришла послушать. В зале — французы. Основная мысль, которая, кроме хрестоматийных сведений, была в его лекции: Дантес не мог быть влюблен в Наталью Николаевну, потому что он был голубой. У слушателей — шок. Директор Театра Поэзии, когда я потом с ним ужинала, все время повторял: «Дантес, оказывается, был голубой!..» Да, голубой. Такие они для себя Делали открытия.
На своем вечере я читала стихи и делала какие-то комментарии по ходу. Ну, например, как возникла «Осень». Это ведь не про времена года. Это впервые описано, как возникают стихи:
Душа стесняется лирическим волненьем, Трепещет, и звучит, и ищет, как во сне, Излиться, наконец, свободным проявленьем…Или «Бесы», которые написаны 7 сентября, в первую Болдинскую осень, перед женитьбой. Тогда светило солнце, а в стихотворении — бег зимней тройки, вьюжность. То есть это было — смятение души.
Я построила концерт так, чтобы ритмы были разные, не повторялись. Все стихи были напечатаны в программке, я боялась, что зрители начнут шелестеть программками и мне мешать, но они сидели тихо, как мыши. Я была сильно освещена, не видела их и думала: «Что они, спят, что ли?» После концерта спросила переводчицу, которая сидела в первом ряду, она говорит: «Нет-нет, они читали, но так тихо!» На самом деле Пушкина перевести невозможно. Например, та же «Осень». Эпиграф из Державина: «Чего в мой дремлющий тогда не входит ум». Именно дремлющий — на грани сна и бодрствования, на грани Жизни и Смерти. И вся «Осень» на этой грани. А переводят: «Чего в мой мечтающий тогда не входит ум». Смысл потерян, не говоря уже о музыке. Или еще: «Подъезжая под Ижоры, / Я взглянул на небеса…» Ижоры — это предпоследняя станция перед Петербургом. Ехали они с Вульфом и, видимо, вспоминали племянницу Вульфа. В середине стихотворения Пушкин вроде бы объясняется ей в любви, но именно — «подъезжая под ИЖОРЫ». Кончается стихотворение словами: «И влюблюсь до ноября», то есть все — несерьезно. А переводят: «Подъезжая к какой-то маленькой деревне». Юмор пропадает.
Еще в Москве я знала, что буду выступать в Театре Поэзии на большой сцене. Зала этого я не видела и, собираясь, все думала: как бы мне его оформить? У меня дома есть гипсовый скульптурный портрет, но не повезешь же с собой такую глыбину! Я позвонила в музей Пушкина и попросила какую-нибудь репродукцию портрета Кипренского. Потому что Кипренский хотел — еще при жизни Пушкина — сделать выставку в Париже, но не получилось. Тогда же Пушкин написал прелестное стихотворение:
…Себя, как в зеркале я вижу, Но это зеркало мне льстит. Так Риму, Дрездену, Парижу Известен впредь мой будет вид.Французы очень красиво подвесили этот портрет — вся сцена была затянута черным, а он словно парил в воздухе. Я рассказала зрителям про портрет из музея Пушкина, и в конце вечера ко мне подошел какой-то американский корреспондент, стал что-то говорить и потом удивленно спрашивает: «Музей Пушкина дал этот портрет?!» Я говорю: «Да-да». И только потом я сообразила: он решил, что это оригинал. Так и пошло в американскую прессу. Так что Кипренского я возила в Париж. Наконец-то осуществилась мечта художника!
Я специально осталась в Париже еще на месяц, чтобы походить в театры.
Первое, что я посмотрела — «Ревизор» в «Комеди Франсез» (режиссер Жан-Луи Бенуа, перевод — Марковича). Начинается очень забавно: открывается второй занавес, а на сцене стоит огромный диван, на котором очень тесно, в толстых меховых шубах, сидят все эти Бобчинские, Добчинские, Ляпкины-Тяпкины, а перед ними ходит Городничий и говорит, что едет Ревизор. Меня это начало испугало, я подумала: опять русская клюква. Но этот гротеск был и в гримах, и в мизансценах, и в актерской игре. Первое появление Хлестакова — прекрасно. Всегда его играют таким «шибздиком», сразу понятно, что легкость в мыслях у него необыкновенная. А тут — вошел франт! Одет по-парижски, даже лучше, чем в Париже. Столичная штучка. У него и берет был как-то по-особому надет. Ну да, у него нет денег, это как «Завтрак аристократа» — последние деньги, но на берет. И его отличие от остальных и то, как он метался по этой гостиничной конуре, — гениально. Вторая часть пьесы никогда никому не удается, еще не нашли ключ к гоголевскому «Ревизору». Поэтому и здесь второй акт был намного хуже первого.
Вообще, кто такой Ревизор? Мы знаем, что Пушкин подарил этот сюжет Гоголю. Но ведь сюжет — банален, его очень часто использовали. Видимо, Пушкин рассказал Гоголю что-то помимо сюжета. Как известно, этот разговор был в 34-35-м годах, когда Пушкин работал над историей Петра Великого. А в биографии Петра есть эпизод, как он ездил инкогнито по разным городам Европы и с ним случались разные курьезные истории. Может быть, Пушкин рассказал Гоголю какие-то конкретные ситуации, в которые попадал Петр. Тогда понятны воспоминания современников о том, что при чтении «Ревизора» Пушкин так хохотал, что упал со стула. Но «Ревизор» не был понят ни современниками, ни в последующих постановках. Ведь Ревизор — это не просто щелкопер, в роли зашифрованы черты более мистические: «подкачусь эдаким чертом», «сам черт не брат»…
Ближе всех, мне кажется, к «Ревизору» подошел Мирзоев в Театре Станиславского. Он напустил туда нечисть из «Страшной мести»: полутрупы-полунелюди. А в «Комеди Франсез» было все очень умно, но не было неожиданного прочтения. Я вообще заметила: если режиссер выбирает не очень правильную дорогу, то последний акт всегда валится. Например, Чехов. Если не принимать во внимание, что он Поэт, что слова — ширма для чего-то другого, а разбирать только психологическую предпосылку этих слов, то получится, как в чеховских постановках Питера Штайна, когда последний акт не нужен.
Там же, в «Комеди Франсез», я посмотрела «Вишневый сад». Его поставил Ален Франкон, директор парижского национального театра «Ля Калинн».
«Вишневый сад» идет второй сезон, что для «Комеди Франсез» — редкость. В прошлый мой приезд все говорили: «Скучный спектакль, Алла, не ходи». Но поскольку у меня — присвоение «Вишневого сада» (как у Цветаевой: «это мое!»), я подумала: в свое время я учила этот текст на французском, даже если будет скучно — повторю текст. Опять перевод Марковича, причем с какими-то вольностями. Например, во втором чеховском акте, в конце Шарлотта «Кто я? Откуда я?» говорит Фирсу, а Фирс возвращается за кошельком, который забыла Раневская (потом я узнала, что это вернули сцену, вымаранную Станиславским на репетициях).
«Вишневый сад» мне очень понравился. В нем было то трепетное отношение к шедевру, которое перешло в трепетность атмосферы внутри спектакля. Там были не просто характеры, там был объем. Например, Яша. Его всегда играли однозначно — хамом, который побывал в Париже. Но Раневская вряд ли терпела бы около себя такого типа. В этом спектакле актер, игравший Яшу, был более тонок, несколько манерен, ведь провинциал сначала схватывает лишь форму столичной жизни. Но когда он в третьем акте просит Раневскую: «Возьмите меня в Париж!», а она, не отвечая, уходит, актер остается один на сцене и неожиданно начинает плакать. Эта краска дорогого стоит.
Раневской в спектакле практически нет. Крепкая характерная актриса, в прошлом году я ее видела в «Тартюфе», она играла Дорину. А в Раневской, хоть она и была в модных сейчас мехах, но фигура у нее — крупная и вид советского председателя колхоза.
Но, слава Богу, она не играла, а просто произносила текст, и этого оказалось достаточно, чтобы не разрушать впечатление от целого.
Первый раз в жизни я видела такого прекрасного Гаева. Играл Анджей Северин — поляк, который в свое время играл у Вайды, потом женился на француженке, переехал во Францию. Это был Гаев, который действительно проел свое состояние на леденцах. Северин — актер жесткий, агрессивный, так он играл и Клавдия в «Гамлете», и Дон Жуана, и Торвальда Хельмера из «Кукольного дома», а тут — абсолютный ребенок. Детскость ведь очень трудно сыграть, она может стать гранью сумасшествия. Но когда Станиславский после фразы о леденцах, с разбегу нырял головой в стог сена — это было не сумасшествие, а черта характера. Вот такие детские проявления были и у Северина. Ему одному почему-то вдруг становилось смешно. Тем трагичнее были его короткие подавленные реплики, когда он возвращается с торгов.
Прекрасный Фирс, очень точный во всех чертах русского слуги. В конце, когда его оставляют в доме, он идет, стуча деревянными башмаками, через всю сцену. И этот стук воспринимается как стук топора по дереву или как забивание гвоздей в гроб.
Думаю, помимо режиссера, этому спектаклю много дал Северин — он поляк, знает славянскую культуру и Чехова чувствует тоньше, чем остальные. Недаром он стал заниматься режиссурой и сейчас выпустил премьеру — «Школу мужей» Мольера.
Впечатления от «Вишневого сада» я высказала своей знакомой, актрисе «Комеди Франсез» Натали Нерваль. Потом она мне рассказывает: «Я на репетиции ему говорю: „Алла Демидова считает, что Вы — лучший Гаев“. Он покраснел от удовольствия». Я говорю Натали: «Для меня удивительно, что он вообще меня знает, а он, видите ли, краснеет от того, что какая-то Демидова… Как странно, разобщенно мы живем: следим тайно друг за другом, но не общаемся!»
В «Комеди Франсез» видела еще «Школу жен», но ушла после первого акта. Это скорее литературный театр. Я сидела и думала, какие разные направления в наших драматических школах. Они практически не играют то, что называется «сквозное действие» или характер. Они играют слова, правда, делают это прекрасно. И если хочешь насладиться французской речью — иди в «Комеди Франсез».
«Шумные» спектакли идут в «Одеоне». И в этот раз все мне говорили, что надо идти в «Одеон» на «В ожидании Годо». Я представляла: ну, будет стоять дерево, будут два клошара кого-то ждать. Ну сколько можно?! Сколько раз я это видела на французском, немецком, чешском… даже сама хотела это играть с какой-нибудь актрисой. Только играть не клошаров, а аристократов. Текст и роли, кстати, не очень сопротивлялись.
…Уже с первых реплик я поняла, что играют два прекрасных, глубоких актера. Роли тщательно проработаны — в отличие от того, что я видела в «Школе жен». Потом входит вторая пара — Лаки и Поццо, — они оказываются даже ярче! Того, кто в ошейнике, играл Десарт — актер, который когда-то играл Гамлета на парижских гастролях во МХАТе. И его Поццо — высохший лысый Гамлет. Когда он произносил свою словесную абракадабру — в этом был такой ум, была мысль: невозможно словами ничего рассказать! Рассказать можно только «выплесками»! Поццо был изумителен. И его хозяин — тоже. У него была заросшая жирная шея, он ел жирную курицу, и по этой шее текло. Потом мне рассказали, что это — специальный шейный пластик.
В Париже у меня есть одна приятельница — Николь Занд, она в «Монд» много лет вела отдел театра, потом — литературы. Она всегда открывает мне тот Париж, который знают только парижане. И вот недавно она повела меня за Монпарнасскую башню — там сохранилось старое ателье монпарнасских художников. Хлипкие стены, хлипкая, продувная жизнь, внутренний дворик. И там одна известная актриса читала для 50 человек. У нее были наклеенные ресницы и маска немножко клоунская. Читала она так, как любят французы чтобы не было жестов, эмоций, а был только жесткий текст — низким голосом, на одной ноте. И надо сказать, что это завораживает. Я прослушала этот текст — историю художницы, умирающей от рака и записывающей свои наблюдения, — на одном дыхании. Французы кричали «Браво!» так, будто перед ними выступала Сара Бернар. Они вообще полюбили слушать чтение, раньше у них этого не было. Это, кстати, полюбили и в Англии, и в Америке. Вот Клер Блюм, с которой мы вместе читали Цветаеву и Ахматову, сейчас три вечера подряд читает «Анну Каренину» на Бродвее, в огромном зале «Symphony space». И все сидят и слушают.
С 1977 года — с первых гастролей «Таганки» в Париже — я бываю там каждый год, а последние годы приятельница, у которой я останавливаюсь, отдает мне свой «Вольво», и я езжу на машине. Но в этот раз я сделала открытие: парижанки за рулем. Я их возненавидела. «Это я еду! Что она говорит? Я ничего не понимаю!» — они не впускают в себя никакую новую информацию. Клише французской жизни, французского представления «как надо» это парижанка за рулем. Она одета всегда одинаково, так чисто… Для меня Париж отравлен этими парижанками. Точно так же я ненавижу московских мужиков за рулем. Вообще, в Москве за руль можно сесть только с опасностью для жизни. Никто не пропускает ни вправо, ни влево, все — с позиции силы. Агрессия. Поэтому, наверное, парижанки мечтают выйти замуж за русского мужика, а русские — за парижанку. Может быть, они соединятся и выведут такой ужасный гибрид, который заполонит все!..
К сожалению, я не застала в Париже труппу Марты Грехем. Они должны были приехать только через месяц, но Париж их уже ждал. В свое время я была у Марты Грехем за год до ее смерти. В их нью-йоркскую студию меня привела Анна Кисельгофф, которая пишет о балете. Но, еще не зная Марты Грехем, я «открыла» ее для себя, репетируя «Федру». Все движения, которые мы там придумали, — Марты Грехем (например, знаменитая поза: рука перпендикулярна лицу, пальцы в лоб — мне потом подарили ее фотографию в этой позе).
В Нью-Йорке, рядом с их студией, — маленький палисадничек, в котором давным-давно посажено дерево. И на этом же месте стоит зыбкая проволочная загородка. Дерево стало расти, вросло в загородку, и она очутилась внутри дерева. Я сказала: «Это вам надо взять на афишу! Ведь это — символ искусства: все прорастает друг в друге».
Но в результате моих рассказов у читателя может сложиться впечатление, что французский театр переживает расцвет. На самом деле это не так. В Париже — бесконечное множество театров. Масса муры, и потонуть в этой муре очень легко. Обязательно нужен поводырь или какие-то свои «заморочки» — так я всегда хожу в «Комеди Франсез», в «Одеон» и к Мнушкиной.
В Москве, даже если я не работаю, у меня масса обязательств — и перед домашними, и перед другими людьми. А там я совершенно свободна, и это совсем Другое — благодарное — восприятие! И потом, почему я не люблю ходить, например, в русские рестораны — потому что знаю все про человека, который сидит напротив. А за границей я этого не знаю, и мне из-за этого интересно. Для меня там — Тайна. Вообще чужая культура прочищает мозги от клише, от «домашних радостей».
С кем бы из французов я ни говорила, они все сетовали: раньше были актеры — личности, а теперь их нет. Крупных актеров — все меньше. Актеру всегда нужно зеркальное отражение — зритель, а зрители сейчас не воспринимают актеров, для них: «Да пошел ты, клоун!..»
В Париже актеры тоже очень тяжело живут и тоже часто собираются и играют какую-то забавную сюжетную пьесу. И развенчивают себя. Недаром Реджип Митровица так себя бережет. Он еще молодой, если он себя д обережет, то станет очень крупным актером. Он ушел из «Комеди Франсез», очень выборочно живет, не мелькает на ТВ и в кино, но тем не менее все знают, что весной он будет играть Дон Жуана в «Одеоне».
Но в общем, сейчас театр переживает такое… послевкусие. Играли-играли со вкусом в 60-е годы, находили форму, иногда эта форма соответствовала содержанию, иногда — нет. Но сколько можно играть в форму?! А какое содержание? Чтобы оно было глубокое, человеческое, какие силы нужны — и актерские, и режиссерские, и денежные! На театр сейчас таких денег не дают, ведь кризис происходит во всех странах. И потом — смена поколений. Очень долго — во всем мире, не только у нас — площадку держали «шестидесятники». Они сейчас уходят, а молодые еще не набрали «жизненного балласта», чтобы стать личностями.
Критики любят рассуждать, вписывается ли русский театр в общее направление современного театра. Да, безусловно. И прежде всего русская школа глубже европейской. Но, к сожалению, у нас сейчас очень много средних актеров — и по возрасту, и по профессионализму, — они заполонили сцену, и кажется, что это — лицо русского театра. Но хорошие актеры… когда они на сцене, я вижу, как они выстраивают свою роль, поворачивают характер. У них всегда есть сверхзадача, сквозное действие — все то, чего нет у французов. У французов — другая культура.
Кстати, пример Северина показывает, какой объем и глубину дает соединение этих культур — галльской и славянской. И я сейчас только начинаю понимать, как меня обманула судьба, поманив и не дав мне шанс работать с Антуаном Витезом…
ЮБИЛЕЙ СТРЕЛЕРА
В мае 1987 года в Милане праздновали юбилей Стрелера. Из московских он пригласил два спектакля Анатолия Эфроса под эгидой Театра на Таганке «Вишневый сад» и «На дне».
Много-много лет назад, когда Стрелер только начинал, он поставил «На дне» и «Вишневый сад». Причем к «Вишневому саду» он вернулся еще раз в начале 70-х годов. Спектакль тогда был декорирован белым цветом — и костюмы, и декорации. Очень красивый, со знаменитой Валентиной Кортезе в главной роли.
Я отыграла несколько «Вишневых садов» и теперь сижу среди приглашенных на юбилее. В «Пикколо Театро ди Милано», знаменитом театре Стрелера, три сцены. Синхронно идут: на старой сцене стрелеровский «Арлекин, слуга двух господ», на новой — эфросовское «На дне», а третья, главная, где собственно чествование, закрыта большим экраном, на который проецируются поздравления из Америки, Англии — со всего мира.
Ведет вечер сам Стрелер, у него два помощника — Микеле Плачидо, всемирно известный «спрут», и их популярная телеведущая. Огромный амфитеатр и в центре — вертящийся круг.
На экране время от времени показывается, как идут спектакли на двух других сценах. «Арлекин» завершается, мы видим на экране поклоны, и через 10 минут все актеры прямо в своих костюмах commedia dell… arte приезжают, выбегают в круг, поздравляют своего мастера и потом разбегаются по ярусам. «На дне» идет дольше. Поет какая-то певица, происходят импровизированные поздравления. Вот и «На дне» кончается — мы опять видим поклоны на экране, — наши ночлежники тоже приезжают и поздравляют Стрелера вроде бы в игровых лохмотьях, но я заметила, что они каким-то образом успели переодеться в свои самые нарядные платья…
Я сижу во втором ряду. Кругом одни знаменитости, рядом со мной Доминик Санда — точно такая же, как в своих фильмах, свежая и прелестная. Наконец, заиграл вальс из «Вишневого сада» в постановке Стрелера, он подходит к Валентине Кортезе, выводит ее на середину и потом вдруг подходит к моему ряду (я сначала думала, что к Санда), хватает меня за руку и говорит: «Алла, идите!» Я от неожиданности растерялась, да еще у меня от долгого сидения ноги затекли. И вот мы стоим в центре круга — две Раневские, — Стрелер говорит: «Хочу слышать Чехова на русском». Только я стала про себя решать, какой монолог прочитать, как Валентина — эффектная, красивая — начинает с некоторым завыванием читать монолог Раневской. Стрелер опять несколько раз повторяет, что хочет слышать Чехова на русском. Микеле Плачидо — мне на ухо: «Начинайте! Начинайте!» Едва я сумела открыть рот, как Кортезе опять громко, с итальянским подвыванием произносит чеховский текст. Тогда я бегу к своему креслу, хватаю шелковый павловский платок, который еще никому не подарила, и быстро отдаю ей. Стрелер в это время молча ждет, потом машет рукой, арена раздвигается, и из гигантского люка медленно вырастает гигантский торт, а сверху, под музыку из какого-то их спектакля, спускается золотой ангел (живой мальчик!). И рекой льется шампанское…
Стрелер подходит ко мне и весьма недовольно спрашивает, почему я не прочитала монолог Раневской по-русски, как он просил. «Надо предупреждать», — говорю ему. Он: «Это не совсем хорошо для актрисы». Я: «Мы, русские, медленно ориентируемся».
Публика расходится по фойе и кулуарам. Огромный торт задвигают в угол сцены, и потом я краем глаза вижу, как около него стоит один грустный, толстый наш Гоша Ронинсон и ест торт, который, как в сказке, больше его роста.
Весь месяц я, если не играю, хожу или на спектакли Стрелера, или на его репетиции. Тогда он ставил «Эльвиру» — пьесу о репетициях знаменитого Жуве с одной французской актрисой во время Второй мировой войны. Пьеса на двоих, сам Стрелер играет Жуве. В его ухо вставлен микрофончик, через который суфлер подает ему текст. Он его не запоминает, так же играет и в других спектаклях. Когда я его спросила, из-за плохой ли это памяти или принцип, он ответил, что запоминание текста его сковывает, и посоветовал мне читать стихи, даже если я их знаю наизусть, только с листа, как музыканты играют по нотам.
Со Стрелером мы разговариваем часто. Во время приема по случаю проводов «Таганки» он спрашивает, почему у нас такой странный Гаев — такой простой русский мужик, который уж никак не мог проесть свой капитал на леденцах (у нас его играл чистокровный еврей Витя Штернберг), я рассказываю Стрелеру что-то про народников и про Голема на глиняных ногах — именно таким Гаева видел Эфрос. Стрелер хвалит меня и неожиданно прибавляет: «Хотите, поработаем вместе? На каком языке? Выучите итальянский, вот актриса, которая играет в „Слуге двух господ“ — немка, выучила итальянский и уже несколько лет работает с нами». Я отвечаю, что для меня это нереально, а вот если бы он приехал в Москву… Он подумал и говорит: «Может быть, если успею. Будем делать „Гедду Габлер“.»
Через несколько дней было еще что-то вроде «круглого стола», на котором возник вопрос о разнице менталитетов, сказывающихся, когда играют Чехова. Я доказываю, что такая разница есть. «Вот у вас в спектакле, — говорю, — в сцене приезда Раневской, когда просят Варю принести кофе, все сидят и спокойно пьют кофе, как в кафе. Но ведь в три часа ночи „мамочка просит“ кофе — это нечто экстраординарное. В России вообще тогда кофе употребляли мало, чаевничали. А тем более в такое время! Или сцена со шкафом. В спектакле Стрелера в шкафу хранятся детские игрушки брата и сестры — это очень хорошо! Но у Чехова „многоуважаемый шкаф“ — совсем иное. Шкаф — это единственный предмет из мебели, перевезенный в Ялту из Таганрога. В шутку его называли „многоуважаемый шкаф“. В нем внизу стояло варенье в банках, а на верхних полках — религиозные книги отца, Павла Егоровича. Гаев говорит о шкафе, чтобы отвлечь сестру, ведь не успела она приехать, ей уже подают телеграммы из Парижа…»
Стрелер тогда был еще и директором Театра наций, устраивал поэтические вечера, на которых читали представители разных стран Европы — от Франции, например, выступал Антуан Витез, из России он пригласил меня и Андрея Вознесенского, который по каким-то причинам не смог приехать, и я была одна.
Это он, Стрелер, поставил мне вечер на своей большой арене, сочинил мизансцену, установил мольберт, зажег свечу, посадил в первый ряд синхронную переводчицу (она переводила только мои комментарии).
В этой композиции Стрелера я и сейчас веду свои поэтические вечера.
Сам же он в тот вечер уехал в Париж и прислал мне оттуда письмо:
«Дорогая Алла Демидова!
Я должен быть сегодня вечером в Париже на встрече с президентами Миттераном и Гавелом. Мне бесконечно жаль, что я не могу Вас принять со всей любовью и неизменным уважением. Тем не менее наш театр — в Вашем распоряжении.
До скорого свидания где-нибудь в Европе. Ваш Джорджо Стреле?
Париж 19.3.1990».К сожалению, мы так больше и не встретились…
РИТМ СТРОЧЕК
В те далекие времена, когда не было ни радио, ни телевизора, ни кино, люди собирались за круглым столом под уютным абажуром и слушали литературные чтения. Когда в мемуарах рассказывают о таких вечерах, мне ужасно завидно и тоже хотелось бы сидеть долгими зимними вечерами и слушать авторское чтение. Впрочем, недавно я попала на такое чтение. Один молодой автор читал свою повесть. Было очень скучно и жалко своего времени. Хотя повесть, может быть, и неплохая, но автор читал медленно и плохо. Для этого нужен исполнительский талант.
Вспомним сосредоточенность поэтов на ритме. Но на эстраде и в комнате, где уже круг внимания, поэты читают по-разному. На крике самовыявления читал с эстрады Евтушенко. Но однажды я услышала того же Евтушенко — «Со мною вот что происходит…», «Окно выходит в белые деревья…», записанное на пластинку и явно рассчитанное на небольшую комнату. Это было тихое чтение для близкого человека. Исповедь.
Есть актерская манера исполнения стихов. Это почти всегда пересказ смысла или показ эмоций. Иногда очень талантливый, но все-таки вторичный. Потому ли, что актеры читают чужие стихи? Ведь очень трудно и, не знаю, нужно ли убеждать зрителя, что именно ты написал «Я помню чудное мгновенье».
Для меня всегда предпочтительнее авторское исполнение. Есенина, например, с эстрады в основном читают напевно-лирично. Но меня поразил голос самого поэта в записи — голос, выкрикивающий слова Хлопушииз «Пугачева»: «Проведите! Проведите меня к нему! Я хочу ви-и-и-деть этого че-ло-ве-ка!» Или несколько монотонное чтение Пастернака. Актеры же, читая Пастернака, мне кажется, чересчур расцвечивают слова.
В ранние годы «Таганки» к нам часто приходили поэты и после спектакля читали свои стихи. Помню, как в верхнем фойе читали свои новые стихи Давид Самойлов, Белла Ахмадулина. Спектакли по стихам Евтушенко и Вознесенского были в репертуаре театра.
В спектакле Вознесенского «Антимиры» я читала стихотворение «Монолог Мерилин Монро». Сам Вознесенский читал его как внутреннюю исповедь, в ключе монодрамы:
Я Мерилин, Мерилин, Я — героиня Самоубийства и героина…Мне так читать было нельзя. Во-первых, существовал уже заданный ритм спектакля, я в него вошла после премьеры, а во-вторых, зритель соединил бы «Я — Мерилин» и мое «я — актриса», а это в данном случае не нужно. Поэтому я разыграла стихотворение театрально, то входя в вымышленный, может быть, чуть прозаический образ актрисы, непонятой и друзьями, и врагами, то читая от лица театра, спектакля — отстраненно.
Стихотворение мне отомстило. Оно было написано в другом ключе. И после каждого спектакля я мучилась знакомым и таким мучительным зудом несделанного.
Тем неожиданнее и приятнее было мне получить однажды, после телепередачи, в которой я исполняла стихи Блока, письмо от С.М. Алянского, издававшего
Блока в «Алконосте» и близко его знавшего. Даря мне свою книгу о встречах с Блоком, Самуил Миронович писал, что вдруг услышал с экрана «знакомые с давних лет стихи с интонациями и внутренней музыкальностью, которые я слышал из уст самого Блока». «Вы, — продолжает он, — восприняли стихи Блока так, как будто Вы сами их сочинили, и потому читаете их совсем как Блок».
Привожу этот лестный отзыв, не боясь быть нескромной, потому что услышала в нем не столько похвалу, сколько подтверждение своим размышлениям об авторском, именно авторском исполнении стихов. Такое исполнение опирается прежде всего на стремление проникнуть во внутренний мир поэта, органически почувствовать и принять его ритм и его образный мир.
Последние годы мне легче выходить на сцену в поэтических вечерах — не я читаю, а я вхожу в образ поэта и присваиваю себе его стихи.
Но от имени разных поэтов — по-разному. Потому что Пригов, например, читает очень смешно. Я его как-то спросила: «А Ахматову вы точно так же будете выкрикивать?» — «Да». И он прав, потому что это его манера. Чухонцев читает Цветаеву как свое, и Бродский на 100-летии Ахматовой в Бостоне читал Ахматову с таким же напевом, как свои стихи. А я отличаюсь от поэтов тем, что каждый раз вхожу в образ. Ведь я актриса, моя профессия — входить в образ.
Если же я начинаю читать от себя, то ломаю строчку. Меня Любимов в этом часто упрекал, когда мы репетировали «Гамлета», «Пир во время чумы», «Электру», Потому что я играла не поэта, а персонаж, у которого свой внутренний ритм. Надо, видимо, сначала придумать образ, войти в него поэтически, а потом уже быть, скажем, Электрой. Но в той же «Электре» я первый раз столкнулась с древнегреческой трагедией, поэтому перепрыгнула, упустила какое-то звено. И мне роль далась очень тяжело.
Кажется, что Пушкина читать умеет каждый. На самом деле легче передать чувства, душевные качества людей. Мысль, образ — труднее, духовные качества — очень трудно. Для того чтобы «прорваться в дух», нужна новая техника, театр к ней еще не готов.
Кстати, и прозу Пушкина нужно читать по-особенному.
У фильма «Пиковая дама» была сложная история. В театре считается, что к «Пиковой даме», как и к «Макбету», прикасаться опасно — что-нибудь да случится. Кино этот мистический предрассудок подтвердило. Сначала на «Ленфильме» роковое название числилось за каким-то режиссером, не помню имени, а сниматься должен был Кайдановский, прекрасный актер, но они с режиссером не сошлись идеями или характерами, и все расстроилось. Тогда за фильм взялся Миша Козаков, начал снимать, но вскоре с нервным стрессом попал в больницу.
Картина в смете «Ленфильма» числилась, но денег осталось немного — на полный игровой фильм, как было задумано, их бы не хватило. Выручать пришлось Игорю Масленникову. Он предложил: пусть Демидова и Басилашвили вдвоем читают от автора, а диалоги идут как игровые сцены с актерами в костюмах того времени. Я обрадовалась Олегу Басилашвили — он такой барин, с барской речью XIX века, на его фоне моя тогда короткая мальчрннеская стрижка и современная московская скороговорка дополняла бы объемную пушкинскую прозу. Но Басилашвили вскоре отказался. Текст «Пиковой дамы» непомерно труден, полон неожиданностей, алогизмов. И вот на меня одну свалилась вся махина текста. Но у меня есть «пушкинский опыт» и свои технические приемы запоминания. Я находилась в кадре в современном костюме, вступала в действие в своем бытовом обличье, как человек наших дней. Но была одновременно и автором, и сторонней наблюдательницей, и соучастницей происходящего. И — возможно — даже самой Пиковой дамой.
В какой-то степени эта схема повторяет таганскую «Федру», когда мне пришлось играть и Федру, и Цветаеву — то есть и творение, и творца. Нечто подобное, с раздвоением, с метаморфозами, произошло потом и в «Каменном госте» у Анатолия Васильева.
Мне думается, что когда играешь инсценировки, читаешь стихи, то всегда в исполнении должен присутствовать автор. Особенно когда играешь Чехова, Гоголя или Достоевского. Прежде чем учить роль, нужно досконально изучить жизнь самого автора. Начиная, например, репетировать Пушкина, надо впитать в себя все его дружбы, одиночество в деревне, всех Соболевских, Вяземских, арзамасцев, все любови и дуэли — и только потом приниматься за текст.
К Пушкину, когда меня неожиданно позвал к себе в театр Анатолий Васильев, я была уже готова.
Я давно знаю Васильева и давно высочайше ценю. Еще на «Таганке» он начинал «разминать» «Бориса Годунова» (Любимов куда-то уезжал), работать с ним было очень интересно. Потом мы с ним начали репетировать на «Таганке» «Счастливые дни» Беккета — не сбылось, к сожалению.
Все спектакли Васильева мне очень нравились и нравятся, мне близка его точка зрения на современный театр, его методика. Словом, я давно считаю себя его единомышленницей. Еще в пору работы с Любимовым и Эфросом я невольно сравнивала Васильева с ними. За Любимовым до сих пор тянется шлейф политического режиссера, но ведь это касается лишь ранней «Таганки», впоследствии он занялся другими, более глубокими вещами. Однако всегда его интересовал больше всего результат, конечное целое постановки, много внимания он уделял постановочным вещам, свету. Его, например, раздражало, что я медленно шла к результату, он любил быстроту.
Васильев — наоборот. Целое, мизансцены, свет его менее занимают, чем работа с актером. Ему, как он сам признается, сейчас уже неинтересно делать просто спектакли. Но, несмотря на это, внешнему рисунку действа и костюмам он уделяет большое внимание. Одеть «Каменного гостя» в старинные японские кимоно — это надо придумать! Сразу и «Кабуки», и века, и меридианы красоты… От просторных планшетов сцен, от обкатанных трупп он ушел в подвал к своим ученикам.
Анатолий Васильев принадлежит, очевидно, к той породе искателей, для которых театр, как теперь модно выражаться, должен быть «больше чем театр». Он встал в черед за Гордоном Крэгом с его идеей «сверхмарионетки», за Верой Комиссаржевской с ее мечтой о школе-лаборатории, о театре-храме взамен пошлого репертуарного театра, за певцом «ухода» великим Ежи Гротовским. И вслед за Станиславским.
Я рада, что меня позвал к себе Васильев. Я люблю выручать — а он попросил их выручить. Гастроли в театре Арианы Мнушкиной были уже подписаны, и в этот момент из спектакля ушла актриса. Нужно было начинать 15 декабря 1998 года и играть до 31-го — праздничные рождественские дни. Знаменитый театр «Дю Солей» в Винсенском лесу, уже распроданы билеты — срыв означал бы скандал! Отказать Васильеву я не могла.
Незадолго до того я видела в его постановке «Дядюшкин сон» с блистательной венгеркой Мари Тёречик в роли Марии Александровны Москалевой. Текст Достоевского читался по принципу гекзаметра: паузы, смена дыхания, быстрая-быстрая речь, повтор слов, когда от волнения не хватает дыхания. Я сочла это открытием новой техники, применимой ко всему современному театру. И к Пушкину, естественно, тоже.
И еще: на фестивалях в разных странах я иногда встречалась с Васильевым и ребятами из его «Школы драматического искусства». Они по-другому одевались, держались свободно и интеллигентно, занимались «ушу», показывали отрывки из «Илиады», в которых ловко работали с палками. Мне нравилось, что они разрушают обычное представление о театре и об актерах. У меня появился азарт войти в их замкнутый круг, освоить их манеру чтения стихов и еще раз подышать студийностью.
Очень мне понравилась и концепция спектакля «Каменный гость», или, как он объявлен на афишах, «Дон Жуан, или Каменный гость» и другие стихи».
Содержание спектакля не ограничивается сюжетом — четырьмя сценами маленькой трагедии «Каменный гость», а вбирает в себя множество стихотворных текстов разных лет, охватывает почти весь литературный путь Пушкина, начиная от юношеских хулиганских стихов до горечи элегии «Безумных лет угасшее веселье». От озорной языческой античности — к христианству. Тема спектакля духовный путь Пушкина.
Стихотворения возникают по внутренней логике, а внешне кажется спонтанно, непринужденно включаются в действие «Каменного гостя».
Конструкция текста, по-моему, идеальна. Но она не навязывается зрителю, она «вещь в себе». Ее можно и не разгадывать, а просто любоваться красотой. Также и семиотика спектакля. Предметов на сцене немного, но они тоже неоднозначны, и каждый можно было бы расшифровывать по-разному. Например, почему, когда Дон Карлоса убивают, мы (в этой сцене — «бесы») заворачиваем его в ковер? Но ведь записать такой сложный драматический спектакль, передать словами многослойность мышления режиссера невозможно.
Мой Пушкин остался моим, но утвердилась новая техника чтения стихов. Любимов, который поставил несколько пушкинских спектаклей, посмотрев наш «Дон Жуан», сразу спросил меня: «Трудно было освоить эту технику?» Он-то понимает! Он сам, работая над «Борисом Годуновым», стремился к тому, чтобы строка была объемной, следил за цезурой. «Товарищ, верь…», где было пять Пушкиных, «Пир во время чумы» — все это и моя биография… Но, на мой взгляд, «Каменный гость» Васильева — совершенно новый этап в освоении Пушкина, в раскрытии духовного пути поэта. И следовательно, в области формы, техники стиха, звучащего со сцены.
Правда, «Безумных лет угасшее веселье» в финале я читаю «по-старому». Для Васильева спектакль, по сути дела, заканчивается, когда уходят Дон Гуан и Лепорелло. Отрабатывая с нами каждую интонацию на протяжении всего спектакля, здесь он разрешил читать как угодно. Вот я и читаю…
Когда мы играли спектакль у французов, то устроено было так: справа от сцены повешен большой экран, на него до начала действия проецируется подстрочник стихов. Публика рассаживается, начинаются титры, но в зале гул стоит невообразимый!..
У французов удивительно коллективное сознание. Они встают в одно и то же время, звонят друг другу в 8 часов утра, чтобы спросить «Са va?», потом едут на работу. С 12 до часу у всех второй завтрак, с 7 до 9 — ужин. На Новый год, например, они все почему-то возвращаются домой в полчетвертого утра, хотя понимают, что попадут в пробку (два раза в Новый год я была в Париже и тоже почему-то уезжала домой в полчетвертого). Коллективное сознание… Вот они входят в зал, идут титры, они не замечают, у них рассеянное внимание, но стоит дать им знак колокольчиком, и они все замолкают и начинают читать титры.
Когда мы приехали, весь театр Мнушкиной был расписан тибетскими сюжетами, на заднике сцены нарисованы два огромных восточных глаза — потому что в это время у Мнушкиной шел спектакль «И внезапно — ночи без сна» — о тибетской жизни.
Гримерные — огромное открытое помещение со множеством постаментов на разных уровнях. Мы ничем не были отгорожены друг от друга, а от фойе нас отделяла занавеска с большими дырами, в которые заглядывали зрители, чтобы увидеть, как мы гримируемся. Во время тибетского спектакля, в антракте, актеры раздавали тибетскую еду, очень вкусную. А когда приехали мы, то Мнушкина попросила, чтобы их научили варить борщ. Тогда наш осветитель Ваня показал, как готовить борщ и салат «Таежный» (оливье под майонезом). А еще была водка. И весь месяц зрители ели это до и после спектакля. И каждый раз за стойкой буфета стояли актеры.
Вообще у Мнушкиной коммуна, или, точнее, секта. Актеры с утра до вечера в театре, многие даже живут в нем, сами себе готовят, сами продают еду зрителям. Однажды после нашего спектакля собрались молодые французские актеры, все сидели за большим круглым столом. Я пришла позже, они уже съели борщ, а мне налили целую плошку. Я сижу, наворачиваю этот борщ, они спрашивают: «Видимо, это русская традиция — есть борщ после спектакля?» Я говорю: «Если я вам скажу, что я первый раз в жизни ем после спектакля борщ — вы все равно не поверите…» Им казалось, что это наша традиция, и она им очень нравилась.
ПИСЬМО К N
Вы спрашиваете, как прошел мой поэтический вечер в Доме кино? Прежде всего очень меня удивил. Это был ужасный день: с утра с неба что-то текло, энергетические бури, или я не знаю что… Я просто себя реанимировала, чтобы поехать на этот концерт. Сама бы в жизни не пошла в такую погоду даже к ближайшему другу! Я рассчитывала, что придет человек 10–15, и на всякий случай взяла с собой папку, заготовленную для следующего дня, — мне предстояло записывать на телевидении передачу — читать Агнивцева, Сашу Черного и Северянина. Чисто рефлекторно я захватила с собой и вторую папку с Пушкиным, Цветаевой, Бродским и др. Вышла на сцену, увидела зал и испытала шок.
Причиной такого стечения людей, может быть… я не знаю… тоска по высокому и вечному (здесь бы предполагался мой смешок).
Я в принципе ничего не имею против попсы, сама ее часто слушаю, и очень хорошо идет, особенно ночью, во время бессонницы. Так дурманит голову! Но по каким-то приметам думаю, что мы скоро будем свидетелями возврата к некоторой норме.
… В Москве я сейчас не играю, только поэтические вечера. Правда, один раз, и очень неудачно — сыграла Медею в рамках Чеховского фестиваля — в плохом зале и на плохую аудиторию.
Мой Театр «А» еще существует, правда полумифически. Без помещения, без продюсеров и без поддержки. Сначала нам давали сцену «Таганки». Играя там, мы отдавали театру 20 % от сборов. Но театру этих 20 % стало мало, а нам мало остальных восьмидесяти, чтобы заплатить осветителям и бутафорам. Можно бы, конечно, пойти по спонсорам. Они дали бы денег под мое имя. Но ведь их надо потом… бла-го-да-рить! Общаться ведь с ними надо! А я не мазохистка.
Впрочем, Вы меня знаете — я вообще работать не люблю. Точнее, начинать работу. Так что я играю и выступаю только там, куда меня зовут. Еще и платят мне за это. Вот сейчас мы на месяц едем играть в Афины обе наши постановки «Медею» и «Квартет». Весь месяц, как на галерах.
И вот странность: в Москве не играю, а интервью даю направо и налево.
Но все эти интервью идут помимо моей воли и против моей души. Я предстаю в них такой… такой интеллектуальной дурой.
… Вы меня спрашивали о Смоктуновском. Он для меня и сейчас первый актер. Мы столкнулись единственный раз — в «Детях солнца», и страшно ругались, потому что он умел играть быт, а я не умею и не люблю. Но он мог все. Даже лицо у него — чисто физически — менялось неузнаваемо. Я надеюсь надеюсь! — что это можно сказать и обо мне. (Не помню, у кого это было так прекрасно написано, что когда он вошел в комнату актера — там вообще никого не было. Это правда. Я все время надеваю маску, а «кто я?!» — как кричит Шарлотта в «Вишневом саде» — не знаю. И играю все время. И признаюсь в этом без стеснения.)
Пишу Вам, а в соседней комнате меня ждет моя подруга, киновед Нея Зоркая. Сейчас допишу, и мы с ней выпьем коньячку и поговорим о грибах, которые растут на нашей любимой Икше…
Декабрь 1996 года.ИЗ ГАСТРОЛЬНЫХ ДНЕВНИКОВ
1991 год. Апрель
Я тогда снималась у Таланкина в «Бесах». После «Дневных звезд» я снималась во всех его фильмах. И даже в «Выборе цели», где для меня придумали роль возлюбленной физика Оппенгеймера — без единого слова. Так как я ничего про эту возлюбленную (как и про самого Оппенгеймера) не знала, то взяла одну из фотографий Греты Гарбо и, глядя то на нее, то в зеркало, сделала себе ее грим. Предполагалось, что мы танцуем с Оппенгеймером на каком-то вечере. У меня была открытая спина, открытые руки и ключицы (обычно я стеснялась этих худых ключиц и всегда их закрывала. А теперь вспоминаю о них ностальгически…). Я не видела фильм, и что там получилось — не знаю, но и дальше снималась во всех работах Таланкина.
В «Чайковском» очень хотела сыграть фон Мекк, но ее играла Шуранова, мне же досталась роль ее старшей дочери Юлии. Шуранова играла не характер, а просто женщину того времени. Она ходила мелкими шажками — потому что в длинном платье. А я — в таком же длинном платье — ходила крупно, современным шагом. И в этом был характер. Тогда Таланкин придумал сцену, в которой Юлия после смерти матери сама становится фон Мекк. Нужен был парик и костюм. Но… гримеры «Мосфильма» не разрешили мне надеть парик и платье Шурановой. Я пошла в сводную костюмерную «Мосфильма», нашла платье, в котором снималась Марина Влади в фильме по Чехову, надела его задом наперед (его скололи на мне английскими булавками). И в таком виде я должна была изображать фон Мекк. Конечно, из этого ничего не получилось, но я обожаю такие импровизации.
Когда Таланкин позвал меня сниматься в «Бесах», играть Хромоножку (а я всю жизнь мечтала сыграть именно Хромоножку), я была уже в другом возрасте — и мысли другие, и материал. Тем не менее я «влезла» в этот фильм. И вот сейчас попались дневниковые записи этого периода…
18 апреля. Не спала ни часа. Вчера была очень тяжелая для меня сцена на «Мосфильме». Снимали ночной приход Ставрогина к Хромоножке. Сцена большая, нервная: от спокойных реплик — до истерического хохота, когда она вслед убегающему Ставрогину кричит: «Гришка Отрепьев — анафема!» Неудача, как всегда у меня, с костюмом. Сшили из прелестной сиреневой байки в мелкий цветочек абсолютно историческое платье — тяжелое, в буфиках и строчках. С бархатным воротничком, манжетами и оборочкой внизу. Но у меня — стрижка «под машинку», белый цвет волос. Вместе с тяжелым платьем это выглядело бы ужасающе. Да и не такая я худая, как была когда-то. Понервничала и стала искать что-то в старых подборах… С милой художницей по костюмам нашли старое темно-вишневое платье, которое вроде бы подходило. Я взяла домой кофту от этого платья, чтобы что-то переделать, она — юбку. Полночи я прокрутилась с этой кофтой, что-то придумывала и перешивала. А с раннего утра до вечера — съемки. И сегодня, когда нужно было вставать в пять утра, чтобы ехать на аэродром (я улетала в Италию, в Падую, на какой-то семинар по европейской культуре), уже было не тяжело, потому что не спала ни секунды. Отвез, как всегда, Володя. Заехали за Витей Божовичем на Беговую и — в Шереметьево. Там, как всегда, долго ждали. Пошла в буфет, выпила водички, съела бутерброд. И стали с Витей бродить по фри-шопу.
Компания летит, по-моему, симпатичная. Летели трудно. В Болонье выпал снег, а в Милане — туман и дождь. Долго проходили паспортный контроль. Они нас не щадят. Унизительно медленно.
Наконец поехали на автобусах в Падую. За окнами — мрак и дождь. Все спали. В Падуе всю группу распределили по трем гостиницам. Я попала в прелестную старую «Мажестик». Номер хороший — с двумя кроватями, но я одна. Позвонила Мариолине в Венецию, договорились, что она после своего выступления здесь же, в Падуе, — она читает лекцию о национальностях в России — приедет ко мне ночевать.
Мы всей группой собрались в ресторане «Изола ди Карпико», недалеко от нашей гостиницы, на узкой улочке в старом городе. Ужин как ужин, вполне итальянский. Смешной Дудинцев — пьяный, но все соображающий. Олейник умный, националист правого толка. Коммунист? Витя Божович — тихий, как всегда. Правда, выпив вина, я с ним поспорила о никчемности критики. Он не нападал, защшцался. Говорил, что у критики свои законы и она не обязана заниматься воспитанием публики. Вечером в гостинице посмотрела немного телевизор. Около 30 программ, правда, одна хуже другой: или голые девахи, или какой-нибудь скучный старик говорит о политике.
Ночью пришла возбужденная, красивая Мариолина. Проговорили полночи. Заснула.
20 апреля. На утреннем заседании конференции мне сказали, что я, «украсив своим присутствием открытие», могу уйти. Что я быстренько и сделала. Пошла на рынок. Побродила, купила себе летнюю кофточку на жару и стала куролесить по городу.
В два часа пошла в гостиницу, попила чайку и — опять бродить. Теперь город более-менее уложился. Каменные тротуары, арки, очень много храмов. Смотрела в план — искала фрески Джотто. Забрела на продовольственный рынок. Огромные лавки сыров, колбас. Мясо, фрукты. Вспоминала бедную мамочку, которая спросила меня после Испании: «А много там продуктов?..» (она никогда не была за границей).
Одна площадь, по-моему, Гарибальди, запружена молодежью. Видимо, здесь место их сборов. Вообще город после четырех заметно оживился. На улицах очень много народу — гуляют, сидят в кафе или просто стоят, беседуют. Много нищих, но не жалких, а бездельников.
В одной церкви набрела на свадьбу. Вспоминала, как мы с Мариолиной года три назад были на свадьбе ее брата, тоже в Падуе. Как и тогда — невеста не в белом, — значит, брак не в первый раз.
Тогда же мы с Мариолиной пошли в гости. Закрытый двор. Среди аркад, где гуляют и продают кофе, — дверь в стене, причем очень замшелая. Входишь и попадаешь в «сказки Шахерезады». Сад. Дворец — как в старых фильмах Висконти — с такой же мебелью, с какой-то старушкой-хозяйкой. К ней пришла то ли племянница, то ли знакомая. Очень она мне понравилась — красивая девушка. Через несколько лет я как-то спросила Мариолину: «Вышла замуж эта девушка?» — «Да, за Бродского».
Вообще эти походы с Мариолиной (она — итальянская графиня, родилась в Венеции) по аристократическим гостям всегда очень забавны. Как-то в Венеции мы пришли к одной старушке, дальней родственнице Мариолины. Старушка с букольками, обычно одетая. В руках — пластмассовый ярко-зеленый ридикюльчик. В нем — платочек и ключи от трех дворцов.
Один выходит на гран-канал, второй и третий — за ним.
В XVII веке строить на гран-канале считалось моветоном, потом стали строить поближе, а уже в XIX дом на гран-канале стал хорошим тоном. И вот эта старушка осталась наследницей всех трех дворцов. Там — фрески Тьеполо и т. п., но она — бедная и время от времени сдает какой-нибудь из дворцов мэрии для больших приемов, а иногда на неделю приезжают миллиардеры-американцы и живут в этих дворцах. Ключи от дворцов хранятся в ридикюльчике.
И вот, в одной из бесконечных комнат она устроила для нас чай, а к чаю — маленькие-маленькие штучки (я даже не могу назвать их печеньем!) и пригласила своего племянника, тоже потомка венецианских дожей. Толстый, абсолютно современный «дубарь». Узнав, что я — русская, он рассказал, как однажды он повел свою любовницу в ресторан и заказал шампанское и русскую черную икру. И ей это так понравилось, что она без его ведома заказала себе вторую порцию. «Тогда, — говорит он, — я встал и сказал: „Расплачивайся сама!“, и ушел».
Я подумала: иметь дворцы с фресками Тьеполо и… — такое отношение к женщине. Раньше они стрелялись и бились на шпагах из-за одной ленточки и оброненного платка.
В общем, это совершенно другой дух, другие люди. Но живут они в тех же декорациях.
21 апреля.…Был концерт «Виртуозов Венеции» в прелестном старом зале «Salic Rossini Pedrocchi». Играли слаженно, спокойно. Тихо и отстраненно. В середине концерта по просьбе одного музыканта — украинца из нашей группы они сыграли сочинение украинского композитора. Он дал ноты и сам стал играть с ними на флейте. Играл плохо, громко, с плохим дыханием. Но он так волновался, так старался, так хотел передать нечто большее, чем было заложено в музыке, что невольно вызывал интерес и внимание. После него отстраненность итальянских музыкантов казалась особенно приятной.
…Эдисон Денисов часто водил меня на авангардные музыкальные вечера в Дом композиторов. И вот однажды приехал в Москву знаменитый джазовый пианист Чиккареа. В зале Дома композиторов собрались все наши джазмены и устроили перед ним концерт. По-моему, Бетховен сказал: «Я только к концу жизни научился в одну сонату не вкладывать содержание десяти». Это действительно огромное умение! Они так старались, так хотели перед Чиккареа показать, на что они способны, что не слышно было ни музыки, ни инструментов, было только это русское старание, это самовыражение нутра, которое не всегда бывает интересно. А потом вышел Чиккареа. Ну что ему — ну, подумаешь, какое-то очередное выступление, — и он тихо что-то заиграл. Это было гениально! И так разительно отличалось! И я тогда подумала: «Зачем мы все время пытаемся кому-то доказать, что мы тоже нужны, что мы можем…»
Я помню, как в «Комеди Франсез» одного актера попросили что-то прочитать. Он не старался передать ни свое состояние, ни музыку стиха. Просто прочитал: кто услышал — тот услышал. Если бы меня в этот момент попросили, я бы выложилась, как последний раз в жизни перед амбразурой… Так же как этот украинец в Падуе. Ему представился шанс — единственный — сыграть в Европе, с «Виртуозами Венеции», так уж он выложил все свое «нутро», а музыку потерял.
Индивидуальность и массовое сознание… Кто определяет, что ты выделяешься из толпы и имеешь на это право?..
22 апреля. Встали опять очень рано. Утреннее заседание, на котором был интереснейший доклад одного итальянского философа об эгофутуризме. Вышли на улицу и не могли перейти дорогу — очередной массовый велосипедный заезд: мчались тысячи велосипедистов.
Я помню, как однажды мы вышли с Николаем Робертовичем Эрдманом из Театра на Таганке после какого-то заседания худсовета и застряли, потому что было перекрыто Садовое кольцо — шла какая-то эстафета. Перед нами бежали спортсмены, а мы стояли, ждали и дрожали от холода. Эрдман курил и в своей спокойной манере, чуть заикаясь, сказал: «К-куда бегут? З-зачем бегут?..»
Я всегда вспоминаю его слова, когда за границей наталкиваюсь на эти забеги или заезды.
А родоначальником эгофутуризма, как известно, был Игорь Северянин. Индивидуальность над толпой. Парадокс: чем больше он над толпой насмехался, тем выше она его подымала. В 1918 году в Политехническом музее он был провозглашен Королем поэтов…
…С 1968 года я стала очень много ездить: недели советских фильмов, гастроли, съемки, приглашения и т. д. И каждый раз, попадая в какое-нибудь незнакомое место, я бросала чемодан и мчалась в город. Последние годы это ненасытное любопытство меня, к сожалению, оставило. Мне совершенно теперь неинтересны внешние впечатления. Но еще совсем недавно, года три назад, мы с Димой Певцовым играли в Афинах и поехали на экскурсию в Микены — туда, где сидела у ворот Электра и ждала Ореста. Эти ворота и могила Клитемнестры сохранились, сохранился также и прекрасный средневековый замок, но он стоит на горе, подняться на которую практически невозможно. Мы были втроем — Дима, я и сопровождающий из нашего посольства. Последний даже не пытался подняться,
Дима поднялся наполовину, я же — до самого конца. Меня гнало любопытство.
Помню, как первый раз мы приехали с «Таганкой» в Грецию, в Салоники. Я, естественно, бросила чемодан и помчалась в город. Начала бродить по улицам, устала и поняла, что заблудилась (у меня вообще городской топографический идиотизм. В лесу я могу, наверное, найти дорогу из тайги, а в городе начинаю плутать вокруг собственного дома). Заблудилась, но самое ужасное — уходя, я не посмотрела, как называется наша гостиница. Как возвращаться и куда возвращаться, я не представляла.
Попала в какой-то порт, бродила между доками. Я теперь понимаю, насколько я рисковала! Ни души, какие-то склады, наконец пришла на окраину узкие улочки, маленькие дома. Я иду. Вдруг выбегает человек, а за ним гонится другой, с ружьем, что-то кричит по-гречески. Оба босиком. Второй, почти старик, стреляет и — на моих глазах — тот человек падает. Вслед выбегает женщина с белыми вытравленными волосами (гречанки любят быть «блондинками»), тоже без обуви. Бежит, плачет и рвет на себе волосы. Выскакивают соседи. Лежит убитый. Очень быстро приезжает полиция. Следователь ведет себя абсолютно как в детективных фильмах: идет к трупу, всех расталкивает, спрашивает очевидцев. Самым первым очевидцем была я, но я стою в стороне и думаю: «Сейчас он спросит мой „молоткастый, серпастый“ (это было еще при советской власти). И зачем я сюда попала?!» И я, пятясь задом, ушла — «слиняла». Наткнулась на железную дорогу, перешла через пути, села на какой-то автобус. И уже к вечеру нашла наконец свою гостиницу.
Спрашивала про этот случай всех переводчиц — никто ничего не знал. Кончились гастроли. Мне дали перед вылетом папку с рецензиями. И вот, уже сидя в самолете, я открываю какую-то греческую газету, натыкаюсь на свое большое интервью, как всегда, с ужасной фотографией, а слева — маленькая-маленькая заметочка и снимок: лежит человек, вокруг толпа, и… я вижу в толпе себя. Но все написано на греческом, а переводчицы уже нет. Любопытство меня одолело, я нашла в Москве переводчицу, и она мне перевела. Оказалось, что в соседних домах жили старик и эта женщина. Она вышла замуж за парня, который открыл в доме жестяную мастерскую. Парень стучал по жести, а пенсионеру это мешало, и он говорил, что он его убъет. И вот он его убил… Но самое парадоксальное (хотя в заметке этого не было), что рядом проходила железная дорога, там каждую минуту с грохотом проносились составы, но к этим звукам он привык, он их «не слышал», а новый звук его раздражал. Не так ли и в искусстве?..
КОМПЛЕКС АНГЕЛОПУЛОСА
Ненавижу магазины — ни большие, ни маленькие. Но за границей из-за моей страсти открывать новую жизнь я всегда ходила по базарчикам, антикварным магазинчикам, но так как денег было мало, а покупать я очень люблю, то покупала я какие-то мелочи. И так постепенно моя нынешняя квартира превратилась в какой-то «матросский сундучок», набитый мелкими-мелкими деталями, дорогими сердцу. Переезжать мне сейчас — нереально. Расстаться с этими вещами — не могу. Но иногда я думаю: кому это оставить? Кто будет разбираться в этих любимых мелочах, которые вызывают у меня сложные, многоступенчатые ассоциации? У Володи, например, хранится в письменном столе окаменелый кусочек сахара, который для него очень много значит. Он, наверное, может роман написать по этому поводу. А на шкафу у него пылится плюшевый медведь, который старше его. Его купили, чтобы встретить рождение Володи. И куда эти вещи денутся после жизни хозяев?..
Но теперь я все меньше и меньше обращаю внимание на вещи. Ведь ко всему привыкаешь, многое перестаешь замечать, даже картины. Поэтому я их очень часто перевешиваю — чтобы видеть. Но иногда меня спрашивают: «Где такая-то картина?» Я отвечаю: «Не знаю». А она висит у меня перед глазами.
Недавно кто-то из корреспондентов спросил, отражает ли меня мой быт. И я подумала, что в какой-то период, когда мне хотелось быстро-быстро создать свой дом, — отражал. В юности все было разрушено не было корней, не было семьи. Но была ностальгия: сидеть под абажуром большой семьей и пить чай — я всегда любила об этом читать. И в какой-то момент мне показалось, что я такой дом создала. А потом я поняла, что не хочу общаться — устаю от людей, да и внутри дома не все ладно. Так что дома и сейчас практически нет.
Я вообще не верю, что человек, который, простите за выражение, занимается искусством, может жить с кем-то. Он должен быть один. Можно жить с семьей и рожать детей, но все равно существовать отдельно. С недавних пор я называю это комплексом Ангелопулоса. Конечно, для окружающих в этой отрешенности есть какая-то жесткость и жестокость. Но, с другой стороны, невозможно отдавать энергию на быт, на треп. Потому что ее все меньше и меньше, и сконцентрировать ее все труднее.
…Как-то мы летели с Теодором Терзопулосом из одного итальянского города в другой. Летели первым классом, но сидели порознь. Со мной сидел какой-то пожилой человек, почти старик. А его высокая, статная молодая жена с маленькой дочкой летели экономическим классом. Нам принесли еду. В это время пришли его жена с дочкой. Дочка жадно смотрела на поднос и говорила на каком-то непонятном мне языке. Но он ей не предложил ничего! И они ушли. Я была настолько возмущена этим стариком, что пересела к Терзопулосу и стала рассказывать, какой со мной сидит гад. Теодор говорит: «Так это Ангелопулос…»
И вот недавно на Рижском кинофестивале показывали одну из картин Ангелопулоса. Я подумала: «Интересно, совпадут ли мои житейские впечатления с впечатлениями от фильма?» К счастью, не совпали — фильм гениальный. Авторский, как у Тарковского. Судя по всему, главный герой — Поэт, который уходит из жизни, — это сам Ангелопулос. И жена его такая же статная и красивая. Правда, в фильме — не девочка, а мальчик, но таких же лет. Эти порванные отношения с людьми и то, что едет он непонятно куда, и мальчик, который то появляется, то исчезает, и жена — обожающая, с которой он тем не менее расстается, — все это меня заворожило. Я поняла его отрешенность. Это уже не человеческие отношения, это отношения художника с миром.
Очень часто человек идеализирует свое детство, свое прошлое. Человек, которого в детстве подавляли или что-то его не устраивало, всегда хочет вырваться из своего прошлого, доказать правоту своих желаний и цели. Или же — «украшает невозвратимое минувшее всеми цветами своего воображения», как писал Пушкин в «Истории села Горюхина».
Когда-то я зачитывалась Прустом и мне казалось, что у него была тонкая, аристократическая жизнь — такая же, как у его лирического героя. Жизнь в почти нереальной обстановке, прелестные отношения между людьми. Я этим упивалась. И вот наконец я попала в Шартр, где недалеко, в маленьком городке, прошло детство Пруста.
Французский городок, провинциальный, с собором около ратуши. Кафе, булочные, на которых написано: «Здесь продаются настоящие „Мадлен“, с которыми пила чай бабушка Марселя Пруста». Ведь у Пруста описано, как бабушка принимала гостей и они пили чай с печеньем «Мадлен».
Иду дальше по узкой улице. Опять булочная с надписью: «Здесь продаются САМЫЕ настоящие „Мадлен“…» И так — среди этих булочных — приближаюсь к дому Пруста. Дом среднего провинциального врача или адвоката. Когда туда входишь — сразу чувствуешь мещанский обывательский уклад среднего француза. Изящная просторная гостиная, описанная у Пруста, оказалась совсем маленькой, с мещанскими деталями. Все другое… И когда смотришь на его фотографии, понимаешь, как он пытался вырваться из этого затхлого мира и искал себе друзей среди аристократов.
Пруст преобразил не только свое прошлое, но и изменил свою жизнь, которая, следуй он семейным традициям, прошла бы в этом провинциальном городке. Но он намеренно создавал «вторую реальность», недаром его книги называются «В поисках утраченного времени».
Утраченное время — что от него остается?
…Как-то однажды я заехала за Борей Биргером, чтобы вместе ехать в Переделкино. Спустились вниз, в почтовом ящике лежало письмо от Володи Войновича (первое после его эмиграции). Боря, не распечатав, положил письмо в карман, и мы поехали на день рождения к Инне Лиснянской в Переделкино. Приехали, зашли сначала к Вениамину Александровичу Каверину — его дача была напротив. Сели в садике. Я читаю вслух письмо, Боря меня рисует карандашом: белая французская шляпка, белая кружевная кофточка и письмо — рисунок получился абсолютно в стиле XIX века. Боря подарил его Инне Лиснянской (недавно мне Инна сказала, что этот рисунок до сих пор висит у нее над кроватью). А письмо было о странных свойствах памяти — удерживать одно и упускать другое. Каверин заметил: «Да, это абсолютно писательская память, но память писателя молодого. Потому что я сейчас помню все, что происходило со мной в 20-е годы, — могу даже не заглядывать в дневники, но не помню, что было на прошлой неделе. И поэтому пишу только мемуары…» Боря Биргер говорит: «А я помню, кто как сидел, какое было освещение, какого цвета платье на женщине, — могу даже зарисовать, а вот когда это было — вчера или до войны, — не помню». А я подумала и сказала, что помню свои душевные узлы или гармоническое состояние (секундное) при общении с людьми. Больше ничего — ни стран, ни дат, ни событий. Каверин назвал это актерской памятью.
Но в памяти, видимо, с годами появляется обратная перспектива: чем старше становишься, тем ярче — картинки детства.
Отчетливо помню себя лет с пяти-шести. Я жила в эвакуации у бабушки во Владимире. Отец ночью приехал с фронта. Меня разбудили. Радости не было хотелось спать. Отец показал две игрушки, которые он привез мне и моей двоюродной сестре, — лису и слона. Я выбрала лису. Утром сестре достался слон. Она ревела. Громко, во весь голос. Ей хотелось лису. Я плакала тихо, в уголке. Она, просыпаясь утром, на весь дом кричала «Каа» (молока) и еще в постели выпивала пол-литровую кружку парного молока. Я никогда не любила молоко и до сих пор его не пью. Я часто болела. Она нет. Мы дрались.
Странно, я с трудом вспоминаю свои роли, репетиции, съемки, гастроли. Вернее, вспоминаю, когда это нужно вспомнить — когда кто-нибудь спросит. И с удовольствием рассказываю про свое детство. Как ходила в школу около Балчуга и как каждый раз останавливалась около будки инвалида-сапожника — мне очень нравился запах кожи, гуталина, скипидара. Однажды он, видимо, давно меня приметив, стал расспрашивать: кто я, с кем живу. «Отец погиб на фронте, живу с мамой…» — он дал мне три рубля. Я взяла. Но больше уже никогда не останавливалась у этой будки.
Или: там же, на набережной у Балчуга, мы играем в «классики» и прыгаем через скакалку — двое крутят, одна впрыгивает. И я, хоть и была освобождена по состоянию здоровья от физкультуры, хотела быть первой. Сил на это не хватало, я только ломала игру. Дети ~ народ жестокий. Они меня, однажды не выдержав, схватили в охапку и подержали над водой за парапетом Москвы-реки. Я думала, что они хотят меня туда бросить… Мой характер стал постепенно закрываться от людей.
Процесс «сверхкомпенсации» хорошо известен психологам. У большинства людей, проявивших себя в литературе, искусстве, политике, было, по воспоминаниям, трудное и одинокое детство. Или какая-нибудь серьезная болезнь. Их не понимали близкие или считали, что из них ничего не выйдет в будущем.
Хорошо помню, что отчим постоянно мне говорил, что я не закончу школу, окажусь в плохой компании, потом — не поступлю в институт, а когда уже училась в университете — что никогда его не закончу. Я «компенсировала» это недоверие — закончила университет, хотя, наверное, надо было добиваться Театрального училища. И в театре Любимов в первые годы в меня не верил — я играла в маленьких сценах и эпизодах. Играла «на износ», каждый день, работала по 25 часов в сутки. Как у меня хватило на это сил — до сих пор удивляюсь.
Думаю, что любое давление и недоверие — это стимул для таланта, если он тебе дан от рождения. Конечно, невозможно советовать родителям в надежде, что ребенок со временем станет знаменит, сознательно создавать детям несчастливое детство. Ведь очень часто, если энергии таланта недостаточно, при несчастливом детстве вырастает человек с плохим, озлобленным характером.
Но если бы в мире не было страдания — не было бы и выдающихся людей. Все искусство основано на страдании.
Стендаль, по-моему, где-то писал: «Для искусства нужны люди немного меланхоличные и достаточно несчастные».
Когда об этом пишу, я вспоминаю многих моих прежних друзей. Это и Эдисон Денисов — крупнейший композитор, к сожалению, ушедший из жизни, это и Отар Иоселиани — гениальный режиссер, это и Олег Чухонцев — прекрасный поэт. Я уже не говорю о всех тех людях, о которых пишу в этой книжке.
* * *
Боря Биргер, Эдисон Денисов долгое время были моими близкими друзьями. Боря обладал удивительным талантом объединять совершенно разных людей. Такие московские компании теперь распались, а если есть, то у других поколений.
У Бори была маленькая мастерская на Сиреневом бульваре. Помню коридор с бесконечными дверями и за каждой — гениальный художник. Когда входишь в этот коридор, пахнет красками, кофе и чем-то блудным.
Я знала многих художников и всегда поражалась, как они каждый день едут к себе в мастерскую — ведь никто их не заставляет. Мне это напоминает парижских родственников Раисы Моисеевны Беньяш, у которых я останавливалась в Париже, — Нору и Боби. У Норы был доставшийся в наследство от отца небольшой магазин постельного белья. Там работали два продавца, но каждый день, в каком бы состоянии она ни была, она вставала рано утром и ехала через весь город к Лионскому вокзалу — в магазин. Я ее спрашивала: «Зачем?!» — «Если я хоть один раз дам себе послабление, на второй день я уже не смогу себя заставить». Так же, видимо, у художников. Боря ездил в мастерскую каждый день.
В маленькой студии, за шатким столом, мы собирались «обмывать» его картины. То портрет Васи Аксенова, то его жены, то двойной портрет, например: Сахарова с женой, Евгения Борисовича Пастернака с женой, Льва и Раисы Копелевых… Можно было не очень хорошо знать тех, кого он рисовал, но стоило посмотреть на его портреты, и сразу становилось ясно, какие у этих людей отношения, какие характеры и т. д.
Я говорила: «Боря! Ну нельзя же так выдавать людей!» Он: «Я не виноват. Я, наоборот, хотел все приукрасить…»
Иногда он делал портреты компаний. Например, картина начала 70-х: Валя Непомнящий, его жена Таня, Григорий Поженян, Володя Войнович — типичная компания 70-х, но почти все в карнавальных костюмах, и среди них сам Боря в красном колпаке шута.
Позже — другой групповой портрет: Олег Чухонцев, Эдисон Денисов, Булат Окуджава, Бен Сарнов, Фазиль Искандер — уже разобщенные, хотя сидят за одним столом с тревожными красными бокалами в руках. Это уже конец 70-х.
Последний портрет — компания конца 80-х: мы сидим, как часто сидели в мастерской или у Бори дома. За столом — Олег Чухонцев, Булат Окуджава, Игорь Кваша, Игорь Виноградов, Эдисон Денисов, я отдельно — в кресле. Сам Боря стоит, держа поднос с курицей, и тревожно смотрит в дверь. Эта дверь — со сквозняком, потому что пламя свечей в шандале колеблется. Все сидят вместе, но никто ни с кем не общается.
Мы действительно тогда еще были вместе, устраивали кукольный театр, писали ночами тексты к нашим кукольным капустникам. У нас была кукла Боря, кукла Белла (мои голосовые пародии на Ахмадуллину, которые потом вошли в спектакль «Владимир Высоцкий», начались у Бори), кукла Булат, кукла Олег Чухонцев. На наши кукольные представления в маленькую Борину квартирку народу набивалось, как на прием. Приходило немецкое посольство — немецких друзей у Бори было много, он хорошо знал немецкий язык (во время войны он был разведчиком. На всю жизнь с того времени у него осталась присказка на все случаи жизни: «Пробьемся!»).
Теперь Боря живет в Бонне.
А начался кукольный театр с того, что у Бори появились две маленькие дочки. Мы стали устраивать детские утренники — делали попурри из сказок.
Помню, как-то я целую ночь обклеивала камушками волшебную палочку, чтобы она сверкала.
В одном из наших представлений я играла фею бабочек. И старшаяя дочь Бори, Женя, поверила, что я настоящая фея, тем более что у меня была волшебная палочка. С тех пор, когда надо было ее увещевать, Боря набирал мой телефон и соединял Женю с фееей бабочек. И я — от феи — давала ей какие-то наставления.
Однажды мы сговорились с Борей, что он придет ко мне в гости с Женей она очень хотела посмотреть, как живет фея бабочек. Они должны были прийти днем, а утром мне позвонили и сообщили, что умер Сергей Александрович Ермолинский. Мне нужно было мчаться к его жене, чтобы поддержать ее, но отменить визит Бори с Женей я не могла. Тогда я быстро нарезала куски разных блестящих тканей, соединила в середине нитками, и получились бабочки. Они были разбросаны по всей квартире — на цветах, на стене, на потолке. И даже на входной двери снаружи висела огромная бабочка. Я надела платье, на котором были бабочки, поставила на стол чашку с бабочками…
Теперь Женя уже взрослая, она живет в Германии и учится вокалу. Но для нее я так и осталась феей бабочек. Боря Биргер очень часто приглашает меня приехать, но для меня он слишком связан с Москвой, с кукольным театром, с феей бабочек, с бесконечными посиделками по поводу очередного портрета.
Он, кстати, сделал и мой портрет. Я тогда была очень занята репетировала «Деревянные кони». Приходила, и он поражался, как я меняюсь: то молодая, а то вдруг — северная старуха. «Я не знаю, какой портрет писать», говорил Боря. Этот мой портрет теперь в Германии. Еще в Москве его хотел купить один меценат, чтобы подарить Бахрушинскому музею, но Боря слишком быстро уехал. А у меня, чтобы его купить, не было денег.
КОГДА БЫ ГРЕК УВИДЕЛ НАШИ ИГРЫ
…
Чужой прекрасный результат в искусстве, как известно, всегда подхлестывает. В Греции на театральном фестивале в Патрах было много хороших спектаклей, и я рискнула сыграть цветаевскую «Федру» одна. Помог мне Теодор Терзопулос — режиссер и директор этого фестиваля. И вот мы с Теодором в страшную жару под 40 градусов стали репетировать этот спектакль. На дне моего чемодана на всякий случай «для примеров» лежала черная муаровая длинная юбка с золотым шитьем, а в Патрах я купила кусок черного муара. Теодор предложил задрапировать этой тканью часть старой полуразрушенной крепости, закрыть черным камни на земле.
Выступ стены образует сцену. Поставили очень хороший магнитофон, нашли свет, главное, конечно, — необычная музыка (кассету Филиппа Глааса по моей просьбе привезли прямо из Афин). Музыкальные отрывки скрупулезно подобрал Теодор, а я в это время писала небольшой разъяснительный текст — о «Федре», о Марине Цветаевой, о нашем спектакле. Потом этот текст перевели, и его очень хорошо прочла одна молодая греческая актриса.
Работать с греками было интересно, мы понимали друг друга с полуслова. Теодор советовал смелее пользоваться резкими голосовыми переходами, менять тембр, предостерегал от декламации и форсированного звука, советовал то комкать в руках черный муар, то неожиданно распрямлять его с резким характерным звуком натянутого шелка, учитывая, что все эти звуки будут усилены микрофоном. Он говорил: «Не забывайте и смелее используйте вашу авангардную живопись 20-х годов».
Самым интересным спектаклем на этом фестивале были для меня «Персы», поставленные Терзопулосом с актерами его театра «Аттис». Текст трагедии для этого спектакля адаптировал и перевел на современный греческий язык Панос Мулас. Это очень важно — перевести древнюю трагедию на современный язык — в прямом и переносном смысле. Ведь мы не можем ни жить, ни чувствовать, ни думать, как древние греки. Важна идея, важна все та же энергия слова. Жанр трагедии — это воля, которая лишена возможности воплотиться в действие. В этом заключается конфликт. Ощущение неизбежности конца, края пропасти…
Шесть актеров непрерывно присутствуют на сцене в костюмах, напоминающих древнегреческие хитоны, и средневековые плащи, и современные хипповые тряпки. Странно застывшие позы, характерные для немецкого театра (Теодор много лет провел в Германии и очень многое взял из ее театральных «запасников»). Шесть актеров — шесть грандиозных монологов, передающих образ войны и ее страшные для человечества последствия.
Спектакль идет на старой античной сцене, зрители сидят на каменных уступах древнегреческого амфитеатра, а со сцены идет мощный поток энергии, завораживающий, втягивающий тебя в действо.
Я не знаю, какой внутренний орган воспринимает эту психическую энергию, идущую со сцены. Но про себя я могу точно сказать, что чувствую свое абсолютное участие в той реальности, которую создает на сцене Терзопулос.
Эсхиловские «Персы» становятся частью моей актерской биографии.
Как-то Святослав Бэлза сказал мне после моего концерта: «Алла, у вас мировоззрение трагической актрисы». Я никогда не думала об этом, но если это так, то это — наказание. Недаром трагических актеров мало — это груз, ноша, которой надо многим жертвовать. Не знаю, получилась ли из меня трагическая актриса, но Бэлза прав — мироощущение у меня трагическое и негативной энергии накапливается внутри много. Ее надо как-то «перерабатывать».
Что бы со мной было, если бы я не играла трагические роли — Федру, Электру, Медею, не читала на поэтических вечерах?..
К середине 80-х годов, когда я работала в Театре на Таганке, играла Машу в «Трех сестрах», Марину Мнишек и другие роли в спектаклях Любимова, мне показалось, что манера «Таганки» себя исчерпывает. Хотелось расширить рамки профессии и поработать с режиссерами иной школы.
Тогда появился Роман Виктюк. Мы стали с ним репетировать «Кто боится Вирджинии Вулф?», задумали еще какую-то работу, словом, друг друга нашли. Мне нравилось, как он вел себя: очень демократично, можно было чувствовать себя раскованно, свободно высказываться, не опасаясь, что заходишь на чужую — режиссерскую — территорию.
Я не люблю играть западные современные пьесы и предложила: «Роман, есть гениальная пьеса „Федра“ Цветаевой, она написана, как „Пугачев“ у Есенина, на одном дыхании. Скорее это даже не пьеса, а поэма — как „Поэма Горы“ или „Поэма Конца“, но с сюжетными линиями, хотя это тоже „авторская вещь“, то есть все персонажи — и у Есенина, и у Цветаевой — говорят одним языком языком поэта».
Виктюку понравилось мое предложение, мы начали репетировать, но очень скоро поняли, что можем легко обломать зубы. Например, как передать такое, Цветаевское: «восславим скоробеж, восславим скородеж»? Возникла идея образа автора, Цветаевой. Тогда стали искать новые средства для разработки сюжетных линий. Попробовали сцену Федры с Кормилицей сыграть вдвоем с партнершей — получилось на бытовом уровне, провал. Решили: я одна буду и Цветаева, и Кормилица, и Федра, но это запутало бы публику окончательно, и тогда возникла и вылилась в самостоятельное действующее лицо тема Рока, какой-то черной силы, которая ведет и Федру, и Цветаеву к гибели. Для этой темы нам слышался мужской голос — был приглашен молодой Дмитрий Певцов.
Тема Рока, Неизбежности очень важна для трагедии. «Ананке» по-гречески Рок.
Трагедия самой Цветаевой прочитывалась в тексте «Федры» как раздвоенность. Как-то я услышала от Вячеслава Всеволодовича Иванова, с которым встретилась в гостях, о том, что у Цветаевой с ее сыном, Муром, были отношения духовного инцеста: она хотела владеть его душой, а это грех. Мы не стали подчеркивать в спектакле эту мысль, но решили эту тему перевести в пластику — одного голоса уже казалось недостаточно, искали театральный язык, который объединил бы пластику и поэтическое слово.
Здесь нам посчастливилось: в Москву приехал работать по контракту с труппой Касаткиной и Василёва замечательный латиноамериканский балетмейстер Альберто Алонсо, в свое время сделавший для Майи Плисецкой «Кармен». А Тезея у нас репетировал Марис Лиепа, не только великий танцовщик, но прекрасный драматический артист. Сила стати, постановка шеи, лицо!.. Алонсо кто-то рассказал, что на «Таганке» актеры пытаются найти синтез балета и поэзии, звучащей со сцены. «Ну, это еще никому не удавалось!» — усмехнулся Алонсо, но тем не менее заглянул к нам. Помню, зашел после своей репетиции, после трех — и остался с нами до часу ночи. И приходил каждый день до самого конца своего московского контракта.
Алонсо нам, что называется, прочистил мозги. Он внушил нам, что пластика «Федры» должна быть простая, прямая, поскольку поэтическая цветаевская речь сложна. Музыку по моей просьбе написал Эдисон Денисов, это была последняя его театральная работа. Искомый театральный язык уже, казалось мне, просматривался — это было расширение привычного языка современной сцены. Но начались беды. Ушел по болезни Марис Лиепа, он вскоре умер. Замену ему найти не удалось. И Роман заскучал, оставил нас, хотя мы уже репетировали полтора года.
Любопытно, что язык, который мы так напряженно искали для цветаевской «Федры», оказался замечательно хорош и на совершенно ином материале. Виктюк поставил у Константина Райкина в «Сатириконе» «Служанок» — с теми же юбками, в которые были одеты и наши мужчины, с теми же гримами. «Служанки» имели феерический успех, после чего Роман вернулся к нам и, беспощадно сокращая Тезея, комкая конец, все-таки выпустил «Федру».
В «Федре» был намечен путь к трагедии. Ведь у нас, в русском театре, на моей памяти, трагедию играли или как драму, разрабатывая характеры и психологию, или как оперу — с хором, в богатых старинных костюмах.
Работая над «Федрой», я поняла — поняла изнутри, что у трагедии древних свои законы. В ней нет понятия греха, каким оно явится миру в христианстве. И хотя у Цветаевой, разумеется, это понятие есть и ее Федра казнит себя, так же как сама Цветаева казнила себя, подогнув колени под петлей в Елабуге, за все ошибки, за все грехи, тем не менее в цветаевской «Федре» очень точно переданы законы древней трагедии и античного мифа. Таков, например, ее замечательный монолог: «Те (то есть боги. — А.Д.) орудуют, мы — орудие». Человек — лишь орудие в руках фатума, рока, лишь игрушка в руках богов. Почему Электра не убивает мать? Да потому, что ее должен убить Орест, а не она — не дочь — так повелели боги. Понятно при этом, что древний грек не знает ни сомнений, ни чувства ответственности за свои поступки — за все отвечают боги. Совсем иное миросозерцание. Иногда говорят, что древние объяснили нам наши современные комплексы — Эдипов комплекс, комплекс Электры и так далее. Наоборот! Наши комплексы лишь атавизмы той, древней цивилизации, с которой наша цивилизация оказалась в разрыве. Разрыв произошел давно, но историки его еще не объяснили.
Надо учитывать разницу между принципами христианства и античности, чувствовать ее. И тогда интересно, если так можно выразиться, играть с сопоставлениями и противопоставлениями. Скажем, понятия Рока, Фатума и, с другой стороны — понятия о Добре и Зле, сознание личной виновности, индивидуального греха. Приведу пример из сегодняшней практики: Анатолий Васильев свое решение спектакля «Каменный гость» и другие стихи» строит как раз на противопоставлении «античное — христианское» в поэзии Пушкина. Собирая нас перед каждым выходом на сцену, Васильев хочет настроить нас, участников, именно на углубленное, в каком-то смысле философское понимание античности'и христианства, их борения и соединения в тех стихах Пушкина, которые образуют монтаж, точнее, концепцию этого спектакля: путь Пушкина от «Гавриилиады», от античного гедонизма, от античной мифологии к постижению христианской истины.
Другая моя трагическая роль — Электра — оказалась для меня очень трудной, правда, не столько из-за своего фаталистического миросозерцания, а по другим причинам. Пожалуй, тогда и произошел перелом в моем отношении к театру.
Начиналось, впрочем, радужно. В Афинах открывался огромный концертный зал с несколькими сценами. Открывался он фестивалем под названием «Электра» — там были и балет, и опера, а «Электру» Софокла Любимову предложил поставить греческий миллионер Ламбракис, который финансировал весь этот фестиваль. Григорович, например, показывал свой балет «Пилад», венская опера — «Электру» Рихарда Штрауса.
Любимов пошел путем Брехта, путем «Доброго человека из Сезуана» — искал выразительности в крике. Действительно, в крике трудно обмануть, крик надо просто окрасить, это уже не «ползучий реализм», не быт. Я заставляла себя делать все, что требовал режиссер, играла на крайних верхних точках, на крике, на эмоциональном самовыявлении. В результате заболела, репетировала и играла с воспалением легких. И каждый раз после спектакля заболевала.
Я поняла, что играю не по ремеслу (то есть не по искусству актера), а за счет собственной энергии, растрачивая ее, а это неверно и недопустимо. Я пропустила звено в профессии — играла не образ, а себя в предлагаемых обстоятельствах. Но мои чувства — это не чувства Электры.
Тем не менее, когда мы сыграли «Электру» в Афинах, Ламбракис — продюсер спектакля — пригласил на ужин Любимова и меня, снова предлагая свою денежную поддержку, чтобы продолжать работу вместе. Кто-то предложил «Мамашу Кураж», но я Брехта не люблю, отказалась. Тогда возникла «Медея» Еврипида, но там плохо переведены хоры — они непонятны для нас, нынешних. Любимов заказал перевод Иосифу Бродскому, тот сделал прекрасные переводы хоров.
Я увидела макет Давида Боровского — парафраз войны в Чечне, бруствер из мешков с песком, защитно-полевые комбинезоны, каски. Так мне все это было не по душе! В это время греческий режиссер Теодор Терзопулос предложил мне «Медею» в современной адаптации Хайнера Мюллера — она называлась «Медея-материал». Я ушла из спектакля «Таганки», стала работать с Терзопулосом. Об уходе не жалела, хотя потом в их спектакле были интересные вещи: хор а capella, старые греческие черные платья у женщин, Медея говорила с грузинским акцентом… Но остальное — военные костюмы, политические намеки и аллюзии — это мне не нравилось. Тем более что мысль о расставании зрела у меня уже в 70-е годы, а на «Электре», когда поняла, что это будет повторение ранней «Таганки», я только укрепилась в своем желании.
Опыт Федры, Электры, столь тяжелый, и особенно опыт следующей работы с Терзопулосом — Медеи, на сей раз положительный, — то есть своего рода погружение в античную трагедию, открыл для меня первостепенную важность актерской техники. Я говорю о той индивидуальной технике, внутренней и внешней, которую, испытав в ней потребность, должен разработать сам актер для себя, чтобы воздействовать на зрителя. Ведь та же история театра свидетельствует, что успех приходит к актеру и имя его вписывается в анналы только при резкой смене техники, при явной новизне, которая идет вразрез с общепринятым.
Например. Был в начале XIX века красавец Каратыгин с величавой осанкой, с царственным жестом и прекрасной дикцией, и вдруг явился Мочалов абсолютная противоположность, расхристанный, играл на «нутре», неровный, нервный — и стал кумиром публики. После вышел на сцену Щепкин с его мягкой и человечной бытовой манерой. Ну и так далее…
Собственно, актерская техника меня всегда интересовала. Я давно стала понимать, что надо самой «изобретать велосипеды» — самой расшибать лоб об очевидные истины.
Подсознательно это возникло у меня еще во времена «Гамлета» с Высоцким. У Высоцкого сильная энергия шла от наркотиков, но я их употреблять не могла из-за слабого здоровья и от всегдашнего отвращения к внешнему насилию.
Тогда же я стала думать: что происходит, когда хорошо играешь? Переплетенье «ты — образ» и «ты — наблюдающий со стороны» постоянно раздваивается и переплетается вновь. Игра удается, когда ты очень сконцентрирован и когда тебе ничто не мешает — ни внутренние болезни, ни закулисные шумы, ни технические накладки (они раньше мне очень мешали).
И вот я стала самостоятельно разбивать роль на мыслеобразы, на видения. Особенно — в стихах. Когда читаешь, ритм должен жить в тебе подсознательно, а ты должен видеть «живые» картинки. Они возникают внутри, но ты должен их «отслоить» для зрителя и видеть в конце зрительного зала. Потом я стала эти картинки «отслаивать» в ролях, потом поняла, что их надо переводить на образы, а после — на цвет. И даже проверила это с учеными: если переводить текст роли на цвет и абстрактные образы — возникает наиболее сильная энергия.
В то время «Вишневый сад» шел уже на Новой сцене. Однажды я увидела, что в зале сидят люди и направляют на сцену какие-то аппараты типа мембран. Потом они пришли ко мне в гримерную и сказали, что пробуют изобрести аппарат для измерения психической энергии. Наверное, около месяца мы работали вместе. Они измеряли все мои энергетические точки до спектакля, в антракте и после. Это было похоже на кардиограмму.
Иногда спектакль шел неудачно. Помню, как на «Трех сестрах» в антракте они меня «замерили», а у Меня все энергетические точки были на нуле, то есть Дальше — смерть. Я при этом чувствовала себя опустошенной, но, сказать честно, я себя часто так чувствую. И экстрасенс Галя (они ли ее привели или она возникла сама собой?) стала меня «оживлять» — давать мне энергию. Тогда же они мне сказали, что в основном актеры «вампирят» энергию у зрителя. А кроме того, берут ее друг у друга — у того, кто сильнее.
Как-то после «Вишневого сада» я решила еще раз проверить их аппарат. Я была в очень хорошем состоянии, потому что спектакль прошел хорошо. Замерили: излучение всех моих энергетических точек было повышено. Я спросила: «Значит, я брала энергию у зрителя?» Они говорят: «Это взаимообмен».
И вот они остались в зале одни. Я начала темпераментный, со слезами кусок «О мои грехи…». Они говорят: «Нет-нет, вы у нас забираете энергию». Тогда я села в кресло и этот же монолог стала читать на мысле-образах, по своей «системе».
Я разделяла зал на три части. Правая от сцены часть зала для меня была оранжевой. Это — детство. А если образ — то цветущий сад, или расцветающая роза, или всходящий колос. Но все это — оранжевого цвета. И когда я говорила «О мое детство…» — я всегда говорила только в правую сторону, и брала оттуда энергию.
Когда я произносила «Вон покойная мама идет…» — это была у меня середина, белого цвета. Белый — цвет смерти (и королевский траур, кстати, белый). Там у меня особого образа не было, просто — белое сияние.
А левая сторона зала — там у меня сначала возникал образ болота, топи, потом он превратился просто в черный, засасывающий цвет. И это было «Гриша мой, мой мальчик… утонул…» — я представляла, что не в реке, а в болоте, и как он цеплялся руками… То есть я сначала переводила слова на образ, а потом просто на цвет.
И вот когда я стала так — с внутренней, но очень плотной партитурой мысле-образов и цветовых переходов, читать монолог о грехах, ученые сказали: «Вот-вот. Теперь вы даете энергию».
И тогда я поняла, что текст любой роли надо переводить на мыслеобразы.
В это же время мы репетировали «Федру». И я стала говорить об этом Диме Певцову и другим актерам, работавшим с нами.
С теми же учеными мы обнаружили, что я работаю анахатой (область сердца), иногда — вишутхой (область гортани. Этим центром актеры обычно не работают, это очень тонкая вибрация, которую и воспринимают только очень подготовленные зрители). Анахата — сердечная чакра — воспринимается более широко. Высоцкий работал этим центром — диафрагмой. Многие актеры работают нижней «земной» чакрой — малатхарой, которая «бьет» вниз. (Я, кстати, давным-давно замечала, что, когда актеры «жмут» голосом, у них даже попка соединяется вместе — так они подсознательно «давят» этой чакрой.) Но это грубая вибрация. И когда люди ругаются — это всегда малатхара.
И вот на репетициях «Федры» мы стали развивать верхние чакры. Ученые мне сказали, что для этого надо подсоединяться к тем же чакрам зрительного зала. Но что такое зрительный зал?! Каждый по отдельности? К каждому же не подсоединишься…
И тогда я придумала образ: в конце зала обязательно сидит Друг, которого любишь. Каждый подставляет своего Друга. Но — чтобы не было головы. Голова где-то на крыше, а ноги — где-то в земле. Нужно, чтобы сердечная чакра стала большой. И — ты соединяешься прозрачным, не стеклянным, а похожим на солнечный луч, очень сильным, все время расширяющимся «тубусом» с концом зала, с чакрой Друга.
И когда не хватает мыслеобразов, когда вдруг — пустота или что-то помешало и ты не входишь в роль, всегда надо концентрироваться на этой солнечной связи, в которой «пылится» энергия. От своей чакры — туда, в конец зала. Кстати, Высоцкий в свое время мне советовал: «Алла, играй туда, где в конце зала светится табло „Выход“.»
С тех пор я стала разрабатывать упражнения на умение разбивать роль на мыслеобразы и на умение концентрироваться. Потому что самое важное для такого рода работы — концентрация и расслабление. Ведь просто сказать себе: «я концентрируюсь на том-то» — нельзя. Человеческая психика один образ больше шести секунд не удерживает — попробуйте думать о белом слоне, обязательно появится черный.
Расслабление же необходимо после — чтобы не умереть от этой энергии. В «Медее» я час двадцать была на сцене одна. Это был час двадцать сплошной концентрации на мыслеобразах, на цветах. И — только вишутхой. Я даже не спускалась на анахату, только в последнем, еврипидовском монологе. После этой концентрации надо очень сильно расслабляться. Когда в Афинах я сыграла 28 «Медей» — я заболела.
Если же переводить все на свои чувства — как я делала в «Электре» (а Любимову нравится, когда играешь себя и используешь свои чувства) — не выдержишь сразу. Я тогда и заболела сразу и играла с пневмонией…
С «Федрой» мы были приглашены на фестиваль в Квебек, где тогда с удовольствием принимали авангардные постановки (большие, громоздкие обычно едут в Авиньон, в Эдинбург). Там я увидела греческий спектакль «Квартет» Терзопулос поставил пьесу Хайнера Мюллера, современный парафраз романа Шодерло де Лакло «Опасные связи». О Мюллере у нас тогда и не слыхали, смотрела я спектакль без перевода, все поняла и была в восторге. Речь там шла о потере современным человеком цельности, о разорванности, о душевном хаосе, о подмене не только полов, когда женщины превращаются в мужчин и наоборот, но чувств — это было ясно, хотя актеры играли на своем греческом языке и были в отрепьях. Я твердо решила сыграть пьесу в русской версии, на нашей сцене и в постановке Терзопулоса.
Переводов, понятно, не было, пришлось заказать подстрочник. Когда прочла, убедилась, что подобного текста не только никогда не произносила, но и не видала в черных снах. Но было уже поздно: Терзопулос приехал в Москву. Я сама оплатила ему дорогу, квартиру, платила синхронному переводчику, осветителям, а считалось, что мой Театр «А» — чуть ли не бюджетный!
Мы начали репетировать в паре с прекрасным актером Гвоздицким — не получилось, пригласили Диму Певцова. Терзопулос ставил совсем новый спектакль, отличный от греческого. Трудно было на репетициях с синхронным переводчиком. Она сидела рядом с Теодором и тихим голосом переводила его. Мы на сцене слышали, но, когда Терзопулос стал ставить свет и музыку, радисты и осветители, которые, сидят в своих будках в конце зрительного зала, ничего не слышали. Мне пришлось им громко повторять этот перевод, а Теодору казалось, что я веду себя как «звезда», руковожу репетицией, сама ставлю свет. Возник конфликт. Мне пришлось менять переводчицу (менеджер из меня, как выяснилось, никакой).
Теодор знает немецкий, итальянский, но не знает французского, я только французский. Что делать? Тогда я — это очень смешно! — «обучила» его моему французскому языку, неправильному, без артиклей, и на этом языке, уже без переводчика, работали «Медею». Потому что в театре творчество возникает иногда не на словесном, а на энергетическом уровне. На единомыслии.
«Медея». Здесь Терзопулос был идеально на месте — Он хорошо чувствует архаику, родился в греческой Деревне Катарини, что на севере Греции — на родине Еврипида. А учился он в театре Брехта «Берлинер ансамбль», где в свое время Хайнер Мюллер был директором. И вот сочетание кровный грек и умный, ироничный немец-интеллектуал!
С Мюллером я тогда не была знакома, увидела его потом в Таормино, в Сицилии, где его чествовали критики и театральные деятели со всего мира. Он сидел с молоденькой женой, пил пиво, часто ходил курить, а через месяц умер от рака, — оказывается, был безнадежно болен.
В нашем спектакле современный текст Мюллера был соединен с текстом «Медеи» Еврипида в переводе Иннокентия Анненского, ритмически очень точном. Короткую фразу Мюллера надо было разбить классической длинной строкой Анненского, вернее, соединить их контрапунктом.
С нами над спектаклем работал уникальный человек, музыкант, поэт, актер — грек по имени Рецос, — он потрясающе у нас звучит в спектакле на древнегреческом языке своим странным голосом под аккомпанемент древних инструментов. У него я многому научилась и многое поняла. Например, что трагедия должна быть статична — спектакль дал эту статику. Сложность — в диапазоне голоса, в перепадах тембра, ритма. У Еврипида Медея — колдунья, внучка Солнца. Из Хайнера Мюллера я для себя вынесла заключение, что монолог Медеи, рассерженной, обманутой жены, похож у него на «Голос» Жана Кокто плач женщины по мужчине, который ее оставляет. Здесь она уже оставлена, ведет свой внутренний монолог с Ясоном — Рецосом. Убила детей пли нет, собственно говоря, неважно: поскольку мы соединили Мюллера с Еврипидом, основным стал момент предательства.
…Ощущение жертвы предательства я запомнила навсегда — с детства, когда меня дети схватили и несколько минут продержали за парапетом, над водой Москвы-реки…
В Медее я вытянула тему предательства. Она предала отца, разрезала на куски тело брата и разбрасывала их, чтобы остановить погоню… Она предала и родину, указав аргонавтам, где спрятано золотое руно. Измена Ясона аукается с ее собственными предательствами, которых больше в десять раз. Поэтому в нашем спектакле она пытется разобраться в себе самой, докопаться до глубины своего греха.
В пьесе нет убийства детей — на сцене я поджигаю на ладонях две папиросные бумажки, доставая их из музыкальной шкатулки, и они слетают с ладоней в воздух, как две души. Еврипидовский монолог «О дети, дети!» звучит как ее плач и по себе самой. Медея казнит себя, как казнила себя Федра, как Марина Цветаева, когда она с петлей на шее подогнула колени в сенях дома, где за ситцевой занавеской они с сыном снимали угол…
Работая над «Медеей» и потом играя спектакль, я поняла, насколько важно было для древнегреческой трагедии само место, где она игралась, как велика была зависимость от окружающей среды. И от природы. Скажем, в древней Греции представление трагедии начиналось рано утром, на восходе; в середине спектакля, когда действие и само солнце были в зените, героиня обращалась прямо к солнцу. Действие длилось целый день, финал трагедии шел на закате. Древнегреческие театры и строились-то так, чтобы заход солнца был всегда за спиной у актеров. А еще ведь в Греции всюду горы, за амфитеатром перспектива гор. В Афинах играли перед Акрополем. Вдалеке было море, в него садилось солнце — это тоже входило в спектакль.
Все это я прочувствовала благодаря «Медее», играя ее в самых экзотических, по нашим российским меркам, условиях. Например, в Стамбуле есть знаменитая соборная мечеть Айя-София, а рядом — руины бывшего византийского собора Айя-Ирина — нам разрешили там сыграть «Медею». Своды, арки дают эхо, а за моей спиной был алтарь, обрамленный могучей дугой, на которой выложено мозаикой некое изречение по-древнегречески. В алтаре горели тысячи свечей. Когда появились зрители, эхо продолжалось, и мне приходилось текст или петь, или рубить стаккато.
Или еще: античный амфитеатр на триста мест в Пуле, в Сардинии. На самом берегу моря, с мозаичным полом. Здесь для «Медеи» построили станок, его обтянули белой кожей. Рядом море, слышался шум волн, шелест гальки. Огромная луна и низкие южные звезды (луна — мой знак, я ведь «Весы»). А перед глазами зрителей в морской дали мигал маяк. Запись удивительного голоса Рецоса, колхидские мелодии, мои речитативы — все соединялось в одну вибрацию…
Уроки Рецоса аукнулись мне и в Москве. Рецос великолепно чувствует гекзаметр с его длинной строкой и цезурой посередине. Он же мне объяснил, что многие греческие трагедии оканчивались на гласном звуке — долгом «и», на глаголе или на обрывке слова — как вечное движение, нет ни начала, ни конца. Эти гласные очень важны. Недаром Анатолий Васильев, работая над «Каменным гостем», заметил, что у Пушкина очень много «и», и чисто интуитивно зафиксировал важность этого момента. Он стал объединять две стихотворные строки в одну длинную с цезурой посредине, как в гекзаметре. Стихи Пушкина, которые, казалось, умеет читать каждая домохозяйка, зазвучали у него в спектакле, какими их еще не слышали…
Последнее время в моей судьбе все цепляется, лепится одно к другому довольно-таки закономерно: греческая трагедия, Пушкин, поэтические вечера, гекзаметр, васильевский «Каменный гость» и чтение «Поэмы без героя» на сцене «Новой Оперы» с камерным оркестром под управлением Евгения Колобова.
Мне все больше и больше хочется оставаться на сцене одной вместе с Поэзией и Музыкой. Кстати, как-то у Питера Брука спросили: в чем будущее современного театра? Он ответил: «Поэзия и пластика».
МАКВАЛА
Лет десять назад меня пригласили на театральный фестиваль в Патрах в Греции. Быть гостем приятно — не надо ничего играть, а только смотреть спектакли, которые привозят театральные коллективы из разных стран. Патры — город небольшой, у моря, с прекрасной полуразрушенной средневековой крепостью и древнегреческим театром. И вот, лежа на берегу моря и лениво перелистывая фестивальный буклет — кто приехал, откуда, кто режиссер, — с ужасом вижу, что я объявлена в рамках фестиваля играть моноспектакль «Федра» Цветаевой.
Меня ни одна душа в Москве об этом не предупредила, да у меня и нет такого моноспектакля — мы играем нашу «Федру» впятером… Открытие фестиваля. Все очень торжественно, речи, приветствия, в заключение, как говорят, должна петь монолог из оперы Керубини «Медея» Маквала Касрашвили. Но я слышала, что из-за перелета, из-за морского воздуха у нее какие-то проблемы с голосом. Жаль — это было бы прекрасным началом фестиваля античной. Драматургии. Но она пела! Я никогда не забуду моего потрясения, когда магнетизм монолога Медеи перед убийством детей соединился с прекрасным, темным, бархатным голосом с трагической окраской, звездной южной ночью и запахом греческой земли. Это было одно из самых ярких театральных впечатлений у меня за последние годы. Я тогда подумала, что арию эту надо петь, когда есть трудности с голосом, ведь чтобы их преодолеть, требуется именно такая концентрация, такая сила воли, которая и нужна Медее перед ее страшным решением.
В Москве я стала ходить в Большой театр на все спектакли, где пела Касрашвили. Особенно она мне нравилась в «Орлеанской деве». Чайковский писал фон Мекк: «Для чего я надрываюсь над работой, когда в числе русских певиц не знаю ни одной, которая сколько-нибудь подходила бы к моему идеалу Иоанны?» И дальше: «Для картин Иоанны нужна певица с громадным голосом, с сильным драматическим талантом. Где и когда я найду сочетание этих трех требований в одном лице?» Маквала Касрашвили полностью отвечала этому.
Партия была написана для сопрано, но этим голосом чисто технически невозможно сыграть мужественный, сильный характер, и поэтому часто эту партию делили на двух исполнительниц — сопрано и меццо-сопрано, а для премьеры Чайковский вообще переделал ее для меццо-сопрано. Маквала Касрашвили впервые в истории постановок «Орлеанской девы» воплотила замысел композитора — соединила в себе два голоса и пела все без купюр, как было написано в оригинале, брала все верхи и низы.
Я преклоняюсь и перед другим драматическим даром Маквалы — перед ее врожденным артистизмом. И артистизм этот чудесным образом позволяет Касрашвили быть на сцене то мечтательной, тихой Татьяной Лариной, то страстной Флорией Тоской, то трогательной беззащитной Иолантой, то Жанной д'Арк, которая поднимает на освободительную войну всю Францию. И во всех ролях — абсолютно естественное существование…
В «Орлеанской деве» Маквала оставалась со своими прекрасными черными волосами, спадающими на плечи. Улыбчивая и добрая. И в крестьянском костюме, и в тяжелых латах, когда Иоанна сидит на троне, Маквала была простодушной, наивной, иногда даже ироничной по отношению к себе, с внимательными, доверчивыми глазами и почти детской серьезностью в каждом поступке. Я думаю, что в этой роли соединились, как это изредка бывает, человеческая сущность актрисы и характер роли. Ведь сама Маквала родилась и провела детство в легендарной Колхиде (мне сейчас аукнулась ее Медея, которая родом, как известно, тоже оттуда). Все, кто знает Маквалу, отмечают ее ровное поведение с людьми, скромность, молчаливость. Она покладиста в быту, ибо это не главное, но в работе неутомима, упорна и тверда, а я, узнав ее поближе, подозреваю, какие силы бродят у нее внутри, вырываясь иногда неожиданными реакциями.
Я видела, как Маквала после какого-то телефонного разговора, где она разговаривала тихо и сдержанно, положив трубку, с размаху шарахнула этот телефон об стенку, и он разлетелся вдребезги. Я тогда подумала, что Медею я должна играть так же: тихо, сдержанно, а потом вырываются неожиданные всполохи чувств.
7 января 1993 года я, к сожалению, не слышала очередной «Орлеанской девы» (у меня был спектакль), но в Большом был Теодор Терзопулос, с которым мы тогда делали «Квартет», и после спектакля я заехала за ним и встала со своей машиной на углу театра. Там спектакль еще продолжался. Наконец, стала выходить публика, но с какими-то встревоженными лицами. Что случилось? Оказалось, что в финале оперы, когда Иоанну сжигают на костре, а по замыслу постановщика поднимают на площадке к колосникам, в тот раз рабочие не закрепили одну из цепей, на которых держалась эта площадка, и Маквала, с руками, зажатыми в колодки, рухнула вниз, сломав правую руку. Теодор Терзопулос, рассказывая мне об этом, говорил, что Маквала падала с ангельской улыбкой на лице, не выходя из образа Иоанны: «Она падала, как ангел». А Маквала потом вспоминала, что, когда падала, в сознании пронеслось: «Конец. Я погибла!» Спасло ее чудо. Гипс Маквала носила долго, научилась обходиться только левой неповрежденной рукой и даже теперь так водит свой «Мерседес», но в «Орлеанской деве» она в Большом больше не вышла ни разу. Шок от этой трагедии остался.
Маквала Касрашвили училась в Тбилисской консерватории у Веры Давыдовой — знаменитой в свое время Кармен. Когда Маквала была на пятом курсе, ее в концерте услышал заведующий оперной труппы Большого театра, и через месяц она получила телеграмму — вызов в Москву на прослушивание. Ехать было не в чем. Давыдова дала свой красивый шерстяной шарф, а мама цигейковую шубу на три размера больше. Поехали вместе с Давыдовой. У колонн Большого театра Маквала поскальзывается и падает — предзнаменование, но какое? Спела она три итальянские арии и ушла, ни на что не надеясь, ведь была еще студенткой. Но ее сразу же приняли в стажерскую группу (а падение у колонн театра отозвалось, я думаю, в падении с 7-метровой высоты в «Орлеанской деве» спустя много, много лет).
Первая крупная роль — Микаэла в «Кармен». Все отмечали ее прекрасный голос, но роль эту Маквала не любила — слишком «голубая». Потом, после Вишневской и Милашкиной, стала петь Татьяну в «Евгении Онегине». Причем Давыдова еще в консерватории умоляла Маквалу выучить Татьяну, но той не нравилось слушать у других исполнительниц в пении слезы и нытье: «Ты мой коварный искуситель…» И когда в Большом стала репетировать письмо Татьяны, тоже начала в слезах, но Покровский — режиссер спектакля — заставил петь радостно, ведь Татьяна еще не испытала страданий. Маквала с удовольствием подхватила эту молодость и неискушенность, потому что и сама в ту пору была очень юной. В середине 70-х, на гастролях Большого театра в Америке, Маквала пела Татьяну в «Метрополитен-опера». Ее исполнение отмечалось американской прессой как событие музыкальной жизни. Влиятельный критик писал в «Нью-Йорк таймс»: «Маквала Касрашвили в тот вечер была главной драгоценностью… Ее сопрано имеет идеальное вибрато». Критика этой газеты считается законом, и дирекция «Метрополитен» предлагает Касрашвили остаться и петь на этой прославленной сцене. Два сезона Маквала поет там свою Татьяну с актерами из разных стран. Перед ней открывается дорога большой карьеры — петь со знаменитыми певцами на самых знаменитых сценах, работать с лучшими дирижерами. Она могла не возвращаться, но в Москве у нее оставалась больная мать. А когда она вернулась — началась война в Афганистане, и в Америку ее не пустили…
Одной из главных партий в Большом театре у Маквалы много лет остается Тоска в одноименной опере Пуччини. Специалисты говорят, что голос Касрашвили, поставленный от природы, как бы создан специально для итальянской оперы, и особенно для Пуччини.
Когда в Большом стали репетировать «Тоску», на главную роль были назначены, как всегда, Вишневская и Милашкина. Маквала не пропустила ни одной репетиции и тихо, про себя готовила эту партию, а когда показала ее Покровскому — режиссеру спектакля, он настоял, чтобы она пела в премьерных спектаклях. Хотя художественный совет театра был против, считая, что Касрашвили — певица молодая и может потерять голос на этой труднейшей партии. Покровский отшучивался и говорил, что Тоске было меньше лет, чем Касрашвили, и Маквала пела уже пятый премьерный спектакль. И поет в «Тоске» до сих пор. Вначале она во всем хотела подражать Вишневской, и, когда спросили, какое платье она хочет для этой роли, Маквала ответила: «Как у Вишневской». Сама Маквала называет дружбу с Вишневской и Ростроповичем своей музыкальной академией. Они, кстати, первыми отметили уникальность таланта молодой дебютантки. Вишневская услышала Касрашвили в «Свадьбе Фигаро» в роли графини и написала прекрасную статью. Она отплатила им верностью. Когда в черные дни от них отвернулись более близкие друзья, Маквала оставалась с ними. Впрочем, это время было для всех не лучшим…
Когда в театр пришли Александр Лазарев, Валерий Левенталь и вернулся Борис Покровский, возникли новые замыслы и надежды на перемены. В это время Маквала создает интереснейший образ Войславы в малопопулярной опере Римского-Корсакова «Млада». Разнообразные актерские задачи сочетались с труднейшим вокальным мастерством. Эта партия была в числе блистательных побед Касрашвили. А затем последовала моя любимая «Орлеанская дева».
Приглашения поступали отовсюду. Когда, например, ее в 84-м году пригласили петь в Мюнхенской опере Аиду с итальянскими певцами, во главе со знаменитым дирижером Нелло Санти, Маквала, выучив партию дома, пела без единой оркестровой репетиции, и ни одна душа не догадывалась, что она поет эту труднейшую партию впервые, Маквала потом рассказывала, что многих певцов в этом спектакле она увидела впервые уже на сцене. Так, например, актер, который пел ее отца, прилетел к началу второго действия, где он появляется, загримировался в черного раба и вместе с остальными рабами в кандалах вышел на сцену, и Маквала не знала, к кому обращаться. «Отец мой!» — пела наугад. А когда после одного акта пошла к себе в гримерную передохнуть, за кулисами услышала начало музыки другого акта — ее не предупредили, что соединили два акта в один. Дирижер потом пригласил ее петь Аиду и в Вене, и в Италии на сцене «Арена ди Верона». Ей всегда, кстати, продлевали контракты. Так, например, после Донны Анны в моцартовском «Дон Жуане» в Ковент-Гардене предложили там же петь труднейшую партию Вителии в «Милосердии Тита», а критика писала, что они ждут приезда Касрашвили «более чем с нетерпением». В Ковент-Гардене Маквала пела четыре сезона.
Среднему актеру совершенно все равно, где петь и с кем, и я заметила чем больше актер, тем он больше зависит от партнеров, оркестра, дирижера, костюма и от других обстоятельств. Когда вместе с Маквалой в Большом в «Тоске» пел приглашенный из «Метрополитена» знаменитый баритон Шерил Милнс спектакль остался в памяти на многие годы. Последние годы я не пропускала «Тоску».
Великолепный от природы голос Касрашвили — мягкое лирико-драматическое сопроно удивительного бархатного тембра — с годами приобретает окраску все более трагическую. Голос окреп, стал более плотным и мощным. Это позволяет расширить ее концертный диапазон — от классики до Пендерецкого. С Пендерецким, кстати, Маквалу связывает многолетнее сотрудничество. Он в качестве дирижера предложил ей петь в 14-й симфонии Шостаковича. Они вместе ездили по миру, выступали в Москве и Петербурге. Растропович как дирижер-постановщик пригласил Касрашвили в бриттеновский «Военный реквием» с симфоническим оркестром, хором и знаменитыми солистами. Их в «Реквиеме» слышали и во Франции, и в Англии, и в Испании, и в Японии.
Но Маквала не отказывается и от небольших выступлений, если это отвечает ее эстетическим требованиям. Несколько лет назад Клер Блюм и я сделали поэтический спектакль на стихи Ахматовой и Цветаевой, где Анна Стайгер (сопрано из Ковент-Гардена) пела ахматовский цикл Прокофьева и цветаевский — Шостаковича. Но когда Анна Стайгер не смогла приехать в Грецию, нас выручила Маквала Касрашвили. Точно так же она откликалась на просьбы Владимира Спивакова участвовать в его музыкальных фестивалях вo Франции.
Маквала — редкий товарищ, всегда придет на выручку. Ее такт, терпение и тихость в быту просто поражают. Но она очень упряма в работе: точно знает, чего хочет, и добивается этого огромным трудом. Я порой завидую этой дисциплине, когда нужно ходить на урок почти каждый день и разучивать новую партию, причем на чужом языке. С итальянским легче — на этом языке Маквала говорит, но я видела, как, не зная ни одного слова по-немецки, Маквала разучивала партию Хрисофемиды в «Электре» Штрауса и пела ее потом в Торонто, а критика, отмечая ее уникальный голос, писала и о безукоризненном немецком произношении. Вот что значит абсолютный слух! В это же время она разучила на немецком партию Иродиады в «Саломее» Штрауса и в концертном исполнении пела в Риме с труппой Мариинского театра. Гергиев же пригласил ее петь Ортруду в вагнеровском «Лоэнгрине».
…Так случилось, что у нас оказался один милый пес на двоих — пекинесс Микки. Когда я уезжаю — он у Маквалы, когда уезжает она — у меня. Мы его одинаково любим. Маквала не может заниматься дома, потому что Микки поет с ней нота в ноту. Однажды из какой-то страны я позвонила ей, спросила, как поживает Микки. «Лежит на столе передо мной и ест мармелад», — был ответ. Я умоляла не давать ему сладкого — вредно, в следующий раз он так же лежал на столе, рядом с коробкой конфет, а Маквала говорила по телефону, но строго-настрого не разрешила ему даже смотреть в ту сторону. Он послушался, потому что знает это «страшное» слово — «тубо», но затаил про себя обиду, и, когда после довольно-таки долгого разговора Маквала положила трубку и наклонилась к нему, чтобы его поцеловать, он откусил у нее кусочек верхней губы… Ужас! Так и остался у нее маленький шрам на верхней губе, но нашего незабвенного пикинесса Микки мы по-прежнему любим…
ПИСЬМО К N
Я опять в Афинах. Причем в дороге со мной случился казус. В моем билете было написано Москва — Афины. Лечу греческой авиалинией. Что-то там по-гречески говорят в микрофон. Приземляемся. Я выхожу. Прохожу паспортный контроль. Жду свой багаж. Ко мне подходит какой-то молодой человек и просит проверить билет (он проверял, я видела, у всех приехавших), я даю билет, он хватает меня за руку, и мы мчимся обратно — через паспортный контроль, где мне закрывают визу, к самолету. Оказывается, приземлились в Салониках. Ни одна живая душа в Москве меня не предупредила, что летим через Салоники. Впрочем, таких казусов со мной случается много, когда лечу одна. Но в других странах меня всегда выручают люди. У нас — не припомню…
Живу в старой гостинице на Плаке (старый район Афин), большой балкон, что в южных странах важно, с балкона вид на Акрополь. Особенно красив он при красных закатах и перламутровом небе. Душа успокаивается:
«О Господи, как совершенны дела Твои», — думал больной…»
И все наши суетные дела — мелочь.
Здесь, в Афинах, Сузуки со своими актерами (их 15 человек). Ездили вместе в Дельфы (летом на фестивале будем играть на огромном древнем стадионе).
Нам не повезло — целый день лил дождь. Но серые старые дельфийские развалины в такую погоду имеют свой смысл.
Японцы измерили все пространство стадиона — будут в июле играть здесь «Эдипа», и Сузуки (я знаю) обязательно осветит развалины и гору за километр от того места, где будут играть. Я это уже видела у него на фестивале в Того, в Японии.
Актеры его слушаются невероятно. Если он молчит (в автобусе три часа туда и три часа обратно) — они все молчат, если он смеется — смеются все и т. д. Ходят всегда вместе и стоят готовые со своими рюкзачками за спиной минут за десять до выхода. (Наших бы собирали по часу.)
Теодор меня опять мучает репетициями — хочет делать со мной «Гамлета». Причем мучительны не репетиции, потому что греки могут работать только по два часа, а сама мысль: играть сейчас Гамлета. Но в разговорах касается каких-то интересных вещей. Ну, например, Вы никогда не задумывались, чем отличаются друг от друга такие вроде бы похожие чувства, как страх и ужас, тоска и скука? И как их играть на сцене? А для Гамлета, чтобы его играть, нужна очень точная градация этих чувств. Например, гамлетовские слова: «Каким ничтожным, жалким и тупым мне кажется весь мир…» — я думаю, окрашены не скукой, а тоской.
Встреча с Призраком — ужас! Но ужас нельзя играть постоянно, это только взрыв эмоций, после него всегда наступает тоска. То есть ты встретился с Потусторонним, но тебя оставили в этом мире — наступает тоска.
Но, чтобы долго не морочить Вам голову своими рассуждениями, делаю вывод: ужас — опасность от высших сил, а страх — от низших. Тоска — чувство богооставленности, тяга к высшему, непознаваемому, а скука — пустота и пошлость низшего мира — от столкновения с людьми, государством, деньгами и т. д. Обыденность, однообразие жизни, ощущение ее конечности вызывает чувство скуки. Тоска пустота высшего, скука — пустота низшего. Есть оттенок тоски — печаль, но она скорее связана с воспоминаниями прошлого и касается души. Ужас связан с вечностью. Для вечности нет будущего и прошлого. Но самое притягательное это вечность.
Оказывается, «теория» по-гречески означает «созерцание». То-то я сижу на балконе, пишу Вам письмо, смотрю на Акрополь и теоретизирую… Спасение от скуки, как это ни парадоксально, в страдании. Помните, в христианстве: «в страдании — очистимся». В страдании есть глубина чувства. В этом — надежда. В тоске тоже есть надежда, а в скуке — безнадежность. Мимо скуки лучше бежать. Через одиночество, через болезнь, через страдание.
Как Вы понимаете, это не одно мое мудрствование. Все это нужно внушить еще и Теодору. Он хорошо чувствует архаику, рассказывал мне, что в древних трагедиях музыкальное сопровождение было всегда струнное, и в «Гамлете» предлагает только струны. Но как через струны сыграть Ужас встречи с Призраком? Струны — это тоска. Ужас — это все музыкальные инструменты. Мне очень нравится 1-й концерт Шнитке Для двух скрипок. Надо будет найти кассету и отдать Теодору.
Древние, кстати, тоже играли Призраков, вернее — Души. Осталось несколько строф из «Психостасии» Эсхила — так там встречаются души и разговаривают между собой. Кстати, и в японской мифологии это существует, хотя там разговаривают не души, а как Раз призраки.
Видела я в театре «Аттис» у Теодора Терзопулоса новый спектакль. Основа — современная поэма. Но Для Теодора текст, как всегда, неважен. Он передал его через какие-то варварские движения и жесты глухонемых (два молодых актера) и чтение с деталями костюмов у Тасоса (постоянный актер Теодора). Вначале скучно, но потом — музыка (губная гармошка и какие-то неясные детские голоса, невыявленные), изумительная световая партитура, наворот деталей, статика мизансцен и т. д. создают под конец потрясающую атмосферу поэтического действа.
Ощущение после спектакля, как после интеллектуальной сухой поэзии или очень серьезной современной музыки. Да и публика к нему ходит «многолобая».
В Москве этот спектакль критика раздолбала бы в пух и прах. Ведь наши меньше всего ценят атмосферу (или, может быть, не чувствуют ее), а это самое трудное, я думаю, на театре.
Кстати, забавно, я Вам не писала, где находится театр «Аттис»?
Это старый, полуразрушенный район Афин. Старые двухэтажные пустые, разрушенные особняки — там никто не живет, так как они принадлежат богатым, но те живут за городом, а земля в центре дорогая, поэтому дома разрушаются потихоньку. Жаль. Особняки есть очень красивые. Но окна у многих выбиты, двери заколочены. Живут там кошки, бродячие собаки и наркоманы. Иногда в этих домах, арендуемых, открывается магазин шуб для русских и написано по-русски: «ШУБЫ», иногда — публичный дом, причем его можно отличить только по горящей лампочке у входа днем и ночью. Раньше, я помню, эти лампочки были красного цвета, теперь обычные, раньше через открытую дверь можно было видеть коридор, окрашенный в ярко-красный цвет, теперь все двери плотно закрыты, а окна заколочены.
Так вот, теодоровский театр — как раз напротив такого дома. А с другой стороны, примыкающая к задней стене сцены англиканская церковь. Не правда ли, символично? Театр — между борделем и церковью.
Как-то играли мы тут месяц с Димой Певцовым «Квартет». Устали ужасно. И вот после спектакля, полуразгримированные, стоим с ним на улице и ждем Теодора, который гасит везде свет и закрывает двери. 12 часов ночи (спектакли начинаются в 8 вечера, но, как правило, в 8.30 греки всегда опаздывают). И из противоположного дома, тоже после работы, выходят две немолодые проститутки со своей старой толстой собакой. Мы посмотрели друг на друга — все друг про друга поняли, ничего не сказали, — и они пошли уставшими тяжелыми ногами вдоль пустынной улицы ловить на углу такси, а за ними ковыляла их больная собака…
23 февраля 2000 года.МАЛЫЙ ТРАКТАТ О ПЛАСТИКЕ
В последнее время все чаще и чаще можно слышать, что актеры утеряли культуру слова. Это, конечно, верно. И оттого, может быть, утеряно еще более ценное искусство трагедии.
Но театр — искусство не для слепых. Актерское искусство не только слышимое, но и видимое. Нужно найти смысл роли не только в слове, но и чисто театрально — зрительно. Пластикой.
Основатели учения об эмоциях Джеймс и Ланге выдвинули в конце прошлого столетия теорию, согласно которой мы не потому смеемся, что нам смешно, а нам потому смешно, что мы смеемся. Прямая зависимость чувств, эмоций от мимики и пантомимы! Они писали: «Сожмите кулаки, стисните зубы, наморщите лоб, вообще мимикой и пантомимой изобразите гнев — и вы сами начнете переживать это чувство».
О такой же зависимости писал и Шекспир:
Когда ж нагрянет ураган войны, Должны мы подражать повадкам тигра: Кровь разожгите, напрягите мышцы, Свой нрав прикройте бешенства личиной! Глазам придайте разъяренный блеск… Сцепите зубы и раздуйте ноздри; Дыханьем рот держите, словно лук, Дух напрягите, — рыцари, вперед!(Переведя на простой язык можно сказать: топнул ногой — потом рассердился.)
Видимо, все-таки условно-рефлекторная связь, зависимость чувств от мимики существует.
Но в театре в конечном результате мимика — у актера, а вызываемое этой мимикой чувство — у зрителя. Чтобы спровоцировать на спектакле нужное чувство у зрителя, на репетициях ищется органически точный жест, который первоначально продиктован точным чувством.
Чтобы понять природу этой органики, надо вспомнить механизм возникновения условного рефлекса. Как человек ведет себя при первом ожоге?
Сначала он чувствует боль, потом он отдергивает руку. Когда вырабатывается рефлекс, отдергивание происходит еще до того, как возникает ощущение боли.
Чтобы сыграть то же самое на сцене, я должна на репетициях сначала представить, пережить в уме этот болевой удар, и тогда движение руки будет естественным, органичным. Одним словом, пластика вначале рождается в голове: она будет тем точнее и действенней, чем ярче представляешь, переживаешь в уме чувство своего героя. Потом постепенно, от репетиции к репетиции этот условный рефлекс закрепляется — и на спектакле отточенная пластика актера вызовет верное чувство у зрителя: актер резко отдергивает руку, а зритель «видит» и ощущает боль от ожога.
Ребенок, скачущий верхом на стуле, — это своего рода образец для актера. Его поведение абсолютно естественно, органично, потому что он до конца верит в правду своей игры.
Сидя на стуле, можно попытаться внушить себе, что под тобой настоящая лошадь. Но, пожалуй, это будет лишь некая разновидность галлюцинации. К мастерству актера она отношения не имеет. Нужно идти иным путем: не воображать, что стул — это лошадь, а увидеть себя скачущим на лошади.
И от этого активного видения неизбежно возникает правдивая пластика пластика скачущего человека.
Эта сторона игры актера кажется мне особенно важной. Пластика должна быть избавлена от всего внешнего, лишенного внутренней наполненности, внутреннего оправдания.
Актер может играть хромого — не хромая, горбатого — не уродуя себя гримом. Но если я поверю в безобразие своей наружности, родится то внутреннее самочувствие, которое само поведет меня в игре. Пластика тогда будет не копией физически отталкивающих движений уродливого человека, но выражением его внутреннего состояния, его нравственной сути. И тут диапазон возможностей характера может быть крайне широким: от стеснения человека, страдающего из-за своей непривлекательности, до озлобленного цинизма, стремления умышленно выставить напоказ свои дефекты.
Я, кстати, убеждена, что легенда о красоте многих прославленных актрис идет от их веры в нее, от ощущения легкости и радости, которые сопутствуют этой вере, от счастья, которое дает им игра на сцене или перед камерой. А в быту эти замечательные красавицы оказываются ничем не отличимыми от тысяч других самых обычных женщин.
Пластика актера по своей природе бывает разной. Для удобства терминологии ее можно поделить на условную и безусловную. Безусловная — это та, которая дана человеку от рождения. Уже в самой внешности любого человека заключен какой-то пластически выраженный характер. Скажем, длинные руки, сутулые плечи, костлявость, медлительная тяжеловатая походка. Они сами по себе работают на образ сильного, усталого, погруженного в себя человека. И в этом облике актер, ну например Николай Волков, мог переходить из роли в роль, играть и современного врача, и шекспировского Отелло. И все это было интересно, выразительно и хорошо. Но по внешнему рисунку несколько однообразно.
А условная пластика — это пластика сознательная, актером скрупулезно, по крупицам отобранная только для данного образа. Ее возможности, на мой взгляд, неизменно шире того, что доступно самой качественной, самой яркой актерской фактуре. И чем она осознаннее, тем шире способен актер раздвинуть рамки своей индивидуальности, тем более он способен воплощать характеры, далекие от него и по своей человеческой сути, и по внешнему облику. В этом случае отбору выразительных средств диктует логика роли, образа, спектакля.
Когда Эмма Попова из Ленинградского БДТ в горьковских «Мещанах» била на сцене несуществующую моль, этот почти сомнамбулически повторявшийся жест не просто бытовой штрих. Эта неистребимая моль — метафора окружающего мира, его нравственной атмосферы, пустоты, бездуховности. И все сказано одним движением рук.
Работа актера над пластикой начинается задолго до спектакля, до съемки, даже до репетиции. Идут поиски грима, костюма. Найденный внешний облик определяет характер движения героя. Я не говорю уже о том, что длинные юбки или пышные рукава, обычные для исторического платья, заставляют меня держаться иначе, чем в современной одежде. Даже цвет имеет значение. В черном платье моя пластика будет иной, чем в белом, или желтом, или красном. В цвете костюма уже отражен характер человека, его состояние, его настроение, а значит, и их внешнее проявление — движение.
В поисках рисунка образа участвуют и режиссер, и художник, и гример, может быть, даже композитор. Все. Но если актер не сумеет воспользоваться тем, что ими найдено, все пропадет. Необыгранный костюм повиснет тряпкой, неорганичный грим останется мертвой маской, непрожитая мизансцена — придуманной схемой. В живой характер это не сложится.
Одним словом, актер как бы завершает труд многих работающих над спектаклем художников. Это в театре. Но в кино последняя инстанция не актер, а оператор. Именно он отливает пластику актера в тот окончательный образ, который воспримет зритель. Скажем, в «Макбете» Орсона Уэллса есть кадр, где герой после убийства короля смотрит на свои окровавленные руки, протянутые прямо на аппарат. Широкоугольный объектив деформировал изображение, руки кажутся огромными, гораздо большими, чем лицо. И этим сказано все: самими искаженными пропорциями фигуры передано внутреннее состояние человека, изуродовавшего свою человеческую суть, убившего не только Дункана, но и себя как человека.
Иногда драматургия предопределяет пластическое решение роли. Точнее, хорошая драматургия. Она не навязывает, а намечает, обозначает контуром характер движения. Очень ярко выражено это у Брехта. Скажем, в «Добром человеке из Сезуна» самим сюжетом задано раздвоение личности героини, воплощение ее в двух лицах — доброй Шен-Те и жестокого Шуи-Та. А два воплощения — это уже два разных пластических рисунка. Сам характер брехтовской драматургии требует от актера не иллюстрации мысли, а ее раскрытия пластикой, мышления пластикой. Так же, например, в «Носорогах» Ионеско. Превращение людей в носорогов — эта драматургическая метафора может быть выражено именно в пластике.
Такие пьесы — особая, достаточно узкая область драматургии. Это в основном философские притчи, и условность их сюжета требует и условности актерской пластики. В драмах же традиционных, психологических пластика чаще всего не выражает всей концепции вещи, а служит скорее всего точному раскрытию характера роли через точно найденный штрих, деталь.
Бывают талантливые актеры, как говорят, от Бога одаренные — они могут, сами того не осознавая, создать выразительнейший пластический образ. Но если такой актер сам не понимает смысла того, что делает — а такие актеры есть, и в театральной среде они достаточно известны, — то уровень его ролей будет колебаться от триумфа до провала, от блистательного успеха до безнадежной неудачи, да и внутри роли все будет выстроено неровно.
У актера, способного критически разбираться в своей работе, таких перепадов не будет, даже если его природный талант не столь велик. Вероятность его провала неизмеримо меньше. Речь идет о вкусе. Он необходим актеру, но порой случается, что и мешает, что актер оказывается его пленником. И тогда сознательно или бессознательно актер следует предписаниям «хорошего вкуса» — он внутренне усвоил, что «правильно» и что «неправильно». А может быть, именно в «неправильном», что всегда считалось как бы за гранью искусства, там-то и таится «неведомое», то, что еще не найдено, что еще только ждет своего открытия.
Создание пластического рисунка — это не просто повторение увиденного в жизни. Это поиск, отбор художественно осмысленного жеста, единственного из всех многих. Причем такой жест может даже противоречить нашему бытовому представлению о достоверности. Легче подражать интонациям, чем движениям, но движения воздействуют сильнее.
Режиссер Ежи Кавалерович в одном своем интервью очень любопытно рассказывал о работе над «Фараоном». В числе прочего ему пришлось немало помучиться над самой элементарной проблемой: каким Движением герои могут выражать чувства любви? Поцелуя древние египтяне не знали — так считают специалисты, и ни на одном из памятников живописи тех времен ничего подобного не изображено. Правда, Кавалерович все же разыскал один барельеф, изображающий мать, вроде бы целующую своего ребенка, но египтологи объяснили, что таким способом в те времена кормили младенцев, а поцелуй заменяло, по всей видимости, нечто вроде обнюхивания. Модернизировать эпоху Кавалерович не хотел — в этом случае древние египтяне стали бы походить на людей с пляжа, обмотавших бедра полотенцами. Воспроизведение исторически достоверного обнюхивания дало бы эффект сугубо комический. Режиссер избрал третий путь, который вполне оправдался, — путь стилизации. Свою любовь герои выражают сближающимся движением поднятых рук: это и не современный жест, и не старинный. Это жест вымышленный, но он свободно вписывается в ту обобщенно-условную среду, в которую погружено действие фильма.
Вообще роль пластики условной, антинатуралистической, сознательно уходящей от житейского правдоподобия, очень велика. Такая пластика ставит своей прямой целью создание образа, то есть того, что имеет не только свой привычный обыденный смысл, но оказывается шире его, открывает за его гранью какие-то гораздо более глубокие, емкие категории.
После просмотра фильма Игоря Таланкина «Чайковский» я несколько раз слышала от музыкантов-профессиналов, что в сцене исполнения Шестой симфонии Смоктуновский работает неправильно: нельзя начинать дирижировать тем взмахом руки, который делает он. А по-моему, этот жест гениален. Чайковский движением руки как будто поднимает оркестрантов с мест, притягивает их к себе, берет в союзники, со-творцы созданной им музыки. И какое имеет значение, что это движение не соответствует правилам дирижерской техники! Этот взмах руки впечатался в мою память.
Вспоминая виденные мною спектакли, я обнаружила странное свойство: мне вспоминаются жесты. Причем жесты и пластика, идущие как бы вразрез с происходящим на сцене. С детства помню Гоголеву в «Макбете», когда она проходила через всю сцену в белом платье, с вытянутыми перед собой руками и странно терла друг о друга кисти. «Леди долго руки мыла, / Леди крепко руки терла. / Эта леди не забыла / Окровавленного горла», — писал Ходасевич.
Помню странный танец Александра Лазарева в «Иркутской истории», помню трогательную, застывшую у портала фигурку Ольги Яковлевой с прижатым к груди бумажным змеем из «Месяца в деревне» — единственное, что у нее осталось, когда рабочие сцены уже разбирали декорации, а публика должна была расходиться по домам, но все сидели молча на местах…
Это жесты, выражающие определенное душевное движение. Точно найденные знаки, которые впечатались в мою зрительскую память.
Какое прекрасное пластическое решение нашла Алиса Фрейндлих в третьем акте «Макбета» (постановка Тимура Чхеидзе в БДТ), в сцене сомнамбулического сна. Здесь было прекрасно все: и уникальная интонация актрисы — то, что в профессии зовется «сотой интонацией», то есть то, что невозможно повторить; неожиданно лысый парик, и прекрасное запрокинутое молодое лицо мертвой леди Макбет, и едва проступающая улыбка на этом лице, когда к ее ногам кладут отрезанную голову Макбета.
«Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман…»
Правдоподобие копииста — это и есть «тьма низких истин», а облеченный в пластику обобщенный образ, то есть психологический жест, — возвышающий нас обман, который тем и прекрасен.
О точно найденном жесте писал и Михаил Чехов. У него: жест + окраска = чувство; жест + 2 (3, 4, 5 и т. д.) окраски = 2 (3, 4, 5 и т. д.) чувства. Просто «чувство» сыграть невозможно. Прикажите себе: я хочу почувствовать то-то и то-то — ничего не выйдет. Нельзя захотеть по приказу. Но можно сделать «окрашенный жест», и воля мгновенно подчинится. Кстати, все глаголы в речи — это жесты, но они в душе. Это психологические жесты. Может быть психологический жест роли, отдельной сцены, всего спектакля — в музыке, в живописи и т. д.
Очень часто актер может сам чувствовать, но не знает, как эти чувства перекинуть в зрительный зал. Но ведь актер не может работать «для себя», как поэт например. В своих ранних ролях я приставала к знакомым: «Ну придумайте мне какой-нибудь жест!..» Сейчас жест, пластика вырабатываются сами собой. Импульс идет из головы, а там, еще до игры, должна вырисоваться стройная картина.
Найти точный пластический рисунок роли — половина дела. И необязательно для этого заниматься изнурительным спортом, как сейчас модно, — многие актеры думают, что все проблемы решат накачанные бицепсы. Но куда деть эти мышцы, когда нужно сыграть хилого, болезненного человека? Пластика роли рождается не извне, а изнутри. Но знать свое тело, манеру рук, сутулость плеч, длину шеи и т. д. необходимо.
У меня всегда в прихожей одну из стен занимало зеркало. Прихожая маленькая. А зеркало большое, чересчур, может быть, большое для того, чтобы взглянуть на себя, прихорошиться, подправить прическу. Похожие зеркальные стенки сооружаются в балетных классах, чтобы танцовщики могли корректировать движения и позы. Старая легенда рассказывает, что Федор Волков спустил последний кафтан, чтобы на вырученный целковый приобрести зеркало. Разучивая роли, он отрабатывал по нему мины и ужимки.
В наше время драматические артисты почти не репетируют перед зеркалом. Контролирующей инстанцией стал режиссер. Актерская самооценка не слишком принимается во внимание: в ее объективность не очень верят. И в самом деле, актеры — люди, а человеку трудно быть к себе беспристрастным. И зеркало, как инструмент самоконтроля, корректировки ненужных жестов и постепенной, точно вырабатываемой пластики, является очень хорошим помощником.
Для каждой роли я по-разному тренирую жест и движение. В актерских работах мне нравится насыщенная пластика. Думаю, что речь и мимика без жеста, без пластического рисунка могут обескровить театр. Я люблю спектакли, в которых, не понимая смысла слов, я понимаю сюжет и намерения. А это можно передать только через психическую энергию, заключенную в пластике.
Итак, подытоживая все мои рассуждения об актерском труде, можно работу актера разделить на три основных этапа, как это и делали, кстати, много веков назад в японском театре «Но»:
1) подготовка;
2) осуществление;
3) результат как движение живой материи.
Как видите, в актерской профессии остались те же законы, что были и раньше и нет никакой другой тайны в театре, кроме тайны актера и той энергии, которой он обменивается с теми, кто пришел его смотреть. И не удержусь привести здесь цитату знаменитого английского актера XIX века Ирвини: «Драматическое искусство требует такой двойственности в уме, при помощи которой актер в полном разгаре увлеченья мог бы следить за каждой подробностью своей игры».
ВСЕ ЛИ АКТЕРЫ АЗАРТНЫ?
1975 год, 17 ноября. Весь день провела на ипподроме. Проиграла все деньги. Простудилась…
Я всегда подозревала, что азартна, но у меня не было повода это проверить.
Как-то во времена ранней «Таганки» с Николаем Робертовичем Эрдманом завсегдатаем ипподрома, после репетиции мы пошли на бега. Там провели целый день, и я проиграла все, даже то, что заняла. И остановиться не могла.
Потом, много лет спустя, в Довилле и Виши, в те времена, когда мы знали о рулетке только из Достоевского, я попадала в знаменитые игорные дома и ставила там небольшие деньги. И каждый раз неудачно. Значит, поняла я, когда я пытаюсь вмешаться в игру случая, то всегда проигрываю. И если на гастролях все садились за карты, я тоже садилась и тоже всегда проигрывала. Но сам процесс мне очень нравился.
…В Париже у меня был приятель Анатоль Засс. Он играл всю жизнь. С ним мы пошли однажды на бега в Булонский лес. Поскольку у него была своя лошадь, мы сидели на трибуне для избранных. А рядом с ней — небольшой круг, куда выводят лошадей для показа перед заездом. Мы проигрывали. Тогда я говорю: «Боби (он Анатоль, но мы его звали так), это из-за меня. Я всегда проигрываю».
В один из перерывов к нам подошел пожилой человек с помятым, изношенным, но чуть аристократическим лицом. Мы познакомились. Он говорил по-русски. Они с Боби обсудили бега, потом я услышала, что этот Вова заработал много денег, продав куда-то партию кофе. Когда он ушел, я спросила о нем Боби. «Ну, Алла, вам грех не знать. Это сын Кшесинской от Великого князя Романова, брата вашего царя, — Владимир Романовский».
Мы поставили на ту лошадь, которую посоветовал Вова, и все вместе проиграли. Осталось два заезда, и я сказала: «Попробуем разделиться». И пошла к кругу, где лошадей готовили к заезду. Смотрю, стоит Бельмондо хозяин лошади, идущей в забег. В серой тройке, сером цилиндре, одна рука в брюки. Я подумала: «О, эти мне актерские замашки…» — и вычеркнула его лошадь (эта лошадь, кстати, потом пришла одной из последних).
Я стала рассматривать лошадей как абитуриентов театрального института. Вижу идет одна взмыленная, гарцующая, словно сейчас побежит и выиграет. Я думаю: «Нет. Эти внешние эффекты мне тоже не нравятся». Некоторые лошади были только красивы. Потом какая-то мне понравилась. Вроде бы незаметная, но в ней была такая затаенная сила. Она шла, «повернув глаза зрачками в душу», ей было все равно, как на нее смотрят. Я ее отметила. Когда мы встретились с Боби, он сказал: «Ну, Алла, эта лошадь не фаворит, она из плохой конюшни, она не придет». Но она пришла… И, оттого что на нее никто не ставил, я выиграла очень много денег. И покрыла все наши проигрыши — и мои, и Боби…
После этого Боби познакомил меня со своим приятелем, который примерно с 30-х годов издавал специальную газету о лошадях, жокеях и забегах. Как-то все вместе мы поехали на бега в Довилль: Боби, этот Лева Бендерски и я (хотя им было за 70, их звали Боби, Лева и т. д. Все они дети первой волны эмиграции). В тот день после забега устроили аукцион беговых лошадей. Народу в помещении было много, и я долго не понимала, как все происходит: никто не поднимал руку, не кричал, сколько платит. Все было тихо, а лошади тем не менее продавались. В какой-то момент я подняла руку к волосам, меня Боби одернул: «Алла! Ты сейчас купишь лошадь!» Я говорю: «Как?! Каким образом?» — «А ты разве не замечаешь эти мелкие движения рук?»
…Они поднимали руки не выше головы и чуть-чуть шевелили пальцами. Например, поднял два пальца — значит, дает на две тысячи больше. Все происходило как во сне…
На этом аукционе я поняла, что есть другой азарт, с другими средствами выявления, и он мне ближе. Ведь когда бежала та лошадь, на которой я выиграла, я смотрела и на себя, и на нее со стороны. Я не включалась, мне было как будто все равно. Мне потом сказали, что такая тихая пассивность свойство очень азартных людей. С тех пор каждый раз, когда я приезжала в Париж, мои друзья возили меня на бега. И всегда в самый последний момент подсказывали нужную лошадь, как бы давая заработать.
Принято считать, что актеры азартны по профессии, но вообще-то актерский азарт — другой. Когда начинаешь поворачивать какую-то классическую роль непривычной для восприятия стороной, то появляется азарт: примут или не примут, выиграешь ты на этом или нет. Кстати, это ведь разные понятия азартный человек и игрок: игрок всегда знает, на чем сегодня можно выиграть. Вот, например, Высоцкий был азартен во всем, но не был игроком.
Я не сценарист своей жизни, сама ничего не придумываю, но, если складываются обстоятельства, азартно ныряю в любую авантюру. Собственно, у меня так жизнь и строилась. Авантюрой было идти в университет, вместо того чтобы добиваться театрального училища, и авантюрой же было потом, после университета, поступать в училище. И спустя годы — создавать свой театр и работать с Теодором Терзопулосом на чужом языке… И то, что я сейчас постоянно езжу играть для нерусскоязычных зрителей, — авантюра. Но это, правда, по необходимости. Хотя все, что необходимо и обязательно, мне претит. Становится скучно жить, возникает вечный вопрос «А заче-е-ем?», на который нет ответа.
Мне всегда нравилось азартное состояние на грани провала. Как у Вознесенского: «Провала хочу, провала…» Азарт в том, чтобы его не допустить. В желании неведомого, в стремлении куда-то прорваться и стать победителем.
На Икше я очень люблю ходить за грибами с моей приятельницей Неей Марковной Зоркой. Она доктор наук, специалист по кино, выпустила много книг, но мы с ней обожаем лазать в чужие сады. На Икше есть два нежилых сада, в которых растут сливы, терновник, смородина, цветы. Иногда мне хочется лезть туда под забором, иногда — нет. Вот, например, Нея полезла за яблоками. Я сказала: «Мне сегодня что-то не хочется лезть. Я буду стоять на стреме и, если кто-то пойдет, стану кричать: «Микки! Микки!» (Маша и Микки были, конечно, со мной). И вот кто-то появился, я закричала и вижу: этот профессор, доктор наук с испугом лезет под забором обратно. Мы похохотали и полезли, уже вместе, в другой сад, куда надо было ползти по-пластунски. Не просто открыть калитку и войти, а — ползти. И в этом — только азарт, потому что сливы и яблоки продаются на каждом шагу. И вот мы лезем, и с нами собаки. Но Микки так любит поскандалить (я уже не говорю о Маше), что, если кто-то проходит за километр от нас, он начинает радостно лаять.
Мы собираем сливы, а в это время к соседней даче подъезжает машина и останавливается за углом. И Микки по своему характеру должен бы обязательно залаять, но оттого, что мы притаились, как сучочки, мои собаки тоже притаились. И вот мы вчетвером превратились в четыре сучочка. Послышались голоса. Я говорю: «Нея! Нам нужно быстро отсюда выходить». Нея поползла и застряла в дыре. И как я ее потом проталкивала!..
Я до сих пор помню ощущение азарта, когда мы, живя летом у бабушки, лазали в чужие сады, хотя был свой. Это детское ощущение, любовь делать то, что не принято, у меня осталось.
Недавно я посмотрела польский фильм про одну актрису, которая уехала за границу, вышла замуж за богатого и перестала играть. И вот она приезжает в гости в Польшу, собираются друзья, родственники. А потом выясняется, что у кого-то что-то пропало, и оказывается, что взяла эта женщина. Ей не нужно, она богаче всех, но она плачет и говорит, что взяла не из-за денег, ей нужен был азарт, потому что она перестала быть актрисой. Ей хотелось снова испытать этот страх. Среди актеров вообще много такого: азарт, обман, кураж, внутренний подхлест — без этого скучно жить. Недаром Меркурий — бог воров, цыган, торговцев и актеров.
ЖОРЖ СИМЕНОН
…Я в Швейцарии с группой фильма «Ты и я» режиссера Ларисы Шепитько. В Швейцарии властвует хоккей. Мировой чемпионат. Все говорят только об этом. Но нам и нужен хоккей: эпизод, который мы снимаем, происходит на мировом хоккейном чемпионате.
Швейцария. Женевское озеро. Дворец наций. Шильенский замок с автографом лорда Байрона на каменной колонне (оказывается, великие тоже любили расписываться на стенах), сумбур впечатлений… И вдруг… это решилось в пять минут — я еду к Сименону!
Жорж Сименон — легенда, Жорж Сименон — загадка: более 200 романов, один увлекательнее другого. Когда меня спрашивали, кто мой любимый писатель, я отвечала, полушутя: Сименон. Конечно же, есть писатели, любимые по-настоящему. Но любовь к ним слишком трепетна и сложна, чтобы сказать о ней одним словом. Я брала книги Сименона в поездки, читала в поезде, в самолете. Последней книгой, которую я прочитала перед поезкой в Швейцарию, был… роман Сименона «Кафе мадам Каллас» — еще даже не изданный, в рукописи переводчика…
Скажу честно: Сименон меня не приглашал. Я увязалась в эту поездку вместе с четырьмя журналистами. Сименон ждет журналистов — при чем здесь я?.. Решение приходит мгновенно: я буду тоже корреспондентом. Я буду спрашивать Сименона про кино.
Сименон живет в 65 километрах от Женевы, недалеко от Лозанны, в старинном маленьком городке Эпаленж.
Едем по новой, только что открытой скоростной дороге. Скорость — 180 км. Страшновато. Притормозили. «Почему так ползем?» Взглянула на спидометр 120. Как быстро привыкаешь к скоростям! Во всем бы так!
Сияет солнце, внизу блестит озеро. На другом берегу озера — горы. Но там уже Франция.
Мы подъезжаем. Слева — высокая каменная не то стена, не то скала. Более осведомленные журналисты объясняют мне — скала искусственная. Над ней — дом Сименона. Наверное, потому, что от скоростной дороги шумно, писатель решил забраться повыше. Понятно, но все же немного парадоксально: Сименон, который пишет свои стремительные, динамичные романы за неделю (об этом я читала), бежит от шумных примет нашего скоростного века!
Так я думала тогда. Теперь же — год назад — я ехала по той же дороге в санаторий в Монтре. Жила на берегу озера и наслаждалась красотой, тишиной и одиночеством… Как и тогда, гуляю по берегу Женевского озера и учу роль для предстоящей работы у Анатолия Васильева в «Дон Жуане». Мне не давалось одно пушкинское стихотворение — «Плещут волны Флегетона…», и тогда я стала его перекладывать на картинки, которые видела перед собой: волны Флегетона это, конечно, волны Женевского озера; «вдоль пустынного залива…» — и я иду, загибая угол перед Шильонским замком, и учу эту строчку и т. д. Потом, когда играла, каждый раз мысленно шла вдоль Женевского озера.
Я хожу по темным катакомбам замка, где на сей раз, кстати, не нашла роспись Байрона, но зато прочитала у Гоголя в переписке с Жуковским, как он «нацарапал свое имя русскими буквами в Шильонском подземелье, не посмел подписать его под двумя славными именами творца и переводчика «Шильонского узника» (то есть Байрона и Жуковского). И далее читаю у него: «…внизу последней колонны, которая в тени, когда-нибудь русский путешественник разберет мое птичье имя, если не сядет на него англичанин…» Имя Гоголя я тоже, к сожалению, не нашла, но русских отметин тут много… Да и вообще, русские всегда стремились к Женевскому озеру.
Недалеко от моего санатория — гостиница, где последние годы жил Набоков. Но осенью народу мало, и я хожу, не стесняясь вслух учить роль, на берег, а у себя в комнате бренчу на кастаньетах, которые мне тоже нужны для роли. Выучила на них даже швейцарскую медсестру, которая по утрам мне приносила лекарство.
Ну так, Жорж Сименон…
Въезжаем в ворота. На столбиках — по букве S. Как будто герб, как будто фабричная марка. И в самом деле — там за воротами живет человек, который, подобно фабрике, выбрасывает роман за романом.
Вымощенный двор. Несколько построек, среди которых — небольшая белая двухэтажная вилла. Горничная проводит нас в холл. Окна во всю стену, за окнами — гладко выбритая лужайка. Я уже чувствую себя корреспондентом. Достаю блокнот, лихорадочно записываю все, что потом ускользает из памяти: большая синяя рыба на белой стене… Картины — абстрактная живопись. Телевизор, белые полки с книгами, ковер на полу, камин. Не хватает только Сименона.
И вот он входит из боковой двери, не заставляя ждать нас ни минуты, человек семидесяти лет, среднего роста, бодрый, сухощавый, с трубкой в зубах. Желтая рубашка, желтые носки, черная бабочка. Увидев женщину, он извиняется, хочет надеть пиджак, но — жарко, и Сименон, не особенно наставивая, остается в рубашке. Знакомимся. Задавать вопросы особенно не приходится. Наверное, журналисты здесь частые гости, и писатель изучил круг обязательных вопросов.
— Да, пишу быстро. Хочу, чтобы мои романы читали за один вечер. Семь дней пишу, четыре — правлю рукопись. Почему так быстро? Это привычка. Я вхожу в образы… Все во мне зудит (так он и сказал), требует немедленного выплеска. Если бы писал дольше — образы выветрились бы, испарились. Пишу быстро, чтобы концентрировать себя на одном. («Может быть, затянутые ритмы русского театра — от долгих расхолаживающих застольных репетиций?» — при этом думала я.) Надо делать все быстрее, заинтересованнее. И включаться в ритм сегодняшнего дня.
Я вспомнила вдруг: в Репино, в Доме творчества кинематографистов, жил высокий худой старик в очках с толстыми стеклами — старейший режиссер Александр Викторович Ивановский. Он любил стоять в коридоре в длинном своем халате и, едва завидев кого-нибудь из молодежи, тотчас несказанно оживлялся: «А ну-ка, идите-ка сюда, молодой человек… Скажите, что главное в кинематографе?» — и сам себе отвечал уверенно: «Ритм! Ритм!» — и объяснял, как он это понимает. Тогда мы слушали больше из вежливости, но сейчас, у Сименона, я еще раз убеждаюсь, как прав был высокий, худой старик в Репино…
Хочется задержаться на этой теме, поговорить подольше — но… беседа уже ушла вперед, и за своими мыслями я и так что-то пропустила: кажется, Сименон говорил о проблемах современного романа.
— Да, — продолжает он, — по переводам занимаю второе место. После Ленина. Потом идет Шекспир…
— Что Вы скажете об Агате Кристи?
Отвечает быстро:
— Не знаю, не читал. Наверное, она идет после Шекспира.
(Знал бы Сименон о миллионных тиражах Марининой, Дашковой, Поляковой, Незнанского и других современных детективщиков!.. Сименона я уже давно не читаю, а нынешние детективы читаю иногда в бессонные ночи.)
Впечатление такое, что идет хорошо отрепетированный монолог. Сименон говорит: «Да, во время работы пью холодный чай, с сахарином, чтобы не толстеть», — но глаза его существуют словно сами по себе, они подолгу останавливаются на каждом из нас, словно изучают, запоминают.
И, будто угадав мои мысли, Сименон объясняет:
— Никуда не хожу, не езжу. Но люблю принимать гостей.
Да, да, потом каждого из гостей можно найти в его романах — он преображает их в персонажи…
Не кажется ли ему, что это узковатый круг впечатлений для писателя?
— Нет, не кажется. Сколько людей — столько характеров. Для меня главное — обнаженный характер. Остальное читатель домыслит сам. Читатель стал образован и эрудирован. Ему не нужны эпитеты. Если действие происходит на набережной в Киеве (он так и сказал — именно в Киеве) — не нужно ее описывать. Это уже сделало радио, телевидение, кино, географические путеводители. Нужно только будить фантазию. Так делали Чехов, Достоевский, Хемингуэй…
С этим я — «корреспондент» — не могу согласиться. В прозе должны оставаться и прилагательные, и глаголы. Это драматург пусть орудует только глаголом, оставляя прилагательные на выбор актера (незачем, например, описывать, какой Гамлет. Это сыграет актер). Но здесь говорит Сименон, и единственное, что я могу сделать, — это изменить русло разговора, произнося, наконец, слово «кино».
В ответ — такая же уверенная реакция:
— Так и в кино. Слишком много логичных фильмов: завязка, кульминация, развязка. Все последовательно и скучно. Нужно больше алогизма. Эта новая манера имеет большое будущее — и в кино, и в литературе, и в театре.
— Не видно ли в этом опасности увлечения формальными приемами?
— Да, есть некоторая опасность символизма, но это не страшно. Искусство болело символизмом лет 20, потом это прошло. Будущее за реализмом. Но это не исключает поиска, не так ли?…Так вы спрашивали про кино? Люблю Феллини. Это здоровый малый с медленными жестами, говорит спокойно, а внутри — самый неспокойный человек на свете. Как Достоевский. Из этого беспокойства состоят и все его фильмы. И это нельзя передать в старых традициях. Он пробивается, как боксер, — напролом…
Сименон ходит по комнате. Кажется, увлекся разговором, во всяком случае, выходит за рамки обязательного:
— Все в наш век развивается бурно, очень бурно, это отражается на искусстве. За последние сто лет человечество пережило, по крайней мере, два ренессанса. Бурное развитие печати, фото, кино, воздухоплавания, электроники, жесточайшие войны — все это подхлестнуло и искусство. Сейчас назревает какой-то новый взрыв… Какой?.. Если бы я знал — сам бы ринулся впереди всех.
— Может быть, это декаданс? — спросила тогда я первое, что пришло в голову. Сименон посмотрел на меня своими внимательньми глазами и быстро ответил:
— Нет, я верю в человечество.
Но время идет, а впереди еще предусмотренная экскурсия по дому. Откладываю блокнот, и мы отправляемся в путь.
В этом кабинете Сименон только пишет.
Красный пол, красные сафьяновые папки на полках. Любимые книги — в основном по медицине. Ведь Сименон учился на врача, и девять десятых его друзей — врачи… Все прибрано и аккуратно. Ничего лишнего. Трубки, на маленьком столике — пишущая машинка.
— Инструмент пыток, — говорит Сименон и показывает твердую мозоль на указательном пальце.
На стене — фотография, единственная в доме. Человек со спокойным взглядом, усы, трубка.
— Мегрэ? — невольно спрашиваю я.
— Нет, — Сименон качает головой. — Это мой отец. Он умер, когда мне было 16 лет, и я вынужден был бросить медицину.
— И занялись?..
— Вначале — чем придется, потом — начал писать.
Специальная комната в доме Сименона отведена его книгам, изданным во всех концах земли. Здесь его переводы — по одному экземпляру. Отдельная полка — издания на русском языке, их явно меньше, чем издано в Советском Союзе. Спрашиваю — почему?
Сименон пожимает плечами:
— Я не коллекционирую специально. Здесь только то, что мне присылают. Я получаю много писем и посылок из России, но в основном это — подарки. Русские любят дарить…
Он рассказывает, что был в Советском Союзе дважды. Первый раз — в 1932 году, месяц жил в Батуми, месяц — в Одессе. Второй раз — в 70-х годах. Круиз по Черному морю и опять Батуми, Одесса, Ялта, Новороссийск.
Через маленький коридорчик идем в другой кабинет. Здесь происходят деловые встречи, здесь Сименон диктует секретарше ответы на письма, здесь он принимает гостей.
Он любит гостей, это единственное окно в жизнь.
У него много друзей среди актеров. Почти все французские, английские актеры побывали здесь, в этом кабинете. Его старший сын женат на французской актрисе Милен Демонжо. Незадолго до нас у Сименона побывали Симона Синьоре и Жан Габен…
— Кстати, вы ведь спрашивали о кино. Я всегда его очень любил. Особенно раньше — в двадцатые годы, когда кино было молодым и задиристым. Мы были друзьями с Рене Клером, Ренуаром. Знал и Эйзенштейна. Тогда все мы были такими же молодыми и задиристыми. Боролись за новые направления. В парижских кафе доходило до драк… — Сименон улыбается. — Вызывали жандармерию…
Несколько раз он был в жюри международных кинофестивалей. Например, в 1959 году в Каннах.
Но Сименон — домосед, испытывает страх перед толпой. Внизу, в подвале дома, у него — маленький кинозал. Ему привозят новые фильмы и старые — и он смотрит их в полном одиночестве.
Или еще — телевизор. Недавно видел фильм Кот с Синьоре и Габеном, поставленный по его роману. Это редкий случай. Из пятидесяти пяти экранизаций своих романов Сименон видел только три…
И смотреть не любит. На экране — совсем другое, чем было в голове (сценарии пишет не он). Обидно и досадно. Такое впечатление, словно родная дочь вернулась домой после пластической операции.
Хотя нет, видел фотографию советского актера Тенина в роли Мегрэ для телевизионного спектакля. Очень, очень похож! Пожалуй, больше всех. Передайте это ему, если встретите.
Два часа мы были в этом доме. Мы ходили по комнатам, по которым до нас прошли сотни других корреспондентов.
Седой, приветливый гид водил нас по дому, где сотни раз рождался заново Мегрэ; водил, рассказывая о себе, как биограф.
В этом рассказе одинаково важным было все: и то, что думает месье Сименон о современной молодежи, и то, как месье Сименон плавает по часу в день в собственном роскошном бассейне.
Он казался мне то неглубоким (с «внимательными» для корреспондентов глазами), то усталым, то ироничным, то рисующимся.
Только одно было неизменным — испытующие, действительно умные глаза, подмечающие каждый жест, каждый поворот головы.
Когда мы прощались, Сименон выглядел простым, радушным и довольным. Может быть, оттого что его обязанности гида кончились, и теперь он мог снова засесть за свой «инструмент пыток» и писать новую повесть о похождениях Мегрэ.
И когда мы вновь проехали мимо ворот с буквой S на столбиках, я представила себе новую главу его очередного романа, где будем все мы: и я, и журналист из «Огонька», и корреспондент «Комсомольской правды», и наш фотограф, и Жан Габен, бывший у Сименона до нас…
Теперь, когда я бываю в Швейцарии, мы с друзьями иногда проезжаем мимо дома Сименона. На воротах по-прежнему сверкают буквы S, но вилла пустует, как пустует и вилла его друга Чарли Чаплина в десяти километрах отсюда. Деревья вокруг домов выросли, и вилла Чаплина еле-еле видна сквозь чугунную ограду и разросшийся парк. Но зато внизу, у озера в Лозанне, стоит на земле, среди клумб, в рост человека бронзовый Чарли с тросточкой и в котелке и с ним можно сфотографироваться…
А наложение одного времени на другое я давно полюбила. И для меня Сименон до сих пор живет на своей вилле, наверху — над Женевским озером…
ПЛОХОЙ — ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК…
Когда я поехала в Эполенж, меня предупреждали, что встреча с Сименоном вряд ли будет интересной, что он будет отыгрывать маску интервьюируемого модного литератора. И это оказалось, в общем, так. Он рассказывал про свою внешнюю жизнь, а свои душевные болезни, одиночество, разочарования оставлял себе как материал для творчества. А мы подыгрывали ему в этой несколько надуманной игре — интервью…
Я заметила, что почти все люди, которые живут внутренне насыщенной жизнью, замкнуты в себе, чуждаются общения с внешним миром и, как правило, неинтересные собеседники. Особенно при первом, поверхностном знакомстве. Чтобы не прослыть совсем уж нелюдимыми, у них есть готовый набор рассказов, фраз, шуток. Но все это мало касается их сущности. Раскрываются они редко и только среди своих. В то время как обычный человек ищет подтверждение своим мыслям, словам и поступкам в общении с другими, то есть вне себя, талантливый человек, как правило, имеет критерий истинности в себе самом и не нуждается во внешних подтверждениях своих выводов: «Ты сам — свой высший суд…»
Труднее всего и мучительнее самому человеку от своего таланта. Талант это дар для других, а для носителя таланта — это наказание. Жить рядом с талантливым человеком очень трудно. Два таланта, как правило, не уживаются. Взаимоотталкиваются. Эту мысль, кстати, я хотела сыграть в фильме Конрада Вольфа «Гойя» в роли герцогини Альбы, которая для меня была, безусловно, талантливым человеком. В силу ее происхождения и времени ее талант не оставил результатов в искусстве, но она сумела разжечь костер творчества в Гойе. Он был прекрасным придворным портретистом, но как кремень о камень высекает искру, так после встречи и разрыва с Альбой Гойя пошел по другому творческому пути. Возникли его гениальные чудовища — «капричос».
Мне, к сожалению, не пришлось сыграть Альбу, все осталось на уровне кинопроб и благих намерений. Тогда, после «Шестого июля», я была в так называемых «черных списках», и Комитет кинематографии не утверждал меня на главные роли, считая, что я несу какой-то ненужный советскому кино отрицательный заряд. Конрад Вольф не добился для меня разрешения и пригласил на роль герцогини Альбы Оливеру Вуче — югославскую певицу — полную противоположность мне. Она сыграла только секс. Но когда фильм озвучивали на русский язык, то Конрад Вольф попросил меня ее озвучить. После этой работы и еще одного раза, когда я озвучивала Андерсен в «Красных колоколах», — я зареклась близко подходить к дубляжу. Оба режиссера, и Вольф, и Бондарчук, хотели к сексу примешать сухую речь «интеллектуалки». Выносить «золотые горшки» за кем-то — из этого мало что получается…
Посмотрела я как-то прелестный спектакль в Театре имени Станиславского — «Хлестаков» режиссера Мирзоева с неожиданным решением главной роли в исполнении Максима Суханова. Хлестаков предстает перед нами в разных ипостасях — от лагерного «урки» До некрофила… Впрочем, и спектакль, и эта роль требуют отдельного разбора. Я сейчас вспомнила об этом, потому что в конце спектакля мой не очень глупый приятель меня спросил: «Интересно, Суханов и в жизни такой же? Я бы побоялся с ним встретиться в темном переулке»…
Я часто слышу слово «самовыявление». Но если мы беремся утверждать, что почти в каждой роли актер ищет себя в предлагаемых обстоятельствах (а особенно это относится к кино, где любая фальшь видна), как же обстоит дело с отрицательными персонажами? Что, специально отыскивать злодеев, чтобы сыграть Смердякова?
Играть отрицательные роли — занятие неблагодарное. Это повелось с давних пор. В средневековые времена актер, изображавший в церковной мистерии первосвященника, получал вдвое-втрое больше, чем тот, кто играл дьявола или Иуду. Сейчас подобное происходит, когда дело касается уже не материального, но морального вознаграждения актерского труда.
Помню, как на одной из встреч после «Шестого июля» меня с многозначительным подтекстом спрашивали: «А что, вы и Фанни Каплан согласились бы играть?»
Впрочем, истории театра известны и более драматичные случаи. В 1909 году в Чикаго один офицер, присутствовавший на спектакле «Отелло», был настолько возмущен гнусностью Яго, что, не раздумывая, выхватил пистолет и застрелил актера, игравшего эту роль.
Как-то так случилось, что за мной, особенно в кино, утвердилось амплуа сильных, волевых женщин. Может быть, потому, что часто играла отрицательные роли. Хотя, что значит отрицательные? Видимо, те, в чьих характерах отрицательных черт решительно больше, чем положительных.
Мне доводилось замечать, что на встречах со зрителями меня поначалу, как правило, принимают холодно. Мне требуется усилие, чтобы расположить зал к себе, завоевать его симпатию. Это как входить в кабинет к незнакомому человеку — он всегда поначалу бывает ко мне не расположен. Если для разговора есть достаточно времени, я уверена, что смогу снять его предубеждение, если нет — от встречи со мной у него, наверное, останется неприятный осадок. Вероятно, в моей человеческой сущности на первый взгляд больше отрицательных черт, чем положительных. У меня нет того сразу располагающего обаяния, какое было, допустим, у прекрасного актера Петра Алейникова и есть у очень многих актеров. Поэтому, играя положительные эпизоды, мне трудно брать в союзники зрителя. В больших ролях мне это легче. Там у меня достаточно времени, чтобы убедить, заставить верить себе.
Играя отрицательную героиню, я стараюсь оправдать ее для себя. Ведь если актер не оправдывает для себя Раскольникова, убившего старуху-процентщицу, — роли не получится. Не будет характера, будет плохая схема, пересказ поступков. И зрители тоже на какое-то время должны стать на сторону Раскольникова, пойти за ним, пожалеть его и последовательно прийти к его жизненному крушению.
У Пушкина: «Описывать слабости, заблуждения и пороки человеческие не есть безнравственность, так как анатомия не есть убийство».
Я помню, на съемках фильма «Дневные звезды» в сцене «зоопарк» снимались дети — группа человек в 30 из детского дома — от двух до семи лет. Не снимали. Ждали солнца. Две воспитательницы: одна пожилая, из таких классических петербуржских старомодных женщин, другая молодая, видимо, только что закончила училище, но уже всех детей звала по имени («Алеша, встань с земли», — было холодно. «Метелкин, не расстегивай пальто» и т. д.). Чтобы дети не растерялись, их повели на кучу песка, который только что привезли для каких-то зоопарковских нужд. Дети обсыпали эту кучу, весело кричали, занялись делом. Они так могли играть целый день. Пришла служительница — стремительная, напористая, в грязном сером халате. Крикнула: «Вы что это песок портите! Разносите по всему зоопарку!» (дети играли очень аккуратно, воспитательницы следили). Прогнала. Детей построили парами. Пошли. Растянулись по всей аллее. Так и водили их уныло по аллее целый день — из-за погоды съемок не было…
Но если бы пришлось сыграть эту служительницу в большой роли, я бы меньше всего думала о том, что она злая. Как-то Саша Пятигорский, с которым меня в свое время познакомил Мераб Мамардашвили, развивая эту тему «плохой — хороший человек», заметил: «Добро сильнее зла — у них разные задачи: зло хочет непременно искоренить добро, а добру надо всего лишь самосохраниться». Я не знаю, сумел ли сохранить себя умнейший и добрейший Саша Пятигорский (он живет в Лондоне, и я его давно не видела), но это не значит, что он был всегда одинаков. Как это было бы скучно…
Я ненавижу любое проявление хамства, тупости, человеческой глухоты, фанатизма. Но играть в отрицательных ролях только эти черты — глупо. Недаром Станиславский говорил: играешь скупого — ищи, где он щедрый.
Любую роль, когда над ней работаешь, надо «облить слезами». Я люблю репетировать в лесу. Идешь одна, никто тебя не видит, повторяешь текст и плачешь, плачешь…
Вообще же всех актеров можно разделить на два основных типа: к первому относятся те, кто играет маску, один и тот же образ, ко второму — те, кто каждый раз перевоплощается в новый образ. Я вовсе не хочу отдавать предпочтение какому-либо из этих типов. Допустим, Чаплин: его маска из фильма в фильм одинакова, но это гениальная маска. Перевоплощение всегда рискованнее. Даже у Смоктуновского, при всей огромности амплитуды его таланта, есть неудавшиеся, проходные роли в кино.
Естественно, что любая роль оказывает на актера влияние, внутренне меняет его на какое-то время.
…Впрочем, у Аверченко есть прекрасный рассказ на эту тему «Жена-актриса». Муж не мог понять, какой же характер у его жены: то она манерна, то естественна, то ребячливо-весела, то замкнуто-мрачна и т. д. И вот однажды, придя раньше обычного домой, он еще с лестницы слышит крик жены — она площадными словами распекала прачку, и муж подумал, что вот оно, истинное лицо его супруги. Но вечером на премьере он увидел ее в роли кухарки.
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО ВРЕМЕНИ
…
«Свoero» дома я так и не создала. Свой конкретный дом, тот, в котором живу, — не люблю. Именно потому, что он не «свой». «Свой» же абстрактный дом, которого, наверное, никогда не будет, — люблю и иногда мечтаю о нем. О таком доме, в котором все располагало бы к душевному равновесию. Где уютной и «своей» была бы каждая вещь — от дивана до дверной ручки. У меня есть много любимых вещей, с которыми я бы никогда не рассталась, но вместе они не складываются в «дом». Поэтому иногда, особенно вечером, — огромное желание пойти в гости. В те дома, где есть такая гармония. На взгляд и вкус их хозяев, конечно. Но чувство гармонии и уюта передается от хозяев гостям, оно исходит от их покоя и вписанности в дом. Но таких домов в Москве для меня все меньше и меньше…
А праздников я боюсь. Это странно, потому что мало кто не любит праздников и приятных людей у себя в гостях. Но я боюсь даже не потому, что это связано с хлопотами, естественными для хозяйки, а на это часто нет ни времени, ни сил, — скорее потому, что после гостей наступает момент, когда уходит последний человек и наступает тишина, становится пусто…
Наверное, мы все-таки не умеем по-настоящему веселиться. Собираясь даже на праздники, люди приносят с собой груз повседневных забот, разговоры, которыми мы живем в будни, те же будничные мысли. Даже приходим мы друг к другу в будничных одеждах. Какой же это праздник? И, естественно, остаются на душе всякие «осадки», когда снова остаемся одни.
Как-то, когда кому-то из нас исполнялось 37 лет, мы задумали «вечер 37-го года» (этот человек родился в 37-м году). Должны были быть те же одежды, что в 37-м (как мы это знаем по рассказам и кино), та же еда, те же танцы… Такой театр для самих себя. Мы все много про это говорили, со знанием дела обсуждали, а «вечер 37-го года» так и не состоялся. Куражу не хватило…
Илья Авербах даже придумал фильм на эту тему, прорабатывал детали этого праздника, меню, музыку и распределил, кто кого должен был изображать. «А в конце вечера, — говорил он, — стук в дверь, и входит человек в энкавэдэшной фуражке…» Я помню, что никто не хотел быть этим человеком.
Достали патефон, старые пластинки. Миша Коршунов, присутствовавший при этих разговорах, вспомнил, как они жили в Доме на набережной и как до войны собирались в компаниях танцевать под патефон. Еда была вскладчину. Однажды кто-то принес заморские консервы. Все с вожделением уставились на эту банку. Когда ее стали открывать, оттуда послышался шип, а как только открыли полностью — из нее выросли два теннисных мяча. То-то было разочарование… Никто тогда не знал, что теннисные мячи для соревнований консервируют.
Ощущение дома… Оно меняется со временем. Сначала мы жили в маленькой комнате на улице Осипенко. Потом — у бабушки, но это — в гостях. Я все время стеснялась, стеснялась есть, всегда была голодная. Из-за отчима довольно рано я ушла из дома и стала скитаться по углам, снимать комнаты.
Недавно мы с приятельницей пошли в Третьяковку на выставку Анатолия Зверева, потом сидели в уютном открытом кафе под цветущей яблоней (это в центре-то Москвы!), пили чай с домашним пирогом, и я вспомнила, как жила на углу нынешней Третьяковки в двухэтажном доме с печным отоплением — там я сняла свою первую комнату. И каждый раз я вставала, умывалась холодной водой, глядела на бывший особняк Демидовых (теперь — библиотека Ушинского) и бежала в университет. Так я скиталась.
За «углы» просили очень мало. Когда мы с Володей стали мужем и женой, я была уже студенткой Щукинского училища, а Володя был исключен из ВГИКа за «антисоветскую пропаганду» (они с друзьями сделали шарж на «ленинские» фильмы), но мы на мою щукинскую стипендию ухитрялись снимать даже не комнаты, а квартиры.
Однажды мы переехали в Каретный ряд, в дом Большого театра — в огромную четырехкомнатную квартиру без мебели. В этих четырех комнатах можно было открыть все двери и ходить по кругу. И мы на велосипеде катались по этим комнатам.
У одних знакомых я выменяла два низких чешских кресла на свои туфли. Володя и наш друг Юра Зерчанинов несли эти кресла на голове. Устали и где-то на Садовом кольце, не доходя Каретного ряда, сели в них и стали разговаривать. Я пошла их встречать и вижу: они сидят в креслах посреди тротуара, курят и разговаривают. И все их обходят. Тут Зерчанинов рассказал, как они с приятелем однажды переносили диван с одной стороны улицы Горького на другую. А в это время по улице шла первомайская демонстрация и перейти было нельзя. Приятель ушел, а Зерчанинов остался сторожить диван. Он постоял-постоял и сел. Потом он лег, а демонстрация продолжалась. К нему подошел милиционер и спросил: «Что вы тут делаете, на диване?» И Юра ему объяснил. Милиционер все хорошо понял и отстал. Вот такие были времена…
Потом, опять-таки с Зерчаниновым, мы на Преображенском рынке купили огромный буфет, трехэтажный. Как мы его приволокли — не понимаю. Буфет занял полкомнаты, и в нем можно было жить — он сам был однокомнатной квартирой. Он нам заменял все, иногда в нем на нижней полке кто-то спал. Но когда после многолетних скитаний мы наконец купили кооперативную квартиру на улице Чехова, то смогли взять только верх Карлуши (так мы прозвали буфет), потому что все остальное не входило в самый большой грузовой лифт. Верх Карлуши до сих пор живет у меня на Икше. Я люблю такие вещи.
В кооперативе на улице Чехова, который таксисты называли «Актерская тишина» — дом стоял на самом шумном перекрестке — нам досталась квартира на 16-м этаже. Вид с 16-го этажа открывался потрясающий. На всю Москву, на крыши. А на противоположном доме было написано: «Вперед, к победе коммунизма!» Как-то моя французская приятельница Николь Занд, корреспондент «Monde», спросила: «Как вы можете жить с таким видом из окна?!» (Окно было во всю стену.) Я говорю: «Вид прекрасный — небо, крыши, отрываешься от всего земного». Она: «Да, но эта надпись…» А я, оказывается, ее просто не замечала. Мы вообще многого тогда не видели.
(Не видели — подсознательно охраняя свою жизнь от всего случайного, наносного. Именно подсознательно… Я помню, как мы, школьницы — я и моя подруга, — идем в баню с тазами и чистым бельем под мышкой, а вся Москва гудит и плачет — хоронят Сталина…
Или совсем недавно: с той же Николь Занд едем по набережной по другому берегу Москвы-реки. Едем в сторону «Ударника». Закат. Красное небо. Белые церкви Кремля. Возвышается храм Христа Спасителя, сверкает вода реки. Красота немыслимая! Говорить в такие минуты — кощунство. И вдруг моя Николь: «Ха-ха-ха, это набережная Мориса Тореза, ха-ха-ха…» Я, прожив все детство рядом с этой набережной, не замечала, вернее — не хотела знать, что эту Кадашевскую набережную во что-то переименовали. Она для меня всегда оставалась Кадашевской. Но… я Николь прощаю — она жила в другой стране, хотя ездить теперь по этой набережной мне почему-то неприятно…)
Когда в Москве в конце 70-х были отзвуки румынского землетрясения, мы жили уже на Чехова. Пили чай на кухне и, когда люстра закачалсь, поняли, что начинается землетрясение. Взяли кота, спустились вниз и стали обсуждать с лифтершей и с такими же высыпавшими из квартир, перепуганными людьми, что дом может рухнуть. Но нам не приходило в голову, что дом может рухнуть на нас. Это была безумная беспечность молодости.
Одно время у нас был очень открытый дом. Просто незапертые двери. Помню одну ночь: пришел пьяный Миша Козаков, потом еще кто-то незнакомый, потом целая компания из Дома кино. А на маленьком диванчике спал Боря Хмельницкий. Утром зашла к нам мама и увидела спящего Хмельницкого. Ее это так поразило, что она стала более отстраненно относиться к нашей жизни. А Боря встал и застонал — он спал мертвым сном, согнувшись в три погибели. Мы пришли на «Таганку», и он начал всем на это жаловаться. Тогда Высоцкий — в ответ рассказал, как однажды ему не к кому было пойти ночевать и он вспомнил, что одна его знакомая живет в Переделкино. Приехал туда уже ночью. Увидел низенький заборчик, но щеколда была с другой стороны. Он перекинулся, чтобы ее отпереть, и… заснул. Проснулся — было уже светло. «И, — рассказывал Володя, — я вишу на этом заборчике, но разогнуться не могу — все затекло. И я кричу! Меня сняли…»
В то время у нас часто бывали такие игры. Например, кто придумает самую противную позу. Тогда выиграл Высоцкий. Потом, уже в Репино, мы как-то поспорили: какой самый противный звук? Выиграла Наташа Рязанцева. Она сказала: «Самый противный звук — это когда вчерашние макароны кладешь на сковородку и они, слипшиеся, говорят: „Хлюп, хлюп, хлюп“.»
И вот я обустраивала эту нашу двухкомнатную квартиру. Все друзья ее очень любили. В маленькой прихожей одна стена была зеркальная — она увеличивала пространство. А на 13-м этаже, в трехкомнатной квартире, жил Визбор с женой — Женей Ураловой — и дочкой. Потом, когда они разошлись, Женя переехала в нашу квартиру, Визбор — к новой жене, а мы — к Визбору. Его квартира была обычная, обустраивать ее было не так интересно. Но многое осталось от Визбора, например лавки, которые и сейчас, уже в другой квартире, стоят у меня на кухне.
Как-то Олег Чухонцев посвятил мне стихотворение, опубликовал в «Юности» и принес мне эту «Юность». По нашей обычной привычке открывать не там, где нужно, и не сначала, а с середины, я открыла и прочитала: «…ко мне пришла Лариса Шепитько и сказала, что Беллу Ахмадулину снимать не разрешили. Что делать? Я сказал: „Давай позвоним актрисе, которая живет на 16-м этаже“. К нам спустилась актриса в пончо. Это была Алла Демидова. Она стала работать с нами». И вот я читаю этот рассказ Визбора и вспоминаю, как мы всю ночь сидели на кухне и Визбор с Ларисой вводили меня в курс дела, говорили, что положение — безвыходное. Как из какого-то сундука достали паричок. Костюмов не было, я снималась в своих и Ларисиных вещах. Мы сидели до утра, потом Визбор пел, на рассвете мы проводили Ларису и вернулись — я на 16-й, он — на 13-й. А потом мы стали работать. Все это я вспоминала, сидя в бывшей квартире Визбора. Но уже не было ни Визбора, ни Ларисы. Круг замкнулся.
«Ты и я» снимали в основном в Москве. Но потом уходящую натуру доснимали в Ялте. Искали подворотни, похожие на московские. Время от времени я летала в Ялту, жила в «Ореанде». В Ялте знаменитый в то время Женя Фридман снимал «Остров сокровищ». Каждое утро его группа уходила на специально построенном паруснике в море. И мы с Ларисой все время говорили: вот там — жизнь! Они после съемок шашлыки устраивают! А мы съемки, работа, прилетел — улетел, сняли эпизод в подворотне — разошлись… И вот однажды, когда у нас не было съемок, Визбор напросился к Фридману на корабль. Они уплыли на целый день. Наконец они возвращаются. Мы с Ларисой, как две морячки, ждем Визбора у причала. Он сходит. Мы: «Юра! Юра! Юра!» Он — мимо нас и — ни слова не говоря — в гостиницу. Я говорю: «Наверное, там негде было пописать, и он терпел…» Потом он нам рассказывал: «На корабле было ужасно. Качка безумная, посадка низкая. Но: я сочинил там песню, а записать не мог из-за качки. Мне нужно было удержать ее в голове, а вот „здрасьте!“, „подождите меня“ и „извините“ зачеркнули бы у меня в памяти эту песню…»
Однажды Визбор зазвал нас с Ларисой на лыжную базу под Москвой. Там все так красиво катались на лыжах! А мы с Ларисой шли пешком, бежали за какими-то розвальнями, чтобы нас подвезли, а нас не подвезли. И мы чувствовали себя такими ущербными, никому не нужными и что жизнь — проходит мимо. Вот они — на лыжах, они собираются, выпивают, дружат. А мы все время работаем, работаем, а когда выбираемся на чужой праздник — он нам не по душе, мы в него не вписываемся…
Прошло много лет. Вечер памяти Визбора. И вот один из его друзей-горнолыжников выходит и говорит: «Я сейчас спою песню, которую мало кто знает. Она посвящена Алле Демидовой. Юра ее написал на паруснике Жени Фридмана во время съемок». И спел песню, которой я до этого не слышала, «Черная монашка мне дорогу перешла…».
ЧЕРНАЯ ШАЛЬ, ИЛИ ПЕНИЕ ОБОЖЖЕННЫМ ГОРЛОМ
Проезжала я недавно мимо своего родного Училища имени Щукина. Перед входом роилась толпа мальчишек и девчонок, мечтающих стать артистами. Представила их волнение и немного позавидовала.
Первый и, пожалуй, единственный раз я почувствовала себя актрисой, когда поступила в училище и перед началом занятий поехала отдыхать на юг. Мне казалось странным, что люди не обращают на меня никакого внимания. А меня просто распирало от сознания, что я теперь актриса.
На первом курсе все кажется легче, критикуешь наотмашь, оцениваешь только результат по двухбалльной системе «хорошо — плохо».
Каждый недостаток своего характера оберегался как проявление индивидуальности. Следили только за своим внутренним состоянием в любых проявлениях: предположим, у меня случилась какая-то неприятность, уж не помню какая, но хорошо помню, как плачу, неожиданно подхожу к зеркалу и смотрю, как я это делаю. (Кстати, я до сих пор не считаю зазорным для актера смотреть на себя со стороны. Человек, анализирующий свои поступки, как бы раздваивается: несовершенство, то есть то, что он есть на самом деле, и совершенство — то, чем он должен стать.) И говорили только о себе. Эту черту я замечаю и сейчас почти у всех актеров — много говорить о себе. Правда, зачастую это не от самомнения, а от подсознательной оценки тех или иных поступков, фиксации на внутренней оценке своего состояния.
Там же, в училище, я помню показ молдавской студии. Объявили, что кто-то будет петь «Черную шаль». Мы переглянулись, поморщились — опять эта надоевшая эстрадная цыганщина. Вышла на сцену девушка невысокого роста. А лицо? Сейчас бы не вспомнила. Ничем не примечательна. Без единого жеста, на «скрытом» темпераменте пропела. Да так, что мурашки до сих пор от воспоминания. Я до сих пор помню, как она пела и как мы потом, забыв про свою «гениальность», кричали «браво» и «бис». Я раньше не понимала, как Федя Протасов мог заслушаться цыганских песен, а сейчас, если бы я точно знала, что эта девушка мне споет так, как она пела тогда, я бы бросила все свои дела и помчалась в Кишинев, где и обосновалась та молдавская студия. Образовав театр «Лючиферул». Но меня останавливает боязнь потерять то ощущение. А вдруг это была только минута? Недавно услышала по радио, как Мария Лукач поет песню Рождественского про двух сыновей: «Повезло им, повезло им, повезло!» На таком выхлесте! Срывающимся голосом. Как слышу плачу. Почему? Ведь крик как высшая точка самовыражения — это вчерашний день. Театр сейчас играет в другие игры. Зрителя больше интересуют нюансы, тонкий рисунок роли, глубина прочтения драматургического материала. Но я ничего не могу с собой сделать и всегда плачу. Когда слышу крик боли.
Как-то я читала у Лорки об одной знаменитой андалузской оперной певице. Однажды со своим другом она пришла в кабак, ее узнали и попросили спеть. Она согласилась и пела, как никогда, прекрасно. Но присутствующие молчали и даже иногда раздавался свист. Тогда она выпила стакан огненной водки и в бешенстве стала петь сорванным, обожженным горлом. Триумф!
Пение обожженным горлом. Самоотверженность и безоглядность таланта.
Сегодня почти не играют трагедии. А если и играют, то как драмы — с логическим обоснованием поступков, с понятным переходом из куска в кусок. Может быть, возникла защитная реакция у зрителей — после мировых войн, заказных убийств, вечной политической лихорадки. Сегодня человек сидит у себя в халате дома, пьет чай и смотрит по телевизору, как на его глазах убивают по-настоящему. И что после этого может сделать один актер в театре? Со своим слабым голосом, несовершенной пластикой и сомнениями, разъедающими душу. Каким чудом достичь, того, когда «расплавленный страданьем крепнет голос и достигает скорбного накала негодованьем раскаленный слог»?
Необходимая предпосылка трагедии в театре — совместное творчество зрителя и театра, готовность зрителя услышать трагическую ноту, попытаться не «понять», а «почувствовать» то, что зачастую словами трудно объяснить, уметь в малом увидеть общее, ведь, как писал Мандельштам, «трагическое, на каком бы малом участке оно ни возникало, неизбежно складывается в общую картину мира».
ЛАРИСА ШЕПИТЬКО
У меня отношение к смерти — странное. Помните у Ахматовой:
Смерти нет — это всем известно, Повторять это стало пресно, А что есть — пусть расскажут мне.Для меня ее нет. И те, кто уходит, все равно остаются со мной, они для меня так же живы. Но для других-то они ушли, вспоминают их все меньше и меньше. И мне хочется о них рассказать, потому что эти люди — не только отражение своего времени, но в какой-то степени и мое отражение.
Когда я впервые увидела Ларису, я «увидела» ее главное скрытое чувство — добиться в жизни во что бы то ни стало признания. При первом знакомстве я воспринимаю людей подсознательно. Потом это ощущение уходит, человек ко мне поворачивается той своей стороной, которую хочет мне показать. Но свое первое чувство от Ларисы я помню. Я тогда еще отметила ее огромную выдержку и силу воли, умение владеть собой. И, как ни странно, семейственность — уважение и почитание родственных связей.
После ее «Крыльев» прошло уже довольно много времени, и сделать «Ты и я» для нее было, конечно, важно. Хотя я и не понимала, для чего Ларисе этот «легкий» и, кстати, недоработанный сценарий Шпаликова. Да и тема была не Ларисина. Потому что Лариса человек с глубоким трагическим мироощущением, а «Ты и я» — фильм про интеллигенцию, весь на полутонах: полутона интеллигентного человека, запутавшегося в отношениях. Но Лариса обожала талантливых людей, она их как бы коллекционировала — впитывала, выжимала, а потом забывала. В данном случае она «вцепилась» в Шпаликова, и он дал ей «рыбу» своего сценария.
Если бы в главной роли снималась Белла Ахмадулина, может быть, фильм повернулся бы по-другому. Ее голос, ее манерность сыграли бы на форму. (Как известно, форма — наиболее удобный и выразительный способ говорить задуманное. Я очень часто вспоминаю слова одного из Богов в «Добром человеке из Сезуана»: «Блюди форму — содержание подтянется». И почти всегда после этих слов в спектакле «Таганки» раздавались аплодисменты.)
Такой зашоренности в работе, как у Ларисы, я не встречала больше ни у кого. Она видела только своих актеров, только свой материал — больше для нее ничего не существовало. Когда мы, например, поехали снимать в Ялту, она поехала в старом поношенном пальто, в котором всегда ездила на подмосковную натуру. Но это же Ялта! У нас было много свободного времени, мы ходили в рестораны, гуляли по набережной, и Лариса — в своем «натурном» пальто. «Лариса, ну почему ты его надела?!» — «Но мы же поехали на натуру». И, конечно, в водоворот Ларисиной жизни закручивались и наши жизни тоже.
Мы пропустили осеннюю московскую натуру, и надо было доснимать в похожих подворотнях Ялты. Тогда на «Таганке» я играла в основном не главные роли, а эпизоды и массовку, но Любимов все равно меня не отпускал. Сниматься приходилось «между струйками» — на один день надо было прилететь в Ялту, чтобы потом улететь на спектакль. Сколько это угробило здоровья! Но тогда я думала, что его хватит надолго…
И вот — лечу в Ялту. Из-за снегопада несколько часов сижу в аэропорту в Москве. Наконец взлетели. На моей шубе оторвался крючок, в сумке почему-то оказалась иголка с ниткой. Я стала пришивать, входит стюардесса и спрашивает: «Что вы делаете?!» — «Пришиваю крючок». — «Хуже приметы в самолете не бывает». А я в приметы верю, поэтому так и осталась в обнимку с этой шубой (я даже боялась ее куда-то положить), из которой торчала иголка, как грозящий ребенку палец. Летели мы ужасно. Проваливались в какие-то ямы, самолет трясло, я думала: «Вот это все — моя иголка…» Наконец сели, причем садились несколько раз, подпрыгивая. Всех вымотало ужасно.
Я все-таки дошиваю свой крючок — иголка-то торчит. Выходит стюардесса и, глядя мне глаза в глаза, говорит: «Мы приземлились в аэропорту города Киева». А летели мы в Симферополь…
Судя по тому, как сидели на полу даже в туалетах, нелетная погода была давно. В ресторан — не войти, сесть некуда, в Киеве ни одной души не знаю (это было еще до того, как я снималась в роли Леси Украинки).
Наконец, уже к концу дня, слышу по репродуктору: «Объявляется посадка на самолет Киев — Одесса…» А у нас дома в свое время висела маленькая карта мира, я там иногда делала пометочки — в каком городе я была. И вот, вспоминая эту карту, я решила: «Одесса и Ялта — это где-то рядом. Доеду». И купила билет.
Прилетаю вечером в Одессу. Сажусь в такси, шофер спрашивает: «Куда?» Я говорю: «В Ялту». Одесский (!) шофер даже не понял этого юмора, но тем не менее он мне объяснил: таксисту нельзя пересекать границу района, к которому он прикреплен. И вот я всю ночь, меняя такси, как на перекладных, ехала в Ялту. Под конец у меня уже не было денег — расплачивалась золотыми брелками от часов, причем шоферы пробовали их на зуб и брали (до сих пор не могу понять, как можно на зуб определить золото). В «Ореанду» — любимую гостиницу киношников — приехала уже днем. Иду по длинному коридору, мне навстречу Лариса. Голова — вниз, и идет она медленно-медленно. И в ее пластике, и в том, как она идет, видна такая обреченность, такая трагичность — идет Медея после убийства детей… Кстати, я часто замечала у нее эти приступы угрюмости, пессимизма и меланхолии. Но Лариса очень умела владеть собой, и внешне, на людях, это было незаметно.
Вдруг она поднимает глаза и видит меня: «Алла! Мы же тебя встречали в Симферополе! Прилетел утром самолет из Киева, но тебя в нем не было». Я говорю: «Потому что я приехала на такси. А где группа?» — «Группу я распустила».
Нужно знать характер, огромную выдержку и силу воли Ларисы — она собрала группу, которая уже разбрелась по всей Ялте, и мы поехали снимать. Не сняли, потому что опоздали с солнцем. А вечером я села в поезд и уехала на спектакль…
После этого я дала себе зарок не сниматься в других городах. И много лет я этот зарок выполняла. Но к Ларисе продолжала ездить, потому что фильм надо было закончить.
В «Ты и я» было очень много импровизации. Помню, в Ялте, в центре, на площади около универмага, строили какой-то фонтан, выложенный мозаикой и еще не затопленный водой. И вот по этой мозаике мы ходили с Юрой Визбором и импровизировали сцену — выяснение отношений между мужчиной и женщиной. «А Шпаликов потом подправит», — говорила Лариса.
В Москве Шпаликов иногда приходил на площадку, но мало во все вникал он уже был болен и почти всегда нетрезв. Одно время он даже ночевал у нас, на Садовом кольце, потому что дружил с Володей, — они вместе учились во ВГИКе. Он просиживал на кухне всю ночь, писал стихи и пил, а утром куда-то исчезал. Он был совершенно бездомный. «Прощай, Садовое кольцо, я опускаюсь, опускаюсь и на высокое крыльцо чужого дома подымаюсь…»
Куски натуры надо было снять за границей. Но в то время «пробить» съемки за границей было нереально даже для Ларисы. Тогда нам от «Мосфильма» купили туристические путевки в Швейцарию, на международный хоккейный матч. Весь самолет был заполнен поклонниками хоккея, среди них даже был Игорь Ильинский. Я сидела рядом с ним и запомнила, как он тогда рассказывал про Толстого. Он должен был играть Толстого и все думал: каким был Толстой? На портретах — мощный старец. Но кто-то, кто был у Толстого в Ясной Поляне, рассказал ему: «Мы приехали, нам сказали: „Ждите. Сейчас выйдет Толстой“. Вдруг из-за угла вышел маленький сухой старичочек, потирая руки…» И Ильинский показал, как он вышел.
…Мы приехали в Швейцарию вчетвером — Шепитько, я, оператор и гример, который нам был не нужен, но он, видимо, исполнял роль «искусствоведа в штатском». Нас поселили в роскошную (как мне тогда показалось) частную гостиницу «Montana» с цветами в холле, с мягкими креслами, с дубовыми скрипучими лестницами — в общем, старый женевский дом. Нам с Шепитько, как туристам, дали комнату на двоих. Мы входим: старинная мебель, кровать одна, но очень большая. Я говорю: «Ну, Ларис, мы на ней как-нибудь разойдемся…» Туалета не было, но зато было биде, которое мы видели впервые. Мы посмеялись, но душ, туалет были рядом в коридоре.
Когда мы приехали, нам выдали какие-то деньги, но сколько — мы не понимали, потому что впервые попали в настоящую «заграницу». Я предложила: «Лариса, пошли погуляем, чего-нибудь съедим, ведь есть хочется». Она говорит: «Я устала». И вот я пошла одна…
Я уже говорила, что могу не заблудиться в самом дремучем лесу, а в городе у меня топографический идиотизм — начинаю плутать вокруг одного и того же места. Поэтому решила идти все время направо и не переходить улицу, чтобы потом возвращаться все время налево. И вот я вижу окно первого кафе: там сидят только мужчины, играют в карты, происходит какая-то незнакомая жизнь — и понимаю, что мне туда нельзя. Иду дальше — вижу роскошный ресторан. Туда тоже нельзя — не хватит денег. Наконец, вижу сквозь стекло двух сидящих женщин. Остальные места — пустые. Обстановка напоминает бывшее ленинградское кафе «Норд»: низкие круглые столы, вокруг — лавочки. Я вхожу, плюхаюсь на первое же место и понимаю, что отгорожена от остального пространства полузеркальными стенами. Ко мне подходит официант, что он говорит — не понимаю, так как французский тогда знала совсем плохо. Смотрю меню и по цифрам понимаю, что денег хватает. Осмелев, я ткнула пальцем в начало, середину и конец, надеясь, что принесут закуску, основное блюдо и десерт. «Потом, — думаю, — разберусь».
… Официант приносит мне много-много пиалочек с едой, но не приносит приборов. Я не могу вспомнить, как по-французски «вилка» и «нож». Попыталась показать, но я застенчива и жестами скорее что-то скрываю, чем объясняю. Официант как-то странно пожал плечами и ушел, а я подумала: «Наверное, это экзотический филиппинский ресторан, где едят руками». Все эти небольшие кусочки можно было есть руками, правда, не очень солено, но у меня атрофия к соли. Я все съела и решила, что сюда можно будет ходить с Ларисой. И когда я, уже предвкушая, как сейчас пойду налево-налево-налево и расскажу все Ларисе, расплатилась и спокойно осмотрелась, то увидела: недалеко от меня сидят две женщины и пьют через соломинку коктейль, а на низких столиках стоят эти мисочки-пиалочки и из них едят собачки. Вышла на улицу: на вывеске была нарисована собачка. Я ужинала в собачьем ресторане, вернее, в кафе, где можно накормить и собак.
Мы с Ларисой долго хохотали над этой историей. Потом жизнь наладилась, начались съемки. А через какое-то время я побывала у Сименона, он жил над Женевским озером. Все это казалось мне тогда запредельно интересным.
И вот прошло много лет. Я опять оказалась в Швейцарии и сказала своим друзьям: «Мне хочется вспомнить тот собачий ресторан и гостиницу. Как бы их найти?» Мы побродили и наконец нашли ту гостиницу. Она привокзальная. Вокруг стоят проститутки — в красных лаковых юбках, с рыжими патлами — как шарж. А я их тогда принимала за хорошо одетых экзотических женщин! И гостиница наша была для одноразового пользования. Но ее, наверное, было выгодно снимать для туристов вроде нас.
Когда мы летели в Швейцарию, вся съемочная аппаратура и пленка были в наших чемоданах. И мы боялись, что, когда будут просвечивать чемоданы, пленку засветят (мы еще не знали, что так засветить нельзя).
В Женеве мы снимали контрабандой, потому что за любую съемку запросили бы огромные деньги. Ну, например, оператор контрабандой ставил камеру, а я должна была перебежать с одной стороны улицы на другую перед идущими машинами, чтобы возникло ощущение тревоги и стало ясно, что я куда-то спешу. Машины идут, Лариса мне машет рукой, я ставлю ногу на мостовую — все машины останавливаются и меня пропускают. Хорошо. Второй дубль. Опять то же машины останавливаются и пропускают пешехода — меня.
Мы так этот проход и не сняли, пройти перед идущими машинами оказалось невозможно. Сейчас, кстати, в Женеве мало кто бы пропустил, а тогда останавливались все.
Во время международного хоккейного матча нужно было снимать и меня, и хоккей. И меня — с разрешения нашей сборной — посадили за лавкой, где сидят запасные игроки. Я первый раз была на хоккейном матче и не очень понимала, что происходит. Обратила внимание на какую-то дебильность игроков, которых все время теребил тренер: «Поддерживайте! Поддерживайте!» А они только друг другу говорили: «Ну, давай, давай!» Что «давай»? Куда «давай»?! Правда, я заметила одного игрока, он был немножко горбатый, как Квазимодо, который вроде бы не очень и двигался, замирал, как паук, потом что-то быстро делал и шайба была в воротах. Когда он приходил на скамью запасных, тренер к нему не приставал, и он — единственный — не говорил это слово «давай!». Молча садился, молча отдыхал, а потом опять мчался и забивал шайбу. И он мне так понравился! Я спросила: «Кто это?» — «Фетисов». Кто такой Фетисов? Потом мне объяснили, что это первый игрок. А тогда я думала: вот в этой несуетности — смысл своего дела. И Лариса — абсолютно такая же, вся зашоренная, под колпаком своего дела. Для нее не существует мир, другие люди — у нее все идет в одно.
Кстати, этот международный матч передавали в Москве по телевизору. И мои домашние видели, как я там сижу и смотрю хоккей.
Наши выиграли, и в их честь устроили прием. Лариса пошла, ей нужно было договориться с Фетисовым, чтобы доснять его крупный план в Москве. А я, как ни была влюблена в Фетисова, не пошла, потому что заразилась от Ларисы гриппом — мы ведь спали в одной кровати.
И вот в Москве, летом, — досъемка. Снимали закрытый каток на «Динамо». Я говорю: «Лариса, я приеду, мне интересно, кто такой Фетисов». Жду, группа уже собралась, а он, естественно, опаздывает — «звезда» должна опаздывать. И вдруг я слышу открытые гласные и противный тембр. Я думаю: «Что за гадость там идет?!» — и входит какой-то коротышка с золотой фиксой, в шелковой футболке, натянутой на бицепсы — Фетисов. Я ушла. А по дороге вспоминала историю Павла Григорьевича Антокольского, с которым была в свое время хорошо знакома. Он рассказывал, как, будучи молодым поэтом, в 20-е годы зашел в ресторан и увидел в углу за столиком своего кумира Игоря Северянина. Подумал: «ананасы в шампанском», «мороженое в сирени»… Северянин пил водку и закусывал селедкой. «И я, — говорил Антокольский, — впервые понял разрыв между автором и его произведением».
В это же время Лариса переезжала вместе с Элемом Климовым на новую квартиру. На набережной, недалеко от гостиницы «Украина», 1-й этаж. Я туда заходила, кое-что мне нравилось, но что-то в этой перестройке стен было от кино — какая-то режиссерская мысль, желание расширить пространство, как в павильоне. Кухню соединили с большой гостиной, гостиную— с кабинетом, где на кресла были накинуты редкие в то время меховые шкуры. Лариса очень любила и гордилась своим домом. Она была из Киева, и думаю, что, как все талантливые провинциалы, она хотела утереть нос столичным.
Или, например, она мне рассказывала. Вдруг ей звонит Фурцева и спрашивает: «Лариса, я вас видела на каком-то приеме, у кого вы одеваетесь?» — «У Зайцева». — «Ах, как интересно, дайте мне телефон…» Ларисе это льстило.
Учились во ВГИКе на одном курсе: Отар Иоселиани, Ира Поволоцкая, Лариса Шепитько (это последний курс, набранный Александром Довженко, после его смерти его вел Михаил Ромм). Лариса, судя по рассказам, не была яркой студенткой. Яркой была Ира. Она — москвичка, с идеальным вкусом, талантливая. И ей дали дипломную работу: снимать на «Туркменфильме» «Зной» по повести Айтматова «Верблюжий глаз». Снимать надо было в песках, в пустыне, собирать группу железной рукой, ведь кинопроизводство — все-таки завод. У нее сил не хватило, и она позвонила своей приятельнице с курса Ларисе Шепитько, которая осталась без диплома. Лариса приехала, они стали работать вместе. Потом Ира попала в больницу (кажется, с гепатитом), Лариса работала одна. Ира после больницы побоялась возвращаться в эту пустыню, и всю работу доделывала Лариса — и монтировала, и озвучивала. Вышел фильм «Зной», очень хороший. В титрах стояло: режиссер — Лариса Шепитько. В титрах не было Иры Поволоцкой. Это — шаг, поступок. Я не осуждаю, но я так бы не сделала и так бы не сделала Ира Поволоцкая — столичные. Но так поступила Лариса — «я хочу», и если бы не «Зной» — неизвестно, как бы повернулась ее судьба. Но «Зной» замечен был всеми, ездил на фестивали — и Лариса стала работать дальше…
А что касается «столичных» и «из провинции» — мысль, конечно, спорная, но замечено, что свежие силы в искусстве — почти всегда из провинции. Их жизненной энергии тесно в небольшом городе — они стремятся в столицу. Приехав, мыкаются, но быстро все схватывают (у нас в училище, я помню, самые модные девочки были из провинции). Стремление «переплюнуть» столичных толкает их на новаторство. И потом — лететь как с трамплина и диктовать столичным свои правила и законы.
Как-то один наш общий знакомый, прекрасный оператор, сказал, что Лариса Шепитько ему напоминает тип «железных леди».
У Нины Берберовой есть роман «Железная женщина» — о баронессе Будберг. Но и Лариса, и Будберг не были железными женщинами, они были разными.
Была я как-то в Ленинграде. Семен Аранович снимал фильм про Горького, я его потом озвучивала. Приехала баронесса Будберг, которая, как известно, была одной из жен Горького. Семен пестовал ее, возил по разным ею забытым местам. Вместе мы поехали в Пушкино. Она сказала, что хочет есть. Семен вышел из машины и купил кулек жаренных в масле пирожков с повидлом. Ими можно было забивать гвозди. Я надкусила один. Весь пакет съела баронесса, запивая коньячком, который она доставала, как это бывает только в старых американских фильмах, из-под подвязок. Она была грузная, говорливая, в норковой огромной шубе. И запомнилась мне на всю жизнь. Она не была железной, обладала огромным чувством юмора — мы тогда весь день благодаря ей хохотали.
Вот так и с Ларисой: «железный характер», «волевая женщина» — это клише. На самом деле бывало разное.
Она поздно забеременела и очень хотела оставить ребенка, но у нее была травма позвоночника. Тем не менее она все это выдержала и родила. И теперь ее нет, но остался сын.
Ее гибель тоже закручена в ее судьбу и силу ее воли. Она начала снимать новый фильм — «Матера». Выезжать на выбор натуры надо было очень рано. А до этого у кого-то из группы был день рождения, и они просили Ларису выехать позже. «Нет. Раз назначено — надо». И они выехали. Шофер заснул. Милиционер видел, как мчалась по параболе «Волга», в которой все спали, он хотел ее остановить, но не успел. «И, — рассказывал шофер грузовика, — я увидел, как на меня мчится „Волга“. Я свернул к обочине, потом я практически встал. Больше мне некуда было…» Грузовик был с прицепом, груженным кирпичами, «Волга» со всего размаха врезалась в прицеп, и эти кирпичи накрыли общую могилу. Характер Шепитько — и в ее фильмах, и в ее гибели.
«Прощание с Матерой», которое доделывал Элем Климов, интересно по материалу, и там интересен Петренко, но по мироощущению фильм получился мягче, чем у Ларисы, потому что Лариса сделала бы абсолютную трагедию. С таким трагическим мироощущением я женщин не встречала.
…В своих актеров она влюблялась, причем одинаково — и в мужчин, и в женщин. Во время «Ты и я» для нее никого не существовало, кроме меня, Дьячкова и Визбора. Никого. Она гримировала Визбора, совершенно влюбленно на него глядя. Я снималась в ее пальто, она ходила в моем — мы жили коммуной.
Когда кончились съемки, мы иногда где-то встречались, но она не общалась больше ни с Визбором, ни с Дьячковым — они перестали для нее существовать.
Человеку с трагическим мироощущением жить трудно. Я не знаю, когда это появилось у Ларисы. Может быть, она с этим родилась, а талант ее вел все глубже и глубже.
Недаром Муза трагедии — женщина. Голос трагедии — женский. «Голос колоссального неблагополучия» — как писал Бродский о Цветаевой.
Может быть, потому, что женщины более чутки к этическим нарушениям. Не знаю… Их этические оценки более целомудренны и прямолинейны.
Принимать трагедию как жизненный урок, учиться на нем не делать впредь ошибок. Или: принимать катастрофы как неизбежный ход исторического развития, принимать жизнь во всех проявлениях. Но — становиться после катастрофы другим человеком. Чище. В этом, по-моему, смысл трагедии.
Работать с такими людьми, как Лариса Шепитько — талантливыми, целеустремленными, — одно наслаждение. Но общаться в быту…
Как прекрасно кто-то из современников сказал о Мандельштаме: Мандельштам считал себя трагическим поэтом (что не подлежит сомнению), но если приходили друзья и приносили вино и закуску, он моментально об этом забывал…
Я, к счастью, застала еще это «старое» поколение. Они умели ценить «первую реальность». Это не значит, что они были эпикурейцами, но посидеть в компании за дружеским столом, поговорить, посмеяться — даже в «самые невегетарианские» времена — они любили. А я любила бывать с ними, хотя по характеру я совершенно другого склада человек. У меня, словами Тютчева, «нет дня, чтоб душа не ныла!».
ЯЛТИНСКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ
Было время, когда в Ялте весной в Доме творчества литераторов — в старом доме с колоннами — собирались знаменитости: Шкловский, Ермолинский, Фазиль Искандер, Аксенов, Каверин, Арбузов…
Этот двухэтажный дом стоял на холме, подальше от моря, и там не так сыро, что для моих легких важно. Туда трудно было попасть, и мне каждый раз приходилось обменивать свою путевку в Дом актера, стоящий на берегу моря, на путевку в Дом литераторов и еще дарить французские духи той женщине, которая это оформляла. Из «пришлых» там были только я и жены литераторов, если их можно назвать пришлыми, — настоящими хозяйками в Доме были как раз они.
Если откровенно, я брала эту путевку не потому, что боялась сырости, а из-за уникальной атмосферы, царившей в доме. Атмосфера была доброжелательная, несуетная и очень радостная — все очень радовались жизни. Хотя дом был совершенно без бытовых удобств — только два душа на этаже и два туалета. В длинном коридоре — много-много комнат. Некоторые с балконом, с которого виден парк, Ялта внизу и море…
Около дома на лавочках всегда собирались перед обедом и перед ужином писатели, рассказывали истории, анекдоты, раздавался постоянный смех.
Я вообще человек застенчивый, никогда не подхожу к малознакомым компаниям, а тут я всегда крутиласъ, потому что там были люди, которые ко мне хорошо относились, и среди них — Вениамин Александрович Каверин, дядя Веня — как мы его звали между собой.
До обеда в доме и вокруг была тишина — писатели работали. Каждый потом хвастался, сколько страниц «накатал». Обычная утренняя норма была 1–2 страницы. Арбузов говорил, что написал восемь страниц, кто-то — три, кто-то — шесть, но больше всех всегда писал Арбузов.
А после обеда — святое время: кто спал, кто спускался к морю, а мы с Вениамином Александровичем быстренько скатывались вниз и шли по берегу моря пешком в Гурзуф через можжевеловую реликтовую рощу, через виноградники. Там садились на катер и катером возвращались в Ялту и подымались на свой холм. Надо было идти по берегу моря, там — валуны, и вот его легкая фигурка прыг-прыг по камушкам, а я за ним. И так почти каждый день.
В Гурзуф по берегу я ходила с Кавериным, а на Царскую тропу, до Ласточкиного гнезда или до Караголя — с Алексеем Николаевичем Арбузовым. Это очень большие расстояния, поэтому обратно мы или брали такси, или сидели и отдыхали в кафе и опять возвращались пешком.
Весной на Царской тропе цветет крымская сосна, и самое высшее наслаждение — стать под эту сосну, чтобы кто-нибудь ее тряс. Я помню, мы с Арбузовым стояли и дышали этой пыльцой, а потом друг на друга смотрели и хохотали: лица были желтые и сразу не отмывались.
Арбузов тогда бросал курить, и у него все карманы были забиты взлетными леденцами, которые давали в самолете. Купить эти леденцы было нельзя, поэтому мы у него их «выцыганивали». Тут он властвовал над нами — надо было или что-то ему сделать, или купить внизу на набережной бокал шампанского за рубль.
Часто мы ходили гулять вчетвером: Миша Коршунов, его жена Вика, Алексей Николаич и я. Складывались по рублю и в конце путешествия на набережной выпивали по бокалу шампанского. Но иногда общих денег не хватало, и тогда Алексей Николаич «продавал» нам леденцы. Эти леденцы нужны были для нашего любимца — Кабанчика. У нас была еще одна прогулка: брать такси и ехать на Грушевую поляну. Там — запретная зона и царские угодья, где в свое время охотились и Хрущев, и Брежнев. И вот на Грушевой поляне, перед охотничьими угодьями был маленький зоопарк. В довольно тесных клетках сидели медведи, орлы, кабаны и олени. И вот один кабан — Кабанчик, как мы его прозвали — очень любил сосать взлетные конфетки. Я первый раз видела у животного мимику наслаждения. Он брал конфету в рот, сосал, замирая в наслаждении, закрыв свои белесые ресницы, потом опять быстро-быстро сосал, потом опять замирал и закрывал свои белесые ресницы… В общем, леденцы мы выменивали для этого Кабанчика. И каждый год мы ждали, что вернемся к своим зверям. Однажды приехали — Кабанчика нашего нет, и егерь нам сказал, что его пришлось зарезать, потому что он прорыл нору в соседнюю клетку и съел там барсука. Это была трагедия для всего Дома. Белла Ахмадулина каждый раз повторяла своим напевным голосом: «Кабанчик! Кабанчик! Убили Кабанчика!»…
Через какое-то время моя приятельница Наташа Рязанцева сделала ремонт в своей квартире и облицевала кухню плиткой, которая почему-то называлась «кабанчик» — коричневая узкая плитка. И вот как-то я встретила Беллу Ахмадулину, она меня спросила про общих знакомых, и я рассказала, что Наташа занимается ремонтом и облицовывает кухню «кабанчиком». «Кабанчиком?! Нашим Кабанчиком! Размазывая по стенам!.. Как можно жить!..» — запела Белла.
Однажды весной в Ялту приехал Булат Окуджава с женой Олей. Человек он тихий, замкнутый, но тем не менее мы хорошо общались, куда-то ходили, разговаривали. Открыли новую дорогу для прогулок — узкое ущелье, закрытое двумя горами. Помню, как мы выбирались оттуда — незабываемо прекрасно!.. Ему очень понравилось гулять вместе, потому что я им с Олей открывала Ялту, и, когда они уезжали, он сказал: «Ну, хорошо, Алла, до Москвы». Я говорю: «Москва — разлучница». И в Москве мы действительно мало общались, хотя я его иногда встречала у Бори Биргера, когда мы устраивали там кукольный театр. У нас была даже кукла «Булат Окуджава». Есть фото: Окуджава сидит, а я стою над ним с его куклой. Но тем не менее мы не общались уже так, как в Ялте.
Потом прошло какое-то время, я читаю «Путешествие дилетантов», и где-то к концу один персонаж — другому: «…как говорит наша прекрасная актриса госпожа Демидова, Москва — разлучница». Я подпрыгнула до потолка и в следующий раз, увидев его, рассказала, как это было для меня неожиданно. Он говорит: «Да? Я даже хотел там написать „наша превосходная актриса“, но редактор меня остановила, поэтому определение менее восхитительное». Тем не менее он подписал мне книжку: «Алле Демидовой, вдохновившей меня на фразу в этой книге».
Однажды мы с Борей пришли к нему домой в Безбожный переулок. У него над столом был иконостас портретов, были там и незнакомые мне люди, и портрет Набокова. И вдруг я увидела свою фотографию, причем — открытку бюро кинопропаганды, ужасную. Я спрашиваю: «Почему?!» Ответила Оля: «Потому, что вы его любимая актриса…»
1987 год, 21 июня. Гости у Бори Биргера. Оживленный, не похожий на себя Булат. Оля рассказывала, что Булат боится икон, креста, церкви. Недавно она крестила и освящала квартиру.
Зовут друг друга «Мишенька». Например: «Мишенька, там на стене крест». — «Ну и что, Мишенька, это к добру…»
Как-то меня попросили вести его концерт в Доме актера на Тверской. И я целый вечер была с ним на сцене, вела всю черную работу, для меня очень не свойственную: брала записки, что-то отвечала, раскручивала его на какие-то песни и т. д. А потом, когда вечер кончился, он мне даже не сказал «спасибо». Только Оля ему напомнила: «Булат! Ты скажешь Алле „спасибо“ за то, что она крутилась с тобой на сцене?» Он: «Да? Ну, хорошо». В этом — его немногословие, несуетность, спокойствие и, может быть, некоторая жесткость.
Когда был его юбилей в театре Райхельгауза, на площади перед театром стояла толпа. А он, такой же несуетный, сидел с семьей в ложе и так же спокойно, как в Ялте, как дома, как за столом у Бори, — сидел и смотрел, как его восхваляли со сцены. И только поморщился, когда Ярмольник вышел и подарил ему телевизор. Его явно покоробил этот купеческий жест.
Когда он получил дачу в Переделкино, он там жил один, потому что Оля жила в городе с их сыном Булатиком, и он приглашал к себе, очень любил гостей. Но «Москва — разлучница», я там была всего один раз и запомнила только его коллекцию колокольчиков. Я сказала: «У меня тоже есть колокольчики, надо бы нам обменяться одинаковыми». Так это и повисло в воздухе.
«Ореанда» — старая гостиница на набережной Ялты — была предметом наших разговоров. Там иногда жил кто-то из писателей, и мы приходили туда в гости. Видимо, ее стены сохраняли какую-то старую атмосферу. Там было кафе пристроенная веранда, и к пяти часам мы сползали с холма литераторов, чтобы выпить кофе. Это был ритуал. И в это же время — видимо, тоже ритуал — туда приходили девочки-путанки. Они в основном «работали» с югославами, которые строили гостиницу «Ялта». Я их всех знала по именам, и каждый год, приезжая, я спрашивала, например: «А где Люся?» — «Ей посчастливилось, она вышла замуж за югослава и уехала в Югославию». — «А где такая-то?» — «Ой, ей посчастливилось, она…» Но ни разу ни одна из них не вышла замуж за литератора.
Мне нравилось приезжать туда каждый год, делая вид, что ничего не изменилось. Те же девочки, те же официантки. Весна. Опять туман, опять тревожно гудят пароходы, из тумана так же нереально проступают очертания города…
И теперь, когда я приезжаю в Ялту, «Ореанда» — другая, перестроенная. Кафе этого нет, девочки переместились куда-то, и я их не знаю. Ялта изменилась. Она утратила свою домашность, ритуальность. Дома творчества актеров и литераторов весной закрыты.
ДЕТИ И ЖИВОТНЫЕ
Когда меня позвал Грамматиков сниматься в фильме «Маленькая принцесса», я согласилась не из-за роли, потому что она абсолютно не моя (это роль для молодой Раневской, как она играла в «Золушке» — с перепадами голоса, острой характерностью). Но я взяла своего пекинесса Микки, думая, что он за меня все сыграет (так и получилось), и согласилась, потому что снимали в Ялте, а зимнюю Ялту я помнила только по съемкам в фильме «Ты и я», и мне хотелось побывать там еще раз.
И вот мы поехали с Микки поездом. Микки, который очень любит гулять, который от одного слова «гулять» впадает в раж, тут, даже если останавливались на полчаса, через три секунды, сделав свои дела, мчался в купе. Он боялся, что поезд уедет без него.
Нас поселили в «Ореанду», перестроенную для богатых туристов. Но зимой богатых там нет, и она пустовала — три этажа были просто закрыты, а на четвертом мы с моим пекинессом иногда бывали вдвоем. Вечером, когда нужно было его выгуливать, мы только Доходили до лифта (а около лифта был разбит маленький зеленый садик, полуискусственнный), и Микки там задирал лапу, делая вид, что все это — настоящее. И как-то днем, когда мы ехали на съемку, Микки так же по привычке задрал лапу под искусственной пальмой, а в это время к лифту подошел директор гостиницы. Но (вот она, вышколенность нынешнего персонала гостиницы!) — директор сделал вид, что не заметил.
В старый Новый год приехали «новые русские» в своих неизменных малиновых пиджаках и с детьми. Дети были одеты как дети XIX века: в лаковых туфельках, в кружевных платьицах, мальчики — в бархатных курточках. Но они все равно выглядели ряжеными, хоть и дети. А «мои» — с которыми я снималась — в этих платьях выглядели абсолютно естественно.
Я первый раз снималась с детьми и думала, что надо просто использовать их реакции, как зверей подманивать на то, что им знакомо. Но нет — они вели себя абсолютно как актеры, они понимали, что играют, даже самые маленькие.
Я помню рассказ Таланкина о том, как они с Данелией снимали фильм «Сережа». Фильм мне нравился еще до того, как я стала работать с Таланкиным. Мне нравилась сцена, когда маленький Сережа, которого не берут в Холмогоры, плачет настоящими слезами, у него почти истерика: «Я хочу в Холмогоры! Я хочу в Холмогоры!..» Это «Я хочу в Холмогоры!» у меня дома стало игрой; когда чего-нибудь хочется, не надо объяснять — как сильно, а сказать просто «Я хочу в Холмогоры!» с этой интонацией.
Когда я Таланкина спросила: «Как же вы заставили мальчика плакать?», он рассказал: «Мы с Данелией разделились на две маски — он был добрый, а я злой. Потому что мальчик капризничал, он не хотел не то что плакать, но даже произносить эти слова. Он устал и зажался. И тогда я стал кричать, что он срывает съемку, что это — большие деньги и что я его оставлю на ночь в этом павильоне, а тут огромные крысы. А „добрый“ Данелия говорил: „Ну что ты, Игорь, он еще маленький, нельзя его оставлять, потому что крысы такие большие“. А я говорю: „Да нет, какой он маленький, если он так подводит всю группу“. В общем, у мальчика навертываются слезы, я говорю тихо: „Камера! Играй!“ И мальчик на этих слезах: „Я хочу в Холмогоры! Я хочу в Холмогоры!“ Сняли. Таланкин к нему подбежал, обнял и сказал: „Прости меня, милый, я ведь специально тебя…“ И тот, еще плача у него на плече: „Да я понял это, я же понял, что это игра!“» Дети это понимают, но не все. Артистичные дети. Видимо, это закладывается в детстве — реакции, артистизм, вкус, отношение к жизни и даже к костюму.
Дети и животные. За животными я наблюдаю всю свою жизнь. У меня всегда жили кошки и собаки.
Артистизм — это, видимо, повышенная чувствительность к месту, где находишься, и к чувствам тех, с кем общаешься. С этим надо родиться. Это избранность. Кстати, это чувство есть почти у всех животных.
Я раньше подбирала животных на улице, в основном пуделей. Почему-то пудели чаще теряются. Раздавала своим приятелям. И вот, когда все мои друзья были уже «опуделены», я нашла мою Машку — она была вся в крови, избитая. Жила у меня 14 лет, а совсем недавно умерла…
Пекинесса Микки мне подарила моя подруга Маквала Касрашвили, солистка Большого театра. Он у нас живет по очереди: когда уезжаю я — Микки остается у Маквалы, когда на гастроли едет Маквала — он возвращается ко мне. Он домашний клоун. Любимец. Знает два языка — в доме у Маквалы говорят по-грузински. А когда Маквала подходит к инструменту, радостно бежит и нота в ноту повторяет за ней все экзерсисы.
Микки приехал в Ялту на съемки не первый раз. Он с нами был там как-то весной на отдыхе. Поэтому все углы набережной были помечены им год назад.
Итак, он стал актером. В «Маленькой принцессе» он прекрасно понимал, что делает. Один раз в кадре мне надо было палкой разбить вазу на столе, рядом с которой лежал Микки. В первом дубле я не рассчитала и вместо вазы попала по нему. Он в ужасе полетел со стола. Думала, что второго дубля не будет, но он согласился работать дальше. И уж в следующий раз я не промахнулась. Но после этого Микки всегда позволял делать только два дубля.
У меня есть еще кот-философ, зовут Миша (МММ — Маша, Миша, Микки). Он обожает играть с Микки и Машкой: спрячется в коробке, они чувствуют, что он там, но не видят, и носятся вокруг. Вдруг из коробки высовывается лапа, и бам кому-нибудь из них по голове.
Он не любит, когда я уезжаю, и в последнее время стал метить мои чемоданы. Платья тут же приходится сдавать в химчистку. Я попробовала его обманывать — соберу чемодан и забросаю его книгами, вещами. Так обманывала, обманывала… И вот еду в Японию. В Шереметьеве таможенник спрашивает: «Что у вас там?» — «Платья…» Открывает, а там кот. Однажды он убежал, два дня не могли найти, объявления повесили. Тут соседка с верхнего этажа говорит: «Это не ваш кот между двух рам забился? А то я хожу и думаю: какая-то рыжая старая шапка валяется…»
В свое время мне очень хотелось персидского кота (тогда их еще было немного и моды на них не было). Поехала на Птичий рынок, но те, которые попадались, были в таком плачевном состоянии, что я понимала: мне их не выкормить, и отходила. И тут на моем пути появилась женщина. В голубой мохеровой шапке на руках у нее сидел котенок. Я спросила: «Персидский?» — «Конечно!» — сказала она. Я чувствовала, что меня обманывают, но котенок так дрожал, что я не могла его не взять. Он оказался, конечно, не персидским и к тому же больным: в ушах клещи, аномалия с желудком. Ветеринар сказал, что обычно таких топят. От клещей-то избавились, а вот желудок…
А вообще он кот приятный, и все соседи по даче его любят. Он понимает, что наши грядки — это его территория, и никуда с них не уходит, чужие грядки не портит, а развлекается тем, что ловит полевых мышей. Соседские собаки его не трогают. Поскольку я вожу его на Икшу летом, он считает, что там лето всегда и обижается, когда я зимой еду на дачу, «в лето» без него, а только с собаками.
Мне кажется, что и люди делятся на «кошек» и «собак» — интравертов и экстравертов. Люди «закрытые» — кошачьего типа, «открытые» (коммуникабельные) — собачьего.
Актер должен в себе воспитывать и кошачьи, и собачьи черты характера. Недаром на первом курсе театрального училища есть этюды «животные», когда нужно перевоплотиться в какого-нибудь зверя или птицу.
А что касается моего «скотного двора», я и раньше во всех интервью старалась «славить» своих животных.
Пусть они останутся и в книжке.
РАИСА МОИСЕЕВНА БЕНЬЯШ
Жила в Ленинграде, на улице Рубинштейна, Раиса Моисеевна Беньяш, очень известный в свое время критик. Писала книги по истории театра — о Мочалове, о Стрепетовой. Из современников много писала о Товстоногове, дружила с ним.
В Москве она почему-то отметила меня и написала очень неплохую статью о «Деревянных конях». Я такими исследованиями не избалована, у меня было много комплиментарных рецензий, а подробный разбор роли — только у Гаевского, когда он написал о Гертруде, увидев то, что было в каких-то моих подсознательных наметках — белую ночную птицу со сломанными крыльями на фоне темного занавеса. И когда я прочитала его статью — я просто усилила этот рисунок. Также и Беньяш, написав о «Деревянных конях», сакцентировала какие-то вещи, которые были у меня в подсознании, а она мне помогла их выявить. У нас завязалась переписка. Каждый раз, когда она приезжала в Москву или я — в Ленинград, мы с ней встречались. Она как-то сказала, что завещает мне все свое имущество, я от этого отказалась — была совершенно не приспособлена, чтобы что-то перевозить из Ленинграда в Москву. Тем не менее после смерти Раисы Моисеевны ее душеприказчик передал мне лампу а-ля Пушкинский шандал и уникальный барельеф Ахматовой — его сама Ахматова подарила Беньяш после Ташкента. Кстати, в ташкентских дневниках Лидии Чуковской имя Беньяш встречается. Все они были в Ташкенте в эвакуации и довольно-таки тесно общались: Раневская, Беньяш, Чуковская и Ахматова.
Мне Беньяш рассказывала, что в какой-то из черных дней, уже вернувшись в Ленинград, к ней пришла Ахматова и сказала: «Раиса Моисеевна! До меня доходят странные слухи о наших отношениях. Считайте, что мы с этого дня незнакомы…»
Среди злых сплетников шла молва о ее какой-то особой сексуальной ориентации. И моя приятельница Нея Марковна Зоркая меня предостерегала: «Алла, храните свою репутацию!» Мне было смешно. У каждого — своя ориентация, каждый хранит свою репутацию, как он может, и общение с человеком другой ориентации ничем не грозит, если ты сам этого не хочешь. Но в основном разница, конечно, была не в ориентации, а в возрасте.
Когда мне передали после ее смерти мои к ней письма, я увидела в них некое мое подыгрывание ее властности. Соблюдались роли: «критик» и «актриса». Хотя все равно я делала все по-своему. Например, она приехала на репетицию «Вишневого сада». Моего легкого, развевающегося костюма еще не было, а мне было удобнее репетировать в брюках. Для нее это был шок: Раневская в брюках! Она мне об этом сказала, я покивала, соглашаясь, но даже не стала объяснять, что это потом уйдет, главное — чтобы осталась современная пластика.
…Как я уже говорила, у меня была страсть пристраивать бродячих собак. Так, одна серая пуделиха осталась у меня. Помню, как я за ней бежала, потому что она шла посередине проезжей части на трех лапах — четвертая была перебита. В общем, я ее вылечила. Как-то она потянулась — такая стройная! и я сказала: «Ой, какая Лайза Минелли!» Так она стала Лизочкой. Потом мне надо было уезжать в Париж на три месяца. Володе тоже надо было уезжать, а все наши друзья уже были при пуделях. В это время в театре появился Злотников со своей пьесой «Два пуделя» (она потом вошла в спектакль «Надежды маленький оркестрик»), и я там начала репетировать. Со Злотниковым мы подружились — у него был черный пудель, у меня Лиза — серый, в общем, возникла какая-то игра. Злотников жил в Ленинграде, я позвонила Раисе Моисеевне и говорю: «Злотников сейчас едет в Ленинград. Мне некому оставить Лизу. Не возьмете ли Вы на какое-то время?» Раиса Моисеевна — очень недовольно: «Но, Алла, у меня никогда не было собак!..» У нее была роскошная квартира с уникальной павловской мебелью красного дерева. И в этой квартире она жила вдвоем с домработницей Зинаидой Николаевной. Тем не менее я ее уговорила. Злотников повез Лизу в Ленинград, а я уехала в Париж. Звоню через 10 дней. «Как Лиза?» — «Очень хорошо. Она подружилась с Зинаидой Николаевной, они гуляют. Злотников заходит». Через месяц Злотников должен был передать Лизу еще кому-нибудь, так как Раиса Моисеевна хотела ехать в Ялту. Звоню: «Ну как, Злотников забрал Лизу?» «Какой Злотников?! Лиза остается у нас, об этом не может быть и речи!» — «Но Вы же хотели уезжать?» — «Нет. Мы снимем дачу, переедем с Зинаидой Николаевной и Лизой. Я там буду работать…»
Я вернулась из Парижа, звоню Раисе Моисеевне: «Злотников сейчас едет в Москву, он может передать Лизу мне». — «Алла, вопрос так не стоит. Лиза — моя!»
Так она мне ее и не отдала. Для Лизы снимались летом дачи, Зинаида Николаевна ходила на базар покупать Лизе вырезку… Когда я встречала в Москве Алису Фрейндлих, которая жила в том же доме, Алиса рассказывала: «Видела вашу Лизу. Ухоженная, постриженная».
После смерти Раисы Моисеевны Лизу забрали к себе друзья Беньяш, очень милые люди, жившие в том же доме. И Фрейндлих мне по-прежнему говорила: «Видела вашу Лизу, ухоженная, постриженная…» Потом ушла и Лиза…
Из моих писем Раисе Моисеевне Беньяш.
«Дорогая Раиса Моисеевна!
Спасибо за письмо. Как всегда, к сожалению, отвечаю с опозданием, но уж больно много переездов было в последнее время в моей, обычно бедной впечатлениями жизни. Хотя, наверное, только так — в переездах — и можно понять относительность времени, когда оно вдруг растягивается безмерно или, наоборот, проскакивает незаметно. Помню, мы снимали „Чайку“, а в соседнем павильоне — „Дядю Ваню“. Мы бегали друг к другу смотреть, чтобы не повторяться: если у них светлые, просторные декорации, у нас — маленький домик, набитый мебелью и людьми; если у нас — более-менее костюмы того времени, у них — сплошная фантазия и условность и т. д. (В данном случае мы сильно проиграли, но не об этом речь.) Каждый раз, проходя мимо их павильона, я видела Смоктуновского, сидящего в одной и той же позе в кресле и бесконечно ждущего начала съемок (так я его в работе и не видела).
— Ну как, Иннокентий Михайлович, дела?
— Да все ужасно, Алла, меня плохо подстригли, воротничок у рубашки отвратительный, режиссер ничего не понимает…
Я уехала на неделю в Италию. Прожила по впечатлениям и встречам за эту неделю год. Приехала. Продолжаем съемки. Прохожу мимо павильона „Дяди Вани“ — в том же кресле и в той же позе сидит Смоктуновский.
— Ну как дела, Иннокентий Михайлович?
— Да все ужасно, Алла, меня плохо подстригли, воротничок у рубашки отвратительный, режиссер ничего не понимает…
Этот фокус мы хотели показать в фильме „Ты и я“ Шпаликова — Шепитько, когда я — жена Катя — остаюсь в Москве и проходит день. А за этот день у моего сбежавшего мужа, которого играл Леня Дьячков, на стройке в Сибири — полжизни (отбивали натурой — зима/лето). Зрители так ничего и не поняли: почему это я продолжаю звонить домой и удивляюсь, что мужа нет (сбежал он тайно). Вот и сейчас, мне кажется, что за эти полмесяца прошло много лет („Какие новости, Володя?“ — „Никаких“ — „Не может быть!“). Мне странно писать письмо, потому что надо рассказывать много.
Была в Югославии. И так как поехала против воли, было хорошо. Сначала фестиваль кино, куда я и была приглашена. Это было приятно своею бездельностью, но тем же и утомительно. Затем поездка по стране, сказочный Дубровник, художники, а потом в Белграде — международный театральный фестиваль „Битеф“. Открывал фестиваль австрийский театр. Очень красивый, а потому немного скучный спектакль. В белых декорациях, в белых костюмах четверо прекрасных актеров на изысканном и немного утрированном немецком языке играли два часа без перевода. В чистом виде — рациональный театр формы. На следующий день — нигерийский театр. Наивный, фольклорный спектакль, за которым, как за играми детей, с интересом подглядывала, иногда раскрыв рот от удивления. Но они и вовлекли в свои игры. Я, как и все, что-то кричала, хлопала, топала и т. д. Выплеск эмоций. Но вот странно: прошло время — нигерийцев я забыла, а в глазах стоит со всеми подробностями спектакль немцев: до того это, видимо, было прекрасно. От нашей страны без спектакля были Комиссаржевский и Завадский. Последний мне рассказал, что Эфрос будет ставить у них в театре по договору пьесу Радзинского и так, постепенно он (Завадский) подготовит после себя смену.
Я бы с удовольствием осталась до конца фестиваля, где, по слухам, на американском спектакле „Медицинское шоу“ актеры бьют зрителей дубинками, выражая этим вековую ненависть к публике, и с удовольствием даже приняла бы эти дубинки, потому что была бы в данном случае на стороне актеров, — но надо ехать на гастроли, и я, с самолета в самолет, очутилась вместо Сербии в Туркестане. Климат сего края жуток. Жар снедает, а пища груба, отчего живот мой пришел в плачевное состояние. Вот петрушка! — и сербияне едят остро, однако ж — ничего; воистину дым Отечества не всегда сладок бывает и приятен, а именно, когда это дым перегорелых шашлыков ташкентской выделки.
Даем мы здесь по два спектакля на день, да еще несть числа благотворительным концертам.
Землетрясение пошло на пользу Ташкенту — появились красивые дома.
Раиса Моисеевна! Простите за этот пижонский листок, который случайно оказался в чемодане, а в здешних магазинах и бумаги-то никакой нет, правда, может быть, не знаю, где искать.
Самарканд меня опечалил: как же рядом с такой красотой сегодняшние дома строят? Контраст ведь не только в архитектуре. И мы у себя в театре все новые Америки открываем. И гордимся этим! Воистину, знаменитая фраза Канариса о Гитлере — „Помешан на самом себе“ — никого бы сейчас не удивила, потому что ко всем относится.
Сейчас пишу Вам и думаю: что это меня на какой-то не свойственный мне стиль письма тянет, а потом разобралась — это я Вашему 19-му веку подсознательно подыгрываю („я даже ямбом подсюсюкну…“).
Засим у нас последует гастроль в Алма-Ате. И что согревает меня в трудные минуты и дает охладу разгоряченному уму и телу моему — так это першпектива махнуть после Алма-Аты в Ялту, ибо имею на то две недели вакаций. Ах, Ялта! Не было бы там дождей и штормов, а любовь моя к сему прекрасному уголку Тавриды пересилила бы и дорожные невзгоды, и неясность в смысле жилья, кою, впрочем, думаю решить, попросившись на постой в Литфонд.
Ах, кабы могла спросить Вас о предмете нового труда Вашего… Нет сомнения, что оный куда человечеству пользительней, нежели экзерсисы о недостойной моей особе!
Нет, серьезно, Раиса Моисеевна, о чем бы Вы теперь ни писали, в моем лице Вы найдете самого пристрастного читателя (хотите Вы этого или нет) и простите меня за баловство, ничего всерьез написать не могу, жара и усталость разморила. Вот ужо, вернувшись в Москву, ежели позволите… А может, дай Бог, и свидимся.
Засим Вам преданная и Вас уважающая остаюсь — Алла Демидова.
P.S. Письмо посылаю уже из Алма-Аты. Здесь все то же, только в отличие от Ташкента — холодно. Из моего окна, когда ясная погода, видны снежные горы. С утра от них очень светлое душевное состояние (по-моему, в Салермском кодексе здоровья 14-го века написано, что, если хочешь душевное равновесие сохранить — утром смотри на горы, а вечером на воды).
Как Вы думаете, Раиса Моисеевна, можно быть добрым пессимистом? Это я, тесно с моим коллективом пообщавшись, Вас спрашиваю.
Еще раз — всего Вам доброго. 05.10.1973».«Раиса Моисеевна!
Я знала, что Вы хворали, но все думала, что буду в Ленинграде и навещу Вас, да и звонила из Москвы несколько раз, но все как-то неудачно. А теперь сижу в Будапеште в кафе на какой-то площади (в Будапеште я уже десятый день, но не научилась выговаривать названия этих площадей), накрапывает дождь, воскресенье, венгры, как сытые голуби, воркуют на непонятном мне языке. Немного грустно и, как всегда, одиноко. Каждый вечер хожу в театры. Их тут 25. Последний так и называется „Театр-25“. Очень похож на „Таганку“ — такие же молодые и не очень талантливые ребята, но с поисками и претензиями. Театры в основном все одинаковые. Главное — везде замедленные ритмы, а я от этого физически страдаю. В одном театре весь вечер не высиживаю бегу в другой. Так за вечер успеваю посмотреть 2–3 спектакля. Но ужасные сонные ритмы сравнивают различия в этих спектаклях. Я тут по приглашению местного театрального общества, так что могу позволить себе это баловство. Ехать мне не хотелось, но поехала, чтобы не играть первые спектакли „Обмена“, чтобы меня не видела хотя бы критика. А так как играю я плохо, да и театр наш вроде бы едет в сентябре в Венгрию, то Любимов меня отпустил (охотно или нет — не знаю) как бы лазутчиком — проверить театральные настроения в Будапеште. Мы тут, видимо, пройдем (хотя языковой барьер ужасающий), потому что совсем нет режиссуры, кстати, может быть, поэтому есть много хороших актеров. Любимова собираются пригласить в ВИГ („Веселый театр“ — местный МХАТ) на постановку „10 дней…“. По-моему, он об этом еще не знает. Я везу для него письмо-приглашение.
Ах, Раиса Моисеевна, какой мне сейчас кофе подали! Такой я пила разве что в Дамаске, где даже стены домов пахнут кофе. Все-таки, видите, есть и у меня радости.
В начале мая я буду, видимо, в Ленинграде у Шустера[10] — раскажу Вам об „Обмене“. Любимов доволен, многие хвалят и даже в восторге… Но там нет ни одной актерской работы, а без этого, на мой взгляд, современного театра не может быть. Это вчерашний день, когда театр играл только в режиссуру. Хотя в спектакле есть прелестная третья картина — ностальгия по хорошим, воспитанным, культурным людям (что-то от Чехова). Мне очень приятно, что у Любимова это есть, жаль, что так мало. А впрочем, это для устного разговора, в письме все выглядит у меня очень уж примитивно — оценки по двухбалльной системе: „хорошо — плохо“.
Решила я Вам написать, как только вошла в номер и увидела прелестные конверты и бумагу в бюро, но тут же вспомнила, что не взяла Вашего адреса… Так что не удивляйтесь, если мое будапештское письмо Вы получите уже из Москвы.
Надеюсь, что к этому времени Вы уже будете здоровы. Вера Шитова мне сказала, что вроде бы Вы собирались в Ялту? Это хорошо и для Ваших легких необходимо. Вам бы вообще надо жить в Ялте весной и осенью. Там бы и работалось лучше — не было бы отвлекающих звонков и общений.
Мне пора. Бегу на „Записки сумасшедшего“ с Дарвашем в главной роли. Сейчас мне остается написать „25 числа, месяца не было и дня тоже“, и смутная ассоциация, возникшая у меня в голове, окажется законченной.
Всего доброго. Ваша Алла Демидова. 29.04.1976».«Раиса Моисеевна!
Пишу, как Вы понимаете, на гостиничной бумаге, из Лиона, в который мы вчера приехали. В Париже несколько раз порывалась Вам написать — не собралась. Париж закрутил. Лион после него кажется Рязанью. Захотелось домой.
Пресса была разная, я за ней не очень следила. Писали много, но все, по-моему, несерьезно. „10 дней…“ не приняли. Опять-таки, на мой взгляд, по поверхностным причинам. Интерес публики нарастал постепенно, и к концу можно было бы продолжить играть дальше, но мы переехали в Лион, потом — в Марсель. Посмотрела несколько хороших спектаклей. „Давид Копперфильд“ в театре Мнушкиной, но поставленный ее ассистентом, — очень чистый по стилю. И как всегда бывает в спектаклях, где прием задан вначале, — немного скучный. „Король Лир“ Стрелера (его театр в это время гастролировал в Париже) — очень красивый спектакль, но немного „воговский“ (не знаю, как пишется по-русски название журнала), вторичный. В коже, как у Питера Брука, но там это выглядело первичным. Очень милый спектакль „Печальное сердце английской кошки“ — в прелестных масках. По пластике получилось: кошки, собаки, птицы переоделись в человеческие платья и разыгрывают старый английский роман с тетями, дядями, любовью, дуэлью, смертью и разочарованием. Посмотрела арбузовскую пьесу „Пароход из Лиепаи“ (забыла, как А.Н. ее назвал по-русски. Пьеса на двоих. Два пожилых актера) в бульварном театре „Comedie Champs Elyssee“. Мелодрама. Играют в старой манере традиционного театра. Но публика, правда, буржуазная, принимает очень хорошо. Вообще я заметила, что зрители устали от условного театра и „психоложества“ и все наивное, простое, немного детское, принимают очень хорошо.
Ходила по улицам, сидела в кафе, встречалась с людьми, совершенно разными, которые ничем между собой не смешиваются. Но интеллигенты во всех странах мира одинаковые и их дома тоже. Один вечер провела с Ниной Тихоновой.[11] Несколько раз — с Вашими родственниками. Нора подарила мне кучу вещей. В кино была мало — не хотелось, но видела 3–4 приличных фильма. Хороший кинематограф сейчас, мне кажется, несколько топчется на месте и в тупике — нужны другие выразительные средства. Сейчас все на уровне „хуже лучше“.
Раиса Моисеевна, что-то не пишется. Простите. Когда в хорошем настроении — бегаю, общаюсь, смотрю; когда в плохом — не до письма. Ехать мне не хотелось, Вы знаете. Во многом оказалась права…
Алла Демидова 30.11.1977».ЗЕРКАЛЬНОЕ ОТРАЖЕНИЕ: КРИТИКА И ЗРИТЕЛИ
Критиков я отношу к публике — они тоже по другую сторону рампы. Критики… можно понять их изначальную ко мне недоброжелательность — уж больно я самостоятельна, ушла из «Таганки», но все время мелькаю то в прессе, то на ТВ…
Все же меня несколько удивило отношение к «Медее», которую я сыграла на II Чеховском фестивале. Один очень уважаемый мною искусствовед написал, посмотрев «Медею», что ему не хватило эмоционального пика, после которого должна пойти слеза. Но ведь это «Медея», переложенная Хайнером Мюллером на сухой, интеллектуальный европейский язык! Вначале я это очень хорошо чувствовала и играла «сухо». Запад любит «сухую» игру, сдержанность чувств, они не признают нашу «мокрую эмоциональность». Но русская публика обязательно требует эмоциональности. Это откладывается в моем подсознании, и я, понимая все про критиков и про наши «домашние» оценки, вдруг начинаю играть Медею очень слезливо, очень по-русски. На гастролях по России это воспринимают хорошо, но когда потом возвращаешься в Европу — взглянешь на себя со стороны и ужаснешься…
Я давно уже не играю в привычный психологический театр. Меня в театре интересует другое. В каждой новой работе я пытаюсь открыть для себя что-то неведомое, доселе никем не использованное. «Медея», например, — это ведь не материал Еврипида — другой язык (уличный, площадной), другое дыхание, другие ритмы. Мюллера обычно играют в современных костюмах. Я пошла по другому пути. Мы ведь недаром посвятили спектакль Сергею Параджанову, одно его имя уже означает определенную эстетику. Но никто из русской критики этого не увидел. Впрочем, может быть, потому, что у нас до меня никто никогда не играл Мюллера…
Обычно я, как исполнитель, уже после первого прогона на публике вижу собственные просчеты, но у меня теплится надежда, что, может быть, они не заметны для зрителя — так иногда бывает. И только после нескольких замечаний моих друзей, которые не брезгуют мне говорить правду, я понимаю, что ошибки надо исправлять, пока не поздно. После таких критических указаний, которые сделали другие, яснее видишь собственные огрехи, и яснее вырисовывается перед тобой образ, который играешь.
В критических же заметках, которые пишутся на публику, таких указаний на свой счет я почти не встречала не потому, что критики не видели моих ошибок. Но они пишут обо всем спектакле в целом и актерам раздают только оценки.
Если ты, актер, не знаешь своих недостатков, ты не сможешь от них избавиться. Я люблю критику недоброжелателей, она мне приносит пользу, потому что у недоброжелателей острее на меня взгляд.
Критика… Публика… Темы, опасные для актера. Высказываться здесь надо очень осторожно. А то, не ровен час, и сглазить можно. Легче всего в этих вопросах опираться на авторитеты. Ну, например, есть прекрасная статья Цветаевой о критике, где она пишет, что, мол, не объясняй мне, что хотела сказать я, а расскажи, что понял из сказанного мною ты. Из этой статьи можно бы надергать много милых моему сердцу цитат. Воздержусь. Но приведу другую, из письма Гоголя к Щепкину: «Вы помните, что публика почти то же, что застенчивая и неопытная кошка, которая до тех пор, пока ее, взявши за уши, не натолчешь мордою в соус и покамест этот соус не вымазал ей и носа и губ, она до тех пор не станет есть соуса, каких ни читай ей наставлений».
«Зал хороший?» — очень часто спрашивают актеры, выходящие на сцену позже остальных.
Без публики нет театра. Нет актера.
Мы все от нее зависим. Поэтому у меня к публике такие завышенные требования.
Я говорю о публике, а не об отдельном зрителе. Ведь в зале обязательно сидит тот особый, тонкий, умный судья, о котором мечтаешь и которого высматриваешь в щелочку занавеса перед началом спектакля.
Помню, как на Чеховском фестивале Някрошюс показал свои «Три сестры». Спектакль мне очень понравился своими неожиданными находками, новым прочтением знакомого чеховского текста. Я сидела молча, а рядом одна зрительница плакала, потому что ей было жалко молоденьких девушек, вынужденных жить всю жизнь в казармах и тем не менее радующихся жизни, а другая моя соседка смеялась именно там, где первая плакала.
Я лично боюсь и слишком молчаливого зрителя, и слишком шумно реагирующего.
Много лет назад я сидела рядом с Ильёй Эренбургом на капустнике в Московском университете. Зал стонал и плакал от смеха. Эренбург без единой улыбки, молча, просидел весь спектакль, а в конце сказал, что он никогда в жизни так не смеялся, как сегодня.
Спектакль зрителю нравится, когда он встречает в театре собственные чувства и мысли. Сопереживание увиденному — это первая ступень восприятия искусства. Высшая ступень — катарсис, очищение, разрешение от внутренних конфликтов. Но к такому результату можно прийти, только активно включаясь в происходящее на сцене.
На том же Чеховском фестивале я посмотрела «Дневник Нижинского» с прекрасной актерской работой Реджипа Митровицы. Все полтора часа спектакля Митровица сидит за столом, ни разу не вставая и не меняя мизансцену, и говорит текст на французском языке без перевода. Публика в зале была разная. Зрители, которые привыкли воспринимать театр ухом, на уровне сюжета, уходили; те, которые любят в театре «картинки» — световые эффекты, смену декораций и перемену мизансцен, тоже уходили. Ни тем, ни другим спектакль ничего не давал: статичная мизансцена, один свет на весь спектакль и вдобавок незнакомый текст на чужом языке. Остались зрители, которые остро чувствуют внутреннюю концентрацию актерской игры, которые способны воспринимать театральное искусство на энергетическом уровне.
Когда входишь в комнату, где сидят незнакомые люди, одни тебе нравятся, к другим остаешься равнодушной, а третьих невозможно вынести просто на физиологическом уровне — они раздражают.
Точно такая же связь существует между зрителем и актером. Поле натяжения.
Термин «биополе» появился в нашем языке недавно, но как явление в театре существовал всегда. Актер передает зрителю и свое биополе, которое зависит от многих факторов, и биополе своего персонажа. В спектакле о Нижинском Митровица гениально передавал минимальными внешними средствами самые тонкие и глубокие переживания, психические взлеты и падения своего персонажа.
Плохой зритель — очень упрямый зритель. Он не гибок и не участвует в сотворчестве. Откуда такая инертность? Ведь ты уже купил билет, оделся, поехал, пришел в театр — для чего? Пассивно сидеть и глядеть на сцену? Тебе не жалко своего времени? Сделай небольшое усилие — активней включись в происходящее, и ты получишь наслаждение. Без твоей работы театр умирает, ты уйдешь со спектакля недовольный, а актеры вернутся домой раздраженные, нервные, неудовлетворенные.
Я люблю ходить в театр как зритель. Причем мне кажется, я очень благодарный зритель. В первую очередь реагирую, конечно, на игру. Люблю, когда актер «в образе» импровизирует, когда он свободен.
Люблю неожиданные решения классических пьес. Нравились «гоголевские» поиски Мирзоева — поиски нового языка и нового поворота привычных пьес.
Я не отношусь к поклонникам Штайна, мне не близок его натуралистический подход к Чехову (Чехов — символист, к нему надо подходить как к большой поэзии!), но его «Дядя Ваня» с итальянскими актерами — прелестной Соней и неожиданным дядей Ваней — мне понравился, я подумала: «Тут бы я хотела играть». О том же думала на ефремовских «Трех сестрах». В этом спектакле была какая-то чеховская нота и та ансамблевость, которая так редка в нынешнем русском театре.
Недавно понравился балет «Братья Карамазовы» в постановке Бориса Эйфмана. Многие критики писали, что это кич, а не Достоевский. Но если хотите читать Достоевского — ложитесь на диван и читайте! У Эйфмана столько театрально-постановочных находок, что, если бы хоть одна из них мелькнула в каком-то драматическом спектакле, критики зашлись бы от восторга.
Нравится, когда хорошо играют на чужом языке. Моя мечта — сыграть «Вишневый сад», где все говорили бы на разных языках, чтобы языковая мелодия окрашивала характер. Ну, например, Гаева играл бы итальянец, Лопахина немец, Петя с Аней — французы, а Раневская, конечно, русская. Но для такого спектакля нельзя набрать студентов или молодых актеров — нужен конкурс, нужен режиссер, точно знающий, чего он хочет. Так работает, например, Боб Уилсон. Он, по-моему, может все.
Недавно я столкнулась с Бобом Уилсоном в работе. Мы выбрали для постановки «Записки сумасшедшего» Гоголя. Работа возникла неожиданно. Любимов восстановил «Доброго человека из Сезуана» и на юбилее Театра на Таганке попросил сыграть меня мою старую роль — мать Янг Суна. На спектакле был Боб Уилсон. На банкете он подошел ко мне и предложил работать вместе. «Над чем?» — спросила я. «Ну, например, „Гамлет“, — ответил Уилсон, — у меня есть готовый моноспектакль, где я играю Гамлета. Если хотите, я вам его подарю». Я не согласилась, потому что видела этот спектакль, основная его идея — отношение Гамлета к матери и Офелии, рисунок роли сделан явно для мужчины. «Тогда, если хотите, Орландо», — продолжал Уилсон. И опять я не согласилась, потому что видела эту его постановку в «Шаубюне» с прекрасной Юттой Лампер, знала, что он делал «Орландо» и для Изабель Юппер во Франции, и не хотела идти по проторенной дороге. Тогда я предложила Гоголя. Что такое сумасшествие на сцене? Когда Офелия сходит с ума, мы, зрители, ведь только отмечаем, хорошо играет актриса или нет. А когда актриса решает, что она Гоголь и пишет (играет) на сцене «Записки сумасшедшего», — это уже близко к помешательству. Меньше всего мне хотелось бы играть Поприщина, но раскрыть тему сумасшествия России, по-моему, очень интересно. В музыке это есть, например у Скрябина. Но как решить эту задачу театральными средствами вопрос. Уилсон уехал, прочитал Гоголя и прислал мне по факсу красивую графичную записку, которую не худо бы повесить на стену. Один критик, кстати, узнав, что Боб Уилсон хочет репетировать со мной, написал, что он выбрал в России самую западную актрису и лучше, мол, выбрал бы кого-нибудь из психологического театра. Но дело в том, что Уилсон никогда не работал в психологической манере и не любит этого направления. Здесь наши вкусы совпали.
Так работал и Стрелер — его спектакли я очень люблю, хотя последние годы видно было, что этот мастер уже открыл для себя все законы. А в искусстве важно «идти туда, не знаю куда». Но без профессионализма это не интересно, а он возможен только после сорока. Но после сорока, из-за идиотской жизни, в наших душах — усталость. Нет сил на поиск.
А что касается критики… Существует вечная конфронтация между художником и критиком. Некоторые актеры открыто заявляют о своей ненависти к критикам. У меня такого чувства нет. Но я редко читаю критику в свой адрес (в других странах — тоже не читаю) — ничего нового там для себя не нахожу. У нас разные отправные точки. Актер вначале стоит в центре круга, он видит все возможности выбираемых путей, наконец, он выбирает одну дорогу и идет по ней. Критик же видит результат, не догадываясь о первоначальных перепутьях.
Забавно пишет про критику в «Веере герцогини» Мандельштам, вспоминая Пруста. Он пишет, что у Пруста какая-то высокая герцогиня, не то бурбонских, не то брабантских кровей приезжает к своей бедной родственнице, у которой были какие-то изъяны в гербе, послушать музыку. Играли Шопена. Причем прекрасно. Все дамы своими веерами отбивали в такт музыке, а герцогиня отбивала вразнобой, чтобы не быть как все, хотя ей музыка нравилась.
Часто же наша критика «отбивает такт» вразнобой не из независимости, а просто не слушая или не понимая «музыку».
* * *
Мне кажется, что публика во всех странах одинакова. Она делится натри слоя. Элита, которая воспринимает театр профессионально, она бывает на фестивалях и премьерах. Эту публику я обожаю, потому что на ней видны собственные ошибки и клише.
Публика средняя. Любит театр, знает, на кого идет, знает пьесу и разные ее прочтения, но не очень понимает направление театрального искусства. Поэтому то, что дает сильный импульс для людей искусства, средним слоем не воспринимается. Хотя это публика неплохая. Она обкатывает любимые спектакли, как волна обкатывает камни.
Третья публика. Они приходят развлечься, а им показывают «Гамлета». Они раздражаются, ничего не понимают, хлопают дверьми и т. д.
Как правило, ход спектакля зависит от процентного соотношения того или иного слоя.
Гастроли, к счастью, посещает преимущественно элита, поэтому мы актеры «Таганки» — были избалованы успехом и вниманием. Гастроли — это еще и обновление, очищение спектаклей, а не только коммерческая выгода, как часто считают со стороны. Спектакли у нас идут по многу лет, критики не ходят на постановки двадцатилетней давности, и актерам кажется, что спектакль так же хорош, как раньше, потому что они получают такие же комплименты, что и бывало, те же аплодисменты, столько же раз выходят кланяться. И вот по поводу спектакля, который до сих пор в Москве шел благополучно, где-нибудь в Штутгарте получаем рецензию, что мы привезли, мол, «вчерашнее подогретое рагу». Это, конечно, отрезвляет. Хотя есть актеры, которые ничего подобного не чувствуют и по-прежнему пребывают в полной эйфории. Впрочем, я заметила, что актеры без критического отношения к себе остаются на том уровне, на котором их настигла эта болезнь.
Театр — это тайна, иллюзия, которую хочется вечно разгадывать публике, но эту тайну надо и создавать. Если тайна разгадана или если эту иллюзию никто не создавал — публика в театр не пойдет. Вспомните: раньше, когда сцена была закрыта занавесом, жизнь закулисная, актерская манила, казалась тайной. Постепенно это стало разбалтываться, всякими интервью — в частности. Публика стала считать: там все то же самое, что и у нее. Никаких секретов. Совершенно забывают, что сама эта профессия — уже тайна.
Если проследить по истории, пик театра всегда совпадает с пиком общества. Общества как коллектива, товарищества, соборности. Но постепенно мы стали «индивидуализироваться». Сейчас этот процесс, по сути, завершился. От коллективного мышления, бараньего, стадного, человек отходит. И потому театр как выразитель коллективного мышления человека перестает интересовать. Ему нужен другой театр, который давно уже должен был у нас родиться, — театр духа, театр монодрамы, проникающий в тайники души. И, кстати, к этому был вполне готов наш русский театр. Но режиссура 60-х годов не упускала своих достижений, не хотела отойти от принципов коллективного, массового театра, массовых зрелищ, политических идей.
Всем надоела формула, что театр живет циклами — это известно уже как трафарет, но тем не менее это так. Как человек: рождение, пик зрелости, умирание. И если театр — живой организм, а не мертвый со своими закостеневшими традициями, он тоже проходит эти циклы. Другое дело, что театр — это еще и птица Феникс, которая умирает и возрождается.
Например, «Таганка».
Середина 60-х годов: игра формы, фронтальные мизансцены, необычные световые решения, отсутствие привычной драматургии, публицистика, эпатаж привычного, кинематографический монтаж сцен и т. д. — то, что коротко называлось «Таганкой», и люди на это шли.
В конце 60-х — начале 70-х, когда общество стало заниматься самоанализом, на первый план вышло слово. То, о чем люди читали в самиздате, о чем говорили друг другу на кухнях, на «Таганке» звучало вслух со сцены. Ничего особенно нового в этом не было, но слово, произнесенное со сцены, становится общественным явлением. И поэтому «Таганка» как бы приняла эстафету «Нового мира» времен Твардовского, стала общественной трибуной.
Но когда эти слова уже были сказаны, когда они стали третьей и четвертой волной, когда в Москве говорили «ГУМ, ЦУМ и Театр на Таганке» (то есть «достопримечательности для приезжих»), вот тогда, вспомнив слова Гамлета, надо было повернуть «глаза зрачками в душу». Но «Таганка» шла по своей прежней накатанной колее.
Тогда уже возник невидимый снаружи, внутренний конфликт с Любимовым, когда он жаловался на нас, на актеров…
Внутри уже ощущалось приближение болезни, у которой еще нет диагноза. И разразилась катастрофа. Смерть Высоцкого как бы прорвала эту тайную болезнь, конфликт увиделся воочию. После этого — запреты «Бориса Годунова», «Высоцкого», эмиграция Любимова. И пошли все наши беды.
Приход Анатолия Эфроса — трагическая его ошибка, за которую он расплатился жизнью.
Далее — период смутного времени, приход Губенко.
Возвращение Любимова. Естественная радость и надежда, что он принесет нам то, что он за пять лет взял у Запада, — сценическую западную культуру, западные реакции.
Любимов возобновил (точнее, прошелся рукой мастера) «Бориса Годунова», «Высоцкого», «Живаго» и поставил два новых спектакля «Пир во время чумы» Пушкина и «Самоубийцу» Эрдмана.
И началась другая история «Таганки», которую я уже мало знаю.
ИЗ ПИСЬМА К N
…С Любимовым мы встречаемся на гастролях. Возим в основном «Бориса Годунова». Идет этот спектакль хорошо — это неожиданно для западного театра, и, кроме того, люди хотят посмотреть, как играет министр культуры.
Сейчас Любимову предложили интересную работу с нашим театром — в 1992 году на фестивале в Греции поставить «Электру». Юрий Петрович поручил мне выбрать, какую именно «Электру» нам готовить. Я советовалась со специалистами, с Аверинцевым и другими, решили избрать «Электру» Софокла, а перевод — Зелинского. Но ведь Юрий Петрович далеко, его нет в Москве, а кто-то должен «разминать» спектакль, как это было, скажем, с «Борисом Годуновым», который почти до конца готовил перед приездом Любимова Анатолий Васильев.
Но человек все равно живет надеждой, даже при смертельной болезни. И у меня есть надежда на возрождение «Таганки». Слишком много вложено в нее энергии, талантов, человеческих судеб и поисков, разочарований, драм, трагедий, чтобы это просто ушло в песок.
Я смотрю на нашу труппу. Актеры живые, они не удовлетворены, а рядом с неудовлетворенностью собой всегда есть нечто, похожее на идеал, — то, к чему стремишься. А это уже надежда. Ну хотя бы один пример: гоголевский «Ревизор» с Петренко — Городничим и Золотухиным Хлестаковым — вот уже была бы «Таганка», таганская школа игры на оголенном нерве. И даже неважно, какой именно режиссер поставил бы этот спектакль.
Сейчас сама атмосфера требует прихода новых режиссерских сил. Но, увы! Любимов не очень склонен к этому. Вот пример, на нынешний театральный фестиваль «Битеф» в Югославии были приглашены от Советского Союза два спектакля: «Борис Годунов» и «Федра», которую поставил на «Таганке» Роман Виктюк. Любимов запретил, поедет один «Годунов».
Помню, в 1975 году на тот же «Битеф» были приглашены тоже два спектакля «Гамлет» Любимова и «Вишневый сад» Эфроса. Любимов не согласился. Правда, потом «Вишневый сад» все-таки был показан и получил Гран-при. Так что справедливость в итоге торжествует, но хотелось бы, чтобы она побеждала как-то легче и быстрее.
Мы сейчас переживаем оздоровление, мы «вправляемся». У нас начинают открываться глаза. Обратившись к собственной душе, человек понял, что он всего лишь песчинка в огромном космосе. Но у каждого человека есть своя ниша, найти собственную нишу в огромном мироздании — вот цель. Но при этом в вопросах судьбы я — фаталист. Я считаю, что каждому предопределена своя программа, и ее нельзя ломать, это чревато трагедией. Быть верным собственной судьбе, найти свою нишу в мире… Декабрь 1991 года
ВИД ИЗ ОКНА АНАТОЛИЯ СЛЕПЫШЕВА
Новое в искусстве всегда воспринимается с трудом и не сразу. Все непривычное вызывает непонимание, а непонимание — раздражение. Не принимают иногда с одинаковой силой и невежды, и профессионалы. Общеизвестно, как Хрущев кричал на художников в Манеже 1 декабря 1962 года: «Осел хвостом может лучше…»
А еще раньше один прекрасный профессионал не понял и не принял другого — Вебер о 7-й симфонии Бетховена говорил: «Экстравагантность этого гения дошла теперь до крайности; Бетховен теперь совершенно созрел для сумасшедшего дома». Но, видимо, так было и будет во все времена: Лев Толстой считал Шекспира плохим драматургом, а самого Толстого не любил Тургенев.
В 1974 году в Измайлово на картины художников, вынужденных выставлять свои работы под открытым небом, пошли бульдозеры. Так теперь и зовут те выставки середины 70-х — «бульдозерными».
Хороших и разных по направлению художников в то время было много. Они хотели выставляться, хотели найти своего зрителя, иногда им удавалось «пробить» какой-нибудь подвал и устроить там выставку, на которую шла «вся Москва». Но в основном работы их можно было увидеть у них же в мастерских, тоже запрятанных на чердаках и в подвалах…
Много лет назад, в Афинах, я была в гостях у знаменитого коллекционера Костаки. Он был уже смертельно болен. Но его дочь Лиля показала мне их галерею (теперь, к сожалению, не существующую), которая была буквально набита живописью прекрасных художников-«лианозовцев»: Краснопевцева, Рабина, Целкова, Купера, Штернберга… В комнате самого Костаки висело всего три картины — это был Слепышев.
С Толей Слепышевым меня в свое время познакомил Эдисон Денисов. И я стала часто бывать в маленькой темной мастерской художника в бывших складских помещениях за ГУМом. Водила туда своих друзей.
Слепышева покупали в основном иностранцы, рано распознавшие, что приобретать, что нет. А когда в 1989 году его работы были проданы на московском Сотбисе, Слепышева начали покупать и Третьяковская галерея, и Русский музей, музеи Германии, Америки, Греции. Его картины есть у Бориса Ельцина, Франсуа Миттерана, Бельмондо, Рязанова, Эдисона Денисова, Катрин Денев, которая, кстати, записала в книге отзывов на парижской выставке: «Слепышев — великий художник. В его работах — сочетание трагедии и радости, что, возможно, и есть суть русской души».
О Слепышеве я слышала разные, иногда противоречивые мнения. У меня дома висят несколько его работ, они спокойно уживаются рядом с Фальком, Тышлером, Шухеевым, Нестеровым, Биргером, Эрнстом Неизвестным.
Сам художник с виду под стать своей маленькой темной мастерской: походит то ли на парижского клошара, то ли на нашего забулдыгу (да простит мне Толя это сравнение). И на картинах его наша немудрящая жизнь: расхлябанная дорожная колея, пьяные мужики и бабы, покосившиеся новостройки, продуваемое ветрами пространство и бесконечное небо. Но такими чистыми и яркими красками все это изображено, таким незамутненным взором увидено. Живописец!
В последние годы я заметила, что Слепышев стал обращаться к библейским сюжетам. О том, что они библейские, догадываешься лишь по их атмосфере, ибо на картинах все те же мужики и бабы, которые живут рядом — пашут землю, ловят рыбу, пьют, едят, любят.
— Толя, как Вы выбираете сюжеты, как они Вам приходят в голову?
— А как поэту приходят сюжеты? Когда человек постоянно пишет, сюжет возникает сам по себе. Как-то летом на даче я читал книжку про Мане. Обычно эту искусствоведческую лабудень я не люблю, а тут, случайно открыв книгу, понял — нравится. И в ней я наткнулся на сюжет — Христос с учениками в тюрьме. Ученики моют ему ноги. Я подумал: в любые времена любому начальнику подчиненные, выражаясь фигурально, мыли ноги. В тюрьмах пахану тоже моют ноги. В каждой организации пахану моют ноги. Так у меня возник сюжет к картине «Омовение ног». Однако прошло три года, прежде чем я написал саму картину. Или — «Очередь за молоком». На той же даче я ходил за молоком для своей маленькой дочки. И вдруг однажды на обычную ситуацию посмотрел другими глазами: увидел нашего продавца одноглазым кровожадным пиратом. Почему я проходил мимо этого сюжета? Я обрадовался. Но когда стал компоновать картину — намучился. И тоже прошло года три. Дома, когда делать нечего, я постоянно рисую. Бесконечно. В день по 40 рисунков. И когда понимаю, что что-то есть, переношу этот рисунок на большой листок и, если получается, на холст. В год возникает приблизительно 2–3 сюжета. Пишу каждый день одни и те же. Меня всегда в них что-то не устраивает. Но если понимаю, что получилось здорово — больше к этому сюжету не возвращаюсь.
— К каким сюжетам Вам не хотелось бы возвращаться?
— А черт его знает! Не помню. Вот, например, у меня есть много картин на тему «Тайная вечеря». А мне все равно не нравится. Попробовал одно состояние — не нравится, другое — тоже. Попробовал вывести на первый план женщину — плохо.
Раньше какой-нибудь Репин или Серов работали одну картину несколько лет. «Утро стрелецкой казни», например. А сейчас мы занимаемся экспромтами. Много технологических эффектов. Абстрактный абстракционизм. Корни — в японской культуре. Ну что такое Матисс? Это знак. Кажется, хулиганство, а ведь невозможно повторить. Все строится на точности знака.
— Но знак же легко повторить.
— Нет. Не будет нерва первооткрывательства. Можно стихи написать под Ахматову, но Ахматовой там не будет, потому что у Ахматовой за строчками вся ее жизнь.
— Но в живописи, говорят, можно написать подделку, которую даже опытный эксперт примет за подлинник.
— Эксперты ошибаются. Им выгодно, поэтому они и ошибаются. Художник никогда не ошибется: подлинная это вещь или подделка…
Можно рисовать Бога и путь на Голгофу и остаться салонным художником, а можно рисовать пьяных баб и краснолицых мужиков и быть на служении Духа. Ведь живопись — не только отображение визуального интереса к миру, даже если художник говорит своим полотном: посмотрите, какой красивый закат, какое красивое дерево или какое удивительное лицо. Хорошая живопись прежде всего некое отражение основных проблем духовной жизни человека. Я заметила: почти все хорошие художники любят «философствовать», и почти всегда в их теориях есть своя стройная система, свое гармоничное обоснование мира и жизни. Во всяком случае, в любом произведении искусства главное — концепция, идея. И убеждение, что именно эту идею до тебя никто так и не претворял в жизнь.
Готовая картина — трансформация чувств и идей; рука, кисть или карандаш — проводник этих чувств и идей. Форма как средство, а не как цель. Цель — выразить свое мировоззрение, которое проходит через все творчество, через все картины, пишет ли худжник просто дерево, или пьяную драку, или «Тайную вечерю».
Картины Слепышева иногда кажутся незаконченными. У меня дома есть его «Охота». На переднем плане быстрыми мазками летит в беге борзая. На заднем крадущиеся фигурки охотников, а между ними — огромное серое пространство, которое дает ощущение бесконечности, хотя картина сама по себе небольшая. Кажется, что художнику просто надоело возиться и с собакой, и с деревьями, и с людьми, и он от нетерпения замазал серой краской середину холста. Может быть… Но нам — зрителям — ясна не только мысль о бесконечности пространства, заложенная в картине, но виден и сам процесс мышления, а главное — созидания этой работы. Мне кажется, стремление вовлечь зрителя в творческий процесс, сделать его соавтором — одна из основных черт современного искусства.
Все сюжетные композиции Слепышева находятся в действии. Вот мужичонка в расхлябанной телеге уезжает от беременной жены. И лошадь, и телега, и сам мужичонка проработаны, вернее — не проработаны одним коричневым цветом. На белом холсте — зыбкая фигура женщины, чахлое дерево и кусок земли, дающий ощущение всего земного шара. Все зыбко и противоречиво, хотя все — в гармонии одного мазка, одного замысла. Или другая картина: лунный свет, дерево, женщины, пасущаяся невдалеке лошадь. Опять много белого, непроработанного холста, но спокойствие лунного света и лежащих под деревом женщин — динамично, ибо и здесь мы видим, что все: и дерево, и лунный свет, и женские фигуры, и лошадь, — с одной стороны, слито в гармонии, а с другой — существует отдельно, внутренне борется друг с другом.
В картинах Слепышева не может быть застывшего состояния. Все в движении и противоборстве. Летающие мужики в других его работах — никак не напоминают персонажей Шагала. У Слепышева в этом полете заложена ярость противоборства со стихией и с собой.
— Толя, что, по-вашему, самое главное в мастерстве?
— Когда не видно трудностей, не видно узелков, когда двумя-тремя фразами, интонацией, впечатлением передается суть. Чем больше художник, тем больше информация, а форма может быть при этом простейшей.
— Вы быстро пишете?
— Да, быстро. Делаю очень много вариантов. Вот «Распятие» — тоже долго возился с этим сюжетом. Сейчас перед вами последний вариант, и он мне пока нравится.
— Чем?
— Пространством. Я попытался сделать объем. Вроде бы традиционные вещи, но ход другой. Все как будто небрежно, аляповато, наспех, но есть состояние. Виден технологический процесс, краска как бы живая… Я не хочу добиваться пространства или объема школьными методами. Пространство у меня дает только цвет. Все должно быть на плоскости, глубина — за счет окраски пятна.
— Когда Вы писали этот вариант «Распятия», Вы входили во внутреннее состояние персонажей, как это делают актеры или писатели?
— Нет. Меня прежде всего интересовало столкновение чувств — ведь люди присутствуют при казни. Обратите внимание, какой тупой сверху красный цвет. Здесь нет ничего случайного, ни одного мазка. Вот, например, на переднем плане — белый мазок: уберите его — и все развалится. Хотя, конечно, думать об этом не надо. Вы же не думаете о дикции, читая «Реквием»…
Я не всегда согласна со Слепышевым, когда мы говорим с ним о кино, театре или живописи, но беседовать с ним люблю. Он бывает в курсе почти всех событий в искусстве. До знакомства с ним я часто видела его на концертах, тогда еще редких, так называемых «авангардных» композиторов — Эдисона Денисова, Альфреда Шнитке, Сони Губайдуллиной. И хоть часто он бывает пристрастен, оценки его очень точны, он откликается на все новое в искусстве. В этом смысле у него безошибочный вкус. Внутреннее чутье. Он любит показывать свои работы людям, творчество которых он ценит.
Каждый человек смотрит на мир по-своему. И если удается рассказать об этом людям, показать мир через Свое Окно, — это и есть свойство таланта. Картины Слепышева очень эмоциональны, хотя в жизни он, по-моему, очень спокойный человек, всегда ровен. Я заметила, что большие художники, большие музыканты или актеры, то есть люди, одаренные тонким чувством меры, верным вкусом, ясным умом и хорошим воображением, как правило, в жизни очень устойчивы в своих эмоциональных проявлениях. Переживаем мы, зрители, а они, своим талантом провоцируя наши чувства, только наблюдают и изучают. Может быть, я заблуждаюсь, но, глядя на картины Слепышева — и ранние, и поздние, невозможно заметить ничего мелкого, суетного. Он смотрит на мир спокойно и ясно.
— Толя, я не вижу разницы между Вашими ранними и поздними работами.
— В ранних есть обаяние задиристости, непосредственности. Сейчас я более сухой, делаю то, что запрограммировано. Нет случайности. Раньше я писал и смотрел, что получится, и удачное брал на вооружение. Я не был противником шаблона. Шаблон, доведенный до мастерства, — это уже канон. Сейчас шаблонов у меня меньше, больше доверяю мастерству.
— Ваш евангельский сюжет — это канон?
— Любой сюжет — повод рассказать про сегодняшнюю жизнь. Что такое крестный ход? Канон? Да. Но это жизнь, связанная с насилием, жестокостью, искуплением. Для меня крестный ход — это когда берут человека и волокут его убивать. Я не видел, как Сталин расстреливал миллионы, но я видел другое, у меня в «Крестном ходе» — современные люди. Меня интересует борьба чувств, ведь не все же одинаково реагируют на насилие, тем более такое! Иногда художник пишет тот же «Крестный ход», и все у него есть — и мастерство, и сюжет, а искусства нет. Я много преподавал после института: сразу видно, хорош рисунок или плох. Иногда просто случайно тронул кистью — а уже искусство.
— Что такое искусство?
— Это таинство. Художник создает еще одну жизнь. Как Бог. Деревья — что такое? Жизнь! Заставить волноваться при соприкосновении с тем, что ты сделал, — в этом искусство.
Я записываю за Слепышевым его ответы на мои, иногда провокационные вопросы, а в это время Толя показывает мне и моим друзьям свои картины одну задругой… Поток мирового пространства, куда вовлечено все сущее: звери, деревья, люди. Все завихрено мировым ураганом — от этого картины так динамичны. Чувственность и мысль неразрывно связаны. Сновидческое, наивное, детское сознание. Плоть, которую он изображает, груба и примитивна, но насилие, присутствующее в его сюжетах, неагрессивно, как нет агрессии в скульптурных древнегреческих портретах, даже если изображен поединок двух воинов. Нет насилия над духом.
— Толя, Вы человек добрый?
— Незловредный.
— Можно житейский вопрос?
— Давайте. Вот тут я точно навру.
— У Вас не было ощущения, что Вам надо сменить быт, мастерскую и от этого, может быть, в работе пойдет что-то другое?
— Я был в Париже недавно. Два месяца. Жил как Бог. Но я там не нужен. В Крыму, в Никитском саду, — тоже красиво, но я не ботаник. Здорово, но не мое. Много красивых женщин, но я тут при чем? На Западе нужен дизайн. Искусство там не нужно.
— А нам нужно?
— Но мы же изголодались по настоящему искусству! Вот была выставка Малевича — толпы. Ничего не понимают, а идут!
— Если у Вас такое пренебрежение к зрителям, кому Вы хотите показывать Ваши картины?
— Тем, кому они интересны. Я ведь иногда на свои картины смотрю глазами зрителя. Когда один скажет «хорошо» — я ему не верю: мол, много ты понимаешь! А когда уже много людей скажут «хорошо» про одну и ту же вещь — я начинаю смотреть на нее по-другому.
— Вы легко расстаетесь со своими работами?
— С удовольствием.
— А когда встречаете их вновь?
— Очень нравятся
— Толя, Вы скромный человек?
— Не бывает художников скромных. Они могут страдать, сомневаться, терзаться. Самоутверждение — в сравнении. Вы-то сами про себя все знаете, кто бы что ни говорил…
И все-таки несколько лет назад, вместе с женой и дочерью, Слепышев уехал в Париж. Пробыл он там шесть лет. Дела у него шли хорошо: были выставки, картины покупались. Дочь училась в Парижской Академии художеств.
Летом 1992 года я по своим делам была в Париже и, конечно, сразу же позвонила Слепышеву. Мы сговорились встретиться. Долго перезванивались, как найти мастерскую — она далеко. Наконец, поскольку у меня была машина и я за рулем, я в проливной дождь заехала за Толей, и вместе с ним мы поехали в его мастерскую. В этом доме — мастерские многих художников. Комната небольшая и, по погоде, пасмурная. Толя показывает свои новые работы. Манера письма изменилась, да и сам он другой: без бороды, лицо жесткое, энергичное. А картины, наоборот, потеряли тот неповторимый, энергичный слепышевский мазок, стали как будто более реалистичными. Вокруг реалистичного пейзажа или сюжетной сценки появилась нарисованная рамка. Раньше его работы в рамках не нуждались, рамой была стена, на которой они висели, их обрамляло пространство…
— Толя, зачем эти рамки?
— Нужно оформление для широкого, разбросанного, экспрессивного. Нужны границы. С этими рамками получается две энергии: рамка — безрассудная, бессюжетная, а внутри — мой сюжет.
Сюжеты у Слепышева те же, русские: лес, река, лошадь, бабы, мужики. Рамка — западная, а-ля живопись Поллока например. Иногда рамка белая, чистый холст. При этом светлые, почти белые сюжеты — очень красиво. По белому полю рамок иногда идут подписи. Сюжеты часто напоминают старые, стершиеся византийские фрески. Отара овец — явно библейский сюжет. Ни в России, ни во Франции таких нет. Порой на одном холсте расположены три сюжета: например, справа Кремль и Василий Блаженный, слева — безымянная церковь, а посередине — бульвар, люди на нем, а на лошади дама в длинном розовом платье. И на белом фоне рамки — черная подпись из Ахматовой:
Не повторяй — душа твоя богата — Того, что было сказано когда-то, Но, может быть, поэзия сама — Одна великолепная цитата.— Толя, мне кажется, Вы пытаетесь соединить несоединимое: тому, кто любит абстрактные полотна Поллока, не нужны Ваши сюжеты, а кто любит реализм в живописи — того будет раздражать абстракция.
— Может быть. Но я стал понимать, что топчусь на месте, и стал искать. В творчестве ведь всегда есть взлеты и падения. Ошибки должны быть. Здесь, на Западе, боятся отступать от найденного пути, если путь выгоден. Я, например, за последние два года продал 80 картин. Но мне стало скучно. Конечно, старые картины, которые остались в Москве, — лучше, но нельзя же все время их повторять. Здесь искусство — предмет продажи, кто пробился тот держится. Галереи когда-то нашли художников и держатся за них. Они не ищут новых имен, им это не нужно. Они хорошо едят — это здесь главное. Искусство есть сейчас в Германии, есть, может быть, в Америке, а в Париже его нет.
— Так возвращайтесь. Я тоже думаю, в России Вы работали лучше. Спокойнее. Правда, такой пиджак, как на Вас, Вы там не купите…
— Может быть, вернусь. У меня дочка в Академии учится. Я для нее должен что-то заработать. И потом, что значит «вернуться»? Я ведь от себя никуда не уезжал. Правда, здесь я стал работать больше. Больше занимаюсь детализацией. А что касается моих поисков и Поллока, то ведь любое направление в искусстве занималось тем, что разламывало все, сделанное до него. Все дети ломают игрушки, чтобы посмотреть, что там внутри. Мане, например, — это разломанный и разложенный Пуссен. Хотя в нынешних поисках дошли до абсурда. В поп-арте, например, берут кусок двери с натуральными надписями и звонками и выставляют как произведение искусства. И за счет галереи, фирмы, рекламы и мафии продают. Но люди уже перестали верить этому обману…
…Толя вернулся в Москву, в свою старую квартиру. Его дочка, закончив Академию, шла как-то по парижской улице, встретила молодого человека, влюбилась, а он оказался туристом — бедным поэтом из Ленинграда. И они уехали жить в Ленинград. Толя с женой потянулся вслед за ними. Но московскую мастерскую он потерял — начались новые времена…
— Толя, когда через шесть лет Вы открыли ключом свою квартиру, что-то в ней изменилось?
— Да ничего! Все тоже. Тараканы появились в большом количестве.
— А как Москва?
— Очень понравилась. Чистое небо и земля. Центральные улицы стали лучше. В магазинах полно и никого народу. Хотя есть и супернелепости: то, что в Париже никому не нужно, — архидорого, а продукты — раза в три дешевле. Или, например, подрамники: в Париже за самый дешевый я платил 200 франков, здесь — 40.
— Что будете делать дальше?
— Тараканов ловить.
— А работать будете?
— Если я не буду писать, я умру.
— Вы довольны, что вернулись?
— Очень. Я всегда хотел вернуться. Оставался из-за дочери.
Вернувшись, Толя работал в своей трехкомнатной квартире в Строгино. 16-й этаж, широкое окно во всю стену. Из окна видна Обуховская церковь, канал, Московское море, Серебряный бор.
Я как-то заехала к нему с друзьями — вся квартира была заставлена картинами. Работать там, конечно, тесно. Наконец ему дали помещение в одном офисе на первом этаже. Туда он перевез свои огромные полотна, туда ездит каждый день из своего Строгино.
Если я проезжаю по Садовому кольцу мимо дома рядом с американским посольством и вижу свет в окне на первом этаже — я к нему захожу. Мы разговариваем, иногда он мне дарит какой-нибудь рисунок или картину. Он не изменился — такой же, каким я его увидела много-много лет назад, тоже на первом этаже, в маленькой темной мастерской за складскими помещениями ГУМа.
В ПЛЕНУ ЭЛЬСИНОРА
У Иосифа Бродского есть такая строфа: «Одиночество учит сути вещей, ибо суть их то же одиночество». Тема одиночества волнует театральный мир со времен «Гамлета». Но меня в «Гамлете» интересует другое — тема иррационального в этом мире. Та жизнь, которую нам не дано ощущать ни нашими пятью чувствами, ни нашим сознаньем… Гамлет рождается заново после встречи с Призраком, то есть после встречи с иррациональным миром. Он соприкоснулся с чем-то неведомым для себя, и это его изменило — родился тот Гамлет, который и интересен нам вот уже несколько веков. «Порвалась связь времен» — не социальная, а космическая.
Мне тоже хочется понять, что там, «за закрытой дверью», что нам не дано понять сознанием, но что подсознательно мы все же ощущаем.
У Толстого отец Сергий рассуждает перед гробом о рождении и смерти. Для чего человек приходит в этот мир — чтобы умереть?! А если за чертой — Бог, тогда земная человеческая жизнь — только часть иной жизни. Значит, нужно готовиться к той, вечной. Ответа на эти вопросы нет. Но есть вопросы, и именно они удерживают от бездны, от вседозволенности.
Зародыш человека во чреве матери тоже проводит довольно длительное время до своего рождения. У него развиваются руки, ноги, но он ведь не «знает», для чего они. Может, если бы он задумывался, то решил бы, что они ему понадобятся после рождения. Не так ли и наша душа, которая в нашей реальности нам только мешает: волнует без причины, задает бесконечные вопросы, на которые нет ответа? Но в течение нашей жизни она меняется, значит, может быть, она нам понадобится после смерти и наша задача в этой жизни постараться ее не замутить, а высветлить?..
Меня воспитывала бабушка-старообрядка, но ощутила я ее огромное влияние, когда ее уже не стало… Она меня учила молитвам, но вопрос веры очень интимный. Я человек верующий, но не религиозный — не хожу в церковь, не соблюдаю ритуалы.
Одно время я страшно интересовалась всякими эзотерическими учениями. Даже выяснилось, что я могу лечить, передавая свою энергию: не сама, а как медиум. В свое время недалеко от театра «Современник», в Фурманном переулке, была открыта лаборатория под эгидой академика Спиркина. Там собирались экстрасенсы. Я пришла туда, меня проверили и отправили вместе с сильнейшим экстрасенсом Носовым и его женой Светланой лечить людей. Я сидела в углу и «подключала» им свою энергию.
И мечтала встретиться с Вангой, знаменитой болгарской ясновидящей…
Много лет назад мы были на гастролях в Болгарии, тогда же я снималась в фильме «Тиль Уленшпигель», где играла Катлин-ясновидящую.
В фильме есть монолог-ясновидение, где Катлин предсказывает, что родится Карл, он будет таким-то, а Тиль — таким-то. Как это играть?.. Начиталась Бодлера, а он пишет, что есть травы, которые, когда их куришь, одурманивают мозг — тоненькую рясочку самоанализа, мешающую окунуться в подсознание. И когда снимали сцену ясновидения Катлин, я играла там полусон, транс, потусторонность.
И вот мы в Болгарии. Был устроен прием, нас принимал Живков. Я оказалась рядом с ним, он меня все время бил по коленке, мол, ты хорошая актриса. Я при каждом ударе вздрагивала, но решила воспользоваться соседством и попросить помочь встретиться с Вангой. Он велел референтам организовать поездку.
Я поехала к Ванге с одним философом, Любеном (он тогда писал доклады Живкову). Как мне велели накануне, ночью я положила под подушку кусочек сахара. Утром мы выехали в город Петрич, на границу с Грецией, и даже не в сам город, а в ущелье, где в летнем доме жила Ванга. По толпе около дома поняла, что она здесь. Мы вошли.
Ванга была на открытой веранде, по периметру которой установлены лавки. На них сидели простые деревенские бабы с какими-то золотушными детьми. Ванга как раз рассказывала им, как только что отдыхала на Черном море.
Голос уверенный, громкий. Хозяйка! И почему-то она била себя по коленке. Вспомнив Живкова, я решила, что это, возможно, характерный болгарский жест. Время от времени Ванга что-то доставала из кармана и нюхала. Я подумала, что сахар-то ей неважен, а вот то, что она сейчас нюхает, и есть допинг, который связывает ее с мистическим миром. Позже секретарша сказала мне, что это было обыкновенное туалетное мыло, его Ванге только что подарили, ей просто был приятен его аромат. Я почувствовала себя крайне неуютно и подумала: а зачем мне все это нужно, что, собственно, Ванга мне может сказать такого, чего я сама о себе не знаю? Но было поздно. Ванга уже взяла мой сахар и громко спросила, есть ли у меня отец. Я кивнула. Она даже не слышала моего голоса, а уже твердила: «Да, но он умер, вот он тут стоит. А у отца есть брат Иван?» Да, братьев было несколько, и Иван тоже. И ее голос: «Да, но он умер, вот он стоит. А у матери есть еще муж?» Я кивнула. «Да, но он тоже умер, вот он стоит…» И все присутствующие это тоже слушают… Я шепнула Любену, что не хочу, чтобы она говорила о моей судьбе. Ванга как бы это почувствовала и стала разговаривать с Любеном о нем самом, о его науке. Она сказала, что ему не нужно заниматься политикой и писать доклады для других, что он должен работать над книгой по философии, и стала в разговоре употреблять какие-то современные философские термины, которых она и не должна была бы знать. Любен стоял перед ней, как школьник.
А потом, не переключаясь, она заговорила обо мне. Спросила вдруг, почему она видит меня в военной форме, и описала костюм Ангелики из фильма «Щит и меч». Она не знала, что я актриса. Я сказала, что это роль, одна из ролей. Она спросила: «А что ты здесь делаешь?» — «Приехала с театром на гастроли». — «А много ли вас приехало?» — «Человек сорок», — говорю. «Нет больше, я вижу, что там около ста». Потом мы подсчитали, действительно, так оно и было. «А какой вы сегодня играете спектакль?» — «Добрый человек из Сезуана». — «Как по-твоему, есть добрые люди?» Я говорю, не знаю, может быть, и есть. Она мне: «Нет, нет добрых людей. Впрочем, это шутка». Потом встала, обняла меня, сказала какие-то вещи, казалось бы, ничего не значащие в жизни, провела рукой по моей спине и велела не ходить на каблуках, и все будет хорошо. Голос у нее все время был уверенный.
Когда мы вышли от Ванги, Любен закурил, у него тряслись руки. А я думала о том, что неправильно сыграла сцену ясновидения. Нужна была другая сила уверенности и другой голос.
…В Москву вернулась совершенно другой, меня никто не узнавал. Вернулась человеком более спокойным. У меня не было вопроса отца Сергия — есть ли что-то там, за чертой, а был ответ Гамлета — да, есть.
Откуда в человеческой психике страсть к мистике, к чуду? Может быть, в нас атавизмом аукается древняя духовная традиция? Но ведь наша культура это всего лишь совокупный духовный опыт человечества. Всегда в культуре разных эпох сосуществовали разум и чудо, знание и слепая вера, прагматизм и романтика, рассудочность и интуиция, аскетизм и чувственность.
XX век дал нам возможность проникнуть в глубинные тайны Природы и Вселенной, но почему чем дальше идут эти открытия, тем сильнее восстает мистика? Поняв что-то, мы опять стоим над бездной непостижимости.
Я стараюсь «плыть по течению», ибо давно поняла, что планировать жизнь бессмысленно — любой сбой в запланированном существовании вызывает кризис. Этот закон — всеобщий, я его помню еще по изучению политэкономии в университете. Любая запланированность убивает неожиданность. Или ты неожиданность, случай можешь не заметить, пропустить. Мне кажется, что свой страх перед абсурдностью мироустройства можно побороть только фатальностью, то есть принимать жизнь такой, какая она есть. Научиться ценить момент и попытаться любую неожиданность, случай использовать в своих интересах. И при этом не убивать свою волю, иначе остановишься — вечное наше «А за-а-ачем?..» и сомнения сделают жизнь совсем бессмысленной. Воля, как известно, всегда динамична, активна, всегда тяготеет к направлению. Воля всегда индивидуальна и окрашена только собственным желанием. Хотеть — значит мочь, как писали древние.
Я пишу эти избитые истины, чтобы подхлестнуть и себя к действию, а то все чаще и чаще — словами Бродского:
Я не то что схожу с ума, но устал за лето. За рубашкой в комод полезешь, и день потерян…
Из интервью:
— Считаете ли вы свою профессию — судьбой?
— Да. Безусловно.
— Иногда очень хорошие актеры говорят, что могли бы в жизни заниматься чем-то другим.
— Мне кажется, это заблуждение. Но я могу говорить только о себе. Я очень слушаю свою судьбу. И я бы давно освободилась от этой зависимости, но понимаю, что пока еще мне Бог не дал этой свободы…
Послесловие
Мысль, для того чтобы быть изреченной, требует слушателя или собеседника. Я благодарна Нее Зоркой, Лидии Новиковой, Виталию Вульфу, Алле Шендеровой, Игорю Виноградову и многим другим, «провоцировавшим» меня на разговоры, которые легли в основу написанного.
Алле Шендеровой — еще и моя особая благодарность за техническую помощь в работе над книгой.
Алла ДемидоваПримечания
1
Этот коричневый круглый камешек до сих пор у меня на ключах. Каждый раз, приходя домой и шаря у себя в сумке ключи, я наталкиваюсь рукой на этот камешек — и вспоминаю Володю.
(обратно)2
Глумцы — актеры (сербский). «Коля» — сопровождавший нас «искусствовед в штатском».
(обратно)3
«Николя» — «искусствовед в штатском».
(обратно)4
Кстати странно, что все три училищных Бога: Боря Галкин, Володя Клементьев и Арнольд Колоколышков — очень рано умерли.
(обратно)5
«Арбат» — подвальный дорогой кабак в Париже, недалеко от «Комеди франсез».
(обратно)6
На всех спектаклях «Вишневого сада», где бы мы ни играли: на Таганке, на «выездных» — в Домах культуры, в Варшаве, Вроцлаве, Белграде, — Эфрос всегда был за кулисами.
(обратно)7
Дупак И. Л. — многолетний директор театра на «Таганке».
(обратно)8
Делюсин Л. П. — товарищ Любимова, свой человек в коридорах власти.
(обратно)9
Н. Губенко, В. Смехов, Л. Филатов и В. Шаповалов.
(обратно)10
С. Шустер — кинорежиссер. Пригласил меня сниматься в фильме «Всегда со мною…» — о хранителях Эрмитажа во время блокады. Я снималась, сделав себе грим молодой Ахматовой.
(обратно)11
Н. Тихонова — подруга P. M. Беньяш. Впоследствии выпустила книгу про русский балет — «Девушки в голубом».
(обратно)

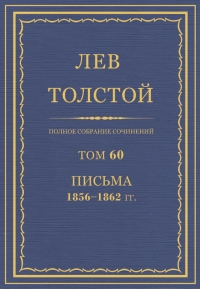
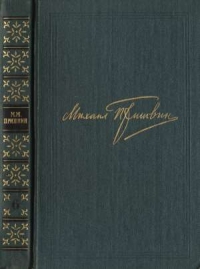
Комментарии к книге «Бегущая строка памяти», Алла Сергеевна Демидова
Всего 0 комментариев