О ДУШЕВНЫХ БОЛЕЗНЯХ ВООБЩЕ И ОБ ЭПИДЕМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ОНЫХ В ОСОБЕННОСТИ
Сочинение доктора Крупова[1]
Много и много лет прошло уже с тех пор, как я постоянно посвящаю время, от лечения больных и исполнения обязанностей остающееся, на изложение сравнительной психиатрии с точки зрения совершенно новой. Но недоверие к силам, скромность и осторожность до-реле воспрещали мне всякое обнародование моей теории. Ныне делаю первый опыт сообщить благосклонной публике часть моих наблюдений. Делаю оное, побуждаемый предчувствием скорого перехода в минерально-химическое царство, коего главное неудобство — отсутствие сознания. Полагаю, что на — мне лежит обязанность узнанное мною закрепить, так сказать, вне себя добросовестным рассказом для пользы и соображения сотоварищам по науке; мне кажется, что я не имею права допустить мысль мою бесследно исчезнуть при новых, предстоящих большим полушариям мозга моего, химических сочетаниях и разложениях.
Узнав случайно о вашем сборнике, я решился послать в него отрывок из введения потому именно, что оно весьма общедоступно: в оном, собственно, содержится не теория, а история возникновения оной в, голове моей. При сем не излишним считаю предупредить вас, что я всего менее литератор и, проживая ныне лет тридцать в губернском городе, удаленном как от резиденции,[2] так и от столицы, я отвык от красноречивого изложения мыслей и не привык к модному языку. Не должно, однако, терять из виду, что цель моя вовсе не беллетристическая, а патологическая. Я не пленить хочу моими сочинениями, а быть полезным, сообщая чрезвычайно важную теорию, доселе от внимания величайших врачей ускользнувшую, ныне же недостойнейшим из учеников Иппократа[3] наукообразно развитую и наблюдениями проверенную.
Сию теорию посвящаю я вам, самоотверженные врачи, жертвующие временем вашим печальному занятию лечения и хождения за страждущими душевными болезнями.
S. Croupoff M. et Ch. Doctor.[4]I
Я родился в одном помещичьем селении на берегу Оки. Отец мой был диаконом. Возле нашего домика жил пономарь, человек хилый, бедный и обремененный огромной семьей. В числе восьми детей, которыми бог наградил пономаря, был один ровесник мне; мы с ним вместе росли, всякий день вместе играли в огороде, на погосте или перед нашим домом. Я ужасно привязался к товарищу, делился с ним всеми лакомствами, которые мне давали, даже крал для него спрятанные куски пирога, кашу — и передавал через плетень. Приятеля моего все звали «косой Левка», он действительно немного косил глазами. Чем более я возвращаюсь к воспоминаниям о нем, чем внимательнее перебираю их, тем яснее мне становится, что Пономарев сын был ребенок необыкновенный; шести лет он плавал, как рыба, лазил на самые большие деревья, уходил за несколько верст от дома один-одинехонек, ничего не боялся, был как дома в лесу, знал все дороги и в то же время был чрезвычайно непонятлив, рассеян, даже туп. Лет восьми нас стали учить грамоте; я через несколько месяцев бегло читал псалтырь, а Левка не дошел и до складов. Азбука сделала переворот в его жизни. Отец его употреблял всевозможные средства, чтобы развить умственные способности сына — и не кормил дня по два, и сек так, что недели две рубцы были видны, и половину волос выдрал ему, и запирал в темный чулан на сутки, — все было тщетно, грамота Левке не давалась; но безжалостное обращение он понял, ожесточился и выносил все, что с ним делали, с какой-то злою сосредоточенностию. Это ему не дешево стоило: он исхудал, вид его, выражавший прежде детскую кротость и детскую беззаботность, стал выражать дикость запуганного зверя; на отца он не мог смотреть без ужаса и отвращения. Побился еще года два пономарь с сыном, увидел наконец, что он глупорожденный, и предоставил ему полную волю.
Освобожденный Левка стал пропадать целые дни, приходил домой греться или укрываться от непогоды, садился в угол и молчал, а иногда бормотал про себя разные неясные слова и вел дружбу только с двумя существами — со мной и с своей собачонкой. Собачонку эту он приобрел неотъемлемым правом. Раз, когда Левка лежал на песке у реки, крестьянский мальчик вынес щенка, привязал ему камень на шею и, подойдя к крутому берегу, где река была поглубже, бросил туда собачонку; в один миг Левка отправился за нею, нырнул и через минуту явился на поверхности с щенком; с тех пор они не разлучались.
Лет двенадцати меня отправили в семинарию. Два года я не был дома, на третий я приехал провести вакационное время[5] к отцу. На другой день утром рано я надел свой новый затрапезный халат и хотел идти осматривать знакомые места. Только я вышел на двор, у плетня стоит Левка, на том самом месте, где, бывало, я ему давал пироги; он бросился ко мне с такою радостью, что у меня слезы навернулись. «Сенька, — говорил он, — я всю ночь ждал Сеньку». Груша вчера молвила: «Сенька приехал», — и он ласкался ко мне, как зверок, с каким-то подобострастием смотрел мне в глаза и спрашивал: «Ты не сердит на меня? Все сердиты на Левку, — не сердись, Сенька, я плакать буду, не сердись, я тебе векшу поймал». Я бросился обнимать Левку; это так ново, так необыкновенно было для него, что он просто зарыдал и, схвативши мою руку, целовал ее, я не мог ее отдернуть, так крепко он держал ее. «Пойдем-ка в лес», — сказал я ему. «Пойдем далеко за буераки, хорошо будет, очень хорошо», — отвечал он. Мы пошли; он вел версты четыре лесом, поднимавшимся в гору, и вдруг вывел на открытое место; внизу текла Ока, кругом верст на двадцать стелился один из превосходных сельских видов Великороссии.
«Здесь хорошо, — говорил Левка, — здесь хорошо». — «Что же хорошо?» — спросил я его, желая испытать. Он остановил на мне какой-то неверный взгляд, лицо его приняло другое, болезненное выражение, он покачал головой и сказал: «Левка не знает, так хорошо!» Мне стало смерть стыдно. Левка сопровождал меня на всех прогулках, его безграничная преданность, его беспрерывное внимание сильно трогали меня. Привязанность его ко мне была понятна, один я обходился с ним ласково. В семье им гнушались, стыдились его; крестьянские мальчики дразнили его, даже взрослые мужики делали ему всякого рода обиды и оскорбления, приговаривая: «Юродивого обижать не надо, юродивый — божий человек». Он обыкновенно ходил задами села, когда же ему случалось идти улицей, одни собаки обходились с ним по-человечески; они, издали завидя его, виляли хвостом и бежали к нему навстречу, прыгали на шею, лизали в лицо и ласкались до того, что Левка, тронутый до слез, садился середь дороги и целые часы занимал из благодарности своих приятелей, занимал их до тех пор, пока какой-нибудь крестьянский мальчик пускал камень наудачу, в собак ли попадёт или в бедного мальчика; тогда он вставал и убегал в лес.
Перед сельским праздником мой отец, видя, что Левка весь в лохмотьях, велел моей матери скроить ему длинную рубашку и отдать ее сестрам сшить. Управитель, услышавши об этом, дал толстого домашнего сукна для него на кафтан. При господском доме был приставлен старик лакей, он был приставлен не столько по способности смотреть за чем-нибудь, сколько за пьянство. Этот лакей был фершал и портной; он весьма затруднился, когда получил от управляющего приказ сшить Левке кафтан, — как скроить дурацкий кафтан? Сколько он ни думал, все выходил довольно обыкновенный кафтан, а потому он и решился на отчаянное средство — пришить к нему красный поротник из остатков какой-то старинной ливреи. Левка был ужасно рад и новой рубашке, и кафтану, и красному воротнику, хотя, по правде сказать, радоваться было нечему. Доселе крестьянские мальчики несколько удерживались, но когда на Левку одели парадный мундир дурака — гонения и насмешки удвоились. Одни женщины были на стороне Левки, подавали ему лепешки, квасу и браги и говорили иногда приветливое слово; мудрено ли, впрочем, что бабы и девки, задавленные патриархальным гнетом мужниной и отцовской власти, сочувствовали безвинно гонимому мальчику. Мне было чрезвычайно жаль Левку, но помочь ему было трудно; унижая его, казалось, добрые люди росли в своих собственных глазах. Серьезно с ним никто слова не молвил; даже мой отец, от природы вовсе не злой человек, хотя исполненный предрассудков и лишенный всякого снисхождения, и тот иначе не мог обращаться с Левкой, как унижая его и возвышая себя.
— А что, Левка, — говорил он ему, — любишь ли ты кого-нибудь больше этого пса смердящего?
— Люблю, — отвечал Левка, — Сеньку люблю больше.
— Видишь, губа-то не дура, ну, а еще кого больше любишь?
— Никого, — простодушно отвечал Левка.
— Ах, глупорожденный, глупорожденлый, ха-ха-ха, а мать родную меньше любишь разве?
— Меньше, — отвечал Левка.
— А отца твоего?
— Совсем не люблю.
— О господи боже мой, чти отца твоего и матерь, твою, а ты, дурак, что? Бессмысленные животные и те любят родителей, как же разумному подобию божию не любить их?
— Какие животные?
— Ну какие — лошади, псы, всякие.
Левка качал головой: «Разве щенята, а большие нет. Они так любят, кто по нраву придется, вот наша кошка Машка любит моего Шарика».
И батюшка мой хохотал от души, прибавляя: «Блаженны нищие духом!»
Я тогда уже оканчивал риторику, и потому нетрудно понять, отчего мне в голову пришло написать «Слово о богопротивном людей обращении с глупорожденными». Желая расположить мое сочинение по всем квинтиллиановским[6] правилам, с соблюдением законов хрии, я, обдумывая его, пошел по дороге, шел, шел, не замечая того, очутился в лесу; так как я взошел в него без внимания, то и не удивительно, что потерял дорогу, искал, искал и еще более терялся в лесу; вдруг слышу знакомый лай Левкиной собаки; я пошел в ту сторону, откуда он раздавался, и вскоре был встречен Шариком; шагах в пятнадцати от него, под большим деревом, спал Левка. Я тихо подошел к нему и остановился. Как кротко, как спокойно спал он! Он был дурен собой на первый взгляд, белые льняные волосы прямо падали с головы странной формы, бледный лицом, с белыми ресницами и несколько косившимися глазами. Но никто никогда не дал себе труда вглядеться в его лицо; оно вовсе не было лишено своей красоты, особенно теперь, когда он спал; щеки его немного раскраснелись, косые глаза не были видны, черты его выражали такой мир душевный, такое спокойствие, что становилось завидно.
Тут, стоя перед этим спящим дурачком, я был поражен мыслью, которая преследовала меня всю жизнь. С чего люди, окружающие его, воображают, что они лучше его, отчего считают себя вправе презирать, гнать это существо, тихое, доброе, никому никогда не сделавшее вреда? И какой-то таинственный голос шептал мне: «Оттого, что и все остальные — юродивые, только на свой лад, и сердятся, что Левка глуп по-своему, а не по их».
Странная мысль эта выгнала у меня из головы все хрии и метафоры, я оставил спящего Левку и пошел бродить наудачу по лесу, с какой-то внутренней болью перевертывая и вглядываясь в новую мысль. «В самом деле, думалось мне, — чем Левка хуже других? Тем, что он не приносит никакой пользы, ну, а пятьдесят поколений, которые жили только для того на этом клочке земли, чтобы их дети не умерли с голоду сегодня и чтобы никто не знал, зачем они жили и для чего они жили, — где же польза их существования? Наслаждение жизнию? Да они ей никогда не наслаждались, по крайней мере гораздо меньше Левки. Дети? Дети могут быть и у Левки, это дело нехитрое. Зачем Левка не работает? Что за беда; он ни у кого ничего не просит, кой-как сыт. Работа — не наслаждение, кто может обойтись без работы, тот не работает, все остальные на селе работают без всякой пользы, работают целый день, чтобы съесть кусок черствого хлеба, а хлеб едят для того, чтобы завтра работать, в твердой уверенности, что все выработанное не их. Здешний помещик, Федор Григорьевич, один ничего не делает, а пользы получает больше всех, да и то он ее не делает, она как-то сама делается ему. Жизнь его, сколько я знаю, проходит в большей пустоте, нежели жизнь Левки, который, чего нет другого, гуляет, а тот все сердится. Чем Левка сыт, я не понимаю, но знаю одно, что как он ни туп, но если наберет земляники или грибов, то его не так-то легко убедить, что он может есть одни неспелые ягоды да сыроежки, а что вкусные ягоды и белые грибы принадлежат, ну, хоть отцу Василию. Левка никогда дома не живет, не исполняет ни гражданских, ни семейных обязанностей сына, брата. Ну, а те, которые дома живут, разве исполняют? У него есть еще семь братьев и сестер, живущих дома в каком-то состоянии постоянной войны между собой и с пономарем. Все так, но пустая жизнь его. Да отчего же она пустая? Он вжился в природу, он понимает ее красоты по-своему — а для других жизнь — пошлый обряд, тупое одно и то же, ни к чему не ведущее».
И я постоянно возвращался к основной мысли, что причина всех гонений на Левку состоит в том, что Левка глуп на свой особенный салтык, — а другие повально глупы; и так, как картежники не любят неиграющего, а пьяницы непьющего, так и они ненавидят бедного Левку. Однако диссертации я не написал; для меня, ученика семинарии, казалось трудным и даже неприличным писать о таких суетных предметах. Нас учили всё писать о предметах возвышенных, душу и сердце возносящих горе́. Вакационное время прошло, пора мне было возвращаться в монастырь. Когда батюшка мой заложил пегую лошадку нашу в телегу, чтобы отвезти меня, Левка пришел опять к плетню, он не совался вперед, а, прислонившись к верее, обтирал по временам грязным спущенным рукавом рубашки слезы. Мне было очень грустно его оставить; я подарил ему всяких безделушек, он на все смотрел печально. Когда же я стал садиться в телегу, Левка подошел ко мне и так печально, так грустно сказал: «Сенька, прощай», — а потом подал мне Шарика и сказал: «Возьми, Сенька, Шарика себе». Дороже предмета у Левки не было, и он отдавал его. Я насилу уговорил его оставить Шарика у себя, что, пусть он будет мой — но жить у него. Мы поехали. Левка пустился лесом и выбежал на гору, мимо которой шла дорога; я увидел его и стал махать платком. Он стоял неподвижно на горе, опираясь на свою палку.
Мысль о Левке, о причине его странного развития не выходила из головы моей. Она мешала мне вполне предаваться изучению духовных предметов, и я вместо превыспренних созерцаний стремился к изучению предметов земных, несмотря на то что я знал ничтожность всего телесного и суетность всего физического. Мало-помалу во мне развилось непреодолимое желание изучать медицину. Когда я впервые заикнулся об этом отцу моему, он взошел в неописанный гнев. «Ах ты, баловень презорный, — кричал он на меня, — вот как схвачу за вихры, так ты у меня и — узнаешь, где раки зимуют. Деды твои и отцы не хуже тебя были, да не выходили из своего звания, а ты что вздумал? Пришлось под старость дожить до такого сраму, — вот, и радость, приносимая сыном, от плоти моей рожденным. Не один, видно, пономарь посещен богом, недаром с дураком валандаешься вечно, свой своему поневоле брат. А все ты, малоумная баба, испортила его», — прибавил батюшка, обращаясь к матушке. Почему именно матушка была виновата, что я хотел учиться медицине, этого я не знаю. «Господи, — думал я, — да что же я сделал такое, мне хочется заниматься медициной, а послушаешь батюшку, право, подумаешь, что я просился на большую дорогу людей резать». Дал я место, родительскому гневу, промолчал; через месяц опять завел было речь; куда ты — с первого слова так его лицо и зардело. Делать нечего, жду особого случая, а сам только и занимаюсь латынью. Отец ректор славно знал латинский; язык и полюбил меня за мои успехи. Я выбрал минуту добрую да в ноги ему; он так кротко и благосклонно сказал: «Встань, сын мой, встань, что тебе надобно, говори просто». Я рассказал ему о моем желании и просил замолвить отцу. Отец ректор покачал головой и велел мне утром и вечером сверх обыкновенной: читать, другую молитву, говорил, что это влияние нечистой силы, отвлекающей от служения престолу к служению мирскому, от лечения духовного — к лечению плотскому. Потом напомнил четвертую, заповедь, дал прочесть сочинение Нила Сорского[7] о монашеском житии. Я все исполнил в точности, но не мог переломить влечения и медицине.
На вакации поехал я опять домой. Левка еще более одичал, он добровольно помогал пастуху пасти стадо и почти никогда не ходил домой. Меня, однако, он принял с прежней безграничной, нечеловеческой привязанностью; грустно мне было на него смотреть, особенно потому, что у него язык как-то сделался невнятнее, сбивчивее и взгляд еще более одичал. Через год мне приходилось окончить курс, временить было нечего, батюшка уже готовил мне место. Что было делать, утопающий за соломинку хватается; слыхал я от дворовых людей, что сын нашего помещика (они жили это лето в деревне) — добрый барин, ласковый, я и подумал, если бы он через Федора Григорьевича попросил обо мне моего отца, может, тот, видя такое высокое ходатайство, и согласился бы. Почему не сделать опыта? Надел я свой нанковый сюртук, тщательно вычистил сапоги, повязал голубой шейный платок и пошел в господский дом. На дороге попался Левка.
— Сенька, — кричал он мне, — в лес, Левка гнездо нашел, птички маленькие, едва пушок, матери нет, греть надо, кормить надо.
— Нельзя, брат, иду за делом, вон туда.
— Куда?
— В барский дом.
— У-у! — сказал Левка, поморщившись, — у-у! Весной, весной дядя Захар — его били, Левка смотрел, дядя Захар здоровый, сильный, а дурак стоит, его бьют — а он ничего — дядя Захар дурак, сильный, большой и стоит. Не ходи, прибьют.
— Не бось, дело есть.
Он долго смотрел мне вслед, потом свистнул своей собаке и побежал к лесу, но, едва я успел сделать двадцать шагов, Левка нагнал меня. «Левка идет туда — Сеньку бить будут — Левка камнем пустит», — при этом он мне показал булыжник величиною с индеичье яйцо. Но меры его были не нужны, люди отказали, говоря, что господа чай кушают; потом я раза три приходил, все недосуг молодому барину; после третьего раза я не пошел больше. И чем же это молодой барин так занят? Вечно ходит или с ружьем, или так просто, без всякого дела, по полям, особенно где крестьянские девки работают. Неужели он не мог оторваться на пять минут?
Сам бог показал выход, хотя, по правде, очень горестный. В селе Поречье, верст восемь от нас, был храмовый праздник; село Поречье казенное, торговое, богаче нашего, праздник у них справлялся всегда отлично. Тамошний священник (он же и благочинный) пригласил нас всех на праздник. Мы отправились накануне: отец Василий с попадьей, батюшка один, причетник и я, для того чтобы отслужить всенощную соборне. Праздник был великолепный, фабричные пели на крылосе. Во время литургии приехал сам капитан-исправник с супругой и двумя заседателями. Голова за месяц собирал по двадцати пяти копеек серебром с тягла начальству на закуску. Словом сказать, было весело, шумно; один я грустил; грустил я и потому, что намерения мои не удавались, и по непривычке к многолюдию; вина я тогда еще в рот не брал, в хороводах ходить не умел, а пуще всего мне досадно было, что все перемигивались, глядя на меня и на дочь пореченского священника. Я приглянулся ее отцу, и он предлагал, как меня похиротонисают, женить на дочери, а он-де место уступит и обзаведение, самому, мол, на отдых пора. А дочь-то его, несмотря на то что ей было не более восемнадцати или девятнадцати лет, была сильно поражена избытком плоти, так что скорее напоминала образ и подобие оладий, нежели господа бога.
Таким образом поскучав в Поречье до вечера, я вышел на берег реки; откуда ни возьмись — Левка тут, и он, бедняга, приходил на праздник, сам не зная зачем. Его никто не звал и не потчевал. Стоит лодочка, причаленная к берегу, и покачивается; давно я не катался, — смерть захотелось мне ехать домой по воде. На берегу несколько мужичков лежали в синих кафтанах, в новых поярковых шляпах с лентами; выпивши, они лихо пели песни во все молодецкое горло (по счастию, в селе Поречье не было слабонервной барыни). «Позвольте, мол, православные, лодочку взять прокатиться до Раздершнина», сказал я им. «С нашим удовольствием, мы-де вашего батюшку знаем. Митюх, Митюх, отвяжь-ка лодочку-то, извольте взять», — и Митюх, несколько покачиваясь и без нужды ступая в воду по колена, отвязал лодку, я принялся править, а Левка грести; поплыли мы по Оке-реке. Между тем смерклось, месяц взошел, с одной стороны было так светло, а о другой черные тени берегов, насупившись, бежали на лодку. Поднимавшаяся роса, словно дым огромного пожара, белела на лунном свете и двигалась по воде, будто нехотя отдираясь от нее.
Левка был доволен, мочил беспрестанно свою голову водой и встряхивал мокрые волосы, падавшие в глаза. «Сенька, хорошо?» — спрашивал он, и когда я отвечал ему; «Очень, очень хорошо», — он был в неописанном восторге. Левка умел мастерски гресть, он отдавался в каком-то опьянении ритму рассекаемых воли и вдруг поднимал оба весла, лодка тихо, тихо скользила по волнам, и тишина, заступавшая мерные удары, клонила к какому-то полусну, а издали слышались песни празднующих поречан, носимые ветром, то тише, то громче.
Мы приехали поздно ночью, Левка отправился с лодкой назад, а я домой. Только что я лег спать, слышу — подъезжает телега к нашему дому. Матушка она не ездила на праздник, ей что-то нездоровилось, — матушка послушала да говорит:
— Это не нашей телеги скрып — стучат, треба, мол, верно, какая-нибудь.
— Не вставайте, матушка, я схожу посмотреть, — да и вышел, отворяю калитку, пореченский голова стоит, немножко хмельный.
— Что, Макар Лукич?
— Да, что, — говорит, — дело-то неладно, вот что.
— Какое дело? — спросил я, сам дрожу всем телом, как в лихорадке.
— Вестимо, насчет отца диакона.
Я бросился к телеге: на ней лежал батюшка без движения.
— Что с ним такое?
— А бог его ведает, все был здоров, да вдруг что ни есть прилучилось.
Мы внесли батюшку в дом, лицо у него посинело, я тер его руки, вспрыскивал водой, мне казалось, что он хрипит, я уложил его на постель и побежал зa пьяным портным; на этот раз он еще был довольно трезв, схватил ланцет, бинт и побежал со мною. Раза три просек руку, кровь не идет… я стоял ни живой ни мертвый; портной вынул табакерку, понюхал, потом начал грязным платком обтирать инструмент.
— Что? — спросил я каким-то не своим голосом.
— Не нашего ума дело-с, экскузе,[8] — отвечал он, — а извольте молитву читать.
Матушка упала без чувств, у меня сделался озноб, а ноги так и подламывались.
II
После смерти отца матушка не препятствовала, и я выхлопотал себе наконец увольнение из семинарии и вступил в Московскую медико-хирургическую академию студентом. Читая печатную программу лекций, я увидел, что адъюнкт ветеринарного искусства, если останется время, будет читать студентам, оканчивающим курс, общую психиатрию, то есть науку о душевных болезнях. Я с нетерпением ждал конца года, и хотя мне еще не приходилось слушать психиатрии, явился на первую лекцию адъюнкта. Но я тогда так мало был образован по медицинской части, что почти ничего не понял, хотя слушал с таким вниманием, что до сих пор помню красноречивое вступление ветеринарного врача. «Психиатрия, — говорил он, — бесспорно, самая трудная часть врачебной науки, самая необъясненная, самая необъяснимая, но зато нравственное влияние ее самое благотворное. Ни метафизика, ни философия не могут так ясно доказать независимость души от тела, как психиатрия. Она учит, что все душевные болезни — расстройства телесные, она учит, следственно, что без тела, без сей скудельной оболочки, дух был бы вечно здрав» и проч. Я уже в семинарии знал Вольфиеву[9] философию, но совершенно ясно изложения адъюнкта не понимал, хотя и радовался, что самая медицина служит доказательством высоких метафизических соображений.
Когда я порядком изучил приуготовительные части, я стал мало-помалу делать собственные наблюдения над одержимыми душевными болезнями, тщательно записывая все виденное в особую книгу. Воскресные и праздничные дни проводил я почти всегда в доме умалишенных. Все наблюдения мои вели постоянно к мысли, поразившей меня при созерцании спавшею Левки, то есть что официальные, патентованные сумасшедшие, в сущности, и не глупее и не поврежденнее всех остальных, но только самобытнее, сосредоточеннее, независимее, оригинальнее, даже, можно сказать, гениальнее тех. Странные поступки безумных, раздражительную их злобу объяснял я себе тем, что все окружающее нарочно сердит их и ожесточает беспрерывным противуречием, жестким отрицанием их любимой идеи. Замечательно, что люди делают все это только в домах умалишенных; вне их существует между больными какое-то тайное соглашение, какая-то патологическая деликатность, по которой безумные взаимно признают пункты помешательства друг в друге. Все несчастие явно безумных — их гордая самобытность и упрямая неуступчивость, за которую повально поврежденные, со всею злобою слабых характеров, запирают их в клетки, поливают холодной водой и проч.
Главный доктор в заведении был добрейший человек в мире, но, без сомнения, более поврежденный, нежели половина больных его (он надевал, например, на себя один шейный и два петличных ордена для того, чтобы пройти по палатам безумных; он давал чувствовать фельдшерам, что ему приятно, когда они говорят «ваше превосходительство», а чином был статский советник, и разные другие шалости ясно доказывали поражение больших полушарий мозга); больные ненавидели его оттого, что он сам, стоя на одной почве с ними, вступал всегда в соревнование. «Я китайский император», — кричал ему один больной, привязанный к толстой веревке, которой по необходимости ограничили высочайшую власть его. «Ну когда же китайский император сидит на веревке?» — отвечал добрейший немец с пресерьезным видом, как будто он сам сомневался, не действительно ли китайский император перед ним. Больной выходил из себя, слыша возражение, скрежетал зубами, кричал, что это Вольтер и иезуиты посадили его на цепь, и долго не мог потом успокоиться. Я, совсем напротив, подходил к нему с видом величайшего подобострастия. «Лазурь неба, прозрачнейший брат солнца, — говорил я ему, — плодородие земли, позволь мне, презренному червю, грязи, отставшей от бессравненных подошв твоих, покапать холодной воды на светлое чело твое, да возрадуется океан, что вода имеет счастие освежать священную шкуру, покрывающую белую кость твоего черепа».
И больной улыбался и позволял с собою делать все, что я хотел.
Обращаю особенное внимание на то, что я для этого больного не делал ничего особенного, а поступал с ним так, как добрые люди поступают друг с другом всегда — на улице, в гостиной,
В заведение ездил один тупорожденный старичок, воображавший, что он гораздо лучше докторов и смотрителей знает, как надобно за больным ходить, и всякий раз приказывал такой вздор, что за него делалось стыдно; однако главный доктор с непокрытой головой слушал его до конца благоговейно и не говорил ему, что все это вздор, не дразнил его, а китайского императора дразнил. Где же тут справедливость!
Продолжая мои наблюдения, я открыл, что между собой нередко сумасшедшие признают друг друга; эти уже ближе к обыкновенному гражданскому благоустройству. Так, в V палате жили восемь человек легко помешанных в большой дружбе. Один из них сошел с ума на том; что он сверх своей порции имеет призвание есть по полупорции у всех товарищей, основывая пресмешно свои права на том, что его отец умер от объедения, а дед опился. Он так уверил своих товарищей, что ни один из них не смел есть своей порции, не отдав ему лучшей части, не смел ее взять украдкой, боясь угрызений совести. Когда же изредка кто-либо из дерзких скептиков утаивал кусок, он гордо уличал преступного, и шесть остальных готовы были оттаскать злодея; он называл его вором, стяжателем; и глава этой общины до того добродушно верил в свое право, что, не имея возможности съедать все набранное, с величавой важностью награждал избранных их же едою, и награжденный точил слезы умиления, а остальные — слезы зависти.
Нельзя отказать этим безумным в высоком политическом смысле, так точно, как нельзя отказать в безумии людям, не только считающим себя здоровыми (самые бешеные собою совершенно довольны), но признаваемым за таких другими. Для убедительного доказательства присовокуплю отрывок из моего журнала, предпослав оному следующую краткую диагностику безумия.
Главные признаки расстройства умственных способностей состоят:
а) в неправильном, но и непроизвольном сознании окружающих предметов;
б) в болезненной упорности, стремящейся сохранить это сознание с явным даже вредом самому больному, и отсюда —
с) тупое и постоянное стремление к целям несущественным и упущение целей действительных.
Этого достаточно для того, чтобы убедиться в истине моих выводов.
Выписка из журнала
Субъект 29. Мещанка Матрена Бучкина. Сложение сангвиническое, наклонность к толщине, лет тридцати, замужем.
Субъект этот находится у меня в услужении в должности кухарки, а потому я изучал его довольно внимательно в главных психических и многих физиологических отправлениях. Alienatio mentale,[10] не подлежащее никакому сомнению; все умственные отправления поражены, несмотря на хорошие врожденные способности, что доказывается сохранившеюся ловкостию обсчитывать при покупках и утаивать половину провизии, Как женщина Матрена живет более сердцем, нежели умом; но все ее чувства так ниспровергнуты болезненным отклонением деятельности мозга от нормального отправления, что они не только не человеческие, но и не животные.
а) Чувство любви.
Не видать, чтобы у нее была особенная нежность к мужу, но отношения их в высшей степени замечательны и драгоценны как патологический факт. Муж ее — сапожник и живет в другом доме, он приходит к ней обыкновенно утром в воскресенье. Матрена покупает на последние деньги простого вина и печет пирог или блины. Часу в десятом муж ее напивается пьян и тотчас начинает ее продолжительно и больно бить; потом он впадает в летаргический сон до понедельника, а проснувшись, отправляется с страшной головной болью за свою работу, питаясь приятной надеждой через семь дней снова отпраздновать так семейно и кротко воскресный день.
Так как она приходила всякий раз с горькими жалобами ко мне на своего мужа, я советовал ей не покупать ему вина, основываясь на том, что оно имеет на него дурное влияние. Но больная весьма оскорблялась моим советом и возражала, что она не бесчестная какая-нибудь и не нищая, чтобы своему законному мужу не поднести стакана вина — свят день до обеда, что, сверх того, она покупает вино на свои деньги, а не на мои, и что если муж ее и колотит, так все же он богом данный ей муж. Ответ этот, много раз повторяемый, очень замечателен. Можно добраться по нем до странных законов мышления мозга, пораженного болезнию; ни одного слова нет в ее ответе, которое бы шло к моему замечанию, а при болезни мозга ей казалось, что она вполне опровергала меня.
Но до какой степени и это поверхностно, я доказываю тем, что стоило мне, продолжая мои наблюдения, сказать ей: «А ты зачем с ним споришь, ты бы смолчала, ведь он твой муж и глава?» — тогда больная приходила в состояние, близкое мании, и с сердцем говорила: «Он злодей мне, а не муж, я ему не дура досталась молчать, когда он несет всякий вздор!» И тут она начинала бранить не только его, но и барыню свою, которая, истинно в материнских попечениях своих о подданных, сама приняла на себя труд избрать ей мужа; выбор пал на сапожника не случайно, а потому, что он крепко хмелем зашибал, так барыня думала, что он остепенится, женившись, — конечно, не ее вина, что она ошиблась, errare humanum est![11]
b) Отношение к детям.
Любопытно до высшей степени и имеет двойной интерес. Тут я имел случай видеть, как с самого дня рождения прививают безумие. Сначала чисто механически крепким пеленанием, причем сдавливают ossa parietalia[12] черепа, чтобы помешать мозговому развитию, — это с своей стороны уже очень действительно. Потом употребляются органические средства; они состоят преимущественно в чрезмерном развитии прожорливости и в дурном обращении. Когда организм ребенка не изловчился еще претворять всю дрянь, которая ему давалась, от грязной соски до жирных лепешек, дитя иногда страдало; мать лечила сама и в медицинских убеждениях своих далеко расходилась со всеми врачами, от Иппократа до Боергава и от Боергава до Гуфланда;[13] иногда она откачивала его так, как спасают утопленников (средство совершенно безвредное, если утопленник умер, и способное показать усердие присутствующих), ребенок впадал в морскую болезнь от качки, что его действительно облегчало, или мать начинала на известном основании Ганеманова[14] учения клин клином вышибать, кормить его селедкой, капустой; если же ребенок на выздоравливал, мать начинала его бить, толкать, дергать, наконец прибегала к последнему средству — давала ему или настойки, или макового молока и радовалась очевидной пользе от лекарства, когда ребенок впадал в тяжелое опьянение или в летаргический сон. В дополнение следует заметить, что Матрена, на свой манер, чрезвычайно любила ребенка. Любовь ее к детям была совершенно вроде любви к мужу: она покупала на скудные деньги свои какой-нибудь тафтицы на одеяльце и потом бесщадно била ребенка за то, что он ненарочно капал на него молоко. Мне очень жаль, что я скоро расстался с Матреной и не мог доучить этот интересный субъект; к тому же я впоследствии услышал, что ее ребенок не выдержал воспитания и умер.
с) и d) Отношения гражданские и общественные; отношения к церкви и государству…
Но я полагаю, сказанного совершенно достаточно, чтобы убедиться, что жизнь этого субъекта проходила в чаду безумия. А посему снова обращаюсь к прерванной нити моего жизнеописания, которое с тем вместе и есть описание развития моей теории.
По окончании курса меня отправили лекарем в один пехотный полк. Я не нахожу нужным в предварительной части говорить о наблюдениях, сделанных мною на сем специальном поприще безумия, я им посвятил особый отдел в большом сочинении моем.[15] Перехожу к более разнообразному поприщу. Через несколько лет по распоряжению высшего начальства, которому, пользуясь сим случаем, свидетельствую искреннейшую благодарность за начальственное внимание, получил я место по гражданскому ведомству; тут с большим досугом предался я сравнительной психиатрии. Для занятий и наблюдений я избрал на первый случай два заведения — дом умалишенных и канцелярию врачебной управы.
Добросовестно изучая субъекты в обоих заведениях, я был поражен сходством чиновников канцелярии с больными; разумеется, наружные различия тоже бросались в глааа, но врач должен идти далее, — по наружности долгое время кита считали рыбою. Самое важное различие между писарями и больными состояло в образе поступления в заведение: первые просились об определении, а вторые были определяемы высшим начальством вследствие публичного испытания в губернском правлении. Но однажды помещенные в канцелярию писаря тотчас подвергались психической эпидемии, весьма быстро, заражавшей все нормально человеческое и еще быстрее развивавшей искаженные потребности, желания, стремления; целые дни работали эти труженики с усердием, более нежели с усердием, с завистью; штаты тогда были еще невероятные, едва эти бедняки в будни досыта наедались и в праздники допьяна напивались, а ни один не хотел заняться каким-нибудь ремеслом, считая всякую честную работу не совместною с человеческим достоинством, дозволяющим только брать двугривенные за справки. Признаюсь, когда я вполне убедился, что чиновничество (я, разумеется, далее XIII класса восходить не смею) есть особое специфическое поражение мозга, мне опротивели все эти журнальные побасенки, наполненные насмешками над чиновниками. Смеяться над больными показывает жестокость сердца.
Влияние эпидемии до того сильно, что мне случалось наблюдать ее действие на организации более крепкие и здоровые, и тут-то я увидел всю силу ее. Какое-то беспокойное чувство, похожее на угрызение совести, овладевало вновь поступавшими здоровыми субъектами; им становилось заметно тягостно быть здоровыми, они так страдали тоскою по безумию, что излечались от умственных способностей разными спиртными напитками, и я заметил, что при надлежащем и постоянном употреблении их они действительно успевали себя поддерживать в искусственном состоянии безумия, которое мало-помалу становилось естественным.
От чиновников я перешел к прочим жителям города, и в скором времени не осталось ни малейшего сомнения, что все они поврежденные. Предоставляю тем, которые долго трудились над каким-нибудь открытием, оценить то чувство радости, которым исполнилось сердце мое, когда я убедился в этом драгоценном факте.
Городок наш вообще оригинален, это губернское правление, обросшее разными домами я жителями, собравшимися около присутственных мест; он тем отличается от других городов, что он возник, собственно, для удовольствия и пользы начальства. Начальство составило сущность, цвет, корень и плод города. Остальные жители — как купцы, мещане — больше находились для порядка, ибо нельзя же быть городу без купцов и мещан. Все получали смысл только в отношении к начальству (и к откупу, впрочем); мастеровые например, портные, сапожники — шили для чиновников фраки и сапоги, содержатель трахтира имел для них бильярд. Прочие не служащие в городе занимались исключительно произведением тех средств, на которые чиновника заказывали фраки, сапоги и увеселялись на бильярде.
В нашем городке считалось пять тысяч жителей; из них человек двести были повергнуты в томительнейшую скуку от отсутствия всякого занятия, а четыре тысячи семьсот человек повергнуты в томительную деятельность от отсутствия всякого отдыха. Те, которые денно и нощно работали, не выработывали ничего, а те, которые ничего не делали, беспрерывно выработывали, и очень много.
Утвердив на прочных началах общую статистику помешательства, перейдем снова к частным случаям. В качестве врача я был часто призываем лечить тело там, где следовало лечить душу; невероятно, в каком чаду нелепостей, в каком резком безумии находились все мои пациенты обоих полов.
«Пожалуйте сейчас к Анне Федоровне, Анне Федоровне очень дурно». — «Сию минуту, еду». Анна Федоровна — лет тридцати женщина, любившая и любящая многих мужчин, за исключением своего мужа, богатого помещика, точно так же расположенного ко всем женщинам, кроме Анны Федоровны. У них от розовых цепей брачных осталась одна, которая обыкновенно бывает крепче прочих, — ревность, и ею они неутомимо преследовали друг друга десятый год. Приезжаю; Анна Федоровна лежит в постеле с вспухшими глазами, у нее жар, у нее боль в груди; все показывает, что было семейное Бородино, дело горячее и продолжительное. Люди ходят испуганные, мебель в беспорядке, вдребезги разбитая трубка (явным образом не случайно) лежит в углу и переломленный чубук — в другом.
— У вас, Анна Федоровна, нервы расстроены, я вам пропишу немножко лавровишневой воды, на свет не ставьте — она портится, так принимайте… сколько бишь вам лет? — капель по двадцать. — Вольная становится веселее и кусает губы. — Да знаете ли что, Анна Федоровна, вам бы надо ехать куда-нибудь, ну хоть в деревню; жизнь, которую вы ведете, вас расстроит окончательно.
— Мы едем в мае месяце с Никонор Ивановичем в деревню.
— А! Превосходно — так вы останьтесь здесь. Это будет еще лучше.
— Что вы хотите этим сказать?
— Вам надобен покой безусловный, тишина; иначе я не отвечаю за то, что наконец из всего этого выйдут серьезные последствия.
— Я несчастнейшая женщина, Семен Иванович, у меня будет чахотка, я должна умереть. И все виноват этот изверг — ах, Семен Иванович, спасите меня.
— Извольте. Только мое лекарство будет не из аптеки, вот рецепт: «Возьми небольшой чистенький дом, в самом дальнем расстоянии от Никанор Ивановича, прибавь мебель, цветы и книги. Жить, как сказано, тихо, спокойно». Этот рецепт вам поможет.
— Легко вам говорить, вы не знаете, что такое брак.
— Не знаю — но догадываюсь; полюбовное насилие жить вместе — когда хочется жить врозь, и совершеннейшая роскошь — когда хочется и можно жить вместе; не так ли?
— О, вы такой вольнодум! Как я покину мужа!
— Анна Федоровна, вы меня простите, однако долгая практика в вашем доме позволяет мне идти до такой откровенности, я осмелюсь сделать вам вопрос…
— Что угодно, Семен Иванович, вы — друг дома, вы…
— Любите ли вы сколько-нибудь вашего мужа?
— Ах, нет, я готова это сказать перед всем светом, безумная тетушка моя сварганила этот несчастный брак.
— Ну, а он вас?
— Искры любви нет в нем. Теперь почти в открытой интриге с Полиной, вы знаете, — мне бог с ним совсем, да ведь денег что это ему стоит…
— Очень хорошо-с. Вы друг друга не любите, скучаете, вы оба богаты что вас держит вместе?
— Да помилуйте, Семен Иванович, за кого же вы меня считаете, моя репутация дороже жизни, что обо мне скажут?
— Это конечно. Но, боже мой, — половина первого! Что это, как время-то? Да-с, так по двадцати каплей лавровишневой воды, хоть три раза до ночи, а я заеду как-нибудь завтра взглянуть.
Я только в залу, а уж Никанор Иванович, небритый, с испорченным от спирту и гнева лицом, меня ждет.
— Семен Иванович, Семен Иванович, ко мне в кабинет.
— Чрезвычайно рад.
— Вы честный человек, я вас всю жизнь знал за честного человека, вы благородный человек — вы поймете, что такое честь. Вы меня по гроб обяжете, ежели скажете истину.
— Сделайте одолжение. Что вам угодно?
— Да как вы считаете положение жены?
— Оно не опасно; успокойтесь, это пройдет; я прописал капельки.
— Да черт с ней, не об этом дело, по мне хоть сегодня ногами вперед да и со двора. Это змея, а не женщина, лучшие лета жизни отняла у меня. Не об этом речь.
— Я вас не понимаю.
— Что это, ей-богу, с вами? Ну, то есть болезнь ее подозрительна или нет?
— Вы желаете знать насчет того, нет ли каких надежд на наследничка?
— Наследничка — я ей покажу наследничка! Что это за женщина! Знаете, для меня уж коли женщина в эту сторону, все кончено — нет, не могу! Законная жена, Семен Иванович, она мое имя носит, она мое имя пятнает.
— Я ничего не понимаю. А впрочем, знаете, Никанор Иванович, жили бы вы в разных домах, для обоих было бы спокойнее.
— Да-с — так ей и позволить, ха-ха-ха, выдумали ловко! Ха-ха-ха, как же — позволю! Нет, ведь я не француз какой-нибудь! Ведь я родился и вырос в благочестивой русской дворянской семье, нет-с, ведь я знаю вакон и приличие! О, если бы моя матушка была жива, да она из своих рук ее на стол бы положила. Я знаю ее проделки.
— Прощайте, почтеннейший Никанор Иванович, мне еще к вашей соседке надобно.
— Что у нее? — спросил врасплох взятый супруг и что-то сконфузился.
— Не знаю — присылала горничную, дочь что-то все нездорова, — девка не умела рассказать порядком.
— Ах, боже мой, — да как же это? Я на днях видел Полину Игнатьевну.
— Да-с, бывают быстрые болезни.
— Семен Иванович, я давно хотел — вы меня извините, ведь уж это так заведено: священник живет от алтаря, а чиновник от просителей, я так много доволен вами. Позвольте вам предложить эту золотую табакерку, примите ее в знак искренней дружбы, — только, Семен Иванович, я надеюсь, что, во всяком случае, — молчание ваше…
— Есть вещи, на которые доктор имеет уши — но рта не имеет.
Никанор Иванович обнял меня и своими мокрыми губами и потным лицом произвел довольно неприятное впечатление на щеке.
И кто-нибудь скажет, что это не поврежденные! Позвольте еще пример.
Рядом со мною живет богатый помещик, гордый своим имением, скряга. Он держит дом назаперти, никого не пускает к себе, редко сам выезжает, и что делает в городе, понять нельзя; не служит, процессов не имеет, деревня в пятидесяти верстах, а живет в городе. Были, правда, слухи, что один мужик, которого он наказал, как-то дурно посмотрел на него и сглазил; он так испугался его взгляда, что очень ласково отпустил мужика, а сам на другой день перебрался в город. Главное занятие его — стяжание и накапливание денег; но это делается за кулисами; я вам хочу показать его в торжественных минутах жизни. У него в гостинице и на почте закуплены слуги, чтобы извещать его, когда по городу проезжает какой-нибудь сановник, генерал внутренней стражи, генерал путей сообщения, ревизующий чиновник не ниже V класса.
Сосед мой, получивши весть, тотчас надевал дворянский мундир и отправлялся к его превосходительству; тот, разумеется, с дороги спал, соседа не пускали; он давал на водку целковый, синенькую, упорствовал, дожидался часы целые, — наконец об нем докладывали.
Генерал (ибо в эти минуты я чиновник V класса чувствовал себя не только генералом, но генерал-фельдмаршалом) принимал просителя, не скрывая ярости и не воздавая весу и меры словам и движениям. Проситель после долгих околичностей докладывал; что вся его просьба, от которой зависит его счастие, счастие его детей и жены, состоит в том, чтобы: его превосходительство изволило откушать, у него завтра или отужинать сегодня; он так трогательно просил, что ни один высокий сановник не мог противустоять и давал ему слово. Тут наставали поэтические минуты его жизни. Он бросался в рыбные, ряды, покупал стерлядь ростом с известного тамбурмажора, и ее живую перевозили в подвижном озере к нему на двор, выгружалось старинное серебро, вынималось старое вино. Он бегал из комнаты в комнату, бранился с женою, делал отеческие исправления дворецкому, грозился на всю жизнь сделать уродом и несчастным повара (для ободрения), звал человек двадцать гостей, бегал с курильницей по комнатам, встречал в сенях генерала, целовал его в шов, идущий под руку. Шампанское лилось у скряги за здравие высокого проезжего. И заметьте, все это из помешательства, все это бескорыстно. И что еще важнее для психиатрии, — что его безумие всякий раз полярно переносилось с обратными признаками на гостя. Гость верил, что он по гроб одолжает хозяина тем, что прекрасно обедал. Каковы диагностические знаки безумия!
Отовсюду текли доказательства очевидные, не подлежащие сомнению моей основной мысли.
Успокоившись насчет жителей нашего города, я пошел далее. Выписал себе знаменитейшие путешествия, древние и новые исторические творения и подписался на аутсбургскую «Всеобщую газету».
Слезы умиления не раз наполняли — глаза мои при чтении. Я не говорю уже об аугсбургской газете, на нее я с самого начала смотрел не как на суетный дневник всякой всячины, а как на всеобщий бюллетень разных богоугодных заведений для несчастных, страждущих душевными болезнями. Нет! Что бы историческое я ни начинал читать, везде, во все времена открывал я разные безумия, которые соединялись в одно всемирное хроническое сумасшествие. Тита Ливия я брал или Муратори, Тацита или Гиббона[16] — никакой разницы: все они, равно как и наш отечественный историк Карамзин, — все доказывают одно: что история, не что иное, как связный рассказ родового хронического безумия и его медленного излечения (этот рассказ даст по наведению полное право надеяться, что через тысячу лет двумя-тремя безумиями будет меньше). Истинно, не считаю нужным приводить примеры; их миллионы. Разверните какую хотите историю, везде вас поразит, что вместо действительных интересов всем заправляют мнимые фантастические интересы; вглядитесь, из-за чего льется кровь, из-за чего несут крайность, что восхваляют, что порицают, — и вы ясно убедитесь в печальной на первый взгляд истине — и истине, полной утешения на второй взгляд, что все это следствие расстройства умственных способностей. Куда ни взглянешь в древнем мире, везде безумие почти также очевидно, как в новом. Тут Курций бросается в яму для спасения города, там отец приносит дочь на жертву,[17] чтобы был попутный ветер, и нашел старого дурака, который прирезал бедную девушку, и этого бешеного не посадили на цепь, не свезли, в желтый дом, а признали за первосвященника. Здесь персидский царь[18] гоняет море сквозь строй, так же мало понимая нелепость поступка, как его враги афиняне, которые цикутой хотели лечить от разума и сознания.[19] А что это за белая горячка была, вследствие которой императоры гнали христианство! Разве трудно было рассудить, что эти средства палачества, тюрем, крови, истязаний ничего не могли сделать против сильных убеждений, а удовлетворяли только животной свирепости гонителей?
Как только христиан домучили, дотравили зверями, они сами принялись мучить и гнать друг друга с еще большим озлоблением, нежели их гнали. Сколько невинных немцев и французов погибло так, из вздору, и помешанные судьи их думали, что они исполняли свой долг, и спокойно спали в нескольких шагах от того места, где дожаривались еретики.
Кто не видит ясные признаки безумия в средних веках — тот вовсе незнаком с психиатрией. В средних веках все безумно. Если и выходит что-нибудь путное, то совершенно противуположно желанию. Ни одного здорового понятия не осталось в средневековых головах, все перепуталось. Проповедовали любовь — и жили в ненависти, проповедовали мир — и лили реками кровь. К тому же целые сословия подвергались эпидемической дури каждое на свой лад; например, одного человека в латах считали сильнее тысячи человек, вооруженных дубьем, а рыцари сошли с ума на том, что они дикие звери, и сами себя содержали по селлюлярному порядку[20] новых тюрем в укрепленных сумасшедших домах по скалам, лесам и проч.
История доселе остается непонятною от ошибочной точки зрения. Историки, будучи большею частию не врачами, не знают, на что обращать внимание; они стремятся везде выставить после придуманную разумность и необходимость всех народов и событий; совсем напротив, надобно на историю взглянуть с точки зрения патологии, надобно взглянуть на исторические лица с точки зрения безумия, на события — с точки зрения нелепости и ненужности.
История — горячка, производимая благодетельной натурой, посредством которой человечество пытается отделываться от излишней животности; но как бы реакция ни была полезна, все же она — болезнь. Впрочем, в наш образованный век стыдно доказывать простую мысль, что история аутобиография сумасшедшего.
Интерес летописей и путешествий тот же самый, который мы находим в анатомико-патологическом кабинете. Кстати — о путешествиях. Они не менее истории принесли мне подтверждений, и тем приятнейших, что все описываемые в них безумия делались не за тысячу лет, а совершаются теперь, сейчас, в ту минуту, как я пишу, и будут совершаться в ту минуту, как вы, любезный читатель, займетесь чтением моего отрывка. Доказательства и здесь совершеннейшая роскошь; разверните Магеллана, разверните Дюмон д'Юрвиля и читайте первое, что раскроется, — будет хорошо: вам или индеец попадется какой-нибудь, который во славу Вишны[21] сидит двадцать лет с поднятой рукой и не утирает носу для приобретения бесконечной радости на том свете, или женщина, которая из учтивости и приличия бросается на костер, на котором жгут труп мужа. Восток — классическая страна безумия, но, впрочем, и в Европе очень удовлетворительные симптомы и в ирландском вопросе, и в вопросе о пауперизме,[22] и во многих других. Да, сверх того, в Европе остались несколько видоизмененными и все азиатские глупости, собственно переменились только названия.
Здесь я останавливаюсь. Я хотел передать публике на первый случай небольшой отрывок. Кто желает более знать по сей части, тот пусть купит курс психиатрии, когда он выйдет (о цене и условиях подписки своевременно через ведомости объявлено будет).
Объяснительное прибавление от автора
Я не могу положить пера, не сказав еще несколько объяснительных и, так сказать, предупредительных замечаний. Знаю я, что неблагонамеренность обвинит меня в желании блеснуть новизною, в гордости и пренебрежении к больным — за то, что я их не считаю здоровыми. Совесть моя чиста. Не гордость и пренебрежение, а любовь привела меня к моей теории, и когда я совершенно убедился в истинности ее, весь нравственный быт мой переменился; мне стало легко, упования и надежды расцвели, как в молодости. Прежняя нетерпимость, готовность порицания и осуждения заменились теплым чувством сострадания к больным, и вместо желания отвратительной мести за действия, явным образом сделанные под влиянием болезни, явилось кроткое снисхождение и сильное желание помочь больному. (Я даже в доме умалишенных вывел наказания, не желая вступать в соревнование с безумными, ни побеждать их в нелепости.) Что же касается до предполагаемого иною обвинения в желании блеснуть новизною, то я обязан заметить, что в разных формах мысль медицинская, мною проведенная, являлась многим в голову. Аристотель называл Анаксагора единым трезвым в сонме пьяных.[23] Спиноза видел одно бессилие разума в человеке безнравственном, Бентам прямо сказал, что «всякий преступник прежде всего дурной счетчик»,[24] человек с здравым смыслом не может дурно считать. Бентам прав; он, однако, не понял, что если преступник делает арифметические ошибки слишком грубые, то все остальные — тоже дурные счетчики, но ошибаются в мелочах или с общего согласия. Люди окружены целой атмосферой, призрачной и одуряющей, всякий человек более или менее, как Матренина дочь (зри выше), с малых лет, при содействии родителей и семьи, приобщается мало-помалу к эпидемическому сумасшествию окружающей среды (немецкие врачи называют эту болезнь der bistorische Standpunkt[25]); вся жизнь наша, все действия так и рассчитаны по этой атмосфере в том роде, как нелепые формы ихтиосауров, мастодонтов были рассчитаны и сообразны первобытной атмосфере земного шара.
Местами воздух становится чище, болезни душевные укрощаются. Но нелегко переработывается в душе человеческой родовое безумие; большие усилия надобно употреблять для малейшего шага. Вспомните романтизм — эту духовную золотуху, одну из злотворнейших психических эпидемий, поддерживающую организм в беспрерывном и неестественном раздражении, поселяющую отвращение к всему действительному, практическому и истощающую страстями вымышленными.
Вспомните аристократизм, эту застарелую подагру нравственного мира, иудейскую проказу исключительной национальности и проч.
Предвижу еще один вопрос: что же ты, занимавшийся столько лет исторической психиатрией, — открыл ли какие-нибудь средства лечения? Что же плод твоих трудов?
Во-первых, истина, во-вторых, точка зрения, в-третьих, я далеко не все сказал, а намекнул, означил, слегка указал только.
Средств я нашел мало, но средства есть. При дальнейшем развитии органической химии, при благодетельной помощи натуры можно будет выделывать и поправлять вещество мозга.
Мы имеем уже драгоценные наблюдения касательно возможности химически улучшать и видоизменять духовную сторону, хотя она совершенно независима. Так, например, прилично употребленное лечение шампанским располагает человека к дружбе, к доблести, к чувствам радостным и объятиям разверстым. Действуя же бургонским точно таким же образом, то есть отправляя его через желудок в вены и оттуда в голову, выходит результат совсем иной: человек делается мрачен, несообщителен, более склонен к ревности, нежели к любви, к раскаянию, нежели к наслаждению, к плачу о грехах мира сего, нежели к снисхождению, — для меня тут ключ к психотерапии, и вот я десятый год, не щадя ни издержек, ни здоровья, занимаюсь постоянно изучением действия на умственные способности вышеозначенных медикаментов и разных других. Чего не сделает человек из пламенной любви к науке!
Москва, 10 февраля 1846Примечания
1
Этот небольшой отрывок был помещен в «Современнике» 1847 года с значительными пропусками, сделанными цензурой. Мы его печатаем теперь в настоящем виде. (Примеч. А. И. Герцена.)
(обратно)2
…от резиденции… — т. е. от Москвы, превратившейся из столицы в резиденцию царской семьи.
(обратно)3
Иппократ (Иппократ) — древнегреческий врач (ок. 460–370 до н. э.).
(обратно)4
С. Крупов, медицины и хирургии доктор (лат.).
(обратно)5
Вакационное время — каникулы, свободное от занятий время.
(обратно)6
Квинтилиан М. Ф. (ок. 35–96 н. э.) — теоретик ораторского искусства в Древнем Риме.
(обратно)7
Нил Сорский (1433–1508) — автор «Устава скитского монашеского жития», русский религиозный деятель.
(обратно)8
Извините (от фр. excusez).
(обратно)9
Вольфий Х. (Вольф) — (1679–1754) — немецкий философ-идеалист, создавший учение о бессмертии человеческой души.
(обратно)10
Умопомешательство (лат.).
(обратно)11
Человеку свойственно ошибаться! (лат.).
(обратно)12
Теменные кости (лат.).
(обратно)13
Боергав Г. (Бургав) (1668–1738) — голландский врач. Гуфланд К. Ф. (Гуфеланд) (1762–1836) — немецкий профессор, медик, автор книги «Искусство продления человеческой жизни» (1797).
(обратно)14
Ганеман С. (1755–1843) — немецкий ученый, основатель гомеопатии.
(обратно)15
См.: Сравнительной психиатрии часть II, глава IV. Марсомания, отдел I. Марсомания мирная и т. д. (Примеч. А. И. Герцена.)
(обратно)16
Ливий Тит (59 до н. э. — 17 н. э.); Тацит Корнелий (ок. 54–117) — древнеримские историки. Муратори Л. А. (1672–1750) — итальянский историк и философ. Гиббон Э. (1737–1794) — английский буржуазный историк, автор книг по истории Рима и Византии.
(обратно)17
…отец приносит дочь в жертву… — Чтобы выпросить у богов попутный ветер для похода на Трою, царь Микен Аганемнон принес в жертву свою дочь Ифигинею.
(обратно)18
…персидский царь… — Ксеркс I (V в. до н. э.), как рассказывает Геродот в своей «Истории», приказал высечь море, за то что во время шторма был разрушен построенный персами мост через Геллеспонт.
(обратно)19
…цикутой хотели лечить от разума и сознания. — Приговоренный за безбожие афинскими гражданами к смертной казни философ Сократ (ок. 470–399 до н. э.) вынужден был в соответствии с обычаем выпить чашу с соком ядовитого растения — цикуты.
(обратно)20
Селлюлярный порядок — одиночный порядок.
(обратно)21
Вишна (Вишну) — одно из высших божеств индуисткой религии.
(обратно)22
Пауперизм — бедственное состояние трудящихся масс в странах капитала, в результате их эксплуатации и безработицы.
(обратно)23
Аристотель называл Анаксагора единым трезвым в сонме пьяных — в кн. I, гл. 3-й своей «Метафизики» — за материалистические воззрения философа.
(обратно)24
…Бентам… сказал, что «…преступник… дурной счетчик»… — в «Рассуждении о гражданском и уголовном законоположении». Перевод этого сочинения опубликован в России в 1805–1811 гг.
(обратно)25
Исторической точкой зрения (нем.).
(обратно)
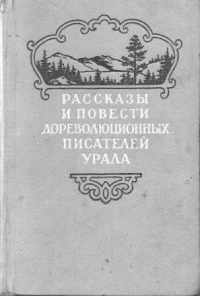



Комментарии к книге «Доктор Крупов», Александр Иванович Герцен
Всего 0 комментариев