ПЕРВЫЙ ОТРЫВОК ИЗ «СЕМЕЙНОЙ ХРОНИКИ» СТЕПАН МИХАЙЛОВИЧ БАГРОВ
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
Тесно стало моему дедушке жить в Симбирской губернии, в родовой отчине своей, жалованной предкам его от царей московских; тесно стало ему не потому, чтоб в самом деле было тесно, чтоб недоставало лесу, пашни, лугов и других угодьев, — всего находилось в излишестве, — а потому, что отчина, вполне еще прадеду его принадлежавшая, сделалась разнопоместною. Событие совершилось очень просто: три поколения сряду в роду его было по одному сыну и по нескольку дочерей; некоторые из них выходили замуж, и в приданое им отдавали часть крестьян и часть земли. Части их были небольшие, но уже четверо чужих хозяев имели право на общее владение неразмежеванною землею, — и дедушке моему, нетерпеливому, вспыльчивому, прямому и ненавидящему домашние кляузы, сделалась такая жизнь несносною. С некоторого времени стал он часто слышать об Уфимском наместничестве, о неизмеримом пространстве земель, угодьях, привольях, неописанном изобилии дичи и рыбы и всех плодов земных, о легком способе приобретать целые области за самые ничтожные деньги. Носились слухи, что стоило только позвать к себе в гости десяток родичей отчинников Картобынской или Кармалинской тюбы,[1] дать им два-три жирных барана, которых они по-своему зарежут и приготовят, поставить ведро вина, да несколько ведер крепкого ставленого башкирского меду, да лагун корчажного крестьянского пива, так и дело в шляпе: неоспоримое доказательство, что башкирцы были не строгие магометане и в старину. Говорили, правда, что такое угощение продолжалось иногда неделю и две; да с башкирцами и нельзя вдруг толковать о деле, и надо всякий день спрашивать: «А что, знаком, добрый человек, давай говорить об мой дела».[2]
Если гости, евшие и пившие буквально день и ночь, еще не вполне довольны угощением, не вполне напелись своих монотонных песен, наигрались на чебызгах,[3] наплясались, стоя и приседая на одном месте в самых карикатурных положениях, то старший из родичей, пощелкавши языком, покачав головой и не смотря в лицо спрашивающему, с важностию скажет в ответ: «Пора не пришел — еще баран тащи». Барана, разумеется, притащат, вина, меду нальют, и вновь пьяные башкирцы поют, пляшут и спят, где ни попало… Но всему в мире есть конец; придет день, в который родич скажет, уже прямо смотря в глаза спрашивающему: «Ай, бачка, спасибо, больно спасибо! Ну что, какой твой нужда?» Тут, как водится, с природною русскому человеку ловкостию и плутовством, покупщик начнет уверять башкирца, что нужды у него никакой нет, а наслышался он, что башкирцы больно добрые люди, а потому и приехал в Уфимское наместничество и захотел с ними дружбу завести и проч. и проч.; потом речь дойдет нечаянно до необъятного количества башкирских земель, до неблагонадежности припущенников,[4] которые год-другой заплатят деньги, а там и платить перестанут, да и останутся даром жить на их землях, как настоящие хозяева, а там и согнать их не смеешь и надо с ними судиться; за такими речами (сбывшимися с поразительной точностью) последует обязательное предложение избавить добрых башкирцев от некоторой части обременяющих их земель… и за самую ничтожную сумму покупаются целые области и заключают договор судебным порядком, в котором, разумеется, нет и быть не может количества земли: ибо кто же ее мерил? Обыкновенно границы обозначаются урочищами, например вот так: «От устья речки Конлыелга до сухой березы на волчьей тропе, а от сухой березы прямо на общий сырт, а от общего сырта до лисьих нор, от лисьих нор до Солтамраткиной борти» и прочее. И в таких точных и неизменных межах и урочищах заключалось иногда десять, двадцать и тридцать тысяч десятин земли! И за все это платилось каких-нибудь сто рублей (разумеется, целковыми) да на сто рублей подарками, не считая частных угощений. — Полюбились дедушке моему такие рассказы; и хотя он был человек самой строгой справедливости и ему не нравилось надуванье добродушных башкирцев, но он рассудил, что не дело дурно, а способ его исполнения и что, поступя честно, можно купить обширную землю за сходную плату, что можно перевесть туда половину родовых своих крестьян и переехать самому с семейством, то есть достигнуть главной цели своего намерения; ибо с некоторого времени до того надоели ему беспрестанные ссоры с мелкопоместными своими родственниками за общее владение землей, что бросить свое родимое пепелище, гнездо своих дедов и прадедов, сделалось любимою его мыслию, единственным путем к спокойной жизни, которую он, человек уже немолодой, предпочитал всему.
Итак, накопивши несколько тысяч рублей, простившись с своей супругою, которую звал Аришей, когда был весел, и Ариной, когда бывал сердит, поцеловав и благословив четырех малолетных дочерей и особенно новорожденного сына, единственную отрасль и надежду старинного дворянского своего дома, ибо дочерей считал он ни за что. «Что в них проку! ведь они глядят не в дом, а из дому. Сегодня Багровы, а завтра Шлыгины, Малыгины, Поповы, Колпаковы. Одна моя надежда — Алексей…» — сказал на прощанье мой дедушка и отправился за Волгу, в Уфимское наместничество.
Но не сказать ли вам наперед, что за человек был мой дедушка.
Степан Михайлович Багров, так звали его, был не только среднего, а даже небольшого роста; но высокая грудь, необыкновенно широкие плечи, жилистые руки, каменное, мускулистое тело обличали в нем силача. В разгульной юности, в молодецких потехах, кучу военных товарищей, на него нацеплявшихся, стряхивал он, как брызги воды стряхивает с себя коренастый дуб после дождя, когда его покачнет ветер. Правильные черты лица, прекрасные большие темно-голубые глаза, легко загоравшиеся гневом, но тихие и кроткие в часы душевного спокойствия, густые брови, приятный рот — все это вместе придавало самое открытое и честное выражение его лицу; волосы у него были русые. Не было человека, кто бы ему не верил; его слово, его обещание было крепче и святее всяких духовных и гражданских актов. Природный ум его был здрав и светел. Разумеется, при общем невежестве тогдашних помещиков и он не получил никакого образования, русскую грамоту знал плохо; но служа в полку, еще до офицерского чина выучился он первым правилам арифметики и выкладке на счетах, о чем любил говорить даже в старости. Вероятно, он служил не очень долго, ибо вышел в отставку каким-то полковым квартирмейстером. Впрочем, тогда дворяне долго служили в солдатском и унтер-офицерском званиях, если не проходили их в колыбели и не падали всем на голову из сержантов гвардии капитанами в армейские полки. О служебном поприще Степана Михайловича я мало знаю; слышал только, что он бывал часто употребляем для поимки волжских разбойников и что всегда оказывал благоразумную распорядительность и безумную храбрость в исполнении своих распоряжений, что разбойники знали его в лицо и боялись, как огня. Вышед в отставку, несколько лет жил он в своем наследственном селе Троицком, Багрово тож, и сделался отличным хозяином. Он не торчал день и ночь при крестьянских работах, не стоял часовым при ссыпке и отпуске хлеба; смотрел редко, да метко, как говорят русские люди, и, уж прошу не прогневаться, если замечал что дурное, особенно обман, то уже не спускал никому. Дедушка, сообразно духу своего времени, рассуждал по-своему: наказать виноватого мужика тем, что отнять у него собственные дни, — значит вредить его благосостоянию, то есть своему собственному; наказать денежным взысканием — тоже; разлучить с семейством, отослать в другую вотчину, употребить в тяжелую работу — тоже, и еще хуже, ибо отлучка от семейства — несомненная порча; прибегнуть к полиции… боже помилуй, да это казалось таким срамом и стыдом, что вся деревня принялась бы выть по виноватом, как по мертвом, и наказанный счел бы себя опозоренным, погибшим. Да и надо сказать, что дедушка мой был строг только в пылу гнева; прошел гнев, прошла и вина. Этим пользовались: иногда виноватый успевал спрятаться, и гроза проходила мимо. Скоро крестьяне его пришли в такое положение, что было не на кого и не за что рассердиться.
Приведя в порядок свое хозяйство, дедушка мой женился на Арине Васильевне Неклюдовой, небогатой девице, также из старинного дворянского дома. При этом случае кстати объяснить, что древность дворянского происхождения была коньком моего дедушки, и хотя у него было сто восемьдесят душ крестьян, но, производя свой род, бог знает по каким документам, от какого-то варяжского князя, он ставил свое семисотлетнее дворянство выше всякого богатства и чинов. Он не женился на одной весьма богатой и прекрасной невесте, которая ему очень нравилась, единственно потому, что прадедушка ее был не дворянин.
Итак, вот каков был Степан Михайлович; теперь возвратимся к прерванному рассказу.
Переправившись чрез Волгу под Симбирском, дедушка перебил поперек степную ее сторону, называемую луговою, переехал Черемшан, Кандурчу, чрез Красное поселение, слободу селившихся тогда отставных солдат, и приехал в Сергиевск, стоящий на горе при впадении реки Сургута в Большой Сок. Сергиевск — ныне заштатный город, давший свое имя находящимся в двенадцати верстах от него серным источникам, известным под названием Сергиевских серных вод. Чем дальше углублялся дедушка в Уфимское наместничество, тем привольнее, изобильнее становились места. Наконец, в Бугурусланском уезде, около Абдуловского казенного винного завода, показались леса. В уездном городе Бугуруслане, расположенном по высокой горе, над рекою Большой Кинель, про которую долго певалась песня:
Кинель река Не быстра, глубока, Только тиниста, —в Бугуруслане остановился Степан Михайлович, чтоб порасспросить и поразузнать поближе о продающихся землях, В этом уезде уже мало оставалось земель, принадлежавших башкирцам: все заселялись или казенными крестьянами, которым правительство успело раздать земли, описанные в казну за Акаевский бунт, прежде всеобщего прощения и возвращения земель отчинникам башкирцам, или были уже заселены их собственными припущенниками, или куплены разными помещиками. Из Бугуруслана дедушка делал поездки в Бугульминский, Бирский и Мензелинский уезды (из некоторых частей двух последних составлен ныне новый Белебеевский уезд); побывал он на прекрасных берегах Ика и Демы. Места очаровательные! И в старости Степан Михайлович с восторгом вспоминал о первом впечатлении, произведенном на него изобильными, плодоносными окрестностями этих рек; но он не поддался обольщению и узнал покороче на месте, что покупка башкирских земель неминуемо поведет за собою бесконечные споры и тяжбы, ибо хозяева сами хорошенько не знали прав своих и числа настоящих отчинников. Дедушка мой, ненавидящий и боявшийся, как язвы, слова тяжба, решился купить землю, прежде купленную другим владельцем, справленную и отказанную за него судебным порядком, предполагая, что тут уже не может быть никакого спора. Казалось, что суждение его было справедливо, но на деле вышло совсем другое, и меньшой внук его, уже будучи сорока лет, покончил последний спор. С сожалением воротился с берегов Ика и Демы дедушка мой в Бугуруслан и в двадцати пяти верстах от него купил землю у помещицы Грязевой по речке Большой Бугуруслан, быстрой, глубокой и многоводной. На сорок верст протяжения, от города Бугуруслана до казенного селения Красный Яр, оба берега его были не заселены: что за угодье, что за приволье было тогда на этих берегах! Вода такая чистая, что даже в омутах, сажени в две глубиною, можно было видеть на дне брошенную медную денежку! Местами росла густая урема[5] из березы, осины, рябины, калины, черемухи и чернотала, вся переплетенная зелеными гирляндами хмеля и обвешанная палевыми кистями его шишек; местами росла тучная высокая трава с бесчисленным множеством цветов, над которыми возносили верхи свои душистая кашка, татарское мыло (боярская спесь), скорлазубец (царские кудри) и кошечья трава (валериана). Бугуруслан течет по долине; по обеим сторонам его тянутся, то теснясь, то отступая, отлогие, а иногда и крутые горы; по скатам и отрогам их изобильно рос всякий черный лес; поднимешься на гору — там равнина, непочатая степь, чернозем в аршин глубиною. По реке и окружающим ее инде болотам все породы уток и куликов, гуси, бекасы, дупели и курахтаны вили свои гнезда и разнообразным криком и писком наполняли воздух; на горах же, сейчас превращавшихся в равнины, покрытые тучною травою, воздух оглашался другими особенными свистами и голосами; там водилась во множестве вся степная птица: дрофы, журавли, стрепета, кроншнепы и кречетки; по лесистым отрогам жила бездна тетеревов; река кипела всеми породами рыб, которые могли сносить ее студеную воду: щуки, окуни, голавли, язи, даже кутема и лох изобильно водились в ней; всякого зверя и в степях и лесах было невероятное множество; словом сказать: это был — да и теперь есть — уголок обетованный. — Дедушка купил около пяти тысяч десятин земли и заплатил так дорого, как никто тогда не плачивал, по полтине за десятину. Две тысячи пятьсот рублей в то время была великая сумма. Совершив купчую крепость и приняв землю во владение, то есть справив и отказав ее за собою, весело воротился он в Симбирскую губернию к ожидавшему его семейству и живо, горячо принялся за все приготовления к немедленному переселению крестьян: дело очень хлопотливое и трудное по довольно большому расстоянию, ибо от села Троицкого до ново-купленной земли было около четырехсот верст. В ту же осень двадцать тягол отправились в Бугурусланский уезд, взяв с собою сохи, бороны и семянной ржи; на любых местах взодрали они девственную почву, обработали двадцать десятин озимого посеву, то есть переломали непареный залог и посеяли рожь под борону; потом подняли нови еще двадцать десятин для ярового сева, поставили несколько изб и воротились на зиму домой. В конце зимы другие двадцать человек отправились туда же и с наступившею весною посеяли двадцать десятин ярового хлеба, загородили плетнями дворы и хлевы, сбили глиняные печи и опять воротились в Симбирскую губернию; но это не были крестьяне, назначаемые к переводу; те оставались дома и готовились к переходу на новые места: продавали лишний скот, хлеб, дворы, избы, всякую лишнюю рухлядь. Наконец, в половине июня, чтобы поспеть к Петрову дню, началу сенокоса, нагрузив телеги женами, детьми, стариками и старухами, прикрыв их согнутыми лубьями от дождя и солнца, нагромоздив необходимую домашнюю посуду, насажав дворовую птицу на верхи возов и привязав к ним коров, потянулись в путь бедные переселенцы, обливаясь горькими слезами, навсегда прощаясь с стариною, с церковью, в которой крестились и венчались, и с могилами дедов и отцов. Переселение, тяжкое везде, особенно противно русскому человеку; но переселяться тогда в неизвестную басурманскую сторону, про которую, между хорошими, ходило много и недобрых слухов, где, по отдаленности церквей, надо было и умирать без исповеди и новорожденным младенцам долго оставаться некрещеными, — казалось делом страшным!.. За крестьянами отправился и дедушка. Новоселившуюся деревню назвал Знаменским, дав обет, со временем, при благоприятных обстоятельствах построить церковь во имя знамения божия матери, празднуемого 27 ноября, что и было исполнено уже его сыном. Но крестьяне, а за ними и все окружные соседи, назвали новую деревеньку Новым Багровом, по прозванию своего барина и в память Старому Багрову, из которого были переведены: даже и теперь одно последнее имя известно всем, а первое остается только в деловых актах: богатого села Знаменского с прекрасною каменною церковию и высоким господским домом не знает никто. Неусыпно и неослабно смотрел дедушка за крестьянскими и за господскими работами: вовремя убрался с сенокосом, вовремя сжал яровое и ржаное и вовремя свез в гумно. Урожай был неслыханный, баснословный. Крестьяне ободрились. К ноябрю месяцу у всех были построены избы, и даже поспел небольшой господский флигель. Разумеется, дело не обошлось без вспоможения соседей, которые, несмотря на дальнее расстояние, охотно приезжали на помочи к новому разумному и ласковому помещику, — попить, поесть и с звонкими песнями дружно поработать. Зимой дедушка отправился в Симбирскую деревню и перевез свое семейство. На следующий год уже не так трудно было перевесть еще сорок душ и обзавести их хозяйством. Первым делом дедушки было в этот же год построить мельницу, ибо молоть хлеб надо было ездить верст за сорок. Итак, выбрав заранее место, где вода была не глубока, дно крепко, а берега высоки и также крепки, с обеих сторон реки подвели к ней плотину из хвороста и земли, как две руки, готовые схватиться, а для большей прочности оплели плотину плетнем из гибкой ивы: оставалось удержать быструю и сильную воду и заставить ее наполнить назначенное ей водоемище. С одной стороны, где берег казался пониже, заранее устроен был мельничный амбар на два мукомольные постава с толчеей. Все снасти были готовы и даже смазаны; на огромные водяные колеса через деревянные трубы кауза[6] должна была броситься река, когда, прегражденная в своем природном русле, она наполнит широкий пруд и станет выше дна кауза. Когда все уже было готово и четыре длинные дубовые сваи крепко вколочены в твердое, глинистое дно Бугуруслана, поперек будущего вешняка, дедушка сделал помочь на два дня; соседи были приглашены с лошадьми, телегами, лопатами, вилами и топорами. В первый день огромные кучи хвороста из нарубленного мелкого леса и кустов, копны соломы, навозу и свежего дерна были нагромождены по обеим сторонам Бугуруслана, до сих пор вольно, неприкосновенно стремившего свои воды. На другой день, на восходе солнца, около ста человек собрались занимать заимку, то есть запрудить реку. На всех лицах было что-то заботливое и торжественное: все к чему-то готовились; вся деревня почти не спала эту ночь. Дружно в одно и то же мгновенье, с громким криком сдвинули в реку с обоих берегов кучи хвороста, сначала связанного пучками; много унесло быстрое течение воды, но много его, задержанного сваями, легло поперек речного дна; связанные копны соломы с каменьями полетели туда же, за ними следовал навоз и земля; опять настилка хвороста, и опять солома и навоз, и сверху всего толстые слои дерна. Когда все это, кое-как затопленное, стало выше поверхности воды, человек двадцать крестьян, дюжих и ловких, вскочили на верх запруды и начали утаптывать и уминать ее ногами. Все это производилось с такою быстротою, с таким общим рвением, беспрерывным воплем, что всякий проезжий или прохожий испугался бы, услыхав его, если б не знал причины. Но пугаться было некому; одни дикие степи и темные леса на далекое пространство оглашались неистовыми криками сотни работников, к которым присоединялось множество голосов женских и еще больше ребячьих, ибо все принимало участие в таком важном событии, все суетилось, бегало и кричало. Не скоро сладили с упрямой рекой; долго она рвала и уносила хворост, солому, навоз и дерн; но, наконец, люди одолели, вода не могла пробиться более, остановилась, как бы задумалась, завертелась, пошла назад, наполнила берега своего русла, затопила, перешла их, стала разливаться по лугам, и к вечеру уже образовался пруд, или, лучше сказать, всплыло озеро без берегов, без зелени, трав и кустов, на них всегда растущих; кое-где торчали верхи затопленных погибших дерев. На другой день затолкла толчея, замолола мельница — и мелет и толчет до сих пор…
ОРЕНБУРГСКАЯ ГУБЕРНИЯ
Боже мой, как, я думаю, была хороша тогда эта дикая, девственная, роскошная природа!.. Нет, ты уже не та теперь, не та, какою даже и я зазнал тебя — свежею, цветущею, неизмятою отвсюду набежавшим разнородным народонаселением! Ты не та, но все еще прекрасна, так же обширна, плодоносна и бесконечно разнообразна, Оренбургская губерния!.. Дико звучат два эти последние слова! Бог знает, как и откуда зашел туда бург!.. Но я зазнал тебя, благословенный край, еще Уфимским наместничеством!
Чудесный край, благословенный, Хранилище земных богатств, Не вечно будешь ты, забвенный, Служить для пастырей и паств! И люди набегут толпами, Твое приволье полюбя, И не узнаешь ты себя Под их нечистыми руками! Помнут луга, порубят лес, Взмутят в водах лазурь небес! И горы соляных кристаллов По тузлукам твоим найдут И руды дорогих металлов Из недр глубоких извлекут! И тук земли не истощенный Всосут чужие семена, Чужие снимут племена Их плод, сторицей возвращенный! И в глубь лесов и в даль степей Разгонят дорогих зверей!Так писал о тебе, лет тридцать тому назад, один из твоих уроженцев, и все это отчасти уже исполнилось или исполняется с тобою; но все еще прекрасен ты, чудесный край! Светлы и прозрачны, как глубокие, огромные чаши, стоят озера твои — Кандры и Каратабынь. Многоводны и многообильны разнообразными породами рыб твои реки, то быстротекущие по долинам и ущельям между отраслями Уральских гор, то светло и тихо незаметно катящиеся по ковылистым степям твоим, подобно яхонтам, нанизанным на нитку. Чудны эти степные реки, все из бесчисленных, глубоких водоемин, соединяющихся узкими и мелкими протоками, в которых только и приметно течение воды. В твоих быстрых родниковых ручьях, прозрачных и холодных, как лед, даже в жары знойного лета, бегущих под тенью дерев и кустов, живут все породы форелей, изящных по вкусу и красивых по наружности, скоро пропадающих, когда человек начнет прикасаться нечистыми руками своими к девственным струям их светлых прохладных жилищ. Чудесной растительностью блистают твои тучные, черноземные, роскошные луга и поля, то белеющие весной молочным цветом вишенника, клубничника и дикого персика, то покрытые летом, как красным сукном, ягодами ароматной полевой клубники и мелкою вишнею, зреющею позднее и темнеющею к осени. Обильною жатвой награждается ленивый и невежественный труд пахаря, кое-как и кое-где всковырявшего жалкою сохою или неуклюжим сабаном твою плодоносную почву! Свежи, зелены и могучи стоят твои разнородные черные леса, и рои диких пчел шумно населяют нерукотворные борти твои, занося их душистым липовым медом. И уфимская куница, более всех уважаемая, не перевелась еще в лесистых верховьях рек Уфы и Белой! Мирны и тихи патриархальные первобытные обитатели и хозяева твои, кочевые башкирские племена! Много уменьшились, но еще велики, многочисленны конские табуны, и коровьи и овечьи стада их. Еще по-прежнему, после жестокой, буранной зимы отощалые, исхудалые, как зимние мухи, башкирцы с первым весенним теплом, с первым подножным кормом выгоняют на привольные места наполовину передохшие от голода табуны и стада свои, перетаскиваясь и сами за ними с женами и детьми… И вы никого не узнаете через две или три недели! Из лошадиных остовов явятся бодрые и неутомимые кони, и уже степной жеребец гордо и строго пасет косяк кобылиц своих, не подпуская к нему ни зверя, ни человека!.. Раздобрели тощие, зимние стада коров, полны питательной влагой вымя и сосцы их. Но что башкирцу до ароматного коровьего молока! Уже поспел живительный кумыс, закис в кобыльих турсуках,[7] и все, что может пить, от грудного младенца до дряхлого старика, пьет допьяна целительный, благодатный, богатырский напиток, и дивно исчезают все недуги голодной зимы и даже старости: полнотой одеваются осунувшиеся лица, румянцем здоровья покрываются бледные, впалые щеки. Но странный и грустный вид представляют покинутые селения! Наскачет иногда на них ничего подобного не видавший заезжий путешественник и поразится видом опустелой, как будто вымершей деревни! Дико и печально смотрят на него окна разбросанных юрт с белыми трубами, лишенные пузырчатых оконниц, как человеческие лица с выткнутыми глазами… Кое-где лает на привязи сторожевой голодный пес, которого изредка навещает и кормит хозяин, кое-где мяучит одичалая кошка, сама промышляющая себе пищу, — и никого больше, ни одной души человеческой.
Как живописны и разнообразны, каждая в своем роде, лесная, степная и гористая твоя полоса, особенно последняя, по скату Уральского хребта, всеми металлами богатая, золотоносная полоса! Какое пространство от границ Вятской и Пермской губернии, где по зимам не в редкость замерзание ртути, до Гурьева городка на границе Астраханской губернии, где растет мелкий виноград на открытом воздухе, чихирем которого прохлаждаются в летние жары, греются зимою и торгуют уральские казаки! Что за чудесное рыболовство по Уралу! Единственное и по вкусу добываемой красной рыбы[8] и по своему исполнению. Багреньем называется это рыболовство, и ждет оно горячей и верной кисти, чтоб возбудить общее внимание… Но виноват, заговорился я, говоря о моей прекрасной родине… Посмотрим лучше, как продолжает жить и действовать мой неутомимый дедушка.
НОВЫЕ МЕСТА
Ну, отдохнул Степан Михайлович и не раз от души перекрестился, когда перебрался на простор и приволье берегов Бугуруслана. Не только повеселел духом, но и поздоровел телом. Ни просьб, ни жалоб, ни ссор, ни шума! Ни Воейковых, ни Мошенских, ни Сущевых![9]
Ни лесных порубок, ни хлебных потрав, ни помятых лугов! Один полный господин не только над своей землей, но и над чужой. Паси стада, коси траву, руби дрова — никто и слова не скажет. Крестьяне тоже как раз привыкли к новому месту, и полюбилось им оно. Да и как не привыкнуть, как не полюбить! Из безводного и лесного села Троицкого, где было так мало лугов, что с трудом прокармливали по корове да по лошади на тягло, где с незапамятных времен пахали одни и те же загоны и несмотря на превосходную почву, конечно, повыпахали и поистощили землю, — переселились они на обширные плодоносные поля и луга, никогда не тронутые ни косой, ни сохой человека, на быструю, свежую и здоровую воду с множеством родников и ключей, на широкий, проточный и рыбный пруд и на мельницу у самого носа, тогда как прежде таскались они за двадцать пять верст, чтобы смолоть воз хлеба, да и то случалось несколько дней ждать очереди. Вы удивитесь, может быть, что я назвал Троицкое безводным? Обвините стариков, зачем они выбрали такое место? Но дело было не так вначале, и стариков винить не за что: Троицкое некогда сидело на прекрасной речке Майне, вытекавшей версты за три от селения из-под Моховых озер, да сверх того вдоль всего селения тянулось, хотя не широкое, но длинное, светлое и в середине глубокое озеро, дно которого состояло из белого песка; из этого озера даже бежал ручей, называвшийся Белый ключ. Так было в старину, давно, правда, очень давно. По преданию известно, что Моховые озера были некогда глубокими лесными круглыми провалами с прозрачною, холодною, как лед, водою и топкими берегами, что никто не смел близко подходить к ним ни в какое время, кроме зимы, что будто бы берега опускались и поглощали дерзкого нарушителя неприкосновенного царства водяных чертей. Но человек — заклятый и торжествующий изменитель лица природы! Старинному преданию, не подтверждаемому новыми событиями, перестали верить, и Моховые озера мало-помалу, от мочки коноплей у берегов и от пригона стад на водопой, позасорились, с краев обмелели и даже обсохли от вырубки кругом леса; потом заплыли толстою землянистою пеленой, которая поросла мохом и скрепилась жилообразными корнями болотных трав, покрылась кочками, кустами и даже сосновым лесом, уже довольно крупным; один провал затянуло совсем, а на другом остались два глубокие, огромные окна, к которым и теперь страшно подходить с непривычки, потому что земля, со всеми болотными травами, кочками, кустами и мелким лесом, опускается и поднимается под ногами, как зыбкая волна. От уменьшения, вероятно, Моховых озер речка Майна поникла вверху и уже выходит из земли несколько верст ниже селения, а прозрачное, длинное и глубокое озеро превратилось в грязную вонючую лужу; песчаное дно, на сажень и более, затянуло тиной и всякой дрянью с крестьянских дворов; Белого ключа давно и следов нет, скоро не будет о нем и памяти.
Переселясь на новые места, дедушка мой принялся с свойственными ему неутомимостью и жаром за хлебопашество и скотоводство. Крестьяне, одушевленные его духом, так привыкли работать настоящим образом, что скоро обстроились и обзавелись, как старожилы, и в несколько лет гумна Нового Багрова занимали втрое больше места, чем самая деревня, а табун добрых лошадей и стадо коров, овец и свиней казались принадлежащими какому-нибудь большому и богатому селению.
С легкой руки Степана Михайловича переселение в Уфимский или Оренбургский край начало умножаться с каждым годом. Со всех сторон потянулись луговая мордва, черемисы, чуваши, татары и мещеряки; русских переселенцев, казенных крестьян разных ведомств и разнокалиберных помещиков также было немало. Явились и соседи у дедушки: шурин его Иван Васильевич Неклюдов купил землю в двадцати верстах от Степана Михайловича, перевел крестьян, построил деревянную церковь, назвал свое село Неклюдовым и сам переехал в него с семейством, чему дедушка совсем не обрадовался: до всех родственников своей супруги, до всей неклюдовщины, как он называл их, Степан Михайлович был большой неохотник. Помещик Бахметев купил землю еще ближе, верстах в десяти от Багрова, на верховье речки Совруши, текущей параллельно с Бугурусланом на юго-запад; он также перевел крестьян и назвал деревню Бахметевкой. С другой стороны, верстах в двадцати по реке Насягай, или Мочагай, как и до сих пор называют ее туземцы, также завелось помещичье селение Полибино, впоследствии принадлежавшее С. А. Плещееву, а теперь принадлежащее Карамзиным. Насягай больше и лучше Бугуруслана: полноводнее, рыбнее, и птица на нем водилась и водится гораздо изобильнее. По дороге в Полибино, прямо на восток, верстах в восьми от Багрова, заселилась на небольшом ручье большая мордовская деревня Нойкино; верстах в двух от нее построилась мельница на речке Бокле, текущей почти параллельно с Бугурусланом на юг; недалеко от мельницы впадает Бокла в Насягай, который диагоналом с северо-востока торопливо катит свои сильные и быстрые воды прямо на юго-запад. Верстах в семнадцати от Нового Багрова принимает он в себя наш Бугуруслан и, усиленный его водами, недалеко от города Бугуруслана соединяется с Большим Кинелем, теряя в нем знаменательное и звучное свое имя.
Наконец, появился мордовский выселок, под названием Кивацкого, уже только в двух верстах от дедушки, вниз по Бугуруслану; это была мордва, отделившаяся от селения Мордовский Бугуруслан, сидевшего на речке Малый Бугурусланчик верстах в девяти от Багрова. Степан Михайлович сначала поморщился от близкого соседства, напоминавшего ему старое Троицкое; но тут вышло совсем другое дело. Это были добрые, смирные люди, уважавшие дедушку не менее, как своего волостного начальника. В несколько лет Степан Михайлович умел снискать общую любовь и глубокое уважение во всем околотке. Он был истинным благодетелем дальних и близких, старых и новых своих соседей, особенно последних, по их незнанию местности, недостатку средств и по разным надобностям, всегда сопровождающим переселенцев, которые нередко пускаются на такое трудное дело, не приняв предварительных мер, не заготовя хлебных запасов и даже иногда не имея на что купить их. Полные амбары дедушки были открыты всем — бери, что угодно. «Сможешь — отдай при первом урожае; не сможешь — бог с тобой!» С такими словами раздавал дедушка щедрою рукою хлебные запасы на семены и емены. К этому надо прибавить, что он был так разумен, так снисходителен к просьбам и нуждам, так неизменно верен каждому своему слову, что скоро сделался истинным оракулом вновь заселяющегося уголка обширного Оренбургского края. Мало того, что он помогал, он воспитывал нравственно своих соседей! Только правдою можно было получить от него все. Кто раз солгал, раз обманул, тот и не ходи к нему на господский двор: не только ничего не получит, да в иной час дай бог и ноги унести. Много семейных ссор примирил он, много тяжебных дел потушил в самом начале. Со всех сторон ехали и шли к нему за советом, судом и приговором — и свято исполнялись они! Я знал внуков, правнуков тогдашнего поколения, благодарной памяти которых в изустных рассказах передан был благодетельный и строгий образ Степана Михайловича, не забытого еще и теперь. Много слыхал я простых и вместе глубоких воспоминаний, сопровождаемых слезами и крестным знамением об упокоении души его. Не удивительно, что крестьяне любили горячо такого барина; но также любили его и дворовые люди, при нем служившие, часто переносившие страшные бури его неукротимой вспыльчивости. Впоследствии некоторые из молодых слуг его доживали свой век при внуке Степана Михайловича уже стариками; часто рассказывали они о строгом, вспыльчивом, справедливом и добром своем старом барине и никогда без слез о нем не вспоминали.
И этот добрый, благодетельный и даже снисходительный человек омрачался иногда такими вспышками гнева, которые искажали в нем образ человеческий и делали его способным на ту пору к жестоким, отвратительным поступкам. Я видел его таким в моем детстве, что случилось много лет позднее того времени, про которое я рассказываю, — и впечатление страха до сих пор живо в моей памяти! Как теперь гляжу на него: он прогневался на одну из дочерей своих, кажется за то, что она солгала и заперлась в обмане; двое людей водили его под руки; узнать было нельзя моего прежнего дедушку; он весь дрожал, лицо дергали судороги, свирепый огонь лился из его глаз, помутившихся, потемневших от ярости! «Подайте мне ее сюда!» — вопил он задыхающимся голосом. (Это я помню живо: остальное мне часто рассказывали.) Бабушка кинулась было ему в ноги, прося помилования, но в одну минуту слетел с нее платок и волосник, и Степан Михайлович таскал за волосы свою тучную, уже старую Арину Васильевну. Между тем не только виноватая, но и все другие сестры и даже брат их с молодою женою и маленьким сыном убежали из дома и спрятались в рощу, окружавшую дом; даже там ночевали; только молодая невестка воротилась с сыном, боясь простудить его, и провела ночь в людской избе. Долго бушевал дедушка на просторе в опустелом доме. Наконец, уставши колотить Танайченка и Мазана, уставши таскать за косы Арину Васильевну, повалился он в изнеможении на постель и, наконец, впал в глубокий сон, продолжавшийся до раннего утра следующего дня. — Светел, ясен проснулся на заре Степан Михайлович, весело крикнул свою Аришу, которая сейчас прибежала из соседней комнаты с самым радостным лицом, как будто вчерашнего ничего не бывало. «Чаю! Где дети, Алексей, невестушка? Подайте Сережу», — говорил проснувшийся безумец, и все явились, спокойные и веселые, кроме невестки с сыном. Это была женщина сама с сильным характером, и никакие просьбы не могли ее заставить так скоро броситься с ласкою к вчерашнему дикому зверю, да и маленький сын беспрестанно говорил: «Боюсь дедушки, не хочу к нему». Чувствуя себя в самом деле нехорошо, она сказалась больною и не пустила сына. Все пришли в ужас, ждали новой грозы. Но во вчерашнем диком звере сегодня уже проснулся человек. После чаю и шутливых разговоров свекор сам пришел к невестке, которая действительно была нездорова, похудела, переменилась в лице и лежала в постели. Старик присел к ней на кровать, обнял ее, поцеловал, назвал красавицей-невестынькой, обласкал внука и, наконец, ушел, сказавши, что ему «без невестыньки будет скучно». Через полчаса невестка, щегольски, по-городскому разодетая, в том самом платье, про которое свекор говорил, что оно особенно идет ей к лицу, держа сына за руку, вошла к дедушке. Дедушка встретил ее почти со слезами. «Вот и больная невестка себя не пожалела, встала, оделась и пришла развеселить старика», — сказал он с нежностью. Закусили губы и потупили глаза свекровь и золовки, все не любившие невестку, которая почтительно и весело отвечала на ласки свекра, бросая гордые и торжествующие взгляды на своих недоброхоток… Но я не стану более говорить о темной стороне моего дедушки; лучше опишу вам один из его добрых, светлых дней, о которых я много наслышался.
ДОБРЫЙ ДЕНЬ СТЕПАНА МИХАЙЛОВИЧА
В исходе июня стояли сильные жары. После душной ночи потянул на рассвете восточный, свежий ветерок, всегда упадающий, когда обогреет солнце. На восходе его проснулся дедушка. Жарко было ему спать в небольшой горнице, хотя с поднятым на всю подставку подъемом старинной оконной рамы с мелким переплетом, но зато в пологу из домашней рединки. Предосторожность необходимая: без полога заели бы его злые комары и не дали уснуть. Роями носились и тыкались длинными жалами своими в тонкую преграду крылатые музыканты и всю ночь пели ему докучные серенады. Смешно сказать, а грех утаить, что я люблю дишкантовый писк и даже кусанье комаров: в них слышно мне знойное лето, роскошные бессонные ночи, берега Бугуруслана, обросшие зелеными кустами, из которых со всех сторон неслись соловьиные песни; я помню замирание молодого сердца и сладкую, безотчетную грусть, за которую отдал бы теперь весь остаток угасающей жизни… Проснулся дедушка, обтер жаркою рукою горячий пот с крутого, высокого лба своего, высунул голову из-под полога и рассмеялся. Ванька Мазан и Никанорка Танайченок храпели врастяжку на полу, в карикатурно-живописных положениях. «Эк храпят, собачьи дети!» — сказал дедушка и опять улыбнулся. Степан Михайлович был загадочный человек: после такого сильного словесного приступа следовало бы ожидать толчка калиновым подожком (всегда у постели его стоявшим) в бок спящего или пинка ногой, даже приветствия стулом; но дедушка рассмеялся, просыпаясь, и на весь день попал в добрый стих, как говорится. Он встал без шума, раз-другой перекрестился, надел порыжелые, кожаные туфли на босые ноги и в одной рубахе из крестьянской оброчной лленой холстины (ткацкого тонкого полотна на рубашки бабушка ему не давала) вышел на крыльцо, где приятно обхватила его утренняя, влажная свежесть. Я сейчас сказал, что ткацкого холста на рубашки Арина Васильевна не давала Степану Михайловичу, и всякий читатель вправе заметить, что это не сообразно с характерами обоих супругов. Но как же быть — прошу не прогневаться, так было на деле: женская натура торжествовала над мужскою, как и всегда! Не раз битая за толстое белье, бабушка продолжала подавать его и, наконец, приучила к нему старика. Дедушка употребил однажды самое действительное, последнее средство; он изрубил топором на пороге своей комнаты все белье, сшитое из оброчной лленой холстины, несмотря на вопли моей бабушки, которая умоляла, чтоб Степан Михайлович «бил ее, да своего добра не рубил…», но и это средство не помогло: опять явилось толстое белье — и старик покорился… Виноват, опровергая мнимое замечание читателя, я прервал рассказ про «добрый день моего дедушки». Никого не беспокоя, он сам достал войлочный потник, лежавший всегда в чулане, подостлал его под себя на верхней ступени крыльца и сел встречать солнышко по всегдашнему своему обычаю. — Перед восходом солнца бывает весело на сердце у человека как-то бессознательно; а дедушке, сверх того, весело было глядеть на свой господский двор, всеми нужными по хозяйству строениями тогда уже достаточно снабженный. Правда, двор был не обгорожен, и выпущенная с крестьянских дворов скотина, собираясь в общее мирское стадо для выгона в поле, посещала его мимоходом, как это было и в настоящее утро и как всегда повторялось по вечерам. Несколько запачканных свиней потирались и почесывались о самое то крыльцо, на котором сидел дедушка, и, хрюкая, лакомились раковыми скорлупами и всякими столовыми объедками, которые без церемонии выкидывались у того же крыльца; заходили также и коровы и овцы; разумеется, от их посещений оставались неопрятные следы; но дедушка не находил в этом ничего неприятного, а, напротив, любовался, глядя на здоровый скот как на верный признак довольства и благосостояния своих крестьян. Скоро громкое хлопанье длинного пастушьего кнута угнало посетителей. Начала просыпаться дворня. Дюжий конюх Спиридон, которого до глубокой старости звали «Спирькой», выводил, одного за другим, двух рыже-пегих и третьего бурого жеребца, привязывал их к столбу, чистил и проминал на длинной коновязи, причем дедушка любовался их статями, заранее любовался и тою породою, которую надеялся повести от них, в чем и успел совершенно. Проснулась и старая ключница, спавшая на погребице, вышла из погреба, сходила на Бугуруслан умыться, повздыхала, поохала (это была ее неизменная привычка), помолилась богу, оборотясь к солнечному восходу, и принялась мыть, полоскать, чистить горшки и посуду. Весело кружились в небе, щебетали и пели ласточки и косаточки, звонко били перепела в полях, рассыпались в воздухе песни жаворонков, надседаясь хрипло кричали в кустах дергуны; подсвистыванье погонышей, токованье и блеянье дикого барашка неслись с ближнего болота, варакушки взапуски передразнивали соловьев; выкатывалось из-за горы яркое солнце!.. Задымились крестьянские избы, погнулись по ветру сизые столбы дыма, точно вереница речных судов выкинула свои флаги; потянулись мужички в поле… Захотелось дедушке умыться студеной водою и потом напиться чаю. Разбудил он безобразно спавших слуг своих. Повскакали они, как полоумные, в испуге, но веселый голос Степана Михайловича скоро ободрил их: «Мазан, умываться! Танайченок, будить Аксютку и барыню, чаю!» Не нужно было повторять приказаний: неуклюжий Мазан уже летел со всех ног с медным, светлым рукомойником на родник за водою, а проворный Танайченок разбудил некрасивую молодую девку Аксютку, которая, поправляя свалившийся набок платок, уже будила старую, дородную барыню Арину Васильевну. В несколько минут весь дом был на ногах, и все уже знали, что старый барин проснулся весел. Через четверть часа стоял у крыльца стол, накрытый белою браною скатерткой домашнего изделья, кипел самовар в виде огромного медного чайника, суетилась около него Аксютка, и здоровалась старая барыня, Арина Васильевна, с Степаном Михайловичем, не охая и не стоная, что было нужно в иное утро, а весело и громко спрашивала его о здоровье: «Как почивал и что во сне видел?» Ласково поздоровался дедушка с своей супругой и назвал ее Аришей; он никогда не целовал ее руки, а свою давал целовать в знак милости. Арина Васильевна расцвела и помолодела: куда девалась ее тучность и неуклюжесть! Сейчас принесла скамеечку и уселась возле дедушки на крыльце, чего никогда не смела делать, если он неласково встречал ее. «Напьемся-ка вместе чайку, Ариша! — заговорил Степан Михайлович, — покуда не жарко. Хотя спать было душно, а спал я крепко, так что и сны все заспал. Ну, а ты?» Такой вопрос был необыкновенная ласка, и бабушка поспешно отвечала, что которую ночь Степан Михайлович хорошо почивает, ту и она хорошо спит; но что Танюша всю ночь металась. Танюша была меньшая дочь, и старик любил ее больше других дочерей, как это часто случается; он обеспокоился такими словами и не приказал будить Танюшу до тех пор, покуда сама не проснется. Татьяну Степановну разбудили вместе с Александрой и Елизаветой Степановнами, и она уже оделась; но об этом сказать не осмелились. Танюша проворно разделась, легла в постель, велела затворить ставни в своей горнице и хотя заснуть не могла, но пролежала в потемках часа два; дедушка остался доволен, что Танюша хорошо выспалась. Единственного сынка, которому было девять лет, никогда не будили рано. Старшие дочери явились немедленно; Степан Михайлович ласково дал им поцеловать руку и назвал одну Лизынькой, а другую Лексаней. Обе были очень не глупы, Александра же соединяла с хитрым умом отцовскую живость и вспыльчивость, но добрых свойств его не имела. Бабушка была женщина самая простая и находилась в полном распоряжении у своих дочерей; если иногда она осмеливалась хитрить с Степаном Михайловичем, то единственно по их наущению, что, по неуменью, редко проходило ей даром и что старик знал наизусть; он знал и то, что дочери готовы обмануть его при всяком удобном случае, и только от скуки или для сохранения собственного покоя, разумеется будучи в хорошем расположении духа, позволял им думать, что они надувают его; при первой же вспышке все это высказывал им без пощады, в самых нецеремонных выражениях, а иногда и бивал, но дочери, как настоящие Евины внучки, не унывали: проходил час гнева, прояснялось лицо отца, и они сейчас принимались за свои хитрые планы и нередко успевали.
Накушавшись чаю и поговоря о всякой всячине с своей семьей, дедушка собрался в поле. Он уже давно сказал Мазану: «Лошадь!» — и старый бурый мерин, запряженный в длинные крестьянские дроги, или роспуски, чрезвычайно покойные, переплетенные частою веревочной решеткою с длинным лубком посередине, накрытым войлоком — уже стоял у крыльца. Конюх Спиридон сидел кучером в незатейливом костюме, то есть просто в одной рубахе, босиком, подпоясанный шерстяным тесемочным красным поясом, на котором висел ключ и медный гребень. В предыдущий раз Спиридон ездил в такую же экспедицию даже без шляпы, но дедушка побранил его за то, и на этот раз он приготовил себе что-то вроде шапки, сплетенной из широких лык; дедушка посмеялся над его шлычкой и, надев полевой кафтан из небеленого домашнего холста да картуз и подостлав под себя про запас от дождя армяк, сел на дроги. Спиридон также подложил под себя сложенный втрое свой обыкновенный зипун из крестьянского белого сукна, но окрашенный в ярко-красный цвет марены, которой много родилось в полях. Этот красный цвет был в таком употреблении у стариков, что багровских дворовых соседи звали «маренниками»; я сам слыхал это прозвище лет пятнадцать после смерти дедушки. В поле Степан Михайлович был всем доволен. Он осмотрел отцветавшую рожь, которая, в человека вышиною, стояла, как стена; дул легкий ветерок, и сине-лиловые волны ходили по ней, то светлее, то темнее отражаясь на солнце. Любо было глядеть хозяину на такое поле! Дедушка объехал молодые овсы, полбы и все яровые хлеба; потом отправился в паровое поле и приказал возить себя взад и вперед по вспаренным десятинам. Это был его обыкновенный способ узнавать доброту пашни: всякая целизна, всякое нетронутое сохою местечко сейчас встряхивало качкие дроги, и если дедушка бывал не в духе, то на таком месте втыкал палочку или прутик, посылал за старостой, если его не было с ним, и расправа производилась немедленно. В этот раз все шло благополучно; может быть, и попадались целизны, только Степан Михайлович их не замечал или не хотел заметить. Он заглянул также на места степных сенокосов и полюбовался густой высокой травой, которую чрез несколько дней надо было косить. Он побывал и на крестьянских полях, чтобы знать самому, у кого уродился хлеб хорошо и у кого плохо, даже пар крестьянский объехал и попробовал, все заметил и ничего не забыл. Проезжая чрез залежи и увидев поспевавшую клубнику, дедушка остановился и, с помощью Мазана, набрал большую кисть крупных, чудных ягод и повез домой своей Арише. Несмотря на жар, он проездил почти до полдён. Только завидели спускающиеся с горы дедушкины дроги — кушанье уже стояло на столе, и вся семья ожидала хозяина на крыльце. «Ну, Ариша, — весело сказал дедушка, — какие хлеба дает нам бог! Велика милость господня! А вот тебе и клубничка». Бабушка растаяла от радости. «Наполовину поспела, — продолжал он, — с завтрашнего дня посылать по ягоды». Говоря эти слова, он входил в переднюю; запах горячих щей несся ему навстречу из залы. «А, готово! — еще веселее сказал Степан Михайлович, — спасибо», и, не заходя в свою комнату, прямо прошел в залу и сел за стол. Надобно сказать, что у дедушки был обычай: когда он возвращался с поля, рано или поздно, — чтоб кушанье стояло на столе, и боже сохрани, если прозевают его возвращение и не успеют подать обеда. Бывали примеры, что от этого происходили печальные последствия. Но в этот блаженный день все шло как по маслу, все удавалось. Здоровенный дворовый парень Николка Рузан стал за дедушкой с целым сучком березы, чтобы обмахивать его от мух. Горячие щи, от которых русский человек не откажется в самые палящие жары, дедушка хлебал деревянной ложкой, потому что серебряная обжигала ему губы; за ними следовала ботвинья со льдам, с прозрачным балыком, желтой, как воск, соленой осетриной и с чищеными раками, и тому подобные легкие блюда. Все это запивалось домашней брагой и квасом, также со льдом. Обед был превеселый. Все говорили громко, шутили, смеялись; но бывали обеды, которые проходили в страшной тишине и безмолвном ожидании какой-нибудь вспышки. Все дворовые мальчишки и девчонки знали, что старый барин весело кушает, и все набились в залу за подачками; дедушка щедро оделял всех, потому что кушанья готовилось впятеро более, чем было нужно. После обеда он сейчас лег спать. Вымахали мух из полога, опустили его над дедушкой, подтыкали кругом края под перину; скоро сильный храп возвестил, что хозяин спит богатырским сном. Все разошлись по своим местам также отдыхать. Мазан и Танайченок, предварительно пообедав и наглотавшись объедков от барского стола, также растянулись на полу в передней, у самой двери в дедушкину горницу. Они спали и до обеда, но и теперь не замедлили заснуть, только духота и упёка от солнца, ярко светившего в окна, скоро их разбудила. От сна и от жара пересохло у них в горле, захотелось им прохладить горячие гортани господской бражкой с ледком, и вот на какую штуку пустились дерзкие лежебоки: в непритворенную дверь достали они дедушкин халат и колпак, лежавшие на стуле у самой двери. Танайченок надел на себя барское платье и сел на крыльцо, а Мазан побежал со жбаном на погреб, разбудил ключницу, которая, как и все в доме, спала мертвым сном, требовал поскорее проснувшемуся барину студеной браги, и, когда ключница изъявила сомнение, проснулся ли барин, — Мазан указал ей на фигуру Танайченка, сидящего на крыльце в халате и колпаке; нацедили браги, положили льду, проворно побежал Мазан с добычей. Жбан выпили по-братски, положили халат и колпак на старое место и целый час еще дожидались, пока проснется дедушка. Еще веселее утрешнего проснулся барин, и первое его слово было: «Студеной бражки». Перепугались лакеи: Танайченок побежал к ключнице, которая сейчас догадалась, что первый жбан выпили они сами; она отпустила пойла, но вслед за посланным сама подошла к крыльцу, на котором сидел уже в халате настоящий барин. С первых слов обман открылся, и дрожащие от страха Мазан и Танайченок повалились барину в ноги, и что ж, вы думаете, сделал дедушка?.. Расхохотался, послал за Аришей и за дочерьми и, громко смеясь, рассказал им всю проделку своих слуг. Отдохнули бедняги от страха, и даже один из них улыбнулся. Степан Михайлович заметил и чуть-чуть не рассердился; брови его уже начали было морщиться, но в его душе так много было тихого спокойствия от целого веселого дня, что лоб его разгладился и, грозно взглянув, он сказал: «Ну, бог простит на этот раз; но если в другой…» Договаривать было не нужно.
Нельзя не подивиться, что у такого до безумия горячего и в горячности жестокого господина люди могли решиться на такую наглую шалость. Но много раз я замечал в продолжение моей жизни, что у самых строгих господ прислуга пускалась на отчаянные проказы. С дедушкой же моим это был не единственный случай. Тот же самый Ванька Мазан, подметая однажды горницу Степана Михайловича и собираясь перестлать постель, соблазнился мягкой пуховой периной и такими же подушками, вздумал понежиться, полежать на барской кровати, лег, да и заснул. Дедушка сам нашел его, крепко спящего в этом положении, и — только рассмеялся! Правда, он отвесил ему добрый раз своим калиновым подожком, но это так, ради смеха, чтоб позабавиться испугом Мазана. Впрочем, с Степаном Михайловичем и не то случилось: во время его отсутствия выдали замуж четырнадцатилетнюю девочку, двоюродную его сестру, П. И. Багрову, круглую, но очень богатую сироту, жившую у него в доме и горячо им любимую, — за такого развратного и страшного человека, которого он терпеть не мог. Конечно, это дело устроили близкие родные его сестры с материнской стороны, но с согласия Арины Васильевны и при содействии ее дочерей. Об этом я расскажу после, теперь же возвратимся к доброму дню моего дедушки.
Он проснулся часу в пятом пополудни и, после студеной бражки, несмотря на палящий зной, скоро захотел накушаться чаю, веруя, что горячее питье уменьшает тягость жара. Он сходил только искупаться в прохладном Бугуруслане, протекавшем под окнами дома, и, воротясь, нашел всю свою семью, ожидающую его у того же чайного стола, поставленного в тени, с тем же кипящим чайником, самоваром и с тою же Аксюткою. Накушавшись досыта любимого потогонного напитка с густыми сливками и толстыми подрумянившимися пенками, дедушка предложил всем ехать для прогулки на мельницу. Разумеется, все с радостию согласились, и две тетки мои, Александра и Татьяна Степановны, взяли с собой удочки, потому что были охотницы до рыбной ловли. В одну минуту запрягли двое длинных дрог: на одних сел дедушка с бабушкой, посадив промеж себя единственного своего наследника, драгоценную отрасль древнего своего дворянского рода; на других дрогах поместились три тетки и парень Николашка Рузан, взятый для того, чтоб нарыть в плотине червяков и насаживать ими удочки у барышень. На мельнице бабушке принесли скамейку, и она уселась в тени мельничного амбара, неподалеку от кауза, около которого удили ее меньшие дочери, а старшая, Елизавета Степановна, сколько из угождения к отцу, столько и по собственному расположению к хозяйству, пошла с Степаном Михайловичем осматривать мельницу и толчею. Малолетний сынок то смотрел, как удят рыбу сестры (самому ему удить на глубоких местах еще не позволяли), то играл около матери, которая не спускала с него глаз, боясь, чтоб ребенок не свалился как-нибудь в воду. Оба камня мололи: одним обдирали пшеницу для господского стола, а на другом мололи завозную рожь; толчея толкла просо. Дедушка был знаток всякого хозяйственного дела; он хорошо разумел мельничный устав и толковал своей умной и понятливой дочери все тонкости этого дела. Он мигом увидел все недостатки в снастях или ошибки в уставе жерновов: один из них приказал опустить на ползарубки, и мука пошла мельче, чем помолец был очень доволен; на другом поставе по слуху угадал, что одна цевка в шестерне начала подтираться; он приказал запереть воду, мельник Болтуненок соскочил вниз, осмотрел и ощупал шестерню и сказал: «Правда твоя, батюшка Степан Михайлович! одна цевка маленько пообтерлась». — «То-то маленько, — без всякого неудовольствия возразил дедушка, — кабы я не пришел, так шестерня-то бы ночью сломалась». — «Виноват, Степан Михайлович, не доглядел». — «Ну, бог простит, давай новую шестерню, а у старой подтертую цевку переменить, да чтобы новая была не толще, не тоньше других — в этом вся штука». Сейчас принесли новую шестерню, заранее прилаженную и пробованную, вставили на место прежней, смазали, где надобно, дегтем, пустили воду не вдруг, а понемногу (тоже по приказанию дедушки) — и запел, замолол жернов без перебоя, без стука, а плавно и ровно. Потом пошел дедушка с своей дочерью на толчею, захватил из ступы горсть толченого проса, обдул его на ладони и сказал помольщику, знакомому мордвину: «Чего смотришь, сосед Васюха? Видишь, ни одного не отолченного зернышка нет. Ведь перепустишь, так пшена-то будет меньше». Васюха сам попробовал и сам увидел, что дедушка говорит правду; сказал спасибо, поклонился, то есть кивнул головой, и побежал запереть воду. Оттуда прошел дедушка с своей ученицей на птичный двор; там все нашел в отличном порядке; гусей, уток, индеек и кур было великое множество, и за всем смотрела одна пожилая баба с внучкой. В знак особенной милости дедушка дал обеим поцеловать ручку и приказал, сверх месячины, выдавать птичнице ежемесячно по полпуду пшеничной муки на пироги. Весело воротился Степан Михайлович к Арине Васильевне, всем был он доволен: и дочь понятна, и мельница хорошо мелет, и птичница Татьяна Горожана хорошо смотрит за птицею.[10]
Жар давно свалил, прохлада от воды умножала прохладу от наступающего вечера, длинная туча пыли шла по дороге и приближалась к деревне, слышалось в ней блеянье и мычанье стада, опускалось за крутую гору потухающее солнце. Стоя на плотине, любовался Степан Михайлович на широкий пруд, как зеркало, неподвижно лежавший в отлогих берегах своих; рыба играла и плескалась беспрестанно, но дедушка не был рыбаком. «Пора, Ариша, домой, староста, чай, ждет меня», — сказал он. Меньшие дочери, видя его в веселом расположении, стали просить позволения остаться поудить, говоря, что на солнечном закате рыба клюет лучше и что через полчаса они придут пешком. Дедушка согласился и уехал с бабушкой домой на своих дрогах, а Елизавета Степановна с маленьким братом села на другие дроги. Степан Михайлович не ошибся: у крыльца ожидал его староста, да и не один, а с несколькими мужиками и бабами. Староста уже видел барина, знал, что он в веселом духе, и рассказал о том кое-кому из крестьян; некоторые, имевшие до дедушки надобности или просьбы, выходящие из числа обыкновенных, воспользовались благоприятным случаем, и все были удовлетворены: дедушка дал хлеба крестьянину, который не заплатил еще старого долга, хотя и мог это сделать; другому позволил женить сына, не дожидаясь зимнего времени, и не на той девке, которую назначил сам; позволил виноватой солдатке, которую приказал было выгнать из деревни, жить по-прежнему у отца, и проч. Этого мало; всем было поднесено по серебряной чарке, вмещавшей в себе более квасного стакана, домашнего крепкого вина. Коротко и ясно отдал дедушка хозяйственные приказания старосте и поспешил за ужин, несколько времени его уже ожидавший. Вечерний стол мало отличался от обеденного, и, вероятно, кушали за ним даже поплотнее, потому что было не так жарко. После ужина Степан Михайлович имел обыкновение еще с полчаса посидеть в одной рубахе и прохладиться на крыльце, отпустя семью свою на покой. В этот раз несколько долее обыкновенного он шутил и смеялся с своей прислугой; заставлял Мазана и Танайченка бороться и драться на кулачки и так их поддразнивал, что они, не шутя, колотили друг друга и вцепились даже в волосы; но дедушка, досыта насмеявшись, повелительным словом и голосом заставил их опомниться и разойтись.
Летняя, короткая, чудная ночь обнимала всю природу. Еще не угас свет вечерней зари и не угаснет до начала соседней утренней зари! Час от часу темнела глубь небесного свода, час от часу ярче сверкали звезды, громче раздавались голоса и крики ночных птиц, как будто они приближались к человеку! Ближе шумела мельница и толкла толчея в ночном сыром тумане… Встал мой дедушка с своего крылечка, перекрестился раз-другой на звездное небо и лег почивать, несмотря на духоту в комнате, на жаркий пуховик и приказал опустить на себя полог.
ВТОРОЙ ОТРЫВОК ИЗ «СЕМЕЙНОЙ ХРОНИКИ» МИХАЙЛА МАКСИМОВИЧ КУРОЛЕСОВ
Я обещал рассказать особо об Михайле Максимовиче Куролесове и его женитьбе на двоюродной сестре моего дедушки Прасковье Ивановне Багровой. Начало этого события происходило в 1760-х годах, прежде того времени, о котором я рассказывал в первом отрывке из «Семейной хроники», а конец — гораздо позже. Исполняю мое обещание.
Степан Михайлович был единственный сын Михаила Петровича Багрова, а Прасковья Ивановна — единственная дочь Ивана Петровича Багрова. Дедушка мой очень любил ее как единственную женскую отрасль рода Багровых и как единственную свою двоюродную сестру. Прасковья Ивановна лишилась матери еще в колыбели, а десяти лет потеряла отца. Мать ее была из рода Бактеевых и очень богата: она оставила дочери девятьсот душ крестьян, много денег и еще более драгоценных вещей и серебра; после отца также получила она триста душ; итак, она была богатая сирота и будущая богатая невеста. После смерти отца она сначала жила у бабушки Бактеевой, потом приезжала и гостила подолгу в Троицком, и, наконец, Степан Михайлович перевез ее на житье к себе. Любя не менее дочерей свою сестричку-сиротку, как называл ее Степан Михайлович, он был очень нежен с ней по-своему; но Прасковья Ивановна, по молодости лет или, лучше сказать, по детскости своей, не могла ценить любви и нежности своего двоюродного брата, которые не выражались никаким баловством, к чему она уже попривыкла, поживши довольно долго у своей бабушки; итак, не мудрено, что она скучала в Троицком и что ей хотелось воротиться к прежней своей жизни у старушки Бактеевой. Прасковья Ивановна была не красавица, но имела правильные черты лица, прекрасные умные, серые глаза, довольно широкие, длинные, темные брови, показывающие твердый и мужественный нрав, стройный высокий рост, и в четырнадцать лет казалась осьмнадцатилетнею девицей; но, несмотря на телесную свою зрелость, она была еще совершенный ребенок и сердцем и умом: всегда живая, веселая, она резвилась, прыгала, скакала и пела с утра до вечера. Голос имела чудесный, страстно любила песни, качели, хороводы и всякие игрища, и когда ничего этого не было, то целый день играла в куклы, непременно сопровождая свои игры всякого рода русскими песнями, которых и тогда знала бесчисленное множество.
За год до переезда ее к Степану Михайловичу приехал в Симбирскую губернию, в отпуск, молодой человек, лет двадцати восьми, родовой тамошний дворянин Михаил Максимович Куролесов, служивший в военной службе; он был, как говорится, молодец собой. Многие называли его даже красавцем, но иные говорили, что он, несмотря на свою красивость, был как-то неприятен, и я в ребячестве слыхал об этом споры между бабушкой и моими тетками. С пятнадцатилетнего возраста он находился в службе в каком-то известном тогда славном полку и дослужился уже до чина майора. В отпуск приезжал редко, да и приезжать было не к чему, потому что у него родового имения всего было душ с полтораста, и то малоземельных, находившихся в разнопоместном селении Грачовке. Разумеется, он не имел настоящего образования, но был боек на словах и писал также бойко и складно. Я имел в своих руках много его писем, из которых очевидно, что он был человек толковый, ловкий и в то же время твердый и деловой. Не знаю, как он был родня нашему бессмертному Суворову, но в переписке Куролесова я нашел несколько писем гениального полководца, которые всегда начинались так: «Милостивый государь мой, братец Михаил Максимович» — и оканчивались: «С достодолжным почтением к вам и милостивой государыне сестрице Прасковье Ивановне, честь имею быть и проч.». Михаила Максимовича мало знали в Симбирской губернии, но как «слухом земля полнится», и притом, может быть, он и в отпуску позволял себе кое-какие дебоши, как тогда выражались, да и приезжавший с ним денщик или крепостной лакей, несмотря на строгость своего командира, по секрету кое-что пробалтывал, — то и составилось о нем мнение, которое вполне выражалось следующими афоризмами, что «майор шутить не любит, что у него ходи по струнке и с тропы не сваливайся, что он солдата не выдаст и, коли можно, покроет, а если попался, так уж помилованья не жди, что слово его крепко, что если пойдет на ссору, то ему и черт не брат, что он лихой, бедовый, что он гусь лапчатый, зверь полосатый …»,[11] но все единогласно называли его отличным хозяином. Носились также слухи, вероятно вышедшие из тех же источников, что майор большой гуляка, то есть охотник до женского пола и до хмельного, но знает всему место и время. Первая охота прикрывалась поговоркою, что «быль молодцу не укора»; а вторая, что «выпить мужчине не беда» и что «кто пьян да умен, — два угодья в нем». Итак, майор Куролесов не имел положительно дурной репутации, а напротив, в глазах многих имел репутацию выгодную. К тому же был искателен, умел приласкаться и приласкать, оказывал уважение старшим и почетным людям, и потому приняли его все радушно и с удовольствием. Будучи близким соседом Бактеевых, которым приходился дальним родственником по мужу дочери Бактеевой, А. А. Курмышевой (да, кажется, и крестьяне их жили в одном селе), он умел так сыскать их расположение, что все его любили и носили на руках. Сначала делал он это без особенных видов, а вследствие своего неизменного правила «добиваться благосклонности людей почтенных и богатых»; но потом, увидев там живую, веселую и богатую Прасковью Ивановну, по наружности совершенную уже невесту, он составил план жениться на ней и прибрать к рукам ее богатство. С этой определенной целью он удвоил свои заискиванья к бабушке и тетке Прасковьи Ивановны и добился до того, что они в нем, как говорится, души не чаяли; да и за молодой девушкой начал так искусно ухаживать, что она его полюбила, разумеется как человека, который потакал всем ее словам, исполнял желания и вообще баловал ее. Михаил Максимович открылся родным Прасковьи Ивановны, прикинулся влюбленным в молодую сироту, и все поверили, что он ею смертельно заразился, грезит ею во сне и наяву, сходит от нее с ума; поверили, одобрили его намерение и приняли бедного страдальца под свою защиту. При таком благосклонном покровительстве родных нетрудно было ему успеть в своем намерении: он угождал девочке доставлением разных удовольствий, катал на лихих своих конях, качал на качелях и сам качался с ней, мастерски певал с нею русские песни, дарил разными безделушками и выписывал для нее затейливые детские игрушки из Москвы.
Зная, что для полного успеха необходимо получить согласие двоюродного брата и опекуна невесты, Михаил Максимович попробовал втереться к нему в милость. Под разными предлогами, с рекомендательными письмами от родных Прасковьи Ивановны, приезжал он к Степану Михайловичу в деревню — но не понравился хозяину. С первого взгляда это может показаться странным: отчего бы не понравиться? У молодого майора были некоторые качества, которые как будто бы симпатизировали с свойствами Степана Михайловича; но у старика, кроме здравого ума и светлого взгляда, было это нравственное чутье людей честных, прямых и правдивых, которое чувствует с первого знакомства с человеком неизвестным кривду и неправду его, для других незаметную; которое слышит зло под благовидною наружностью и угадывает будущее его развитие. Ласковые речи и почтительный тон не обманули Степана Михайловича, и он сразу отгадал, что тут скрываются какие-нибудь плутни. Притом дедушка был самой строгой и скромной жизни, и слухи, еще прежде случайно дошедшие до него, так легко извиняемые другими, о беспутстве майора поселили отвращение к нему в целомудренной душе Степана Михайловича, и хотя он сам был горяч до бешенства, но недобрых, злых и жестоких без гнева людей — терпеть не мог. Вследствие всего этого принял он Михаила Максимовича холодно и сухо, несмотря на умные и дельные разговоры обо всем и особенно о хозяйстве; когда же гость, увидев Прасковью Ивановну, уже переехавшую в то время к моему дедушке, стал любезничать с нею, как старый знакомый, и она слушала его с удовольствием, то у дедушки, по обыкновению, покривилась голова на сторону, посдвинулись брови и покосился он на гостя неласково. Напротив, Арине Васильевне и всем дочерям гость очень приглянулся, потому что с первых минут он умел к ним подольститься, и они пустились было с ним в разные ласковые речи; но вышесказанные мною зловещие признаки грозы на лице Степана Михайловича всех обдали холодом, и все прикусили язычки. Гость попытался восстановить общественное спокойствие и приятность беседы, но напрасно: от всех начал он получать короткие ответы, от хозяина же и не совсем учтивые. Делать было нечего, надо было уехать, хотя уже наступало позднее ночное время и следовало бы гостю, по деревенскому обычаю, остаться ночевать. «Дрянь человек и плут, авось в другой раз не приедет», — сказал Степан Михайлович семье своей, и, конечно, ничей голос не возразил ему; но зато потихоньку долго хвалили бравого майора, и охотно слушала и рассказывала про его угодливости молодая девочка, богатая сирота.
Похлебав несолоно, отъехал Михаил Максимович от Степана Михайловича и воротился к Бактеевой с известием о своей неудаче. Дедушку моего хорошо знали и с первой минуты потеряли всякую надежду на его добровольное согласие. Долго думали, но ничего не придумали. Отважный майор предлагал пригласить молодую девушку в гости к бабушке и обвенчаться с ней без согласия Степана Михайловича, но Бактеева и Курмышева были уверены, что дедушка мой не отпустит свою сестру одну, а если и отпустит, то очень не скоро, а майору оставаться долее было нельзя. Он предлагал отчаянное средство: уговорить Прасковью Ивановну к побегу, увезти ее и сейчас где-нибудь обвенчаться; но родные и слышать не хотели о таком зазорном деле, — и Михаил Максимович уехал в полк. Пути провидения для нас непостижимы, а потому мы не можем судить, отчего судьбе было угодно, чтоб это злое намерение увенчалось успехом. Через полгода вдруг получила старуха Бактеева известие, что Степан Михайлович по весьма важному делу уезжает куда-то далеко и надолго. Куда и зачем уезжал он — не знаю, только куда-то далеко, в Астрахань или в Москву, и непременно по делу, потому что брал с собой поверенного Пантелея Григорьевича. Сейчас послали грамоту к Степану Михайловичу и просили позволения, чтоб внучка, во время отсутствия своего опекуна и брата, приехала погостить к бабушке, но получили короткий ответ, «что Параше и здесь хорошо и что если желают ее видеть, то могут приехать и прогостить в Троицком сколько угодно». Послав такой положительный ответ и пригрозив строго-настрого своей всегда покорной супруге, чтоб она берегла Парашу как зеницу своего ока и никуда из дома не отпускала, Степан Михайлович отправился в путь.
Бактеева пересылалась и переписывалась с Прасковьей Ивановной и с семейством моего дедушки. Сейчас по получении известия, что он уехал, Бактеева уведомила об этом Михаила Максимовича Куролесова, прибавя, что Степан Михайлович уехал надолго и что не может ли он приехать, чтоб лично хлопотать по известному делу, а сама старуха Бактеева с дочерью немедленно отправилась в Троицкое. Она всегда была в дружеских отношениях с Ариной Васильевной; узнав, что Куролесов и ей очень понравился, она открылась, что молодой майор без памяти влюблен в Парашеньку; распространилась в похвалах жениху и сказала, что ничего так не желает, «как пристроить при своей жизни свою внучку-сиротинку, и уверена в том, что она будет счастлива; что она чувствует, что ей уже недолго жить на свете, и потому хотела бы поторопиться этим делом». Арина Васильевна, с своей стороны, совершенно одобрила такое намерение, но выразила сомнение, «чтобы Степан Михайлович на это согласился, и что, бог знает почему, Михаил Максимович, хотя всем взял, но ему больно не понравился». — Призвали на совет старших дочерей Арины Васильевны, и под председательством старухи Бактеевой и ее дочери Курмышевой, особенно горячо хлопотавшей за майора, положено было: предоставить улаживание этого дела родной бабушке, потому что она внучке всех ближе, но таким образом, чтоб супруга Степана Михайловича и ее дочери остались в стороне, как будто они ничего не знают и ничему не причастны. Я уже сказал прежде, что Арина Васильевна была женщина добрая и очень простая; дочери ее были совершенно на стороне Бактеевой, а потому и немудрено, что ее могли уговорить способствовать такому делу, за которое Степан Михайлович жестоко будет гневаться. Между тем беззаботная и веселая сирота и не подозревала, что решают судьбу ее. Об Михаиле Максимовиче часто говорили при ней, хвалили изо всех сил, уверяли, что он любит ее больше своей жизни, что день и ночь думает о том, как бы ей угодить, и что если он скоро приедет, то, верно, привезет ей множество московских гостинцев. Прасковья Ивановна слушала с удовольствием такие речи и говорила, что она сама никого на свете так не любит, как Михаила Максимовича. Покуда гостила старуха Бактеева в Троицком, ей привезли из деревни письмо от Куролесова, который уведомлял, что как скоро получит отпуск, то немедленно приедет. Наконец, Бактеева и Курмышева, условившись с Ариной Васильевной, что она ни о чем к своему супругу писать не станет и отпустит к ним Парашеньку, несмотря на запрещение Степана Михайловича, под предлогом тяжкой болезни родной бабушки, — уехали в свое поместье. Прасковья Ивановна плакала и просилась к бабушке, особенно узнав, что майор скоро приедет, но ее не пустили из уважения к приказанию братца Степана Михайловича. Куролесов не мог получить немедленно себе отпуска и приехал месяца через два. Вскоре после его приезда отправили гонца с письмом в Троицкое к Арине Васильевне; в письме Курмышева уведомляла, что старуха Бактеева сделалась отчаянно больна, желает видеть и благословить внучку, а потому просит прислать ее с кем-нибудь; было прибавлено, что, без сомнения, Степан Михайлович не будет гневаться за нарушение его приказания и конечно бы отпустил внучку проститься с своей родной бабушкой. Письмо очевидно было написано напоказ, для оправдания Арины Васильевны перед строгим супругом. Верная своему обещанию и обеспеченная таким письмом, Арина Васильевна немедленно собралась в дорогу и сама отвезла Парашеньку к ее мнимо-умирающей бабушке; прогостила у больной с неделю и воротилась домой, совершенно обвороженная ласковыми речами Михаила Максимовича и разными подарками, которые он привез из Москвы не только для нее, но и для дочерей ее. Прасковья Ивановна была очень довольна, бабушке ее стало сейчас лучше, угодник майор привез ей из Москвы много игрушек и разных гостинцев, гостил у Бактеевой в доме безвыездно, рассыпался перед ней мелким бесом и скоро так привязал к себе девочку, что когда бабушка объявила ей, что он хочет на ней жениться, то она очень обрадовалась и, как совершенное дитя, начала бегать и прыгать по всему дому, объявляя каждому встречному, что «она идет замуж за Михаила Максимовича, что как будет ей весело, что сколько получит она подарков, что она будет с утра до вечера кататься с ним на его чудесных рысаках, качаться на самых высоких качелях, петь песни или играть в куклы, не маленькие, а большие, которые сами умеют ходить и кланяться…». Вот в каком состоянии находилась голова бедной невесты. Мешкать не стали, опасаясь, чтоб не дошли слухи до Степана Михайловича; созвали соседей, сделали помолвку, обручили жениха с невестой, заставили поцеловаться, посадили рядочком за стол и выпили их здоровье. Невеста соскучилась было длинной церемонией, множеством поздравлений и сиденьем на одном месте, но когда позволили ей посадить возле себя свою новую московскую куклу, то сделалась очень весела, объявила всем гостям, что это ее дочка, и заставляла куклу кланяться и вместе с ней благодарить за поздравления. Через неделю жениха с невестой обвенчали с соблюдением всех формальностей, показав новобрачной, вместо пятнадцатого, семнадцатый год, в чем по ее наружности никто усумниться не мог. — Хотя Арина Васильевна и ее дочери знали, на какое дело шли, но известие, что Парашенька обвенчана, чего они так скоро не ожидали, привело их в ужас: точно спала пелена с их глаз, точно то случилось, о чем они и не думали, и они почувствовали, что ни мнимая смертельная болезнь родной бабушки, ни письмо ее — не защита им от справедливого гнева Степана Михайловича. Еще прежде известия о свадьбе отправила Арина Васильевна письмо к своему супругу, в котором уведомляла, что по таким-то важным причинам отвезла она внучку к умирающей бабушке, что она жила там целую неделю и что хотя бог дал старухе Бактеевой полегче, но Парашеньку назад не отпустили, а оставили до выздоровления бабушки; что делать ей было нечего, насильно взять нельзя, и она поневоле согласилась и поспешила уехать к детям, которые жили одни-одинёхоньки, и что теперь опасается она гнева Степана Михайловича. На это письмо он отвечал, что Ариша сделала глупо, чтоб она ехала опять к старухе Бактеевой и во что бы то ни стало привезла Парашу домой. Арина Васильевна вздыхала, плакала над письмом и не знала, что делать. Молодые Куролесовы не замедлили приехать к ней с визитом. Парашенька казалась совершенно счастливою и веселою, хотя уже не так детски резвою. Муж ее также казался вполне счастливым и в то же время был так спокоен и рассудителен, что успокоил бедную Арину Васильевну своими умными речами. Он убедительно доказал, что весь гнев Степана Михайловича упадет на родную бабушку Бактееву, которая тоже по своей опасной болезни, хотя ей теперь, благодаря бога, лучше, имела достаточную причину не испрашивать согласия Степана Михайловича, зная, что он не скоро бы дал его, хотя конечно бы со временем согласился; что мешкать ей было нельзя, потому что она, как говорится, на ладан дышала и тяжело было бы ей умирать, не пристроив своей родной внучки, круглой сироты, потому что не только двоюродный, но и родной брат не может заменить родной бабушки. Много было наговорено подобных успокоительных рассуждений, сопровождаемых богатыми свадебными подарками, которые были приняты с большим удовольствием, смешанным с некоторым страхом. Оставлены были подарки и для Степана Михайловича. Михаил Максимович посоветовал Арине Васильевне, чтоб она погодила писать к своему супругу до получения ответа на известительное и рекомендательное письмо молодых и уверил, что он вместе с Прасковьей Ивановной будет немедленно писать к нему, но писать он и не думал и хотел только отдалить грозу, чтоб успеть, так сказать, утвердиться в своем новом положении. После женитьбы Михаил Максимович послал немедленно просьбу об увольнении его в отставку, которую и получил очень скоро. Первым его делом было объездить с молодой своей женой всех родственников и всех знакомых как с ее стороны, так и с своей. В Симбирске же, начиная с губернатора, не было забыто ни одно служебное, ни одно сколько-нибудь значительное лицо. Все не могли довольно нахвалиться прекрасною парочкой молодых, во всех так умели найти они благосклонное расположение, что одобрение этого брака сделалось общим мнением. Так прошло несколько месяцев.
Степан Михайлович, не получая давно писем из дому, видя, что дело его затянулось, соскучившись в разлуке с семейством, вдруг в один прекрасный день воротился неожиданно в свое Троицкое. Задрожали и руки и ноги у Арины Васильевны, когда она услыхала страшные слова: «Барин приехал». — Степан Михайлович, узнав, что все живы и здоровы, светел и радостен вошел в свой господский дом, расцеловал свою Аришеньку, дочерей и сына и весело спросил: «Да где же Параша?» Ободрившись ласковостью супруга, Арина Васильевна отвечала ему с притворной улыбкой: «Где, доподлинно не знаю; может, у бабушки. Да ведь ты, батюшка, давно изволишь знать, что Парашенька замужем». Не стану описывать изумления и гнева моего дедушки; гнев этот удвоился, когда он узнал, что Прасковья Ивановна выдана за Куролесова. Степан Михайлович принялся было за расправу с своей супругой, но она, повалившись ему в ноги со всеми дочерьми и представив письма старухи Бактеевой, успела уверить его, что «знать ничего не знает и что она была сама обманута». Бешенство Степана Михайловича обратилось на старуху Бактееву; он приказал себе приготовить других лошадей и, отдохнув часа два-три, поскакал прямо к ней. Можно себе представить, какую схватку учинил он с бабушкой Прасковьи Ивановны. Старуха, вытерпев первый поток самых крепких ругательств, приосанилась и, разгорячившись в свою очередь, сама напала на моего дедушку: «Да что ж это ты развоевался, как над своей крепостной рабой, — сказала она, — разве ты забыл, что я такая же столбовая дворянка, как и ты, и что мой покойный муж был гораздо повыше тебя чином. Я поближе тебя к Парашеньке, я родная бабушка ей и такая же опекунша, как и ты. Я устроила ее счастие, не дожидаясь твоего согласия, потому что была больна при смерти и не хотела ее оставить на всю твою волю; ведь я знаю, что ты бешеный и сумасшедший; живя у тебя, пожалуй, она бы в иной час и палки отведала; Михаил Максимович ей по всему пара, и Парашенька его сама полюбила. Да и кто же его не полюбит и не похвалит! Тебе только он не угодил, а ты спроси-ка твою семью, так и узнаешь, что она им не нахвалится». — «Врешь ты, старая мошенница, — вопил мой дедушка, — ты обманула мою Аришу, прикинулась, что умираешь… Ты продала свою внучку разбойнику Мишке Куролесову, который приворотил вас с дочкой к себе нечистой силой…» Старуха Бактеева вышла из себя и в запальчивости выболтала, что Арина Васильевна и ее дочери были с ней заодно и заранее приняли разные подарки от Михаила Максимовича. Такие слова обратили опять весь гнев Степана Михайловича на его семейство. Погрозив, что он разведет Парашу с мужем по ее несовершеннолетию, он отправился домой, но заехал по дороге к священнику, который венчал Куролесовых. Он грозно потребовал у него отчета, но тот очень спокойно и с уверенностью показал ему обыск, подпись бабушки и невесты, рукоприкладство свидетелей и метрическое свидетельство из духовной консистории, что Прасковье Ивановне семнадцатый год. Это был новый удар для моего дедушки, лишивший его всякой надежды к расторжению ненавистного ему брака и несказанно усиливший его гнев на Арину Васильевну и дочерей. Я не буду распространяться о том, что он делал, воротясь домой. Это было бы ужасно и отвратительно. По прошествии тридцати лет тетки мои вспоминали об этом времени, дрожа от страха. Я скажу только в коротких словах, что виноватые признались во всем, что все подарки, и первые, и последние, и назначенные ему, он отослал к старухе Бактеевой для возвращения кому следует, что старшие дочери долго хворали, а у бабушки не стало косы и что целый год ходила она с пластырем на голове. Молодым же Куролесовым он дал знать, чтобы они не смели к нему и глаз показывать, а у себя дома запретил поминать их имена.
Между тем время шло, залечивая всякие раны, и духовные и телесные, успокаивая всякие страсти. Через год зажила голова у Арины Васильевны, утих гнев в сердце Степана Михайловича. Сначала он не хотел не только видеть, но и слышать об молодых Куролесовых, даже не читал писем Прасковьи Ивановны; но к концу года, получая со всех сторон добрые вести об ее житье и о том, как она вдруг сделалась разумна не по годам, Степан Михайлович смягчился, и захотелось ему видеть свою милую сестричку. Он рассудил, что она менее всех виновата, что она была совершенный ребенок, — и позволил приехать ей в Троицкое, но без мужа. Разумеется, она сейчас прискакала. В самом деле, Прасковья Ивановна так переменилась в один год своего замужества, что Степан Михайлович не мог надивиться. И странное дело, откуда вдруг взялась у нее такая любовь и признательность к своему двоюродному брату, какой она вовсе не чувствовала до замужества и еще менее, казалось, могла почувствовать после своей свадьбы? Прочла ли она в его глазах, полных слез при встрече с нею, сколько скрывается любви под суровой наружностью и жестоким самовластием этого человека? Было ли это темное предчувствие будущего или неясное понимание единственной своей опоры и защиты? Почувствовала ли она бессознательно, что из всех баловниц и потатчиц ее ребяческим желаниям — всех больше любит ее грубый брат, противник ее счастья, невзлюбивший любимого ею мужа?.. Не знаю, но для всех было поразительно, что прежняя легкомысленная, равнодушная к брату девочка, не понимавшая и не признававшая его прав и своих к нему обязанностей, имеющая теперь все причины к чувству неприязненному за оскорбление любимой бабушки, — вдруг сделалась не только привязанною сестрою, но горячею дочерью, которая смотрела в глаза своему двоюродному брату, как нежно и давно любимому отцу, нежно и давно любящему свою дочь… Как бы то ни было, но внезапно родившееся чувство прекратилось только с ее жизнью. Что за чудная перемена сделалась во всем существе Прасковьи Ивановны в такие молодые лета в один год замужества? Пропало неразумное дитя, и явилась хотя веселая, но разумная женщина. Она искренне признавала всех виноватыми пред Степаном Михайловичем. Извиняла только себя неразумием, а бабушку, мужа и других — горячею и слепою к ней любовию. Она не просила, чтоб Степан Михайлович сейчас простил ее мужа, виноватого больше всех, но надеялась, что со временем, видя, как она счастлива, какой попечительный, неутомимый хозяин ее муж, как устроивает ее состояние, — братец простит Михаила Максимовича и позволит ему приехать. Хотя дедушка мой ничего не сказал на такие слова, но был совершенно побежден ими. Он не стал долго держать у себя свою умную сестрицу, как он стал называть ее с этих пор, и отправил немедленно к мужу, говоря, что теперь там ее место. Прощаясь, он сказал ей: «Если через год ты будешь так же довольна своим мужем и он будет так же хорошо с тобою жить, то я помирюсь с ним». И точно, через год, зная, что Михаил Максимович ведет себя хорошо и занимается устройством имения жены своей с неусыпным рвением, видя нередко свою сестрицу здоровою, довольною и веселою, Степан Михайлович сказал ей: «Привози своего мужа». Он принял Куролесова с радушием, прямо и откровенно высказал свои прежние сомнения и обещал ему, если он всегда будет так хорошо себя вести, — родственную любовь и дружбу. Михайла Максимович держал себя очень умно; он не был так вкрадчив и искателен, как прежде, но так же почтителен, внимателен, предупредителен. В нем слышалось больше самостоятельности и уверенности; он был озабочен, погружен в хозяйственные дела, просил советов у старика, понимал их очень хорошо и пользовался ими с отличным уменьем. Он счелся с ним в дальнем родстве сам по себе и называл его дядюшкой, Арину Васильевну тетушкой, сына их братцем, а дочерей сестрицами. Он оказал Степану Михайловичу какую-то услугу еще до своего примирения, или прощения; дедушка знал это и теперь сказал ему спасибо и даже поручил о чем-то похлопотать. Одним словом, дело уладилось превосходно. Казалось, все обстоятельства говорили в пользу Михайла Максимовича, но дедушка повторял свое: «Хорош парень, ловок и смышлен, а сердце не лежит».
Так прошел еще год, в продолжение которого Степан Михайлович переселился в Уфимское наместничество. В первые три года после женитьбы Куролесов вел себя скромно и смирно или по крайней мере так скрытно, что ничего не было слышно. Впрочем, он дома жил мало и все время проводил в разъездах. Один только слух носился везде и даже увеличивался, — что молодой хозяин строгонек. В следующие два года Куролесов наделал чудеса по устройству имения жены своей, что неоспоримо доказывало его неусыпную деятельность, предприимчивость и железную волю в исполнении своих предприятий. Имение Прасковьи Ивановны управлялось прежде очень плохо: оно было расстроено, запущено, крестьяне избалованы. Они давали очень мало дохода не потому, чтобы местность была невыгодна для сбыта хлеба, но потому, что они, кроме того что плохо работали, были малоземельны и находились отчасти в общем владении с бабушкой Бактеевой и теткой Курмышевой. Михайла Максимович с того начал, что принялся за перевод крестьян на новые места, а старые земли продал очень выгодно. Он купил степь в Симбирской губернии (теперь Самарской), в Ставропольском уезде, около семи тысяч десятин, землю отличную, хлебородную, чернозем в полтора аршина глубиною, ровную, удобную для хлебопашества, по речке «Берля», в вершинах которой только рос по отрогам небольшой лесок; да был еще заповедный «Медвежий Враг», который и теперь составляет единственный лес для всего имения. Там поселил он триста пятьдесят душ. Это вышло имение отменно выгодное, потому что находилось во ста верстах от Самары, и в шестидесяти и в сорока верстах от многих волжских пристаней. Известно, что удобный сбыт хлеба составляет у нас все достоинство имения. Потом отправился Михаила Максимович в Уфимское наместничество и купил у башкирцев примерно по урочищам более двадцати тысяч десятин также чернозему, хотя далеко не так богатого, как в Симбирской губернии, но с довольным количеством дровяного и даже строевого леса. Земля лежала по реке Усень и по речкам Сююш, Мелеус, Кармалка и Белебейка; тогда, кажется, это был Мензелинский уезд, а теперь Белебеевский, принадлежащий к Оренбургской губернии. Там поселил он, на истоке множества ключей, составляющих речку Большой Сююш, четыреста пятьдесят душ да на речке Белебейке пятьдесят душ. Большую деревню назвал «Парашино», а маленькую — «Ивановка». Симбирское же имение называлось «Куролесово», и все три названия составляли имя, отчество и фамилию его жены. Эта романическая затея в таком человеке, каким явится впоследствии Михайла Максимович, всегда меня удивляла. Впрочем, есть люди, которые находят, что подобные выходки бывают часто. Резиденцию свою и своей супруги устроил он в особом ее родовом материнском именье, состоящем из трехсот пятидесяти душ, в селе Чурасове, находящемся в пятидесяти верстах от губернского города. Там выстроил он, по-тогдашнему, великолепный господский дом со всеми принадлежностями; отделал его на славу, меблировал отлично, расписал весь красками внутри и даже снаружи; люстры, канделябры, бронза, фарфоровая и серебряная посуда удивляли всех; дом поставил на небольшом косогоре, из которого били и кипели более двадцати чудных родниковых ключей. Дом, косогор, родники, все это обхватывалось и заключалось в богатом плодовитом саду, на двенадцати десятинах, со всевозможными сортами яблоков и вишен. Внутреннее хозяйство дома, прислуга, повара, экипажи, лошади, все было устроено и богато и прочно. Окружные соседи, которых было немало, и гости из губернского города не переводились в Чурасове: ели, пили, гуляли, играли в карты, пели, говорили, шумели, веселились. Парашеньку свою Михайла Максимович одевал как куклу, исполнял, предупреждал все ее желания, тешил с утра до вечера, когда только бывал дома. Одним словом, в несколько лет во всех отношениях он поставил себя на такую ногу, что добрые люди дивились, а недобрые завидовали. Михайла Максимович не забыл и о церкви и в два года, вместо ветхой деревянной, выстроил и снабдил великолепною утварью новую каменную церковь; даже славных певчих завел из своих дворовых людей. На четвертом году замужества Прасковья Ивановна, совершенно довольная и счастливая, родила дочь, а потом через год и сына; но дети не жили: девочка умерла на первом же году, а сын уже трех лет. Прасковья Ивановна так привязалась было к нему, что эта потеря стоила ей дорого. Целый год она не осушала глаз, и даже необыкновенно крепкое ее здоровье очень расстроилось, и более детей она не имела. Между тем авторитет Михайла Максимовича в общественном мнении рос не по дням, а по часам. С мелким и бедным дворянством, правду сказать, поступал он крутенько и самовластно, и хотя оно его не любило, но зато крепко боялось, а высшее дворянство только похваливало Михаила Максимовича за то, что он не дает забываться тем, кто его пониже. Год от году становились чаще и продолжительнее отлучки Куролесова, особенно с того несчастного года, когда Прасковья Ивановна потеряла сына и неутешно сокрушалась. Вероятно, ее супругу наскучили слезы, вздохи и тишина в уединении, потому что Прасковья Ивановна целый год не хотела никого видеть. Впрочем, и самое шумное и веселое общество в Чурасове его к себе не привлекало.
Мало-помалу стали распространяться и усиливаться слухи, что майор не только строгонек, как говорили прежде, но и жесток, что, забравшись в свои деревни, особенно в Уфимскую, он пьет и развратничает, что там у него набрана уже своя компания, пьянствуя с которой он доходит до неистовств всякого рода, что главная беда: в пьяном виде немилосердно дерется безо всякого резону и что уже два-три человека пошли на тот свет от его побой, что исправники и судьи обоих уездов, где находились его новые деревни, все на его стороне, что одних он задарил, других запоил, а всех запугал; что мелкие чиновники и дворяне перед ним дрожкой дрожат, потому что он всякого, кто осмеливался делать и говорить не по нем, хватал середи бела дня, сажал в погреба или овинные ямы и морил холодом и голодом на хлебе да на воде, а некоторых без церемонии дирал немилосердно какими-то кошками.[12]
Слухи были не только справедливы, но слишком умеренны; действительность далеко превосходила робкую молву. Кровожадная натура Куролесова, воспламеняемая до бешенства спиртными парами, развивалась на свободе во всей своей полноте и представила одно из тех страшных явлений, от которых содрогается и которыми гнушается человечество. Это ужасное соединение инстинкта тигра с разумностью человека. Наконец, слухи превратились в достоверность, и никто из окружающих Прасковью Ивановну родных, соседей и прислуги, никто уже не ошибался насчет Михаила Максимовича. Когда он возвращался в Чурасово после своих страшных подвигов, то вел себя по-прежнему почтительно к старшим, ласково и внимательно к равным, предупредительно и любезно к своей жене, которая, выплакав свое горе, опять стала здорова и весела, а дом ее по-прежнему был полон гостей и удовольствий. Хотя Михайла Максимович ни с кем в Чурасове не дрался, предоставляя это удовольствие старосте и дворецкому, но все понаслышке дрожали от одного его взгляда; даже в обращении с ним родных и коротких знакомых было заметно какое-то смущение и опасение. Прасковья Ивановна ничего не замечала, а если и замечала, то приписывала совсем другой причине: невольному уважению, которое внушал всем Михайла Максимович своим диковинным хозяйством, своим уменьем жить богато и разумной твердостью своих поступков. Люди рассудительные, любящие Прасковью Ивановну, видя ее совершенно спокойною и счастливою, радовались, что она ничего не знает, и желали, чтоб как можно долее продолжилось это незнание. Конечно, и между тогдашними приживалками и мелкопоместными соседками были такие, у которых очень чесался язычок и которым очень хотелось отплатить высокомерному майору за его презрительное обращение, то есть вывести его на свежую воду; но кроме страха, который они чувствовали невольно и который, вероятно, не удержал бы их, было другое препятствие для выполнения таких благих намерений: к Прасковье Ивановне не было приступу ни с какими вкрадчивыми словами о Михайле Максимовиче; умная, проницательная и твердая Прасковья Ивановна сейчас замечала, несмотря на хитросплетаемые речи, что хотят ввернуть какое-нибудь словцо, невыгодное для Михайла Максимовича; она сдвигала свои темные брови и объявляла решительным голосом, что тот, кто скажет неприятное для ее мужа, никогда уже в доме ее не будет. После такого предупредительного и грозного выражения, разумеется, уже никто не осмеливался путаться не в свое дело. Приближенная к Прасковье Ивановне прислуга, особенно один старик, любимец покойного ее отца, и старуха, ее нянька, которых преимущественно жаловала госпожа, но с которыми, вопреки тогдашним обычаям, не входила она в короткие сношения, — также ничего не могли сделать. Старику и старухе, о которых я сейчас сказал, была кровная нужда, чтобы их барыня узнала настоящую правду о своем супруге: близкие родные их, находившиеся в прислуге у барина, невыносимо страдали от жестокости своего господина. Наконец, старик и старуха решились рассказать барыне все и, улучив время, когда Прасковья Ивановна была одна, вошли к ней оба; но только вырвалось у старушки имя Михайла Максимовича, как Прасковья Ивановна до того разгневалась, что вышла из себя; она сказала своей няне, что если она когда-нибудь разинет рот о барине, то более никогда ее не увидит и будет сослана на вечное житье в Парашино. Таким образом, прекращены были все пути к доносу на Михайла Максимовича и заткнуты все рты. Прасковья Ивановна верила безусловно своему мужу и любила его. Она знала, что посторонние люди охотно путаются в чужие дела, охотно мутят воду, чтобы удачнее ловить в ней рыбу, и она заранее приняла твердое намерение, постановила неизменным правилом не допускать до себя никаких рассуждений о своем муже. Правило очень мудрое, необходимое для сохранения спокойствия в семейной жизни; но нет правила без исключения. Может быть, что в настоящем случае твердый нрав и крепкая воля Прасковьи Ивановны, сильно подкрепленные тем обстоятельством, что все богатство принадлежало ей, могли бы вначале остановить ее супруга, и он, как умный человек, не захотел бы лишить себя всех выгод роскошной жизни, не дошел бы до таких крайностей, не допустил бы вырасти вполне своим чудовищным страстям и кутил бы умеренно, втихомолку, как и многие другие.
Так протекло несколько лет. Михайла Максимович предавался на свободе своим наклонностям, быстро развивался и, наконец, начал совершать безнаказанно неслыханные дела. Я не стану рассказывать подробно, какую жизнь вел он в своих деревнях, особенно в Парашине, а также в уездных городишках: это была бы самая отвратительная повесть. Я скажу только то, что необходимо для получения настоящего понятия об этом страшном человеке. Первые года, занимаясь устройством жениных имений, можно сказать, с самозабвением, он мог назваться самым умным, деятельным и попечительным хозяином. Всеми бесконечно разнообразными и тяжелыми заботами и хлопотами, соединенными с дальним переселением крестьян и водворением их на местах нового жительства, Михайла Максимович неусыпно занимался сам, постоянно имея в виду одно: благосостояние крестьян. Он умел не жалеть денег, где было нужно, смотрел, чтобы они доходили до рук вовремя, в меру, и предупреждал всякие надобности и нужды переселенцев. Сам выпроваживал их со старины, сам ехал с ними большую часть дороги и сам встречал их на новоселье, снабженном всем для их приема и помещения. Правда, он был слишком строг, жесток в наказании виноватых, но справедлив в разборе вин и не ставил крестьянину всякого лыка в строку; он позволял себе от времени до времени гульнуть, потешиться денек-другой, завернув куда-нибудь в сторонку, но хмель и буйство скоро слетали с него, как с гуся вода, и с новой бодростию являлся он к своему делу.
Да, дело лежало у него на плечах, занимало все его умственные способности и не давало ему предаться пагубному пьянству, которое, отнимая у него ум, снимало узду с его страстей, чудовищных, бесчеловечных. Да, дело спасало его. Когда же он привел в порядок обе новые деревни — Куролесово и Парашино, устроил в них господские усадьбы с флигелями, а в Парашине небольшой помещичий дом; когда у него стало мало дела и много свободного времени, — пьянство, с его обыкновенными последствиями, и буйство совершенно овладели им, а всегдашняя жестокость мало-помалу превратилась в неутолимую жажду мук и крови человеческой. Избалованный страхом и покорностию всех его окружающих людей, он скоро забылся и перестал знать меру своему бешеному своеволию. Он выбрал себе из дворовых и даже из крестьян десятка полтора головорезов, достойных исполнителей его воли, и образовал из них шайку разбойников. Видя, что барину все сходило с рук, они поверили его всемогуществу, и сами, пьяные и развратные, охотно и смело исполняли все его безумные приказания. Досаждал ли кто Михайлу Максимовичу непокорным словом или поступком, например, даже хотя тем, что не приехал в назначенное время на его пьяные пиры, — сейчас, по знаку своего барина, скакали они к провинившемуся, хватали его тайно или явно, где бы он ни попался, привозили к Михайлу Максимовичу, позорили, сажали в подвал в кандалы или секли по его приказанию. Михайла Максимович очень любил хорошие вещи, хороших лошадей и любил, как украшение дома, хорошие, по его мнению, картины. Если что-нибудь подобное нравилось ему в доме своего соседа или просто в том доме, где ему случилось быть, то он сейчас предлагал хозяину поменяться; в случае несогласия его он предлагал иногда и деньги, если был в хорошем духе; если и тут хозяин упрямился, то Михайла Максимович предупреждал его, что возьмет даром. В самом деле, через несколько времени являлся он с своей шайкой, забирал все, что ему угодно, и увозил к себе; на него жаловались, предписывали произвесть следствие; но Михайла Максимович с первого разу приказал сказать земскому суду, что он обдерет кошками того из чиновников, который покажет ему глаза, и — оставался прав, а челобитчик между тем был схвачен и высечен, иногда в собственном его имении, в собственном доме, посреди семейства, которое валялось в ногах и просило помилования виноватому. Бывали насилия и похуже и также не имели никаких последствий, Через несколько времени Михайла Максимович мирился с обиженными, удовлетворяя их иногда деньгами, а чаще привлекая к миру страхом; но похищенное добро оставалось его законною собственностью. Пируя с гостями, он любил хвастаться, что вот эту красотку в золотых рамах отнял он у такого-то господина, а это бюро с бронзой у такого-то, а эту серебряную стопку у такого-то, — и все эти такие-то господа нередко пировали тут же и притворялись, что не слышат слов хозяина, или скрепя сердце сами смеялись над собой. Михайла Максимович имел удивительно крепкое сложение; он пил много, но никогда не напивался до положения риз, как говорится; хмель не валял его с ног, а поднимал на ноги и возбуждал страшную деятельность в его отуманенном уме, в его разгоряченном теле. Любимым его наслаждением было — заложить несколько троек лихих лошадей во всевозможные экипажи, разумеется с колокольчиками, насажать в них своих собеседников и собеседниц, дворню, кого ни попало, и с громкими песнями и криками скакать во весь дух по окольным полям и деревням. Имея с собой всегда запас вина, он особенно любил напоить допьяна всякого встречного, какого бы звания, пола и возраста он ни был, и больно секал того, кто осмеливался ему противиться. Наказанных привязывали к деревьям, к столбам и заборам, не обращая внимания ни на дождь, ни на стужу. О более возмутительных насилиях я умалчиваю. В таком расположении духа ехал он однажды через какую-то деревню; проезжая мимо овинного тока, на котором молотило крестьянское семейство, он заметил женщину необыкновенной красоты. «Стой! — закричал Михайла Максимович. — Петрушка! какова баба?» — «Больно хороша!» — отвечал Петрушка. — «Хочешь на ней жениться?» — «Да как же жениться на чужой жене?» — отвечал ухмыляясь Петрушка. — «А вот как! ребята! бери ее, сажай ко мне в повозку…» Женщину схватили, посадили в повозку, привезли прямо в приходское село, и, хотя она объявила, что у ней есть муж и двое детей — обвенчали с Петрушкой, и никаких просьб не было, не только при жизни Куролесова, но даже при жизни Прасковьи Ивановны. Когда же все имение перешло в руки ее племянника, он возвратил эту женщину вместе с мужем и детьми прежнему ее господину: первый муж давно уже умер. Наследник, то есть тот же племянник, роздал также несколько разных вещей прежним хозяевам, которые предъявили свои требования; многие же вещи долго валялись в кладовых, пока не истлели от ветхости. Трудно поверить, чтоб могли совершаться такие дела в России даже и за восемьдесят лет, но в истине рассказа нельзя сомневаться.
Как ни была ужасна и отвратительна сама по себе эта преступная, пьяного буйства исполненная жизнь, но она повела еще к худшему, к более страшному развитию природной жестокости Михайла Максимовича, превратившейся, наконец, в лютость, в кровопийство. Терзать людей сделалось его потребностью, наслаждением. В те дни, когда случалось ему не драться, он был скучен, печален, беспокоен, даже болен, и потому час от часу становились реже его поездки в Чурасово и короче пребывания там. Зато, воротясь в свое любимое Парашино, он спешил вознаградить себя. Обзор хозяйственных заведений представлял ему достаточное число жертв; тут уже всякая вина была виновата, а в каком хозяйстве нельзя найти каких-нибудь мелочных упущений, если захочешь отыскать их. Впрочем, от лютости Михайла Максимовича страдали преимущественно дворовые люди. Он редко наказывал крестьян, и то в случаях особенной важности или личной известности ему виноватого человека; зато старосты и приказчики терпели от него наравне с дворовыми. У него не было пощады никому, и каждый из его приближенных, а иной и не один раз, бывал наказан насмерть. Замечательно, что, когда Михайла Максимович сердился, горячился и кричал, что бывало редко, — он не дрался; когда же добирался до человека с намерением потешиться его муками, он говорил тихо и даже ласково: «Ну, любезный друг, Григорий Кузьмич (вместо обыкновенного Гришки), делать нечего, пойдем, надобно мне с тобой рассчитаться». С такими словами обращался он к главному своему конюху, по прозванью Ковляге, который, неизвестно почему, чаще других подвергался истязаниям. «Поцарапайте его кошечками», — говорил с улыбкой Михайла Максимович окружающим, и начиналась долговременная пытка, в продолжение которой барин пил чай с водкой, курил трубку и от времени до времени пошучивал с несчастной жертвой, покуда она еще могла слышать… Меня уверяли достоверные свидетели, что жизнь наказанных людей спасали только тем, что завертывали истерзанное их тело в теплые, только что снятые шкуры баранов, тут же зарезанных. Осмотрев внимательно наказанного человека, Михайла Максимович говорил, если был доволен: «Ну, будет с него, приберите к месту…» и делался весел, шутлив и любезен на целый день, а иногда и на несколько дней. Чтобы довершить характеристику этого страшного существа, я приведу его собственные слова, которые он не один раз говаривал в кругу пирующих собеседников: «Не люблю палок и кнутьев, что в них? Как раз убьешь человека! То ли дело кошечки: и больно и не опасно!» Я рассказал десятую долю того, что знаю, но, кажется, и этого довольно. Замечательно, как необъяснимое явление и противоречие в искаженной человеческой природе, что Михайла Максимович, достигнув высшей степени разврата и лютости, ревностно занялся построением каменной церкви в Парашине; он производил эту работу экономически. В то время, на котором остановился мой рассказ, церковь по наружности была отделана, и наняты были мастеровые для внутренней отделки; столяры, резчики, золотари и иконописцы уже несколько месяцев работали в Парашине, занимая весь господский дом.
Четырнадцать лет была замужем Прасковья Ивановна, и хотя замечала что-то странное в своем супруге, которого последние два года редко и ненадолго видала, но не только не знала, даже и не подозревала ничего подобного. Она продолжала жить беззаботно и весело: летом занималась с увлечением своим плодовитым садом и родниками, которых не позволяла обделывать и очень любила сама расчищать, а все остальное время года проводила с гостями и сделалась большой охотницей играть в карты. Вдруг получает она с почты или с нарочным письмо от одной старушки, дальней родственницы ее мужа, которую она очень уважала. В письме была описана вся жизнь Михайла Максимовича и в заключение сказано, что грешно оставлять в неведении госпожу тысячи душ, которые страдают от тиранства изверга, ее мужа, и которых она может защитить, уничтожив доверенность, данную ему на управление имением; что кровь их вопиет на небо; что и теперь известный ей лакей, Иван Ануфриев, умирает от жестоких истязаний и что самой Прасковье Ивановне нечего опасаться, потому что Михайла Максимович в Чурасово не посмеет и появиться; что добрые соседи и сам губернатор защитят ее. Прасковья Ивановна была поражена, как громом. Я слышал сам, как она рассказывала, что в первые минуты совсем было сошла с ума, но необычайная твердость духа и теплая вера подкрепили ее, и она вскоре решилась на такой поступок, на какой едва ли бы отважился самый смелый мужчина: она велела заложить лошадей, сказавши, что едет в губернский город, и с одною горничной девушкой, с кучером и лакеем отправилась прямо в Парашино. Путь лежал дальний, надобно было проехать четыреста верст, и нашлось довольно свободного времени обдумать свой поступок. Прасковья Ивановна сама говорила, что не составляла в голове своей никаких планов, как и что ей делать. Она хотела только взглянуть своими глазами и удостовериться, что делает и как живет там ее Михайла Максимович. Она не верила вполне письму его родственницы, которая жила далеко и могла быть обманута ложными слухами, а спросить в Чурасове свою няню не захотела. Никакая опасность не входила ей в голову: муж всегда с нею был так нежен и почтителен, что ей казалось самым естественным и возможным делом уговорить Михайла Максимовича сесть с ней в коляску и увезть его в Чурасово. Она приехала в Парашино нарочно вечером, оставила свою коляску у околицы, а сама с горничной и лакеем, никем не узнанная (да ее мало и знали), прошла до господского двора и через задние ворота пробралась до самого флигеля, из которого неслись крик, песни и хохот, и твердою рукою отворила дверь… Судьба как нарочно собрала все, что могло одним разом показать ей, какую жизнь вел Михайла Максимович. Он пировал с какими-то гостями, пьяный даже более обыкновенного. Одетый в шелковую красную рубаху с косым воротом, в самом развратном виде, с стаканом пунша в одной руке, обнимал он другою рукою сидящую у него на коленях красивую женщину; его полупьяные лакеи, дворовые и крестьянские бабы пели песни и плясали. Прасковья Ивановна едва не упала в обморок от такого зрелища; она все поняла и, никем не замеченная, потому что горница была полна народа, затворила дверь и вышла из сеней. На крыльце встретилась она лицом к лицу с одним из слуг Михайла Максимовича, человеком не молодым и не пьяным, по счастию. Он узнал барыню и закричал было: «Матушка, Прасковья Ивановна, вы ли это?..» Но Прасковья Ивановна зажала ему рот и, отведя его подальше на средину широкого двора, грозно сказала: «Так-то вы без меня поживаете? Конец вашему веселому житью». Слуга повалился ей в ноги и со слезами сказал: «Матушка, разве мы ему рады? Разве это наша воля? Сам господь вас принес!..» Прасковья Ивановна велела ему молчать и приказала вести себя к Ивану Ануфриеву, узнав, что он еще жив. На заднем дворе, в скотной избе нашла она умирающего Ануфриева. Он был очень слаб, и от него она не могла ничего узнать; но родной его брат Алексей, молодой парень, только вчера наказанный, кое-как сполз с лавки, стал на колени и рассказал ей всю страшную повесть о брате, о себе и о других.[13]
Сердце Прасковьи Ивановны облилось кровью от жалости и ужаса, совесть терзала ее, и она твердо решилась положить конец преступным, злодейским действиям Михайла Максимовича, что казалось ей весьма легко. Она строго запретила сказывать о своем приезде и, узнав, что в новом доме, построенном уже несколько лет и по какой-то странной причуде барина до сих пор не отделанном, есть одна жилая, особая комната, не занятая мастеровыми, в которой Михайла Максимович занимался хозяйственными счетами, — отправилась туда, чтоб провесть остаток ночи и поговорить на другой день поутру с своим уже не пьяным супругом. Но тайна ее приезда не вполне сохранилась. Слух о нем дошел до одного из самых отчаянных сподвижников Михаила Максимовича, который из преданности или из страха шепнул о том на ухо своему барину. Ошеломила эта весть Михаила Максимовича. Хмель вылетел у него из головы, он смутился и почуял грозу. Хотя он мало знал твердый и мужественный нрав своей жены, потому что не было опытов еще ему проявиться, но он его угадывал. Он распустил свою пьяную беседу, вылил на себя два ушата холодной воды, освежился телом, укрепился духом, переоделся в обыкновенное платье и пошел посмотреть, спит ли Прасковья Ивановна. Он успел уже обдумать и составить план своих действий. Он рассчитал очень верно, что Прасковья Ивановна была кем-нибудь извещена об образе его жизни, что она не поверила известиям и приехала удостовериться в них лично. Он узнал, что она заглянула во флигель и видела мельком его пирушку, но не знал, что она видела Ануфриева и что Алексей рассказал ей все. В пирушке и гульбе он надеялся кое-как извиниться, прикинуться раскаявшимся грешником, умаслить нежностями свою жену и как можно скорее увезти ее из Парашина.
Между тем уже рассветало, и даже взошло солнце. Михайла Максимович бережно подошел к комнате, в которой находилась Прасковья Ивановна; он тихонько отворил дверь и увидел, что приготовленная ей дорожная постель на сундуке не была смята, что на нее никто не ложился. Он окинул глазами всю комнату: Прасковья Ивановна стояла на коленях и со слезами молилась богу на новый церковный крест, который горел от восходящего солнца перед самыми окнами дома; никакого образа в комнате не было. Постояв несколько минут, Михайла Максимович сказал веселым голосом: «Полно молиться, душа моя Парашенька! Как это ты вздумала обрадовать меня своим приездом!» Прасковья Ивановна не смутилась, встала, не допустила мужа обнять себя и, пылая внутренно справедливым гневом, холодно и твердо объявила ему, что она все знает и видела Ивана Ануфриева. Беспощадно и резко высказала свое отвращение от изверга, который уже не может быть ее мужем; объявила ему, чтобы он возвратил ей доверенность на управление имением, сейчас уехал из Парашина, не смел бы показываться ей на глаза и не заглядывал бы ни в одну из ее деревень, и что если он этого не исполнит, то она подаст просьбу губернатору, откроет правительству все его злодейства — и он будет сослан в Сибирь на каторгу. Не ожидал этого Михаила Максимович. Пена выступила у него на губах от бешенства и злобы. «А, так ты так-то поговариваешь, лебедка! Так и я поговорю с тобой другим голосом! — заревел остервенившийся злодей. — Ты не выедешь из Парашина, покуда не подпишешь мне купчей крепости на все свое имение, а не то я уморю тебя с голоду в подвале». После этих слов он схватил стоявшую в углу палку, несколькими ударами сбил с ног свою Парашеньку и бил до тех пор, пока она не лишилась чувств. Он позвал несколько благонадежных людей из своей прислуги, приказал отнести барыню в каменный подвал, запер огромным замком и ключ положил к себе в карман. Грозен и страшен явился он перед своей дворней, которую приказал собрать всю налицо. Хотел было отыскать виноватого, того, кто водил барыню в скотную избу, но тот, предвидя беду, давно уже скрылся, с ним бежали кучер и лакей, приехавшие с Прасковьей Ивановной; за ними послали погоню. Горничная девушка не решилась покинуть своей госпожи. Михайла Максимович ее не тронул, дал ей некоторые наставления, как уговаривать барыню к покорности, и запер своими руками в тот же подвал. Что же сделал Михайла Максимович потом? Запил и закутил более прежнего. Но увы! напрасно он пил водку, как воду, напрасно пела и плясала перед ним пьяная ватага — Михайла Максимович сделался угрюм и мрачен. Это не мешало, однакож, ему действовать неутомимо к достижению своей цели. Он заготовил в уездном городе на имя одного из своих достойных друзей законную доверенность от Прасковьи Ивановны на продажу Парашина и Куролесова (Чурасово из милости оставлял ей) и всякий день два раза спускался в подвал к своей жене и уговаривал подписать доверенность; просил прощенья, что в горячности так строго с нею обошелся; обещался, в случае ее согласия, никогда не появляться ей на глаза и божился, что оставит духовную, в которой, после своей смерти, откажет ей все имение. Прасковья Ивановна, страдая от побоев, изнуряемая голодом и получившая даже лихорадку, не хотела и слышать ни о какой сделке. Так прошло пять дней. Чем все бы это кончилось — одному богу известно.
Между тем дедушка Степан Михайлович продолжал благополучно жить в новом своем Багрове, которое отстояло от Парашина в ста двадцати верстах. Я уже сказал, что он давно искренне примирился с Михайлом Максимовичем, и хотя сердце его не лежало к нему, но вообще он был им доволен. Куролесов, с своей стороны, оказывал Степану Михайловичу и всему его семейству большое уважение, преданность и готовность на всякие послуги. Поселив Парашино и занимаясь его устройством, он каждый год приезжал в Багрово, был постоянно ласков, искателен, просил у Степана Михайловича советов, как у человека опытного в переселении крестьян; с большою благодарностью точно и подробно записывал все его слова и в самом деле пользовался ими. Он упросил даже Степана Михайловича два раза приехать в Парашино, чтобы взглянуть, умел ли он воспользоваться его советами. Дедушка в оба раза остался совершенно доволен новым хозяином и в последнее свое посещение, осмотрев пашню и все хозяйственные заведения, сказал Куролесову: «Ну, брат Михайла, ты из молодых, да ранний, и тебя учить нечего». В самом деле, все хозяйственные дела у Михайла Максимовича были в отличном порядке. Само собою разумеется, что он принимал, угощал и чествовал старика, как родного отца. По прошествии нескольких лет недобрые слухи о Куролесове стали носиться в Багрове. Сначала дедушке совсем об них не говорили, потому что он не любил слушать дурных вестей, но слухи росли год от году. Семейство Степана Михайловича знало их, и Арина Васильевна решилась сказать ему, что Михайла Максимович «больно нехорошо живет». Старик не поверил и отвечал, что «только развесь уши, так, пожалуй, и церковную татьбу взведут на человека». «Знаю я, — продолжал он, — каковы были крестьяне и дворовые у Бактеевых, — наподряд мошенники и лежебоки, да и братнины крестьяне также без хозяина избаловались. Что мудреного, что настоящая работа и порядок показались им хуже медведя? Может статься, что Михайла и крутенько поворотил, ну да привыкнут. А что он погуляет, выпьет иногда после трудов, так и то мужчине не беда, лишь бы не забывал своего дела. Вот мерзких дел не надо, да ведь, пожалуй, и солгут: а ты с дочками любишь слушать рабьи сплетни!» После таких слов долго ничего не говорили Степану Михайловичу. Наконец, родовые багровские крестьяне, переведенные вместе с бактеевскими из Симбирской губернии в Парашино, имевшие родственников в Новом Багрове, стали приезжать туда и рассказывать про барина страшные вести. Арина Васильевна вторично доложила о том своему супругу и предложила ему, чтобы он сам расспросил парашинского старика из багровских, которого честность и правдивость ему давно были известны и который теперь находится у них в деревне. Дедушка согласился. Призвал, расспросил старика и услышал такую повесть, от которой встали у него дыбом волосы на голове. Как быть, что делать, чем тут пособить — не умел он придумать; он получал изредка письма от Прасковьи Ивановны, видел, что она была совершенно спокойна и счастлива, и заключил, что она о поведении своего супруга ничего не знала. Он сам некогда давал ей советы, чтоб она никому не позволяла наушничать на своего мужа, и убедился, что она хорошо исполняет его советы. Он рассудил, что если она узнает истину, то вряд ли поправит дело, а будет только убиваться с горя понапрасну. Итак, надо желать, чтоб она ничего не знала. Он терпеть не мог путаться в чужие дела, да и считал это бесполезным в отношении к Михайле Максимовичу. «Пусть сломит себе шею или попадет в уголовную — туда ему и дорога. Этого человека один только бог может исправить. Крестьянам жить у него можно, а дворовые все негодяи, пускай терпят за свои грехи. Не хочу мешаться в эти поганые дела». Так рассудил по своей логике Степан Михайлович и удовольствовался только тем, что перестал отвечать на письма Куролесова и прекратил всякие с ним сношения; тот понял, что это значит, и оставил старика в покое; переписка же у Степана Михайловича с Прасковьей Ивановной сделалась как-то чаще и задушевнее.
Так оставались дела до того утра, когда вдруг явились к моему дедушке перед крыльцо трое бежавших людей из Парашина. В первый день своего побега они скрывались в непроходимом лесном болоте, которое упиралось в парашинские крестьянские гумна; вечером они кое с кем повидались, узнали подробно всю историю и пустились прямо к Степану Михайловичу, как единственному защитнику и покровителю Прасковьи Ивановны. Можно себе представить, что такое было с Степаном Михайловичем, когда он узнал о случившемся в Парашине! Он любил свою единственную двоюродную сестру не меньше, если не больше, своих родных дочерей. Параша, до полусмерти избитая разбойником своим мужем, Параша, сидящая в подвале уже третий день, может быть давно умершая, представлялась с такой ясностию его живому воображению, что он вскочил как безумный, побежал по своему двору, по деревне, исступленным голосом сзывая дворовых и крестьян. Все сбежались, прискакали из полей, кого не было дома. Все, сочувствуя отчаянному горю любимого господина, кричали единогласно, что они все едут и пешком идут выручать Прасковью Ивановну… И вот через несколько часов трое роспусков, запряженных тройками лихих господских коней, с двенадцатью человеками отборных молодцов из дворовых и крестьян и с людьми, бежавшими из Парашина, вооруженными ружьями, саблями, рогатинами и железными вилами, скакали по парашинской дороге. К вечеру выехали еще двое роспусков на лучших крестьянских лошадях, с десятью так же вооруженными людьми, и поскакали по той же парашинской дороге на подмогу Степану Михайловичу. На другой день вечером первый поезд был уже в семи верстах от Парашина; выкормили усталых лошадей и, только начала заниматься летняя заря, нагрянули на широкий господский двор и подъехали прямо к известному подвалу, находившемуся возле самого флигеля, в котором жил Куролесов. Степан Михайлович бросился в подвал и начал стучать кулаком в деревянную дверь. Слабый голос спросил: «Кто тут?» Дедушка узнал голос сестры своей, прослезился от радости, что застал ее живою, и, крестясь, громко закричал: «Слава богу! Это я, брат твой, Степан Михайлович, ничего не бойся!» Он послал кучера, лакея и старого слугу Прасковьи Ивановны заложить коляску, в которой она приехала из Чурасова, поставил шесть человек с ружьями, саблями и рогатинами у входа в выход, а сам с остальными, с помощью топоров и железного лома, принялся отбивать дверь. В одну минуту она была сломана; Степан Михайлович своими руками вынес Прасковью Ивановну, положил ее на роспуски, с одной стороны посадил возле нее верную горничную, а с другой сел сам и со всеми людьми спокойно съехал со двора. Солнце начинало всходить, и опять ярко загорелся крест на церкви, когда Прасковья Ивановна проезжала мимо нее. Ровно за шесть суток молилась она на этот крест… помолилась и теперь, благодаря бога за свое избавление. Коляска догнала их уже в пяти верстах от Парашина. Степан Михайлович пересадил сестру в коляску и отправился с нею в Багрово.
Как же все это случилось? — спросят меня. Неужели никто не видал этого происшествия? Куда девался Михайла Максимович и его верные слуги? Неужели он ничего не знал, или его не было дома?.. Нет, многие слышали и видели освобождение Прасковьи Ивановны; Михайла Максимович был дома, даже знал, что происходит, — и не осмелился показаться из своего флигеля.
Событие совершилось очень просто: пропировавшие с барином весь вечер холопы были так мертвецки пьяны, что иных нельзя было добудиться. Любимый и трезвый лакей, не пивший никогда вина, с трудом разбудил хмельного барина; дрожа от страха, рассказал он про наезд Степана Михайловича и про ружья, прямо нацеленные на флигель. «Где же все наши?» — спросил Михайла Максимович. «Одни спят, другие попрятались», — отвечал холоп и солгал, потому что пьяная ватага начинала собираться у господского крыльца. Михайла Максимович подумал, махнул рукой и сказал: «Черт с ней! Запри дверь и смотри в окно, что будет дальше». Через несколько минут лакей закричал: «Барыню увозят!.. увезли!..» — «Ложись спать», — сказал Михайла Максимович, завернулся в одеяло и заснул или притворился заснувшим.
Да, есть нравственная сила правого дела, перед которою уступает мужество неправого человека. Михайла Максимович знал твердость духа и бесстрашную отвагу Степана Михайловича, знал неправость своего дела и, несмотря на свое бешенство и буйную смелость — уступил свою жертву без спора.
Бережно повез Степан Михайлович свою, всегда горячо любимую, больную сестру, возбуждавшую теперь еще большую его нежность и глубокое сострадание. Он не расспрашивал ее дорогой ни о чем и когда привез благополучно в Багрово, то запретил домашним беспокоить ее расспросами. Благодаря необыкновенно крепкому телосложению и столько же сильному духу Прасковья Ивановна недели через две оправилась; тогда Степан Михайлович решился расспросить ее обо всем: ему необходимо было знать настоящую истину события для того, чтобы знать, как действовать, а россказням людей, своими глазами ничего не видавших, он никогда не верил. Прасковья Ивановна с полною откровенностью сказала ему настоящую правду, но в то же время просила, чтоб он не говорил о том своему семейству и чтоб никто ее ни о чем не расспрашивал. Боясь горячего нрава своего брата, отдавая себя в полное его распоряжение, она умоляла, однако, не мстить Михайлу Максимовичу и с твердостью объявила, что она одумалась и решилась не позорить своего мужа, не бесчестить имени, которое сама должна носить во всю свою жизнь. Она прибавила, что теперь раскаялась в тех словах, которые вырвались у нее при первом свидании с Михайлом Максимовичем в Парашине, и что ни под каким видом она не хочет жаловаться на него губернатору; но, считая за долг избавить от его жестокости крепостных людей своих, она хочет уничтожить доверенность на управление ее имением и просит Степана Михайловича взять это управление на себя; просит также сейчас написать письмо к Михайле Максимовичу, чтобы он возвратил доверенность, а если же он этого не сделает, то она уничтожит ее судебным порядком. Она желала, чтоб все это написано было Степаном Михайловичем твердо, но без всяких обидных слов; для большего же удостоверения хотела собственноручно подписать свое имя; надобно прибавить, что она плохо знала русскую грамоту. Степан Михайлович так любил сестру, что преодолел свой гнев и согласился на ее просьбу и желание. Он не хотел слышать только об одном: об управлении ее имением. «Не люблю путаться в чужие дела, — говорил он, — не хочу, чтобы твои родные сказали, что я нагреваю руки около твоих тысячи душ. Хозяйство пойдет скверно у тебя, это правда, но ты богата, с тебя будет; теперь же, так и быть, напишу, что беру на себя все управление имением, чтобы пугнуть твоего сахара медовича… Прочее, о чем просишь, все будет сделано». Вследствие того семейству был отдан строгий приказ ни о чем не расспрашивать Парашу. Письмо к Михайлу Максимовичу написал дедушка собственной своей рукой; Прасковья Ивановна также приписала в нем, и гонец отправился в Парашино. В то же время, как они соображали, думали, гадали и писали — в Парашино уже все было решено. На четвертый день воротился гонец с известием, что, волею божиею, Михайла Максимович скоропостижно скончался и что его уже похоронили. — Невольно перекрестился Степан Михайлович, получив первый это известие, и сказал: «Слава богу». То же сказала и вся его семья, которая, несмотря на свое прежнее благорасположение к Куролесову, давно уже смотрела на него со страхом, как на ужасного злодея. Но не то было с Прасковьей Ивановной. Судя по себе, все думали, что она порадуется этому известию, и поспешили сообщить его. К общему удивлению, она была поражена им до такой степени, что пришла в совершенное отчаяние, и снова захворала. Когда же крепкая натура преодолела болезнь, тоска овладела ею; несколько недель не осушала она глаз с утра до вечера и так исхудала, что напугала Степана Михайловича. Непонятно было для всех, из какого источника происходило такое глубокое сокрушение о смерти мужа, изверга рода человеческого, как все его называли, которого она не могла уже любить и который так злодейски поступил с нею. Но вот объяснение.
Несколько десятков лет после этого происшествия моя мать, которую очень любила Прасковья Ивановна, спросила ее в минуту сердечного излияния и самых откровенных разговоров о прошедшем (которых Прасковья Ивановна не любила): «Скажите, пожалуйста, тетушка, как могли вы так убиваться по Михайле Максимовиче? Я на вашем месте сказала бы: царство ему небесное — и порадовалась бы». — «Ты дура, — отвечала Прасковья Ивановна, — я любила его четырнадцать лет и не могла разлюбить в один месяц, хотя узнала, какого страшного человека я любила; а главное, я сокрушалась об его душе: он так умер, что не успел покаяться».
К шести неделям рассудок несколько овладел страждущею душою Прасковьи Ивановны, и она поехала, или, лучше сказать, согласилась поехать в Парашино вместе с братом и со всем его семейством, чтобы отслужить панихиду и отправить сорочины на могиле Михайла Максимовича. К общему удивлению, Прасковья Ивановна, во время пребывания своего в Парашине и во время печальной церемонии, не выронила ни одной слезинки, но можно себе представить, чего стоило такое усилие ее растерзанной душе и еще больному телу! По ее желанию пробыли в Парашине только несколько часов, и она не входила во флигель, в котором жил и умер ее муж.
Не трудно догадаться, отчего произошла скоропостижная кончина Куролесова. Когда Степан Михайлович выручил свою сестру из подвала, то все в Парашине ободрились и ожидали, что пришел конец владычеству Михайла Максимовича. Все думали, что багровский барин, бывший вместо отца их барыне, скрутит ее мужа и выгонит из имения, ему не принадлежащего. Никому и в голову не входило, чтоб молодая их госпожа, так обиженная, избитая до полусмерти, сидевшая на хлебе и на воде в погребу, в собственном своем имении, — не стала преследовать судебным порядком своего мучителя. Всякий день ждали, что нагрянет Степан Михайлович с капитан-исправником и земским судом, но прошла неделя, другая, третья — никто не приезжал… Михаила Максимович пил, гулял и буйствовал; передрал до полусмерти всю свою дворню, не исключая и того трезвого лакея, который будил его во время известного события — за то, что они его выдали, — и хвалился, что получил от Прасковьи Ивановны крепость на все ее имение. Мера терпения человеческого преисполнилась; впереди не было никакой надежды, и двое из негодяев, из числа самых приближенных к барину и — что всего замечательнее — менее других терпевшие от его жестокости, решились на ужасное дело: они отравили его мышьяком, положа мышьяк в графин с квасом, который выпивал по обыкновению Михаила Максимович в продолжение ночи. Яд был положен в таком количестве, что Куролесов жил не более двух часов. Преступники не имели сообщников, и потому такое страшное событие поразило всех неописанным ужасом. Все подозревали друг друга, но долго не знали настоящих виновников. Чрез полгода один из них сделался отчаянно болен и пред смертью признался в своем преступлении. Товарищ его, которого, однако, умирающий не назвал, бежал и пропал без вести.
Без сомнения, скоропостижная смерть Куролесова повела бы за собой уголовное следствие, если б в Парашине не было в конторе очень молодого писца, которого звали также Михайлом Максимовичем и который только недавно был привезен из Чурасова. Этот молодой человек, необыкновенно умный и ловкий, уладил все дело…
* * *
Впоследствии он был поверенным, главным управителем всех имений и пользовался полною доверенностью Прасковьи Ивановны. Под именем Михайлушки он был известен всем и каждому в Симбирской и Оренбургской губернии. Этот замечательно умный и деловой человек нажил себе большие деньги, долго держался скромного образа жизни, но, отпущенный на волю после кончины Прасковьи Ивановны, потеряв любимую жену, спился и умер в бедности. Кто-то из его детей, как мне помнится, вышел в чиновники и, наконец, в дворяне.
Не могу умолчать, что лет через сорок, сделавшись владельцем Парашина, внук Степана Михайловича нашел в крестьянах свежую, благодарную память об управлении Михайла Максимовича, потому что чувствовали постоянную пользу многих его учреждений; забыли его жестокость, от которой страдали преимущественно дворовые, но помнили уменье отличать правого от виноватого, работящего от ленивого, совершенное знание крестьянских нужд и всегда готовую помощь. Старики рассказывали, улыбаясь, что у Куролесова была поговорка: «Плутуй, воруй, да концы хорони, а попался, так не пеняй».
Воротясь в Багрово, Прасковья Ивановна, пригретая самой нежной, искренней любовью своего брата и заботливым ухаживаньем всей его семьи (которую, однако, она не очень любила), ожидавшей от нее великих и богатых милостей, мало-помалу отдыхала от удара, жестоко ее поразившего. Крепкое ее здоровье восстановилось, душа успокоилась, и по прошествии года она решилась переехать в свое Чурасово. Грустно было Степану Михайловичу расставаться с сестрицей; по душе она пришлась ему всеми своими свойствами, и привык он к ней чрезвычайно; во всю свою жизнь он ни разу не прогневался на Прасковью Ивановну; но он не удерживал ее, а напротив, сам уговаривал к скорейшему отъезду. «Ну что, сестрица, за житье тебе с нами, — говорил Степан Михайлович. — У нас жизнь скучная, но мы уже к ней привыкли. Ты человек еще молодой (ей был тридцатый год), ты богата, ты привыкла не к такой жизни. Ступай в свое Чурасово. Там у тебя дом барский, диковинный сад с родниками, много богатых соседей, все тебя любят, все живут весело; а может быть, бог пошлет тебе счастливую судьбу; охотников будет много». Прасковья Ивановна со дня на день откладывала свой отъезд — так было тяжело ей расстаться с братом, ее спасителем и благодетелем с малых лет. Наконец, день был назначен. Накануне, рано поутру, пришла она к Степану Михайловичу, который, задумавшись, печально сидел на своем крылечке; она обняла его, поцеловала, заплакала и сказала: «Братец, я чувствую всю вашу ко мне любовь и сама люблю и почитаю вас, как родного отца. Конечно, бог видит мою благодарность; но я хочу, чтоб и люди ее видели. Позвольте мне укрепить вам все мое материнское имение: отцовское и без того достанется Алеше. Мои родные, с матушкиной стороны, богаты, и вы знаете, что мне не за что награждать их своим имением. Замуж я никогда не пойду. Я хочу, чтоб род Багровых был богат. Согласитесь, братец, успокойте, утешьте меня…» И при этих словах она бросилась ему в ноги и осыпала поцелуями его руки, которыми он старался поднять ее. «Слушай, сестра, — сказал Степан Михайлович несколько строгим голосом. — Ты меня плохо знаешь! Чтоб я покорыстовался чужим добром и взял именье мимо законных наследников… нет, этому не бывать, и никто про Степана Багрова этого не скажет. Смотри же, чтоб и помину не было об бактеевском именье, а не то мы с тобой поссоримся в первый раз в жизни».
На другой день Прасковья Ивановна уехала в Чурасово и зажила своей особенною, самобытною жизнью.
ТРЕТИЙ ОТРЫВОК ИЗ «СЕМЕЙНОЙ ХРОНИКИ» ЖЕНИТЬБА МОЛОДОГО БАГРОВА
Много пронеслось годов, много совершилось событий: был голод, повальные болезни, была пугачевщина. Шайки Емели распугали помещиков Оренбургского края, и Степан Михайлович со своим семейством также бежал, сначала в Самару, а потом вниз по матушке по Волге, в Саратов и даже в Астрахань. Но все прошло, все успокоилось, все забылось. Одни подросли, другие возмужали, третьи постарели; разумеется, в числе третьих был Степан Михайлович. Видел это он и сам, да как-то не верил. Нередко говорил он: «Много уплыло по вешней воде», и говорил он это без огорчения, как будто речь шла о другом человеке, а не о нем… В самом деле, не тот уже был мой дедушка. Куда девались его богатырские силы, и проворство, и неутомимость? Дедушка дивился тому иногда, но продолжал жить по-прежнему, по-старинному: он так же столько же ел и пил, сколько и чего хотела душа, так же одевался, не справляясь с погодою, отчего начинал иногда прихварывать. Тускнели понемногу его ясные и зоркие взгляды, слабел громкий голос; реже он гневался, реже бывал весел и светел. Старших дочерей своих он пристроил: первая, Веригина, уже давно умерла, оставив трехлетнюю дочь; вторая, Коптяжева, овдовела и опять вышла замуж за Нагаткина; умная и гордая Елизавета какими-то судьбами попала за генерала Ерлыкина, который, между прочим, был стар, беден и пил запоем; Александра нашла себе столбового русского дворянина, молодого и с состоянием, И. И. Коротаева, страстного любителя башкирцев и кочевой их жизни, — башкирца душой и телом; меньшая, Танюша, оставалась при родителях; сынок был уже двадцати семи лет, красавчик, кровь с молоком: «кофту да юбку, так больше бы походил на барышню, чем все сестры», — так говорил про него сам отец. Несмотря на горькие слезы и постоянное сокрушение Арины Васильевны, Степан Михайлович, как только сыну минуло шестнадцать лет, определил его в военную службу, в которой он служил года три, и по протекции Михайла Максимовича Куролесова находился почти год бессменным ординарцем при Суворове; но Суворов уехал из Оренбургского края, и какой-то немец-генерал (кажется, Трейблут) без всякой вины жестоко отколотил палками молодого человека, несмотря на его древнее дворянство. Бабушка чуть не умерла с печали, да и дедушке не понравилась эта шутка: он взял Алешу в отставку и определил в Верхний земский суд, где он усердно и долго служил и был впоследствии прокурором.
Не могу пройти молчанием замеченную мною странность: большая часть этих господ немцев и вообще иностранцев, служивших тогда в русской службе, постоянно отличались жестокостью и большою охотою до палок. Немец-лютеранин, отколотивший беспощадно молодого Багрова, был в то же время строгим соблюдателем церковных русских обрядов. Вот как случилось это историческое событие в багровской семейной хронике. Под какой-то неважный праздник приказал немец-генерал служить всенощную в полковой церкви, что совершалось всегда в его присутствии и при собрании всех офицеров. Время было летнее, окошки отворены; вдруг залилась в воздухе русская песня по Дворянской улице города Уфы; генерал бросился к окошку: по улице шли трое молодых унтер-офицеров, один из них пел песню; генерал приказал их схватить и каждому дать по триста палок. Бедный мой отец, который не пел, а только вместе шел с другими унтерами, объявил, что он дворянин, но генерал, злобно улыбаясь, сказал ему: «Дворянин должен быть с большим благоговением к служба господня», — и в своем присутствии, в соседней комнате с церковью, при торжественном пении божественных славословий, зверски приказал отсчитать триста ударов невинному юноше, запрещая ему даже кричать, чтоб «не возмущать господня служба». Замертво отвезли наказанного в лазарет. Там должны были разрезать на нем мундир, так распухло его нежное молодое тело; два месяца гнила у него спина и плечи. Каково было все это узнать матери, любившей единственного сынка до безумия! Дедушка жаловался кому-то, и еще до выхода из лазарета сын его, немедленно подавший просьбу об отставке, был уволен из военной службы для определения к статским делам с чином четырнадцатого класса. В настоящее время было забыто это происшествие, ему прошло уже восемь лет.
Алексей Степанович преспокойно служил и жил в Уфе, отстоявшей в двухстах сорока верстах от Багрова, и приезжал каждый год два раза на побывку к своим родителям. Ничего особенного с ним не происходило. Тихий, скромный, застенчивый, ко всем ласковый, цвел он, как маков цвет, и вдруг… помутился ясный ручеек жизни молодого деревенского дворянина.
В городе Уфе, где постоянно находилась воеводская канцелярия, постоянно жил товарищ наместника коллежский советник Николай Федорович Зубин, человек умный и честный, но слишком нежный и слабый. Он овдовел, и у него осталось трое детей: дочь Сонечка, двенадцати лет, и два малолетных сына. Отец любил свою Сонечку страстно, да и как было не любить такую красавицу и умницу, которая, несмотря на свой детский возраст, скоро сделалась ему подругой и помощницей по домашнему хозяйству. Года через полтора после смерти первой жены, горячо им любимой, выплакав сердечное горе, Николай Федорович успокоился и влюбился в дочь известного описателя Оренбургского края, тамошнего помещика П. А. Рычкова, и вскоре женился. Молодая жена, Александра Петровна, умная, гордая и красивая, овладела совершенно нежным сердцем вдовца и возненавидела его любимицу, свою молоденькую, но уже прекрасную падчерицу. Дело весьма обыкновенное. Страшное слово «мачеха», давно сделавшееся прилагательным именем для выражения жестокости, шло как нельзя лучше к Александре Петровне; но Сонечку нельзя было легко вырвать из сердца отца; девочка была неуступчивого нрава, с ней надо было бороться, и оттого злоба мачехи достигла крайних пределов; она поклялась, что дерзкая тринадцатилетняя девчонка, кумир отца и целого города, будет жить в девичьей, ходить в выбойчатом платье и выносить нечистоту из-под ее детей… Она буквально сдержала свою клятву: через два или три года Сонечка жила в девичьей, одевалась, как черная служанка, мыла и чистила детскую, где поселились уже две новые сестрицы. Что же страстно любивший отец?.. Он не видел дочери по целым месяцам и, когда встречал одетую чуть не в рубище, — отворачивался, вздыхал, плакал потихоньку и спешил удалиться. Таковы бывают по большей части немолодые вдовцы, влюбленные в молодых своих жен. Я не знаю в точности всех путей и средств, которыми достигла Александра Петровна своего торжества, и потому не стану говорить о них; не стану также распространяться о том, каким жестокостям и мучениям подвергалась несчастная сирота, одаренная от природы чувствительною, сильною и непокорною душою; тут не были забыты самые унизительные наказания, даже побои за небывалые вины. Скажу только, что падчерица была близка к самоубийству: она спаслась от него чудом. Вот как это случилось: решившись прекратить невыносимую жизнь, бедная девушка захотела в последний раз помолиться в своей каморке на чердаке перед образом Смоленской божией матери, которым благословила ее умирающая мать. Она упала перед иконой и, проливая ручьи горьких слез, приникла лицом к грязному полу. Страдания лишили ее чувств на несколько минут, и она как будто забылась; очнувшись, она встала и видит, что перед образом теплится свеча, которая была потушена ею накануне; страдалица вскрикнула от изумления и невольного страха, но скоро, признав в этом явлении чудо всемогущества божьего, она ободрилась, почувствовала неизвестные ей до тех пор спокойствие и силу и твердо решилась страдать, терпеть и жить. С этого дня беспомощная сирота облеклась непроницаемою бронею терпенья к вящему раздражению своей мачехи. Она все исполняла, что ей приказывали; все переносила спокойно; никакие ругательства, никакие унизительные наказания не вырывали слез, не доводили ее до дурноты, до обморока, как это прежде бывало, и к обыкновенному названию «мерзкая девчонка» присоединился эпитет «отчаянная и мерзкая девчонка». Но исполнилась мера долготерпения божьего, и грянул гром: великолепная Александра Петровна, в цвете лет, здоровья и красоты, родила еще сына и умерла в десятый день после родов. Она знала за сутки, что должна умереть, и поспешила примириться с своей совестью: вдруг ночью разбудили Сонечку и позвали к мачехе; Александра Петровна при свидетелях покаялась в своих винах перед падчерицей, просила у нее прощенья и заклинала именем божиим не оставить ее детей; падчерица простила, обещала не оставить их и сдержала обещанье. Александра Петровна призналась также своему мужу, что все обвинения, взводимые на его дочь, были выдумка и клевета.
Боже мой, как смерть перевернула все вверх дном! Николая Федорыча разбил нервический паралич, после которого он жил еще несколько лет, но уже не вставал с постели. Загнанная, оборванная барышня, которую подлое лакейство, особенно приданые мачехи, обижали сколько душе угодно, втоптали в грязь, — вдруг сделалась полновластною госпожою в доме, потому что больной отец отдал ей в распоряжение все. Объяснение и примирение виновного отца с обиженной дочерью были умилительны и даже возмутительны для дочери и окружающих. Раскаянье долго терзало больного старика, долго лились у него слезы и день и ночь, и долго повторял он только одни слова: «Нет, Сонечка, ты не можешь меня простить!» Не осталось ни одного знакомого в городе, перед которым он не исповедовал бы торжественно вин своих перед дочерью, и Софья Николавна сделалась предметом всеобщего уважения и удивления. Умудренная годами тяжких страданий, семнадцатилетняя девушка вдруг превратилась в совершенную женщину, мать, хозяйку и даже официальную даму, потому что по болезни отца принимала все власти, всех чиновников и городских жителей, вела с ними переговоры, писала письма, деловые бумаги и впоследствии сделалась настоящим правителем дел отцовской канцелярии. С самым напряженным вниманием и нежностью ухаживала Софья Николавна за больным отцом, присматривала попечительно за тремя братьями и двумя сестрами и даже позаботилась о воспитании старших; она нашла возможность приискать учителей для своих братьев от одной с ней матери, Сергея и Александра, из которых первому было двенадцать, а другому десять лет: она отыскала для них какого-то предоброго француза Вильме, заброшенного судьбою в Уфу, и какого-то полуученого малоросса В-ского, сосланного туда же за неудавшиеся плутни. Софья Николавна воспользовалась случаем, сама училась вместе с братьями[14] и чрез полтора года отправила их в Москву к А. Ф. Аничкову, с которым через двоюродного его брата, находившегося в Уфе, познакомилась она заочно и вела постоянную переписку. Аничков жил в Москве вместе с известным Н. И. Новиковым; оба приятеля до того пленились красноречивыми письмами неизвестной барышни с берегов реки Белой из Башкирии, что присылали ей все замечательные сочинения в русской литературе, какие тогда появлялись, что очень много способствовало ее образованию. Аничков был особенным ее почитателем и счел за счастье исполнить просьбу Софьи Николавны, то есть взять на свои руки обоих ее братьев и поместить их в университетский благородный пансион, что и сделал усердно и точно. Мальчики очень хорошо учились, но, по несчастию, ученье было прервано тем, что их потребовали в гвардию, куда они были записаны еще в колыбели.
Все, по-тогдашнему умные и образованные люди, попадавшие в Уфу, спешили познакомиться с Софьей Николавной, пленялись ею и никогда не забывали. Большая часть таких знакомств обратилась впоследствии в дружбу с ее семейством, которая прекращалась только смертью. Из числа их я назову только тех, которых знал сам: В. В. Романовского, А. Ю. Авенариуса, П. И. Чичагова, Д. Б. Мертваго и В. И. Ичанского. Ученые и путешественники, посещавшие новый и чудный Уфимский край, также непременно знакомились с Софьей Николавной и оставляли письменные знаки удивления ее красоте и уму. Конечно, положение этой девушки в обществе и семействе было выгодно, служило ей, так сказать, картинным подножием, но зато и стояло на нем чудное создание. Особенно памятны мне стихи одного путешественника, графа Мантейфеля, который прислал их Софье Николавне при самом почтительном письме на французском языке, с приложением экземпляра огромного сочинения в пяти томах in quarto доктора Бухана, только что переведенного с английского на русский язык и бывшего тогда знаменитою новостью в медицине. Домашний лечебник Бухана был драгоценным подарком для Софьи Николавны: она могла пользоваться его указаниями и составлять лекарства для леченья своего больного отца. В стихах же граф Мантейфель называл уфимскую красавицу и Венерой и Минервой.
Несмотря на болезненное состояние, Николай Федорович не оставлял несколько лет своей должности. Всякий год раза два он давал вечера с танцами; сам к дамам не выходил, а мужчин принимал лежа в кабинете, но молодая хозяйка принимала весь город. Несколько раз в год он непременно посылал свою Сонечку на балы к почетным лицам города. Софья Николавна, богато одетая, отлично по-тогдашнему танцующая, уступая усильным просьбам старика, приезжала на бал на самое короткое время. Протанцевав польский, менуэт и один контрданс или экоссез, она сейчас уезжала, мелькнув в обществе, как блестящий метеор. Все, что имело право влюбляться, было влюблено в Софью Николавну, но любовью самою почтительной и безнадежной, потому что строгость ее нравов доходила до крайних размеров.
И вот в какую необыкновенную девушку влюбился сынок Степана Михайловича! Он не мог вполне понимать и ценить ее, но одной наружности, одного живого и веселого ума ее достаточно было, чтобы свести с ума человека, — и молодой человек сошел с ума. С первого взгляда Софья Николавна, которую он увидел у обедни, обворожила, как говорили тогда, его мягкое сердце. Узнав, что красавица принимает всех чиновников, приезжающих к ее отцу, Алексей Степаныч (станем звать его полным именем), как чиновник, служивший в Верхнем земском суде, стал постоянно являться с поздравлениями по праздничным и табельным дням в приемной товарища наместника; всегда видел Софью Николавну и таял час от часу более. Эти посещения, слишком точные, слишком продолжительные, хотя почти безмолвные, были скоро замечены всеми, и, вероятно, первая заметила их молодая хозяйка. Очарованные глаза, пылающие щеки, смущение, доходившее до самозабвения, всегда были красноречивыми объяснителями любви. Над искренней любовью обыкновенно все смеются, так положено испокон века, — и весь город смеялся над смиренным, застенчивым и стыдливым, как деревенская девушка, Алексеем Степанычем, который в ответ на все шутки и намеки конфузился и краснел как маков цвет. Софья Николавна, строгая и даже суровая ко всем светским любезникам, вопреки ожиданию всех, была снисходительна к своему безмолвному обожателю. Я не знаю, жалко ли ей стало молодого безответного человека, терпевшего за любовь к ней насмешки, поняла ли она, что это не минутное увлечение, не шутка для него, а вопрос целой жизни — не знаю, но суровая красавица не только благосклонно кланялась и смотрела на Алексея Степаныча, но даже заговаривала с ним; робкие, несвязные ответы, прерывающийся от внутреннего волнения голос не казались ей ни смешными, ни противными. Впрочем, надо сказать, что Софья Николавна высоко себя держала перед бойкими и заносчивыми людьми, а со смиренными и скромными всегда была снисходительна и ласкова.
Так тянулось дело довольно долго. Вдруг дерзкая мысль озарила горящую голову Алексея Степаныча, мысль — жениться на Софье Николавне! Он сам сначала перепугался такого смелого и несбыточного желания. Куда ему до Софьи Николавны, первого лица в городе, первой умницы и красавицы в целом свете, по его мнению… и он совершенно отбросил такое намерение. Но мало-помалу постоянная благосклонность и внимание, приветливые, как будто ободряющие взгляды Софьи Николавны (так ему казалось), а всего более любовь, овладевшая всем существом его, снова вызвали отброшенную мысль, и она скоро сроднилась, сжилась с его жизнью. Одна старая помещица, жившая по делу в Уфе, Алакаева, которая езжала в дом к Зубиным, дальняя родственница Алексея Степаныча, принимала в нем всегда особенное участие; он стал чаще навещать ее, ласкаться к ней, как умел, и, наконец, открылся в своей любви к известной особе и в своем намерении искать ее руки. Любовь, как городская молва, была давно известна Алакаевой, но намерение жениться ее удивило. «Не пойдет, — сказала старуха, качая головой, — она преумная, прегордая, превоспитанная. Мало ли в нее влюблялись, но никто посвататься не осмелился. Ты, конечно, красавчик, старинного дворянского рода, имеешь небольшое состояние, а со временем будешь и богат — это все знают; но ты человек не ошлифованный, деревенский, ничему не ученый, и больно уж смирен в публике…» Обо всем этом догадывался и сам Алексей Степаныч, но любовь совершенно помутила его голову; и денно и ночно кто-то шептал ему в уши, что Софья Николавна за него пойдет. Хотя надежды молодого человека казались Алакаевой неосновательными, но она согласилась на его просьбу съездить к Софье Николавне и, не делая никаких намеков о его намерении, завести речь о нем, как-нибудь стороною и заметить все, что она скажет. Алакаева поехала немедленно; Алексей Степаныч остался у ней в доме, ожидая ее возвращения; старуха проездила довольно долго; на влюбленного напал такой страх, такая тоска, что он принялся плакать и, наконец, утомленный слезами, заснул, прислонясь головой к окошку. Старуха, воротясь, разбудила его и с веселым видом сказала: «Ну, Алексей Степаныч, в самом деле что-то есть. Я стала о тебе говорить и немножко на тебя нападать, а Софья Николавна заступилась за тебя не на шутку и, наконец, сказала, что ты должен быть человек очень добрый, скромный, тихий и почтительный к родителям, что таких людей благословляет бог и что такие люди лучше бойких говорунов». Алексей Степаныч опьянел от радости и сам не помнил, что говорил тогда. Алакаева, дав ему успокоиться, с твердостью сказала: «Если это твое непременное желание, то вот тебе мой совет. Поезжай немедленно к отцу и матери, расскажи им все и проси у них согласия и благословения, пока добрые люди не помешали. Если ты получишь и то и другое, то я не отказываюсь хлопотать за тебя. Только не торопись; умасли наперед сестер, а мать противиться твоему желанию не станет. Разумеется, первое дело согласие твоего отца. Я его знаю, он больно крут, но разумен; поговори с ним, когда он будет весел». Алексей Степаныч удивился такому осторожному совету и таким околичностям и возразил, что родители его будут очень рады и что «разве есть какой-нибудь порок в Софье Николавне?» — «Пребольшой, — отвечала умная старуха. — Она бедна, у нее ровно нет ничего, а ее дедушка был простой урядник в казачьем Уральском войске». На Алексея Степаныча нисколько не подействовали эти многозначительные слова, но предчувствие не обмануло старуху Алакаеву, и предостережение было слишком поздно. Через неделю Алексей Степаныч взял отпуск, раскланялся с Софьей Николавной, которая очень ласково пожелала ему счастливого пути, пожелала, чтобы он нашел родителей своих здоровыми и обрадовал их своим приездом, — к полный радостных надежд от таких приятных слов, молодой человек уехал в деревню, к отцу и матери. Старики обрадовались, но как-то не удивились несвоевременному приезду сына и посматривали на него вопросительно; а сестры (которые жили неподалеку и по уведомлению матери сейчас прискакали) целовали и миловали братца, но чему-то улыбались. Алексей Степаныч был особенно дружен с меньшой сестрой и открылся ей первой в своей страсти. Татьяна Степановна, несколько романическая девица, любившая брата больше, чем другие сестры, слушала его с участием и, наконец, так увлеклась, что открыла ему весь секрет: семья знала уже об его любви и смотрела на нее неблагоприятно. Вот каким образом происходило дело: месяца за два до приезда Алексея Степаныча, Иван Петрович Каратаев ездил зачем-то в Уфу и привез своей жене эту городскую новость; Александра Степановна (я сказал о ее свойствах) вскипела негодованием и злобой; она была коновод в своей семье и вертела всеми, как хотела, разумеется, кроме отца; она обратила в шпионы одного из лакеев Алексея Степаныча, и он сообщал ей все подробности об образе жизни и о любви своего молодого барина; она нашла какую-то кумушку в Уфе, которая разнюхала, разузнала всю подноготную и написала ей длинную грамоту, с помощию отставного подъячего, составленную из городских вестей и сплетен дворни в доме Зубина, преимущественно со слов озлобленных приданых покойной мачехи. Не трудно догадаться, какими красками была расписана Софья Николавна.
Дело известное, что в старину (я разумею старину екатерининскую), а может быть, и теперь, сестры не любили или очень редко любили своих невесток, то есть жен своих братьев, отчего весьма красноречиво называются золовками; еще более не любили, когда женился единственный брат, потому что жена его делалась безраздельною, полною хозяйкою в доме. В человеческом существе скрыто много эгоизму; он действует часто без нашего ведома, и никто не изъят от него; честные и добрые люди, не признавая в себе эгоистических побуждений, искренне приписывают их иным, благовидным причинам: обманывают себя и других без умысла. В натурах недобрых, грубых и невежественных обнаруживаются признаки эгоизма ярче и бесцеремоннее. Так было и в семействе Степана Михайловича. Женитьба брата, на ком бы то ни было, непременно досадила бы всем. «Братец к нам переменится, не станет нас так любить и жаловать, как прежде, молодая жена ототрет родных, и дом родительский будет нам чужой» — это непременно сказали бы сестры Алексея Степаныча, хотя бы его невеста была — их поля ягода; но невестки Софьи Николавны хуже нельзя было придумать для них. Александра Степановна поспешила пригласить Елизавету Степановну в Багрово, чтобы сообщить матери и сестрам, разумеется с приличными украшениями, все полученные ею сведения о похождениях своего братца; все поверили ей безусловно, и вот какое мнение составилось о Софье Николавне. Во-первых, Зубиха (так называли ее сестры и мать Алексея Степаныча в своих тайных заседаниях) — низкого рода; дедушка у ней был уральский казак, по прозванью Зуб, а мать (Вера Ивановна Кандалинцова) — из купеческого звания. Следовательно, низко было породниться с ней старинному дворянскому дому. Во-вторых, Зубиха — нищая: как умрет отец или отставят его от должности, то пойдет по миру, а потому и братцев и сестриц своих навяжет на шею мужу. В-третьих, Зубиха — гордячка, модница, городская прощелыга, привыкшая повелевать всем городом; следовательно, на них, на деревенских жителей, — даром что они старинные столбовые дворяне, — и плюнуть не захочет. Наконец, в-четвертых, Зубиха — колдунья, которая корнями приворачивает к себе всех мужчин, бегающих за ней высуня язык, и в том числе приворотила бедного братца их, потому что пронюхала об его будущем богатстве и об его смиренстве, захотела быть старинной дворянкой и нарохтится за него замуж. — Александра Степановна, которая заправляла всем делом, с помощью бойкого и ядовитого языка своего всех смутила и доказала, как дважды два четыре, что такая невеста, как Софья Николавна, — совершенная беда для них; «что она, пожалуй, и Степана Михайловича приворотит, и тогда все они пропали; следовательно, надо употребить все усилия, чтобы Алексей Степаныч не женился на Софье Николавне». Очевидно, что всего нужнее было внушить Степану Михайловичу самые дурные мысли об Софье Николавне, но как это сделать? Действовать прямо они не решались, потому что совесть была не чиста. Кой грех отец заподозрит их в умысле, тогда уж не поверит и правде; он еще и прежде, когда старики приискали было невесту своему сыну, дал им почувствовать, что понимает их нежелание видеть брата женатым. — Итак, устроили следующую машинацию: одну из родных племянниц Арины Васильевны, петую дуру, смертную вестовщицу и пьяницу, Флену Ивановну Лупеневскую, научили приехать как будто в гости в Багрово и между прочими россказнями рассказать про любовь Алексея Степаныча, разумеется, с самой невыгодной стороны для Софьи Николавны. Долго Александра Степановна учила с голосу Флену Ивановну, что говорить и как говорить. Наконец, роль была, по возможности, вытвержена. Флена Ивановна явилась в Багрово к обеду, после которого и хозяева и гости заснули часа три и потом собрались к чаю. Старик был в духе и сам навел свою гостью на исполнение роли. «Ну что, Флена-пушка! (так звал ее Степан Михайлович по причине толщины и малого роста) рассказывай, что слышала от приезжих из Уфы! (Ее сестра Катерина Ивановна Кальпинская с мужем недавно оттуда воротились.) Чай, вестей навезли с три короба, ну да ты прилжешь четвертый…» — «Ох, шутник ты наш, шутник, дядюшка любезный, — отвечала Флена Ивановна, — что мне лгать! Вестей-то навезли много». Тут она рассказала целую кучу разных былей и небылиц и нелепых сплетен, от которых я пощажу моих читателей. Дедушка притворился, что ничему не верит, даже справедливым известиям; он подтрунивал над рассказчицей, путал ее в словах, сбивал и так забавно дразнил, что вся семья валялась со смеху. Глупой бабе, выпившей со сна добрую чарку настойки для бодрости, за досаду стало, и она с некоторою горячностью сказала старику: «Да что это, дядюшка, ты все смеешься и ничему не веришь? Погоди, я приберегла тебе весточку на закуску; ты ей за неволю поверишь, да и смеяться не станешь». Семья переглянулась, а дедушка засмеялся. «Ну, вытряхивай, — весело сказал он, — поверить не поверю, а смеяться не стану: ты уж мне надоела». — «Ох, дядюшка, дядюшка, — начала Флена Ивановна, — ты вот об братце-то нашем любезном, Алексее-то Степановиче, ничего не знаешь. Ведь он весь высох с тоски; приворотила его к себе нечистой силой уфимская ведьма, дочка набольшого тамошнего воеводы, что ли, наместника ли — не знаю. Говорят, такая красавица, всех заполонила и старых и молодых, всех корнями обвела. Все за ней, прости господи, как кобели за сукой, так и бегают. А голубчик-то мой, братец-то Алексей Степаныч, так врюхался, что не ест, не пьет и не спит. Все и сидит у ней, глаз с нее не сводит, глядит да вздыхает, а по ночам все мимо ее дома ходит, с ружьем да с саблей, все караулит ее; она ж, Зубиха-то, говорят, его приголубливает; ведь он сам красавчик и столбовой дворянин, так и у ней губа-то не дура: хочет за него замуж выйти. Да и как не хотеть? Ведь она нищая, и отец ее из простых, сын казака уральского, Федьки Зуба; хоть сам и дослужился до чинов и при больших местах был, а ничего не нажил: все протранжирил на столы, да на пиры, да на дочкины наряды; старик еле жив, на ладан дышит, а детей-то куча: от двух жен — шесть человек. Все сядут на твою, дядюшка, шею, коли братец-то на ней женится; у ней приданого одни платья; на брюхе-то шелк, а в брюхе-то щелк. А уж Алексей Степаныч, говорят, на себя не похож — узнать нельзя, точно в воду опущенный; уж и лакеи-то, глядя на него, плачут, а вам доложить не смеют. Поверь, дядюшка, все правда до единого слова: допроси своих лакеев, они не запрутся». Арина Васильевна принялась плакать, а дочки куксить глаза. Дедушка был немного озадачен, но скоро овладел собою и с равнодушной улыбкой отвечал: «Прилгано много, а может, есть и правда. Я сам слышал, что Зубина красавица и умница, вот в чем и все колдовство.[15]
Что мудреного, если и у Алексея глаза разгорелись. Остальное все враки. Выйти замуж за Алексея — Зубина и не думает; она найдет себе получше и побойчее жениха. Он ей не пара. — Ну, теперь кончено. Больше об этом не тарантить. Пойдемте пить чай на дворе». — Разумеется, Флена Ивановна и все прочие более не смели и поминать об уфимских новостях. Вечером гостья уехала. После ужина, когда Арина Васильевна и дочери начали было безмолвно прощаться с Степаном Михайловичем, он остановил их следующими словами: «Ну, что, Ариша? Что у тебя на уме бродит? Дура Флена, конечно, много приврала, а мне сдается, что тут есть и правда. Письма Алексеевы как-то стали другие. Надо бы это дело как-нибудь поразведать. Да всего лучше позовем Алешу сюда: от него узнаем всю правду».
Тут Александра Степановна вызвалась в одну неделю спосылать нарочного в Уфу, чтобы разведать об этом деле через родственницу своего мужа, прибавя, что она женщина правдивая и ни за что не солжет; старик согласился не вызывать сына до получения новых известий. Александра Степановна сейчас ускакала домой в свою Каратаевку (всего в пятидесяти верстах от Багрова) и ровно через неделю воротилась к старикам; она привезла то самое письмо, которое еще прежде получила от своей кумушки и о котором я уже говорил. Письмо показали и прочли Степану Михайловичу, и хотя он плохо верил женским справкам и донесениям, но некоторые статьи и письма показались ему правдоподобными и произвели на него неприятное впечатление. Он решительно сказал, что если в самом деле Зубина думает выйти замуж за Алешу, то он не позволит ему жениться на ней, потому что она не дворянского рода. «На этой же почте пишите к Алеше и зовите его домой». — Через несколько дней, которые не были потеряны даром, потому что Арина Васильевна с дочерьми успела напеть в уши старику много неблагоприятного для любви Алексея Степаныча, вдруг, как снег на голову, явился он сам, что мы уже знаем.
Услыхав от сестры все, сейчас рассказанное мною, Алексей Степаныч крепко призадумался и оробел. Лишенный от природы твердой воли, воспитанный в слепом повиновении к семейству, а к отцу — в страхе, он не знал, что ему делать. Наконец, решился поговорить с матерью. Арина Васильевна, любившая единственного сынка без памяти, но привыкшая думать, что он все еще малое дитя, и предубежденная, что это дитя полюбило опасную игрушку, встретила признание сына в сильном чувстве такими словами, какими встречают желание ребенка, просящего дать ему в руки раскаленное железо; когда же он, слыша такие речи, залился слезами, она утешала его, опять-таки, как ребенка, у которого отнимают любимую игрушку. Что ни говорил Алексей Степаныч, как ни старался опровергнуть клеветы на Софью Николавну — мать его не слушала или слушала без всякого внимания. Прошло еще два дня; сердце молодого человека разрывалось; тоска по Софье Николавне и любовь к ней росли с каждым часом, но, вероятно, он не скоро бы осмелился говорить с отцом, если бы Степан Михайлович не предупредил его сам. В одно прекрасное утро, после ночи, проведенной почти без сна, Алексей Степаныч, несколько похудевший и побледневший, рано пришел к отцу, который сидел, по своему обыкновению, на своем крылечке. Старик был весел и ласково встретил сына; но, взглянув пристально ему в лицо, он понял, что происходило в душе молодого человека. Дав поцеловать ему свою руку, он с живостью, но без гнева сказал ему: «Послушай, Алексей! Я знаю, что лежит у тебя на сердце, и вижу, что дурь крепко забралась к тебе в голову. Рассказывай же мне всю подноготную без утайки, и чтоб все до одного слова была правда». Хотя Алексей Степаныч не привык откровенно говорить с отцом, которого больше боялся, чем любил, но любовь к Софье Николавне придала ему смелость. Он бросился сначала к отцу в ноги и потом рассказал ему со всеми подробностями, ничего не скрывая, свою сердечную повесть. Степан Михайлович слушал терпеливо, внимательно: кто-то из домашних шел было к нему поздороваться, но он издали выразительно погрозил калиновым подожком своим, и никто, даже Аксинья с чаем, не смел подойти, пока он сам не позвал. Рассказ сына был беспорядочен, сбивчив, длинен и не убедителен, но тем не менее светлый ум Степана Михайловича понял ясно, в чем состояло дело. По несчастию, оно ему не понравилось и не могло понравиться. Он мало понимал романическую сторону любви, и мужская его гордость оскорблялась влюбленностью сына, которая казалась ему слабостью, унижением, дрянностью в мужчине; но в то же время он понял, что Софья Николавна тут ни в чем не виновата и что все дурное, слышанное им на ее счет, было чистою выдумкою злых людей и недоброжелательством собственной семьи. Подумав немного, вот что он сказал без всякого гнева, даже ласково, но с твердостью: «Послушай, Алексей! Ты именно в таких годах, когда красивая девица может приглянуться мужчине. В этом беды еще никакой нет; но я вижу, что ты чересчур врезался, а это уж не годится. Я Софью Николавну ни в чем не виню; я считаю, что она девица предостойная, — только тебе не пара и нам не с руки. Во-первых, она дворянка вчерашняя, а ты потомок самого древнего дворянского дома. Во-вторых, она горожанка, ученая, бойкая, привыкла после мачехи повелевать в доме и привыкла жить богато, даром что сама бедна; а мы люди деревенские, простые, и наше житье ты сам знаешь; да и себя ты должен понимать: ты парень смирный; но хуже всего то, что она больно умна. Взять жену умнее себя — беда: будет командирша над мужем; а притом, ты так ее любишь, что на первых порах непременно избалуешь. Ну, так вот тебе мое отцовское приказание: выкинь эту любовь из головы. Я же, признаться тебе, думаю, что Софья Николавна за тебя и не пойдет. Надо рубить дерево по себе. Мы поищем тебе какую-нибудь смирненькую, тихонькую, деревенскую, родовую дворяночку, да и с состоянием. Выйдешь в отставку, да и заживешь припеваючи. Ведь мы, брат, не широки в перьях; только что сыты, а доходов больно мало; об куролесовском же наследстве, которое всем глаза разодрало, я и не думаю. Это дело неверное; Прасковья Ивановна сама человек не старый, может выйти замуж и народить ребят. Ну, так смотри же, Алеша! чтоб все с тебя слетело, как с гуся вода, и чтоб помину не было о Софье Николавне…» Степан Михайлович протянул милостиво руку своему сыну, которую тот поцеловал с привычною почтительностью. Старик велел подавать чай и звать к себе семью. Он был необыкновенно ласков и весел со всеми, но несчастный Алексей Степаныч впал в совершенное уныние. Никакой гнев отца не привел бы его в такое отчаяние. Гнев Степана Михайловича проходил скоро, и после него являлись и снисхождение и милость, а теперь он видел спокойную твердость и потерял всякую надежду. Алексей Степаныч вдруг так изменился в лице, что мать испугалась, взглянув на него, и стала приставать к нему с вопросами: что с ним сделалось? здоров ли он? Сестры также заметили перемену, но, будучи похитрее, ничего не сказали. Степан Михайлович все видел и все понимал. Покосившись на Арину Васильевну, он проворчал сквозь зубы: «Не приставай к нему». Алексея Степаныча оставили в покое, не обращая на него внимания, — и деревенский день покатился по своей обыкновенной колее.
Разговор с отцом глубоко поразил, сокрушил, можно сказать, сердце Алексея Степаныча. Он потерял сон, аппетит, сделался совершенно ко всему равнодушен и ослабел телом. Арина Васильевна принялась плакать, и даже сестры перетревожились. На другой день мать едва могла добиться, чтобы он сказал несколько слов о том, что говорил с ним отец. На все допросы Алексей Степаныч отвечал: «Батюшке не угодно, я человек погибший, я не жилец на этом свете». И в самом деле, через неделю он лежал в совершенной слабости и в постоянном забытьи: жару наружного не было, а он бредил и день и ночь. Болезни его никто понять не мог, но это просто была нервная горячка. Семья перепугалась ужасно: докторов поблизости не было, и больного принялись дечить домашними средствами; но ему становилось час от часу хуже, и, наконец, он сделался так слаб, что каждый час ожидали его смерти. Арина Васильевна и сестры ревели и рвали на себе волосы. Степан Михайлович не плакал, не сидел беспрестанно над больным, но едва ли не больше всех страдал душою; он хорошо понимал причину болезни. «Но молодость свое взяла», и ровно через шесть недель Алексею Степанычу стало полегче. Он проснулся к жизни совершенным ребенком, и жизнь медленно вступала в права свои; он выздоравливал два месяца; казалось, он ничего прошедшего не помнил. Он радовался всякому явлению в природе и в домашнем быту, как новому, незнакомому явлению; наконец, совершенно оправился, даже поздоровел, пополнел и получил, уже более года потерянный, румянец во всю щеку; удил рыбу, ходил на охоту за перепелами, ел и пил аппетитно и был весел. Родители не нарадовались, не нагляделись на него и убедились, что болезнь выгнала из молодой головы и сердца все прежние мысли и чувства. Может быть, оно и в самом деле было бы так, если б его взяли в отставку, продержали с год в деревне, нашли хорошенькую невесту и женили; но старики беспечно обнадеялись настоящим положением сына: через полгода отправили его опять на службу в тот же Верхний земский суд, опять на житье в ту же Уфу — и судьба его решилась навсегда. Прежняя страсть загорелась с новою, несравненно большею силой. Как возвратилась любовь в сердце Алексея Степаныча, вдруг или постепенно, — ничего не знаю: знаю только, что он сначала ездил к Зубиным изредка, потом чаще и, наконец, так часто, как было возможно. Знаю, что покровительница его, Алакаева, продолжала ездить к Софье Николавне, тонкими расспросами выведывала ее расположение и привозила благоприятные отзывы, утверждавшие и в ней самой надежду, что гордая красавица благосклонно расположена к ее скромному родственнику. Через несколько месяцев после отъезда Алексея Степаныча из деревни вдруг получили от него письмо, в котором он с несвойственной ему твердостью, хотя всегда с почтительной нежностью, объяснил своим родителям, что любит Софью Николавну больше своей жизни, что не может жить без нее, что надеется на ее согласие и просит родительского благословения и позволения посвататься. Старики вовсе не ожидали такого письма и были им поражены. Степан Михайлович сдвинул брови, но ни одним словом не выразил своих мыслей. Вся семья хранила глубокое молчание; он махнул рукой, и все оставили его одного. Долго сидел мой дедушка, чертя калиновым подожком какие-то узоры на полу своей комнаты. Степан Михайлович скоро смекнул, что дело плохо и что теперь уж никакая горячка не вылечит от любви его сына. По своей живой и благосклонной натуре он даже поколебался, не дать ли согласия, о чем можно было заключить из его слов, обращенных к Арине Васильевне. «Ну что, Ариша (говорил он ей на следующее утро, разумеется наедине), как ты мекаешь? Ведь не позволим, так нам не видать Алексея как ушей своих: или умрет с тоски, или на войну уйдет, или пойдет в монахи — и род Багровых прекратится». Но Арина Васильевна, уже настроенная дочерьми, как-то не испугалась за своего сынка и отвечала: «Твоя воля, Степан Михайлович; что тебе угодно, того и я желаю; да только какое же будет от них тебе уважение, если они поставят на своем после твоего родительского запрещенья?» Пошлая хитрость удалась: самолюбие старика расшевелилось, и он решился подержаться. Он продиктовал сыну письмо, в котором выразил удивление, что он принялся опять за прежнее, и повторил то, что говорил ему на словах. Короче, письмо содержало положительный отказ.
Прошло две-три недели — не было писем от Алексея Степаныча. Наконец, в один осенний, ненастный день дедушка сидел в своей горнице, поперек постели, в любимом своем халате из тонкой армячины[16] сверх рубашки-косоворотки, в туфлях на босую ногу; подле него пряла на самопрялке козий пух Арина Васильевна и старательно выводила тонкие длинные нити, потому что затеяла выткать из них домашнее сукно на платье своему сыночку, так чтоб оно было ему и легко, и тепло, и покойно; у окошка сидела Танюша и читала какую-то книжку; гостившая в Багрове Елизавета Степановна присела подле отца на кровати и рассказывала ему про свое трудное житье, про службу мужа, про свое скудное хозяйство и недостатки. Старик печально слушал, положа руки на колени и опустив на грудь свою, уже поседелую, голову. Вдруг дверь из лакейской отворилась: высокий, красивый молодой парень, Иван Малыш, в дорожной куртке, проворно вошел и подал письмо с почты, за которым ездил он в город за двадцать пять верст. Очевидно было, что письма ожидали с нетерпеньем, потому что все встрепенулись. «От Алеши?» — спросил торопливо и неспокойно старик. «От братца», — отвечала Танюша, подбежавшая к Малышу, проворно взявшая письмо и прочитавшая адрес. «Спасибо, что скоро съездил. Чарку водки Малышу. Ступай обедать и отдыхать». Ту ж минуту отворился высокий поставец, барышня вытащила длинный штоф узорного стекла, налила серебряную чарку и подала Малышу; тот перекрестился, выпил, крякнул, поклонился и ушел. «Ну, читай, Танюша», — сказал дедушка. Татьяна Степановна была его чтецом и писцом Она поместилась у окошка; бабушка оставила прялку, дедушка встал с кровати, и все обсели кругом Татьяну Степановну, распечатавшую между тем письмо, но не смевшую предварительно заглянуть в него. После минутного молчания началось медленное и внятное чтение вполголоса. После обыкновенных тогда: «Милостивейший государь батюшка и милостивейшая государыня матушка» — Алексей Степаныч писал почти следующее: «На последнее мое просительное письмо я имел несчастие получить немилостивый ответ от вас, дражайшие родители. Не могу преступить воли вашей и покоряюсь ей; но не могу долго влачить бремя моей жизни без обожаемой мною Софьи Николавны, а потому в непродолжительном времени смертоносная пуля скоро просверлит голову несчастного вашего сына».[17]
Эффект был сильный: тетки мои захныкали, бабушка, ничего подобного не ожидавшая, побледнела, всплеснула руками и повалилась без памяти на пол, как сноп: в старину также бывали обмороки. Степан Михайлович не шевельнулся; только голова его покосилась на одну сторону, как перед началом припадка гнева, и слегка затряслась… Она не переставала уже трястись до его смерти. Дочери, опомнившись, бросились помогать матери и скоро привели ее в чувство. Тогда, поднявши вой, как по мертвому, Арина Васильевна бросилась в ноги Степану Михайловичу. Дочери, следуя ее примеру, также заголосили. Арина Васильевна, несмотря на грозное положение головы моего дедушки, забыв и не понимая, что сама подстрекнула старика не согласиться на женитьбу сына, громко завопила: «Батюшка Степан Михайлович! сжалься, не погуби родного своего детища, ведь он у нас один и есть; позволь жениться Алеше! Часу не проживу, если с ним что случится». Старик оставался неподвижно в прежнем положении. Наконец, нетвердым голосом сказал: «Полно выть. Выпороть надо бы Алешу. Ну, да до завтра; утро вечера мудренее; а теперь уйдите и велите давать обедать». Обед у старика служил успокоительным средством в трудных обстоятельствах. Арина Васильевна заголосила было опять: «Помилуй, помилуй!» Но Степан Михайлович громко закричал: «Убирайтесь вон!» — и в голосе его послышался рев приближающейся бури. Все поспешно удалились. До обеда никто не смел заглянуть в комнату Степана Михайловича. Что пролетело по душе его в эти минуты, какая борьба совершилась у железной воли с отцовскою любовью и разумностью, как уступил победу упорный дух?.. трудно себе представить; но когда раздался за дверью голос Мазана: «Кушанье готово», дедушка вышел спокоен, и ожидавшие его жена и дочери, каждая у своего стула, не заметили на слегка побледневшем лице его ни малейшего гнева; напротив, он был спокойнее, чем поутру, даже веселее, и кушал очень аппетитно. Скрепя сердце Арина Васильевна должна была подлаживаться к его речам и, не смея не только спрашивать, но даже и вздыхать, напрасно старалась разгадать мысли своего супруга; напрасно устремляла вопрошающие взгляды маленьких своих каштановых глазок, заплывших жиром, — темно-голубые, открытые и веселые глаза Степана Михайловича ничего не отвечали. После обеда он уснул, по обыкновению; проснувшись, сделался еще веселее, но о письме и о сыне ни полслова. Все, однако, видели, что на уме у старика ничего недоброго не было. Прощаясь с супругом после ужина, Арина Васильевна осмелилась спросить: «Не изволишь ли сказать мне чего-нибудь об Алеше?» Дедушка улыбнулся и отвечал: «Я уже сказал тебе: утро вечера мудренее. Почивай с богом».
Утро в самом деле оказалось и мудро и благодатно. Дедушка встал в четыре часа. Мазан вздул ему огня. Первыми словами Степана Михайловича были: «Танайченок, ты сейчас едешь в Уфу с письмом к Алексею Степанычу: соберись в одну минуту; да чтобы никто не знал, куда и зачем едешь! В корень молодого Бурого, а на пристяжку Свистуна. Возьми овса две осьмины и каравай хлеба. Спроси у ключника Петра два рубля медных денег на дорогу. Как я напишу письмо, чтобы все было готово. Сказано — сделано». Эта поговорка исполнялась у дедушки без отговорок. Он отпер дубовую шкатулку, или шкаф, нечто вроде письменного бюро, достал бумаги, перо, чернильницу и написал, не без труда (потому что лет уже десять подписывал только свое имя), тяжелым старинным почерком: «Любезный сын наш Алексей! Мы с матерью твоей Ариной Васильевной позволяем тебе жениться на Софье Николавне Зубиной, если на то будет воля божия, и посылаем тебе наше родительское благословение. Отец твой Степан Багров».
Через полчаса, еще задолго до свету, вытянул Танайченок длинную гору мимо господского гумна и ехал бойкой рысью по дороге в Уфу. В пять часов приказал Степан Михайлович подавать самовар той же Аксютке, которая из молодой и некрасивой девчонки сделалась уже очень немолодой и еще более некрасивой девкой; но будить никого не приказал. Несмотря на то, старую барыню разбудили и по секрету донесли, что уже давным-давно уехал куда-то Танайченок с письмом от барина на паре господских лошадей. Арина Васильевна не осмелилась вдруг прийти к своему супругу; она помешкала с час времени и явилась, когда уже старик напился чаю и весело балагурил с Аксиньей. «Ну зачем тебя разбудили? — приветливо сказал Степан Михайлыч, протягивая руку. — Ведь ты, чай, плохо спала?» — «Меня никто не будил, — отвечала Арина Васильевна, почтительно целуя руку старика, — я сама проснулась. Я спала ночь хорошо в надежде на твою милость к бедному нашему Алеше». Дедушка пристально посмотрел на нее, но ничего не увидел на привыкшем к притворству лице. «А коли так, то я тебя порадую: я послал нарочного гонца в Уфу и написал Алексею от обоих нас позволение жениться на Софье Николавне».
Арина Васильевна, — несмотря на то, что, приведенная в ужас страшным намерением сына, искренне молила и просила своего крутого супруга позволить жениться Алексею Степанычу, — была не столько обрадована, сколько испугана решением Степана Михайловича, или лучше сказать, она бы и обрадовалась, да не смела радоваться, потому что боялась своих дочерей; она уже знала, что думает о письме Лизавета Степановна, и угадывала, что скажет Александра Степановна. По всем этим причинам Арина Васильевна приняла решение своего супруга, которым он надеялся ее обрадовать, как-то холодновато и странно, что старик заметил. Лизавета Степановна не изъявила ни малейшего удовольствия, а только одну почтительную покорность воле отца; Танюша, верившая письму брата искренне, обрадовалась от всего сердца. Лизавета Степановна даже и в первую минуту не была встревожена намерением брата; она плакала и просила за него только потому, что мать и меньшая сестра плакали и просили, нельзя же было ей так ярко рознить с ними. Она выписала немедленно Александру Степановну, которая пришла в бешенство, узнав о решении дела, и сейчас прискакала; разумеется, она сочла письмо братца за пустую угрозу, за штуку Софьи Николавны. С помощью Лизаветы Степановны она скоро уверила в этом мать и даже меньшую сестру Танюшу. Но дело было кончено: явно восставать против него не представлялось уже никакой возможности. Мыслей же Степана Михайлыча, будто Софья Николавна сама не пойдет за Алексея Степаныча, никто из семьи не разделял. Оставим Багрово и посмотрим, что делается в Уфе.
Я не беру на себя решить положительно, имел ли Алексей Степаныч твердое намерение застрелиться в случае отказа своих родителей, или, прочитав в каком-нибудь романе подобное происшествие, вздумал попробовать, не испугаются ли его родители такого страшного последствия своей непреклонности? Судя по дальнейшему развитию характера Алексея Степаныча, мне хорошо известному, я равно не могу признать его способным ни к тому, ни к другому поступку. Итак, я предполагаю только, что молодой человек не хитрил, не думал пугнуть своих стариков, напротив, искренне думал застрелиться, если ему не позволят жениться на Софье Николавне; но в то же время я думаю, что он никогда не имел бы духу привесть в исполнение такого отчаянного намерения, хотя люди тихие и кроткие, слабодушные, как их называют, бывают иногда способны к отчаянным поступкам более, чем натуры живые и бешеные. Мысль о самоубийстве, без сомнения, была почерпнута из какого-нибудь романа: она совершенно противоречит характеру Алексея Степаныча, его взгляду на жизнь и сфере понятий, в которых он родился, воспитался и жил. Как бы то ни было, пустив в ход свою грамотку, Алексей Степаныч пришел в сильное волнение, занемог и получил лихорадку. Покровительница его Алакаева, знавшая все, — о последнем письме ничего не знала; она навещала его ежедневно и замечала, что, кроме лихорадки простой и лихорадки любовной, молодой человек еще чем-то необыкновенно встревожен. В один день сидела она у Алексея Степаныча, вязала чулок и разговаривала о всякой всячине, стараясь занять больного и отвлечь его мысли от безнадежной любви. Алексей Степаныч прилег на канапе, заложил руки за голову и смотрел в окошко. Вдруг он побледнел как полотно: по улице проехала телега парой и заворотила на двор; Алексей Степаныч узнал лошадей и Танайченка. Он вскочил на ноги и с криком: «От батюшки, из Багрова» — бросился в переднюю. Алакаева схватила его за руки и с помощью сидевшего в лакейской человека не допустила его выбежать на крыльцо, потому что на дворе стояла мокрая и холодная осенняя погода. Между тем Танайченок проворно вбежал в комнату и подал письмо. Алексей Степаныч дрожащими руками распечатал, прочел коротенькое письмо, залился слезами и бросился на колени перед образом. Алакаева сначала не знала, что и подумать; но Алексей Степаныч подал ей родительскую грамотку, и она, прочитав ее, также с радостными слезами принялась обнимать обезумевшего от восторга молодого человека. Тут он признался ей, какое письмо послал к отцу и матери. Алакаева покачала головой. Призвали Танайченка, расспросили подробно об его отправке и увидели, что дело было решено собственно самим Степаном Михайлычем, без участия, без ведома своей семьи и, вероятно, против ее желания. Когда прошли первые минуты радостного волнения для Алексея Степаныча и совершенного изумления для Алакаевой, которая, перечитав снова письмо, все еще не верила глазам своим, потому что хорошо знала нрав Степана Михайлыча и хорошо понимала недоброжелательство семьи, — начали они совещаться, как приступить к делу. Когда оно казалось далеким, невозможным со стороны семейства жениха, тогда они считали его благонадежным со стороны невесты; но тут вдруг напало на Алакаеву сомнение: припомнив и сообразив все благоприятные признаки, она почувствовала, что, может быть, слишком перетолковала их в пользу жениха. Как умная женщина, она поспешила охладить пылкие надежды молодого человека, благоразумно рассуждая, что, обольстившись ими, труднее ему будет перенесть внезапное разрушение радужных своих мечтаний; отказ вдруг представился ей очень возможным, и ее опасения навели страх на Алексея Степаныча. Впрочем, Алакаева нисколько не отступилась от своего обещания и на другой же день поехала с предложением к Софье Николавне. Она просто, ясно, без всякого преувеличенья, описала постоянную и горячую любовь Алексея Степаныча, давно известную всему городу (конечно, и Софье Николавне); с родственным участием говорила о прекрасном характере, доброте и редкой скромности жениха; справедливо и точно рассказала про его настоящее и будущее состояние; рассказала правду про все его семейство и не забыла прибавить, что вчера Алексей Степаныч получил чрез письмо полное согласие и благословение родителей искать руки достойнейшей и всеми уважаемой Софьи Николавны; что сам он от волнения, ожидая ответа родителей и несказанной любви занемог лихорадкой, но, не имея сил откладывать решение своей судьбы, просил ее, как родственницу и знакомую с Софьей Николавной даму, узнать: угодно ли, не противно ли будет ей, чтобы Алексей Степаныч сделал формальное предложение Николаю Федоровичу. Софья Николавна, давно привыкшая, как говорилось в старину, «сама обивать около себя росу», или к самобытности, как говорится теперь, — без смущения, без всяких церемоний и девичьих оговорок и жеманств, тогда неизбежных, отвечала Алакаевой следующее: «Благодарю Алексея Степаныча за честь, мне сделанную, а вас, почтеннейшая Мавра Павловна, за участие. Скажу вам откровенно: я давно заметила, что Алексей Степаныч ко мне неравнодушен, и давно ожидала, что он сделает мне предложение, не решая, впрочем, вопроса, пойду ли я за него, или нет. Последняя поездка Алексея Степаныча к отцу и к матери, его внезапная, как сами вы сказывали, опасная продолжительная болезнь в деревне и перемена, когда он воротился, показали мне, что родители его не желают иметь меня невесткой. Признаюсь, я этого не ожидала; скорее можно было опасаться несогласия со стороны моего отца. Потом я увидела, что Алексей Степаныч возвратился к прежним чувствам, и теперь догадываюсь, что он успел склонить отца и мать к согласию. Но рассудите сами, почтеннейшая Мавра Павловна, что теперь это дело принимает совсем другой вид: входить в семейство против его желания — риск слишком опасный. Конечно, отец мой не стал бы противиться моему выбору, но могу ли я решиться его обмануть? Узнав же, что его Сонечку какой-то деревенский помещик не вдруг удостоил чести войти в его семейство, — он ни за что не согласится и сочтет это унижением. Я не влюблена в Алексея Степаныча, я только уважаю его прекрасные свойства, его постоянную любовь и считаю, что он может составить счастие любимой женщины. Итак, позвольте мне подумать и притом, прежде чем я скажу об этом моему больному отцу, прежде чем встревожу его таким известием, я хочу сама говорить с Алексеем Степанычем: пусть он приедет к нам, когда выздоровеет».
Алакаева с точностью передала ответ жениху; ему показался он не предвещающим добра, но Алакаева, напротив, находила его весьма благоприятным и успокоила Алексея Степаныча.
Долго сидела Софья Николавна одна в гостиной, простившись очень дружески с Маврой Павловной, и думала крепкую думу. Омрачились ее живые и блестящие глаза, тяжелые мысли пробегали по душе и отражались, как в зеркале, на ее прекрасном лице. Все, что она сказала Алакаевой, была совершенная правда, и вопрос идти или нет за Алексея Степаныча — точно оставался не решенным. Наконец, предложение сватовства обратилось в действительность, и надо было решить этот великий, роковой вопрос для всякой девушки. Необыкновенно ясная голова Софьи Николаевы, еще не омраченная страстностью ее натуры, тогда ничем глубоко не возмущаемой, все понимала и все видела в настоящем виде, в настоящем свете. Положение ее в будущем было безотрадно: отец лежал на смертном одре и, по словам лучшего доктора Зандена,[18] не мог прожить более года; все состояние старика заключалось в двух подгородных деревушках Зубовке и Касимовке, всего сорок душ с небольшим количеством земли; наличных денег у Николая Федоровича было накоплено до десяти тысяч рублей, и он назначал их на приданое своей Сонечке. Выдать ее замуж было постоянным, горячим его желанием; но — бывают же такие чудеса: Софья Николавна не имела еще ни одного жениха, то есть не получила ни одного формального предложения. По смерти старика должны остаться шестеро сводных детей от двух браков; должны были учредиться две опеки, и последние трое детей от Александры Петровны поступали к родной бабушке, Е. Д. Рычковой, под опеку сына ее, В. П. Рычкова. Материнское имение их заключалось также в небольшой деревеньке душ в пятьдесят; братья Софьи Николавны от одной матери находились в Москве, в университетском благородном пансионе, и она оставалась совершенно одна, даже не было дальних сродников, у которых могла бы она жить. Одним словом, некуда было приклонить голову! Нужда, бедность, жизнь из милости в чужих людях, полная зависимость от чужих людей — тяжелы всякому; но для девушки, стоявшей в обществе так высоко, жившей в таком довольстве, гордой по природе, избалованной общим искательством и ласкательством, для девушки, которая испытала всю страшную тяжесть зависимости и потом всю прелесть власти, — такой переход должен был казаться невыносимым. И вот молодой, честный, скромный, пригожий собою мужчина, старинного дворянского рода, единственный сын, у отца которого было сто восемьдесят душ, который должен был получить богатое наследство от тетки, который любит, боготворит ее — предлагает ей руку и сердце: с первого взгляда тут нечего и колебаться. Но нравственное неравенство между ними было слишком велико. Никто в городе не мог подумать, чтоб Софья Николавна вышла за Алексея Степаныча. Она очень хорошо понимала справедливость общественного мнения и не могла не уважать его. Невеста — чудо красоты и ума, жених, правда, белый, розовый, нежный (что именно не нравилось Софье Николавне), но простенький, недальный, по мнению всех, деревенский дворянчик; невеста бойка, жива — жених робок и вял; невеста по-тогдашнему образованная, чуть не ученая девица, начитанная, понимавшая все высшие интересы— жених совершенный невежда, ничего не читавший, кроме двух-трех глупейших романов, вроде «Любовного вертограда» или «Аристея и Телазии» да «Русского песенника», жених, интересы которого не простирались далее ловли перепелов на дудки и соколиной охоты; невеста остроумна, ловка, блистательна в светском обществе — жених не умеет сказать двух слов, неловок, застенчив, смешон, жалок, умеет только краснеть, кланяться и жаться в угол или к дверям, подалее от светских говорунов, которых просто боялся, хотя поистине многих из них был гораздо умнее; невеста с твердым, надменным, неуступчивым характером — жених слабый, смирный, безответный, которого всякий мог загонять. Ему ли поддержать, защитить жену в обществе и семействе?.. Такие противоположные мысли, взгляды и картины роились, мешались, теснились в воображении молодой девушки. Давно наступили сумерки, она все еще сидела одна в гостиной; наконец, невыразимое смятение тоски, страшное сознание, что ум ничего придумать и решить не может, что для него становится все час от часу темнее — обратили ее душу к молитве. Она побежала в свою комнату молиться и просить света разума свыше, бросилась на колени перед образом Смоленской божьей матери, некогда чудным знамением озарившей и указавшей ей путь жизни; она молилась долго, плакала горючими слезами и мало-помалу почувствовала какое-то облегчение, какую-то силу, способность к решимости; хотя не знала еще, на что она решится, это чувство было уже отрадно ей. Она сходила посмотреть на заснувшего больного своего отца, воротилась в свою комнату, легла и спокойно заснула. На другой день поутру Софья Николавна проснулась без всякого волнения; она подумала несколько минут, бросила взгляд на вчерашние свои колебания и смущения и спокойно осталась при своем намерении: поговорить сначала с женихом и потом уже решить дело окончательно, смотря по тому впечатлению, какое произведет на нее разговор с Алексеем Степанычем.
Алексей Степаныч, желая как можно скорее узнать решение судьбы своей, призвал доктора и умолял вылечить его поскорее. Доктор обещал и на этот раз сдержал обещание. Через неделю Алексей Степаныч, правду сказать, худой, бледный и слабый, сидел уже в гостиной у Софьи Николавны. Взглянув на тощую фигуру молодого человека, прежде цветущего румянцем здоровья, она почувствовала жалость и многое сказала не так резко, не так строго, как хотела. В сущности невеста сказала жениху все то же, что говорила Алакаевой, но прибавила, что она, во-первых, не расстанется с отцом, пока он жив, а во-вторых, что она не будет жить в деревне, а желает жить в губернском городе, именно в Уфе, где имеет много знакомых, достойных и образованных людей, в обществе которых должна жить с мужем. В заключение она прибавила, что очень бы желала, чтоб ее муж служил и занимал в городе хотя не блестящее, но благородное и почетное место. На все такие предварительные условия и предъявления будущих прав жены Алексей Степаныч отвечал с подобострастием, что «все желания Софьи Николавны для него закон и что его счастие будет состоять в исполнении ее воли…», и этот ответ, недостойный мужчины, верный признак, что на любовь такого человека нельзя положиться, что он не может составить счастия женщины, — мог понравиться такой умной девушке. Поневоле должно признать, что в основании ее характера уже лежали семена властолюбия и что в настоящее время, освобожденные из-под тяжкого гнета жестокой мачехи, они дали сильные ростки, что без ведома самой Софьи Николавны — любовь к власти была тайною причиною ее решимости. Софья Николавна захотела сама прочесть письмо, в котором Алексей Степаныч получил позволение своих родителей искать ее руки. Письмо было в кармане у жениха, и он показал его. Софья Николавна прочла и убедилась, что ее догадки о первоначальном несогласии родителей были совершенно справедливы. Молодой человек не умел притворяться и притом так был влюблен, что не мог противиться ласковому взгляду или слову обожаемой красавицы; когда Софья Николавна потребовала полной откровенности, он высказал ей всю подноготную без утайки, и, кажется, эта откровенность окончательно решила дело в его пользу. Мысль воспитать по-своему, образовать добродушного молодого человека, скромного, чистосердечного, неиспорченного светом — забралась в умную, но все-таки женскую голову Софьи Николавны. Ей представилась пленительная картина постепенного пробуждения и воспитания дикаря, у которого не было недостатка ни в уме, ни в чувствах, погруженных в непробудный сон, который будет еще более любить ее, если это возможно, в благодарность за свое образование. Эта мысль овладела пылким воображением Софьи Николавны, и она очень милостиво отпустила своего хворого обожателя; обещала поговорить с отцом и передать ответ через Алакаеву. Алексей Степаныч утопал в восторге, по-тогдашнему выражению. Вечером Софья Николавна опять прибегла к молитве; опять молилась долго, восторженно, напряженно; она заснула очень утомленная и ночью видела сон, который растолковала, как следует, в подтверждение своего решения. Ум человеческий все растолкует так, как ему хочется. Я забыл этот сон, но помню, что его можно было растолковать в противоположную сторону с гораздо большим основанием и гораздо меньшими натяжками. На следующее утро Софья Николаева немедленно сообщила своему почти умирающему отцу о предложении Алексея Степаныча. Хотя Николай Федорыч почти не знал жениха, но у старика как-то составилось понятие о нем как о человеке самом ничтожном. При всем пламенном желании пристроить Сонечку при своей жизни, этот жених (первый, надобно заметить) ему не нравился. Но Софья Николавна с обыкновенною пылкостью своего ума и убедительным красноречием доказала старику, что не должно пропускать такой партии. Она высказала ему все, что мы уже знаем, в пользу этого брака и главное, что не только не разлучится с ним, но и останется жить в одном доме. Она так живо представила свое беспомощное, бесприютное состояние, когда богу будет угодно оставить ее сиротой, что Николай Федорыч прослезился и сказал: «Друг мой, умница моя Сонечка! делай, что тебе угодно: я на все согласен. Представь же мне поскорей своего будущего жениха; я хочу познакомиться с ним поближе и также хочу непременно, чтоб его родители сделали нам письменное предложение».
Софья Николавна написала записку Алакаевой и просила передать Алексею Степанычу, что Николай Федорыч приглашает его к себе в таком-то часу.
Алексей Степаныч продолжал утопать в блаженстве, разделяя его только с покровительницей своей Маврой Павловной; но приглашение к Николаю Федорычу в назначенный час, приглашение, которого он никак не ожидал, считая старика слишком больным и слабым, очень его смутило. Николай Федорыч, за отсутствием наместника, первое лицо, первая власть в целом Уфимском крае, Николай Федорыч, к которому он и прежде приближался с благоговением — теперь казался ему чем-то особенно страшным. Ну, если ему не понравилось намерение чиновника Верхнего земского суда тринадцатого класса жениться на его дочке? Если он сочтет дерзостью такое предложение да крикнет: «Как ты осмелился подумать о моей дочери? По тебе ли она невеста? Посадить его под караул, отдать под суд…» Как ни дики кажутся такие мысли, но они действительно пришли тогда в голову молодому человеку, о чем он сам рассказывал впоследствии.
Собравшись с духом, ободряемый словами Алакаевой, Алексей Степаныч напялил мундир, или, вернее сказать, надел его на себя, как на вешалку, потому что очень похудел, и отправился к товарищу наместника. С треугольной шляпой под мышкой, придерживая дрожащей рукой непослушную шпагу, вошел он, едва переводя дух от робости, в кабинет больного старика, некогда умного, живого и бодрого, но теперь почти недвижимого, иссохшего, как скелет, лежащего уже на смертной постели. Алексей Степаныч отвесил низкий поклон и стал у дверного косяка. Уже один этот прием заставил поморщиться больного хозяина. «Подойдите ко мне поближе, господин Багров, сядьте возле моей постели. Я слаб, не могу говорить громко». Алексей Степаныч со многими поклонами присел на кресло, стоявшее у самой кровати. «Вы ищете руки моей дочери, — продолжал старик… Жених вскочил с кресел, поклонился и сказал, что точно так, что он осмеливается искать этого счастия… Я мог бы передать весь разговор подробно, потому что много раз слышал, как пересказывал его из слова в слово Алексей Степаныч; но в нем отчасти есть повторение того, что мы уже знаем, и я боюсь наскучить читателям. Сущность дела состояла в том, что Николай Федорыч расспросил молодого человека об его семействе, об его состоянии, об его намерениях относительно службы и места постоянного жительства; сказал ему, что Софья Николавна ничего не имеет, кроме приданого в десять тысяч рублей, двух семей людей и трех тысяч наличных денег для первоначального обзаведения; в заключение он прибавил, что хотя совершенно уверен, что Алексей Степаныч, как почтительный сын, без согласия отца и матери не сделал бы предложения, но что родители его могли передумать и что приличие требует, чтобы они сами написали об атом прямо к нему, и что до получения такого письма он не может дать решительного ответа. Алексей Степаныч привставал, кланялся, садился, во всем соглашался и обещал завтра же написать к отцу и к матери. Через полчаса старик сказал, что устал (это была совершенная правда), и отпустил молодого человека довольно сухо. По выходе его Софья Николавна в ту же минуту вошла в кабинет к отцу: он лежал с закрытыми глазами, лицо его выражало утомление и вместе душевное страдание. Услыхав приближение дочери, он бросил на нее умоляющий взгляд, сжал руки на груди и воскликнул: «Сонечка, неужели ты пойдешь за него?» — Софья Николавна знала наперед, какое действие произведет это свидание, и приготовилась даже к худшему впечатлению. «Я предупреждала вас, батюшка, — сказала она тихо, кротко, но с твердостию, — что по совершенному незнанию светского обращения, по неловкости и робости, Алексей Степаныч с первого раза должен показаться вам дурачком, но я виделась с ним много раз, говорила долго, узнала его коротко и ручаюсь вам, что он никого не глупее, а многих гораздо умнее. Я прошу вас поговорить с ним еще раза два и уверена, что вы согласитесь со мною». Старик долго, пристально, проницательно посмотрел на свою дочь, как будто хотел прочесть что-то сокровенное в ее душе, глубоко вздохнул и согласился вызвать к себе на днях и поговорить побольше с молодым человеком.
Алексей Степаныч с первою почтою написал самое нежное, самое почтительное письмо к своим родителям. Он благодарил их за то, что они вновь даровали ему жизнь, и униженно просил, чтобы они написали поскорее письмо к Николаю Федорычу Зубину и просили у него руки его дочери для своего сына, прибавляя, что это всегда так водится и что Николай Федорыч без их письма не дает решительного ответа. Исполнение просьбы столь обыкновенной затруднило стариков: они были не сочинители, в подобных оказиях не бывали и не умели приступить к делу; осрамиться же в глазах товарища наместника и будущего свата, верно ученого дельца и писаки, — крепко им не хотелось. Целую неделю сочиняли письмо; наконец, кое-как написали и послали его к Алексею Степанычу. Письмо точно было написано неловко, без всяких вежливостей и любезностей, необходимых в подобных обстоятельствах.
Покуда Алексей Степаныч дожидался ответа из деревни, Николай Федорыч пригласил его к себе еще два раза. Второе посещение не поправило невыгодного впечатления, произведенного первым; но при третьем свидании присутствовала Софья Николавна, которая, как будто не зная, что жених сидит у отца, вошла к нему в кабинет, неожиданно воротясь из гостей ранее обыкновенного. Ее присутствие все переменило; она умела заставить говорить Алексея Степаныча, знала, о чем он может говорить и в чем может выказаться с выгодной стороны его природный, здравый смысл, чистота нравов, честность и мягкая доброта. Николай Федорыч, видимо, был доволен, обласкал молодого человека и пригласил его приезжать, как можно чаще. Когда Алексей Степаныч ушел, старик обнял свою Сонечку со слезами и, осыпая ее ласковыми и нежными именами, назвал между прочим чародейкой, которая силою волшебства умеет вызывать из души человеческой прекрасные ее качества, так глубоко скрытые, что никто и не подозревал их существования. Софья Николавна была также очень довольна, потому что и сама не смела надеяться, чтоб Алексей Степаныч мог так хорошо поддержать ее доброе мнение и оправдать выгодные о нем отзывы.
Наконец, письмо с формальным предложением стариков было получено, и Алексей Степаныч лично вручил его Николаю Федорычу. Увы! без волшебного присутствия и помощи Софьи Николавны жених опять по-прежнему не понравился будущему тестю, да и письмом остался он очень недоволен. На следующий день он имел продолжительный разговор с своею дочерью, в котором представил ей все невыгоды иметь мужа ниже себя по уму, по образованию и характеру; он сказал, что мужнино семейство не полюбит ее, даже возненавидит, как грубое и злое невежество всегда ненавидит образованность; он предостерегал, чтобы она не полагалась на обещания жениха, которые обыкновенно редко исполняются и которых Алексей Степаныч не в силах будет исполнить, хотя бы и желал. На такие справедливые замечания и советы, почерпнутые прямо из жизни, Софья Николавна умела возражать с удивительной ловкостью и в то же время умела так убедительно и живо представить хорошую сторону замужества с человеком хотя небойким и необразованным, но добрым, честным, любящим и неглупым, что Николай Федорыч был увлечен ее пленительными надеждами и дал полное согласие. Софья Николавна с горячностью обняла отца, целовала его иссохшие руки, подала ему образ, стала на колени у кровати и, проливая ручьи горячих слез, приняла его благословение. «Батюшка! — воскликнула с увлечением восторженная девушка, — я надеюсь, с божиею помощью, что чрез год вы не узнаете Алексея Степаныча. Чтение хороших книг, общество умных людей, беспрестанные разговоры со мною вознаградят недостаток воспитания; застенчивость пройдет, и уменье держать себя в свете придет само собою». — «Дай бог, — отвечал старик. — Пошли за священником, я хочу помолиться о твоем счастье вместе с тобою».
В тот же день вечером пригласили Алакаеву с женихом, старинных зубинских знакомых, Аничкова и Мисайловых, и дали Алексею Степанычу слово. Нет выражений для описания блаженства молодого человека! Софья Николавна до глубокой старости вспоминала об этих счастливых для него минутах. Алексей Степаныч бросился в ноги Николаю Федорычу, целовал его руки, плакал, рыдал, как дитя, едва не упал в обморок от избытка счастия, которое до последней минуты казалось ему недоступным. Невеста сама была глубоко тронута таким искренним выражением пламенной, безграничной любви.
Чрез два дня назначили официальную помолвку и пригласили весь город. Город был удивлен, потому что многие не верили слухам, будто Софья Николавна Зубина идет за Алексея Степаныча Багрова. Наконец, все поверили и съехались; поздравляли, желали всякого благополучия и всех возможных благ. Жених был радостен и светел; он не замечал никаких двусмысленностей в поздравлениях, никаких насмешливых улыбок и взглядов; но Софья Николавна все видела, все заметила, все слышала и понимала, хотя, говоря с нею, были все осторожны и почтительны. Она знала наперед, как встретит общество ее поступок, но внутренно не могла не огорчаться выражением мнения этого общества, чего, конечно, никто не заметил. Она была весела, ласкова со всеми, особенно с женихом, и казалась совершенно счастливою и довольною своим выбором. Вскоре жениха с невестою пригласили в кабинет к Николаю Федорычу и обручили там при немногих свидетелях. Старик плакал во все время, когда священник читал молитвы. По окончании обряда приказал жениху с невестою поцеловаться, обнял их горячо и сильно, сколько мог, и, поглядев пристально в лицо Алексею Степанычу, сказал: «Люби ее и всегда так, как любишь теперь. Бог дает тебе такое сокровище…» Он не мог договорить. Обрученные жених и невеста вышли опять к гостям, в сопровождении присутствовавших при обручении. Все мужчины обнимали жениха и целовали руку у невесты; все дамы обнимали невесту, и у всех перецеловал ручки жених. Наконец, когда кончилась эта суматоха, обрученных посадили рядом на диван, упросили вновь поцеловаться и с бокалами в руках осыпали их вторичными поздравлениями и добрыми желаниями. Между мужчинами хозяйничал С. И. Аничков, а между дамами — Алакаева. Алексей Степаныч сроду не пивал ничего, кроме воды, но его уговорили выпить бокал какого-то вина, которое сильно подействовало на его непривычный организм, расстроенный недавнею болезнию и постоянным волнением души. Он сделался необыкновенно жив, смеялся, плакал и много наговорил для потехи общества и для огорчения невесты. Гости развеселились. За одним бокалом последовал другой, за другим третий; подали богатую закуску; все плотно покушали, еще выпили и разъехались шумно и весело. У жениха закружилась и заболела голова, и Алакаева увезла его домой.
Николай Федорыч чувствовал себя очень плохо и хотел как можно скорей сыграть свадьбу; но как в то же время он желал, чтоб приданое было устроено богато и пышно, то принуждены были отложить свадьбу на несколько месяцев. Старинные материнские брильянты и жемчуги надобно было переделать и перенизать по новому фасону в Москве и оттуда же выписать серебро и некоторые наряды и подарки; остальные же платья, занавес парадной кровати и даже богатый чернобурый салоп, мех которого давно уже был куплен за пятьсот рублей и которого теперь не купишь за пять тысяч, — все это было сшито в Казани; столового белья и голландских полотен было запасено много. Десять тысяч, назначенные на приданое, составляли тогда большую сумму, а как много дорогого было припасено заранее, то роспись приданого выходила так роскошна и великолепна, что, читая ее теперь, трудно поверить дешевизне восьмидесятых годов прошедшего столетия.
Первым делом, после обручения и помолвки, были рекомендательные письма ко всем родным жениха и невесты. Софья Николавна, владевшая, между прочим, особенным дарованием писать красноречиво, написала такое письмо к будущему свекру и свекрови, что Степан Михайлыч хотя был не сочинитель и не писака, но весьма оценил письмо будущей своей невестки. Выслушав его с большим вниманием, он взял его из рук Танюши и, с удовольствием заметив четкость руки невесты, сам прочел письмо два раза и сказал: «Ну, умница и, должно быть, горячая душа!» Вся семья злилась и молчала; одна Александра Степановна не вытерпела и, сверкая круглыми, выкатившимися от бешенства зрачками, сказала: «Что и говорить, батюшка, книжница; мягко стелет, да каково-то будет спать!» Но старик грозно взглянул на нее и зловещим голосом сказал: «А почем ты знаешь? Ничего не видя, уж ты коришь! Смотри! держи язык за зубами и других у меня не мути». После таких слов все пришипились и, разумеется, еще более возненавидели Софью Николавну. Степан Михайлыч под влиянием теплого и ласкового письма взял сам перо в руки и, вопреки всяким церемониям, написал следующее:
«Милая моя, дорогая и разумная, будущая невестушка.
Если ты нас, стариков, так заочно полюбила и уважаешь, то и мы тебя полюбили; а при свиданье, бог даст, и еще больше полюбим, и будешь ты нам, как родная дочь, и будем мы радоваться счастию нашего сына Алексея».
Софья Николавна также по достоинству оценила простую речь старика; она уже прежде, по одним рассказам, полюбила его заочно. Родных у невесты не было, и писать ее жениху было не к кому. Но она захотела, чтоб Алексей Степаныч написал рекомендательное письмо к ее заочному другу и покровителю ее братьев, А. Ф. Аничкову; разумеется, жених с радостью согласился исполнить ее желание. Софья Николавна не слишком надеялась на уменье Алексея Степаныча объясняться письменно и пожелала предварительно взглянуть на письмо. Боже мой, что прочла она в этом письме! Алексей Степаныч, много наслышавшись об Аничкове, вздумал написать витиевато, позаимствовался из какого-нибудь тогдашнего романа и написал две страницы таких фраз, от которых, при других обстоятельствах, Софья Николавна расхохоталась бы, но теперь… кровь бросилась ей в голову, и потом слезы хлынули из глаз. Успокоившись, она сначала не знала, как ей быть, как выйти из этого затруднительного положения? Впрочем, она думала недолго, написала черновое письмо от жениха к Аничкову и сказала Алексею Степанычу, что по непривычке к переписке с незнакомыми людьми он написал такое письмо, которое могло бы не понравиться Аничкову, и потому она написала черновое и просит его переписать и послать по адресу. Ей было совестно, и больно, и оскорбительно за своего жениха, голос ее слегка дрожал, и она едва владела собою; но жених чрезвычайно обрадовался такому предложению; выслушав письмо, восхищался им, удивлялся сочинительнице и покрывал поцелуями ее руки. Тяжел был первый шаг к неуважению будущего своего супруга и к осуществлению мысли повелевать им по произволу…
Зная, что у стариков мало денег и что они поневоле скупы на них, Алексей Степаныч написал просительное письмо к своим родителям с самым умеренным требованием денег и для подкрепления своих слов упросил Алакаеву, чтобы она написала к Степану Михайлычу и удостоверила в справедливой просьбе сына и в необходимости издержек для предназначенной свадьбы; он просил всего восемьсот рублей, но Алакаева требовала тысячу пятьсот рублей. Старики отвечали сыну, что у них таких денег нет и что они посылают ему последние триста рублей; а пятьсот рублей, если они уж необходимы, предоставляли ему у кого-нибудь занять, но прибавляли, что пришлют ему четверку лошадей, кучера, форейтора, повара и всяких съестных припасов. На Алакаеву же старики рассердились за требование такой огромной суммы и не отвечали ей. Делать было нечего; Алексей Степаныч поблагодарил за милости своих родителей и занял пятьсот рублей; но как этих денег недостало, то Алакаева дала ему еще своих пятьсот рублей тайно от его стариков.
Между тем свидания жениха с невестой становились чаще, продолжительнее, а разговоры откровеннее. Тут только увидела Софья Николавна, как много будет ей работы в будущем; тут только она вполне разглядела своего жениха! Она не ошиблась в том, что он имел от природы хороший ум, предоброе сердце и строгие правила честности и служебного бескорыстия, но зато во всем другом нашла она такую ограниченность понятий, такую мелочность интересов, такое отсутствие самолюбия и самостоятельности, что неробкая душа ее и твердость в исполнении дела, на которое она уже решилась, — не один раз сильно колебались; не один раз приходила она в отчаяние, снимала с руки обручальное кольцо, клала его перед образом Смоленския божия матери и долго молилась, обливаясь жаркими слезами, прося просветить ее слабый ум. Так поступала она, что мы уже знаем, во всех трудных обстоятельствах своей жизни. После молитвы Софья Николавна чувствовала себя как-то бодрее и спокойнее, принимала это чувство за указание свыше, надевала обручальное кольцо и выходила в гостиную к своему жениху спокойная и веселая. Больной ее отец чувствовал себя час от часу хуже и слабее; дочь умела его уверить, что она с каждым днем открывает новые достоинства в своем женихе, что она совершенно довольна и надеется быть счастливою замужем. Тяжкий недуг уже омрачал ясность взгляда Николая Федорыча; он не только верил искренности своей дочери, но и сам убеждался, что его Сонечка будет счастлива, и часто говорил: «Слава богу, теперь мне легко умереть».
Приближалось время свадьбы. Все приданое было готово. Жених также приготовился благодаря советам Алакаевой, которая совершенно взяла его в руки. Умная старуха сама не подозревала, до какой степени Алексей Степаныч не знал и не понимал приличий в общественной жизни. Без нее он наделал бы таких промахов, от которых невеста не один раз сгорела бы со стыда. Например, он хотел подарить ей в день именин такой материи на платье, какую можно было подарить только ее горничной; он думал ехать к венцу в какой-то старинной повозке на пазах, которая возбудила бы смех в целом городе, и пр. и пр. Оно в сущности ничего не значит, но видеть своего жениха посмешищем уфимского модного света было бы слишком тяжело для Софьи Николавны. Разумеется, все это было поправлено Алакаевой, или, лучше сказать, самой невестой, потому что старуха обо всем советовалась с нею. Софья Николавна заранее объявила жениху, чтоб он и не думал дарить ее в именины, потому что она терпеть не может именинных подарков. Для свадьбы же приказала купить аглицкую новенькую карету, только что привезенную из Петербурга одним уфимским помещиком Мурзахановым, успевшим промотаться и проиграться в несколько месяцев. За карету было заплачено триста пятьдесят рублей ассигнациями. Софья Николавна отдала за нее свои деньги и прислала в подарок жениху от имени своего отца, запретив ему беспокоить своей благодарностью умирающего старика. Так улаживались и другие затруднения. Алексей Степаныч и Софья Николавна написали от себя и от имени Николая Федорыча письма к Степану Михайлычу и, Арине Васильевне, убедительно прося их осчастливить своим приездом на свадьбу. Зажившиеся в деревне и одичавшие старики, разумеется, не поехали: город и городское общество представлялись им чем-то чуждым и страшным. Из дочерей также никто не хотел ехать, но Степану Михайлычу показалось это неловким, и он приказал отправиться на свадьбу Елизавете и Александре Степановнам. Ерлыкин находился на службе в Оренбурге, а Иван Петрович Каратаев сопровождал свою супругу в Уфу. Прибытие этих незваных и неожиданных гостей наделало много огорчений Софье Николавне. Будущие ее золовки, от природы очень умные и хитрые, расположенные враждебно, держали себя с нею холодно, неприязненно и даже неучтиво. Хотя Софья Николавна слишком хорошо угадывала, какого расположения можно ей было ждать от сестер своего жениха, тем не менее она сочла за долг быть сначала с ними ласковою и даже предупредительною; но увидя, наконец, что все ее старания напрасны и что чем лучше она была с ними, тем хуже они становились с нею, — она отдалилась и держала себя в границах светской холодной учтивости, которая не защитила ее, однако, от этих подлых намеков и обиняков, которых нельзя не понять, которыми нельзя не оскорбляться и которые понимать и которыми оскорбляться в то же время неловко, потому что сейчас скажут: «На воре шапка горит». Отвратительное оружие намеков и обиняков, выгнанное образованностью в обществе мещан, горничных и лакеев, было тогда оружием страшным и общеупотребительным в домах деревенских помещиков, по большей части весьма близких с своей прислугой и нравами и образованием. Да еще правду ли я сказал, что оно выгнано? Не живет ли оно и теперь между нас, сокрытое под другими, более приличными, более искусственными формами? Разумеется, всему уфимскому обществу показались сестрицы жениха деревенскими чучелами. Что касается до Ивана Петровича, уже довольно обашкирившегося и всегда начинавшего с восьми часов утра тянуть желудочный травник, то он при первой рекомендации чмокнул три раза ручку у Софьи Николавны и с одушевлением истинного башкирца воскликнул: «Ну, какую кралечку подцепил брат Алексей!» Много переглотала Софья Николавна слез от злобных выходок будущих своих золовок и грубых шуток и любезностей будущего свояка. Всего прискорбнее было то, что Алексей Степаныч ничего не примечал и, казалось, был очень доволен обращением своих сестер с Софьей Николавной, и, конечно, это ее не только огорчало в настоящем, но и пугало в будущем. Ядовитые эти змеи, остановясь у брата в доме, с первой же минуты начали вливать свой яд в его простую душу и делали это так искусно, что Алексей Степаныч не подозревал их ухищрений. Тысячи намеков на гордость его невесты, на ее нищенство, прикрывающееся золотом и парчою, на его подчиненность воле и прихотям Софьи Николавны беспрестанно раздавались в его ушах; много он не замечал, не понимал, но многое попадало прямо в цель, смущало его ум и бессознательно заставляло задумываться. Все эти уловки, а иногда и открытые нападения, прикрывались видом участия и родственной любви. «Что это, братец, как ты худ? — говорила Елизавета Степановна. — Ты совсем измучился, исполняя приказания Софьи Николавны. Вот теперь, ты только что воротился из Голубиной Слободки,[19] устал, проголодался и, ничего не покушавши, скачешь опять на дежурство к невесте. Ведь мы тебе родные, ведь нам тебя жалко…» И притворные слезы или по крайней мере морганье глазами и утиранье их платком довершали вкрадчивую речь. «Нет, — бешено врывалась в разговор Александра Степановна, — не могу утерпеть. Я знаю, ты осердишься, братец, а может быть, и разлюбишь нас; так, видно, угодно богу, но я скажу тебе всю правду: ты совсем переменился, ты нас стыдишься, ты нас совсем забыл; у тебя только и на уме как бы лизать ручки у Софьи Николавны да как бы не проштрафиться перед нею. Ведь ты сделался ее слугой, крепостным слугой! Каково нам видеть, что уж и эта старая ведьма Алакаева помыкает тобой, как холопом: поезжай туда, то-то привези, об этом-то справься… да приказывает еще все делать проворнее, да еще изволит выговоры давать; а нас и в грош не ставит, ни о чем с нами и посоветоваться не хочет…» Алексей Степаныч не находил слов для возражения и говорил только, что он сестриц своих любит и всегда будет любить и что ему пора ехать к Софье Николавне, после чего брал шляпу и поспешно уходил. «Да, беги, беги поскорее, — кричала ему вслед бешеная Александра Степановна, — а то прогневается да еще ручки не пожалует». Подобные явления повторялись не один раз и, конечно, производили свое впечатление. Софья Николавна не могла не заметить, что приезд сестриц Алексея Степаныча произвел в нем некоторую перемену. Он казался смущенным, не с такою точностью исполнял свои обещания и даже менее проводил с ней время. Софья Николавна очень хорошо понимала настоящую причину; к тому же Алакаева, с которою вошла она в короткие и дружеские отношения и которая знала все, что делается на квартире у Алексея Степаныча, не оставляла ее снабжать подробными сведениями. Софья Николавна по своей пылкой и страстной природе не любила откладывать дела в долгий ящик. Она справедливо рассуждала, что не должно давать время и свободу укореняться вредному влиянию сестриц, что необходимо открыть глаза ее жениху и сделать решительное испытание его характеру и привязанности, и что, если и то и другое окажется слишком слабым, то лучше разойтись перед венцом, нежели соединить судьбу свою с таким ничтожным существом, которое, по ее собственному выражению, «от солнышка не защита и от дождя не епанча». Рано утром она вызвала к себе жениха, затворилась с ним в гостиной, не приказала никого принимать и обратилась к испуганному и побледневшему Алексею Степанычу с следующими словами: «Послушайте, я хочу объясниться с вами откровенно, сказать вам все, что у меня лежит на сердце, и от вас требую того же. Сестрицы ваши меня терпеть не могут и употребили все старания, чтоб восстановить против меня ваших родителей. Я знаю все это от вас самих. Ваша любовь ко мне преодолела все препятствия: родители ваши дали вам свое благословение, и я решилась за вас выйти, не побоявшись ненависти целой семьи. Я надеялась найти себе защиту в вашей ко мне любви и в моем старании доказать вашим родителям, что я не заслуживаю их неприязни. Я вижу теперь, что я ошиблась. Вы сами видели, как я приняла ваших сестриц, как я ласкалась, как я старалась угодить им. Они заставили меня удалиться своими грубостями, но я ни разу не сделала им ни малейшей невежливости. Что же из этого вышло? Прошла только одна неделя, как приехали ваши сестрицы, и вы уже много переменились ко мне: вы забываете или не смеете иногда исполнять того, что мне обещали, вы менее проводите со мной времени, вы смущены, встревожены, вы даже не так ласковы ко мне, как были прежде. Не оправдывайтесь, не запирайтесь, это было бы нечестно с вашей стороны. Я знаю, что вы меня не разлюбили; но вы боитесь показывать мне свою любовь, боитесь ваших сестер и потому смущаетесь и даже избегаете случаев оставаться со мной наедине. Это все совершенная правда, вы сами это знаете. Итак, скажите, какую надежду могу я иметь на твердость вашей любви? Да и что это за любовь, которая струсила и прячется оттого, что невеста ваша не нравится вашим сестрицам, о чем вы давно знаете? Что же будет, если я не понравлюсь вашим родителям и если они косо на меня посмотрят? Да вы разлюбите меня в самом деле! Нет, Алексей Степаныч, благородные люди не так любят и не так поступают. Зная, что меня терпеть не могут ваши родные, вы должны были удвоить при них ваше внимание, нежность и уважение ко мне — тогда они не осмелились бы и рта разинуть; а вы допустили их говорить вам в глаза оскорбительные мне слова. Я все знаю, что они говорят вам. Я заключаю из всего этого, что любовь ваша пустое нежничанье, что на вас нельзя положиться и что нам лучше расстаться теперь, нежели быть несчастными на всю жизнь. Подумайте хорошенько о моих словах. Я даю вам два дня, чтобы их обдумать. Продолжайте ездить к нам, но два дня я не буду видеться с вами наедине и не стану поминать об этом разговоре; потом спрошу вас по совести, как честного человека: имеете ли вы довольно твердости, чтобы быть моим защитником против ваших родных и всех, кто вздумал бы оскорблять меня? Можете ли вы заставить ваших сестер не обижать меня и заочно, в вашем присутствии, ни одним словом, ни одним оскорбительным намеком. Хотя разрыв за неделю до свадьбы для всякой благовоспитанной девушки большое несчастие, но лучше перенести его разом, нежели мучиться всю жизнь. Вы знаете, что я не влюблена в вас, но я начинала любить вас и, конечно, полюбила бы сильнее и постояннее, чем вы. Прощайте! Сегодня и завтра мы чужие». Алексей Степаныч, давно заливавшийся слезами и несколько раз порывавшийся что-то сказать, не успел разинуть рта, как невеста ушла и заперла за собою дверь. Как громом пораженный, Алексей Степаныч не вдруг пришел в себя. Наконец, мысль потерять обожаемую Софью Николавну представилась ему с поразительною ясностью, ужаснула его и вызвала то мужество, ту энергию, к которой бывают способны на короткое время люди самого слабого, самого кроткого нрава. Он поспешно отправился домой, и когда его сестрицы, нисколько не сжалившись над огорченным и расстроенным видом братца, встретили его обычными злобными шуточками — Алексей Степаныч пришел в исступление и задал им такую выпалку, что они перепугались. Человек добрый, тихий и терпеливый бывает страшен в гневе. Алексей Степаныч сказал между прочим своим сестрам, что «если они осмелятся еще сказать при нем хотя одно оскорбительное слово об его невесте или насчет его самого, то он в ту же минуту переедет на другую квартиру, не велит их пускать ни к себе, ни к невесте и обо всем напишет к батюшке». Этого было довольно. Александра Степановна твердо помнила слова отца: «Держи язык за зубами и других у меня не мути». Она очень хорошо знала, какая грозная туча взмыла бы от жалобы братца и каких страшных последствий могла она ожидать. Обе сестрицы кинулись на шею Алексея Степаныча, просили прощенья, плакали, крестились и божились, что вперед этого никогда не будет, что они сами и смерть как любят Софью Николавну и что только из жалости к его здоровью, для того, чтобы он меньше хлопотал, они позволяли себе такие глупые шутки. В тот же день поехали они к Софье Николавне, лебезили перед ней и ласкались самым униженным образом. Она очень хорошо поняла, что это значит, и — торжествовала. Положение несчастного жениха было поистине достойно сожаления. Его любовь, несколько успокоившаяся, приутихшая от частых свиданий и простого, ласкового обращения Софьи Николавны, от уверенности в близости свадьбы, несколько запуганная и как будто пристыженная насмешками сестер, — вспыхнула с такою яростью, что в настоящую минуту он был способен на всякое самоотвержение, на всякий отчаянный поступок, пожалуй — на геройство. Все это ярко выражалось на его молодом и прекрасном лице, и с таким-то лицом несколько раз являлся он перед Софьей Николавной в продолжение этих бесконечных двух дней. Тяжело было ей смотреть на него, но она имела твердость выдержать назначенный искус. Она сама не ожидала того сердечного волнения и тоскливой жалости, которые испытала в это время. Она почувствовала, что уже любит этого смиренного, простого молодого человека, безгранично ей преданного, который не задумался бы прекратить свою жизнь, если б она решилась отказать ему!.. Наконец, прошли и эти долгие два дня. На третий, рано поутру, Алексей Степаныч дожидался своей невесты в гостиной; тихо отворилась дверь, и явилась Софья Николавна прекраснее, очаровательнее, чем когда-нибудь, с легкою улыбкою и с выражением в глазах такого нежного чувства, что, взглянув на нее и увидя ласково протянутую руку, Алексей Степаныч от избытка сильного чувства обезумел, на мгновение потерял употребление языка… но вдруг опомнившись, не принимая протянутой руки, он упал к ногам своей невесты, и поток горячего сердечного красноречия, сопровождаемый слезами, полился из его груди. Софья Николавна не дала ему кончить, она подняла его, сказала ему, что она видит, чувствует и разделяет любовь его, верит всем его обещаниям и без страха вручает ему свою судьбу. Она приласкала его так, как никогда не ласкала, и сказала несколько таких нежных слов, каких никогда не говорила…
Только пять дней оставалось до свадьбы. Все приготовления были совершенно кончены, и жених и невеста, свободные от хлопот, почти не расставались. Уже пять месяцев Софья Николавна была невестой Алексея Степаныча, и во все это время, верная своему намерению перевоспитать своего жениха — невеста не теряла ни одной удобной минуты и старалась своими разговорами сообщать ему те нравственные понятия, которых у него недоставало, уяснять и развивать то, что он чувствовал и понимал темно, бессознательно, и уничтожать такие мысли, которые забрались ему в голову от окружающих его людей; она даже заставляла его читать книги и потом, разговаривая с ним о прочитанном, с большим искусством объясняла все смутно или превратно понятое, утверждая все шаткое и применяя вымышленное к действительной жизни. Но едва ли во все эти пять хлопотливых месяцев успела Софья Николавна высказать так много нового, как в эти пять дней; по случаю же недавнего, сейчас мною рассказанного происшествия, поднявшего, изощрившего, так сказать, душу жениха, все было принято Алексеем Степанычем с особенным сочувствием. Каков вообще был успех этого курса нравственной педагогики — я решить на себя не беру. Трудно судить, до какой степени были справедливы мнения обоих особ, о которых я говорю; но они впоследствии согласно утверждали, ссылаясь на отзыв посторонних людей, что в Алексее Степаныче произошла великая перемена, что он точно переродился. Я охотно готов этому верить, но имею доказательство, что в знании светских приличий успехи Алексея Степаныча были не так велики. Я знаю, что он рассердил свою невесту накануне свадьбы и что ее вспыльчивость произвела сильное и болезненное впечатление на кроткую его душу. Вот как это происходило: у Софьи Николавны сидели две значительные уфимские дамы; вдруг входит лакей с каким-то бумажным свертком, подает Софье Николавне и докладывает, что Алексей Степаныч прислал это с кучером и приказал, «чтобы вы поскорее сделали чепец для Александры Степановны». Не предупрежденная ни одним словом своего жениха, который только за полчаса с нею расстался, Софья Николавна вспыхнула от досады. Значительные дамы, будто бы подумавшие сначала, что этот сверток подарок от жениха, не хотели скрыть своих улыбок, и невеста, не совладев с собою, приказала отнести посылку назад и сказать Алексею Степанычу, «чтобы он обратился к чепечнице и что, верно, по ошибке принесли к ней эту работу». Дело происходило весьма просто: жених, воротясь домой, нашел свою сестру в большом затруднении, потому что мастерица, которая взялась сделать ей для свадьбы парадный чепчик, вдруг захворала и прислала назад весь материал. Алексей Степаныч, видевший своими глазами, как искусно его невеста делала головные уборы, вызвался пособить сестриному горю и приказал Никанорке отнесть к Софье Николавне вышеупомянутый сверток и покорнейше просить ее, чтобы она сделала чепчик для Александры Степановны. Никанорка не пошел сам за недосугом и послал кучера, а кучер вместо покорнейшей просьбы передал приказание. Алексей Степаныч поспешил к невесте для объяснения и взял с собою опять тот же несчастный сверток. Софья Николавна, не простывшая еще от первой вспышки, увидя жениха, входящего с знакомым ей свертком бумаги, вспылила еще больше и наговорила много лишних, горячих и оскорбительных слов. Жених смутился, растерялся, оправдывался очень плохо, но сердечно огорчился. Софья Николавна отослала материал для чепчика к какой-то известной ей женщине и, раскаявшись в своей горячности, старалась ее поправить; но, к удивлению своему, Алексей Степаныч не мог забыть оскорбления, смешанного с каким-то страхом; он сделался очень печален, и напрасно старалась невеста успокоить и развеселить его.
Наступило 10 мая 1788 года, день, назначенный для свадьбы. Жених приехал к невесте поутру, и Софья Николавна, уже встревоженная накануне, к огорчению своему увидела, что вчерашнее грустное выражение не сошло с лица Алексея Степаныча. Она сама в свою очередь огорчилась и даже оскорбилась. Она привыкла думать, что Алексей Степаныч не будет помнить себя от радости в тот день, когда поведет ее к венцу, а он является невеселым и даже грустным! Она сказала это своему жениху и тем смутила его еще больше. Разумеется, он старался уверить ее, что считает себя блаженнейшим из смертных и проч., но надутые и пошлые слова, произносимые и прежде много раз и выслушиваемые с удовольствием, теперь не проникнутые смыслом внутреннего одушевления, неприятно отозвались в слухе невесты. Через несколько времени они расстались с тем, чтобы увидеться уже в церкви, где в шесть часов вечера жених должен был ожидать невесту.
Страшное сомнение возникло в душе Софьи Николавны: будет ли счастлива она замужем? Много темных пророческих мыслей пробежало в ее пылком уме. Она обвиняла себя за горячность, за резкие выражения; сознавалась, что причина была ничтожна, что она должна была предвидеть множество подобных промахов своего жениха и принимать их спокойно. Они уже и случались не один раз, но тут несчастное стечение обстоятельств, присутствие посторонних дам, с которыми она была в неприязненных отношениях, укололо ее самолюбие и раздражило ее природную вспыльчивость. Она чувствовала, что испугала Алексея Степаныча, каялась в своей вине и в то же время сознавалась во глубине своей души, что способна провиниться опять. Тут снова представилась ей вся трудность взятого на себя подвига: перевоспитание, пересоздание уже двадцатисемилетнего человека. Целая жизнь, долгая жизнь с мужем-неровней, которого она при всей любви не может вполне уважать, беспрестанное столкновение совсем различных понятий, противоположных свойств, наконец, частое непонимание друг друга… и сомнение в успехе, сомнение в собственных силах, в спокойной твердости, столько чуждой ее нраву, впервые представилось ей в своей поразительной истине и ужаснуло бедную девушку!.. Но что же делать? Неужели разорвать свадьбу пред самым венцом, поразить своего умирающего отца, привыкшего к успокоительной мысли, что его Сонечка будет счастлива за добрым человеком? Неужели потешить всех своих недоброжелателей, особенно значительных дам? Сделаться баснею, шуткою города и целого края, может быть подвергнуться клеветам? Наконец, убить, в настоящем значении слова убить страстно любящего ее жениха? И все это из одного опасения, что у ней недостанет твердости к выполнению давно обдуманного плана, который начинал уже блистательно осуществляться? «Нет, не бывать тому! Бог поможет мне, Смоленская божия матерь будет моей заступницей и подаст мне силы обуздать мой вспыльчивый нрав…» Так думала и так решила Софья Николавна. Слезы и молитва возвратили ей твердость.
Церковь Успения божией матери находилась очень близко от дома невесты и стояла тогда на пустыре. Задолго до шести часов она окружена была толпою любопытного народа. Высокий крылец зубинского дома, выходивший на улицу, обставился экипажами тех особ, которые были приглашены провожать невесту; остальное общество съезжалось прямо в церковь. Невесту одевали к венцу. Маленький брат, трехлетний Николенька, которого рождение стоило жизни его матери, обувал Софью Николавну по принятому обычаю, разумеется с помощию горничных. В исходе шестого часа невеста была уже готова и, приняв благословение отца, вышла в гостиную. Богатый подвенечный наряд придавал еще более блеску ее красоте. Дорога от дома жениха в церковь лежала мимо окон гостиной, и Софья Николавна видела, как он проехал туда в английской мурзахановской карете на четверке славных доморощенных лошадей; она даже улыбнулась и ласково кивнула головой Алексею Степанычу, который, высунувшись из кареты, глядел в растворенные окна дома. Проехали также сестры жениха, Алакаева и все мужчины, провожавшие его в церковь. Невеста не хотела, чтобы жених дожидался, и хотя ее останавливали, но она настояла, чтобы ехали немедленно. Софья Николавна спокойно и твердо вошла в церковь, ласково и весело подала руку своему жениху, но смутилась, увидев на его лице то же грустное выражение, и все заметили, что жених и невеста были невеселы под венцом. Церковь была ярко освещена и полна народа; архиерейские певчие не щадили своих голосов. Свадьба во всех отношениях была парадна и великолепна. По окончании обряда сестры, весь поезд с обеих сторон и также лучшая уфимская публика сопровождали молодых в дом к Николаю Федорычу. Там немедленно начались и продолжались танцы до богатого, но раннего ужина. Все гости, имевшие право входить к Николаю Федорычу в кабинет, перебывали у него и поздравили со вступлением в брак его дочери. На другой и следующие дни происходило все то, что обыкновенно при таких случаях бывает, то есть обед, бал, визиты, опять обед и опять бал: одним словом, все точно так, как водится и теперь, даже в столицах.
Грустная тень давно слетела с лица молодых. Они были совершенно счастливы. Добрые люди не могли смотреть на них без удовольствия, и часто повторялись слова: «Какая прекрасная пара!» Через неделю молодые собирались ехать в Багрово, куда сестры Алексея Степаныча уехали через три дня после свадьбы. Софья Николавна написала с ними ласковое письмо к старикам.
Сестры Алексея Степаныча, после неожиданной вспышки братца, держали себя в последнее время осторожно: не позволяли при нем себе никаких намеков, ужимок и улыбок, а перед Софьей Николавной были даже искательны; но, разумеется, этим нисколько ее не обманули, зато братец поверил от души их искреннему расположению к невесте. На свадьбе и на праздниках после свадьбы, разумеется, они играли жалкие роли, а потому поспешили уехать. Воротясь домой, то есть к Степану Михайлычу, они решились действовать осторожно и не показывать перед стариком своей враждебности к Софье Николавне, но зато Арине Васильевне и двум своим сестрам расписали они такими красками свадьбу и все там происходившее, что поселили в них сильное предубеждение и неблагорасположение к невестке. Они не забыли рассказать об исступленном гневе и угрозах Алексея Степаныча за их выходки против Софьи Николавны, и все уговорились держать себя с нею при Степане Михайлыче ласково и не говорить ему прямо ничего дурного насчет невестки, но в то же время не пропускать благоприятных случаев, незаметно для старика восстановлять его против ненавистной им Софьи Николавны. Поступать надобно было очень искусно. Не доверяя этого дела другим, взяли его на себя Елизавета и Александра Степановны. Дедушка подробно расспрашивал о свадьбе, о том, кого они видели, о состоянии здоровья старика Зубина и вообще обо всем, там происходившем. Они все хвалили; но в похвалах этих слышен был запах и вкус яда — и не удалось им провести Степана Михайлыча. Он обратился так, ради шутки, а может быть, и для соображения, к Ивану Петровичу Каратаеву и спросил его: «Ну, что, брат Иван, что ты мне скажешь о нашей невестушке? Их дело бабье, а ты мужчина и лучше можешь судить об этом». Иван Петрович, несмотря на миганье своей супруги, отвечал с увлечением: «Да вот что, батюшка, я вам скажу: что такой кралечки (без этого живописного слова он не умел похвалить красоту), какую подцепил брат Алексей, другой не отыщешь в целом свете. Что взглянет, то рублем подарит. А уж что за умница, так уж и говорить нечего. Одно доложу вам, батюшка: горда; пошутить нельзя; только вздумаешь подпустить турусы на колесах — так взглянет, что язык прикусишь». — «Вижу, брат, что она тебе врать не позволяла, — сказал старик с веселым лицом, рассмеялся и прибавил: — ну это еще не большая беда». Степан Михайлыч по всем рассказам, по письмам Софьи Николавны и по ответу Ивана Петровича Каратаева составил в своем уме весьма благоприятное мнение об Софье Николавне.
Известие о скором приезде молодых произвело тревогу и суету в тихом, слишком простом доме деревенских помещиков. Надобно было почиститься, приодеться, принарядиться. Невестка, городская модница, привыкла жить по-барски, даром что бедна: осудит, осмеет — так думали и говорили все, кроме старика. Особых и свободных комнат в доме не было, надобно было вывести Танюшу из ее горницы, выходившей углом в сад на прозрачный Бугуруслан с его зелеными кустами и голосистыми соловьями. Танюше очень не хотелось перейти в предбанник, но другого места не было: все сестры жили в доме, а Каратаев и Ерлыкин спали на сеннике. За день до приезда молодых привезли кровать, штофный занавес, гардины; приехал и человек, умеющий все это уставить и приладить. Танюшину комнату отделали в несколько часов. Степан Михайлович посмотрел, полюбовался, а женщины кусали от зависти губы. Наконец, прискакал передовой с известием, что молодые остановились в мордовской деревне Нойкино, в восьми верстах от Багрова, где они переоденутся, и часа через два приедут. Все пришло в движение. Хотя старик еще с утра послал за священником, но как он еще не приезжал, то послали гонца верхом поторопить его. Между тем в Нойкине происходила также забавная суматоха. Молодые ехали на переменных по проселочной дороге, и потому надобно было посылать передового для заготовления лошадей от деревни до деревни. В Нойкине все знали Алексея Степаныча еще дитятей, а Степана Михайлыча считали отцом и благодетелем. Вся деревня от мала до велика, душ шестьсот мужеска и женска пола, сбежалась к той избе, где должны были остановиться молодые. Софья Николавна едва ли видала вблизи мордву, и потому одежда мордовок и необыкновенно рослых и здоровых девок, их вышитые красною шерстью белые рубахи, их черные шерстяные пояса, или хвосты, грудь и спина и головные уборы, обвешанные серебряными деньгами и колокольчиками, очень ее заняли. Но когда она услыхала простые, грубые, но искренние восклицания всей толпы на изломанном несколько русском языке, то радостные приветствия, то похвалы и добрые пожелания, — она и смеялась и даже плакала. «Ай, ай, Алеша, какой жена тебе бог давал. Ай, ай, хороша, — говорили старики и старухи, — а отца наша Степан Михайлыч то-то рада будет! Ну дай вам бог, дай бог!» Когда же молодая, переодевшись в пышное городское платье, вышла садиться в карету, то в народе поднялся такой гул восторга и радостных похвал, что даже лошади перепугались. Молодые, подарив десять рублей на вино всему миру, отправились в дорогу.
Позади городского гумна, стоящего на высокой горе, показался высокий экипаж. «Едут, едут!» — раздалось по всему дому, и вся дворня, а вскоре и все крестьяне сбежались на широкий господский двор, а молодежь и ребятишки побежали навстречу. Старики Багровы со всем семейством вышли на крыльцо: Арина Васильевна в шелковом шушуне и юбке, в шелковом тарнитуровом с золотыми травочками платке на голове, а Степан Михайлыч в каком-то стародавнем сюртуке, выбритый и с платком на шее, стояли на верхней ступеньке крыльца; один держал образ Знамения божьей матери, а другая — каравай хлеба с серебряной солонкой. Золовки и два зятя стояли около них. Экипаж подкатил к крыльцу, молодые вышли, упали старикам в ноги, приняли их благословение и расцеловались с ними и со всеми их окружающими; едва кончила молодая эту церемонию и обратилась опять к свекру, как он схватил ее за руку, поглядел ей пристально в глаза, из которых катились слезы, сам заплакал, крепко обнял, поцеловал и сказал: «Слава богу! Пойдем же благодарить его». Он взял невестку за руку, провел в залу сквозь тесную толпу, постановил возле себя — и священник, ожидавший их в полном облачении, возгласил: «Благословен бог наш всегда, ныне и присно и во веки веков».
ЧЕТВЕРТЫЙ ОТРЫВОК ИЗ «СЕМЕЙНОЙ ХРОНИКИ» МОЛОДЫЕ В БАГРОВЕ
После молебна, за которым горячо молились свекор и невестка, все приложились ко кресту; священник окропил молодых и всех присутствующих святой водой; начались вновь целованья и обычные в таких случаях речи: «Просим нас полюбить, принять в свое родственное расположение» и проч. Разумеется, это говорили те, с которыми молодая еще не была знакома. Степан Михайлыч молчал; он только смотрел с любовью в заплаканные глаза и на пылающие щеки Софьи Николавны, внимательно слушал каждое ее слово и замечал каждое движение. Наконец, взял невестку за руку, повел в гостиную, сел на канапе и посадил возле себя молодых. Арина Васильевна поместилась на другом конце канапе, рядом с сыном; кругом сели сестры с мужьями. Надобно сказать, что Степан Михайлыч никогда не сидел в гостиной и входил в нее только при самых необыкновенных случаях и то на самое короткое время; в целом доме он знал свою особую горницу и крылечко, весьма незатейливо сложенное из деревянных брусьев и досок; он так привык к ним, что в гостиной был как-то не дома и ему становилось неловко. Но на этот раз он преодолел себя и повел ласковые речи с Софьей Николавной: прежде всего расспросил о здоровье любезного свата Николая Федоровича; искренне пожалел, узнав, что он слабеет час от часу, и прибавил, что «не станет долго задерживать в Багрове дорогих своих гостей». Нечего и говорить, что молодая не ходила за словом в карман и была не только вежлива, но предупредительна, даже искательна. Арина Васильевна, женщина от природы добродушная, подлаживалась к своему супругу как умела и насколько хватало у ней смелости не слушаться своих дочерей. Аксинья Степановна искренне полюбила невестку с первого взгляда и была с ней ласкова, но прочие молчали, и нетрудно было угадать по их взглядам, что происходило у них в душе. Через полчаса молодая пошептала что-то на ухо своему мужу, который поспешно встал и вышел в приготовленную для них спальню, находившуюся возле гостиной. Степан Михайлыч посмотрел с удивлением, но Софья Николавна заняла его таким одушевленным разговором, что он развлекся и очень удивился, когда через несколько времени растворились обе половинки дверей в спальню, и Алексей Степаныч вошел, держа в руках огромный серебряный поднос, нагруженный свадебными подарками, под тяжестью которых поднос даже гнулся. Софья Николавна встала с живостью, взяла с подноса и поднесла свекру кусок аглицкого тончайшего сукна и камзол из серебряного глазета, весь богато расшитый по карте[20] золотою канителью, битью и блестками, прибавя, что все сработано ее собственными руками: это была совершенная правда. Степан Михайлыч, хотя косился на стоящего с подносом сына, но принял подарки милостиво и поцеловал невестку. Арине Васильевне был поднесен шелковый головной платок, сплошь затканный золотом, и цельная штука превосходной шелковой китайской материи, считавшейся и тогда редкостью; золовкам — также по куску шелковой дорогой материи, а зятьям — по куску аглицкого же сукна: разумеется, подарки золовкам и зятьям были несколько низшего достоинства. Все вставали, целовались, целовали ручки, кланялись и благодарили. Двери из залы трещали от напора любопытных зрителей и зрительниц, а из дверей спальни робко выглядывали одни масленые головы деревенских горничных, потому что избная дворня не смела вломиться в богато убранную комнату молодых. В зале послышался шум: лакеи не могли выгнать посетителей, которые мешали им накрывать стол. Степан Михайлыч догадался, в чем дело, встал, выглянул в дверь и одним взглядом и тихо произнесенным словом «вон!» очистил залу.
Обед происходил обыкновенным порядком; молодые сидели рядом между свекром и свекровью; блюд было множество, одно другого жирнее, одно другого тяжеле; повар Степан не пожалел корицы, гвоздики, перцу и всего более масла. Свекор ласково потчевал молодую, и молодая ела, творя молитву, чтоб не умереть на другой день. Разговоров было мало, сколько оттого, что у всех были рты на барщине, как говаривал Степан Михайлыч, столько же и оттого, что говорить не умели, да и все смущались, каждый по-своему; к тому же Ерлыкин, в трезвом состоянии, когда он пил только одну воду, был крайне скуп на слова, за что и считался отменно умным человеком; Каратаев же без спроса не смел разинуть рта при Степане Михайлыче и ограничивался только повторением последних слов, как, например: «Сенокос был бы хорош, если б не захватило ненастье». — «Если б не захватило ненастье», — повторял Каратаев. «Рожь сильно цвела, да неожиданно хватил мороз». — «Неожиданно хватил мороз», — подхватывал Каратаев и т. д. Такие подхватыванья случались иногда весьма невпопад. — Старики не догадались запастись в Уфе кипучим вином и здоровье новобрачных пили трехлетней, на три ягоды налитой, клубниковкой, густой, как масло, разливающей вокруг себя чудный запах полевой клубники. Ванька Мазан, обутый в сапоги, вонявшие дегтем, в сюртуке, сидевшем на нем, как рогожный куль на медведе, подавал всем один бокал с белыми узорами и синеватой струйкой, которая извивалась внутри стеклянной ножки. Когда пришлось молодым благодарить за поздравление, Софье Николавне, конечно, было неприятно пить из бокала, только что вышедшего из жирных губ Каратаева; но она не поморщилась и хотела даже выпить целый бокал. Свекор остановил ее и сказал: «Не кушай всего, милая невестынька, головка заболит: наливка вкусна и сладима, но крепка; ты к этому непривычна». Софья Николавна уверяла, что такое чудесное питье не может быть вредно, и просила позволения еще прихлебнуть немножко, и свекор из своих рук дал ей выпить один глоток.
Для всей семьи было ясно, что Степан Михайлыч доволен невесткой и что все ее речи ему нравились. Видела это и сама Софья Николавна, хотя и заметила с удивлением, что два раза свекор на минуту был чем-то недоволен. В продолжение стола не один раз она встречала его выразительный взгляд, приветливо на нее устремленный. Наконец, кончился долгий и утомительный, впрочем для одной Софьи Николавны, деревенский праздничный обед, который старалась она оживить, по возможности, веселыми разговорами. Встали из-за стола; сын и дочери поцеловали у отца руку, что хотела было сделать и Софья Николавна, но старик не дал руки, обнял и расцеловал свою невестку. Это недаванье руки случилось уже в другой раз, и, следуя пылкой своей природе, Софья Николавна с живостью и нежностью сказала: «Отчего же, батюшка, вы не даете мне руки? Я также ваша дочь и также с любовью и почтением желаю поцеловать вашу руку». Пристально и как-то глубоко посмотрел старик на свою невестку и ласково отвечал: «Любить-то я тебя люблю, но только родным детям надо целовать руку у отца. Ведь я не поп».
Опять вошли в гостиную и расселись по-прежнему. Аксютка принесла кофь,[21] которого старик не пил, который подавался в самых торжественных случаях и до которого вся семья была очень лакома. После кофе Степан Михайлыч встал и, сказав: «Теперь надо хорошенько уснуть, да и молодым с дороги тоже бы отдохнуть не мешало», пошел в свою горницу, куда проводили его сын и невестка. «Вот мой угол, невестынька, — весело сказал старик, — садись, так будешь гостья. Я только для первого разу посидел со всеми вами в гостиной, да еще в этом хомуте (он указал на галстук). Алеша это знает; теперь же, если кто хочет со мной сидеть, так милости прошу ко мне». Он поцеловал невестку, дал поцеловать руку сыну и отпустил их, а сам разделся и лег успокоиться от необыкновенных своих телесных подвигов и душевного движенья. Крепкий сон не замедлил овладеть им, и скоро раздался здоровый храп, от которого мерно шевелился полог, опущенный Мазаном на старого барина.
Примеру хозяина последовали и другие. Зятья, по лицам которых нетрудно было догадаться, что они хорошо покушали, а Каратаев даже и выпил, отправились спать на сенник в конюшню. Дочери собрались в горницу к матери, которая спала особо от старика; там начались такие шептанья и шушуканья, суды и пересуды, что никто из них в этот день и спать не ложился. Досталось на орехи бедной Софье Николавне! Расцыганили ее золовушки! Очевидная благосклонность свекра к невестке выводила из себя озлобленную семью. Нашлась, однако, одна добрая душа, вдова Аксинья Степановна, по второму мужу Нагаткина, которая заступилась за Софью Николавну; но на нее так прогневались, что выгнали вон из комнаты и окончательно исключили из семейного совета, и тут же получила она вдобавок к прежнему прозвищу «простоты сердечной» новое оскорбительное прозвище, которое и сохранилось при ней до глубокой старости; но добрая душа осталась, однако, навсегда благорасположенною к невестке и гонимою за то в семье.
Молодые отправились в свою парадно убранную спальню. Софья Николавна с помощью горничной своей девушки, черномазой и бойкой Параши, разобрала дорожные сундуки и баулы, которых было необыкновенно много в английской мурзахановской карете. Параша знала уже наперечет всю дворню, всех старух и стариков в крестьянах, которых особенно следовало подарить, и Софья Николавна, привезшая с собой богатый запас разных мелких вещей, всем назначила подарки, располагая их по летам, заслугам и почету, которым пользовались эти люди у своих господ. Молодые супруги не чувствовали усталости и надобности отдохнуть. Софья Николавна переоделась в другое платье, менее пышное, и, оставя Парашу окончательно раскладываться и устраиваться в спальне, пошла, несмотря на жар, гулять с молодым своим мужем, которому очень хотелось показать ей свои любимые места: березовую рощу, остров, обсаженный только что распустившимися липами, и прозрачные воды огибающей его реки. И как хорошо было там в эту пору, когда свежесть весны соединяется с летнею теплотою! Алексей Степаныч, страстно любящий, еще не привыкший к счастию быть мужем обожаемой женщины, был как-то неприятно изумлен, что Софья Николавна не восхитилась ни рощей, ни островом, даже мало обратила на них внимания и, усевшись в тени на берегу быстро текущей реки, поспешила заговорить с мужем об его семействе, о том, как их встретили, как полюбила она свекра, как с первого взгляда заметила, что она ему понравилась, что, может быть, и матушке свекрови также бы она понравилась, но что Арина Васильевна как будто не смела приласкать ее, что всех добрее кажется Аксинья Степановна, но что и она чего-то опасается… «Я все вижу и понимаю, — прибавила она, — вижу я, откуда сыр-бор горит. Я не пропустила ни одного слова, ни одного взгляда, вижу, чего я должна ожидать. Бог судья твоим сестрицам, Елизавете и Александре Степановне…» Но рассеянно слушал Алексей Степаныч: освежительная тень, зелень наклонившихся ветвей над рекою, тихий ропот бегущей воды, рыба, мелькавшая в ней, наконец обожаемая Софья Николавна, его жена, сидящая подле и обнявшая его одной рукой… Боже мой, да разве тут можно что-нибудь замечать, кого-нибудь обвинять, чем-нибудь быть недовольным? Да тут нельзя слышать и понять, что услышишь, — и Алексей Степаныч решительно не слыхал и не понял, что говорила его молодая жена; ему было так хорошо, так сладко, что одно только забвение всего окружающего и молчание могло служить полным выражением его упоительного блаженства. Софья Николавна продолжала говорить, говорила много, с жаром, с чувством и, наконец, заметила, что муж ее не слушает, чуть ли не дремлет. Она быстро встала, и тут последовало одно из тех явлений, тех столкновений взаимного непонимания друг друга, которое хотя и проглядывало уже не один раз, но так ярко еще никогда не обозначалось. Все было высказано вновь, и в потоке горячих речей вырвались слезы и упреки в невнимании и равнодушии. Изумленный, даже встревоженный Алексей Степаныч, как будто упавший с неба, как будто разбуженный от сладкого сна, думая успокоить жену, уверял с совершенною искренностью, что все прекрасно и все бесподобно, что это все ее одно воображение, что ее все любят и что разве может кто-нибудь ее не любить?.. Несмотря на простоту и ясность чистосердечного убеждения, на безграничную любовь, которая выражалась в глазах, в лице и в голосе Алексея Степаныча, Софья Николавна, при всем ее уме и живой чувствительности, не поняла своего мужа и в его словах нашла новое доказательство того же равнодушия, того же невнимания. Объяснения и толкования продолжались с возрастающим жаром, и не знаю до чего бы дошли, если б Алексей Степаныч, издали увидя бегущую к ним, по высоким мосткам, горничную девушку сестры Татьяны Степановны и догадавшись, что батюшка проснулся и что их ищут, не сообщил поспешно своих опасений Софье Николавне, которая в одну минуту очнулась, овладела собой и, схватив мужа за руку, поспешила с ним домой; но невесело шел за ней Алексей Степаныч.
В Багрове заранее были сделаны распоряжения, чтобы в день приезда молодых угостить дворню, всех своих и даже соседних крестьян, если кто захочет прийти или приехать. Заранее сварили несколько печей корчажного пива, насидели десяток-другой ведер крепкого домашнего вина и приготовили всякой нужной посудины. Ложась отдохнуть после обеда, Степан Михайлыч спросил: «А что, нойкинских и кивацких много?» — и Мазан отвечал, что все здесь: и старики, и старухи, и ребятишки. Степан Михайлыч улыбнулся и сказал: «Ну, так мы их угостим. Скажи же ключнице Федосье и ключнику Петру, чтоб все было готово». Степан Михайлыч спал недолго, но проснулся еще веселее, чем лег. Первое слово его было: «Все ли готово?» Отвечали, что давно готово. Старик поспешно оделся, уж не в парадный сюртук, а в свой любимый халат из тонкой армячины, и вышел на крылечко, чтоб лично распорядиться угощением. На широком зеленом дворе, не отгороженном от улицы, были утверждены на подставках доски, на которых стояли лагуны с пивом, бочонки с вином и лежали грудами для закуски разрезанные надвое пироги. Пирогами назывались и теперь называются в Оренбургской губернии небольшие продолговатые хлебные караваи из пшеничной муки. Кучка дворовых стояла особо и ближе всех; подальше находилась большая толпа крестьян и крестьянок, а еще подалее — уже огромная толпа мордвы обоего пола. Степан Михайлыч окинул все беглым взглядом, увидел, что все в порядке, и воротился на свое крылечко. Только что хотел он спросить у своей семьи, которая вся уже собралась, а где же молодые, как явилась Софья Николавна с Алексеем Степанычем. Свекор встретил невестку еще ласковее и обошелся с нею уже так просто, как с дочерью. «Ну, Алеша, — сказал он, — бери жену за руку и веди ее поздороваться с дворовыми и крестьянами: ведь все хотят видеть и поцеловать ручку у своей молодой барыни… Пойдемте!» Он пошел вперед; за ним следовал Алексей Степаныч с женою, рука в руку; в некотором отдалении шла Арина Васильевна с дочерьми и зятьями. С трудом удерживали свою досаду золовки (исключая Аксиньи Степановны). Возрастающие ласки Степана Михайлыча, торжественное вступление ненавистной Софьи Николавны в звание молодой хозяйки, ее красота и щегольский наряд, ловкость, бойкость ее языка, почтительная и увлекательная ласковость к свекру — все это раздражало, язвило их завистливые души. Они вдруг почувствовали свое падение в доме отца. «Об нас уж что говорить, мы уж отрезанные ломти, — шептала Александра Степановна, — а вот на Танюшу не могу смотреть без слез. Что она теперь в доме? Холопка Софьи Николавны; да и вас, матушка, теперь никто почитать не станет. Все будут смотреть из ее рук…» Голос ее дрожал, и слезы навертывались на круглых вертящихся глазах. Между тем, подошед к дворовым, Степан Михайлыч подозвал и своих крестьян, говоря: «Что же вы не вместе стоите? Разве вы не одной матки детки? Ну вот вам, — продолжал он, — молодая госпожа, а молодого барина вы давно знаете; служите им, когда придет время, так же верно и усердно, как нам с Ариной Васильевной, а они будут вас за то любить да жаловать». Все поклонились в ноги. Молодая была изумлена, не знала, куда деваться и что начать: она не привыкла к подобным явлениям. Видя ее смущение, свекор сказал: «Ничего! поклониться — голова не отвалится. Ну, целуйте же у молодой барыни ручку, да и погуляйте за ее здоровье». Все встали и начали подходить к Софье Николавне. Она оглянулась: ловкая Параша и приданый лакей Федор стояли в стороне с подарками. По знаку госпожи своей они проворно подали ей целый узел и ящик с разными вещами. Еще не привыкшая протягивать ручку для поцелуев и в то же время стоять неподвижно, как статуя, — Софья Николавна принялась было сама целоваться со всеми, что повторялось при получении из рук ее подарка; но Степан Михайлыч вмешался в дело: он смекнул, что эдак придется ему не пить чаю до ужина. «Где же тебе, невестынька, перецеловать всех, да еще по два раза? — сказал он. — Их много; вот с стариками, с старухами — другое дело; а с тех будет и ручки». Несмотря, однако, на облегчение и ускорение этой довольно скучной и тягостной церемонии, она продолжалась очень долго. Степан Михайлыч, по живости своей, сам иногда задерживал ход дела, называя некоторых дворовых и крестьян по имени и сопровождая эти имена одобрительными отзывами. Многие старики или старухи говорили простые слова усердия и любви, иные даже плакали, и все вообще смотрели на молодую радостно и приветно. Софья Николавна была глубоко потрясена. «За что эти добрые люди готовы полюбить меня, а некоторые уже любят? — думала она. — Чем я заслужила их любовь?..» Наконец, когда все, от старого до малого, перецеловали руку у молодой барыни и некоторые были перецелованы ею, когда все получили щедрые подарки, Степан Михайлыч взял за руку Софью Николавну и подошел с ней к толпе мордвы. «Здорово, соседи! — сказал он весело и приветливо. — Спасибо, что приехали. Вот вам молодая соседка. Полюбите ее. Милости просим и вас выпить и закусить чем бог послал». Радостные и шумные восклицания понеслись из толпы: «Ай, спасибо, спасибо, Степан Михайлыч! Слава бог! какой он жена-то давал твой Лексей! Ай, ай, хорош! За то, Степан Михайлыч, что ты больно добрый человек!»
Началась попойка. Степан Михайлыч с молодыми и со всей своей семьей поспешил к любимому своему крылечку. Он чувствовал, что давно прошла пора для вечернего чая, который неизменно подавался в шесть часов, а теперь было давно семь. Уже длинная тень от дома покосилась на юг и легла своими краями на кладовую и конюшню; давно на большом столе, у самого крыльца, кипел самовар и дожидалась Аксютка. Все расселись вокруг стола; но Степан Михайлыч не расстался с своим крылечком и сел на любимом своем месте, подостлав под себя неизменный войлочный потник. Вечерний чай разливала Танюша, и Аксютка только ей прислуживала. Софья Николавна попросила позволения у свекра сесть возле него на крылечке, на что старик с видимым удовольствием согласился. Невестка проворно выскочила из-за стола и с недопитой своей чашкой чая в одну минуту очутилась уже подле свекра. Он приласкал ее и, заботясь, чтоб она не вымарала платья, приказал и ей постлать войлок. У них пошел живой и веселый разговор; а за чайным столом злобно переглядывалась и даже перешептывалась семья, несмотря на присутствие молодого мужа; он не мог этого не заметить, и ему, и без того невеселому, становилось как-то и грустно и неловко. Вдруг раздался громкий голос старика: «Ступай к нам, Алеша, у нас веселее». Алеша встрепенулся, пересел к отцу и как будто стал повеселее. После чая, оставшись на тех же местах, продолжали разговаривать до ужина, который также был подан позже обыкновенного, то есть после девяти часов. Все это время звучные песни и веселый смех подгулявшего народа далеко оглашали постепенно темневшую окрестность. После ужина сейчас разошлись по своим местам, или по своим норам, как говорил Степан Михайлыч. Прощаясь, невестка попросила свекра благословить и перекрестить ее на сон грядущий, и свекор охотно перекрестил ее и поцеловал с отеческим чувством.
Свекровь и старшая золовка Нагаткина сопровождали молодых в спальню и несколько минут посидели у них. Алексей Степаныч в свою очередь пошел проводить мать и сестру. Софья Николавна поспешно отпустила свою горничную и села у одного из растворенных окон, обращенных к реке, густо обросшей вербой и тальником. Ночь была великолепна; заря как будто не гасла, медленно готовясь перейти из вечерней в утреннюю. Свежесть от воды и запах молодых древесных листьев, вместе с раскатами и свистами соловьев, неслись в растворенные окна. Но о другом думала Софья Николавна. Как умная женщина, знавшая наперед, что ожидало ее в семействе мужа, она, конечно, заранее составила план своих действий. Не выезжая никогда из города, она не имела никакого понятия о жизни деревенских небогатых помещиков, рассеянных по разным захолустьям обширного края. Она, конечно, не представляла себе ничего приятного, но действительность была гораздо хуже. Все ей не нравилось, все было противно: и дом, и сад, и роща, и остров. Она привыкла любоваться великолепными видами с нагорного берега реки Белой, в окрестностях Уфы, а потому деревушка в долине, с бревенчатым, потемневшим от времени и ненастья домом, с прудом, окруженным болотами, и с вечным стуком толчеи, показались ей даже отвратительными. Люди также не могли ей понравиться, начиная с семьи до крестьянских ребятишек, кроме Степана Михайлыча. Если б не было его, она пришла бы в отчаянье. Она составила себе о нем предварительно выгодное понятие; грубоватая наружность свекра с первого взгляда испугала ее, но скоро она прочла в его разумных глазах и добродушной улыбке, услыхала в голосе, что у этого старика много чувства, что он сердечно расположен к ней, что он готов полюбить, что он полюбит ее. Зная и прежде, что у нее вся надежда на свекра, она тогда же приняла твердое намерение непременно снискать его любовь; но теперь она сама его полюбила, и расчет ума соединился с сердечным влечением. В этом отношении Софья Николавна была довольна собой; она сама видела, что шла быстро к цели, и смущало ее только то, что она в горячности оскорбила своего доброго мужа; она нетерпеливо ждала его, но он как нарочно не возвращался. Софья Николавна давно бы побежала отыскать его, если б знала, где найти… Так ей хотелось броситься к нему на шею, заплакать, сказать «прости меня» и потоком горячих ласк и слов уничтожить в душе его последнюю тень неудовольствия… Но Алексей Степаныч не возвращался. Благодатные мгновения раскаянья, восторженной любви, желанья исправить свою вину — проходили даром. Порыв не может продолжаться долго, и через несколько минут Софье Николавне стало странно, а потом и досадно, что так долго не возвращается ее муж. Наконец, он пришел, несколько расстроенный, смущенный, и, вместо того, чтоб броситься к нему на шею и сказать «прости меня», Софья Николавна взволнованным и несколько раздраженным голосом спросила Алексея Степаныча, едва переступившего порог: «Помилуй, где ты был? отчего ты бросил меня одну? я измучилась, дожидаясь тебя битых два часа». — «Я посидел у матушки с сестрами каких-нибудь четверть часа», — отвечал тихо и печально Алексей Степаныч. «И они успели тебе нажаловаться, выдумали, наклеветали на меня, и ты им поверил. Отчего ты так огорчен, так печален?» На лице Софьи Николавны выразилось сильное волнение, и прекрасные глаза наполнились слезами. Молодой муж встревожился и даже испугался (слезы начинали пугать его). «Сонечка, — сказал он, — успокойся; никто на тебя не жаловался, да и за что? ты ни перед кем не виновата». Алексей Степаныч сказал не совсем правду. Открыто никто не жаловался, прямо никто не обвинял; но обиняками и намеками дали ему почувствовать, что жена его бессовестно ластится к одному свекру для того, чтобы потом наплевать на всю остальную семью, что хитрости ее понимают и поймет со временем и сам Алексей Степаныч, когда очутится ее холопом. Алексей Степаныч не поверил таким намекам; но грустное состояние, в котором он находился после разговоров на острове, как-то усилилось и легло свинцом на его доброе сердце. Он сказал только два слова Арине Васильевне: «Напрасно, матушка!» — и поспешно ушел; но не вдруг воротился в спальню, а несколько времени походил один по зале, уже пустой, темной, посмотрел в отворенные семь окон на спящую во мраке грачовую рощу, на темневшую вдали урему, поприще его детских забав и охот, вслушался в шум мельницы, в соловьиные свисты, в крики ночных птиц… Легче стало у него на сердце, и пошел он в спальню, никак не воображая встречи, которая его ожидала. Софья Николавна скоро одумалась, вновь раскаянье заговорило в ней, хотя уже не с прежнею силой; она переменила тон, с искренним чувством любви и сожаления она обратилась к мужу, ласкала его, просила прощенья, с неподдельным жаром говорила о том, как она счастлива, видя любовь к себе в батюшке Степане Михайлыче, умоляла быть с ней совершенно откровенным, красноречиво доказала необходимость откровенности — и мягкое сердце мужа разнежилось, успокоилось, и высказал он ей все, чего решился было ни под каким видом не сказывать, не желая ссорить жену с семьей. Успокоившись, он лег и сейчас заснул; но Софья Николавна долго не спала и думала свою крепкую думу. Наконец, вспомнив, что ей надо рано встать, что она имела намеренье прийти к своему свекру на его крылечко вместе с восходом солнышка, задолго до прихода семьи, чтобы утешить старика и высказаться на просторе, — она постаралась заснуть, и хотя не скоро, хотя с большим усилием, но заснула.
С первыми лучами солнца проснулась Софья Николавна. Немного спала она, но встала бодрою и живою. Проворно оделась, поцеловала мужа, сказала ему, что идет к батюшке, что он может еще уснуть час-другой, и поспешила к свекру. Степан Михайлыч проспал несколько долее обыкновенного и только что умылся и вышел на крылечко. Утро, праздничное, великолепное майское утро, со всею прелестью полной весны, с ее свежестью и роскошью тепла, с хором радостных голосов всей живущей твари, с утренними, длинными тенями, где таились еще и прохлада и влажность, убегающие от солнечных торжествующих лучей, обхватило Софью Николавну и подействовало на нее живительно, хотя она не привыкла сочувствовать красотам деревенской природы. Появление невестки удивило свекра и обрадовало. Ее свежее лицо, блестящие глаза, убор волос и щегольское утреннее платье не показывали, чтобы невестку разбудили, чтобы она вскочила со сна и, не выспавшись, не прибравшись, неряхой прибежала к своему свекру. Степан Михайлыч любил живых, бодрых и умных людей; все это находил он в Софье Николавне, и все это очень ему нравилось. «Что это ты так рано вскочила? — весело сказал он, обнимая невестку. — Ведь ты не выспалась! Ведь ты не привыкла рано вставать! Ведь головка будет болеть!» — «Нет, батюшка, — отвечала Софья Николавна, обнимая старика с искренней нежностью. — Я привыкла рано вставать; с самого детства у меня было много дела и много забот. Целая семья и больной отец были у меня на руках. Последнее время я избаловалась, стала позднее вставать. Но сегодня я проснулась рано; Алексей мне сказал (старик поморщился), что вы уже давно встали, и я пришла к вам в надежде, что вы меня не прогоните и позволите мне напоить вас чаем». В этих обыкновенных словах было так много внутреннего чувства, так они были сказаны от души, что старик был растроган, поцеловал Софью Николавну в лоб и сказал: «Ну, если так, спасибо, милая невестынька. Мы поговорим, поболтаем с тобой на просторе, и ты напоишь меня чаем». Аксютка ставила уже самовар на стол. Степан Михайлыч не приказал никого будить, и Софья Николавна начала распоряжаться чаем. Все она делала проворно, ловко, как будто целый век ничего другого не делала. С удовольствием смотрел старик на эту прекрасную молодую женщину, не похожую на все его окружающее, у которой дело так и кипело в руках. Чай был сделан крепкий, точно так, как он любил, то есть: чайник, накрытый салфеткой, был поставлен на самовар, чашка налита полнехонько наравне с краями, и Софья Николавна подала ее, не пролив ни одной капли на блюдечко; ароматный напиток был так горяч, что жег губы. «Да ты колдунья, — с приятным изумлением сказал старик, приняв чашку и отведав чай, — ты знаешь все мои причуды; ну, если ты будешь так угождать мужу, то хорошо ему будет жить». Старик обыкновенно пил чай один, и, когда сам накушивался, тогда начинала пить семья; но тут, приняв вторую чашку, приказал невестке, чтоб она налила чашечку себе, села подле него и вместе с ним кушала чай. «Никогда не пивал больше двух, а теперь выпью третью, — сказал он самым ласковым голосом, — как-то чай кажется лучше». В самом деле, Софья Николавна все делала с таким удовольствием, что оно просвечивалось на ее выразительном лице и не могло не сообщиться восприимчивой природе Степана Михайлыча, и стало у него необыкновенно весело на душе. Он заставил выпить невестку другую чашку и даже съесть домашний крендель, печеньем которых долго славились багровские печеи. Чай убрали; начались разговоры, самые живые, одушевленные, искренние и дружелюбные. Софья Николавна дала полную волю своим пылким чувствам, своему увлекательному красноречию — и окончательно понравилась старику. Посреди такой приятной беседы вдруг он спросил: «А что муж? спит?» — «Алексей просыпался, когда я уходила; но я велела ему еще соснуть», — с живостью отвечала Софья Николавна. Старик сильно наморщился и на минуту замолчал. «Послушай, милая моя невестушка, — сказал он подумавши, без гнева, но с важностью, — ты такая умница, что я скажу тебе правду без обиняков. Я не люблю ничего держать на душе. Послушаешь — ладно, не послушаешь — как хочешь: ты мне не родная дочь. Мне не по нутру, что ты называешь мужа Алексей; у него есть отчество. Ты ему не мать, не отец. Ведь ты и слугу стала бы звать Алексей. Жена должна обходиться с мужем с уваженьем; тогда и другие станут его уважать. Не понравилось мне тоже, что ты вчера за подарками его посылала и что он стоял с подносом, как лакей. Вот и сейчас ты сказала, что велела ему соснуть. Повелевать жене не приходится, а то будет худо. Может, это у вас так в городе ведется; но по-нашему, по-старинному, по-деревенскому, — все это никуда не годится». С почтеньем слушала Софья Николавна. «Благодарю вас, батюшка, — сказала она так искренне, с таким внутренним чувством, что каждое слово доходило до сердца старика, — благодарю вас, что вы не потаили от меня того, что вам было неприятно. Я не только с радостью исполню вашу волю, я и сама понимаю теперь, что это точно нехорошо. Я еще молода, батюшка. Меня некому было поучить: отец мой шестой год лежит в постели. Я переняла такое обращенье с мужем у других. Вперед этого никогда не будет не только при вас, но и без вас. Батюшка, — продолжала она, и крупные слезы закапали из ее глаз, — я полюбила вас, как родного отца; поступайте со мной всегда, как с родной дочерью; остановите, побраните меня, если я провинюсь в чем-нибудь, и простите, но не оставляйте на сердце неудовольствия. По молодости, по горячности моей я могу провиниться на каждом шагу; вспомните, что я в чужой семье, что я никого не знаю и что никто не знает меня; не оставьте меня…» Она бросилась на шею к свекру, у которого также глаза были полны слез, она обняла его точно, как родная дочь, и целовала его грудь, даже руки. Свекор не отнял их и сказал: «Ну, так ладно!» У Степана Михайлыча была чуткая природа, мы уже знаем это; он безошибочно угадывал зло и безошибочно привлекался к добру. С первого взгляда понравилась ему невестка, а теперь он понял, оценил и вполне ее полюбил навсегда. Многим опытам была впоследствии подвергнута эта любовь, всякий бы другой поколебался, но он устоял до последнего своего вздоха.
Вскоре явился Алексей Степаныч, а вслед за ним и вся семья. Дочери давно посылали Арину Васильевну, но она не смела прийти, потому что слова Степана Михайлыча «никого не будить» равнялись запрещенью приходить. Она и теперь пришла только потому, что старик приказал Мазану позвать всех. Не видно было следов слез на лице Софьи Николавны, и она встретила свекровь и золовок с особенною ласкою и предупредительностью. В Степане Михайлыче ничего необыкновенного также не было заметно; но живость и веселость невестки, которую она не умела скрыть, была сейчас замечена двумя средними золовками, и они с ужасом разгадали сущность дела. — Степан Михайлыч решил, что молодым надо объездить родных по старшинству, и потому было положено, что завтра молодые поедут к Аксинье Степановне Нагаткиной, которая и отправилась домой в тот же день после обеда; с ней поехала и Елизавета Степановна, чтоб помочь в хлопотах по хозяйству для приема молодых к обеду. До деревни Нагаткиной считалось пятьдесят верст. Для добрых багровских коней такое расстояние не требовало отдыха, и выезд назначен был в шесть часов утра.
Степан Михайлыч нисколько не скрывал своего расположения к невестке. Он не разлучался с нею и беспрестанно разговаривал: то расспрашивал о семейных ее обстоятельствах, то заставлял рассказывать про ее городскую жизнь; слушал с вниманием и участием, нередко умными и меткими словами обсуживая дело. Софья Николавна с жаром хваталась за его дельные замечания и ясно доказывала, что с ее стороны это было не угодливое поддакиванье образу мыслей старика, но полное пониманье и убежденье в справедливости его слов. В свою очередь и Степан Михайлыч знакомил невестку с прошедшею и настоящею жизнью нового для нее семейства; он рассказывал все так правдиво, так просто, так искренне и так живо, что Софья Николавна, одна способная ценить его вполне, приходила в восхищенье. Она не встречала подобного человека: ее отец был старик умный, нежный, страстный и бескорыстный, но в то же время слабый, подчиненный тогдашним формам приличия, носивший на себе печать уклончивого, искательного чиновника, который, начав с канцелярского писца, дослужился до звания товарища наместника; здесь же стоял перед ней старец необразованный, грубый по наружности, по слухам даже жестокий в гневе, но разумный, добрый, правдивый, непреклонный в своем светлом взгляде и честном суде — человек, который не только поступал всегда прямо, но и говорил всегда правду. Величавый образ духовной высоты вставал перед пылкой, умной женщиной и заслонял все прошлое, открывая перед нею какой-то новый нравственный мир. И какое счастье: этот человек — ее свекор! От него зависит ее спокойствие в семье мужа и, может быть, даже благополучие в супружеской жизни!
Обед прошел гораздо живее и веселее вчерашнего: невестка сидела по-прежнему между свекром и своим мужем, но Арина Васильевна пересела на обыкновенное свое место насупротив Степана Михайлыча. Сейчас после обеда уехали в Нагаткино Аксинья и Елизавета Степановны. Ложась уснуть, по обыкновению, старик сказал: «Ну, Ариша, кажись, бог дал нам славную невестку; ее грешно не полюбить». — «Подлинно так, Степан Михайлыч, — отвечала Арина Васильевна. — Уж если тебе Софья Николавна угодна, так мне и подавно». Старик покосился, но смолчал. Старуха ушла поскорее, чтоб не обмолвиться и чтоб сообщить своим дочерям знаменательные слова Степана Михайлыча, которые и приняты были, как закон, к точному исполнению, по крайней мере по наружности.
Хотя мало спала Софья Николавна в последнюю ночь, но не могла заснуть после обеда. Она опять ходила гулять с своим мужем, по его желанию, в старую березовую грачовую рощу и вниз по реке. Тут не было уже никаких неприятных столкновений. Торжествующая, увлеченная и восхищенная своим свекром, Софья Николавна старалась передать Алексею Степанычу пылкие ощущения, которыми была переполнена ее восприимчивая душа. Подобно всем страстным, восторженным людям, она перенесла некоторую часть качеств, пленивших ее в свекре, на своего молодого, прекрасного друга и любила его в то время больше, чем когда-нибудь. С радостным изумлением слушал одушевленные речи своей красавицы жены Алексей Степаныч и думал про себя: «Слава богу, что они с батюшкой так понравились друг другу: теперь все будет хорошо». Он целовал руки Софьи Николавны, говорил ей, что он счастливейший человек во всей вселенной и что она такое божество, которому нет равного на свете и которому должны все поклоняться. Он не мог понимать вполне своей жены, не мог чувствовать высказанной глубокой и тонкой оценки высоких качеств Степана Михайлыча и по-прежнему оставался только совершенно убежденным, что отец его такой человек, которого все должны почитать и даже бояться. В этот раз Софья Николавна ничего не замечала; она чувствовала и говорила за него сама; она хвалила и березовую кочковатую рощу и глубокую реку; даже о золовках своих отзывалась очень благосклонно.
Проснувшись после обеда, Степан Михайлыч немедленно позвал к себе невестку с мужем и всю свою семью. Давно не видали его таким ласковым и светлым. Хорошо ли он выспался, или на сердце у него было хорошо, — только всякий видел, что старый барин чем-то очень доволен и весел. После отзыва Степана Михайлыча Александра и Елизавета Степановны себя попринудили, а Танюша (все ее так звали) и Арина Васильевна очень охотно стали ласковее и разговорчивее; Каратаеву мигнула Александра Степановна, и он смелее стал повторять последние слова говорящего, хотя бы и не с ним говорили; но мрачный генерал продолжал молчать и смотреть значительно. Семейная беседа сделалась необыкновенно жива и одушевлена. Старику захотелось поранее накушаться чаю, разумеется в тени подле крылечка, и невестка получила исключительное право разливать вечерний чай. Танюша охотно уступила ей свою должность. После чая Степан Михайлыч приказал заложить двое дрог, посадил с собою невестку и в сопровождении всей семьи поехал на мельницу. Надобно сказать, что старик был охотник до мельничного дела и сам занимался им. Жернова мололи, и толчея толкла отлично, хотя амбар был невзрачен и неопрятно покрыт камышом. Хозяин любил похвастаться внутренним устройством своей мельницы и принялся подробно показывать все невестке; он любовался ее совершенным неведением, ее любопытством, а иногда и страхом, когда он вдруг пускал сильную воду на все четыре постава, когда снасти начинали пошевеливаться, покачиваться и постукивать, а жернова быстро вертеться, петь и гудеть, когда в хлебной пыли начинал трястись и вздрагивать пол под ногами и весь мельничный амбар. Для Софьи Николавны это была совершенная новость, которая нисколько ей не нравилась; но из угождения свекру она всему дивилась, обо всем расспрашивала, всем любовалась. Свекор был очень доволен, долго продержал невестку на мельнице и, когда вышел с нею на плотину, где молодой муж и две золовки удили рыбу, то был встречен общим смехом: старик и невестка были покрыты мукою. Для Степана Михайлыча это было дело обыкновенное; он же, выходя, немножко отряхнулся по привычке и утерся, а Софья Николаева не подозревала, что так искусно и сильно напудрена, и сам свекор расхохотался, глядя на свою невестку; она же смеялась больше всех, шутила очень забавно и жалела только о том, что нет зеркала и что не во что ей посмотреться, хорошо ли она убрана на бал. Видя, что все очень заняты рыбной ловлей, старик повез свою молодую мельничиху (так звал он ее весь этот вечер) вокруг пруда через мост и, обогнув все верховье, все разливы, воротился уже по плотине к тому каузу, около которого удили рыбаки и где спокойно сидела и смотрела на них тучная Арина Васильевна. Везде, где проезжали свекор с невесткой, была грязь, топь; по скверному мостишку едва можно было переехать через реку и еще труднее было пробраться по навозной и топкой плотине; все было не по вкусу Софье Николавне, но, конечно, не мог этого заметить Степан Михайлыч, который не видал ни грязи, ни топи, не слыхал противного запаха от стоячей воды или навозной плотины. Все было им самим заведено, устроено, и все было ему приятно. Солнце садилось, становилось сыро; все весело отправились домой; рыбаки повезли с собой добычу, славных окуней, красноперок и небольших язей. У крыльца ожидал хозяина староста; старик занялся хозяйственными распоряжениями, молодая привела в порядок свой наряд; рыбу между тем сварили, изжарили на сковороде в сметане, а самых крупных окуней испекли в коже и чешуе, и все это за ужином нашли очень вкусным.
Так прошел другой день; разошлись поранее, чтоб молодым завтра пораньше встать и ехать в гости. Александра Степановна, оставшись наедине с матерью и меньшею сестрою, сбросив с себя тяжкое принужденье, дала волю своему бешеному нраву и злому языку. Она видела, что все погибло, что свекор горячо полюбил невестку, что сбылись ее предсказания, что приворотила старика городская прощелыга и что теперь нечего другого делать, как спровадить молодых поскорее в Уфу и без них приняться уже за какую-нибудь хитрую работу. Досталось и Арине Васильевне и Танюше за то, что они были уже слишком ласковы и что, если б не она, то заворожила бы и их эта модница, эта нищая казачья внучка.
На другой день, точно в шесть часов утра, отправились молодые в Нагаткино на шестерике славных доморощенных лошадей, в аглицкой своей карете. Невестка успела напоить чаем свекра и поехала, обласканная им; он даже перекрестил ее на дорогу, потому что молодые должны были ночевать в гостях. Дорога шла сначала вниз по реке, а потом, перерезав ее и поднявшись в гору, достигала уездного городка Бугуруслана. Не останавливаясь в нем, путешественники наши переехали по мосту реку Большой Кинель и луговою его стороною, ровною и покрытою густой травой, по степной, колеистой, летней дороге, не заезжая ни в одно селенье, побежали шибкой рысью, верст по десяти в час. Алексей Степаныч давно не бывал за Кинелем; зеленая, цветущая, душистая степь приводила его в восхищенье; то и дело стрепета поднимались с дороги, и кроншнепы постоянно провожали экипаж, кружась над ним и залетая вперед, садясь по вехам и оглашая воздух своими звонкими трелями. Алексей Степаныч очень жалел, что с ним не было ружья. — Полная звуков, голосов и жизни степь, богатая тогда всеми породами полевой дичи, так сильно его развлекала, или, правду сказать, так поглощала все его внимание, что он без участия слушал, а отчасти и вовсе не слыхал умных и живых разговоров Софьи Николавны. Она скоро заметила невнимание мужа и призадумалась; потом из веселой сделалась недовольною и, наконец, принялась разговаривать с своей Парашей, которая сидела с ними в карете. Перевалив плоскую возвышенность, как раз к двенадцати часам подкатила карета к деревенскому небольшому дому Аксиньи Степановны, еще менее багровского похожему на городские дома. Дом стоял на плоском берегу Малого Кинеля и отделялся от него одним только огородом с молодыми овощами, с грядками, изрешеченными белыми лутошками для завивки побегов сахарного гороха, и с несколькими подсолнечниками. Неравнодушно вспоминая и теперь эту простую, бедную местность, которую увидел я в первый раз лет десять позднее, я понимаю, что она нравилась Алексею Степанычу и что должна была не понравиться Софье Николавне. Место голое, пустое, на припеке, на плоском берегу; кругом ровная степь с сурчинами, ни деревца, ни кустика, река тихая, омутистая, обросшая камышом и палочником… Кому же все это понравится? Ничего казистого, великолепного, живописного; но Алексей Степаныч так любил это место, что даже предпочитал его Багрову. Я не согласен с ним, но также очень полюбил тихий домик на берегу Кинеля, его прозрачные воды, его движущиеся течением реки камыши, зеленую степь вокруг и плот, ходивший почти от самого крыльца и перевозивший через Кинель в еще более степную, ковылистую, казалось безграничную даль, прямо на юг!..
Хозяйка с двумя маленькими сыновьями и двухлетней дочерью, с Елизаветой Степановной и ее мужем, встретила дорогих гостей на крыльце. Несмотря, однако, на невыгодную наружность деревенских хором, в комнатах было все чисто и опрятно, и даже гораздо чище и опрятнее, чем у Степана Михайлыча. Вообще у «сердечной простоты», как ее называли сестрицы, несмотря на ее вдовье положение, несмотря на присутствие маленьких детей, замечался в доме какой-то прибор и порядок, обличавший исключительно женскую попечительность. Я уже сказал, что Аксинья Степановна была добрая женщина, что она полюбила невестку, и потому очень естественно, что она в качестве гостеприимной хозяйки приняла и чествовала молодых с полным радушием. Это предвидели в Багрове и нарочно отправили Елизавету Степановну, чтоб она по превосходству своего ума и положения в обществе (она была генеральша) могла воздерживать порывы дружелюбия простодушной Аксиньи Степановны; но простая душа не поддалась умной и хитрой генеральше и на все ее настойчивые советы отвечала коротко и ясно: «Вы себе там как хотите, не любите и браните Софью Николавну, а я ею очень довольна; я, кроме ласки и уважения, ничего от нее не видала, а потому и хочу, чтоб она и брат были у меня в доме мною так же довольны…» И все это она исполняла на деле с искренней любовью и удовольствием: заботилась, ухаживала за невесткой и потчевала молодых напропалую. Зато гордая Елизавета Степановна и даже ее муж, впрочем так натянувшийся к ночи, что его заперли в пустую баню, держали себя гораздо холоднее и дальше, чем в Багрове. Софья Николавна не обращала на них внимания и была увлекательно любезна с хозяйкой и ее маленькими детьми. После обеда немного отдохнули, потом гуляли по Кинелю, перевозились на ту сторону, потом пили чай на берегу реки; предлагали гостье поудить рыбу, но она отказалась, говоря, что терпеть не может этой забавы и что ей очень приятно проводить время с сестрицами. Алексей же Степаныч, обрадованный взаимным дружеским обращением старшей сестры и жены, с увлечением занялся удочками, которыми вся прислуга потешалась и тешила своих молодых господ. Он до самого ужина просидел на берегу Кинеля, забившись в густой камыш, и выудил несколько крупных лещей, которыми изобиловали кинельские тихие воды. Отъезд был назначен также в шесть часов следующего утра; даже хотели выехать поранее, чтобы не заставить Степана Михайлыча дожидаться молодых к обеду; хозяйка же с своей сестрицей-генеральшей положили выехать к вечеру, чтоб ночевать в Бугуруслане, выкормить хорошенько лошадей и на другой уже день приехать в Багрово. Софья Николавна продолжала быть несколько недовольною своим мужем. Несмотря на необыкновенный ум, она не могла понять, как мог человек, страстно ее любящий, любить в то же время свое сырое Багрово, его кочковатые рощи, навозную плотину и загнившие воды; как мог он заглядываться на скучную степь с глупыми куликами и, наконец, как он мог несколько часов не видать своей жены, занимаясь противной удочкой и лещами, от которых воняло отвратительной сыростью. Не могла понять, и потому, когда Алексей Степаныч спешил делиться с нею сладкими впечатлениями природы и охоты, она почти обижалась. Впрочем, на этот раз в ней нашлось столько благоразумия, что она не заводила объяснений, не делала упреков; сцена на острове была у ней еще в свежей памяти.
Алексей Степаныч и Софья Николавна проспали спокойно ночь в собственной спальне Аксиньи Степановны, которую она им уступила, устроив все наилучшим образом, как могла и как умела, не обратив никакого внимания на едкие замечания сестрицы-генеральши. Рано поутру молодые уехали получасом даже ранее назначенного срока. На возвратном пути ничего особенного не случилось, кроме того, что Алексей Степаныч несколько менее развлекался степью и куликами и не так уже ахал, когда стрепета взлетали с дороги, и потому внимательнее слушал и нежнее смотрел на свою обожаемую жену. Они приехали в Багрово ранее, чем их ожидали. Стол, однакоже, накрывали, и Александра Степановна успела уже сказать, что «придется батюшке сегодня попозднее обедать, что где же городским людям несколько дней сряду так рано вставать». Старик хорошо понимал музыку этих слов и, к общему изумлению, весело отвечал: «Ну так что ж? мы и подождем дорогих гостей». Все были поражены этими словами. Надобно сказать, что Степан Михайлыч во всю свою жизнь позже двенадцати часов не садился за стол, а если чувствовал особенный аппетит, то приказывал подавать кушанье и раньше и при малейшей медленности или задержке он начинал сильно гневаться. «Так вот какова Софья Николавна, — шептала в уши матери и меньшей сестре Александра Степановна, — для нее можно и подождать с удовольствием! Ну если бы вы, матушка, когда-нибудь опоздали к обеду, возвращаясь из Неклюдова, так досталось бы и вам и всем нам…» Не успела она кончить свое злобное шептанье, сидя с матерью в соседней комнате, как подлетела уже карета к крыльцу, фыркали усталые кони и целовал свою невестку свекор, хваля молодых, что они не опоздали, и звучно раздавался его голос: «Мазан, Танайченок, кушанье подавать!»
День пошел прежним порядком. После вечернего чая Степан Михайлыч, благоволение к невестке которого час от часу увеличивалось, приказал пригнать со степи табун лошадей, чтоб показать его Софье Николавне, которая как-то между слов сказала, что не имеет понятия о табуне и желала бы его видеть. Табун пригнали на двор, и старик сам водил невестку по двору, показывая ей лучших маток с жеребятами-сосунками, стриганов, лонщаков[22] и молодых меринов, которые в продолжение лета все ходили в табуне на сытном и здоровом подножном корму. Он подарил ей двух отличных бережих кобыл, говоря, что поведет от них завод на ее счастье. Маленькие жеребята очень понравились Софье Николаеве, она с удовольствием смотрела на их прыжки и ласки к матерям; за подарок же, разумеется, очень благодарила. «Смотри же, Спирька, — строго наказывал Степан Михайлыч своему главному конюху, — чтоб кобылы Софьи Николавны были сбережены сохранно, а на жеребят положим особые приметы; ушко распорем пониже, а со временем и тавро сделаем с именем молодой барыни. Хоть бы ты была охотница до лошадей, невестынька, — продолжал он, обращаясь к Софье Николаеве, — а вот Алексей — вовсе не охотник!» Старик очень любил лошадей и неусыпными трудами, при небольших его денежных средствах, имел уже многочисленный завод и вывел такую породу доброезжих коней, которой удивлялись охотники и знатоки. Степан Михайлыч обрадовался участию Софьи Николавны к конному его заводу, изъявленному ею, конечно, из одного желания угодить свекру, принял ее слова за чистые деньги и повел ее смотреть, как кормят езжалых лошадей, и своих, и гостиных, которых иногда скоплялось немало.
Боясь наскучить моим читателям таким подробным описанием пребывания молодых Багровых у свекра, я скажу только, что следующий, то есть пятый, день был проведен так же, как и предыдущий. По старшинству следовало бы теперь молодым сделать свадебный визит к Ерлыкиным; но деревушка их находилась в ста семидесяти верстах от Багрова, гораздо ближе к Уфе, и так положено было, чтоб молодые заехали к ним на возвратном пути в Уфу. К тому же супруг Елизаветы Степановны, мрачный и молчаливый генерал Ерлыкин, напившись пьян в Нагаткине, запил запоем, который обыкновенно продолжался не менее недели, так что жена принуждена была оставить его в Бугуруслане, под видом болезни, у каких-то своих знакомых. Итак, через день назначено было ехать к Александре Степановне, и она с своим башкиролюбивым супругом отправилась накануне в свою Каратаевку и пригласила, с позволенья отца, старшую и младшую сестру; а Елизавета Степановна осталась дома под предлогом, что у ней больной муж лежит в Бугуруслане, а собственно для назидательных бесед со стариками. Дорога к Каратаевым, которые жили почти в таком же расстоянии от Багрова, как и Нагаткина, то есть немного более пятидесяти верст, шла совершенно в противоположную сторону, прямо на север. С половины пути местность делалась гористою и лесною. — Молодые отправились после раннего завтрака, и как дорога была не ездовита и тяжела, то на полдороге, между Новой и Старой Мертовщины[23] (куда на возвратном пути им надо было заехать), они покормили в поле часа два и к вечернему чаю приехали в Каратаевку. Домишко у любителя башкирцев был несравненно хуже нагаткинского дома: маленькие, темные окна прежде всего бросались в глаза, полы были неровны, с какими-то уступами, с множеством дыр, проеденных крысами, и так грязны, что их и домыться не могли. С каким-то страхом и отвращением вступила Софья Николавна в это негостеприимное и противное жилье. Александра Степановна вела себя надменно, беспрестанно оговариваясь и отпуская разные колкости, как, например: «Мы рады, рады дорогим гостям, милости просим; братец, конечно, не осудит, да только я уж и не знаю, как сестрице Софье Николавне и войти в нашу лачужку после городских палат у своего батюшки. Мы ведь люди бедные, не чиновные и живем по своему состоянию; ведь у нас жалованья и доходов нет». Софья Николавна не оставалась в долгу и отвечала, что всякий живет не столько по своему состоянию, сколько по своему вкусу и что, впрочем, для нее все равно, где бы ни жили и как бы ни жили родные Алексея Степаныча. После ужина молодым отвели для спальни так называемую гостиную, где, как только погасили свечку, началась возня, стук, прыганье, и они были атакованы крысами с такою наглостью, что бедная Софья Николавна не спала всю ночь, дрожа от страха и отвращенья. Алексей Степаныч принужден был зажечь свечу и, вооружась подоконной подставкой, защищать свою кровать, на которую даже вспрыгивали крысы, покуда не была зажжена свеча.[24]
Впрочем, Алексей Степаныч не чувствовал ни страху, ни отвращения; для него это была не новость, и сначала его даже забавляли и стук, и возня, и дерзкие прыжки этих противных животных, а потом он даже заснул, с подставкой в руках, лежа поперек кровати; но Софья Николавна беспрестанно его будила, и только по восхождении солнца, когда неприятель скрылся в свои траншеи, заснула бедная женщина. Она встала с головной болью, а хозяйка только подсмеивалась тому, «как негодные крысы напугали Софью Николавну», прибавляя, что они нападают только на новеньких и что хозяева к ним уже привыкли. Аксинья Степановна и Танюша, которая также боялась крыс, не могли, однако, без сожаления смотреть на жалкое и больное лицо своей невестки и изъявляли ей свое участие. Нагаткина даже пеняла Александре Степановне, зачем она не приказала взять обыкновенных предосторожностей, то есть поставить кровать посередине горницы, привязать полог и подтыкать кругом под пуховик; но хозяйка злобно смеялась и говорила: «Жаль, что крысы дорогой гостье носа не откусили». — «Смотри, — отвечала ей Аксинья Степановна, — чтоб не дошло до батюшки и чтоб тебе не досталось».
Деревня Каратаевка была поселена вдоль по скату, на небольшой, из родников состоящей, речке, запруженной в конце селенья и поднимавшей мельницу на один постав. Местоположение было бы недурно, но хозяева и весь быт их были так противны, что и самая местность никому не нравилась. Каратаев, который в Багрове боялся Степана Михайлыча, а дома боялся жены, иногда и хотел бы полюбезничать с Софьей Николавной, да не смел и только, пользуясь отсутствием супруги, просил иногда у молодой позволения поцеловать ее ручку, прибавляя, по обыкновению, что такой писаной красавицы нигде не отыщешь. При повторении такой просьбы позволения он уже не получил. — Каратаев вел жизнь самобытную: большую часть лета проводил он, разъезжая в гости по башкирским кочевьям и каждый день напиваясь допьяна кумысом; по-башкирски говорил, как башкирец; сидел верхом на лошади и не слезал с нее по целым дням, как башкирец, даже ноги у него были колесом, как у башкирца; стрелял из лука, разбивая стрелой яйцо на дальнем расстоянии, как истинный башкирец; остальное время года жил он в каком-то чулане с печью, прямо из сеней, целый день глядел, высунувшись, в поднятое окошко, даже зимой в жестокие морозы, прикрытый ергаком, насвистывая башкирские песни и попивая, от времени до времени, целительный травник или ставленый башкирский мед. Зачем смотрел Каратаев в окошко, перед которым лежало пустое пространство двора, пересекаемое вкось неторной тропинкой, что видел, что замечал, о чем думала эта голова на богатырском туловище, — не разгадает никакой психолог. Нарушалось, правда, иногда созерцание философа: проходила козырем по дорожке из людской в скотную избу полногрудая баба или девка, кивал и мигал ей Каратаев и получал в ответ коротко знакомые киванья и миганья… но женский образ исчезал на повороте как призрак, и снова глядел Каратаев в пустую даль.
Софья Николавна не знала, как вырваться из этой берлоги, и после раннего обеда, в продолжение которого стояли уже лошади у крыльца, молодые сейчас распростились и уехали. На прощанье хозяйка, целуясь с золовкой в обе щеки и в плечи, выразительно благодарила за приятнейшее посещение и не менее выразительно благодарила невестка за приятнейшее угощение.
Оставшись в карете с мужем, Софья Николавна дала волю своей досаде. Простодушная Аксинья Степановна без намеренья выболтала ей, что хозяйка с умыслом не взяла предосторожностей от крыс, и молодая женщина, удержавшись от вспышки в доме своей недоброхотки, не совладела с своей вспыльчивой природой: она позабыла, что в карете сидит Параша, позабыла, что Александра Степановна родная сестра Алексею Степанычу, и не поскупилась на оскорбительные выражения. Алексей Степаныч, по доброте своего сердца и прямодушию, не мог поверить умыслу со стороны своей сестры, видел в этом одну недогадливость и обиделся выражениями Софьи Николавны, которых, сказать по правде, нельзя было извинить ни в каком случае. Молодой муж в первый раз осердился на свою молодую жену, сказал, что ей стыдно так говорить, отвернулся и замолчал. В таком расположении духа приехали они в Старую Мертовщину, где жила в то время замечательно умная старуха Марья Михайловна Мертвая,[25] дочь которой, Катерина Борисовна (большая приятельница Софьи Николавны), недавно вышедшая замуж за сосланного в Уфу правительством и овдовевшего там П. И. Чичагова, совершенно неожиданно для молодых Багровых находилась тут же с своим мужем. Софья Николавна, которая любила Чичагова не меньше, чем свою приятельницу, была так обрадована этой нечаянностью, что позабыла всю свою досаду и сделалась очень жива и весела; но Алексей Степаныч остался печален и молчалив, что было замечено всеми.
История и вторичная женитьба Чичагова — целый роман, и я расскажу его как можно короче; расскажу потому, что мы впоследствии будем встречаться с этим семейством и особенно потому, что оно имело некоторое влияние на жизнь молодых Багровых. П. И. Чичагов был необыкновенно умный, или, справедливее сказать, необыкновенно остроумный, человек; он получил по-тогдашнему блестящее и многостороннее образование, знал несколько языков, рисовал, чертил (т. е. знал архитектуру), писал и прозой и стихами. В поре пылкой молодости влюбился он в Москве в девицу Римско-Корсакову и для получения ее руки решился на какой-то непростительный обман, который открылся уже после брака, за что и был Чичагов сослан на жительство в Уфу. Жена его скоро умерла; он через год утешился, влюбился в Катерину Борисовну и увлек ее своей любезностью, веселостью, образованностью и умом; наружность же его была очень некрасива, влюбиться в нее было невозможно. Катерина Борисовна была девушка взрослая и с твердым характером; мать и братья не могли с ней сладить и выдали за Чичагова, который впоследствии был прощен, но не имел права выезжать из Уфимской губернии. Софья Николавна любила его вдвойне: за то, что он был мужем, страстно любимым, ее приятельницы, и, вероятно, еще более за то, что он был умен и образован. Старуха Марья Михайловна задумала переехать на житье в деревню, и Чичагов с женой приехали именно затем, чтобы помогать ей строить дом и церковь. Софья Николавна, уже с неделю прогостившая в семействе своего мужа и сестер, обрадовалась Чичаговым, как светлому празднику; пахнуло на нее свежим воздухом, отдохнули ее душа и живой ум, и она проговорила с друзьями чуть не до полночи. Алексей Степаныч просидел бы в безмолвном уединении, если б разумная старуха хозяйка не смекнула делом и не заняла гостя приличными разговорами; после ужина он простился, однако, с хозяевами и ушел спать в отведенную для гостей комнату. Софья Николавна нашла его уже крепко спящим, а на другой день рано поутру, не беспокоя хозяев, они уехали в Багрово.
Дорогой Алексей Степаныч продолжал дуться и молчать; даже на все прямые вопросы Софьи Николавны он отвечал так холодно и односложно, что она перестала говорить с ним. По ее живому и нетерпеливому нраву это ей было очень тяжело; а как она не хотела заводить объяснений при Параше и решилась отложить их до послеобеденного отдыха, когда она останется одна с мужем, то и завела она разговоры с своей горничной, вспоминая про уфимское житье. Алексей Степаныч забился в угол кареты и заснул или притворился спящим. Так приехали они в Багрово часа за два до обеда. Степан Михайлыч видимо обрадовался невестке и даже сказал, что соскучился по ней. «Нет, — прибавил он, — не надо вам с Алешей долго здесь оставаться, а то я привыкну к тебе, невестынька, да, пожалуй, еще и скучать стану». Степан Михайлыч заставил Софью Николавну рассказать все подробно об ее поездке. Он знал Марью Михайловну, очень хвалил ее и сказал, что завтра пошлет звать ее с зятем и дочерью откушать хлеба и соли у молодых, для чего и назначил следующее воскресенье, до которого оставалось четыре дня. «Послезавтра съездите вы к Кальпинским и Лупеневским, — говорил старик, — и также позовете их в воскресенье, а там, дня через три, и бог с вами! поезжайте в Уфу, к своим местам. Сват Николай Федорыч никогда не расставался с тобой (тут он обратился к невестке) и, чай, больно по тебе соскучился, а ты, чай, и подавно стосковалась по больном старике».
Степан Михайлыч скоро догадался, что в эту поездку произошло что-нибудь неприятное. Продолжая разговаривать, он спросил: «Ну что, рады ли вам были хозяева в Каратаевке?» Разумеется, отвечали, что были очень рады, но Софья Николавна между слов упомянула, что она не спала там всю ночь от крыс. Старик удивился. Он всего один раз, и то очень давно, был в Каратаевке и ничего подобного не слыхал. «Так, так, батюшка Степан Михайлыч», — простодушно воскликнула Арина Васильевна. Напрасны были запретительные знаки Елизаветы Степановны: старуха не успела заметить их, за что ей потом крепко досталось от дочек. «Там такие крысы, — продолжала она, — что ужасть; без полога и спать нельзя». — «А вы спали без полога?» — спросил старик изменившимся и каким-то зловещим голосом. Должны были отвечать, что спали без полога. «Хороша хозяйка!» — сказал он и так поглядел на жену и на дочь-генеральшу, что у них мороз пробежал по коже.
Каратаевы и Нагаткина с Танюшей еще не воротились: они должны были приехать к вечернему чаю. Обед прошел невесело. Все были смущены, и всякий имел свои причины. Арина Васильевна с Елизаветой Степановной чуяли приближающуюся грозу и боялись, что гром упадет и на них. Давно не гневался Степан Михайлыч: тем страшнее казался ожидаемый гнев, от которого они поотвыкли. Софья Николавна заметила, что свекор нахмурился. Она была бы не прочь, если бы он припугнул свою дочку, которую она терпеть не могла как явного своего врага, но опасалась, чтоб ей самой тут же как-нибудь не досталось. Она, конечно, проговорилась о крысах, не имея никакого дурного намеренья; она не думала, чтоб свекор обратил на это обстоятельство особенное вниманье и придал ему такую важность. Впрочем, у Софьи Николавны лежал свой камень на сердце: она еще не решилась и не знала, как поступить с мужем, который осердился в первый раз за обидные слова об Александре Степановне: дожидаться ли, чтоб он сам обратился к ней, или прекратить тягостное положение, испросив у него прощенья и своей любовью, нежностью, ласками заставить его позабыть ее проклятую вспыльчивость? И, конечно, она точно бы так поступила, потому что любила горячо, пламенно своего молодого, доброго, кроткого, любящею мужа. Она строго осуждала себя. Она должна была все предвидеть, ко всему быть готовой. Она знала, что Алексей Степаныч не задумается умереть за нее, но что нежного, постоянного вниманья, полного пониманья всего, что может огорчить ее, всех мелочей жизни от него не должно требовать и нельзя ожидать. Но что же ей делать с своей кипучею кровью, с своими тонкими, блажными нервами, с своей живой, увлекающейся головой, с своей чувствительной, восприимчивой душою?.. Так думала, так чувствовала бедная женщина, ходя из угла в угол по своей спальне, куда ушла она после обеда и где дожидалась мужа, которого на дороге задержала мать, позвав к себе в комнату. Минуты казались ей часами. Мысль, что Алексей Степаныч нарочно медлит, не желая остаться с ней наедине, избегая объяснений; мысль, что она, не облегчив своего сердца, переполненного разными мучительными ощущениями, не примирившись с мужем, увидится с ним в присутствии враждебной семьи и должна будет притворяться целый вечер, эта мысль сжимала ее сердце, бросала ее в озноб и жар… Вдруг растворилась дверь, и Алексей Степаныч, уже не робкий и печальный, а смелый и даже раздраженный, входит решительными шагами и сам начинает укорять свою жену, зачем она нажаловалась батюшке и прогневала его на сестрицу Александру Степановну!.. «Теперь все дрожат и плачут, и богу только одному известно, что из этого выйдет», — говорил Алексей Степаныч, полный тем, что сейчас надули ему в уши мать и Елизавета Степановна. — «Перемутить да перессорить семью своего мужа не хорошо, грешно. Ведь я рассказывал тебе, каков бывает батюшка в гневе, а ты, все это зная и видя, что он тебя полюбил, воспользовалась…» Терпенье Софьи Николавны лопнуло, голова вспыхнула, любовь замолчала, сожаленья, раскаянья как будто никогда не бывало, и увидел бедный муж, что не один Степан Михайлыч может приходить в гнев… Неотразимый поток жалоб, обвинений, упреков хлынул на него… И Алексей Степаныч был смят, уничтожен, виноват без оправданья, чуть не злодей в его собственных глазах… И стоя на коленях, обливаясь слезами, вымаливал он прощенья у ног Софьи Николавны… И не Алексей Степаныч не устоял бы против этого пламенного взрыва ума, чувства, огня сердечного убежденья и чудного дара говорить! И совершенно правый человек, гораздо потверже Алексея Степаныча, на ту минуту признал бы себя виноватым перед молодой, прекрасной, любимой женщиной… Алексей же Степаныч, конечно, был неправ.
В спальне молодых утихала гроза, а на другом конце дома, в небольшой горнице Степана Михайлыча, только что начиналась. Старик проснулся. Сон не умирил его духа, не разгладил морщин на крутом его лбе; мрачен сидел он несколько времени поперек своей кровати и вдруг крикнул: «Мазан!..» Мазан давно лежал на двери, смотрел в щелку и, по обыкновению, сопел без милосердия. Он поставлен был дозором, а вся семья в страхе ожиданья сидела в зале. Мазан, закричав во все горло: «Чего изволите?», точно вломился в дверь. «Приехала Александра Степановна?» — «Изволили приехать». — «Позвать ко мне!» И в ту же минуту вошла Александра Степановна, потому что мешкать в таких случаях было всего опаснее. «А как это ты, сударыня, — начал старик знакомым и страшным ей голосом, — брата и невестку крысами стравила?» — «Виновата, батюшка, — смиренно отвечала Александра Степановна, у которой подогнулись колена и страх подавил ее собственный бешеный нрав, — нарочно положила их в гостиной, да не догадалась полога повесить. В хлопотах да в радости из ума вон…» — «Ты с радости не догадалась! да разве я тебя не знаю? да как ты осмелилась сделать это супротив брата, супротив меня? Как осмелилась осрамить отца на старости?..» Может быть, дело бы тем и кончилось, то есть криком, бранью и угрозами или каким-нибудь тычком, но Александра Степановна не могла перенесть, что ей достается за Софью Николавну, понадеялась, что гроза пройдет благополучно, забыла, что всякое возраженье — новая беда, не вытерпела и промолвила: «Понапрасну терплю за нее». Новый, страшнейший припадок гнева овладел Степаном Михайлычем, того гнева, который не проходил даром и оканчивался страшными, отвратительными последствиями… Уже готово было сорваться с языка страшное слово… Но Арина Васильевна, вдова Нагаткина и Танюша, стоявшие за дверью, видя беду, отважились войти в горницу к Степану Михайлычу. Они бросились в ноги старику и завопили голосом. Каратаев, с ними же стоявший, убежал в рощу и, схватив палку, обивал, ломал невинные березовые сучья, вымещая на них за свою жену. Елизавета Степановна не осмелилась даже войти, чувствуя, что у самой совесть не чиста, и зная, что отец хорошо это понимает. «Батюшка, Степан Михайлыч! — голосила Арина Васильевна, — воля твоя святая, делай что тебе угодно, мы все в твоей власти, только не позорь нас, не срами своего рода перед невесткой; она человек новый, ты ее до смерти перепугаешь…» Вероятно, эти слова образумили старика. Помолчав с минуту, он оттолкнул ногой Александру Степановну и закричал: «Вон! и не смей показываться на глаза, покуда не позову!» Никто не дожидался дальнейших приказаний; в одну минуту горница опустела, и все стало тихо вокруг Степана Михайлыча, у которого еще долго темны и мутны были голубые зрачки глаз, долго тяжело он дышал и грудь его высоко подымалась, потому что он сдержал свое бешенство, не удовлетворил своему разгоревшемуся гневу.
Давно кипел самовар на столе в гостиной, но не в тени у крылечка, потому что на дворе было сыро; дождь только что перестал лить как из ведра. Природа точно сочувствовала происходившему в доме Багровых. С самого обеда две тучи, одна другой чернее, сошлись посередине неба и долго стояли на одном месте, перебрасываясь огнями молний и потрясая воздух громовыми ударами. Наконец, все это разрешилось дождевым ливнем, тучи провалили на восток, и яркое солнце открылось на западе. Свежее, ароматнее стали луга и леса, громче, веселее запели птицы… Но не так бывает после грозы страстей человеческих!
Арина Васильевна с дочерьми, кроме Александры Степановны, которая сказалась больною, и зятем Каратаевым (Ерлыкин еще не возвращался под предлогом болезни) собрались в гостиную. Степан Михайлыч спросил чаю к себе в горницу и приказал сказать, чтоб никто не ходил к нему. У молодых была заперта дверь; но, подождав их несколько времени, решились постучаться; они сейчас вышли, и хотя Софья Николавна была, по-видимому, весела, а Алексей Степаныч в самом деле был веселее, чем прежде, но не трудно было догадаться по их лицам, что между ними произошло что-нибудь необыкновенное. О совершившихся событиях в горнице Степана Михайлыча они ничего не знали. Что же касается до Арины Васильевны с дочерьми, то они похожи были на людей, которых только что вытащили из воды или выхватили из огня. Жаль, что некому было наблюдать, а то все эти лица, без сомнения, представляли богатую и разнообразную мимическую картину. Разговоры не клеились и шли очень вяло. Отсутствие Степана Михайлыча и Александры Степановны было слишком подозрительно, и Софья Николавна под каким-то предлогом ушла в свою спальню, позвала Парашу — и загадка объяснилась. В девичьей знали всю подноготную: во-первых, Мазан и Танайченок слышали всю историю, а во-вторых, и старая барыня и молодая барышня привыкли все сообщать своим прислужницам, следовательно Параша могла сделать своей барыне точное и подробное донесенье. Софья Николавна очень перетревожилась. Она никак не ожидала таких страшных последствий, очень раскаивалась в том, что сказала свекру о проклятых крысах, и очень искренне сожалела об Александре Степановне. Воротясь в гостиную, она просила позволенья у свекрови навестить больную сестрицу, но ей отвечали, что она спит. Покуда уходила Софья Николавна, успели рассказать Алексею Степанычу обо всем. В девять часов кое-как поужинали и сейчас разошлись по своим углам. Оставшись наедине с мужем, Софья Николавна в волнении и слезах бросилась к нему на шею и с глубоким чувством раскаянья вновь просила у него прощенья, обвиняя себя гораздо более, чем была в самом деле виновата. Алексей Степаныч не понял прекрасного источника этой сердечной муки, этих искренних слез своей молодой жены. Ему только жалко было смотреть, как она убивалась понапрасну, и он старался ее утешить, говоря, что, слава богу, все кончилось благополучно, что они к этому привыкли, что завтра батюшка проснется весел, простит сестрицу Александру Степановну, что все пойдет по-прежнему прекрасно. Он только упрашивал Софью Николавну, чтоб она ни с кем не объяснялась и не просила прощенья в своей невольной вине, что она хотела сделать, и советовал не ходить к батюшке завтра поутру до тех пор, покуда он сам не позовет. Яснее чем когда-нибудь поняла Софья Николавна своего мужа и огорчилась до глубины души… Он проспал всю ночь преспокойно, — она всю ночь не спала.
Степан Михайлыч тяжело перенес припадок гнева, да и совестно ему было против невестки, которая могла узнать о случившемся. Прямому его сердцу противен был всякий низкий и злонамеренный поступок, а тут в поступке дочери он еще видел нарушение своих прав и власти. Он чуть не захворал: не ужинал, не сидел на своем крылечке, даже старосты не видал, а передал ему приказания через слуг. Благодатный мрак ночи, уясняющий наше внутреннее зрение, тишина, а потом сон, раздаватель благ и умиритель тревог, произвели, однако, свое благотворное действие. На следующий день, рано поутру, Степан Михайлыч призвал Арину Васильевну и велел ей передать его приказание дочерям, — разумеется, оно непосредственно относилось к Александре и отчасти к Елизавете Степановне, — «чтоб и виду не было никакого неудовольствия и чтоб невестка ничего заметить не могла». Через несколько времени подали самовар, позвали всю семью и молодых; Арина Васильевна, по счастью, успела через сына попросить свою невестку, чтоб она развеселила свекра, который, дескать, не совсем здоров и как-то невесел, и невестка, несмотря на проведенную ночь без сна, несмотря на то, что на сердце у ней было нерадостно, исполнила как нельзя лучше желание свекрови, которому, конечно, сочувствовали все и всех больше сама Софья Николавна.
Софья Николавна была удивительная женщина! Ее живая, восприимчивая, легко волнуемая природа могла мгновенно увлекаться порывами ума или сердца и мгновенно превращаться из одного существа в другое, совершенно непохожее на первое. Впоследствии называли это свойство притворством — и грубо ошибались. Это была какая-то артистическая способность вдруг переселяться в другую сферу, в другое положение, поддаваться безусловно своей мысли и желанью, вполне искреннему и потому всех увлекающему. Мысль и желание успокоить встревоженного свекра, которого она горячо полюбила, который за нее вступился, за нее встревожился, за нее расстроился в здоровье; мысль успокоить мужа и его семью, напуганную и обиженную за нее, по милости ее невоздержного языка, так безгранично овладела живым воображением и чувствами Софьи Николавны, что она явилась каким-то чудным, волшебным существом, и скоро покорилось неотразимому обаянью все ее окружавшее. Она сама разливала чай; сама успевала подавать чашки сначала свекру, а потом свекрови и даже другим. Со всеми успевала говорить, и так ловко, так кстати, так весело, что свекор совершенно поверил, что она ничего вчерашнего не знала, поверил — и сам развеселился. Его веселость также имела сообщительное свойство, и через час не было уже заметно следов вчерашней бури.
Прямо из-за обеда молодые отправились с свадебными визитами в Неклюдово к Кальпинским и в Лупеневку (в двух верстах от Неклюдова) к знакомой нам Ф. И. Лупеневской. В Неклюдове жил Илларион Николаевич Кальпинский с женою своею Катериной Ивановной. Это был человек в своем роде очень замечательный, не получивший никакого научного образования, но очень умный и начитанный, вышедший из простолюдинов (говорили, что он из мордвы), дослужившийся до чина надворного советника и женившийся по расчету на дочери деревенского помещика и старинного дворянина. В настоящее время он предался хозяйству и жадно копил деньги. Кальпинский имел претензию быть вольнодумцем и философом; его звали вольтерьянцем, разумеется те, которые слыхали о Вольтере. В семействе своем он жил уединенно и отдельно, предоставляя себе полную свободу к удовлетворению своих нестрогих наклонностей и вкусов. Софья Николавна слыхала о нем, но никогда его не видала, потому что он служил в Петербурге и недавно был переведен прямо в Оренбург. Она очень удивилась, найдя в нем умного, по-тогдашнему образованного человека и щеголевато одетого по городской моде. Сначала такая неожиданность была для нее приятна, но скоро кощунство и нравственный цинизм в семейных отношениях, которыми хозяин не замедлил пощеголять перед городской красавицей, поселили в ней отвращение к нему, сохранившееся навсегда. Супруга его в нравственных качествах ничем не отличалась от своей сестрицы Лупеневской, но была несравненно ее умнее. Посидев с час времени у Кальпинских, молодые отправились к Лупеневской, где также пробыли с час. В обоих домах кушали чай и домашнее варенье, приправляемые такими разговорами, которые приводили в ужас Софью Николавну. Оба семейства были приглашены на обед в воскресенье. По необъяснимой странности некоторых духовных явлений, иногда поразительных по своей непоследовательности, Ф. И. Лупеневская с первого взгляда чрезвычайно полюбила Софью Николавну и, провожая ее, наговорила уже таких любезностей, от которых надобно было или краснеть, или хохотать; но тем не менее они выражали горячее сочувствие и даже увлеченье. За час до ужина воротились молодые домой и были встречены Степаном Михайлычем, на известном крылечке, с необыкновенным радушием и удовольствием. Особенно забавляло Степана Михайлыча, что Флена Ивановна горячо полюбила его невестку, беспрестанно ее целовала и говорила, что она ей родная по душеньке, распрелюбезная сестрица. Даже после ужина, вопреки обыкновенью, опять всей семьей перешли на крылечко, посидели и весело поболтали с стариком в ночной прохладе, под звездным небом, при слабом беловатом свете потухающей зари, что любил Степан Михайлыч, сам не зная почему.
Остальные два дня до воскресенья, то есть до дня торжественного свадебного обеда, какого никогда еще не бывало в Багрове, прошли без замечательных событий. Ерлыкин воротился из Бугуруслана желтый и больной, каким всегда бывал после запоя. Степан Михайлыч знал несчастную слабость, или болезнь, своего зятя и лечил его какими-то отвратительными настойками, но безуспешно. В трезвенном состоянии Ерлыкин имел сильное отвращение от хмельного и не мог поднести ко рту рюмку вина без содроганья; но раза четыре в год вдруг получал непреодолимое влеченье ко всему спиртному; пробовали ему не давать, но он делался самым жалким, несчастным и без умолку говорливым существом, плакал, кланялся в ноги и просил вина; если же и это не помогало, то приходил в неистовство, в бешенство, даже посягал на свою жизнь. Софье Николавне все это рассказали, она чрезвычайно сожалела о нем, ласково заговаривала, стараясь как-нибудь втянуть его в дружескую беседу, но напрасно: суровый, мрачный и гордый генерал непреклонно молчал. Елизавета Степановна, вместо благодарности, обижалась участьем невестки к деверю и с колкостью давала ей это почувствовать. Степан Михайлыч заметил и сделал строгий выговор умной своей дочери, которая за то еще более невзлюбила свою невестку.
Два раза возил Степан Михайлыч Софью Николавну для прогулки в ржаные и яровые поля, в заповедный лес, называемый потаенным колком, и на свои любимые горные родники. Старику казалось, что все это очень занимало и очень нравилось его дорогой невестке, но ей положительно все не нравилось. Одно только поддерживало духовные силы Софьи Николавны: мысль, что она скоро уедет и постарается никогда не заглянуть в Багрово. Если бы кто-нибудь сказал ей, что она будет жить в нем постоянно, до старости, и даже кончит жизнь, она бы не поверила и отвечала бы искренне, что лучше согласна умереть… Но только к тому человек не привыкнет и того не перенесет, чего бог не пошлет!
Наступило воскресенье. Начали к обеду съезжаться гости: приехала из Старой Мертовщины Марья Михайловна, и приехали из Неклюдовщины и Лупеневки Кальпинские и Лупеневские, приехали из Бугуруслана старый холостяк судья и старый же холостяк городничий. Приехала и соседка, маленькая, худенькая, говорливая старушонка Афросинья Андревна (фамилии не помню, да никто и не называл ее по фамилии) из своей деревушки. Это была знаменитая лгунья, которую любил по временам слушать Степан Михайлыч, как слушает иногда с удовольствием детские волшебные сказки и взрослый человек…
Но Афросинья Андревна стоит того, чтоб с нею хоть немного познакомиться. Афросинья Андревна жила некогда по тяжебному делу десять лет в Петербурге; наконец, выиграла тяжбу и переехала в свою деревушку. Она вывезла из Питера множество таких диковинных рассказов, что, слушая их, Степан Михайлыч смеялся до слез. Между прочим, она рассказывала, что была знакома на короткой ноге с императрицей Екатериной Алексевной, и прибавляла в пояснение, что, живя десять лет в одном городе, нельзя же было не познакомиться. «Стою я один раз в церкви, — говорила вдохновенная рассказчица, — обедня отошла. Государыня проходит мимо меня, я низко поклонилась и осмелилась поздравить с праздником, а она, матушка, ее величество, и изволила проговорить: «Здравствуй, Афросинья Андреевна! что твое дело? Что ты не ходишь ко мне по вечерам с чулком? Мы бы с тобой от скуки поговорили». С тех пор я и ну ходить всякий день. Познакомилась с придворными. Все во дворце до единого человека меня знали и любили. Куда, бывало, ни пошлют, за какими-нибудь покупками, что ли, придворный лакей уж непременно ко мне заедет и обо всем расскажет. Ну, разумеется, уж всегда поднесешь ему рюмку вина: нарочно для этого всегда штофик держала. Один раз сижу я у окошка, эдак под вечер, вижу, скачет верхом придворный лакей, весь в красном с гербами; немного погодя другой, а там и третий, — я уж не вытерпела, подняла окошко, да и кричу: «Филипп Петрович, Филипп Петрович! Что это вы расскакались, да и ко мне не заедете?» — «Некогда, матушка Афросинья Андревна, — отвечает лакей, — такая беда случилась, свеч во дворце недостало, а скоро понадобятся». — «Постойте, — кричу, — да заезжайте ко мне, у меня есть в запасе пять фунтиков, возьмите…» Обрадовался мой Филипп Петрович… Сама ему и свечки вынесла и выручила их из беды. Ну так как же было, батюшка Степан Михайлыч, им не любить меня?»
Степан Михайлыч ко многим особенностям своего нрава присоединял и эту странность, что, будучи заклятым врагом, ненавидя всякую намеренную ложь, даже малейший обман, утайку, очень простительную при некоторых обстоятельствах, — любил слушать безвредное лганье и хвастанье (как он выражался) людей простодушных, предающихся с каким-то увлечением, с какой-то наивностью, даже с верою, небылицам своего воображения. Не только в веселом обществе, но даже наедине, если был в хорошем расположении духа, Степан Михайлыч охотно беседовал с Афросиньей Андревной, которая целые часы с жаром рассказывала историю десятилетнего своего пребывания в Петербурге, всю составленную в том же духе, как и приведенный мною маленький образчик.
Теперь обратимся к съехавшимся гостям в Багрово. Что за кафтан был на судье, что за мундир на городничем, и вдобавок ко всему, между двух деревенских чучел в женском платье, то есть между женой и свояченицей, — Кальпинский во французском шитом кафтане, с двумя часовыми цепочками, с перстнями на пальцах, в шелковых чулках и башмаках с золотыми пряжками. Нечего делать, и Степан Михайлыч приоделся, и все родные принарядились. Острый, сатирический ум Чичагова потешался над этой смесью костюмов и особенно над своим приятелем Кальпинским. Ему ловко было это делать, потому что его жена и Софья Николавна, которым он все это говорил, были неразлучны и сидели поодаль. Софье Николавне большого труда стоило не смеяться; она старалась не слушать и убедительно просила Чичагова замолчать, а всего лучше заняться разговорами с достопочтенным Степаном Михайлычем, что он исполнил и в короткое время очень полюбил старика, а старик полюбил его. Кальпинского хозяин не жаловал и за то, что он происшедший, и за то, что он еретик и развратник.
Можно себе представить, что обед был приготовлен на славу. На этот раз Степан Михайлыч отказался от всех исключительно любимых блюд: сычуга, жареного свиного хребта (красная часть) и зеленой ржаной каши. Достали где-то другого повара, поискуснее. О столовых припасах нечего и говорить: поеный шестинедельный теленок, до уродства откормленная свинья и всякая домашняя птица, жареные бараны — всего было припасено вдоволь. Стол ломился под кушаньями, и блюда не умещались на нем, а тогда было обыкновенье все блюда ставить на стол предварительно. История началась с холодных кушаний: с окорока ветчины и с буженины, прошпигованной чесноком; затем следовали горячие: зеленые щи и раковый суп, сопровождаемые подовыми пирожками и слоеным паштетом; непосредственно затем подавалась ботвинья со льдом, с свежепросольной осетриной, с уральским балыком и целою горою чищеных раковых шеек на блюде; соусов было только два: с солеными перепелками на капусте и с фаршированными утками под какой-то красной слизью с изюмом, черносливом, шепталой и урюком. Соусы были уступка моде. Степан Михайлыч их не любил и называл болтушками. Потом показались чудовищной величины жирнейший индюк и задняя телячья нога, напутствуемые солеными арбузами, дынями, мочеными яблоками, солеными груздями и опенками в уксусе; обед заключился кольцами с вареньем и битым или дутым яблочным пирогом с густыми сливками. Все это запивалось наливками, домашним мартовским пивом, квасом со льдом и кипучим медом. И всё это кушали, не пропуская ни одного блюда, и всё благополучно переносили гомерические желудки наших дедов и бабок! Кушали не торопясь, и потому обед продолжался долго. Кроме того, что блюд было много, и блюд, как мы видели, основательных, капитальных, лакеи, как свои, так и гостиные (то есть приехавшие с гостями), служить не умели, только суетились и толкались друг о друга, угрожая беспрестанно облить кого-нибудь соусом или соком из-под буженины.
Обед был вполне веселый; по правую сторону хозяина сидела Марья Михайловна, а по левую Чичагов, который час от часу более и более нравился Степану Михайлычу и который один в состоянии был оживить самое скучное общество. Подле Марьи Михайловны сидели молодые, подле Софьи Николавны — ее приятельница Катерина Борисовна, возле которой поместился Кальпинский и целый обед любезничал с обеими молодыми дамами, успевая в то же время перекидываться иногда забавным словцом с Алексеем Степанычем и — есть за двоих, вознаграждая себя тем за строгий пост, который добровольно держал дома по своей необыкновенной скупости. Соседом Чичагова был Ерлыкин, который один в целой компании ел мало, пил одну холодную воду, молчал, смотрел мрачно, значительно. Около хозяйки сидели родные племянницы, дочери и прочие гости. После обеда перешли в гостиную, где два стола были уставлены сластями. На одном столе стоял круглый, китайского фарфора, конфетный прибор на круглом же железном подносе, раззолоченном и раскрашенном яркими цветами; прибор состоял из каких-то продолговатых ящичков с крышками, плотно вставляющихся в фарфоровые же перегородки; в каждом ящичке было варенье: малинное, клубничное, вишенное, смородинное трех сортов и костяничное, а в середине прибора, в круглом, как бы небольшом соуснике, помещался сухой розовый цвет. Этот конфетный сервиз, который теперь считался бы драгоценной редкостью, прислал в подарок свояку Николай Федорыч Зубин. Другой стол был уставлен тарелочками с белым и черным кишмишем, урюком, шепталой, финиками, винными ягодами и с разными орехами: кедровыми, грецкими, рогатыми, фисташками и миндалем в скорлупе. Встав из-за стола, Степан Михайлыч был так весел, что даже не хотел ложиться спать. Все видели, да он и хотел это показать, как он любит и доволен своей невесткой и как она любит и уважает свекра. Он часто обращался к ней во время обеда, требуя разных мелких услуг: «то-то мне подай, того-то мне налей, выбери мне кусочек по своему вкусу, потому что, дескать, у нас с невесткой один вкус; напомни мне, что бишь я намедни тебе сказал; расскажи-ка нам, что ты мне тогда-то говорила, я как-то запамятовал…» Наконец, и после обеда: «то поди прикажи, то поди принеси…» и множество тому подобных мелочей, тонких вниманий, ласковых обращений, которые, несмотря на их простую, незатейливую отделку и грубоватую иногда форму, были произносимы таким голосом, сопровождались таким выражением внутреннего чувства, что ни в ком не осталось сомнения, что свекор души не слышит в невестке. Не нужно и говорить, с какою любовью и благодарностью отвечала Софья Николавна на все малейшие, для многих неуловимые, разнообразные проявления любви к ней непреклонно строгого свекра. В порыве веселости Степан Михайлыч вытащил было на сцену Лупеневскую и, будто ничего не зная, громко ее спросил: «Что, Флена Ивановна, приглянулась ли тебе моя невестка?» Флена Ивановна с восторгом, удвоенным пивом и наливками, начала уверять, божиться и креститься, что она свою дочь Лизыньку так не любит, как полюбила Софью Николавну с первого взгляда, и что какое счастье послал бог братцу Алексею Степанычу! «То-то же, — сказал ей значительно Степан Михайлыч, — теперь ты другим голосом поешь: так не сбивайся же…» Но в эту минуту Софья Николавна, может быть, не желавшая, чтоб такого рода разговор продолжал развиваться, приступила с убедительными просьбами к свекру, чтоб он прилег отдохнуть хоть на короткое время, на что он согласился. Невестка проводила его, даже сама опустила полог и, получив почетное и лестное ей приказанье, чтоб все гости были заняты и веселы, поспешила к гостям. Кое-кто легли отдохнуть, а все остальные пошли на остров и расселись там в древесной тени, над светлою рекою. Вспомнила Софья Николавна происходившую тут недавно неразумную свою вспышку, вспомнила свои несправедливые упреки мужу, вспомнила, что они надолго его огорчили, — и закипело у нее сердце, и хотя видела она Алексея Степаныча теперь совершенно счастливым и радостным, громко смеющимся какому-то двусмысленному анекдоту Кальпинского, но она увлекла его в сторону, бросилась к нему на шею и со слезами на глазах сказала: «Прости меня, мой друг, и забудь навсегда все, что здесь происходило в день нашего приезда!» Алексей Степаныч очень был не рад слезам, но поцеловал свою жену, поцеловал обе ее ручки и, добродушно сказав: «Как это ты, душа моя, вспомнила такие пустяки? что тебе за охота себя тревожить?..» — поспешил дослушать любопытный анекдот, очень забавно рассказываемый Кальпинским. Конечно, в сущности нечем было огорчаться, а стало на ту минуту грустно Софье Николавне.
Старик скоро проснулся и приказал всех звать к себе перед крылечко в широкую густую тень своего дома, где кипел самовар; для всех были расставлены кресла, стулья и столы. Невестка разливала чай; явились самые густые сливки с подрумянившимися толстыми пенками, сдобные булки и крендели, и всему этому опять нашлось место в желудках некоторых посетителей. После чая Кальпинские и Лупеневская уехали, потому что им ехать было недалеко, всего пятнадцать верст, и потому что ночевать в доме решительно было негде. Бугурусланские гости также отправились домой.
На другой день поутру уехала Марья Михайловна с Чичаговыми, а после обеда отправились Ерлыкины, чтоб ожидать посещения молодых на возвратном пути в Уфу. В этот же день вечером без церемонии сказал Степан Михайлыч, что пора и остальным гостям ко дворам и что он хочет последние дни провести с сыном и невесткой и потолковать с ними без помехи. Разумеется, на другой же день гости разъехались. Александра Степановна простилась так ласково с невесткой, как смогла, а невестка простилась с золовкой с непритворным чувством удовольствия. Свекор точно отгадал ее тайное желание пожить с ним несколько дней без золовок. Она благословляла мысленно догадливого старика. С Аксиньей же Степановной, которую старик звал добрухой, и простухой, и майоршей, когда бывал весел, Софья Николавна простилась с искренним чувством благодарности и родственной любви. Все это видел старик насквозь. Свекровь и Танюша были не помеха, во-первых, потому, что от природы были добрее и лучше расположены к невестке, а во-вторых, потому, что они часто удалялись и оставляли их наедине между собою.
Три дня еще прожили молодые в Багрове в совершенном спокойствии духа, не наблюдаемые беспрестанно зорким недоброхотством, не смущаемые ни притворными ласками, ни ядовитыми намеками. Утихли легко раздражаемые нервы Софьи Николавны, и она могла с большим беспристрастием обглядеться вокруг себя, признать и понять особый мир, в котором она находилась. Разумнее, снисходительнее смотрела она на чуждых ей во всех отношениях свекровь и меньшую золовку; с меньшим увлеченьем взглянула на свекра и поняла, из какой среды вышел ее муж; поняла отчасти, что он не мог быть другим человеком и что долго, часто, а может быть и всегда, станут они подчас не понимать друг друга. Последняя мысль слишком легко пролетела у нее в голове, и прежние обольстительные мечты перевоспитанья, перерожденья Алексея Степаныча овладели ее пылким умом. То, что беспрестанно случается в жизни с большею частью молодых женщин, то же происходило и с Софьей Николавной: сознание в неравенстве с собою, сознание в некоторой ограниченности чувств и понятий своего мужа нисколько не мешало ей пламенно и страстно к нему привязываться — и уже начинала мелькать у нее неясная мысль, что он не так ее любит, как может любить, потому что не безгранично предан он любви своей, потому что не ею одною он занят, потому что любит и пруд, и остров, и степь, населенную куликами, и воду с противной ей рыбою. Чувство ревности, еще без имени, без предмета, уже таилось в ее горячем сердце, и темно, смутно предчувствовала она что-то недоброе в будущем. Степан Михайлыч, также до того времени несколько смущаемый собственными постоянными наблюдениями над чувствами и поступками своих дочерей, с большим спокойствием разглядел свою невестку и даже своего сына. Он был так умен, несмотря на то, что не получил никакого образованья, так тонко понимал, несмотря на то, что выражался грубо, по-топорному, — что почувствовал все неравенство природы этих двух существ и крепко призадумался. Нельзя сказать, чтоб он не радостно смотрел на их теперешнюю взаимную любовь, на эту нежную предупредительность, на это ничем не отвлекаемое, страстное внимание Софьи Николавны к своему мужу, — нет, он веселился, глядя на них, но с примесью какого-то опасенья, с какою-то неполнотою веры в прочность и продолжительность этого прекрасного явления. Он много, подолгу беседовал с ними, и с обоими вместе, и с каждым порознь. Хотелось бы ему что-то им высказать, на что-то указать, дать какие-то полезные советы; но когда он начинал говорить, то неясно понимаемые им чувства и мысли не облекались в приличное слово, и ограничивался он обыкновенными пошлыми выражениями, тем не менее исполненными вечных нравоучительных истин, завещанных нам опытною мудростью давно живущего человечества и подтверждаемых собственным нашим опытом. Ему было досадно, и он откровенно говорил о том своей умной невестке, которая, однако, не могла понять, что вертелось на уме и таилось в душе у старика. Он говорил своему сыну: «Жена у тебя больно умна и горяча, может, иногда скажет тебе и лишнее; не балуй ее, сейчас останови и вразуми, что это не годится; пожури, но сейчас же прости, не дуйся, не таи на душе досады, если чем недоволен; выскажи ей все на прямые денежки; но верь ей во всем; она тебя ни на кого не променяет». Он говорил также наедине Софье Николавне: «Дорогая невестушка, всем тебя бог не обидел, одно скажу тебе: не давай воли своему горячему сердцу; муж у тебя добрый и честный человек; нрав у него тихий, и ты от него никогда терпеть не будешь никакой обиды; не обижай же его сама. Чти его и поступай с уваженьем. Не станешь почитать мужа, — пути не будет. Что он скажет или сделает не так, не по-твоему, — промолчи, не всяко лыко в строку, не всяка вина виновата. Больно я тебя полюбил, вижу я тебя всю! Ради бога, не переливай через край; все хорошо в меру, даже ласки и угожденья…»
Сын принимал отцовские наставления с привычным благоговеньем, невестка — с пылким и благодарным чувством дочери. Много было и всяких других разговоров: о будущем житье-бытье в Уфе, о дальнейшей службе Алексея Степаныча, о средствах для городской жизни. Обо всем условились обстоятельно, и все были довольны.
Наконец, наступил последний день отъезда. Сняли штофные гардины и занавес, сняли с подушек атласные и кисейные наволочки с широкими кружевами, все это уложили и отправили в Уфу; напекли и нажарили разных подорожников; привезли того же отца Василья и отслужили молебен «о путешествующих». Послали заготовить лошадей уже не в Нойкино, а в Коровино, за сорок верст, потому что туда должны были довезти их домашние кони: тот же славный шестерик, на котором катались молодые с свадебными визитами. В последний раз отобедали вместе; в последний раз попотчевал Степан Михайлыч свою дорогую невестку любимыми блюдами. Карета стояла уже у крыльца. Встав из-за стола, перешли в гостиную, сели, замолчали. Степан Михайлыч перекрестился и встал; все перекрестились и встали, помолились богу и начали прощаться. Все, кроме Степана Михайлыча, плакали, но и он едва крепился. Благословляя и обнимая невестку, он шепнул ей на ухо: «Порадуй же меня внучком». Софья Николавна покраснела до ушей и молча целовала у старика руки, которых он уже не отнимал. У крыльца стояла вся дворня и почти все крестьяне. Некоторые было вздумали прощаться с молодыми, но Степан Михайлыч не любил прощаний и проводов и закричал: «Куда вы лезете! поклонитесь, да и будет». Только и успела Софья Николавна поцеловаться с Федосьей да с Петром. Проворно сели молодые в свою карету, и, как перушко, подхватили ее с места крепкие кони. Степан Михайлыч, накрыв рукою глаза от солнца, несколько мгновений следил за облаком пыли, стараясь разглядеть в нем улетающий экипаж, и, когда карета выбралась к господскому гумну на крутую гору, воротился в свою горницу и лег почивать.
ПЯТЫЙ ОТРЫВОК ИЗ «СЕМЕЙНОЙ ХРОНИКИ» ЖИЗНЬ В УФЕ
В первые минуты Софье Николавне было жаль свекра, грустно, что она рассталась с ним: образ старика, полюбившего ее, огорченного теперь разлукою с невесткой, так и стоял перед нею; но скоро мерное покачиванье кареты и мелькающие в окна поля, небольшие перелески, горный хребет, подле которого шла дорога, произвели свое успокоительное действие, и Софья Николавна почувствовала живую радость, что уехала из Багрова. Радость эта была так сильна, что она не умела скрыть ее, хотя понимала, что для мужа будет это неприятно. Алексей Степаныч был грустен более, казалось ей, чем должно. Может быть, и последовали бы какие-нибудь объяснения, но, слава богу, их не было: мешало присутствие Параши. Быстро прокатилась карета через Нойкино, приветствуемая дружелюбными и веселыми восклицаниями попадавшейся навстречу мордвы; по плохому мосту переехала Насягай, при впадении в него речки Боклы, промелькнула через Полибино и, опять переехав Насягай, наконец достигла Коровина, где ждали наших молодых приготовленные обывательские лошади. Багровские кони должны были несколько часов отдохнуть и выкормиться, чтоб на заре отправиться домой. Софья Николавна запаслась бумагой и чернилицей с пером и написала свекру и свекрови благодарное, горячее письмо, которое, конечно, относилось к одному Степану Михайлычу: он все понял и спрятал письмо в секретный ящик своего небольшого шкафа, где никто его не видал и где через восемь лет, уже после его кончины, нечаянно нашла свое письмо сама Софья Николавна. Лошадей заложили, и молодые, простившись с кучером и форейтором, которым был на этот раз долгоногий Танайченок, отправились в дальнейший путь. Судьба захотела побаловать Софью Николавну: заехать в деревню Ерлыкиных было невозможно. Мост на какой-то глубокой реке, которую, своротив в сторону на Ерлыкино, необходимо следовало переехать, подгнил и развалился; починки его надобно было ожидать очень долго, и молодые Багровы отправились прямо в Уфу. От какого скучного и тягостного посещения избавило это обстоятельство молодую женщину! Подъезжая к Уфе, Софья Николавна предалась исключительно чувству горячей дочерней любви. Больной отец, уже с лишком две недели ее не видавший, тоскующий по ней в одиночестве, на руках нерадивой прислуги, беспрестанно представлялся ее пылкому воображению. Перевоз через реку Белую на дрянном пароме, задержавший путешественников с лишком час, подъем на крутую гору, также очень медленный, — все это вместе взволновало нервы Софьи Николавны, раздражило ее нетерпеливую природу, и она, приехав, наконец, домой, с лихорадочным волнением подбежала к спальне своего отца и тихо отворила дверь… Старик лежал в обыкновенном своем положении, подле него на самых тех креслах, на которых всегда сидела Софья Николавна, сидел лакей Калмык.
Но об этом Калмыке надобно рассказать подробно. В те времена в Уфимском наместничестве было самым обыкновенным делом покупать киргизят и калмычат обоего пола у их родителей или родственников; покупаемые дети делались крепостными слугами покупателя. Лет за тридцать до рассказываемого мною случая Николай Федорович Зубин купил двух калмычонков, окрестил их, очень полюбил, баловал и, когда они подросли, выучил грамоте и приставил ходить за собою. Оба были умны, ловки и, казалось, очень усердны; но когда поднялась пугачевщина, оба бежали к бунтовщикам. Один вскоре погиб, а другой, особенно любимый господином, по имени Николай, сделался любимцем знаменитого бунтовщика Чики, бывшего в свою очередь любимцем Пугачева. Известно, что шайка бунтующей сволочи долго стояла под Уфою, на другом берегу реки Белой. В ней находился Николай Калмык, уже в каком-то значительном чине. Рассказывали, что он свирепствовал больше всех и особенно грозился на своего господина и воспитателя Зубина. Есть предание, что всякий раз, когда бунтовщики намеревались переправиться через Белую, чтоб завладеть беззащитным городом, им казалось, что множество войска выступало на крутой противоположны берег реки и что какой-то седой старик, с копьем и крестом в руке, на белой, как снег, лошади предводительствовал войском. Всякий раз трусливые шайки бродяг со страхом оставляли свое намерение и, мешкая таким образом, дождались известия, что Пугачев разбит. Разумеется, бунтовщики разбежались во все стороны. Дело пугачевское кончилось. Рассыпавшуюся сволочь перехватали и предали суду. Николай Калмык также был схвачен и приговорен к виселице. Нисколько не ручаюсь за достоверность рассказа, но меня уверяли, что на Калмыка, которого судили в Уфе, была надета уже петля, но что, по дарованному помещикам праву, Зубин простил своего прежнего любимца и взял его к себе на свое поручительство и ответственность. Калмык, по-видимому, раскаялся и старался усердною угодливостью загладить свое преступление. Мало-помалу он вкрался в доверенность своего господина, и когда Софья Николавна, после смерти своей мачехи, вступила в управление домом, она нашла уже Калмыка дворецким и любимцем своего отца, особенно потому, что он был любимцем покойной ее мачехи. Николай Калмык, как человек очень хитрый, сделавший много оскорблений затоптанной в грязь барышне, понимал свое положение и прикинулся кающимся грешником, сваливая все вины на покойницу и обвиняя себя только в рабском исполнении ее приказаний. Великодушная четырнадцатилетняя госпожа, для которой тогда ничего не стоило навсегда удалить Калмыка, поверила его раскаянью, простила и сама упросила отца оставить Николая в прежней должности. Впоследствии она не всегда была им довольна за самовольство его распоряжений и двусмысленную трату денег; она даже замечала, что он втайне был ближе к ее отцу, чем бы она желала; но, видя, как он усердно ходит за больным господином (у которого в комнате всегда спал), как успевает в то же время отлично исполнять должность дворецкого, она довольствовалась легкими выговорами и оставляла Калмыка спокойно укореняться во всех его должностях. Сделавшись невестою, Софья Николавна сама должна была позаботиться о своем приданом, должна была много времени проводить с женихом и, следовательно, менее быть с отцом и менее заниматься хозяйством. Николай Калмык воспользовался благоприятными обстоятельствами и с каждым днем более овладевал больным стариком. Надеясь вскоре избавиться от госпожи и сам сделаться господином в доме, он стал наглее и менее скрывал свою силу. Софья Николавна иногда резко его осаживала и, к сожалению, замечала, что старик постоянно привыкал к своему любимцу и подчинял себя его власти. Последние дни перед свадьбой, первые дни после свадьбы и, наконец, с лишком двухнедельный отъезд в Багрово дали возможность Калмыку вполне овладеть своим почти умирающим барином, и первый взгляд на сидящего в креслах лакея, чего прежде никогда не бывало, открыл Софье Николавне настоящее положение дел. Она так взглянула на любимца, что он смешался и сейчас ушел. Старик далеко не так обрадовался дочери, как она могла ожидать, и поспешил объяснить, что он сам насильно заставляет иногда Калмыка сидеть возле него на креслах. Софья Николавна, сказав: «Напрасно вы это делаете, батюшка, вы его избалуете и принуждены будете прогнать. Я лучше вас его знаю…» — не вошла в дальнейшие объяснения и поспешила выразить свою сердечную радость, что нашла больного не в худшем положении. Пришел Алексей Степаныч, и старик, растроганный искреннею нежностью своей дочери, искреннею ласковостью своего зятя, взаимною любовью обоих, слушал все их рассказы с умилением и благодарил бога со слезами за их счастие. Софья Николавна с живостью занялась устройством своего житья, взяла себе в доме три совершенно отдельные комнаты и в несколько дней так распорядилась своим помещением, что могла принимать к себе гостей, нисколько не беспокоя больного. Она принялась было по-прежнему распоряжаться хозяйством своего отца и уходом за ним, отодвинув Кылмыка на второстепенное место главного исполнителя ее приказаний, но всегда ненавидевший ее Калмык уже чувствовал себя довольно сильным, чтоб не побояться открытой борьбы с молодою своею барыней. Удвоив заботливость около старика Зубина, он с неимоверною хитростью умел оскорблять его дочь на каждом шагу, особенно ее смиренного мужа; с ним он был так дерзок, что, несмотря на кроткий и тихий нрав, Алексей Степаныч терял терпенье и говорил своей жене, что оставаться им в таком положении невозможно. Несколько времени Софья Николавна щадила больного старика и думала своими внушениями остановить Николая в пределах сносного приличия; она надеялась на его ум, надеялась на то, что он должен знать ее твердый характер и не решится довести ее до крайности; но злобный азиятец (как его все в доме называли) был заранее уверен в победе и старался вызвать Софью Николавну на горячую вспышку. Он давно уже успел внушить старику, что прежняя барышня, а теперешняя молодая барыня терпеть не может его, верного Калмыка, и что непременно захочет его прогнать; от таких слов больной приходил в ужас, клялся и божился, что лучше согласится умереть, чем отпустить его. Софья Николавна пробовала в самых ласковых и нежных словах намекнуть отцу, что Калмык забывается перед ней и перед ее мужем и так дурно исполняет ее приказания, что она видит в этом умысел — вывесть ее из терпения. Николай Федорыч приходил в волнение, не хотел ничего слушать, говорил, что он Калмыком совершенно доволен, просил оставить Калмыка в покое и употреблять вместо него другого человека для исполнения ее приказаний. Много, дорого стоило вспыльчивой молодой женщине, привыкшей к полновластному господству в доме своего отца, переносить дерзкие оскорбления от «подлого холопа»! Но она так любила отца, находила такое счастие в том, чтобы ходить за ним, покоить его, облегчать, по возможности, его страдальческое положение, что мысль оставить умирающего старика в полную зависимость негодяя Калмыка и других слуг долго не входила ей в голову. Она укротила свою вспыльчивость и оскорбленную гордость; распоряжалась в доме через другого человека, зная в то же время, что Калмык изменял и переменял все ее распоряжения по своему произволу. Она выпросила у отца приказание, чтоб Калмык не входил в его спальню, покуда она сидит там; но это приказание было вскоре нарушено: под разными предлогами Николай беспрестанно входил в комнату к старику, да и сам больной беспрестанно его спрашивал. Такое мучительное положение тянулось несколько месяцев.
Жизнь свою в уфимском обществе устроила Софья Николавна согласно своему желанию; с приятными для нее людьми она видалась часто, то у себя, то у них; с остальными видалась изредка или считалась церемонными визитами. Алексея Степаныча и прежде все знали, но издали, а теперь люди, близкие с Софьей Николавной, сблизились с ним, полюбили его, и он очень хорошо улаживался в новом своем положении, то есть в избранном обществе Софьи Николавны.
Между тем вскоре по возвращении в Уфу Софья Николавна почувствовала особенного рода нездоровье, известие о котором привело Степана Михайлыча в великую радость. Продолжение древнего рода Багровых, потомков знаменитого Шимона, было постоянным предметом дум и желаний старика, смущало спокойствие духа, торчало гвоздем у него в голове. Получив вожделенное известие от сына, Степан Михайлыч предался радостной надежде и даже поверил, что у него непременно будет внук. Семья всегда говорила, что он в это время был необыкновенно весел. Он сейчас отслужил молебен за здравие болярыни Софии, простил какие-то долги соседям и своим крестьянам, всех заставлял поздравлять его и поил всякого допьяна. В пылу такой восторженности вдруг вздумалось ему наградить свою чайницу и кофейницу Аксютку, которую он бог знает за что постоянно жаловал. Аксютка была круглая крестьянская сирота, взятая во двор, на сени, с семилетнего возраста единственно потому, что ее некому было кормить. Она была очень дурна лицом: рыжая, в веснушках, с глазами неизвестного цвета и, сверх того, отвратительно неопрятна и зла. За что бы ее любить? А Степан Михайлыч очень ее любил, и не проходило обеда, чтоб он не давал или не посылал со стола подачки своей Аксютке; когда же она стала девкой в возрасте, заставил по утрам наливать себе чай и разговаривал с нею целые часы. В настоящее время Аксютке было уже далеко за тридцать лет. И вот в одно утро, через несколько дней после радостной вести из Уфы, Степан Михайлыч говорит Аксютке: «Что ты, дура, ходишь неряхой? Поди и приоденься хорошенько, по-праздничному; я хочу тебя замуж выдать». Оскалила зубы Аксютка и, считая, что барин балагурит, отвечала: «Ну кто на мне, на сироте, женится? Разве пастух Кирсанка?» Это был известный дурак и урод. Степану Михайлычу стало как будто досадно, и он продолжал: «Уж если я посватаю — женится что ни лучший парень. Пошла оденься и мигом приходи ко мне». В радостном недоумении ушла Аксютка, а Степан Михайлыч велел позвать к себе Ивана Малыша; мы отчасти уже знаем его. Это был двадцатичетырехлетний парень, кровь с молоком, молодец в полном смысле и ростом и дородством, сын старинного усердного слуги, Бориса Петрова Хорева, умершего в пугачевщину от забот, как все думали, и сухоты при сохранении в порядке вверенных его управлению крестьян Нового Багрова, когда помещик бежал с семьей в Астрахань. Ивана потому звали Малышом, что у него был старший брат также Иван, который прозывался Хорев, по прозвищу своего отца. Иван Малыш вырос перед своим барином как лист перед травой. Степан Михайлыч посмотрел на него, полюбовался и сказал самым милостивым и ласковым голосом, от которого у Малыша жилки задрожали с радости: «Малыш, я хочу тебя женить». — «Ваша господская воля, батюшка Степан Михайлыч», — отвечал душой и телом преданный слуга. «Поди же принарядись и приходи ко мне; да чтоб одна нога там, а другая здесь». Малыш опрометью побежал исполнить барский приказ. Аксютка, однако, пришла первая; она пригладила и примазала свои рыжие волосы коровьим маслом, напялила праздничную кофту с юбкой, обулась в башмаки — и не похорошела! Она не могла удерживаться, и рот ее беспрестанно кривился от радостной улыбки; ей было стыдно оттого, и она закрывала лицо рукою. Степан Михайлыч смеялся. «Что, любо, небось хочется замуж», — говорил он… Соколом влетел Малыш, и мороз подрал его по коже при виде нарядной вороны Аксютки. «Вот тебе невеста, — весело сказал Степан Михайлыч, — она мне хорошо служит, и отец твой мне хорошо служил: я вас не покину. — Ариша, — сказал он, обратясь к только что вошедшей жене, — невесте сшить все приданое из господского добра, и корову ей дать и свадьбу сыграть господским пивом, вином и харчами». Противоречий не было. Свадьбу сыграли. Аксютка без памяти влюбилась в красавца мужа, а Малыш возненавидел свою противную жену, которая была вдобавок старше его десятью годами. Аксютка ревновала с утра до вечера, и не без причины, а Малыш колотил ее с утра до вечера, и также не без причины, потому что одно только полено, и то ненадолго, могло зажимать ей рот, унимать ее злой язык. Жаль, очень жаль! Погрешил Степан Михайлыч и сделал он чужое горе из своей радости.
Я сужу об этой его радости не столько по рассказам, как по его письму к Софье Николавне, которое я сам читал; трудно поверить, чтобы этот грубый человек, хотя умеющий любить сильно и глубоко, как мы видели, мог быть способен к внешнему выражению самой нежной, утонченной заботливости, какою дышало все письмо, исполненное советов, просьб и приказаний — беречь свое здоровье. К сожалению, я помню только несколько слов из этого письма. «Кабы ты жила со мной, — писал старик между прочим, — я бы не дал на тебя ветру венуть[26] и порошинке сесть».
Софья Николавна умела ценить любовь свекра, хотя понимала в то же время, что половина любви относилась к будущему наследнику, — и обещала свято исполнять его просьбы и приказания. Но трудно было ей сдержать свое обещание. Кроме того, что она принадлежала к числу тех женщин, которые платят за счастие быть матерью постоянно болезненным состоянием, более тягостным и мучительным, чем всякая болезнь, — она страдала душой: отношения к отцу день ото дня становились огорчительнее, а дерзости Калмыка — невыносимее. Алексей же Степаныч, не видя ничего опасного в постоянном нездоровье жены, слыша от других, что это дело обыкновенное, ничего не значит, скоро пройдет, хотя смотрел на нее с сожалением, но не слишком возмущался — и это огорчало Софью Николавну. Что же касается до жизни у тестя, то он попривык к ней: избегал встречи с Калмыком, занимался усердно своею должностью в Верхнем земском суде, где скоро надеялся быть прокурором, и довольно спокойно дожидался перемены в своем положении: это также не нравилось Софье Николавне. Так тянулось время несколько месяцев, как я уже сказал — тянулось невесело для всех.
Но Калмык не довольствовался таким положением дел. Он шел к развязке. Видя, что Софья Николавна побеждает свое справедливое негодование и свою горячность, он решился вывесть ее из терпения; ему было нужно, чтоб она вспылила и пожаловалась отцу, которого он предупреждал не один раз, что ожидает каждую минуту жалобы на себя от Софьи Николавны и требования удалить его из дома. Не дожидаясь никакого особенного случая, никакого повода, Калмык, в присутствии слуг, в двух шагах от молодой барыни, стоявшей у растворенных дверей в другой соседней комнате, прямо глядя ей в глаза, начал громко говорить такие дерзкие слова об ней и об ее муже, что Софья Николавна была сначала изумлена, ошеломлена такою наглостью; но скоро опомнившись и не сказав ни одного слова Калмыку, бросилась она к отцу и, задыхаясь от волнения и гнева, передала ему слышанные ею, почти в лицо сказанные его любимцем дерзости… Следом за нею вошел Калмык и, не дав ей даже кончить, кукся глаза и крестясь на образ, с клятвою начал уверять, что все это клевета, что он никогда ничего подобного не говаривал и что грех Софье Николавне губить невинного человека!.. «Слышишь, Сонечка, что он говорит», — встревоженным голосом произнес больной… Софья Николавна, пораженная до глубины души, забыла свою великодушную решимость, забыла, что может уморить от испуга старика, и так крикнула на его любимца, что он должен был уйти. Сказав отцу: «После такой обиды, батюшка, я с Калмыком не могу жить в одном доме. Выбирайте, кого выгнать: меня или его», — как безумная выбежала она из комнаты больного. Старику сделалось дурно. Калмык поспешил к нему на помощь; когда же, после обыкновенных в таких случаях медицинских средств, Николай Федорыч оправился, он беседовал долго с своим любимцем и, наконец, велел позвать к себе дочь. «Сонечка, — сказал он с возможною для него твердостью и спокойствием, — я не могу, по моей болезни и слабости, расстаться с Николаем; я им живу. Вот деньги, купите себе дом Веселовских». — Софья Николавна упала в обморок и была отнесена в свою комнату.
Так вот какой имела исход эта нежная, взаимная любовь отца и дочери, скрепленная, казалось, неразрывными узами временного охлаждения, произведенного покойною Александрой Петровной, потом раскаянием и благодарностью со стороны виновного отца и пламенною безграничною горячностью невиноватой дочери, забывшей все прежние оскорбления, — дочери, которая посвятила свою жизнь больному старику, которая вышла замуж именно за такого человека и с таким условием, чтоб он не разлучал ее с отцом!.. И когда же она расстается с ним?.. когда доктора не ручались уже и за месяц его жизни. Доктора ошибались в своем предсказании точно так, как ошибаются они и теперь: больной прожил еще более года.
Когда пришла в себя Софья Николавна и взглянула на испуганное бледное лицо своего Алексея Степаныча, она поняла и почувствовала, что есть существо, ее любящее; она обняла своего сокрушенного горем мужа, и ручьи слез облегчили ее сердце. Она рассказала все происшедшее между ею и отцом; рассказ обновил всю горечь оскорбления, уяснил безвыходность положения, и она, конечно, пришла бы в отчаяние, если б не поддержал ее этот добрый муж, слабый по своему характеру и менее ее дальновидный по своему уму, но зато не впадавший в крайности и не терявший присутствия духа и рассудка в тяжелые минуты жизни. Может быть, покажется странным, что Алексей Степаныч поддержал дух Софьи Николавны; но эта необыкновенная женщина, несмотря на свой необыкновенный ум и, по-видимому, твердый нрав, имела несчастное свойство упадать духом и совершенно теряться в тех случаях, где поражалась ее душа нравственными неожиданными ударами. Как беспристрастный передаватель изустных преданий, должен я сказать, что, сверх того, она была слишком чувствительна к суду света, слишком подчинялась ему, как бы ни стояла сама выше того круга, в котором жила. Мысль, что скажет уфимский свет, особенно значительные дамы, в нем живущие, потом мысль, что подумает мужнина семья, а всего более — что скажет свекор, узнав, что Софья Николавна съехала от отца, — эти мысли язвили ее самолюбие и гордость и терзали ее наравне с оскорбленным чувством дочерней любви. Ей одинаково казалось ужасным: обвинение, падавшее на отца в неблагодарности к дочери, и обвинение, падавшее на дочь в недостатке любви к умирающему отцу. Выбора не было: что-нибудь одно должны были подумать люди и кого-нибудь должны были осудить… Глубокую жалость, смешанную с изумлением, чувствовал Алексей Степаныч, глядя на такое терзание! Трудно, мудрено было приступиться к Софье Николавне с утешительными или успокоительными речами. Пылкое ее воображение рисовало ужасные картины, и живописно передавало их ее одушевленное, увлекательное слово. Она заранее уничтожала всякие попытки к исходу из своего положения, устраняла всякую надежду на примирение с ним. Но любовь и душевная простота, которой недоставало Софье Николавне, научили Алексея Степаныча, — и, переждав первый неудержимый порыв, вопль взволнованной души, он начал говорить слова весьма обыкновенные, но прямо выходившие из доброго и простого его сердца, и они мало-помалу если не успокоили Софью Николавну, то по крайней мере привели к сознанию, к пониманию того, что она слышит. Он говорил, что она до сих пор исполняла долг свой как дочь, горячо любящая отца, и что теперь надобно так же исполнить свой долг, не противореча и поступая согласно, с волею больного; что, вероятно, Николай Федорыч давно желал и давно решился, чтоб они жили в особом доме; что, конечно, трудно, невозможно ему, больному и, умирающему, расстаться с Калмыком, к которому привык и который ходит за ним усердно; что батюшке Степану Михайлычу надо открыть всю правду, а знакомым можно сказать, что Николай Федорыч всегда имел намерение, чтобы при его жизни дочь и зять зажили своим домом и своим хозяйством; что Софья Николавна будет всякий день раза по два навещать старика и ходить за ним почти так же, как и прежде; что в городе, конечно, все узнают со временем настоящую причину, потому что и теперь, вероятно, кое-что знают, будут бранить Калмыка и сожалеть о Софье Николавне. «Впрочем, — прибавил он, — может быть, батюшка сказать-то сказал, а расстаться с тобой не решится. Поговори с ним и представь ему все резоны». Ничего не отвечала Софья Николавна и долго молчала, устремив вопросительный, изумленный взгляд на мужа; правда простых слов и простоты душевной повеяла на нее так успокоительно и отрадно, что они показались ей и новыми и мудрыми. Дивилась она, как прежде ей самой не пришло все это в голову, и с благодарною любовью обняла Алексея Степаныча. Итак, было решено, что Софья Николавна попытается убедить Николая Федорыча, чтобы он отменил свое решение, чтоб позволил им оставаться в доме, при совершенно отдельном хозяйстве, без всякого соприкосновения с Калмыком, оставаться по крайней мере до тех пор, когда Софья Николавна, после разрешения от беременности, бог даст, совершенно оправится. Все это основывалось на самой убедительной причине, то есть что Софье Николавне, по ее положению, вредно трястись в экипаже по непроездным уфимским улицам и что в то же время никакая опасность не помешает ей всякий день ездить к больному. Объяснение с отцом не имело успеха; старик спокойно и твердо сказал ей, что его решение не было минутным порывом, а давно обдуманным делом. «Я наперед знал, милая моя Сонечка, — так говорил Николай Федорыч, — что, вышедши замуж, ты не можешь оставаться в одном доме с Николаем. Ты против него раздражена, и я не обвиняю тебя: он прежде был много виноват перед тобою; ты простила ему, но забыть его оскорблений не могла. Я знаю, что и теперь он бывает перед тобою виноват, но тебе все уже кажется в преувеличенном виде…» — «Батюшка», — прервала было его Софья Николавна, но старик не дал ей продолжать, сказав: «Погоди, выслушай все, что я хочу сказать тебе. Положим, что Калмык точно так виноват, как ты думаешь; но в таком случае тебе еще более невозможно жить с ним под одною кровлею, а мне — невозможно с ним расстаться. Сжалься на мое бедное, беспомощное состояние. Я уже труп недвижимый, а не человек; ты знаешь, что Калмык двадцать раз в сутки должен меня ворочать с боку на бок; заменить его никто не может. Мне одно только нужно — спокойствие духа. Смерть стоит у меня в головах. Каждую минуту я должен готовиться к переходу в вечность. Мысль, что Калмык делает тебе неприятности, возмущала мой дух беспрестанно. Нечего делать, расстанемся, мой друг, живите своим домом. Когда ты будешь приезжать ко мне, ты не увидишь противного тебе человека: он охотно будет прятаться. Он добился, чего хотел, выжил тебя из дому и теперь может обворовывать меня, сколько ему угодно… Я все это знаю и вижу, и все ему прощаю за его неусыпное обо мне попечение и денно и нощно; он то выносит, ходя за мною, чего никакие человеческие силы вынести не могут. Не огорчай же меня, возьми деньги и купи дом в Голубиной слободке на свое имя».
Не стану описывать разных сомнений, колебаний, борений с собою, слез, мучений, уступок, охлаждений и новых воспламенений Софьи Николавны. Довольно того, что деньги были взяты, дом куплен, и через две недели поселился в нем Алексей Степаныч с своею молодою женой. Домик был новенький, чистенький, никто в нем еще не жил. Софья Николавна сгоряча принялась с свойственною ей ретивостью за устройство нового своего жилья и житья-бытья; но здоровье ее, сильно страдавшее от болезненного положения и еще сильнее пострадавшее от душевных потрясений, изменило ей; она сделалась очень больна, пролежала недели две в постели и почти целый месяц не видела отца.
Первое свидание Софьи Николавны после болезни с Николаем Федорычем, который стал еще слабее, было жалко и умилительно. Старик стосковался по дочери, считал себя причиною ее болезни и мучился невозможностью ее увидеть. Наконец, они свиделись, обрадовались и оба поплакали. Николай Федорыч особенно огорчался тем, что Софья Николавна ужасно похудела и подурнела, чему причиною было не столько огорчение и болезнь, сколько особенность ее положения. У некоторых женщин в эту пору изменяется и даже искажается лицо: с Софьей Николавной было точно то же. Через несколько времени дело обошлось, уладилось, и отношения с отцом приняли благоприятный вид. Калмык не показывался на глаза Софье Николавне. Один Степан Михайлыч не мог примириться с переездом дочери от умирающего отца в свой собственный дом. Софья Николавна это предчувствовала и еще до болезни успела написать к свекру самое откровенное письмо, в котором старалась объяснить и оправдать по возможности поступок своего отца; но Софья Николавна хлопотала понапрасну; Степан Михайлыч обвинял не Николая Федорыча, а его дочь и говорил, что «она должна была все перетерпеть и виду неприятного не показывать, что бы шельма Калмык ни делал». Он написал выговор Алексею Степанычу, зачем он позволил своей жене «бросить отца на рабьи руки». Необходимости разлучиться для сохранения спокойствия умирающего Степан Михайлыч не понимал, а равно и того, что можно жене действовать без позволения мужа. Впрочем, в этом случае муж и жена были совершенно согласны.
Для окончательного устройства своего новенького домика и маленького хозяйства Софья Николавна пригласила к себе на помощь одну свою знакомую вдову, уфимскую мещанку Катерину Алексевну Чепрунову, женщину самую простую и предобрую, жившую где-то в слободе, в собственном домишке с большим, однако плодовитым садом, с которого получала небольшой доход. Сверх того, она содержала себя и единственного, обожаемого кривого сынка своего Андрюшу переторжкою разным мелким товаром и даже продавала калачи на базаре. Главный ее доход состоял в продаже бухарской выбойки, для покупки которой ежегодно ездила она на мену в Оренбург. Катерина Алексевна Чепрунова была с матерней стороны родственница Софье Николавне, но Софья Николавна имела слабость скрывать это родство, хотя все в городе о нем знали. Катерина Алексевна души не чаяла в своей знаменитой и блистательной родственнице, которую навещала, потихоньку от ее мачехи, в тяжкое время унижения и гонений и которая сделалась явно благодетельницей Катерины Алексевны во время торжества и власти. Наедине Софья Николавна осыпала ласками бескорыстную, постоянно и горячо ее любившую родственницу и даже обходилась с нею почтительно; при свидетелях же одна была покровительствуемая калачница, а другая — дочь товарища наместника. Но добрейшая Катерина Алексевна не только не оскорблялась тем, а даже требовала, чтоб с нею так обходились; она безгранично любила свою ненаглядную и родную ей красавицу и смотрела на нее, как на высшее благодетельное существо: она бы себя невзлюбила, если б как-нибудь помрачила блестящее положение Софьи Николавны. Разумеется, тайна была открыта Алексею Степанычу, и он, несмотря на свое древнее дворянстве, о котором довольно напевала ему семья, принял мещанку-торговку как добрую родственницу своей жены и во всю свою жизнь обходился с ней с ласкою и уважением; он хотел даже поцеловать грубую руку калачницы, но та сама ни за что на это никогда не соглашалась. Только убедительные просьбы Софьи Николавны принудили Алексея Степаныча не рассказывать об этом родстве в своей семье и в кругу знакомых. Зато как любила его простодушная Катерина Алексевна и какою горячей была заступницей за него впоследствии, во всяких домашних неудовольствиях! С помощью этой-то Катерины Алексевны, которая умела все найти и все купить дешево, устроилась Софья Николавна и скоро и хорошо.
В городе довольно поговорили, порядили и посудили о том, что молодые Багровы купили себе дом и живут сами по себе. Много было преувеличенных и выдуманных рассказов; но Алексей Степаныч угадал: скоро узнали настоящую причину, отчего молодые оставили дом отца; этому, конечно, помог более всего сам Калмык, который хвастался в своем кругу, что выгнал капризную молодую госпожу, раскрашивая ее при сей верной оказии самыми яркими красками. Итак, в городе поговорили, порядили, посудили и — успокоились.
И вот, наконец, остались совершенно вдвоем молодые Багровы. По утрам уезжал Алексей Степаныч к своей должности в Верхний земский суд. Отправляясь туда, он завозил жену к ее отцу, а возвращаясь из присутствия, заезжал сам к тестю и, пробыв у него несколько времени, увозил свою жену домой. Умеренный обед ожидал их. Обед с глазу на глаз в собственном доме, на собственные деньги, имел свою прелесть для молодых хозяев, которая, конечно, не могла продолжаться слишком долго: к чему не привыкает человек? Софья Николавна, несмотря на свое болезненное состояние и самые скудные средства, умела убрать свой домик, как игрушечку. Вкус и забота заменяют деньги, и многим из приезжавших в гости к молодым Багровым показался их дом убранным богато. Всего труднее было устроить прислугу: приданого лакея Софьи Николавны Федора Михеева женили на приданой же горничной, черномазой Параше; а молодого слугу из Багрова Ефрема Евсеева, честного, добродушного и очень полюбившего молодую барыню (чего нельзя было сказать про других слуг), обвенчали с молоденькою прачкой Софьи Николавны, Аннушкой. Честного Ефрема также очень полюбила молодая барыня, и недаром. Этот редкий человек целою жизнью доказал ей свою преданность.[27]
Между тем уфимская жизнь приняла весьма правильное и однообразное течение. По нездоровью и неприятному расположению духа Софья Николавна выезжала редко, и то к самым коротким знакомым, из немногого числа которых самых коротких, то есть Чичаговых, долго не было в городе: они воротились с матерью уже в глубокую осень. Неприятное расположение духа Софьи Николавны, так тесно связанное с расстройством нерв, сначала очень огорчало и беспокоило Алексея Степаныча. Он ничего не понимал в этом деле: больных без болезни, огорченных без горя или, наоборот, заболевающих от беспричинной грусти и грустных от небывалой или незаметной болезни, — он не встречал во всю свою жизнь. Видя, однако, что ничего важного или опасного нет, он начал привыкать мало-помалу — и успокоился. Он убедился в той мысли, что все это одно воображение, Этою мыслью он и прежде объяснял себе разные волнения и огорчения Софьи Николавны в тех случаях, когда не мог доискаться видимой, понятной для него причины. Он перестал беспокоиться, но зато начинал иногда понемногу скучать. Дело было совершенно естественно. Как ни любил Алексей Степаныч жену, как ни жалко было ему смотреть, что она беспрестанно огорчается, но слушать ежедневно, по целым часам, постоянные желобы на свое положение, весьма обыкновенное, слушать печальные предчувствия и даже предсказания о будущих несчастных последствиях своей беременности, небывалые признаки которых Софья Николавна умела отыскивать, при помощи своих медицинских книжных сведений, с необыкновенным искусством и остроумием, слушать упреки тончайшей требовательности, к удовлетворению которой редко бывают способны мужья, конечно, было скучновато. Софья Николавна это видела и огорчалась до глубины души. Если б она находила в своем муже вообще недостаток чувств, неспособность любить безгранично, она бы скорее примирилась с своим положением. «Чего бог не дал, того негде взять», — часто говаривала она сама, и, признавая разумность такой мысли, она покорилась бы своей судьбе; но, к несчастью, страстная, восторженная любовь Алексея Степаныча, когда он был женихом, убедила ее, что он способен пламенно любить и вечно любил бы ее точно так же, если б не охладел почему-то в своих чувствах… Несчастная эта мысль овладела постепенно воображением Софьи Николаевы. Изобретательный ее ум всему находил множество причин и множество доказательств; причинами она считала: неблагоприятные внушения семьи, свое болезненное состояние, а всего более — потерю красоты, потому что зеркало безжалостно показывало ей, как она изменилась, как подурнела. Доказательства находила она в том, что Алексей Степаныч равнодушен к ее опасениям: не обращает полного внимания на ее положение, не старается ее утешить и развлечь, а главное, что он веселее, охотнее говорит с другими женщинами, — и вспыхнуло, как порох, таившееся в глубине души, несознаваемое до сих пор, мучительное, зоркое и слепое в то же время чувство ревности! Начались ежедневные объяснения, упреки, слезы, ссоры и примирения!.. И ни в чем еще не был виноват Алексей Степаныч: внушениям семьи он совершенно не верил, да и самый сильный авторитет в его глазах был, конечно, отец, который своею благосклонностью к невестке возвысил её в глазах мужа; об ее болезненном состоянии сожалел он искренне, хотя, конечно, не сильно, а на потерю красоты смотрел как на временную потерю и заранее веселился мыслию, как опять расцветет и похорошеет его молодая жена; он не мог быть весел, видя, что она страдает; но не мог сочувствовать всем ее предчувствиям и страхам, думая, что это одно пустое воображение; к тонкому вниманию он был, как и большая часть мужчин, не способен; утешать и развлекать Софью Николавну в дурном состоянии духа было дело поистине мудреное: как раз не угодишь и попадешь впросак, не поправишь, а испортишь дело; к этому требовалось много искусства и ловкости, которых он не имел. Может быть точно он говорил веселее и охотнее с другими женщинами, потому что не боялся их как-нибудь огорчить или раздражить пустыми словами, сказанными невпопад. Но не так смотрела Софья Николавна на это дело, да и не могла смотреть иначе по своей природе, в которой все прекрасное легко переходило в излишество, в крайность. Как тут быть, если у одного нервы толсты, крепки и здоровы, а у другого тонки, нежны и болезненны? если приходили они в сотрясение у Софьи Николаевы от того, что не дотрогивалось до нервов Алексея Степаныча? — Одни только Чичаговы понимали нравственные причины печального положения молодых Багровых, и хотя Софья Николавна и еще менее Алексей Степаныч ничего им не открывали, но они приняли в них живое участие и своим дружеским вниманием, а всего более частыми посещениями, присутствием своим, умными и дельными разговорами много успокаивали пылкую голову Софьи Николавны и много сделали добра на то время и ей и ее мужу.
В таком положении находились молодые Багровы до того времени, когда Софья Николавна сделалась матерью. Несмотря на частые душевные огорчения, она в последние два месяца поправилась в своих физических силах и благополучно родила дочь. Конечно, Софья Николавна и еще более Алексей Степаныч желали иметь сына; но когда мать прижала к сердцу свое дитя, для нее уже не существовало разницы между сыном и дочерью. Страстное чувство материнской любви овладело ее душой, умом, всем нравственным существом ее. Алексей Степаныч благодарил только бога, что Софья Николавна осталась жива, радовался, что она чувствует себя хорошо, и сейчас помирился с мыслью, зачем не родился у него сын.
Но в Багрове было совсем не то! Степан Михайлыч так уверил себя, что у него родится внук, наследник рода Багровых, что не вдруг поверил появлению на свет внучки. Наконец, прочитав собственными глазами письмо сына и убедясь, что дело не подлежит сомнению, огорчился не на шутку; отменил приготовленное крестьянам угощение, не захотел сам писать к невестке и сыну, а велел только поздравить роженицу с животом и дочерью да приказал назвать новорожденную Прасковьей в честь любимой своей сестры Прасковьи Ивановны Куролесовой. Угадывая наперед его желание, малютке еще на молитве дали имя Прасковьи. — И жалко и забавно было смотреть на досаду Степана Михайлыча! Даже семья посмеивалась промеж себя потихоньку. По разумности своей старик очень хорошо знал, что гневаться было не на кого; но в первые дни он не мог овладеть собою, — так трудно ему было расстаться с сладкою надеждой или, лучше сказать, с уверенностью, что у него родится внук и что авось не погибнет знаменитый род Шимона. Он велел убрать с глаз, спрятать подальше родословную, которая уже лежала у него на столе, в ожидании радостного известия, и в которую он всякий день собирался внести имя внука. Он запретил своей дочери Аксинье Степановне ехать в Уфу, чтоб быть крестною матерью новорожденной Багровой, и с досадой сказал: «Вот еще! семь верст киселя есть! ехать крестить девчонку! Каждый год пойдет родить дочерей, так не наездишься!» Впрочем, время взяло свое, и через несколько дней разгладились морщины (которые на сей раз никого не пугали) на лбу Степана Михайлыча, и мысль, что, может быть, через год невестка родит ему внука, успокоила старика. Он написал ласковое письмо невестке, шутя ее побранил и шутя приказал, чтоб через год был у ней сын.
Софья Николавна так предалась новому своему чувству, так была охвачена новым миром материнской любви, что даже не заметила признаков неудовольствия свекра и не обратила внимания на то, что Аксинья Степановна не приехала крестить ее дочь. С трудом удержали Софью Николавну девять дней в постели. Она чувствовала себя так хорошо, что на четвертый день могла, пожалуй, хоть танцевать… Но не танцевать хотелось ей, а ходить, нянчиться, не спать и день и ночь с своею Парашенькой, которая родилась худенькою и слабенькою, вероятно вследствие того, что мать носила ее, будучи беспрестанно больна и душой и телом. Кормить своего ребенка не позволили ей доктора, или, лучше сказать, доктор Андрей Юрьевич Авенариус, человек очень умный, образованный и любезный, который был коротким приятелем и ежедневным гостем у молодых Багровых. При первой возможности Софья Николавна повезла свою малютку к дедушке, то есть к своему отцу Николаю Федорычу. Она думала, что вид этой крошки обрадует больного старика, что он найдет в ней сходство с покойною, первою женой своею Верой Ивановной. Сходства этого, вероятно, не бывало, потому что младенцы, по моему мнению, не могут походить на взрослых; но Софья Николавна во всю свою жизнь утверждала, что первая дочь как две капли воды была похожа на бабушку. Старик Зубин уже приближался к концу земного своего поприща, разрушался телесно и духовно. Он равнодушно взглянул на младенца, едва мог перекрестить его и сказал только: «Поздравляю тебя, Сонечка». Софья Николавна была очень огорчена и трудным положением своего отца, которого более месяца не видала, и его равнодушием к ее ангелу Парашеньке.
Но скоро над люлькой своей дочери забыла молодая мать весь окружающий ее мир! Все интересы, все другие привязанности побледнели перед материнскою любовью, и Софья Николавна предалась новому своему чувству с безумием страсти. Ничьи руки, кроме ее собственных рук, не прикасались к малютке. Она сама подавала свою Парашеньку кормилице, сама поддерживала ее у. груди и не без зависти, не без огорчения смотрела, как другая, чужая женщина кормила ее дочь… Трудно поверить, но действительно было так! Софья Николавна впоследствии сама признавалась в том, что она не могла выносить, если Парашенька долго оставалась у груди кормилицы, отнимала ее голодную и закачивала на своих руках или в люльке, напевая колыбельные песни. Софья Николавна перестала видаться с своими знакомыми и даже с другом своим Катериной Борисовной Чичаговой. Разумеется, всем это казалось или странно, или смешно, а людям близким и досадно. На самое короткое время приезжала она каждый день к отцу и каждый раз возвращалась в страхе: не больна ли ее дочь? Она предоставила своему мужу полную свободу заниматься чем ему угодно, и Алексей Степаныч, посидев сначала несколько дней дома и увидев, что Софья Николавна не обращает на него внимания, даже выгоняет из маленькой детской для того, чтобы передышанный воздух не был вреден дитяти, а сама от малютки не отходит, — стал один выезжать в гости, сначала изредка, потом чаще, наконец каждый день, и принялся играть от скуки в рокамболь и бостон. Некоторые уфимские дамы подшучивали над молодым, оставленным мужем, любезничали с ним и говорили, что они обязаны занимать и утешать сироту, за что Софья Николавна, конечно, им будет благодарна, когда опомнится от страсти к дочери и воротится в свет. Только впоследствии эти любезности дошли до Софьи Николавны и возмутили ее душу. Катерина Алексевна Чепрунова, постоянно навещавшая свою родственницу, смотрела на нее с изумлением, сожалением и досадой. Она сама была нежная мать, любившая горячо своего единственного кривого сынка, но такая привязанность и забвение всего окружающего, как у Софьи Николавны, казались ей чем-то похожим на сумасбродство. Она охала, вздыхала, била себя кулаками в грудь и живот (это была ее привычка), говорила, что такая любовь смертный грех перед богом и что бог за нее накажет. Софья Николавна рассердилась и перестала пускать ее в детскую. Один Андрей Юрьевич Авенариус принимался довольно часто в комнате Парашеньки. Софья Николавна беспрестанно находила разные признаки разных болезней у своей дочери, лечила по Бухану и, не видя пользы, призывала доктора Авенариуса; не зная, что и делать с бедною матерью, которую ни в чем нельзя было разуверить, он прописывал разные, иногда невинные, а иногда и действительные лекарства, потому что малютка в самом деле имела очень слабое здоровье.
Мудрено сказать, что бы вышло из всего этого в будущем, если б по неведомым нам судьбам провидения не разразился внезапно громовой удар над несчастною Софьею Николавной, если бы не умерла скоропостижно ее ангел Парашенька. Излишество ли ухода, излишество ли леченья, природная ли слабость телосложения младенца были причиною его смерти — неизвестно; оказалось только, что он на четвертом месяце своей жизни не вынес самого легкого детского припадка — младенской, или родимца, которому редкий из грудных детей не бывает подвержен. Сидя у колыбели и заметив, что Парашенька вздрогнула и что личико ее искривилось, Софья Николавна торопливо взяла на руки свою дочь: она была уже мертвая…
Крепкое, богатырское надобно было иметь здоровье Софье Николавне, чтоб вынесть этот удар! Доктора, попеременно, от нее не отходили. Занден, Авенариус и Клоус, которые все очень ее любили, несколько дней опасались за ее рассудок, потому что она никого не узнавала. Но, благодарение богу, молодости и крепкому сложению, страшное время прошло. Несчастная мать опомнилась, и любовь к мужу, который сам страдал всею душою, любовь, мгновенно вступившая в права свои, спасла ее. Когда Софья Николавна в четвертую ночь пришла в себя, взглянула сознательно на окружающие ее предметы, узнала Алексея Степаныча, которого узнать было трудно, так он переменился, узнала неизменного друга своего, Катерину Алексевну, — страшный крик вырвался из ее груди, и спасительные потоки слез хлынули из глаз: она еще ни разу не плакала. Она обняла Алексея Степаныча и долго, молча рыдала на его груди; он сам рыдал, как дитя. Прошла опасность помешательства в уме, но наступила другая опасность: истощение сил телесных. Четверо суток не пила и не ела бедная страдалица и, очнувшись, не могла проглотить не только пищи, но и лекарства, даже воды. Положение было так опасно, что доктора не противились желанию больной исповедаться и причаститься. Исполнение христианского долга благотворно подействовало на Софью Николавну: она заснула, тоже в первый раз, и, проснувшись часа через два с радостным и просветленным лицом, сказала мужу, что видела во сне образ Иверской божьей матери точно в таком виде, в каком написана она на местной иконе в их приходской церкви; она прибавила, что если б она могла помолиться и приложиться к этой иконе, то, конечно, матерь божия ее бы помиловала. Местную икону принесли из церкви, священник отслужил молебен «о спасении и здравии больной». При пений слов: «Призри благосердием, всепетая богородице, на мое лютое телесе озлобление» — все присутствующие упали на колени, повторяя слова божественной молитвы; Алексей Степаныч плакал навзрыд. Больная также плакала умиленными слезами во все время службы, приложилась к местной иконе и почувствовала такое облегчение, что могла выпить воды, а потом стала принимать лекарства и пищу. Катерина Борисовна Чичагова и Катерина Алексевна Чепрунова не оставляли своей приятельницы ни на минуту. Больная скоро вышла из опасности. Отдохнуло настрадавшееся сердце Алексея Степаныча. С новым усердием принялись доктора за леченье, которое представляло своего рода опасность, потому что медики слишком любили свою пациентку: один предвидел чахотку, другой сухотку, а третий боялся аневризма. По счастью, все согласились в одном, чтобы немедленно отправить больную в деревню, на чистый, именно лесной, воздух и на пользование кумысом. В начале июня растительность трав находилась еще в полной свежести, и питье кобыльего молока было еще не опоздано.
Степан Михайлыч принял известие о смерти внучки весьма равнодушно, даже сказал: «Вот есть об чем убиваться, об девчонке, этого добра еще будет!» Но когда вслед за первым известием было получено другое, что здоровье Софьи Николавны находится в опасности, — старик сильно перетревожился. Когда же пришло третье извещение, что невестка вышла из близкой опасности, но что очень больна, что доктора не могут ей помочь и отправляют ее на кумыс, Степан Михайлыч весьма прогневался на докторов, говоря, что они людоморы, ничего не смыслят и поганят душу человеческую басурманским питьем. «Если конину есть православному человеку запрещено, — продолжал он, — то как же пить молоко нечистого животного? Вижу беду, — прибавил он с глубоким вздохом и махнув рукой, — жива-то, может быть, невестка останется, да захилеет, и детей не будет». Степан Михайлыч сильно огорчился и надолго остался постоянно грустным.
В двадцати девяти верстах от Уфы по казанскому тракту, на юго-запад, на небольшой речке Узе, впадающей в чудную реку Дему, окруженная богатым чернолесьем, лежала татарская деревушка Узы-тамак, называемая русскими Алкино, по фамилии помещика;[28] в роскошной долине в живописном беспорядке теснилась эта деревушка на подошве горы Байрам-тау, защищавшей ее от севера; на запад возвышалась другая гора, Зеин-тау,[29] а на юго-восток текла речка Уза, покрытая мелким лесом; цветущие поляны дышали благовонием трав и цветов, а леса из дуба, липы, ильмы, клену и всяких других пород чернолесья, разрежая воздух, сообщали ему живительную силу. В этот-то прелестный уголок повез Алексей Степаныч слабую, желтую, худую, одним словом сказать, тень прежней Софьи Николавны; с ними поехал друг — доктор Авенариус. С трудом довезли больную до места. Гостеприимный хозяин и помещик этой деревни принял их с радушием: он имел порядочный дом с флигелями; Софья Николавна не захотела поместиться в доме, и для нее очистили флигель. Семейство хозяина было слишком любезно и внимательно к ней, так что доктор принужден был отдалить на время этих добрых людей, которые хотя были мусульмане по вере, но говорили довольно хорошо по-русски. Одежда и образ жизни их представляли тогда пеструю смесь татарских и русских нравов, но кумыс был у них обычным питьем от утра до вечера. Для Софьи Николавны приготовляли этот благодатный напиток уже цивилизованным способом, то есть кобылье молоко заквашивали не в турсуке, а в чистой, новой, липовой кадушечке. Хозяева утверждали, что такой кумыс менее вкусен и менее полезен; но больная чувствовала непреодолимое отвращение от мешка из сырой лошадиной кожи, и целебное питье готовилось для нее самым опрятным образом. Доктор устроил курс лечения и уехал в Уфу; Алексей же Степаныч с Парашей и Аннушкой оставались безотлучно при больной. Воздух, кумыс, сначала в малом количестве, ежедневные прогулки в карете вместе с Алексеем Степанычем в чудные леса, окружавшие деревню, куда возил их Ефрем, сделавшийся любимцем Софьи Николавны и исправлявший на это время должность кучера, — леса, где лежала больная целые часы в прохладной тени на кожаном тюфяке и подушках, вдыхая в себя ароматный воздух, слушая иногда чтение какой-нибудь забавной книги и нередко засыпая укрепляющим сном, все вместе благотворно подействовало на здоровье Софьи Николавны и через две, три недели она встала и могла уже прохаживаться сама. Доктор опять приехал, порадовался действию кумыса, усилил его употребление, а как больная не могла выносить его в больших приемах, то Авенариус счел необходимым предписать сильное телодвижение, то есть верховую езду. Дело тогда неслыханное и дикое в дворянском быту, которое не нравилось Алексею Степанычу и которое Софья Николавна также находила неприличным. Напрасно хозяйские дочери подавали поучительный пример, пробегая на башкирских иноходцах целые десятки верст по живописным окрестностям, — Софья Николавна долго противилась всем убеждениям и в том числе просьбам мужа, которого доктор положительно и скоро уверил в необходимости верховой езды. Приехали Чичаговы в гости к Багровым в Алкино, и, наконец, кое-как общими силами победили упрямство Софьи Николавны; самою сильною побудительною причиною к согласию был пример Катерины Борисовны Чичаговой, которая, как истинный друг, пожертвовала собственным предубеждением и стала ездить верхом сначала одна, а потом вместе с больною. При сильном телодвижении была предписана и другая пища, а именно: жирное баранье мясо, от которого Софья Николавна также имела отвращение. Вероятно, доктор Авенариус в назначении диеты руководствовался пищеупотреблением башкир и кочующих летом татар, которые во время питья кумыса почти ничего не едят, кроме жирной баранины, даже хлеба не употребляют, а ездят верхом с утра до вечера по своим раздольным степям, ездят до тех пор, покуда зеленый ковыль, состарившись, не поседеет и не покроется шелковистым серебряным пухом. Леченье пошло отлично-хорошо, прогулки производились целым обществом вместе с дочерьми и сыновьями хозяина. Нередко заезжали на поташный завод, находившийся в двух верстах от Алкина, в глубине леса, на берегу прекрасной речки Куркул-даук.[30]
С любопытством смотрела Софья Николавна, как кипели чугунные котлы с золою, как в деревянных чанах садился шадрик, как в калильных печах очищался он огнем и превращался в белые ноздреватые куски растительной соли, называемой поташом. Она любовалась живостью, с которою производилась работа, и проворством татар, которые в своих тюбетейках и длинных рубахах, не мешавших их телодвижениям, представляли для нее странное зрелище. Вообще хозяева были так любезны, что забавляли свою гостью песнями, плясками, конными скачками (зеинами) и борьбою своих мусульманских подданных.
Во всех этих прогулках и увеселениях сначала постоянно участвовал Алексей Степаныч; но успокоенный состоянием здоровья своей больной, видя ее окруженною обществом и общим вниманием, он начал понемногу пользоваться свободными часами: деревенская жизнь, воздух, чудная природа разбудили в нем прежние его охоты; он устроил себе удочки и в прозрачных родниковых речках, которых было довольно около Алкина, принялся удить осторожную пеструшку и кутему; даже хаживал иногда с сеткою за перепелами, ловить которых Федор Михеев, молодой муж Параши, был большой мастер и умел делать перепелиные дудки. Эта охота находится в презрении у охотников до другого рода охот, но, право, не знаю, за что ее так презирают? Лежать в душистых полевых лугах, развесив перед собою сетку по верхушкам высокой травы, слышать вблизи и вдали звонкий бой перепелов, искусно подражать на дудочке тихому, мелодическому голосу перепелки, замечать, как на него откликаются задорные перепела, как бегут и даже летят они со всех сторон к человеку, наблюдать разные их горячие выходки и забавные проделки, наконец самому горячиться от удачной или неудачной ловли — признаюсь, все это в свое время было очень весело и даже теперь вспоминается не равнодушно… Софье Николаеве растолковать этого веселья было невозможно. — Слава богу, через два месяца она поздоровела, пополнела, и яркий румянец заиграл на ее щеках.
Авенариус приехал в третий раз и был вполне утешен состоянием здоровья Софьи Николавны. Он имел полное право торжествовать и радоваться: он первый предложил питье кумыса и управлял ходом лечения. Он и прежде очень любил свою пациентку, а теперь, так счастливо возвратя ей здоровье, привязался к ней, как к дочери.
Каждую неделю доносил Алексей Степаныч о состоянии здоровья жены своей Степану Михайлычу. Он радовался, что невестка его поправляется, но, разумеется, не верил целебной силе кумыса и очень сердился за верховую езду, о которой имели неосторожность написать к нему. Домашние воспользовались удобным случаем и несколькими едкими словцами, мимоходом, но впопад сказанными, так усилили досаду старика, что он написал грубоватое письмо к сыну, которое огорчило Софью Николавну. Когда же Степан Михайлыч удостоверился, что невестка его совершенно выздоровела и даже пополнела, сладкие надежды зашевелились у него в голове, и примирился он отчасти с кумысом и верховою ездой.
К осени воротились молодые Багровы в Уфу. Старик Зубин был уже очень плох, и чудесное восстановление здоровья дочери не произвело на него никакого впечатления. Все было кончено для него на земле, все связи расторгнуты, все жизненные нити оборваны, и едва только держалась душа в разрушенном теле.
Дальнейший ход внутренней жизни молодых Багровых был как будто приостановлен разными обстоятельствами: сначала рождением дочери и страстною, безумною любовию к ней матери; потом смертию малютки, от которой едва не помешалась мать, едва не умерла, и наконец — продолжительным лечением и житьем в татарской деревне. В тяжкое время душевных мук и телесных страданий Софья Николавна постоянно видела искреннюю любовь и самоотвержение со стороны Алексея Степаныча. Столкновений, случающихся беспрестанно в обыкновенном порядке жизни между неравными природами, тогда не было, а если и были поводы к ним, то они не могли быть замечены. При обращении крупной монеты мелочь не видна. В обстоятельствах исключительных, в событиях важных идет одна крупная монета, а ежедневные расходы жизни спокойной по большей части уплачиваются мелочью. Алексей Степаныч был не беден крупною монетой, а в мелочи часто встречался у него недостаток. Когда человек при виде нравственного страдания или опасности, угрожающей здоровью и жизни любимого существа, страдает сам всеми силами своей души, забывая сон, покой и пищу, забывая всего себя, когда напрягаются нервы, возвышается его духовная природа — тогда нет места требованиям и нет места мелочным вниманиям, заботам и угождениям. Проходит пора потрясающих событий, все успокаивается, опускаются нервы, мельчает дух; кровь и тело, вещественная жизнь с ее пошлостью вступают в права свои, привычки возвращают утраченную власть, и наступает пора тех самых требований, о которых мы сейчас говорили, пора вниманий, угождений, предупреждений и всяких мелочных безделок, из которых соткана действительная, обыкновенная жизнь. Когда-то еще придет время трудных опытов, надобности в самоотвержении и жертвах, а между тем жизнь постоянно бежит по колее своей, и мелочи составляют ее спокойствие, украшение, услаждение, одним словом то, что мы называем счастьем. По таким-то причинам, когда Софья Николавна стала поправляться, а Алексей Степаныч перестал тревожиться за ее жизнь и здоровье, мало-помалу начали вновь появляться с одной стороны — прежняя требовательность, а с другой стороны — прежняя неспособность удовлетворять тонкости требований. Тихие объяснения и упреки стали надоедать мужу, а горячих вспышек стал он бояться; страх сейчас исключил полную искренность, а потеря искренности в супружестве, особенно в лице второстепенном, всегда несколько зависящем от главного лица, ведет прямою дорогою к нарушению семейного счастия. С возвращением в Уфу к обыденной, праздной, городской жизни, вероятно, все бы это усилилось; но тяжкое, страдальческое положение уже действительно умирающего отца поглотило все тревоги, наполнило собою ум и чувства Софьи Николавны, и она предалась вся безраздельно, согласно закону своей нравственной природы, чувству дочерней любви. Ход, раскрытие всех сторон домашней жизни опять приостановились. Софья Николавна проводила дни и ночи в доме отца. Калмык продолжал с большим усердием, с напряженным вниманием и с изумительною неутомимостью ходить за больным господином. Он продолжал также избегать присутствия его дочери, хотя имел право и возможность безнаказанно появляться ей на глаза. Софья Николавна была тронута таким поведением. Она сама призвала к себе Калмыка, примирилась с ним и позволила ему ходить вместе с нею за умирающим. Николай Федорыч, несмотря на видимое бесчувствие и равнодушие ко всему его окружающему, заметил эту перемену, слабо пожал руку дочери и тихим шепотом, который едва можно было расслышать, сказал ей: «Благодарю тебя». Софья Николавна безвыходно оставалась при отце.
Я сказал, что сладкие надежды зашевелились в голове Степана Михайлыча при получении добрых известий о восстановлении здоровья невестки. Они зашевелились недаром: в скором времени Софья Николавна сама уведомила свекра, что надеется на милость божью — на рождение ему внука, во утешение его старости. В первую минуту Степан Михайлыч чрезвычайно обрадовался, но скоро овладел собою, скрыл свою радость от семьи. Может быть, ему пришло на ум, что, пожалуй, и опять родится дочь, опять залюбит и залечит ее вместе с докторами до смерти Софья Николавна, и опять пойдет хворать; а может быть, что Степан Михайлыч, по примеру многих людей, которые нарочно пророчат себе неудачу, надеясь втайне, что судьба именно сделает вопреки их пророчеству, притворился нисколько не обрадованным и холодно сказал: «Нет, брат, не надуешь! тогда поверю и порадуюсь, когда дело воочью совершится». Подивились домашние таким словам и ничего на них не отвечали. В самом же деле старик, не знаю почему, во глубине души своей опять предался уверенности, что у него родится внук, опять приказал отцу Василью отслужить молебен о здравии плодоносящей рабы Софьи; опять вытащил сосланную с глаз долой, спрятанную родословную и положил ее поближе к себе.
Между тем тихо наступал последний час для Николая Федорыча. После многолетних, мучительных страданий прекращение жизни столь бедной, столь жалкой, как-то неестественно задержанной так долго в теле, уже совершенно расслабленном и недвижимом, не могло никого возмущать. Сама Софья Николавна молилась только о том, чтоб мирно, спокойно отлетела душа ее отца… и мирно, даже радостно отлетела она. В минуту кончины лицо умирающего просветлело, и долго сохранилось это просветление во всех его чертах, несмотря на сомкнутые глаза уже охладевшего трупа. Похороны были великолепны и торжественны. Старика Зубина некогда очень любили; любовь эта забывалась понемногу, сострадание к его несчастному положению ослабевало с каждым днем; но когда весть о смерти Николая Федорыча облетела город, все точно вспомнили и вновь почувствовали и любовь к нему и жалость к его страдальческому состоянию. Опустели дома, и все народонаселение Уфы, в день похорон, составило одну тесную улицу от Успения божией матери до кладбища. Мир твоему праху, добрый человек, добрый и слабый, как человек!
После кончины Николая Федорыча учредились две опеки над детьми его от двух браков. Алексея Степаныча назначили опекуном братьев Софьи Николавны от одной с ней матери, которые, не кончив курса учения в Московском благородном пансионе, были вытребованы в Петербург для поступления в гвардию. Я забыл сказать, что по ходатайству умиравшего старика Зубина, незадолго до его смерти, Алексея Степаныча определили прокурором Нижнего земского суда.
Долго плакала и молилась Софья Николавна; плакал и молился с ней Алексей Степаныч; но это были тихие слезы и тихая молитва, которые не расстроивали только что восстановившегося здоровья Софьи Николавны. Просьбы мужа, советы друзей, увещания докторов, особенно Авенариуса, разумно принимались ею, и она стала беречь себя и с должным вниманием смотреть на свое положение. Ей убедительно доказывали, что здоровье и самая жизнь будущего ее дитяти зависит от состояния ее здоровья и духа в настоящем ее положении. Горький опыт подтверждал убеждения друзей и врачей, и молодая женщина с твердостию покорилась всему, чего от нее требовали. Получив письмо от свекра, в котором он простыми словами высказывал искреннее сочувствие к горести невестки и опасение, чтобы она опять не расстроила собственного своего здоровья, — Софья Николавна отвечала старику самым успокоительным образом; и точно, она обратила полное внимание на сохранение спокойствия своего духа и здоровья своего тела. Жизнь была расположена правильно и разнообразно. Авенариус и Клоус, который начал очень сближаться с домом Багровых, назначили Софье Николавне ежедневные прогулки перед обедом не только в экипажах, но и пешком; ежедневно или собирались к Софье Николавне и к Алексею Степанычу несколько человек бесцеремонных и приятных гостей, или сами Багровы отправлялись в гости к кому-нибудь, по большей части к Чичаговым. Братья Катерины Борисовны Чичаговой были очень дружны с молодыми хозяевами, особенно меньшой, Д. Б. Мертваго; он заранее напросился к ним в кумовья. Оба брата часто бывали в Голубиной слободке и приятно проводили время у Багровых: это были люди благородные и образованные по тогдашнему времени. Чтение книг было одним из главных удовольствий у Багровых; но как нельзя было беспрестанно читать или слушать чтение, то выучили Софью Николавну играть в карты; преподаванием этой науки преимущественно занимался Клоус, и когда только Багровы проводили вечер дома, то он непременно составлял их партию. Авенариус не мог участвовать в этом занятии, потому что во всю свою жизнь не умел различить пятерки от туза.
Наступила ранняя и в то же время роскошная весна; взломала и пронесла свои льды и разлила свои воды, верст на семь в ширину, река Белая! Весь разлив виден был как на ладонке из окон домика Голубиной слободки; расцвел плодовитый сад у Багровых, и запах черемух и яблонь напоил воздух благовонием; сад сделался гостиной хозяев, и благодатное тепло еще более укрепило силы Софьи Николавны.
В это время случилось в Уфе происшествие, которое сильно заняло умы ее обитателей и особенно молодых Багровых, потому что герой происшествия был им очень знакомый человек и даже, как мне помнится, дальний родственник Алексею Степанычу. Софья Николавна, по живости своей, приняла самое горячее участие в этом романическом событии. Молодой человек, один из первых и богатых дворян Уфимского или Оренбургского края, И. И. Тимашев, влюбился в прекрасную татарку Тевкелеву, дочь богатого татарского дворянина. Это семейство точно так же, как и семейство Алкиных, уже приняло тогда некоторую внешнюю образованность в образе жизни и говорило хорошо по-русски, но строго соблюдало во всей чистоте мусульманскую веру. Прекрасная татарка Сальме в свою очередь влюбилась в красивого русского офицера, служившего капитаном в полку, который стоял в окрестностях Уфы. Ожидать добровольного согласия родителей и взрослых братьев на законный брак не было никакой надежды, потому что невесте надобно было сделаться христианкой. Долго боролась Сальме с своею любовью, которая жарче горит в сердцах азиатских женщин. Наконец, как это всегда бывает, Магомет был побежден, и Сальме решилась бежать с своим возлюбленным капитаном, окреститься и потом обвенчаться. Командир полка, в котором служил Тимашев, добрейший и любезнейший из людей, любимый всеми без исключения, генерал-майор Мансуров, прославившийся потом с Суворовым на Альпийских горах при переправе через Чертов мост, сам недавно женившийся по любви, знал приключения своего капитана, сочувствовал им и принял влюбленных под свое покровительство. В одну сумрачную и дождливую ночь Сальме ушла из родительского дома; в ближней роще дожидался ее Тимашев с верховыми лошадьми; надобно было проскакать около ста верст до Уфы. Сальме была искусная наездница, через каждые десять или пятнадцать верст стояли, заранее приготовленные, переменные кони, охраняемые солдатами, очень любившими своего доброго капитана, и беглецы полетели «на крыльях любви», как непременно сказал бы поэт того времени. Между тем в доме Тевкелевых, где давно подозревали Сальме в склонности к Тимашеву и строго за ней присматривали, отсутствие ее было скоро замечено. В одну минуту собралась толпа вооруженных татар и, пылая гневом, под предводительством раздраженного отца[31] и братьев, понеслась в погоню с воплями и угрозами мести; дорогу угадали, и, конечно, не уйти бы нашим беглецам или по крайней мере не обошлось бы без кровавой схватки, потому что солдат и офицеров, принимавших горячее участие в деле, по дороге расставлено было много, — если бы позади бегущих не догадались разломать мост через глубокую, лесную, неприступную реку, затруднительная переправа через которую вплавь задержала преследователей часа на два; но со всем тем косная лодка, на которой переправлялся молодой Тимашев с своею Сальме через реку Белую под самою Уфою, не достигла еще середины реки, как прискакал к берегу старик Тевкелев с сыновьями и с одною половиною верной своей дружины, потому что другая половина передушила на дороге лошадей. На берегу, как будто случайно, явилась целая рота солдат, приготовлявшаяся к перевозу и занявшая все паромы и завозни. Несчастный отец заскрежетал зубами, проклял дочь и воротился домой. Полумертвую от страха и усталости Сальме посадили в карету и привезли в дом к матери Тимашева. Дело приняло характер законный и официальный: явилась магометанка, добровольно желающая принять христианскую веру; начальство города взяло ее под свою защиту, уведомило муфтия, жившего в Уфе и всеми называемого «татарским архиереем», обо всем происшедшем и требовало от него, чтоб он воспретил семейству Тевкелевых и вообще всем магометанам прибегать к каким-нибудь насильственным и враждебным покушениям для освобождения девицы Сальме, добровольно принимающей христианскую веру. В несколько дней духовенство приготовило новообращаемую к принятию таинства крещения и миропомазания. Обряд был совершен великолепно и торжественно в городском соборе; Сальме назвали Серафимой, по имени крестного отца — Ивановной и вслед за тем, не выходя из церкви, обвенчали молодых влюбленных. Весь город принимал участие в этом событии. Разумеется, вся молодежь и все мужчины были за прекрасную Сальме; но зато женщины строго осуждали ее, может быть иные и не бескорыстно. Весьма не много нашлось таких, которые искренне и дружелюбно протянули руку юной христианке, вступившей, по положению своего мужа, в высший круг уфимского общества. Софья Николавна с Алексеем Степанычем были в числе людей самых близких и горячо сочувствующих молодым новобрачным. При деятельном пособии также молодой и любезной генеральши А. Н. Мансуровой (урожденной Булгаковой) друзья Тимашевых скоро помогли им стать твердою ногою на новом для них пути общественной городской жизни. Приняли деятельные меры к приличному образованию молодой капитанши, и при помощи природных ее способностей и живости ума в непродолжительное время она сделалась светскою, интересною дамою, возбуждавшею невольное участие и невольную зависть, чему, конечно, много содействовала ее красота и необыкновенность положения. Софья Николавна навсегда осталась искреннею приятельницей Серафимы Ивановны Тимашевой, которая, к общему сожалению, жила недолго: через три года она умерла чахоткой, оставя двух сыновей и сокрушенного горестью мужа. Тимашев едва не сошел с ума, бросил службу, посвятил себя детям и навсегда остался вдовцом. Носились слухи, за верность которых никак нельзя ручаться, что причиною болезни и смерти молодой женщины была тайная тоска о покинутом семействе и раскаяние в измене своей природной вере.
Между тем время быстро шло, не останавливаясь никакими событиями. Наступила пора, когда Софье Николавне не позволяли уже выезжать в гости, не позволяли даже прогуливаться в экипаже за городом. В хорошую погоду она прохаживалась по саду, два раза в день по получасу; в дурное время то же делала в комнатах, растворив все двери своего небольшого домика. Вероятно, все это затворничество, точность и принуждение были не только бесполезны, но скорее вредны, хотя очевидность противоречила моему мнению: Софья Николавна была совершенно здорова. Алексей Степаныч находился в необходимости соглашаться на такую строгую докторскую опеку, потому что получал частые приказания от своего отца беречь жену паче зеницы своего ока; притом друзья ее, Чичаговы и Мертваго, а всего более доктора, любившие ее искренне и даже с увлечением, так наблюдали за Софьей Николавной, что она не могла шагу ступить, не могла ничего ни испить, ни съесть без их позволения. По каким-то служебным делам Авенариус должен был отлучиться, и Клоус, который также служил в Уфе городовым акушером, получил под непосредственное свое наблюдение здоровье Софьи Николавны. Клоус был предобрейший, умный, образованный и в то же время по наружности пресмешной немец. Будучи еще не старым человеком, он носил совершенно желтый парик. Все дивились, откуда он доставал такого цвета человеческие волосы, каких ни у кого на голове не бывает; брови и белки маленьких карих глаз были тоже желтоваты, небольшое же круглое лицо красно, как уголь.[32]
В дружеском своем обращении он был большой оригинал; очень любил целовать ручки у знакомых дам, но никогда не позволял целовать себя в щеку, доказывая, что со стороны мужчин это большая неучтивость. Он также очень любил маленьких детей; выражение этой любви состояло в том, что он сажал к себе на колени любимое дитя, клал его ручку на ладонь своей левой руки, а правою гладил ручку ребенка целые часы. Самым сильным выражением его дружеского расположения было слово варвар или варварка, и потому Софья Николавна, которой он был предан душевно, беспрестанно называлась варваркой. Сделавшись коротким другом в доме Багровых, Клоус знал все подробности о Степане Михайлыче, знал его горячее желание иметь внука, знал его нетерпеливое ожидание. Клаус хорошо писал по-русски и четким почерком написал для старика свое предположение, за верность которого ручался, что у Софьи Николавны, между 15 и 22 сентября, родится сын. Предсказание послали к Степану Михайлычу, который хотя и сказал: «Врет немец!», но втайне ему поверил; радостное и тревожное ожидание выражалось на его лице и слышалось во всех его речах. В это время известная нам Афросинья Андревна, от которой он менее скрывал свое беспокойство, состоявшее существенно в том, что невестка опять родит дочь, рассказала как-то ему, что, проезжая через Москву, ездила она помолиться богу к Троице, к великому угоднику Сергию, и слышала там, что какая-то одна знатная госпожа, у которой все родились дочери, дала обещание назвать первого своего ребенка, если он будет мальчик, Сергием, и что точно, через год, у нее родился сын Сергий. Степан Михайлыч промолчал, но на первой же почте собственноручно написал к своему сыну и невестке, чтоб они отслужили молебен Сергию, Радонежскому чудотворцу, и дали обет, если родится у них сын, назвать его Сергием; в объяснение же таковой своей воли прибавил: «Потому что в роде Багровых Сергея еще не бывало». Приказание исполнили в точности. Софья Николавна неусыпно занималась приготовлением всего, что только может придумать заботливая мать для будущего своего дитяти; но всего важнее было то, что нашлась для него чудесная кормилица в одной из деревушек покойного ее отца, в Касимовке. Крестьянка Марфа Васильева соединяла в себе все качества для этой должности, каких только можно было желать; сверх того, она охотою шла в кормилицы и заранее переехала в Уфу с грудным своим ребенком.
Дело приближалось к развязке. Уже и ходить Софье Николавне запрещали. Катерина Борисовна Чичагова сделалась нездорова и не выезжала из дома, а других никого уже Багровы не принимали. Катерина Алексевна Чепрунова гостила почти безвыходно у своей родственницы и только отлучалась для свидания с своим ненаглядным Андрюшей. Клоус являлся каждый день поутру позавтракать и каждый же день в шесть часов вечера приезжал пить чай с ромом и играть в карты с хозяевами, а как игра была почти безденежная, то расчетливый немец доставал где-то играные карты и привозил с собой. Иногда карты сменялись чтением, при котором присутствовал и Клоус. Читал всегда Алексей Степаныч, получивший в этом деле навык и некоторое уменье. Иногда случалось, что немец привозил немецкую книгу и переводил ее словесно; слушали с удовольствием, особенно Софья Николавна, потому что она желала иметь хотя некоторое понятие о немецкой литературе.
Испытав всю безграничность, все увлечение, все могущество материнской любви, с которою, конечно, никакое другое чувство равняться не может, Софья Николаева сама смотрела на свое настоящее положение с уважением; она приняла за святой долг сохранением душевного спокойствия сохранить здоровье носимого ею младенца и упрочить тем его существование, — существование, в котором заключались все ее надежды, вся будущность, вся жизнь. Мы уже довольно знаем Софью Николавну, знаем, как она способна увлекаться, и потому не будем удивлены, узнав, что она вся предалась чувству матери, чувству любви, еще к неродившемуся ребенку. Все дни и часы дней и ночей были посвящены сбережению себя во всех отношениях. Так устремился ее ум, ее страстное вниманье на один этот предмет, что она ничего другого не замечала и была, по-видимому, совершенно довольна Алексеем Степанычем, хотя, вероятно, встречались случаи быть недовольной. Алексей Степаныч чем более узнавал жену свою, тем с большим изумлением смотрел на нее. Он был человек, всего менее способный ценить восторг и сочувствовать восторгу, от чего бы он ни происходил. Восторженность любви в Софье Николавне его пугала; он боялся ее, как привык бояться припадков бешеного гнева в своем отце… Восторженность на людей тихих, кротких и спокойных всегда производит неприятное впечатление; они не могут признать естественным такого состояния духа; они считают восторженных людей больными на то время, людьми, на которых находит иногда… Они не верят в прочность их душевного спокойствия, потому что оно сейчас может нарушиться, и чувствуют страх к таким людям… Страх — самое опасное чувство для любви, даже к отцу и к матери… Говоря вообще, внутренняя, домашняя жизнь и супружеские семейные отношения между молодыми Багровыми не только не подвинулись вперед, как должно было ожидать, а, напротив, как будто отступили назад. Это странно, но так бывает иногда в жизни.
В самое это время Клоус был переведен на службу в Москву. Он уже распрощался с своим начальством и со всем городом и дожидался только благополучного разрешения Софьи Николавны, надеясь быть полезным ей в случае надобности. Предполагая, что после пятнадцатого сентября, на другой или третий день, он может уехать, Клоус нанял себе лошадей именно к этому числу. Наемные лошади были ему нужны для того, что он хотел заехать куда-то в сторону от большой дороги к какому-то немцу-помещику. Пятнадцатое сентября пришло и прошло без ожидаемого события; Софья Николавна чувствовала себя лучше и бодрее, чем прежде, и только нелепые докторские приказания заставляли ее сидеть и большею частью лежать на канапе. Прошло шестнадцатое, семнадцатое и восемнадцатое сентября, и как ни любил немец Софью Николавну, но начинал очень сердиться, потому что принужден был платить нанятому извозчику с лошадьми ежедневно по рублю меди, что казалось тогда неслыханною дороговизною и большим расходом. Хозяева дружески подшучивали над ним и каждый вечер продолжали читать, слушать или играть в карты; если друг немец выигрывал у них гривен шесть медью, то бывал очень доволен, говоря, что сегодня недорого заплатит извозчику. Так прошло и девятнадцатое сентября. Двадцатого приехал поутру Клоус, и Софья Николавна встретила его в дверях своей спальни, дружески приветствуя книксенами… Немец рассердился. «Да что ж это ты, варварка, делаешь со мной», — говорил он, целуя по обычаю протянутую ручку хозяйки, по-польску, как он выражался. «Помилуй, Алексей Степаныч, — продолжал он, обращаясь к мужу, — жена твоя меня разорит. Ей следовало родить пятнадцатого, а двадцатого она книксены делает». — «Ничего, Андрей Михайлыч, — отвечал, трепля его по плечу, Алексей Степаныч, — ты нас сегодня в карты обыграешь, только карты уж стали плохи». Клоус обещал привезти новые карты, позавтракал и, просидев до двух часов, уехал. Ровно в шесть часов вечера приехал добродушный немец в Голубиную слободку, к знакомому домику; не встретив никого в передней, в зале и гостиной, он хотел войти в спальню, но дверь была заперта; он постучался, дверь отперла Катерина Алексевна; Андрей Михайлыч вошел и остановился от изумления: пол был устлан коврами; окна завешены зелеными шелковыми гардинами; над двуспальною кроватью висел парадный штофный занавес; в углу горела свечка, заставленная книгою; Софья Николавна лежала в постели, на подушках в парадных же наволочках, одетая в щегольской, утренний широкий капот; лицо ее было свежо, глаза блистали удовольствием. «Поздравьте меня, друг наш, — сказала она крепким и звучным голосом, — я мать, у меня родился сын!» Немец, взглянув в лицо Софьи Николавны, услыша ее здоровый голос, счел всю обстановку за шутку, за комедию. «Полно, варварка, проказничать со мной; я старый воробей, меня не обманешь, — сказал он смеясь, — вставай-ка, я новые карточки привез, — и подойдя к постели и подсунув карты под подушку, он прибавил: — вот на зубок новорожденному!» — «Друг мой, Андрей Михайлыч, — говорила Софья Николавна, — ей-богу, я родила: вот мой сын…» На большой пуховой подушке, тоже в щегольской наволочке, под кисейным, на розовом атласе, одеяльцем в самом деле лежал новорожденный, крепкий мальчик; возле кровати стояла бабушка-повитушка, Алена Максимовна… Клоус вышел из себя, взбесился, отскочил от постели, как будто обжегся, и закричал: «Как? без меня? я живу здесь неделю и плачу всякий день деньги, и меня не позвали!..» Красное его лицо побагровело, парик сдвинулся на сторону, вся его толстая фигурка так была смешна, что родильница принялась хохотать. «Батюшка Андрей Михайлыч, — говорила бабушка-повитушка, — бог дал час, не успели и опомниться; а как только убрались, то хотели было послать, да Софья Николавна изволила сказать, что ваше здоровье сейчас приедете». Опомнился искренний друг Софьи Николавны и ее мужа. Прошла его досада; радостные слезы выступили на глазах; схватил он новорожденного младенца своими опытными руками, начал его осматривать у свечки, вертеть и щупать, отчего ребенок громко закричал; сунул он ему палец в рот, и когда новорожденный крепко сжал его и засосал, немец радостно вскрикнул: «А, варвар! какой славный и здоровенный». Софья Николавна перепугалась, что так небережно поступают с ее бесценным сокровищем, а повивальная бабка испугалась, чтоб новорожденного не сглазил немец; она хотела было его отнять, но Клоус буянил; он бегал с ребенком по комнате, потребовал корыто, губку, мыло, пеленок, теплой воды, засучил рукава, подпоясался передником, сбросил парик и принялся мыть новорожденного, приговаривая: «А, варваренок, теперь не кричишь: тебе хорошо в тепленькой-то водице…» Наконец, прибежал не помнивший себя от восхищения Алексей Степаныч; он отправлял нарочного с радостным известием к Степану Михайлычу, написал письмо к старикам и к сестре Аксинье Степановне, прося ее приехать как можно скорее крестить его сына. Алексей Степаныч чуть не задушил в своих объятиях еще мокрого немца; домашних же своих он давно уже всех перецеловал и со всеми поплакал. Софья Николавна… но я не смею и подумать выразить словами ее чувства. Это было упоение, блаженство, которое не всем дается на земле и ненадолго.
Рождение сына произвело необыкновенное веселье в доме; даже соседи отчего-то повеселели. Вся прислуга Багровых, опьянев сначала от радости, а потом от вина, пела и плясала на дворе; напились даже те, которые никогда ничего не пивали, в числе последних был Ефрем Евсеев, с которым не могли сладить, потому что он все просился в комнату к барыне, чтоб посмотреть на ее сынка; наконец, жена, с помощью Параши, плотно привязала Евсеича к огромной скамейке, но он, и связанный, продолжал подергивать ногами, щелкать пальцами и припевать, едва шевеля языком: «Ай, люли, ай, люли!..»
Андрей Михайлыч Клоус, устав от трудов и радостного волнения, сел, наконец, в кресла и с великим наслаждением напился чаю, а как в этот вечер он как-то усерднее подливал рому, то и почувствовал после третьей чашки, что у него зашумело в голове. Приказав, чтобы новорожденному до утра не давали груди кормилицы, а поили одним ревенным сыропом, он простился с своими счастливыми хозяевами, поцеловал ручонку новорожденного и поехал спать с тем, чтобы поранее навестить родильницу. Проходя через двор, он увидел пляску и услышал песни, которые неслись из всех окон кухни и людских. Он остановился, и хоть жаль было ему помешать веселью добрых людей, но принялся он всех уговаривать, чтоб перестали они петь и плясать, потому что барыне их нужен покой. К удивлению его, все послушались и при нем же полегли спать. Выходя из ворот, немец бормотал про себя: «Какой счастливый мальчишка! как все ему рады!»
И в самом деле, при благоприятных обстоятельствах родился этот младенец! Мать, страдавшая беспрестанно в первую беременность, — нося его, была совершенно здорова; никакие домашние неудовольствия не возмущали в это время жизни его родителей; кормилица нашлась такая, каких матерей бывает немного, что, разумеется, оказалось впоследствии; желанный, прошеный и моленый, он не только отца и мать, но и всех обрадовал своим появлением на белый свет; даже осенний день был тепел, как летний!..
Но что же происходило в Багрове, когда пришла радостная весть, что бог даровал Алексею Степанычу сына и наследника? В Багрове происходило следующее: с пятнадцатого сентября Степан Михайлыч считал дни и часы и ждал каждую минуту нарочного из Уфы, которому велено было скакать день и ночь на переменных; это дело было тогда внове, и Степан Михайлыч его не одобрял, как пустую трату денег и ненужную тревогу для обывателей; он предпочитал езду на своих; но важность и торжественность события заставила его отступить от обычного порядка. Судьба не наказала его слишком долгим ожиданием: двадцать второго сентября, когда он почивал после обеда, приехал нарочный с письмами и доброю вестью. Просыпаясь от крепкого сна, едва старик потянулся и крякнул, как ворвался Мазан и, запинаясь от радости, пробормотал: «Проздравляю, батюшка Степан Михайлыч, с внучком!» — Первым движением Степана Михайлыча было перекреститься. Потом он проворно вскочил с постели, босиком подошел к шкафу, торопливо вытащил известную нам родословную, взял из чернилицы перо, провел черту от кружка с именем «Алексей», сделал кружок на конце своей черты и в середине его написал: «Сергей».
Прощайте, мои светлые и темные образы, мои добрые и недобрые люди, или, лучше сказать, образы, в которых есть и светлые и темные стороны, люди, в которых есть и доброе и худое! Вы не великие герои, не громкие личности; в тишине и безвестности прошли вы свое земное поприще и давно, очень давно его оставили: но вы были люди, и ваша внешняя и внутренняя жизнь так же исполнена поэзии, так же любопытна и поучительна для нас, как мы и наша жизнь в свою очередь будем любопытны и поучительны для потомков. Вы были такие же действующие лица великого всемирного зрелища, с незапамятных времен представляемого человечеством, так же добросовестно разыгрывали свои роли, как и все люди, и так же стоите воспоминания. Могучею силою письма и печати познакомлено теперь с вами ваше потомство. Оно встретило вас с сочувствием и признало в вас братьев, когда и как бы вы ни жили, в каком бы платье ни ходили. Да не оскорбится же никогда память ваша никаким пристрастным судом, никаким легкомысленным словом!
ПРИМЕЧАНИЯ
В настоящее издание вошли наиболее значительные художественные, мемуарные произведения, а также критические статьи Сергея Тимофеевича Аксакова. Сюда включены также произведения, не входившие в предшествующее четырехтомное собрание его сочинений (М. 1955–1956), — «Воспоминания о Дмитрии Борисовиче Мертваго», «Воспоминание о Михаиле Николаевиче Загоскине», «Биография Михаила Николаевича Загоскина», неоконченная повесть «Копытьев».
В своей совокупности основные сочинения С. Т. Аксакова составляют как бы историю его жизни. Тем самым определяется порядок, в котором они должны следовать одно за другим. Вопреки общепринятому правилу произведения С. Т. Аксакова располагаются не в соответствии с хронологией их написания, а в той последовательности, в какой они раскрывают жизнь писателя.
Все тексты сверены с прижизненными авторизованными изданиями, замеченные погрешности исправлены по сохранившимся рукописям.
Тексты воспроизводятся по современным нормам орфографии и пунктуации, с сохранением индивидуальных особенностей стиля писателя. Сохраняется характерное для Аксакова неустойчивое написание имен-отчеств (например, Елизавета Степановна — Лизавета Степановна, Алексей Степанович — Алексей Степаныч и т. д.).
Все подстрочные примечания в тексте произведений, кроме переводов иноязычных слов, принадлежат автору.
В примечаниях, помимо историко-литературных справок и кратких фактических сведений, необходимых для уяснения творческой истории произведения, приводятся в некоторых случаях наиболее существенные варианты и разночтения между окончательной редакцией текста и первоначальными публикациями.
Во вступительной статье и в примечаниях к этому и последующим томам приняты следующие условные сокращения:
Абрамцево — Рукописный фонд музея Академии наук СССР «Абрамцево». Московская область.
ГПБ — Рукописное отделение Государственной публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина. Ленинград.
ИРЛИ — Архив Института русской литературы Академии наук СССР (Пушкинский дом). Ленинград.
Л. Б. — Рукописный отдел Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина. Москва.
МОГИА — Московский областной государственный исторический архив. Москва.
ЦГАДА — Центральный государственный архив древних актов. Москва.
ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства. Москва.
ЦГИА — Центральный государственный исторический архив. Москва.
ЦГИАЛ — Центральный государственный исторический архив. Ленинград.
СЕМЕЙНАЯ ХРОНИКА
С. Т. Аксаков работал над «Семейной хроникой» с большими перерывами в течение пятнадцати лет. Часть первого отрывка «Семейной хроники», написанная в 1840 г., была опубликована лишь шесть лет спустя в «Московском литературном и ученом сборнике», М. 1846 (стр. 403–423), за подписью «…ова». В это время Аксаков был увлечен работой над «Записками об уженье», закончив которые он приступил к «Запискам ружейного охотника». 12 января 1852 г. он писал Тургеневу: «Расставшись с моими «Записками», я грущу о прекращении дела, которое приятно занимало меня три года… Попробую продолжать «Семейную хронику» («Русское обозрение», 1894, № 8, стр. 463). Отрывки этой книги появлялись в различных периодических изданиях. Весь первый отрывок, включая и ту часть, которая была ранее опубликована в «Московском литературном и ученом сборнике», увидел свет в «Москвитянине» (1854, т. II, № 5, кн. I, стр. 17–48), четвертый — в «Русской беседе» (1856, т. II, стр. 1–51), пятый — в «Русском вестнике» (1856, т. IV, кн. I, стр. 421–468).
В начале 1856 г. первые три отрывка: «Степан Михайлович Багров», «Михайла Максимович Куролесов» и «Женитьба молодого Багрова» — вместе с «Воспоминаниями» вышли отдельным изданием. Необычайный успех книги побудил Аксакова выпустить ее летом того же года вторым изданием «с прибавлением двух отрывков», появившихся в «Русской беседе» и «Русском вестнике» уже после выхода в свет первого издания. Таким образом, лишь во втором издании «Семейная хроника» вышла в полном составе.
Еще задолго до окончания «Семейной хроники» Аксаков предвидел цензурные препятствия, с которыми столкнется его книга. Он уже имел горький опыт, связанный с изданием, казалось бы, совершенно невинных с точки зрения цензурных условий «Записок ружейного охотника». 29 ноября 1853 г. Аксаков продиктовал письмо Погодину, в котором заметил, что готов дать в «Москвитянин» отрывки из «Семейной хроники», и при этом добавил: «…но цензура будет их обрезывать, а я на это не согласен. Я также затеял составить из них целый том: первая половина — Хроника, а вторая — Воспоминания». И затем Аксаков дописывает собственной рукой: «Том «Хроники» и «Воспоминаний» может быть вполне напечатан только после моей смерти и при более благосклонной цензуре» (Л. Б., ф. Погодина, II 1/58).
Чем ближе к концу подходила работа над книгой, тем чаще Аксаков высказывал опасения относительно неизбежных столкновений с цензурой. Летом 1854 г. Аксаков сообщал своему старому товарищу по Казанской гимназии А. И. Панаеву, что написал «много отрывков из «Семейной хроники», которые, однако, выйдут в свет лишь будучи «изуродованные цензурою» (ИРЛИ, Р–1, оп. 1, д. № 10, л. 3а). В ноябре того же 1854 г. он писал А. О. Смирновой: «По несчастному положению нашей цензуры и половины нельзя будет напечатать того, что мной написано; это меня огорчает, потому что я получил вкус к похвалам и сочувствию, с которым было встречено все напечатанное мною» («Русский архив», 1896, кн. I, стр. 157).
Опасения Аксакова, как мы увидим, не были напрасными.
Посылая в декабре 1854 г. Погодину отрывок из «Семейной хроники» для опубликования его в «Москвитянине», Аксаков писал: «Очень бы я желал, чтобы цензура его не изуродовала; я и так уже много интересного выкинул и поставил точки. Если цензор будет много исключать — лучше не печатать» (Л. Б., ф. Погодина, II 1/59). По-видимому, здесь речь шла об отрывке «Степан Михайлович Багров». Еще большие затруднения доставил Аксакову отрывок «Хроники», посвященный Куролесову, также предназначавшийся для «Москвитянина». Московская цензура в начале 1855 г. категорически запретила его печатать. Издатель «Москвитянина» Погодин решил обжаловать постановление Московского цензурного комитета в Петербурге перед Главным управлением цензуры и обратился с письмом к товарищу министра просвещения Норову.
В архиве Главного управления цензуры хранится «Дело о запрещении московской цензурой в «Москвитянине» отрывка из «Семейной хроники» С. Аксакова», проливающее свет на один из любопытных эпизодов в истории николаевской цензуры.
Норов поручил расследование вопроса чиновнику особых поручений при министре просвещения Н. Родзянко. Результаты этого «расследования» были изложены в пространном донесении от 8 февраля 1855 г. Родзянко пришел к выводу, что ряд мест отрывка Аксакова не может быть разрешен к печати. «Тут описывается, — отмечал он, — как Мих. Макс. Куролесов управлял по доверенности жены своей ее имением, производил истязания над крестьянами и нередко засекал многих из них до смерти; сверх того, грабил и сек соседей-помещиков, производя все эти поступки безнаказанно и застращав даже земский суд, который боялся предпринять что-либо к его укрощению». Особенно недопустимым, по мнению Родзянко, является история таинственной смерти Куролесова. «Хотя в статье не объясняются причины его смерти, — продолжает он, — но из весьма ясных намеков и поставленных в пропущенных строках точек читателю легко догадаться, что Куролесов был убит за жестокое обращение своими крестьянами по распоряжению конторского писца…» И, наконец, заключение «расследования» гласило: «Таким образом, в настоящей статье, начиная со стр. 128 до конца, преимущественно описывается противозаконное и бесчеловечное обращение помещика с крепостными его людьми и помещиками-соседями, при бездействии и устрашении им местной полицейской власти… Очевидно, что все эти обстоятельства, хотя они совершались за 80 лет пред сим, не могут быть допущены к печати. Конечно, автор изображает их собственно в смысле историческом и отнюдь не с неблагонамеренною целию, но и сама история этих событий, достоверность которых автор весьма часто здесь утверждает, например, на стр. 134, по мнению моему, может производить тем более невыгодное впечатление на читателей, выражая правдивый факт злоупотребления помещичьей власти и самозащищения противу оной крепостных людей» (ЦГИАЛ, ф. 772, оп. 6, д. № 150820, лл. 6–6 об.).
Судьба аксаковской рукописи была предрешена. Шевыреву, хлопотавшему по этому делу в Петербурге по поручению Погодина, сообщили от имени Норова, что из отрывка «Семейной хроники» «может быть дозволено только начало; остальная же часть основательно воспрещена цензурою» (там же, л. 7 об.). Это решение вывело из себя даже верноподданного Погодина, извещавшего Аксакова: «Статья ваша изуродована, и потому я решился сохранить ее чистоту и красоту в рукописи. У подлецов нет никакого человеческого чувства» (Н. Барсуков, Жизнь и труды М. П. Погодина, т. XIV, СПБ. 1900, стр. 250). Письмо Погодина не было неожиданностью для Аксакова. Еще 29 января 1855 г. он писал А. И. Панаеву: «Весь второй отрывок моей «Семейной хроники» запрещен. В нем описана жизнь одного буйного и жестокого помещика, существовавшего за 85 лет до настоящего года. Погодин послал мою статью к министру. Хорошего ничего не жду. Судя по началу, должно предположить, что вместо большого тома выдет небольшой, да и статьи выдут изуродованные» (ИРЛИ, Р–1, оп. 1, д. № 10, л. 18 об.).
Готовя свою книгу к изданию, Аксаков столкнулся не только с цензурными барьерами, но с еще одним препятствием, которое чинила его собственная семья. 17 января 1855 г. он писал Погодину: «Теперь я кончил огромный том, который мне хочется выдать через год, если буду жив. Полгода я посвящу на исправление, дополнение и исключение всего того, чего не нужно знать публике, и того, чего не пропустит цензура по своей глупости. Остальные полгода — на мытарства и печатание». И дальше Аксаков замечает в том же письме: «Мне надобно преодолеть сильную оппозицию моей семьи и родных, большая часть которых не желает, чтоб я печатал самые лучшие пиесы» (Н. Барсуков, Упом. соч., т. XIV, стр. 248). Члены семьи Аксакова возражали против публикации наиболее острых, обличительных мест «Семейной хроники», которые, по их мнению, могли бросить тень на весь род. Характерные отзвуки подобных настроений можно найти в письме близкого к семье Аксакова М. А. Дмитриева, откровенно сообщавшего Погодину свое мнение о «Семейной хронике»: «Вы меня спрашиваете о книге Аксакова. Он сам требовал от меня, чтобы я сказал голую истину; я и сказал, но он не вполне согласен с нею. Написано — что и говорить — прекрасно; но вся первая половина книги, по моему мнению, есть дурной поступок!.. Что же это за семья, в которой, кроме одной женщины, все тираны и мерзавцы!» (Н. Барсуков, Упом. соч., т. XIV, стр. 354).
«Оппозиция» членов семьи причиняла Аксакову серьезные огорчения и порой ставила его как художника в невыносимое положение. Сообщая в январе 1855 г. своей племяннице М. Г. Карташевской о приближении к концу работы над «Семейной хроникой», Аксаков замечает далее: «Все это я должен прочесть вам предварительно и очень опасаюсь, что встречу в твоей маменьке сильную оппозицию. «Хронику» об дедушке и бабушке — она вытерпела, но когда дело дойдет до отца и матери, до мужа и до нее самой, то я не знаю, что будет делать братец Сереженька с сестрицей Надеженькой?» (ИРЛИ, 10, 685/XVI с., лл. 43–43 об.).
Аксакову в конце концов удалось преодолеть препятствия, возникавшие на пути «Семейной хроники». Не исключено, что писатель в процессе окончательной подготовки рукописи вносил в нее исправления. Интересуясь исходом хлопот в Петербурге относительно отрывка о Куролесове, Аксаков просил Погодина поскорее известить его о результатах этого дела: «Мне это необходимо знать для соображения и поправки других статей» (Н. Барсуков, Упом. соч., т. XIV, стр. 249). По-видимому, Аксаков подвергал свои произведения «внутренней цензуре» и во многом себя ограничивал. На это нередко указывал он сам в своих письмах. Сообщая в одном из них о том, что занимается сейчас «вместе с Констою» — так в семье называли его сына Константина — «исправлением» и «отделыванием» пятого отрывка «Хроники», Аксаков затем добавляет, что этот отрывок «гораздо труднее, потому что надобно многое скрывать» (ИРЛИ, ф. 3, оп. 16, д. № 29, л. 26). А однажды откровенное замечание даже проскользнуло неожиданно в самом тексте «Семейной хроники»: «Я рассказал десятую долю того, что знаю, но, кажется, и этого довольно».
Уведомляя Погодина, что подготовка «Семейной хроники» близится к концу, писатель тут же подчеркивает, что он приходит «в отчаяние от цензуры», и высказывает намерение обратиться «частным образом» к попечителю московского учебного округа Назимову, в ведении которого находилась цензура (Л. Б., ф. Погодина, II 1/61). Об этом же писал С. Т. Аксаков и сыну Ивану, добавляя к тому, что, если и Назимов не поможет, придется тогда «ехать самому в Петербург хлопотать по этому делу» (ИРЛИ, ф. 3, оп. 3, д. № 14, л. 85. См. также письмо к Н. Т. Карташевской, ИРЛИ, 10, 685/XVI с., лл. 47–47 об.). 21 сентября 1855 г. рукопись «Семейной хроники» и «Воспоминаний» поступила в Московский цензурный комитет (МОГИА, ф. 31, оп. 5, д. № 364, л. 98), а уже 30 октября того же года Аксаков сообщил Тургеневу, что рукопись «пропущена и печатается» («Русское обозрение», 1894, № 11, стр. 29). Столь неожиданно быстрое и благоприятное решение вопроса в московской цензуре состоялось благодаря содействию министра просвещения, о чем С. Т. Аксаков писал 17 октября 1855 г. сыну Ивану: «…моя рукопись пропущена вся с разрешения министра, который был проездом в Москве» (ИРЛИ, ф. 3, оп. 3, д. № 14, лл. 106–106 об.).
В тексте обоих изданий «Семейной хроники», вышедших при жизни Аксакова, имелся существенный дефект: в них отсутствовала превосходно написанная сцена отравления Куролесова его крепостными. Судя по упомянутому выше докладу Н. Родзянко, ее уже не было в том тексте, который предназначался для «Москвитянина». Купюру сделал сам автор, очевидно, во избежание неприятностей в цензуре. Сохранилось две рукописных редакции второго отрывка «Семейной хроники» (Л. Б., ф. Аксакова 1/2а и 1/2б). В первой из них (неполной, без начала) описана вся сцена убийства Куролесова. Во второй редакции (беловой) эта сцена уже зачеркнута по цензурным соображениям. Она была восстановлена лишь в четвертом издании «Хроники» (М. 1870). Абзац, в котором описывалось убийство, начинался в первой редакции рукописи так: «Нетрудно догадаться, отчего произошла скоропостижная кончина Куролесова». После изъятия сцены убийства эта фраза была особенно важна, ибо содержала прозрачный намек на истинные обстоятельства смерти Куролесова, о которых нельзя было сказать прямо. Но, по-видимому, возникла необходимость устранить даже этот намек. На полях рукописи имеется замечание автора: «Если цензор затруднится этими словами, то можно сказать: «Неизвестно от чего». Так «неизвестно от чего» и умирал Куролесов в первых изданиях «Семейной хроники».
К отдельному изданию «Семейной хроники» Аксаков тщательно просмотрел ранее напечатанные отрывки и внес в них довольно большое количество мелких исправлений стилистического характера — всего около трехсот.
Выход в свет «Семейной хроники» стал событием в русской литературе. Успех этой книги был необычайным и намного превзошел успех двух предшествующих произведений Аксакова — «Записок об уженье» и «Записок ружейного охотника». «Книга моя вышла и по мере поступления в лавку раскупается нарасхват», — сообщал С. Т. Аксаков сыну Ивану. «Как бы ни были велики мои надежды на успех моей книги — действительность превзошла всякие самолюбивые ожидания. Я начинаю бояться, что сам увлекусь этим потоком искренних восторгов», — замечал он в другом письме («Иван Сергеевич Аксаков в его письмах», т. III, М. 1892, стр. 223, 237).
Современная Аксакову критика единодушно отмечала выдающиеся художественные достоинства «Семейной хроники», а также ее значение как достоверного «исторического документа» эпохи. «Хроника» Аксакова, писал Герцен, помогает «нам сколько-нибудь узнать наше неизвестное прошедшее» (А. И. Герцен, Полн. собр. соч. и писем, т. XVII, П. 1922, стр. 88). Большую познавательную ценность «Семейной хроники» отмечал и Щедрин. «Достаточно указать на литературные попытки гг. Тургенева <Писемского> и Островского и в особенности на «Семейную хронику» г. Аксакова, — писал он в черновом варианте статьи «Сказание о странствии… инока Парфения», — чтобы убедиться, что последние годы должны занять весьма почетное место в истории русской литературы. Разработка разнообразных сторон русского быта началась еще очень недавно, и между тем успехи ее не подлежат сомнению» (Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Полн. собр. соч., т. V, М. 1937, стр. 432).
Замечательными были отзывы Добролюбова и Чернышевского. Не игнорируя слабых сторон «Семейной хроники», оба критика считали, что это произведение дает большой материал для обличения крепостничества в России. Одну из важных причин успеха этой книги Чернышевский видел в том, что она «удовлетворяла слишком явной потребности нашей в мемуарах» (Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. III, М. 1947, стр. 699). Историко-мемуарный характер «Семейной хроники» подчеркивал и Тургенев. Познакомившись с одним из новых отрывков «Былого и дум», Тургенев писал в декабре 1856 г. Герцену: «Это в своем роде стоит Аксакова. Я уже, кажется, сказал, что в моих глазах вы представляете два электрических полюса одной и той же жизни — и из вашего соединения происходит для читателя гальваническая цепь удовольствия и поучения» (И. С. Тургенев, Собр. соч., т. 11, М. 1949, стр. 155).
Отмечая восторженный прием, оказанный «Семейной хронике», Аксаков писал М. А. Максимовичу: «Успех моей книги удивил меня. Вы знаете, что мое самолюбие незаносчиво, и оно остается таким, несмотря на все печатные, письменные и словесные похвалы, которые иногда доходят до нелепостей… Я прожил жизнь, сохранил теплоту и живость воображения, и вот отчего обыкновенный талант производит необыкновенное действие» («Киевская старина», 1883, апрель, стр. 838–839).
В рукописных фондах С. Т. Аксакова сохранились неизвестные до сих пор замечания Л. Н. Толстого о «Семейной хронике». С. Т. Аксаков познакомился с Толстым в январе 1856 г. Толстой нередко бывал в доме Аксаковых. В одно из посещений он прослушал в чтении автора несколько отрывков из «Семейной хроники». Вероятно, после чтения состоялась беседа, во время которой Толстой высказал некоторые критические замечания о книге Аксакова, записавшего их, очевидно, для памяти, на последнем листе рукописи «Семейной хроники». Запись эта гласит следующее: «Замечания графа Толстого. 1) Старик Зубин может втайне думать так дурно о Калмыке, но не выскажет своей дочери. 2) Рассказ о похищении Сальме можно выкинуть: он рассказан без любви и задерживает ход. 3) После эпилога остальное примыкает. 4) В эпилоге сказать как-нибудь иначе о том, что предки вызваны из мрака забвения и пр. пр., о могуществе письма и печати и о сочувствии» (Л. Б., ф. Аксакова 1/5, л. 60 об.).
Эти критические замечания Толстого относятся к пятому отрывку «Семейной хроники», законченному Аксаковым в июне 1856 г. По-видимому, в том же месяце Толстой навестил Аксакова. Некоторые из соображений Толстого были автором учтены, например, замечание, обозначенное в пункте 3. В рукописи пятого отрывка после нынешнего эпилога имелся еще один абзац, который действительно не был органичен для эпилога и мог восприниматься лишь как внешне «примыкающий» к тексту «Хроники». Вот он: «Для особенно любопытных читателей и читательниц я скажу, что Степан Михайлович прожил еще пять или шесть лет после рождения внука, что он имел удовольствие его видеть и даже благословить за день до своей кончины… Месяцев за семь перед смертью, а именно в июне 1796 года, он был утешен рожденьем второго внука, Николая, что обеспечивало продолжение рода Багровых; имя внука Николая он также собственноручно вписал в свою дворянскую родословную. Степан Михайлович скончался в январе или феврале 1797 года. Арина Васильевна пережила его несколькими годами; она постоянно грустила о своем супруге, грустила, что ей уж некого бояться» (Л. Б., ф. Аксакова, 1/5, лл. 58 об.–59).
В печатный текст «Семейной хроники» Аксаков не ввел это место. Очевидно, оно было вычеркнуто после беседы с Толстым.
Надо сказать, что не все замечания Толстого показались автору достаточно убедительными — например, его упрек относительно того, что рассказ о Сальме «задерживает ход». Вероятно, в этой связи он просил Тургенева обратить внимание на пятый отрывок «Хроники». «Если будете иметь случай, — писал Аксаков 16 ноября 1856 года, — пожалуйста, прочтите и напишите мне голую правду. Я после скажу вам, почему мне это особенно интересно» («Русское обозрение», 1894, № 12, стр. 590). Ответ Тургенева неизвестен. Аксаков остался при своем мнении и никаких исправлений в рассказ о Сальме не внес.
Среди критических откликов были и такие, которые вызвали резкое неудовольствие Аксакова. Так как в момент издания «Семейной хроники» еще жили люди, в той или иной степени близкие к персонажам книги, автор пытался замаскировать фактическую достоверность своего повествования и с этой целью заменил действительные имена главных персонажей, а также географические названия вымышленными. Первому изданию «Семейной хроники» и «Воспоминаний» было предпослано следующее обращение «К читателям»: «Считаю за нужное предуведомить благосклонных моих читателей, что отрывки из «Семейной хроники» написаны мною по рассказам семейства Багровых, близких моих соседей, и что эти отрывки не имеют ничего общего с собственными моими «Воспоминаниями», кроме сходства в названии местностей и в некоторых именах, данных мною произвольно. Печатая эту книгу, я очень жалею, что не мог представить ее публике в полном составе. Половина «Семейной хроники» не могла быть напечатана, да и «Воспоминания» много сокращены самим мною».
Предостережение Аксакова не возымело успеха. Едва только книга вышла в свет, современная критика тотчас же установила полную тождественность Багровых и Аксаковых. Объясняя А. О. Смирновой обстоятельства, препятствовавшие продолжению работы над «Семейной хроникой», Аксаков писал в мае 1856 г.: «Далее продолжать я не мог. Причины вам понятны. Я и так сделал слишком смелый поступок. Я наперед знал, что найдутся подлецы, которые печатно будут говорить, что Багровы — мои отец и мать. Но бог с ними!» («Русский архив», 1896, кн. I, стр. 160).
Второе издание «Семейной хроники» Аксаков снабдил новым обращением «К читателям»: «Печатая книгу мою вторым изданием, с прибавлением двух новых отрывков «Семейной хроники», я также считаю за нужное предуведомить благосклонных моих читателей, что отрывки из «Семейной хроники» написаны мною по рассказам семейства гг. Багровых, близких моих соседей, и что эти отрывки не имеют ничего общего с собственными моими «Воспоминаниями», кроме сходства в названии местностей и в некоторых именах, данных мною произвольно.
Некоторым из гг. моих рецензентов, преимущественно пишущим в газетах, не угодно было уважить моего предупреждения, ясно изложенного в предыдущих строках. Я был неприятно изумлен таким нарушением везде принятого приличия, оскорбительным и для общества и для сочинителя: ласкаю себя надеждою, что оно не повторится».
Выпуская в свет четвертое издание «Семейной хроники» в 1870 г., И. С. Аксаков написал к нему «Предуведомление», в котором подчеркнул связь между «Семейной хроникой», «Детскими годами Багрова-внука» и «Воспоминаниями» и объяснил истинный смысл тех «предупреждений», с которыми его отец обращался к читателям. «Подобные предупреждения, — писал И. С. Аксаков, — были в то время нужны не потому, чтобы автор полагал возможным уверить читателей в отсутствии тождества обоих названий Багровых и Аксаковых, Куролесовых и Куроедовых и проч., — а потому, что таким способом автор надеялся прекратить толки и пересуды, неприятные для родственного чувства многих тогда еще живых членов этих семейств; надеялся удержать журнальную критику в пределах чисто литературной оценки выставленных им характеров и типов, без всякого нескромного разоблачения тех обстоятельств, которые могли, конечно, подразумеваться, но которым еще не пришло время выступать гласно наружу.
Но теперь, когда уже протекло десять лет со дня кончины автора, когда и других многих близких родственников уже нет и описываемые им события еще глубже ушли в историческую даль, — теперь нет никакой надобности скрывать то, что и прежде подразумевалось и что, будучи обнаруженным и признанным, способно придать всей книге, сверх ее художественного достоинства, еще новое, положительное достоинство живой, несомненной правды, значение важного материала для истории русского общества. Одни и те же лица выступают и в «Отрывках из «Семейной хроники» и в «Воспоминаниях», и читатель может, не смущаясь прежним «Предуведомлением», следить за развитием характеров и составить себе цельную картину семейного быта по обеим частям книги почти за три четверти века тому назад».
В настоящем издании текст «Семейной хроники» воспроизводится по второму, прижизненному изданию (М. 1856). Места, изъятые цензурой, восстанавливаются по рукописи, хранящейся в Рукописном отделе Государственной библиотеки имени В. И. Ленина. В обоих прижизненных изданиях ряд персонажей был обозначен сокращенно или инициалами. Почти все эти сокращения и инициалы давно расшифрованы, и мы даем полное написание имен и фамилий.
Стр. 57. Уфимское наместничество — образовано в 1781 г. из двух областей: Оренбургской и Уфимской. В 1796 г. наместничество было переименовано в Оренбургскую губернию.
Стр. 61. …не за что рассердиться… — В тексте «Московского ученого и литературного сборника» после этих слов было следующее: «Одни дворовые и впоследствии собственное его семейство испытывали иногда всю ярость этой бури. Достаточно было маленькой неправды, небольшого лукавства или обмана, малейшего непослушания, чтобы воспалить его гнев, доходивший до бешенства. Но со всем тем не только крестьяне, но и дворовые, около него служившие люди, не говорю уже о семействе, любили его без ума. Впоследствии времени некоторые из молодых слуг его доживали свой век при мне; уже стариками часто рассказывали они о строгом, вспыльчивом, но справедливом и добром своем старом барине и никогда без слез о нем не вспоминали». Но уже в тексте «Москвитянина» и во всех последующих изданиях «Семейной хроники» это рассуждение было автором снято и в переработанном виде использовано в главе «Новые места».
Стр. 62. Акаевский бунт — крупнейшее восстание башкирских крестьян, возглавленное Акаем. Оно вспыхнуло в 1735 г. и было направлено против колониальной политики русского царизма.
Стр. 67. Цитируемые Аксаковым стихи принадлежат, конечно, ему самому.
Стр. 119. Этот молодой человек, необыкновенно умный и ловкий, уладил все дело. — В рукописи есть любопытное продолжение этой фразы, зачеркнутое чьей-то рукой: «не поскупившись барскими деньгами» (Л. Б., ф. Аксакова, 1/2а, л. 12). Здесь содержался прозрачный намек на те методы, с помощью которых «молодой человек» улаживал дело, — то есть намек на всемогущую взятку.
О Михайлушке — Михаиле Максимовиче, управителе имениями Прасковьи Ивановны — см. подробно в «Детских годах Багрова-внука». Он был дедом известного поэта-шестидесятника М. Л. Михайлова. В «Воспоминаниях» Н. В. Шелгунова содержатся некоторые интересные сведения о последующей судьбе Михайлушки, дополняющие рассказ Аксакова: «Замечательно умный и деловой человек, известный всем и каждому в двух губерниях, был дед Михаила Ларионовича Михайлова; но он умер не потому, что спился на воле, а вот почему. После смерти Прасковьи Ивановны Михайлушка был отпущен на волю, но вольная была сделана не по форме. Этим воспользовались наследники, и всех уволенных Прасковьей Ивановной, в том числе и Михайлушку, опять закрепостили. Дед Михаила Михайлова протестовал, за что его заключили в острог, судили и высекли как бунтовщика. Вот отчего он умер; очень может быть, что он и запил, но уж, конечно, не оттого, как объясняет Аксаков (крестьяне были Аксаковых), что Михайлушка «держался скромного образа жизни», пока был крепостным, и разбаловался на свободе. «Вышел в чиновники, а потом и в дворяне» отец М. Л. Михайлова, бывший потом управляющим Илецкой Соляной Защитой» (Н. В. Шелгунов, Воспоминания, М.—П. 1923, стр. 94).
В этом рассказе Шелгунова необходимо уточнить одно обстоятельство. Родовое материнское имение Прасковьи Ивановны Чурасово (Чуфарово) досталось в наследство не Аксаковым, а ее родственникам по материнской линии. Таким образом, крестьяне, о которых пишет Шелгунов, были не Аксаковых и история со вторичным закрепощением Михайлушки отношения к Аксаковым не имеет. В годы крестьянской реформы одной из владелиц Чуфарова была некая Т. Д. Слепцова (см. кн. «Россия. Полное географическое описание нашего отечества», т. VI, СПБ. 1901, стр. 400).
Стр. 126. Домашний лечебник Бухана. — Речь идет о популярной в свое время книге английского врача Вильяма Бухана (1729–1805), выдержавшей в Англии более двадцати изданий. «Полный и всеобщий домашний лечебник, сочиненный как для предохранения здоровия надежнейшими средствами, так и для пользования болезней всякого рода, с показанием причин, признаков а наипаче распознавательных…». Книга эта выходила на русском языке в переводе с французского двумя изданиями (М. 1792 и М. 1811).
Стр. 147. …двух-трех глупейших романов, вроде «Любовного вертограда» или «Аристея и Телазии». — «Любовный вертоград, или Непреоборимое постоянство Камбера и Арисены», перев. с португальского Ф. Эмин (СПБ. 1763); «Похождения Аристея и Телазии», перев. с французского (СПБ. 1764).
Стр. 198. …и сыновья ее стали называться Мертвого. — Эта сноска в обоих прижизненных изданиях «Семейной хроники» отсутствует. Она имелась в рукописи и зачеркнута С. Т. Аксаковым ввиду того, что он отказался от первоначального намерения воспроизводить полностью фамилию Марьи Михайловны Мертвой. Когда в четвертом издании «Семейной хроники» (М. 1870) были впервые расшифрованы фамилии персонажей, ранее обозначенных инициалами, оказалось целесообразным восстановить и сноску Аксакова.
Стр. 241. Барановский Егор Иванович — оренбургский губернатор, хороший знакомый Аксаковых.
…я не мог бы верно описать ее без пособия сведений, доставленных мне обязательными людьми. — Воскрешая в памяти былое, С. Т. Аксаков испытывал порой необходимость подкреплять свои воспоминания показаниями старых друзей, земляков-оренбуржцев. Он обращался к ним с различными просьбами уточнить те или иные интересующие его сведения. В аксаковском фонде ИРЛИ хранится любопытное свидетельство одного из земляков Аксакова, имеющее прямое отношение к данному месту «Семейной хроники»: «…Сергей Тимофеевич по ходу рассказа приведен был к описанию одной татарской деревни невдалеке от Уфы, в которой был в детстве; ему хотелось проверить художественное представление свое об этой местности с действительностью, и он написал мне, прося сообщить описание местоположения деревни. Я послал Сергею Тимофеевичу самое верное и простое описание местности; этого-то ему и хотелось; и как благодарил он меня за исполнение просьбы, как рад был великий художник, что воссозданная им местность верна была истине» (ИРЛИ, ф. 3, оп. 14, д. № 4, л. 14 об.).
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ИМЕНА
УПОМИНАЕМЫХ ЛИЦ И НАЗВАНИЯ МЕСТНОСТЕЙ
[33]
Багров Сережа — Аксаков Сергей Тимофеевич.
Багров Степан Михайлович — Аксаков Степан Михайлович, дед писателя.
Багрова Арина Васильевна — Аксакова Ирина Васильевна, бабушка писателя.
Багров Алексей Степанович — Аксаков Тимофей Степанович, отец писателя.
Багрова (урожд. Зубина) Софья Николаевна — Аксакова (урожд. Зубова) Марья Николаевна, мать писателя.
Зубин Николай Федорович — Зубов Николай Федорович, дед писателя.
Куролесова Прасковья Ивановна — Куроедова (урожд. Аксакова) Надежда Ивановна, двоюродная тетка отца писателя.
Сестрица — Аксакова Надежда Тимофеевна, сестра писателя.
Багрово Новое — Ново-Аксаково, или Знаменское, ныне Ново-Аксаково, Аксаковского сельсовета, Бугурусланского района, Оренбургской области.
Багрово Старое — Старо-Аксаково, или село Троицкое, ныне село Аксаково, Аксаковского сельсовета, Майнского района, Ульяновской области.
Парашино — Надеждино, известное также ранее под именем Куроедово, — ныне Надеждинского сельсовета, Белебеевского района, Башкирской АССР. Имение это перешло по наследству к отцу С. Т. Аксакова, а затем и к самому С. Т. Аксакову.
Чурасово — Чуфарово, ныне Старо-Маклаушинского сельсовета, Майнского района, Ульяновской области.
СЛОВАРЬ ТРУДНЫХ ДЛЯ ПОНИМАНИЯ СЛОВ
Багренье — зимняя ловля красной рыбы багром.
Барашек дикий — здесь: бекас.
Бастыльник — сорная крупная трава, бурьян.
Бачка — сокращенное: батюшка, отец.
Беляк — белая волна, пена, барашки.
Били (перепела) — кричали.
Бить (расшитый битью) — сплющенная тонкая проволочка для золототканой работы.
Бить в дудки (термин в охоте на перепелов) — подражать крику перепелов.
Бланжевый — телесного цвета.
Бобовник — дикий персик.
Борть — дупло, в котором водятся пчелы.
Браная ткань — ткань, вытканная узором.
Бурак — берестовый стоячок с крышкой.
Варакушка — птица из разряда певчих.
Вешняк — ворота с подъемным засовом в плотинах для спуска вешней воды.
Взлобок — невысокое, крутоватое возвышение местности; высшая точка негористой местности.
Волосник — женская шапочка, надеваемая под платком.
Враг — здесь: овраг.
Врюхаться — влюбиться.
Выбойка — самый грубый ситец, холщовая ткань с узором одного цвета.
Вытянуть гору — подняться на вершину пологой горы и спуститься с вершины к подошве.
Вятель — плетенка из прутьев у рыбаков.
Гнет — жердь, рычаг на возу для прижимания сена.
Гоношить — копить, собирать.
Грива — холм, поросший лесом.
Дикуша — гречиха.
Емены — хлеб для собственного употребления.
Ергак — халат или тулуп из короткошерстных шкур, шерстью наружу.
Желна — большой черный дятел.
Жирная вода — разлив, половодье.
Завозня — род небольшого речного судна, плоскодонная лодка.
Загон — пахотный участок земли.
Закрайка — осенний лед, намерзающий около берегов.
Залог — непаханая земля.
Застреха — нижний нависший край крыши с внутренней стороны.
Засыпка — помощник мельника.
Зверовой (о собаке) — охотничья собака.
Изволок — отлогая гора; некрутой длинный подъем.
Кармазин — тонкое ярко-красное сукно.
Козелец — сорное растение.
Колок — отдельная рощица, лесок.
Копр — укроп.
Корчажное пиво — пиво домашнего приготовления.
Косная лодка — легкая лодка для переездов.
Куделя — вычесанный и перевязанный пучок льна, приготовленный для пряжи.
Кулига — ровное место, чистое и безлесное, поляна.
Лагун — бочонок.
Лутошка — липка, с которой снята кора; она сохнет и чернеет.
Мартышка (стаи мартышек) — птица из породы чаек.
Материк (реки) — русло реки.
Межень — средний уровень воды в реке.
Мешаться (о хлебах) — начать желтеть, зреть.
Младенская, родимец — судороги у детей.
Морда — плетенка из ивовых прутьев для ловли рыбы.
Мочка — прядь, волокно.
Мурья — тесное и темное жилье, лачуга, конура.
Муфтий — местный глава мусульманской церкви.
Намнясь — на этих днях.
Наструг — инструмент для строганья.
Недотка — самая грубая и редкая ткань (не-до-ткать), которая идет на частые бредни.
Обечайка — согнутый в круг лубок.
Осот — сорные растения разных видов.
Остаметь — остолбенеть.
Отправить сорочины — поминанье на 40-й день.
Палочник — кустистый или молодой лесок, годный на палки.
Переломать — вспахать вторично.
Перемоки — частые дожди.
Плавиться (о рыбе) — рыба играет на воде.
Плесо — часть реки от одного изгиба до другого.
Поветь — крытое место.
Погоныш — малая болотная курочка.
Подбор (о неводе) — две продольные веревки, на которые посажен невод.
Подволока — чердак.
Подовые пироги — из кислого теста, испеченные на поду.
Полба — разновидность пшеницы.
Полосущатый — из полосухи, полосатой цветной ткани.
Понять (что-либо) — заливать.
Поставец — посудный шкаф.
Приданые — так назывались дворовые, отдаваемые за дочерью в числе приданого.
Пристановка (растений) — перемещение из оранжерей на воздух.
Пришипиться — присмиреть.
Происшедший — выслужившийся из «простолюдинов».
Прорезь — живорыбный садок; ящик с прорезами для протока воды.
Пряжка — упряжка, переезд на одних лошадях между кормежками, перегон.
Пустоплесье — незаселенный берег реки.
Расцыганить — осудить.
Ребятница — женщина с грудным ребенком.
Ремень (на животном) — темная полоса по хребту.
Рогатые орехи — рогульник, плод водяного растения.
Ротиться — клясться.
Сабан — род примитивного двухколесного плуга.
Сандал — название красителя.
Семьянный — имеющий семью.
Серпуха — желтая краска.
Сидка — высиживать.
Соковые краски — краски из соков растений.
Старина — здесь: родина.
Старица — старое, высохшее русло реки.
Стрежень — глубокое место в речном русле, годное для судоходства, фарватер.
Строка — вид овода.
Сырт — возвышенность, являющаяся водоразделом.
Сычуг — один из отделов желудка у жвачных животных; кушанье в виде фаршированного мясом желудка.
Сурчина — нора сурка.
Толока — потрава скотом трав, хлеба.
Труба (речная) — русло.
Тук — чернозем.
Тягло — семья крестьянина, платящего подати.
Уносные лошади — пара лошадей, обычно первая, в запряжках четверней и более.
Ухичивать — сделать годным для жилья, утеплить.
Хизнуть — хилеть, дряхлеть.
Холудина — жердь, длинная хворостина.
Цевка — зубец зубчатого колеса.
Чернотал — вид ивы.
Чилизник — вид акации.
Чихирь — род виноградного вина.
Шадрик — грязный, непереваренный поташ.
Шиш — острая вершина, насыпь.
Штадт-физик — городовой врач.
Шушун — название верхней женской одежды, кофта или шубейка.
Примечания
1
Тюба — волость.
(обратно)2
Русские обитатели Оренбургской губернии до сих пор, говоря с башкирцами, стараются точно так же ломать русскую речь, как и сами башкирцы.
(обратно)3
Чебызга — дудка, которую башкирец берет в рот, как кларнет, и, перебирая лады пальцами, играет на ней двойными тонами, так что вы слышите в одно и то же время каких-то два разных инструмента. Мне сказывали музыканты, что чебызга чудное явление в мире духовых инструментов.
(обратно)4
Припущенниками называются те, которые за известную ежегодную или единовременную плату, по заключенному договору на известное число лет, живут на башкирских землях. Почти ни одна деревня припущенников, по окончании договорного срока, не оставила земель башкирских; из этого завелись сотни дел, которые обыкновенно заканчиваются тем, что припущенники оставляются на местах своего жительства с нарезкой им пятнадцатидесятинной пропорции на каждую ревизскую душу по пятой ревизии… и вот как перешло огромное количество земель Оренбургской губернии в собственность татар, мещеряков, чуваш, мордвы и других казенных поселян.
(обратно)5
Уремой называется лес и кусты, растущие около рек.
(обратно)6
Каузом называется деревянный ящик, по которому вода бежит и падает на колеса; около Москвы зовут его дворец (дверец), а в иных местах скрыни.
(обратно)7
Турсук — мешок из сырой кожи, снятый с лошадиной ноги.
(обратно)8
Красной рыбой называются белуга, осетр, севрюга, шип, белорыбица и другие.
(обратно)9
Помещики, жившие с дедушкой в Старом Багрове и владевшие вместе с ним неразмежеванной землей.
(обратно)10
Прозванье «Горожаны» она имела потому, что несколько времени смолоду жила в каком-то городе.
(обратно)11
Двумя последними поговорками, несмотря на видимую их неопределенность, русский человек определяет очень много, ярко и понятно для всякого.
(обратно)12
Кошки были любимым орудием наказания у Михайла Максимовича. Это не что иное, как ременные плети, оканчивающиеся семью хвостами из сыромятной кожи с узлами на конце каждого хвоста. В Парашине даже после смерти Куролесова некоторое время сохранялись в кладовой, разумеется без употребления, эти отвратительные орудия, и я видел их сам. Когда имение досталось сыну Степану Михайловича, кошки были сожжены.
(обратно)13
Иван Ануфриев остался жив и прожил лет до пятидесяти, а брат его захилел и умер через год.
(обратно)14
Она училась так прилежно, что скоро могла понимать французские книги, разговоры и даже выучилась немного говорить по-французски.
(обратно)15
Дедушка вообще колдовству мало верил. Даже стрелял один раз (вынув тихонько дробь) в колдуна, который уверял, что ружье заговорено и не выстрелит; разумеется, ружье выстрелило и крепко напугало колдуна, который, однако, нашелся и торжественно объявил, что дедушка мой «сам знает», чему и поверили все, разумеется кроме Степана Михайловича.
(обратно)16
Не знаю, как теперь, а в старые годы на оренбургской мене такую покупали армянину, которая своей тониной и чистотой равнялась с лучшими азиатскими тканями.
(обратно)17
Письмо это я почти помню наизусть. Вероятно, оно и теперь существует в старых бумагах одного из моих братьев. Очевидно, что некоторые выражения письма заимствованы из тогдашних романов, до которых Алексей Степаныч был охотник.
(обратно)18
Федор Иванович Занден, доктор весьма ученый, бывший впоследствии штадт-физиком в Москве.
(обратно)19
Отдаленная улица в Уфе.
(обратно)20
Шитье по карте значило, вероятно значит и теперь, что узоры рисовались на карте, потом вырезывались, наклеивались на материю и вышивались золотом.
(обратно)21
Так произносилось это слово в семействе Багровых.
(обратно)22
Стриганами называют годовалых жеребят, потому что им подстригают гривы, чтоб они ровнее и лучше росли. Лонщак — двухлетний жеребенок, третьяк.
(обратно)23
Названье деревень.
(обратно)24
Невероятное множество крыс продолжало водиться в Каратаевке лет сорок. Я сам испытал их наглые ночные нападения.
(обратно)25
Впоследствии правительство позволило изменить это страшное слово, и сыновья ее стали называться Мертваго.
(обратно)26
То есть повеять ветру.
(обратно)27
Евсеич (его звали всегда только по отчеству) впоследствии был дядькой ее старшего сына, за которым ходил с отцовскою горячностью. Я знал коротко этого почтенного старика. Лет пятнадцать тому назад я видел его уже слепого, доживавшего свой век в Пензенской губернии у одного из внуков Степана Михайлыча Багрова. Мне случилось прогостить там целый летний месяц. Каждый день, рано поутру, приходил я удить в проточном пруде на речке Какарме, при впадении ее в прекрасную реку Инзу; на самом берегу пруда стояла изба, в которой жил Евсеич. Каждый день, подходя к пруду, видел я этого, уже дряхлого, сгорбленного, седого как лунь старика, стоявшего, прислонясь к углу своей избы, прямо против восходящего солнца; костлявыми пальцами обеих рук опирался он на длинную палку, прижав ее к своей груди и устремив слепые глаза навстречу солнечным лучам. Он не видел света, но чувствовал теплоту его, столь приятную в свежести утреннего воздуха, и грустно-радостно было выражение его лица. Слух его был так чуток, что он издали узнавал мою походку и весело, как старый рыбак приветствует молодого, приветствовал меня, хотя мне самому было уже пятьдесят лет. «А, это ты, соколик! (Так привык он звать меня в молодости.) Пора! Дай бог клев на рыбу!» — Года через два он скончался на руках дочери, сына и жены, которая пережила его несколькими годами.
(обратно)28
Деревня Узы-тамак состоит теперь, по последней ревизии, из девяноста восьми ревизских душ мужеского пола крепостных крестьян, принадлежащих потомку прежних владельцев помещику г-ну Алкину; она носит прежнее имя, но выстроена уже правильною улицею на прежнем месте.
(обратно)29
[Тау значит гора, Байрам — праздник. Это имя, как говорит предание, дано горе потому, что на ней будто бы башкирцы совершали торжественное молебствие после уразы, то есть поста. Зеин-тау— значит гора собрания; зеином называется пир или собрание народа для борьбы, беганья и конской скачки. Гора эта получила название Зеина со времени приобретения от башкирцев земли, лежащей по речке Узе, помещиком Алкиным, что случилось именно в 1791 году. Г-н Алкин, после заключения условия с башкирцами, дал для них на этой горе пир с разными увеселениями. Тамак значит устье, а потому и деревня на устье Узы, при впадении ее в Дему, называется Узы-тамак. Имена же реки Узы, а равно и речки Куркул-даук, которая сейчас встретится, значения не имеют.
Я говорю все это, основываясь на самых точных новых сведениях, благосклонно доставленных мне Е. И. Барановским и полученных им от теперешнего владельца деревни Узы-тамак г-на Алкина. Я видел сам прекрасную местность этой деревни; но этому прошло уже так много лет, что я не мог бы верно описать ее без пособия сведений, доставленных мне обязательными людьми.]
(обратно)30
Этот завод уничтожен в 1848 году; в 1791-м только что начиналась в Уфимском крае выварка поташа, истребившая впоследствии множество лучших пород чернолесья: липы, ильмы, вяза и клена. Изобилие этих пород было так велико, что сначала только их и употребляли на поташ, потому что зола их несравненно выгоднее других. Продажа поташа представляла тогда огромные выгоды сравнительно с прочими отраслями доходов.
(обратно)31
Другой вариант этого предания говорит, что мать с сыновьями преследовала убежавшую дочь.
(обратно)32
Андрей Михайлыч Клоус в том же 1791 году переехал в Москву и поступил в Воспитательный дом преподавателем повивального искусства. Он добросовестно исправлял эту должность тридцать лет и скончался в 1821 году. Желтый парик остался неизменною его принадлежностью. Он был страстный и многим известный нумизмат.
(обратно)33
Речь идет лишь о наиболее значительных персонажах «Семейной хроники» и «Детских годов Багрова-внука».
(обратно)


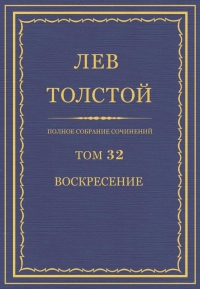

Комментарии к книге «Семейная хроника», Сергей Тимофеевич Аксаков
Всего 0 комментариев