М. Н. Загоскин Москва и москвичи
Выход первый
От издателя
Я не люблю читать предисловий, очень редко пишу их сам и всегда стараюсь, чтобы они были как можно короче; но на этот раз должен поневоле отступить от моего правила и начать эту книжку следующим предисловием, или, как говорилось в старину, кратким возглашением.
Любезнейшие читатели и почтеннейшие читательницы!
Хотя на заглавном листе этой книжки напечатано, что я только издатель, а сочинитель ее Богдан Ильич Бельский, но, может быть, вы примете это за шутку. Чтобы уверить вас в противном, мне должно рассказать, по какому случаю я сделался издателем этих записок.
Месяца три тому назад, возвратясь домой после обыкновенной моей утренней прогулки, я нашел на своем письменном столе огромный запечатанный пакет без надписи; по словам моего человека, его принес незнакомый слуга, весьма опрятно одетый, но какой-то грубиян, потому что на все расспросы моего Андрея: кто он таков и от кого прислан — отвечал только: «Велено отдать твоему барину». Наружная форма и толщина этого пакета ничего доброго не предвещали. «Ахти, — вскричал я, — верно, какая-нибудь переводная мелодрама или комедия, переделанная на русские нравы! Да неужели я должен публиковать в газетах, что это уже вовсе до меня не касается и что я не обязан, по долгу службы, читать почти каждый день драматические произведения семинаристов, гимназистов и даже глубокомысленных московских гегелистов, из которых некоторые весьма усердно занимаются театром!» Я распечатал пакет: письмо на мое имя и кругом исписанная тетрадь; однако ж не драматическое сочинение, а записки какого-то Богдана Ильича Бельского. Прочтем, что он ко мне пишет.
«Милостивый государь» (я не прибавляю мой, потому что вы старее меня чином)».
«Ого, — подумал я, — да это какой-то старовер! Он еще держится правила: чин чина да почитает. Посмотрим, чего он от меня хочет».
«Я вас давно уже знаю; мне случалось иногда встречаться с вами в разных обществах; вероятно, и вы также меня знаете, но только под настоящим моим именем. Хотя принятое мною в этих записках прозвание Белъского могло бы по всей справедливости принадлежать мне как единственному и прямому наследнику этого знаменитого исторического имени, но я решился остаться при моем, весьма обыкновенном, которое ни разу не упоминается в русских летописях, следовательно, весьма прилично человеку с умеренным состоянием и вовсе не чиновному, потому что у нас, — да, я думаю, и везде, — для поддержания знаменитого имени необходимы или богатство, или чины. Ну, рассудите сами, какую жалкую роль играет человек с громким историческим именем, если он сам по себе ровно ничего не значит? Представьте, как смешно, или, лучше сказать, грустно, было бы видеть отставным коллежским регистратором Скопина-Шуйского или становым приставом какого-нибудь князя Пожарского! Но я, может быть, надоел вам моею болтовнёю, а мне нужно поговорить с вами об одном весьма важном для меня предмете. Вот в чем дело: я давно уже веду записки, — не о домашней моей жизни: в ней не было ничего особенно замечательного, — но о всем том, что касается до Москвы и ее жителей относительно к их частному, политическому и историческому быту. Я изучал Москву с лишком тридцать лет и могу сказать решительно, что она не город, не столица, а целый мир — разумеется, русский. В ней сосредоточивается вся внутренняя торговля России; в ней процветает наша ремесленная промышленность. Как тысячи солнечных лучей соединяются в одну точку, проходя сквозь зажигательное стекло, так точно в Москве сливаются в один национальный облик все отдельные черты нашей русской народной физиономии. Европейское просвещение Петербурга; не вовсе чуждое тщеславия хлебосольство наших великороссийских дворян; простодушное гостеприимство добрых сибиряков; ловкость и досужество удалых ярославцев, костромитян и володимирцев; способность к письменным делам и необычайное уменье скрывать под простою и тяжелою наружностью ум самый сметливый и хитрый — наших, некогда воинственных, малороссиян; неуклюжество и тупость белорусцев; страсть к псовой охоте степных помещиков; щегольство богатых купцов отличными рысаками; безусловное обожание всего чужеземного наших русских европейцев и в то же время готовность их умереть за славу и честь своей родины; безотчетная ненависть ко всему заморскому наших запоздалых староверов, которые, несмотря на это, не могут прожить без немецкой мадамы или французского мусью; ученость и невежество, безвкусие и утонченная роскошь; одним словом, вы найдете в Москве сокращенье всех элементов, составляющих житейский и гражданский быт России, этого огромного колосса, которому Петербург служит головою, а Москва сердцем. Москва — богатый, неисчерпаемый рудник для каждого наблюдателя отечественных нравов. Может быть, во мне недостало уменья разработать как следует этот богатый рудник; впрочем, и то хорошо, если мне удалось открыть его и указать человеку более меня искусному, где должен он искать не одной руды, вовсе не походящей на металл, который в ней скрывается, но чистых самородков, не всегда золотых — это правда; но ведь золото везде редко, а томпак, семилёр и всякая другая блестящая композиция, которую иногда стараются выдавать нам за пробное червонное золото, право, не стоят нашего простого железа… Да об этом после; дело состоит в том, что я решился напечатать мои записки.
Я человек не очень богатый, так прежде всего должен был подумать о том, во что мне обойдется издание этой книги, а для этого мне нужно было посоветоваться с человеком знающим и опытным. Вы, вероятно, слыхали о книгопродавце Иване Тихоновиче Корешкове; мы с ним люди знакомые, — я даже прошлого года крестил у него сына.
Чего ж лучше, подумал я, мой куманек тридцать лет занимается книжною торговлею, так уж, верно, сочтет мне по пальцам, что будут стоить бумага, печать, обертка, одним словом, всё; а может статься, и манускрипт у меня купит: это было бы всего лучше.
Лишь только я хотел послать за Иваном Тихоновичем, а он ко мне и в двери.
— А, любезный куманек! — вскричал я. — Милости просим! Очень кстати! Ведь у меня есть до тебя дельце.
— Рады служить, Богдан Ильич! Что прикажете? — сказал Корешков с низким поклоном.
— Садись-ка, любезный!.. Вот изволишь видеть: ты знаешь мои записки?
— Как же, батюшка, вы мне еще прошлого года читали из них разные этакие штучки, — очень интересно!
— Я хочу их напечатать.
— Ну что ж, сударь, с богом!
— Да вот что: я человек непривычный, до смерти боюсь всяких хлопот. Знаешь ли что, любезный? Купи у меня манускрипт в вечное и потомственное владение: я дешево продам.
— Нет, Богдан Ильич, — извините! Мы этим не занимаемся. Дело другое — на комиссию…
— Впрочем, — продолжал я с видом совершенного равнодушия, — для меня все равно: книга моя не залежится. Уже одно название этих записок разлакомит покупщиков:
«Москва и москвичи»!
— Да-с, названье бенефисное.
— А как ты думаешь, куманек: дорого мне будет стоить напечатать эту книгу?
— Да если всю, так не дешево-с.
— Как всю? Да разве можно будет печатать ее по частям?
— А почему же нет, Богдан Ильич? Ведь если я не ошибаюсь, так книга ваша, так сказать, отрывочная; то есть не то чтоб какой-нибудь романчик или история, а вот вроде тех, которые выдаются теперь в Петербурге: «Сто писателей», «Сказка за сказкою» и прочие другие. Вы не извольте только выставлять на заглавном листе: «Часть первая», а «Выход или выпуск первый».
— Да разве это не все равно?
— Помилуйте! Уж кто написал «Часть первая», так как будто бы обещает вторую часть непременно; а «Выпуск» что значит?… Будет, дескать, время, так выпущу другую; а нет, так не прогневайтесь!..
— А что ты думаешь? Ведь это правда.
— Как же, батюшка!.. Одну книжку напечатать не фигура, и можно дешевле пустить, так авось и поразберут; а там, если она понравится да пойдет, так и выпускайте себе вторую, третью — сколько душе вашей угодно.
— Спасибо, куманек, за добрый совет. Итак, решено: я буду выдавать мои записки отдельными книжками; их число и время их выходов будут совершенно зависеть от моей воли и от приема, который сделает им публика.
— Да-с! Только смею вас спросить: вы объявите свое имя?
— Нет, я хочу назваться в моих записках Бельским.
— А, понимаю-с! Это нынче в моде-с. Вам угодно быть вот этим… как бишь они называются?
— Псевдонимы.
— Да-с, точно так-с. Только воля ваша, Богдан Ильич, напрасно-с: это не даст ходу вашей книжке.
— Так ты думаешь, что лучше выставить на заглавном листе мое настоящее имя?
— Оно, если хотите, сударь, все равно. Не прогневайтесь, батюшка, вы по книжному делу человек вовсе не известный. Вот если бы вы уж печатали да вас разика два похвалили в «Библиотеке», в «Сыне отечества», в «Северной пчеле» или в «Русском вестнике», так это бы другое дело, а то, хоть будьте вы человек распреумный, с большим талантом…
— Да что я; еще надобно?
— Имя, сударь, имя! Это всего нужнее в нашей книжной коммерции.
— Да где ж мне прикажешь его взять?…
— Вот то-то и дело! Не знакомы ли вы с каким-нибудь сочинителем, который в ходу, то есть которого все знают?… Попросите его…
— Что, что? — вскричал я, вскочив с моих вольтеровских кресел. — Да неужели ты думаешь, что я допущу кого бы то ни было называться сочинителем моих записок?
— Позвольте!.. — прервал Корешков, вставая также со своего стула.
— Чего тут позвольте! — продолжал я весьма неравнодушно. — Стану я из подлых барышей прибегать к таким средствам!.. Я трудился, писал и, надеюсь, не вовсе дурно, а кто-нибудь другой…
— Да выслушайте, Богдан Ильич…
— Полно, кум! Вы все, торгаши, на один покрой. Что такое для вас книга? Товар, и больше ничего. Для вас произведение высокого таланта, творческое создание гения и какой-нибудь новейший песенник — одно и то же…
— Нет, сударь, иногда песенник и лучше, если он ходчее идет. Да дело не в том. За что вы изволите гневаться? Ведь я хотел вам сказать: попросите какого-нибудь известного автора, чтоб он назвался не сочинителем, а издателем ваших записок…
— Какой вздор! Да разве имя издателя ручается за достоинство сочинения?
— А как же, сударь? Всякий скажет: «Видно, дескать, отличная книжка, если издает ее известный писатель».
— Ну, ну, хорошо! — сказал я, когда встревоженное мое самолюбие поуспокоилось. — Может быть, куманек, ты и дело говоришь. Да кого же я стану просить об этом?
— Мало ли, сударь, в Москве сочинителей. Да вот хоть не далеко идти: господин Загоскин… Не то чтоб он был какой-нибудь знаменитый писатель — нет! есть, батюшка, гораздо почище его, да ему как-то посчастливилось: выдал «Юрия Милославского», попал в народность да и пошел пописывать разные романчики; а там опера «Аскольдова могила»… Что за опера такая!.. Вы изволили ее видеть?
— Как же!.. И ты думаешь, что господин Загоскин согласится?…
— А почему знать? Попробуйте!..
— Я напишу к нему письмо.
— Да знаете ли, этак повежливее — польстите ему… «Позвольте, дескать, украсить вашим знаменитым именем…»
— Куманек, а не ты ли сейчас говорил?…
— И, батюшка, да разве вы не знаете, что ложь бывает иногда во спасение? Хвалите его на убой: ну что за дело? Бумага все терпит!..
— А если он подумает, что я над ним смеюсь?…
— Не подумает, батюшка!.. Знаем мы этих сочинителей! Иной ломается так, что не приведи господи!.. «Мы да мы!» — а что сделал? Водевильчик перевел или статейку напечатал в журнале… Я много с ними обращался, Богдан Ильич. Случалось иногда — по надобности — начнешь хвалить иного в глаза… русским Вальтером Скоттом назовешь… Верите ль богу, самому стыдно, — а он лишь только ухмыляется. Уж, видно, они все родом так, батюшка!
Вот вам, милостивый государь, слово от слова мой разговор с Иваном Тихоновичем Корешковым. Я не скрыл даже от вас, что он не слишком высокого мнения о вашем таланте. Из этого вы можете заключить, что я не в точности исполнил его совет, то есть не прибегал к лести, чтоб склонить вас быть издателем моих записок. Если вы на это не согласитесь, то я поневоле должен буду подумать, что мой кум лучше моего знает, чем можно угодить вообще всем писателям, и в особенности вам, милостивый государь.
С чувством истинного почтения честь имею остаться вашим покорнейшим слугою
Богдан Бельский».
Теперь вы видите, любезные читатели, в какое затруднительное положение поставил меня господин Бельский. Принять его предложение мне вовсе не хотелось, а не принять его я не смел: господин Бельский мог бы подумать, что я рассердился на его кума за то, что он не хочет признать меня знаменитым писателем. Конечно, это очень обидно; но вы понимаете, любезные читатели, что я ни в каком случае не могу показывать, до какой степени огорчает меня это мнение почтенного господина Корешкова, а для этого я должен был непременно согласиться на сделанное мне предложение. Но еще раз повторяю, что не намерен брать на себя чужих грехов и быть ответчиком за господина Бельского, с которым во многом я даже не согласен. Он говорит иногда слишком резко правду, а я этого терпеть не могу. Ну что за охота называть в глаза горбатого горбатым, кривого кривым? Ведь и того и другого исправит одна только могила, — так зачем же их и дразнить? Впрочем, я долгом считаю прибавить, что господин Бельский человек незлой; он только немного крутенек, подчас бывает слишком откровенен да любит иногда придержаться известного правила, что:
Вовсе не грешно Над тем смеяться, что смешно.I Московский старожил
Воскреснем ли когда от чужевластья мод?
Чтоб умный, добрый наш народ
Хотя по языку нас не считал за немцев.
ГрибоедовЕсли б я писал роман, то, конечно, не имел бы никакой надобности знакомить с собою моих читателей, но в этих записках я говорю прямо от своего лица, описываю собственные мои действия, замечания и даже приключения, — следовательно, должен прежде всего сказать несколько слов о самом себе моим, надеюсь, снисходительным и, без всякого сомнения, многочисленным читателям. «Многочисленным!» — Да, милостивые государи, я в этом совершенно уверен, как и всякий начинающий писатель; разница только в том, что другие это думают про себя, а я говорю вслух. Без этой уверенности, которую не всегда могут поколебать даже и постоянные неудачи, никто не стал бы печатать своих сочинений. Поверьте мне: все эти ссылки на друзей, по настоятельной просьбе которых будто бы книга печатается, одно жеманное пустословие. Мы обыкновенно печатаем для всех и очень бы оскорбились, если б нас прочли одни только приятели.
Кто из москвичей не знает Пресненских прудов, но, может быть, не всякому случалось бывать по ту сторону этих прудов, в узких и кривых переулках, которые довольно круто подымаются в гору. В одном из них, недалеко от обсерватории, стоит на полугоре небольшой деревянный домик, осененный спереди несколькими кустами бузины и акаций. Из окон надворной стороны дома видна внизу, под самою горою, часть города, примыкающая к трем холмам, знаменитым во всей Москве своею трехгорной водою. Когда вы смотрите в окно, ваш взор, быстро пробежав по кровлям, невольно останавливается на обширном поемном лугу, по которому змеится наша изгибистая Москва-река: прямо за ней чернеются рощи Воробьевых гор, налево подымается колокольня Новодевичьего монастыря, а еще левее, как сквозь туман, мелькают кровли домов и кресты церквей отдаленного Замоскворечья. Этот вид везде бы назвали прекрасным, но в Москве уж, верно, никто не придет им полюбоваться. Мы, москвичи, избалованы прекрасными видами, мы встречаем их на каждом шагу и привыкли смотреть равнодушно на эти великолепные панорамы, которые пленяют всех иностранцев своею роскошною красотою и дивным разнообразием. Маловодная Москва-река и ничтожная речка Яуза вовсе не замечательны как реки, но зато какие у них живописные берега!
В этом-то уединенном домике я, Богдан Ильич Бельский, живу почти безвыездно с 1814 года, то есть двадцать восемь лет сряду. Я никогда не мог назваться богатым человеком, однако ж было время, что и у меня был каменный дом на Никитской, что и я не понимал, как может порядочный человек жить за Пресненскими прудами в каком-нибудь кривом переулке, в глуши, где каждый проезжающий экипаж обращает на себя всеобщее внимание. Я начал служить довольно рано и вышел в отставку ротмистром. В 1812 году вступил снова в службу; участвовал в Бородинском сражении, был в деле под Тарутином и едва остался жив после сражения под Малым Ярославцем, где разбитый неприятель должен был, к явной своей гибели, вместо сытной и привольной Калужской дороги продолжать свое отступление по Смоленской, совершенно опустошенной и своими и чужими. Я был так тяжело ранен, что пролежал без чувств почти целый день между убитыми, без всякого приюта и помощи. К счастию, зимние холода еще не наступали — несмотря на то, что побежденный неприятель бежал уже из России, совершенно разбитый и расстроенный. Это обстоятельство противоречит несколько мнению иностранцев, которые стараются доказать, что одна зима спасла Россию. Я имею большую веру ко всему тому, что пишут о нас чужеземцы, и в особенности уважаю известное всему миру беспристрастие французских писателей, но в этом случае не могу даже согласиться и с ними, потому что непременно бы замерз под Малым Ярославцем, если б французов победил и выгнал из России один только зимний холод. Вероятно, многие, подобно мне, имеют неограниченную веру ко всему, что пишут французы, а меж тем не были так же, как я, под Малым Ярославцем, то легко, может быть, иной подумает, что я из патриотизма, который он, без всякого сомнения, назовет квасным, говорю неправду; в таком случае я попрошу его прочесть, что пишет об этом наш знаменитый партизан Д.В. Давыдов. Он доказывает фактами и словами самих неприятелей, что первые и весьма легкие морозы начались спустя три дня после сражения под Малым Ярославцем, следовательно, французов гнал из России русский штык, а не русский мороз, который помогал только впоследствии нашим казакам истреблять отсталых солдат неприятельской армии, когда она уже не дралась и даже не отступала, а просто без оглядки бежала вон из России.
Уволенный за ранами в отставку с чином подполковника, я отправился прямо в Москву. Я знал, что она горела, но никак не воображал увидеть то, что увидел, когда подъехал к Дорогомиловской заставе!.. «Москва! — да где же она?» — спросил я с удивлением. «Вот, батюшка!» — отвечал ямщик, указывая перед собою. Представьте себе ребенка, который, расставшись на несколько дней с своею матерью, цветущею здоровьем и красотою, возвращается домой, спешит обнять ее, спрашивает, где его родная, — и ему, указывая на каменную плиту, отвечают: «Ты ищешь своей матери — вот она! под этим камнем». О, уверяю вас, этот ребенок не заплакал бы горчее того, как заплакал я, окинув испуганным взглядом эти беспредельные развалины… Развалины! Нет! под этим словом мы привыкли разуметь что-то величественное, прекрасное или, по крайней мере, живописное. Мы украшаем искусственными развалинами сады наши; а это огромное пепелище, которому не видно было и конца, эти безобразные кучи кирпичей и обгорелых бревен, которые, казалось, еще дымились; этот бесконечный лес из одиноких почерневших труб и кой-где закопченные дома без кровель с обвалившимися стенами… Развалины! Мы любуемся остатками языческого Рима; развалины Пальмиры или Бальбека, с целыми рядами гранитных колонн, обвитых плющом и диким виноградом, полуразрушенные портики, из-за которых весело подымаются высокие пальмы, — да это прелесть! Вид этих развалин не возмутит души вашей, не омрачит ее никаким грустным чувством; над ними пролетели века, и те, которые жили в них, давно уже не существуют. Вы смотрите на эти развалины как на древний могильный памятник, заросший травою; он нравится вам своею формою, возбуждает ваше любопытство, но, глядя на него, вы не думаете о смерти, вам не представляется труп человека, который вчера был жив, а сегодня спит непробудным сном… А Москва? О! Москва показалась мне свежей, еще не засыпанной могилою!.. Но что говорить об этом! Благодаря бога Москва стала краше прежнего, а слава и честь остались при ней. Она сгорела, это правда, да зато подпалила крылья хищному орлу, который хотел забрать весь мир в свои когти.
Когда я доехал до Кудрина, сердце мое сильно забилось. «Что-то мой домик на Никитской? — думал я. — Почему знать, может быть, и уцелел?» Вот уж я проехал Никитские ворота — вон мой приход… Церковь цела, быть может, и мой дом… Нет, вот он, голубчик, без кровли!.. Вот венецианское окно, которым освещалась моя парадная гостиная… оно без рам… кругом все покрыто копотью… Эх, если б уцелел хоть нижний этаж, в котором я жил!.. Подъезжаю поближе… Гляжу — и что ж? Господи боже мой!.. Передняя стена дома в развалинах, почти все комнаты нижнего этажа раскрыты, как напоказ! Вот столовая с узорчатым лепным карнизом; вот диванная с двумя колоннами под мрамор, а вот… так точно, — мой кабинет… Праведное небо!.. Кабинет, в котором стены так искусно были расписаны моим домашним живописцем Степкою… в нем приютились извозчики!.. Он служит им биржею, и лошади их преспокойно кушают сенцо из моего камина… — «Разбойники! — закричал я. — Да знаете ли, что в этом кабинете бывали литературные вечера, что в нем читались творения русских поэтов, что один из них назвал даже этот кабинет московским Атенеем, — а вы сделали из него конюшню!..» Извозчики скинули шапки, выпучили на меня глаза, разинули рты, и когда я закричал неистовым голосом: «Вон отсюда!» — они кинулись к своим лошадям и начали их взнуздывать. Но горе меня одолело: я махнул рукой, велел ехать на постоялый двор и на другой день отправился в мою подмосковную. Хотя она была не близко от большой дороги, однако ж французы в нее завертывали; из двадцати изб осталось пять, и большая часть мужичков жила в землянках. На барском дворе уцелела как-то баня с предбанником. На первый случай я расположился в нем. Со мною было несколько денег; я, сколько мог, пособил крестьянам обзавестись всем необходимым, прожил в предбаннике целый год, продал две трети моего именья, чтоб привести в порядок дела и поправить остальных мужичков; потом променял мой сгоревший каменный дом на деревянный домик за Пресненскими прудами и переехал на житье в Москву.
Теперь, любезные читатели, когда уже вам известны все важнейшие приключения моей жизни, позвольте мне сказать несколько слов о самом себе. Изо всего предыдущего вам нетрудно заключить, что для меня наступила та грустная эпоха жизни, в которую нас перестают уже называть молодыми и даже зовут иногда стариками, но только еще не в глаза. Я не стал бы жеманиться и сказал бы вам прямо, сколько мне лет от роду, да боюсь огорчить моих ровесников, тем более что в числе их найдутся черноволосые молодцы, у которых в головах нет ни одной сединки и которые до сих пор еще смотрят такими губителями сердец, что упаси господи! Правда, и они не всегда скрывают свои лета. Вот один из этих господ, который уже лет тридцать восемь служит в офицерском чине, очень часто и даже при дамах горюет о своей прошедшей молодости, приговаривая: «Скоро уже, скоро стукнет мне сорок лет!» Но, однако ж, все-таки лучше поберечь их и не сказать вам ничего положительного о моих годах. Не знаю, должен ли говорить о своей наружности тот, кто в 1812 году был уж ротмистром; впрочем, почему ж и нет? Разве мы не любуемся прекрасными развалинами? Разве эти развалины — если бы только они могли говорить — не имели бы права сказать с гордостию: «Посмотрите, какой я был великолепный город!» Да, было время, что и меня называли прекрасным мужчиною; и теперь еще современницы мои, московские старушки, не шутя говорят, что я очень моложав и если б только побольше стягивался, красил волосы да одевался по моде, так мог бы еще, — этак в сумерки, — показаться весьма приятным мужчиною. Теперь мне осталось вам сказать одно, что я человек совершенно одинокий, близких родных у меня нет, а женат я никогда не был, — не потому, чтоб я не хотел жениться, да как-то все не случилось. Один знаменитый английский философ сравнивает холостого человека, который вступает в законный брак, с глупцом, опускающим руку в мешок, чтоб вытащить из него угря, который лежит один-одинехонек в этом мешке, с целой сотнею змей. Боже меня сохрани поверить этому грубияну! Нет, любезные читательницы, если я не женат, так на это есть совсем другие причины. Мне всегда хотелось, чтоб будущая моя супруга соединяла в себе несколько качеств, которые казались мне необходимыми для общего нашего счастия. Во-первых, я желал, чтоб моя жена принадлежала к тому же самому разряду общества, к которому и я принадлежу, то есть чтоб она была дворянкою; за этим, кажется, у нас дело не станет; во-вторых, чтоб она была женщина с образованием, — и это бы еще ничего: у нас хорошо воспитанных благородных девиц довольно; да вот что беда: я хотел, чтоб девица, которой я отдам мою руку, не походила ни на французскую мадемуазель, ни на немецкую фрейлен, ни на английскую мисс, а была бы просто образованная, просвещенная русская барышня, которая любила бы свое отечество, свой язык и даже свои обычаи. Вещь, кажется, самая простая: я хотел, чтоб русская барышня была русская; а вот тут-то именно и вышел грех! Уж я искал, искал!.. Сначала в Москве, — что за странность такая? Встречался я с девушками, очень любезными, милыми; посмотришь, иная по всему мне пара: я охотник до музыки — она большая музыкантша; я порядочный знаток в живописи — она от нее без памяти; я люблю словесность — она знает всех французских поэтов и выписывает в свой альбом целые страницы из «Новой Элоизы»; я страстен к истории — она читала Анахарсиса, Гиббона и даже Боссюэта. Все это прекрасно, да вот что худо: начну говорить по-русски — мне отвечают по-французски; заведу речь о русских художниках — и на розовых губках появляется такая презрительная улыбка, что я с досады готов сквозь землю провалиться. Наших родных писателей она знать не хочет, а об русской истории и не заикайся, — как раз назовет Владимира Мономаха святым, да и то потому только, что у папеньки ее Владимир на шее. Одна умирает от нашего климата и вздыхает об Италии; другая была уже в Париже, и все русское сделалось для нее противным; третья сбирается еще только в Париж, а уж к ней и приступу нет. «Постой, — подумал я, — дай поищу русскую барышню в провинции». Что ж вы думаете?… И там то же самое! Правда, случалось иногда, в каком-нибудь уездном городке, познакомиться с девушкой, которой и наружность мне понравится, и обычай придет по сердцу: с ног до головы русская. Хвалит все свое, любит в мороз прокатиться на лихой тройке, летом в горелки поиграть, об Святках золото хоронить и не только не жалует французов, а особливо Наполеона, но ругает их на чем свет стоит. Чего же, кажется, недостает? А вот чего: она, конечно, говорит со мною всегда по-русски; да это потому, что не знает никакого другого языка; не просится в Италию, да зато едва ли и слыхала, что есть на свете такая земля. Побеседуешь с ней раз, другой, а там и скучно. О чем ни заговоришь, все невпопад: заведешь речь об изящных художествах, она начнет посматривать то направо, то налево; перейдешь к словесности, она и ротик разинет да примется зевать, — очень мило, это правда, но ведь зевота вещь прилипчивая. Да и что это за барышня? Чем она отличается от своей горничной? Разве только тем, что носит декосовое, а не затрапезное платье? «Ах, боже мой, — думал я, — что ж это за неуловимое существо такое русская барышня?… Уж полно, есть ли на свете русская барышня?… Не миф ли это какой? Или уж правду говорит мой слуга Никифор: «У русского-де народа натура такая: немножко дай форсу, тотчас и зазнается». Вот, например, эта же самая девица, о которой была речь, получи она какое-нибудь образование, выучись болтать по-французски, умей только кстати сказать: «кесексе, киселя», так уже все русское будет ей нипочем. Ну, делать нечего, видно, пришлось сидеть у моря и ждать погоды.
Надобно вам сказать, что все это происходило лет двадцать пять тому назад. Я живу на своих Пресненских прудах хоть очень смирно, однако ж не вовсе отшельником: и у меня бывают люди, и я выезжаю в свет; посматриваю, замечаю, прислушиваюсь: худо, очень худо, все по-старому! Одна мода сменяет другую, а эта проклятая мода парижанить да вторить во всем французам словно корни пустила в русскую землю. Но что всего досаднее, с некоторого времени стали мне встречаться русские барыни с умом, с образованием, а меж тем чисто русские; следовательно, мой идеал русской барышни существует, да мне-то он, как клад, не дается, а время летит да летит. Вот наконец стал я замечать, что в нашем хорошем обществе начинают, гораздо чаще прежнего, похваливать и произведения русских художников, и стихи русских поэтов. Уж несколько раз удавалось мне слышать, что наши барыни и барышни разговаривают минут по пять сряду на русском языке. Жуковский, Батюшков, Пушкин лежат уже на дамских столиках рядышком с Ламартином, Виктором Гюго и Казимиром Делавинь. Прошло еще несколько лет, и в нашей словесности стала проявляться необычайная деятельность: начали писать не только стихами, но и прозою; рабское подражание иностранцам, по крайней мере в словесности, приметно ослабевало, стали появляться сочинения совершенно русские, народные; любовь к чтению русских книг быстро распространялась во всех классах общества; одним словом, все предвещало, что эта безусловная страсть ко всему иностранному, это второе татарское иго скоро будет сброшено. У меня были еще и другие приметы, которые очень поддерживали эту надежду. Однажды, кажется на каком-то гулянье, осанистый русский купец шел вместе со своею дочкою, разодетою по последней моде. Около нее увивался франтик с козлиной бородкою, в коротком сюртуке и белой шляпе. Я вспомнил, что видал его в рядах за прилавком. Этот лев суровской линии изъяснялся с купеческой дочкою на французском диалекте и называл ее попеременно то мадемуазель, то Матреной Карповной; они начинали спорить, и Матрена Карповна отпустила нижеследующую фразу: «Финисе, финнсе, кель гонт! Уж вы и этого не знаете, что это не клёк, а бурнус… ах, ву!» Я готов был прыгать от радости, а особливо когда вскоре после этого узнал, что большая часть секретарских и купеческих дочек не только говорят по-французски и толкуют о Париже, но даже, потихоньку от своих стариков, без милосердия позорят матушку святую Русь. «Славно, — говорил я, потирая руки, — славно! Дело идет отлично хорошо! Видно, эта французская дурь выходит из моды, если начала уже пробираться в нижние слои нашего общества». Вы можете представить после этого, в какой пришел я восторг, когда русские стихи и проза, обличающие не только истинный талант, но даже совершенное познание языка, начали появляться в печати за подписью дам, принадлежащих к лучшему нашему обществу. Однажды поутру, думая об этом, я сказал вслух:
— Ну, кажется, теперь пора, — теперь я найду для себя невесту!
— Что вы это, батюшка Богдан Ильич, бог с вами! — сказал мой Никифор, устанавливая против меня зеркало и бритвенный ящик. — Где уж нам с вами думать о невестах.
Я взглянул в зеркало, и руки у меня опустились.
— Честь имею вас поздравить, — прибавил этот злодей, — с днем вашего рожденья: вам сегодня ровно стукнуло…
— Знаю, братец, знаю! — прервал я с досадою.
— Да извольте, сударь, бриться, — сказал, помолчав, Никифор, — вода простынет. Волосы-то у вас больно жестки стали… с тех пор, как у вас борода поседела…
— Да отвяжись! — закричал я. — Ну, что ты пристал. Я не хочу бриться!
Я, чтоб доказать это, взял со стола басни Крылова, с которыми никогда не расстаюсь.
— Впрочем, — продолжал я вполголоса, разгибая книгу, — полно, не лучше ли, что я остался холостым? Все эти женщины такие капризные, своевольные создания, такие…
Я готов был произнести ужаснейшую клевету, готов был назвать женщин кокетками, как вдруг язык мой онемел. Представьте себе: книга раскрылась как будто бы нарочно на известной басне: «Лисица и Виноград». Ну, уж если б я меньше уважал и любил Ивана Андреевича Крылова, быть бы этой книге под столом!
Теперь вы знаете, любезные читатели, что я за человек, какого чина, каких лет, какая у меня наружность, почему я не женат и что делал прежде; а что делаю и чем занимаюсь теперь, вы также узнаете, если не поленитесь прочесть эту книжку.
II Взгляд на Москву
Но вот уж близко. Перед ними
Уж белокаменной Москвы,
Как жар, крестами золотыми
Горят старинные главы.
А. ПушкинУ кого из нас нет любимой если не страсти, то, по крайней мере, маленькой страстишки или слабости, которую мы лелеем и тешим, как избалованное дитя? Один любит похвастаться своим домом, по милости которого у него все именье в закладе. Другой платит втридорога за какую-нибудь золотую табакерку величиною в сундук, из которой он никогда не будет нюхать, но которая ему необходима, потому что у него целая коллекция точно таких же уродливых и неуклюжих табакерок. Третий разоряется на рысаках, прославляющих его имя на бегу, а ездит сам на клячах, которые, по крайней мере, выполняют свое лошадиное назначение, то есть возят того, кто их кормит. Четвертый щеголяет необыкновенным покроем своих платьев и готов нарядиться шутом для того только, чтоб не походить на других. Пятый любит ездить по гостям, с утра до вечера таскается с визитами, а так как в Москве иного визита нельзя сделать без подставных лошадей, то он убивает последнюю копейку на то, чтоб держать лишнюю четверню и каждый год менять свой экипаж. Шестой не ездит в гости ни к кому, но зато не пропустит ни одного публичного собрания, ни одного гулянья, ни одного народного сходбища и, — даже трудно поверить, однако ж, это правда, — ни одних похорон. Вы встретите его везде, где только есть люди, для чего бы они ни собрались: веселиться или горевать — ему все равно. Этот жить не может без театра; не то, чтобы он очень любил театр, а потому что привык к своим абонированным креслам, потому что может сказать с гордостью: «Я сижу на них пятнадцать лет сряду!» Посадите его на другие, и он не станет узнавать актеров, не будет понимать, что они говорят, зачахнет, умрет со скуки. Тот любит каждый день приехать в Английский или Дворянский клуб, походить по комнатам, посидеть попеременно подле каждого карточного стола, посмотреть, как играют на биллиарде, вздремнуть в газетной комнате за «Инвалидом» и ехать в первом часу домой с усладительной надеждой, что завтрашний день пройдет для него так же приятно, как прошел этот настоящий и как, вероятно, прошли и все прочие дни его деятельной и полезной для общества жизни. Я думаю, нетрудно догадаться, что я говорю все это для того только, чтоб приготовить читателей к собственной моей исповеди. Что грех таить, и у меня также есть господствующая слабость: я люблю… показывать Москву, — да еще с каким кокетством, о какою сноровкою! О, в этом уменье выказать товар лицом я не уступлю не только самому бойкому гостинодворцу, но даже любой московской барыне, когда она в первый раз знакомит со светом свою милую Зеничку, Катишь или Мими, которая была бы очень завидная невеста, если б у нее не было четырех сестер и пяти братьев. Вы не можете себе представить, как я забочусь о том, чтобы показать Москву с самой выгодной для нее стороны; как стараюсь соблюдать эту необходимую постепенность, посредством которой возбуждается сначала внимание, потом любопытство, а там удивление и, наконец, полный восторг. Конечно, все это стоит мне больших хлопот; но зато как я бываю счастлив, когда достигну моей цели, с каким восхищением, с какою гордостию смотрю я на иноземца, пораженного красотою и величием моей Москвы. Да, моей!.. В эту минуту мне кажется, что Москва моя, что я сам Москва, что он удивляется мне! Вообще я показываю Москву охотнее иностранцам, чем своим. Если свой приехал из провинции, а особливо из Казани или Одессы, то он не слишком восхищается Москвою, во-первых, потому, чтобы не уронить своего собственного достоинства, а во-вторых, потому, чтоб не выказать себя провинциалом, который всему удивляется. Если же он приехал из Петербурга, то, рассудите сами, может ли он любоваться Москвою? Конечно, Москва называется столицею, она многолюднее Новгорода, побольше Твери, покрасивее Торжка, а все-таки провинциальный город. Правда, есть много исключений, не все так думают; но мне как-то чаще удавалось встречаться с людьми, которые весьма легко поговаривают о нашей Белокаменной и даже не верят, что мы в Москве ни дать ни взять, как они в Петербурге, пьем цельное шампанское вино, нюхаем неподдельный французский табак и точно так же, как они, едим прескверные устрицы.
В прошедший понедельник, рано поутру, получил я от моего старинного приятеля, живущего в Смоленске, письмо; он рекомендует мне в этом письме одного путешественника, г-на Дюверние, который едет взглянуть на Москву. Тут же приложена была небольшая записка на французском языке от самого г-на Дюверние. Он уведомлял меня, что вчерашнего числа поздно ночью, не доехав до Москвы, остановился в Кунцеве у своего единоземца г-на Д***, который нанимает там дачу. В заключение своей записки он просил меня уведомить его, когда может ко мне приехать. «Вот, — подумал я, — прекрасный случай пощеголять Москвою! Этот француз приехал ночью, не видел еще Москвы, следовательно, увидит ее так, как я хочу. Да только вот беда: смоленский-то въезд больно плох: что за улица, какие пустыри!.. Вида никакого, дома прескверные. Первое впечатление будет самое невыгодное, а для француза это всё! Нет, уж так и быть, — лошади у меня добрые, прокачу его порядком». Я отдал кое-какие приказания моему Никифору, велел заложить коляску четверней в ряд и отправился.
Я застал г-на Дюверние за утренним туалетом; он очень извинялся, что позволил себя предупредить, и вообще показался мне весьма умным и любезным человеком. Я пригласил его к себе на русский стол и предложил отправиться до обеда вместе со мной смотреть Москву. Когда мы выехали на Смоленскую дорогу и стали приближаться к заставе, я сказал ему:
— Знаете ли что? Теперь еще рано, утро прекрасное: чем нам ехать прямо в город, не лучше ли взглянуть на его окрестности? Здесь же пойдут места гористые, с которых весьма приятный вид на Москву.
— Очень рад! — отвечал француз. — Я совершенно в ваших приказаниях.
— Ступай направо! — закричал я кучеру. Мы свернули с большой дороги, проехали шибкой рысью мимо Скотного двора, переправились подле мельницы через речку Сетунь, которая в этом месте впадает в Москву-реку, и стали подыматься в гору. Сначала мы не видели ничего, кроме мелкого кустарника и глинистых бугров, посреди которых прорезывалась довольно плохая дорога. Потом, когда поднялись на первые возвышенности Воробьевых гор, налево стали обрисовываться, на самом краю горизонта, отдаленные части города: ближайших не было еще видно; но мой путешественник, как будто бы предчувствуя, что перед ним готова открыться великолепная картина, не спускал глаз с левой стороны нашей дороги. Мы въехали по узкой дорожке в мелкий, но частый лес. Вот он стал редеть, дорожка круто поворотила влево, мы выехали на открытое место, и третья часть Москвы, со всеми своими колокольнями, церквами и каланчами, которые так походят на турецкие минареты, разостлалась, как нарисованная, под нашими ногами. Впереди всего подымался Новодевичий монастырь со своими круглыми башнями и высокою колокольнею; посреди необозримых лугов тихо струилась в своих песчаных берегах капризная Москва-река: то приближалась к подошве Воробьевых гор, то отбегала прочь, то вдруг исчезала за деревьями, которые росли кое-где по скату холмов. Как в волшебной опере, менялись поминутно декорации этой обширной сцены: при каждом повороте дороги, при каждом изгибе гор Москва принимала новый вид.
— Это прелесть! Чудо! — кричал Дюверние. — Я готов стать на колени перед Москвою!
Я чуть было не вымолвил: «Нет, уж это слишком много! Мне совестно!» Но опомнился и не сказал ничего.
— Впрочем, все это, — прибавил через минуту путешественник, — вероятно, один оптический обман.
Меня обдало холодом.
— Как? — вскричал я.
— Да! — продолжал Дюверние. — Я был в Константинополе: издали это великолепнейший город в мире; а въезжайте в него — скверные улицы, безобразные дома, гадость, грязь…
— Да что же общего, — спросил я, — между Константинополем и Москвою?
— Как что общего? Да что ж такое ваша Москва? Сотни две барских огромных домов, несколько тысяч деревянных домиков; рядом с дворцами хижины, множество церквей какой-то странной азиатской архитектуры; одним словом, не город, а собрание деревень — c'est connu!
— У вас в Париже, вероятно, это знают из путешествия Олеария, — сказал я почти с злобною улыбкою.
— Да разве Москва походит на европейский город? — спросил с удивлением Дюверние.
— И да и нет. Да вот вы сами это увидите.
Я замолчал. Нас быстро провезли мимо Васильевского, и я не обратил даже внимания на то, что путешественник был поражен необычайной красотою этого загородного дома. Мне кажется, я даже не отвечал на его вопрос, кому принадлежит этот замок (ce chateau); одним словом, я просто сердился и молчал вплоть до Калужской заставы. Да и неудивительно: после такой личной обиды не скоро успокоишься!
— Вот и Москва? — прошептал Дюверние, когда опустился за нами шлагбаум.
— То есть мы въехали в одно из ее предместий, — сказал я, — в котором, как вы видите, нет еще настоящих городских домов. Все эти небольшие домики с обширными садами можно скорее назвать дачами, чем домами. Вот налево Нескучный сад. Вам надобно побывать в нем: он очень живописен…
— Что это за монастырь? — спросил путешественник, взглянув направо.
— Это Донской монастырь. Он основан в 1596 году в память победы, одержанной царем Феодором Ивановичем над Крымским ханом; следовательно, существует только двести сорок шесть лет. У нас в Москве есть монастыри несравненно древнее и любопытнее этого. Вот например…
— Quel superbe Hotel! — прервал мой француз. — Какие принадлежности! Какой двор!
— Это летний дворец русской императрицы. Из его сада прекрасный вид на Москву-реку.
— А это также дворец? — сказал Дюверние, указывая на Голицынскую больницу.
— Нет, это больница…
— А это что за великолепное здание? — спросил он через полминуты.
— Больница.
— Ого! — прошептал француз. — Извините, — сказал он, помолчав несколько времени, — я надоедаю вам моими вопросами.
— Сделайте милость!
— Позвольте спросить, что это за огромный дом?…
— Больница.
— Ну, вашим больным жить хорошо!
— Я уверен, что вы это повторите в настоящем и буквальном смысле, когда заглянете во внутренность этих заведений.
— Три больницы, похожие на дворцы, и все три почти сряду!.. — шептал путешественник.
— Есть недалеко отсюда и четвертая.
— Следовательно, эта часть города исключительно назначена для человеколюбивых заведений?
— О нет, и в других частях города есть странноприимные дома и больницы ничем не хуже этих.
— Вот это прекрасно! — сказал Дюверние. — Это признак истинного просвещения, это делает честь Москве!
Через несколько минут мы выехали на Полянскую площадь. Я велел повернуть по Козьмодемьянской улице на Каменный мост. Так как эта часть города не из самых красивых, то я заговорил с моим товарищем о Париже. Француз закипел, начал мне рассказывать о своей столице всего просвещенного мира и вовсе не замечал, где мы едем. Я оставил его в этом восторженном положении до тех пор, пока мы ехали до Каменного моста; тут я велел остановиться и сказал ему:
— Посмотрите направо!
Дюверние поднял глаза и ахнул: перед ним Москва-река в гранитных берегах, с широкой набережной, с красивыми чугунными решетками; за ней с одной стороны громада каменных зданий и длинный ряд кремлевских садов, с другой, как целый город, колоссальный Воспитательный дом; за ним, уставленный каменными домами, красивый холм, который, впрочем, я не люблю называть по имени, а посреди зеленая гора, подпертая высокими стенами, опоясанная цепью башен и увенчанная святыми храмами, под благодатной сенью которых возвышаются чертоги царские и древние терема — эта священная колыбель всех царей православной и могучей России.
— O, que c'est beau! — вскричал Дюверние. — Это Кремль?
— Да! — отвечал я. — Это наш русский Капитолий, наш Кремль, которого не могли разрушить ни татары, ни поляки, ни…
— Ни французы? — сказал с улыбкою путешественник. — Вы напрасно их обвиняете.
— Однако ж в двенадцатом году…
— Они хотели подорвать весь Кремль, — прервал Дюверние. — Обвиняйте в этой, не слишком европейской, попытке не французов, а того, кто привел их в Москву. Мы взрываем крепости, но дворцы, исторические памятники и стены, за которыми не спрячешься от ядер, мы уж, конечно, разрушать не станем.
«Сказал бы я тебе и на это кое-что, — подумал я, — да ты любуешься Кремлем, так бог с тобой!»
— Знаете ли, — продолжал француз, — что это все так прекрасно, так живописно, что я, может быть, предпочел бы Москву многим европейским городам, если б она была хоть несколько многолюднее, а то мне кажется, извините, улицы ваши очень пусты.
«Злодей! — подумал я. — Заметил, как заметил! Да постой же, я попотчую тебя народом!»
— Держи правее, по набережной, — закричал я кучеру, — на Москворецкий мост!
Когда мы переехали через этот красивый мост и стали подыматься вверх по Москворецкой улице, Дюверние заметил, что тут вовсе нет недостатка ни в проходящих, ни в проезжающих. Первый предмет, который обратил на себя все его внимание, был Покровский собор, который мы привыкли называть Василием Блаженным.
— Что это? — вскричал он. — Я в жизнь мою ничего подобного не видел! Это ни на что не походит! Это так пестро, так тяжело… а чрезвычайно любопытно!
Он не успел еще наглядеться на этот чудный памятник шестнадцатого столетия, как мы выехали на Красную площадь и остановились подле Лобного места, против самой Ильинки, которая была вся запружена экипажами и народом.
— Вот, — сказал путешественник, — вот это жизнь, движение! И это бывает здесь каждый день?
— Разумеется! Здесь средоточие московской торговли. На Кузнецком мосту экипажей несравненно больше, но зато менее народу.
— Какая странная противоположность! Здесь везде движется народ, везде заметна деятельность, суета, а там, где мы ехали…
— Да мы ехали Замоскворечьем: там живут по большей части наши русские купцы, которые ведут жизнь тихую и сидячую; жены их не любят шататься по улицам, и ворота их домов всегда заперты; вы можете даже по этому тотчас отличить купеческий дом от дворянского. Притом же большая часть обывателей Замоскворечья с утра до вечера здесь.
— А, — подхватил француз, обратив наконец внимание на ряды, — так это-то ваш базар? Il est immense!
— Он, как видите, занимает всю площадь. Эта колоссальная группа, которая стоит против самой его средины, изображает спасителей России в 1612 году, князя Пожарского и гражданина Минина. Теперь, если хотите, мы поедем в Кремль.
— Позвольте еще один вопрос: что значит это каменное круглое возвышение, похожее на огромную кафедру?
— Это Лобное место, на котором в старину…
— Рубили головы? — прервал с живостию француз. — Так точно!.. Вот здесь вводили на него преступников… вот там, вероятно, лежала роковая плаха… Да, да, непременно там!.. Посмотрите!.. Замечаете ли вы на этих камнях следы кровавых пятен?… О, я не забуду этого в моих записках! Какая странная вещь наше воображение, — продолжал Дюверние, не давая мне вымолвить ни слова, — один взгляд на исторический памятник — и минувшие века восстают из своего праха; времена варварства, пыток и казней, всё оживает перед вами. Поверите ли, мне кажется, я вижу на этом отвратительном эшафоте целые груды отрубленных голов, обезображенные трупы…
— Да успокойтесь, — сказал я, — на этом Лобном месте никого не казнили; с него объявляли только царские указы и совершали молебствия.
Мой француз успокоился, и, когда мы подъехали к Спасским воротам, он спросил меня:
— Почему все входят в эти ворота с непокрытой головою?
— Быть может, оттого, что тут чудотворный образ, — отвечал я, — или, если верить народному преданию, это делается потому, что князь Пожарский, освободив Москву, вошел Спасскими воротами в Кремль.
— Я всегда уважал народные обычаи, — сказал Дюверние, — и весьма охотно снимаю вместе с вами мою шляпу.
Мы въехали в Кремль; вышли из коляски, обошли кругом все соборы, поглядели на Ивана Великого, подивились Царь-колоколу, который, по воле ныне царствующего императора, явился наконец на свет божий, взглянули на огромную пушку и молча прошли мимо тех самых пушек, которые некогда громили всю Европу, а теперь лежат себе преспокойно на деревянных подмостках и не обижают никого. Не знаю, догадался ли мой француз, что эти пушки ему сродни, только он что-то очень на них косился; однако ж не спросил меня, почему они, сердечные, выставлены напоказ целому миру и лежат без всякого приюта. Когда мы пересмотрели все: Арсенал, Сенат, терема, Николаевский дворец, монастыри Чудов и Вознесенский, Грановитую и Оружейную Палаты, то подошли к самой закраине кремлевской горы. Дюверние взглянул и обомлел от восторга. Я не буду описывать этот неизъяснимо пленительный вид с кремлевской горы на все Замоскворечье. Кто из москвичей не бывал в Кремле? А кто вовсе не знаком с Москвою, тот, право, может в нее приехать для того только, чтоб полюбоваться хоть раз в жизни этою очаровательною панорамою… Когда мы сели в коляску и я приказал кучеру ехать Троицкими воротами на Моховую, Дюверние объявил мне, что он без ума от нашего Кремля.
— Да вы видели его в будничном наряде, — сказал я, — теперь в нем все мертво и тихо. Нет, вы посмотрели бы его при русском царе! О, вы не можете себе представить, как прекрасен этот Кремль, когда державный его хозяин посетит свою Москву! Эта дворцовая площадь, на которой теперь так пусто, покроется и закипит вся народом, из которого многие ночевали на этой площади для того только, чтоб занять повыгоднее место и взглянуть лишний раз на своего государя. Вы посмотрели бы на Кремль тогда, как загудит наш большой колокол и русский царь, охваченный со всех сторон волнами бесчисленной толпы народа, пойдет через всю площадь свершать молебствие в Успенском соборе.
— Как? — прервал Дюверние. — Да неужели ваш государь идет по этой площади пешком при таком стечении народа?…
— Да, да, пешком; и даже подчас ему бывает очень тесно.
— Что вы говорите!.. Но, вероятно, полиция?…
— Где государь, там нет полиции.
— Помилуйте! Да как же это можно?… Идти посреди беспорядочной толпы народа одному, без всякой стражи…
— Я вижу, господа французы, — сказал я, взглянув почти с состраданием на путешественника, — вы никогда нас не поймете. Нашему царю стража не нужна: его стража весь народ русский.
— Удивительно! — прошептал Дюверние. — Ну, надобно признаться, я вижу и слышу здесь такие неожиданные для меня вещи, такие странности…
— Каких вы не видите и не слышите в Париже? Да так и быть должно: ведь и все путешествуют для того, чтоб слышать и видеть что-нибудь новое.
Мой путешественник согласился с неоспоримой истиной этого заключения и замолчал. Мы отправились по Моховой к Охотному ряду. Я показал моему товарищу крытую площадь, которую мы называем Манежем, наш великолепный университет, Благородное собрание, в котором зал едва ли не один из лучших по всей Европе, и Большой театр, в котором парижская опера может поместиться, как в самом просторном футляре, потому что наш московский театр целым аршином шире знаменитого Сен-Карла. Потом мы выехали на Никольскую площадь и повернули Кузнецким мостом на Тверскую. Мимоездом Дюверние любовался также нашими водометами, которые, украшая площади кругом Кремля, поят всю Москву такой чистой и здоровой водой. Когда, проехав всю Тверскую до Страстного монастыря, мы повернули по бульвару к Никитским воротам, Дюверние удостоверился самой очевидностью, что в Москве гораздо более огромных барских домов, чем он думал, и что во многих и весьма обширных ее частях не только нет хижины, но даже ни одного деревянного дома. А когда мы проехали всю Поварскую, то он согласился со мною, что наши оштукатуренные или просто выкрашенные деревянные дома, построенные по всем правилам изящной архитектуры, несравненно красивее этих шестиэтажных полукирпичных и полудеревянных изб, которыми наполнена вся Германия.
Я приехал с моим гостем домой, совершенно довольный нашей прогулкой; но настоящее и полное торжество ожидало меня за обедом, за которым Дюверние объявил мне торжественно, что русская янтарная уха, из свежих стерлядей и жирных налимов, вкуснее всех возможных супов, даже и французских, а Москва прекраснее, живописнее и разнообразнее всех известных ему городов, разумеется исключая Парижа, с которым, несмотря на его грязные улицы, ничто в мире сравниться не может.
III Сцены из домашней и общественной московской жизни Сцена 1-я. Выбор жениха
Суженого и конем не объедешь.
Русская пословицаУ меня есть в Москве внучатная сестрица, богатая вдова лет пятидесяти, женщина довольно добрая, довольно честная и даже по-своему неглупая, но, как бы вам это сказать, — не отсталая, избави господи: она два раза была за границею и ездила по железной дороге, — а такая обыкновенная, такая дюжинная, благовоспитанная барыня, что, право, иногда пожалеешь о том, что она не вовсе безграмотная; мне кажется, тогда было бы с ней не так скучно. Двух старших дочерей своих она выдала очень неудачно замуж. Одну за французского графа, который впоследствии оказался не графом; другую обвенчала с русским князем, которого за буйство и картежную игру отправили жить в какой-то отдаленный городок, где он и теперь находится под судом за то, что прибил уездного стряпчего или станового пристава, — право, не помню. Третья и последняя дочь была еще не замужем, а так как покойный отец оставил на ее долю шестьсот душ да маменька хотела укрепить ей все именье, то, разумеется, и она не могла долго засидеться в девках. Я не часто бываю у этой внучатной сестрицы, не потому, чтоб я ее чуждался — о нет! Она очень ко мне ласкова, зовет братцем, присылает каждый раз своего старого слугу Антропа поздравить меня с именинами и со днем рожденья, а в Новый год, в Рождество и в Светлый праздник — форейтора с визитной карточкой, на которой напечатано мелким шрифтом; «Маргарита Степановна Барашева, урожденная княжна Горенская, с дочерью». Если я вижусь с ней очень редко, то на это есть весьма уважительная причина, которая также принадлежит к числу особенностей нашей Москвы. Я живу за Пресненскими прудами, а она — в Яузской части, в приходе Николы Кобыльского, то есть мы живем друг от друга, по крайней мере, в восьми верстах, следовательно, всякий раз, когда я бываю у Маргариты Степановны, бедные мои лошади должны пробежать по бойкой мостовой шестнадцать верст, а у меня на конюшне никогда не бывает более четырех лошадей, так я их поберегаю.
Собственный дом, в котором живет моя сестрица, может назваться типом или, по крайней мере, образцом большей части деревянных домов тех московских зажиточных дворян, которые не принялись еще отделывать дома свои во вкусе средних веков, то есть пристроивать к ним готические балконы в виде огромных фонарей и колоссальных перечниц, а живут точно так же, как жили лет двадцать пять тому назад. Деревянный дом моей родственницы построен на двенадцати саженях, оштукатурен и снаружи и внутри, с большим мезонином, на фронтоне которого как жар горит вытиснутый на латуни герб дворян Барашевых под княжескою короною, напоминающею сиятельное происхождение прежде бывшей княжны Горенской. Весь дом окрашен в бледно-палевый цвет, исключая различных орнаментов, которые покрыты белой краскою. Перед домом обширный двор с двумя воротами, из которых одни всегда заперты; на воротах неизбежные алебастровые львы. Позади дома сад на трех десятинах, с порядочным прудом и красивой беседкою. Дом расположен очень покойно: парадные сени, не всегда чистые — это правда, но просторные и светлые, лакейская, всегда запачканная, но теплая и поместительная. Потом ежедневная столовая, одинакового цвета с наружностию дома; из нее налево довольно большая зала, с колоннами под мрамор и даже с хорами для музыкантов, которые, впрочем, должны играть непременно сидя. Стены залы приготовлены также под фальшивый мрамор и, вероятно, будут скоро отделаны, потому что стоят в этом виде лет около двадцати. Прямо из столовой парадные покои, то есть две большие гостиные комнаты и такой же величины диванная. Первая гостиная светло-бирюзовая, вторая — голубая; во всех простенках, как следует, зеркала, подстольники с бронзовыми часами и фарфоровыми вазами, шелковые занавески над окнами, бумажные люстры под бронзу; кой-где по стенам фамильные портреты; мебель в одной гостиной из карельской березы, в другой — из красного дерева в греческом вкусе, следовательно, не новая, но весьма опрятная и всегда в чехлах, которые едва ли когда-нибудь и снимаются; полы во всех парадных комнатах паркетные. Войдя в диванную, вы тотчас заметите, что последнее путешествие Маргариты Степановны за границу принесло свои плоды: эта диванная отделана и убрана почти во вкусе нашего времени: стены оклеены малиновыми насыпными обоями под рытый бархат; по обеим сторонам дивана трельяж, то есть деревянные решеточки, обвитые плющом, две горки а-ля помпадур, уставленные фарфоровыми чашками; между них несколько китайских болванчиков, и в том числе преважный мандарин, который качает головою, моргает глазами и дразнится языком. Два готических стула из орехового дерева с высокими спинками, три столика рококо с кривыми ножками, широкие эластические кресла, трое других кресел различной величины и формы. На одном из столов бронзовый карсель, а в углу витой жгутом, из красного дерева столб, который, загибаясь вверху крючком, поддерживает висячий фонарь с расписными стеклами. За этой диванной — внутренние комнаты, девичья и широкий коридор с довольно крутой лестницей, ведущей в мезонин, в котором живет Эме, сиречь Любовь Дмитриевна, меньшая дочь Маргариты Степановны, девица лет осьмнадцати, очень миловидная, ловкая, развязная и воспитанная как нельзя лучше, по крайней мере так говорит ее маменька, которая уверяет, что ничего не жалела для ее умственного и душевного образования; что нянюшкой у нее была немка, гувернанткой француженка, а компаньонкой англичанка, которая и теперь еще живет вместе с нею; что она, то есть Эме, брала уроки у всех лучших московских учителей, большая музыкантша, поет как ангел, рисует, как художник, понимает по-немецки, может вести речь по-английски, а по-французски говорит и лучше и свободнее, чем природным своим языком. Сверх того, сколько мне известно, ей случалось иногда сочинять французские стишки, которые если не вполне изобличали истинный талант, то, по крайней мере, всегда ручались за то, что их сочинительница одарена весьма чувствительным сердцем и необычайно пламенной головой. Учитель французского языка, большой франт и любезник, обыкновенно при этих случаях называл ее, очень вежливо, русскою Сафою, чему добрая маменька от всей души радовалась.
Вчера я получил от Маргариты Степановны записку, в которой она убедительно просит меня заехать к ней после обеда, поговорить об одном весьма важном деле. Я отправился из дому часу в седьмом, и ровно через час коляска моя въехала к ней во двор, где уже стояло несколько экипажей. Я нашел мою внучатную сестрицу в диванной, в кругу близких ее родных. Тут был ее двоюродный брат князь Иван Юрьевич Бубликов, племянник ее покойного мужа Андрей Евстафьевич Барашев, родная ее сестра, девица лет сорока пяти, княжна Агафоклея Горенская, вдова ее покойного двоюродного брата Настасья Никитична Черново-Сусальская и тетушка Маремьяна Сергеевна Булыжникова. Все общество сидело вокруг стола, на котором кипел самовар. Сама хозяйка разливала чай; ей помогала англичанка, а Любовь Дмитриевна стояла подле окна и разговаривала со своим внучатным братом, гусарским поручиком Александром Васильевичем Зориным, большим повесою, но весьма красивым молодцом с черными усиками и огненными глазами. Когда я раскланялся с мужчинами, пожал, как следует человеку фашионабельному, руки у дам, кивнул головою Зорину и поцеловал ручку у почтенной тетушки Маремьяны Сергеевны, хозяйка налила мне чаю, и я присел к общему столу. Разговор как-то не клеился. Князь Иван Бубликов играл кисточками своей камышовой трости, смотрел на ее золотой набалдашник, на котором вырезан был его княжеский герб, и молчал, Андрей Евстафьевич Барашев прихлебывал с отдыхами и расстановкою чай, надувал весьма значительно губы или с большим глубокомыслием подымал кверху свои густые брови и молчал. Княжна Горенская, которая сидела подле Настасьи Никитичны Черново-Сусальской, рассказывала ей что-то вполголоса об очаровательных окрестностях Карлсбада; но Настасья Никитична, казалось, слушала ее одним только ухом, вертелась и туда и сюда на креслах, поправляла свой чепец и от времени до времени подносила к носу хрустальный флакончик со спиртом. Тетушка Маремьяна Сергеевна была погружена в глубокую задумчивость, беспрестанно открывала свою круглую золотую табакерочку с рульным табаком, шевелила в ней пальцами, поминутно нюхала и забывала даже стряхать табачную пыль со своей черной тюлевой косынки. Хозяйка говорила не более других; заметно было, что она дожидается чего-то с большим нетерпением и очень торопится напоить всех чаем. Любовь Дмитриевна показалась мне также необычайно смущенною: она то краснела, то бледнела, играла рассеянно своим флеровым эшарпом и смотрела все вниз. Один только гусар Зорин говорил беспрестанно и, по-видимому, с большим жаром; но он говорил с одной Любовью Дмитриевной и так тихо, что нельзя было разобрать ни одного слова.
— Эме, — сказала Маргарита Степановна, когда все напились чаю, — ты бы, мой друг, пошла погулять с Александром по саду: вечер прекрасный. Мисс Мери, — продолжала она, обращаясь к англичанке, — ступай и ты с ними; да возьми, машер, с собою проветрить Амишку: она целый день не выходила во двор.
Зорин подал руку своей кузине, англичанка взяла под плечо болонку, и они вышли из диванной. Маргарита Степановна приказала слуге унести чайный прибор, поправила на себе шаль, уселась покойнее на диване, вынула из ридикюля батистовый платок и начала речь следующим образом… Да нет, когда разговаривают многие, тогда рассказ решительно не у места. Все эти пояснительные речи: такой-то сказал, такая-то отвечала, тот возразил, этот прервал, та подхватила — только что сбивают и путают читателя, итак, позвольте мне прибегнуть к обыкновенной драматической форме. Это будет и яснее и проще.
Маргарита Степановна. Я просила вас к себе, почтеннейшая моя тетушка, и всех вас, мои родные, чтоб поговорить с вами о нашей Эме… Вы все ее любите… Да как и не любить этого ангела!.. Когда я подумаю, что мне должно будет расстаться с нею… (Маргарита Степановна прикладывает к глазам свой батистовый платок и плачет; тетушка нюхает табак; княжна Горенская вздыхает; князь Бубликов устремляет взор на золотой набалдашник своей трости, а Барашев становится мрачнее и глубокомысленнее прежнего. — Минутное молчание.)
Черново-Сусальская (вполголоса). Ах, невестушка, не говорите!.. У кого есть свои дочери…
Маргарита Степановна (укладывая в ридикюль свой батистовый платок, который, вероятно, был ей нужен только для вступления). Да, мои родные, пришло время расставаться с дочерью… Что ж делать — добрая мать не должна быть эгоисткою… Вам известно, как несчастливо я выдала замуж первых моих дочерей?
Тетушка. А кто ж виноват, мать моя?…
Маргарита Степановна. Знаю, тетушка, знаю! Вы мне говорили, что этот французский граф походит на французского парикмахера, а этот князь на дневного разбойника. Что ж делать — ослепленье!.. Для того-то я теперь и не хочу приступать ни к чему без вашего общего совета, тем более что есть из кого выбрать.
Тетушка. Вот что!..
Маргарита Степановна (с приметною гордостию). Да, ма тант, благодаря бога у моей Эмеши много партий; она на этот счет очень счастлива.
Черново-Сусальская (с язвительною улыбкою). В самом деле?
Маргарита Степановна. Да вот братец князь Иван Юрьевич, он предлагает жениха для нашей Эме…
Тетушка. А кто такой, матушка?
Князь Бубликов (приподнявшись немного с кресел). Приятель мой, граф Троекуров, знатной фамилии, с блестящим родством, свой человек князю Светлинскому, двоюродный брат графине Наливайко-Перхушковой и, если не ошибаюсь, внучатный племянник его светлости…
Тетушка. Да сам-то он что такое, батюшка?
Князь Бубликов. Сам?… Да я уж имел честь вам докладывать, что он граф Троекуров.
Тетушка. Графов и князей много, мой отец; какого рангу?…
Князь Бубликов (пожимая плечами). Ну, если вам угодно: он был камергером, теперь в отставке; но если только захочет служить…
Тетушка. Граф Троекуров… отставной камергер… Постой-ка, батюшка… Да не тот ли это Троекуров, у которого дом на Остоженке, с какими-то стеклянными фонарями да вычурными балкончиками?
Князь Бубликов. Тот самый.
Тетушка. Ну, сударь, хорош женишок!.. Мот, пустодом, чванишка!.. Платит французу повару пять тысяч жалованья, а нечем заплатить пятисот рублей мяснику!.. Вот уж, батюшка, пустой-то человек!.. С утра до вечера бьет баклуши, шатается по всем меняльным лавкам, скупает у всех разные антики, мозаики, резные камешки да всякую другую лихую болесть, а там начнет их менять с придачею; да вот и доменялся до того, что ему скоро перекусить нечего будет.
Князь Бубликов (с достоинством). Извините, Маремьяна Сергеевна, вы изволите ошибаться: у графа Троекурова и теперь еще две тысячи душ.
Тетушка. И их, батюшка, променяет на табакерки да на всякие другие редкости; а как примется заводить картинную галерею, так и женино-то именье побоку!.. А все ведь из любви к художеству. Вот изволите видеть — знаток, батюшка!.. В Риме был, папу видел — дурак этакий!
Княжна Горенская. Вы, ма тант, слишком уж строго судите графа! Я познакомилась с ним в Карлсбаде, и, уверяю вас, он очень любезный и милый человек.
Черново-Сусальская. Я, по крайней мере, ничего дурного о нем не слышала, и если он понравится Эме…
Барашев (покачиваясь в своих креслах). Ну, это несколько трудно: Эме восемнадцать лет, а ему под пятьдесят…
Черново-Сусальская. Так что ж? Разве муж и жена должны быть ровесники?
Маргарита Степановна. О нет, — разница в годах должна быть! Разумеется, какой-нибудь мальчишка… вот, например, Александр, — ну, конечно, какой это муж!
Княжна Горенская. О, я знаю мужчин не только за сорок лет, но даже за пятьдесят, которые так милы!..
Черново-Сусальская. По мне, муж должен быть, по крайней мере, вдвое старее своей жены.
Тетушка (постукивая двумя пальцами по своей табакерке). Право?… Так ты бы, мать моя, выдала за этого графа свою Зеничку.
Черново-Сусальская (вспыхнув). Позвольте, Маремьяна Сергеевна, попросить вас не мешать тут мою Зеничку!
Тетушка. Не гневайся, матушка, — я ведь это с твоих же слов сказала.
Черново-Сусальская. Я, право, не знаю, что вам сделала моя Зеничка, только у вас, Маремьяна Сергеевна, всегда на языке Зеничка да Зеничка!
Маргарита Степановна. И, ма шер, как вы живы!.. Ма тант сказала это без всякого намерения… Вот любезный мой родной Андрей Астафьевич предлагает также жениха для нашей Эме, которого вы, Настасья Никитична, коротко знаете: он у вас часто бывает.
Черново-Сусальская (с приметным беспокойством). У меня?… Кто ж бы это такой… Я, право, не знаю.
Барашев. Иван Андреевич Пеньков.
Черново-Сусальская (вздохнув свободно). А!.. (Нюхает из флакончика.)
Княжна Горенская. Это тот самый мосье Пеньков, что прошлого года был в Париже?… Премилый!
Князь Бубликов. Пеньков! (Пожимает плечами.)
Барашев. Человек замечательный, с небольшим тридцать лет, хорошее состояние, просвещение европейское. Недюжинный человек, недюжинный!
Князь Бубликов. Пеньков!!!
Черново-Сусальская. О, конечно, конечно! Прекрасный молодой человек!
Князь Бубликов. В первый раз слышу!.. Пеньков!.. Какая странная фамилия!
Барашев (поглядев с презрением на князя Бубликова). Ничуть не страннее всякой другой; и что такое фамилия?… Мы все происходим от Адама. Впрочем, Пеньковы были князья. Потрудитесь заглянуть в Бархатную книгу.
Тетушка. Пеньков!.. Я где-то слыхала об этой фамилии… Ах, батюшки, — да это не тот ли Пеньков, что третьего дня обедал у тебя, племянница, вместе со мною?
Маргарита Степановна. Да, тетушка.
Тетушка. Как?… Этот мохнатый, с длинными волосами, от которого за версту пахнет табачищем?… Который прошлого месяца разъезжал на всех гуляньях вот с этакой бородою?…
Барашев. Да, он ходил прежде с бородою, но теперь…
Тетушка. А теперь припустил себе к носу две пиявки да воображает, что у него усы!.. И ты, племянница, хочешь за него отдать Любушку?
Маргарита Степановна. Нет, ма тант, я только об этом советуюсь.
Тетушка. Да чего тут советоваться! Как взглянешь, так пострел!.. Нет, мать моя, выдавай за него, если хочешь, дочь, только уж я от него ворота на запор! Я этих фрачных бородачей да усачей до смерти боюсь. Чего доброго, он, пожалуй, заберется ко мне в образную да на лампаде сигарку свою закурит!
Княжна Горенская. Ах, тетушка, да если б вы были в Карлсбаде, да там почти все с бородами — это мода.
Тетушка. Что мне твой Карлсбад! Я, матушка, живу в Москве, а не в Карлсбаде… Мода!.. Хороша мода!.. Уж, по мне бы, лучше совсем оделись в армяки, а то на что это походит: кафтан барский, а рожа кучерская! Нет, племянница, воля твоя: что это за жених Любушке.
Князь Бубликов (шепотом). Пеньков!!!
Барашев. Да позвольте, тетушка, мы не должны останавливаться на одной наружности…
Тетушка. А внутренность-то, отец мой, одному богу известна. По мне, тот, кто отпустил себе бороду или оттянул аршинные усы, — или неряха, или буян, или пустая голова, который готов нарядиться паяцем для того только, чтоб все добрые люди на него пальцами указывали.
Маргарита Степановна. Успокойтесь, тетушка, мне и самой он не очень нравится! Я хотела только, чтоб всем родным было известно, какие предлагают партии моей дочери, а теперь скажу вам, кто еще сватается за нашу Эме. Ну, этот жених, я думаю, вам больше понравится.
Черново-Сусальская (с любопытством). А кто же это такой, невестушка?
Маргарита Степановна. Федор Николаевич Журков.
Черново-Сусальская (с необычайной живостию). Кто-с?… Журков, Федор Николаевич?
Тетушка. Вот, матушка, человек порядочный, с рассудком, богат, смотрит в генералы — хороший человек!
Князь Бубликов. Позвольте, да он, кажется, из даточных?
Тетушка. И, что ты, князь! Да я с его бабушкой была знакома и батюшку-то его знала — природный дворянин.
Барашев. Рожденье что такое — это случай; но образование, цивилизация — вот это дело другое. А мне кажется, что этот господин Журков…
Тетушка. Ну да, человек неученый, это правда. Ох, да ученые-то мне уж надоели!
Черново-Сусальская (которая во все это время нюхала спирт). Позвольте ж вас спросить, невестушка: Федор Николаевич вам сделал предложенье?
Маргарита Степановна. Нет еще, ма шер; но мне сказывали люди…
Черново-Сусальская. Верные-то люди иногда врут вздор, невестушка.
Маргарита Степановна. Как вздор? Да почему ж вы это думаете?
Черново-Сусальская. Да так! Эти верные-то люди беспрестанно всех женят, а поглядишь — никто не женат.
Маргарита Степановна. Что вы этим хотите сказать?
Черново-Сусальская. Ничего! Только мне кажется, вы ошибаетесь, невестушка!.. Ну, может быть, он так, без всякого намерения, сказал лишнее слово с вашей Любовью Дмитриевной, а вы уж тотчас…
Маргарита Степановна. Тотчас?… Что такое тотчас?… Нет, Настасья Никитична, извините, — я никого не ловлю; я не вожу Эме каждый вторник в собранье! Она у меня не смеет никого интриговать под маскою…
Черново-Сусальская. Ах, боже мой, да это уже личности!..
Тетушка. Что за личности, матушка? О твоей Зеничке и речи нет.
Черново-Сусальская. Опять Зеничка!.. Да оставьте нас в покое, Маремьяна Сергеевна. Извините, невестушка, мне некогда!.. Право, я вам советую не слишком верить всему, что говорят. И то и другое говорят, а глядишь, выйдут всё сплетни… Прощайте!
Маргарита Степановна. Прощайте, Настасья Никитична! Я вас не смею удерживать: вы сегодня в каком-то странном расположении… (Провожает Черново-Сусальскую до гостиной. Барашев и князь Бубликов встают.) А вы, мои родные, куда?
Князь Бубликов. Меня дожидаются в Английском клубе. (Вполголоса.) Я завтра заеду к вам часу в восьмом после обеда. (Откланивается и уходит.)
Барашев. У меня сегодня ужинает один вояжер-француз, член оппозиции, весьма замечательный человек. В десять часов я должен быть непременно дома. (Тихо хозяйке.) Я завтра заверну к вам в одиннадцать часов утра. (Кланяется и уходит.)
Маргарита Степановна. Что это сделалось с Настасьей Никитичной?
Тетушка. И, мать моя, да неужли ты не видишь, что она прочит за Федора Николаевича свою Зеничку? Уж она два месяца как его ловит. На том стоит, матушка!.. Четырех дочерей выдала этак замуж. Вот старшую-то дочь, Феничку, как она обвенчала с этим простофилею Иваном Ивановичем Баклашкиным? Сидит он однажды с глазку на глазок с Феничкой, вдруг Феничке дурно, — а маменька и тут! — «Что такое? Предложение, дескать, сделал?» А он, голубчик, и не думал!.. Откуда ни взялись родные, братья: «Честь имеем поздравить!» Образ со стены — благословляй! Не дали дураку опомниться. Ну а там, известное дело, — нельзя ж благородную девицу компрометировать: хоть в петлю полезай, да женись!.. Э, да что и говорить, — она весь век этим промышляла!.. Однако ж, племянница, прощай, — пора домой!
Маргарита Степановна. Ну что, тетушка, как же вы решили?
Тетушка. Да что, матушка, коли Федор Николаевич сделал предложение, так с богом! Да я завтра буду у тебя обедать, так мы еще об этом поговорим. Прощай, мой друг! Прощай, Агашенька! (Идет вон из комнаты. Маргарита Степановна и княжна Горенская провожают ее до передней.)
Когда хозяйка и сестра ее воротились в диванную, я стал с ними прощаться.
— Останьтесь, братец, — сказала Маргарита Степановна, — отужинайте с нами… Да что ж это Эме так загулялась по саду? Эй, девка, ступай в сад, проси к нам Любовь Дмитриевну и Александра Васильевича: «Сыро, дескать, пожалуйте домой!» Что это, братец, — продолжала она, обращаясь ко мне, — мы меж собой по-родственному говорили, рассуждали, а вы хоть бы словечко вымолвили!
— Да что ж мне было говорить? — отвечал я. — Дело другое, если б я знал этих господ, о которых шла речь.
— А вы их не знаете?
— В первый раз отроду имена их слышал.
— В самом деле?… Ну, однако ж, все-таки, как вы думаете?
— Я, право, ничего не могу вам сказать.
— Не правда ли, что Федор Николаевич Журков всех выгоднее?…
— Это должны решить вы, а не я.
— О, нет, я уж напугана; я не намерена ничего брать на себя: как хотят родные! Конечно, Федор Николаевич такой жених, какого лучше и желать нельзя…
— Но если он в самом деле человек вовсе не образованный?…
— У него полторы тысячи душ, братец.
— Это очень хорошо, не спорю…
— И ни одной заложенной души в опекунском совете, — я уж справлялась.
— И это недурно; но, если позволите мне сказать…
— На хорошей дороге, батюшка: полковник, на днях генерал…
— Все это прекрасно; но вы дали такое блестящее образование вашей дочери, так, может быть…
— О, об этом не беспокойтесь! Эме выйдет замуж за того, кого я назначу. Да и как ей можно выбирать самой: она еще дитя!
— Да, конечно… А позвольте вас спросить, как вам родня Зорин?
— Александр? Внучатный племянник.
— Не ближе?… Внучатный… следовательно, он может жениться на своей кузине?
— Что вы, что вы! Александр?… Слышишь, ма шер, что говорит Богдан Ильич?
— Помилуйте! — вскричала княжна Горенская. — Александр, этот ребенок!..
— Ну смотрите! — сказал я. — Эти ребятишки в гусарских мундирах да с черными усами сплошь женятся, и даже иногда не спросясь у старших.
— Какие у вас странные идеи, Богдан Ильич! — сказала Маргарита Степановна. — И как придет в голову!..
— Давно живу, сестрица. Однако ж прощайте! Вы знаете, как мне далеко ехать.
Хозяйка стала меня уговаривать, чтоб я остался ужинать, но я кой-как отделался. Пока мой кучер Федор садился на козлы, что обыкновенно продолжалось несколько минут, я стоял на крыльце, и в двух шагах от меня, за углом дома, происходил нижеследующий разговор между двумя горничными и одним лакеем.
— Ну что, Матрена? — говорила одна из девушек.
— Да что: обегала весь сад, — ни бешеной собаки!
— Да ты была в вишневой куртине? — спросил лакей.
— Вот еще! Я и за тепличку ходила, — нигде нет.
— А садовника спрашивала?
— Хорош садовник!.. Калитка в переулок отперта, а он спит себе как убитый…
Тут подали мою коляску, и я отправился. На другой день рано поутру я поехал на богомолье к Троице, а оттуда завернул в Новый Иерусалим. Путешествие мое продолжалось четверо суток. Возвратясь в Москву, я нашел в моем кабинете, на письменном столе, две визитные карточки с загнутыми углами и, признаюсь, вовсе не удивился, когда прочел на одной из них: «Любовь Дмитриевна Зорина, урожденная Барашева».
IV Московская старина
Бяше град Москва видети велик и чуден град
и много множество людей в нем кипяше богатством и славою.
Ростовский летописецНа прошлой неделе сосед мой, Николай Степанович Соликамский, обещал завернуть ко мне сегодня часов в девять поутру, чтоб ехать вместе в Оружейную палату. Николай Степанович принадлежит к весьма малому числу моих искренних приятелей; он почти одних со мною лет, бездетный вдовец, великий антикварий и ужасный библиоман. Конечно, не у многих найдется такое любопытное собрание старинных русских печатных книг и манускриптов, из которых, однако ж, иные весьма для меня подозрительны, а особливо какой-то исписанный бог знает какими буквами бесконечный свиток, который, по мнению моего приятеля, есть истинный и подлинный список «Слова о полку Игоревом». Николай Степанович очень добрый, умный и образованный человек, но у него есть одна слабость, впрочем самая невинная и безгрешная: он видит везде славян, находит во всех древних языках сходство с славянским языком, и даже не шутя готов уверять, что греки Омировой «Илиады» все чистой славянской породы. Не знаю наверно, а кажется, ему первому пришла в голову догадка, что царя Менелая прозвали этим именем, потому что он со всеми ругался и что ему часто говорили: «Мене лай!» Несмотря, однако ж, на эту странную славяноманию, он человек истинно ученый и, конечно, один из первых русских археологов нашего времени. Прождав его к себе с полчаса, я подумал наконец, что он купил на Смоленском рынке какой-нибудь древний манускрипт или выменял у раскольника старинный требник, занялся поверкою текста и решительно забыл свое обещание. Читать мне не хотелось; вот от нечего делать я присел к письменному столу, взял в правую руку перо, указательным пальцем левой руки уперся в лоб и начал думать… «Писать — да о чем?» При этом вопросе, который я задал самому себе, глаза мои нечаянно остановились на большом плане Москвы, который висит у меня в кабинете. «О чем? — повторил я. — Да я еще ничего не писал о московской старине; чего же лучше: давай писать об основании Москвы!»
«Не говоря уже о Новгороде и Киеве (так начал я, подумав несколько минут), есть много городов в России гораздо старее Москвы. Однако ж имя ее встречается в летописях первой половины XII столетия, следовательно, Москва существует уже семьсот лет. В 1147 году Суздальский князь Юрий Владимирович угощал в ней князя Святослава Ольговича Северского. Около того же времени в южной России она была известна под настоящим своим именем и под названием Кучкова. В XIII веке ее причисляли к залесским городам. Говорят также иные летописцы, которых не очень уважают в ученом мире, но которым я, как истинный москвич, готов от всей души поверить, что будто бы Москва основана еще в 882 году знаменитым Олегом, который, проезжая из Новгорода в Киев, построил городок на речке Неглинной, в том самом месте, где она впадает в Москву-реку. Впоследствии этот городок вместе со своим округом перешел во владение суздальского боярина Степана Ивановича Кучки. Дом этого боярина стоял на берегу Поганого пруда, который в начале XVIII столетия неизвестно почему переименован Чистым. Вся окружность этого пруда, составляющая нынешнюю Стретенскую часть, называлась Кучковым полем. Насильственная смерть боярина Кучки, убитого князем Суздальским Юрием Владимировичем, женитьба сына его Андрея Боголюбского на дочери умерщвленного боярина, и потом, спустя много лет, ужасная месть, совершенная сыном Кучки над этим же самым Андреем Боголюбским, необычайная казнь убийц великокняжеских, которых посадили живыми в деревянные короба и бросили в озеро Плещеево, где, по народному преданию, они и теперь еще плавают, — все это так занимательно и так походит на какой-то романтический вымысел, что, может быть, строгий критик не решится никак назвать эти происшествия историческими фактами. Впрочем, как бы то ни было, но то верно, что о Москве упоминается в летописях XII столетия и что в 1328 году Москва была уже столицей всей России, потому что Иоанн Данилович Калита перенес в нее из Владимира свой великокняжеский престол. Есть еще предание, о котором я не смел бы и заикнуться, говоря с ученым профессором истории. В этой легенде рассказывают о каком-то отшельнике Букале, который в незапамятные годы жил на нынешней кремлевской горе, покрытой тогда сплошным непроходимым бором, отчего этот холм и назывался в старину Боровицким. Теперь остались только в Кремле три памятника, напоминающие нам о существовании этого дремучего леса: собор Спаса на Бору, церковь Рождества Иоанна Предтечи на Бору и Боровицкие ворота.
Кругом всей Москвы считается тридцать пять верст; она, как Древний Рим и Византия, лежит на семи холмах; как от столицы святого Константина почти вся Греция именовалась Византиею, а от Рима получила свое название вся Римская империя, — точно так же в старину все иностранцы называли Россию по имени ее столичного города Московиею, а русских москвитянами: последнее название сохранилось и до нашего времени в Польше и Малороссии. Сначала Кремль вместо каменных стен был обнесен дубовым тыном. После нашествия Батыя эти деревянные стены были возобновлены, а в 1367 году великий князь Даниил Иванович с братом своим Владимиром задумал, по словам летописца, «поставить город камен Москву», то есть обнести Кремль кирпичными стенами. Первую в Москве каменную соборную церковь, во имя Успения божией матери, заложил святой Петр — митрополит при великом князе Иоанне Даниловиче, который в том же году…»
— Здравствуй, Богдан Ильич, — сказал позади меня кто-то знакомым, но очень странным голосом.
Я обернулся и вскричал от удивления. Передо мной стоял сосед Николай Степанович Соликамский, бледный, растрепанный, с таким вывороченным наизнанку лицом, что я не шутя испугался.
— Боже мой, — сказал я, — здоров ли ты? Что с тобою?
— Да ничего, братец.
— Как ничего? — продолжал я с беспокойством. — На тебе лица нет! Ты не говоришь, а хрипишь. Ты болен, точно болен!
— Что за болен — расстроен немножко, это правда. У меня сейчас был Грибовский.
— А, этот отъявленный враг всякой русской старины! И ты, верно, с ним спорил?…
— Да еще как! Два часа сряду!..
— Это заметно.
— Несносный человек!.. Для него нет ничего святого; он ничему не верит, ничего не признает!.. Э, да лучше о нем вовсе не говорить, а то у меня бросится опять вся кровь в голову… Что ты это пишешь?
Я подал ему тетрадь.
— Что это? — вскричал он — Олег!.. Так ты веришь в Олега? Ты думаешь, что Олег в самом деле был?… Какой вздор! Игорь и Олег, Аскольд и Дир — все это мифы, братец! Спроси у Грибовского, так он докажет тебе, что и Святослав не что иное, как миф, несмотря на то, что византийский историк Лев Дьякон говорит о нем и называет его Свентославом; несмотря на то, что Нестор… Да что Нестор! Неужели ты не знаешь, что Нестерова летопись подложная, что она писана… как бы тебе сказать?… лет несколько тому назад; что «Слово о полку Игоревом» сочинено каким-нибудь перервенским семинаристом, что все это вздор, выдумки!.. Уж не думаешь ли ты, что Мамаево побоище в самом деле когда-нибудь было? Какое легковерие! Русский мужик выгравировал лубочную картинку, назвал ее Мамаевым побоищем, и все наши историки ну писать о Мамаевом побоище!.. А первые русские князья?… Неужели ты не видишь этого жалкого подражания наших летописцев Священному писанию и византийским историкам? У Ноя было три сына: Сим, Хам и Афет, а у нас три князя: Рюрик, Синав и Трувор; у греков была царица Елена, а у нас великая княгиня Ольга. Посмотри, какими баснями наполнены наши летописцы. Тут деревянные идолы, которых побросали в Днепр, стонут человеческими голосами; там злой чародей передает свое имя реке, на которой стоит Новгород. Правда, в летописях других народов еще более этого басен, да это совсем другое дело! Мы можем сомневаться в том, что дикая волчица была кормилицею Ромула, однако ж должны верить, что Ромул основал Рим; а если мы встречаем в русских летописях, что змея ужалила из лошадиного черепа Олега и что это было ему предсказано, то мы вправе не верить даже и тому, что этот Олег существовал. Ты скажешь, пожалуй, что мы, русские, происходим от славян… Какое заблуждение!.. Мы — так… сброд, остатки каких-то неизвестных племен, какая-то разнобоярщина — бог знает что такое!.. Да и сами-то славяне что такое?… Неужели ты думаешь, что они были когда-нибудь самобытным и воинственным народом?… Громили Византию, основали города… Сказки, братец, сказки!.. А знаешь ли ты…
Тут Николай Степанович поперхнулся и начал кашлять. Я воспользовался этой минутной остановкой, взял трость, надел перчатки и сказал ему:
— Ну, полно, братец! Пора в Оружейную палату… Да брось ты этого Грибовского!.. И что тебе за дело, что он бредит вздор?
— Как что за дело? — вскричал Николай Степанович, продолжая откашливаться. — Вот этим-то равнодушием вы все и губите!.. Что за дело! Когда этот клеветник осмеливается говорить, что мы происходим не от славян…
— Эх, братец, да разве мы не все дети Адама?… Ну, не все ли равно, от кого бы мы ни происходили? Главное только в том, что теперь-то мы русские, а об этом и Грибовский не станет с тобой спорить. Пойдем!
— И как может прийти в голову такая дурацкая мысль? — ворчал Соликамский, выходя вместе со мной на крыльцо. — Мы происходим не от славян! Да от кого же?… Уж не от китайцев ли? Что мы, говорим маньчжурским наречием, что ль?… И как язык повернется у человека сказать, что Нестерова летопись, этот перл всех древних летописей, не что иное, как монашеская выдумка, подлог!..
— Что ж делать, любезный, — прервал я, — у всякого своя булавочка в голове: один хлопочет, как бы доказать, что Россия существует только со вчерашнего дня; другой производит русских по прямой линии от славянского царя Менелая…
— Что ж это? — сказал Николай Степанович, садясь в мою коляску. — Ты это погуливаешь на мой счет, что ль?
Я не отвечал ничего. Приятель мой надулся и во всю дорогу не говорил ни слова. Через несколько минут мы приехали в Кремль; Оружейная палата была еще заперта.
— К чему изволил торопиться? — проговорил Николай Степанович, нахмурив брови. — Ну, что мы приехали ни свет ни заря?… Что мы будем теперь делать?
— А вот что, — отвечал я, вылезая из коляски, — мне давно хотелось походить с тобою по Кремлю и порасспросить у тебя, где что прежде было. Никифор останется здесь и придет нам сказать, когда отопрут Оружейную палату.
Брови у моего приятеля раздвинулись, наморщенный лоб сделался гладким, и он, как молодой человек, выпрыгнул из коляски.
— Ведь это, мой друг, — продолжал я, — твоя стихия, не правда ли?
Соликамский улыбнулся очень весело.
— Ты, верно, знаешь, — прибавил я, — древний Кремль почти так же хорошо, как новый?
— Ну, нет, Богдан Ильич, хоть и не так же, а знаю хорошо, хорошо знаю! С чего бы нам начать?… Да вот, например, известно ли тебе, когда построены эти кремлевские стены?…
— Знаю, мой друг, знаю! При великом князе Иоанне Даниловиче.
— А вот и не знаешь! — прервал с приметным удовольствием Николай Степанович. — То были другие, а эти построены при великом князе Иоанне Васильевиче III. А знаешь ли ты, сколько в Кремле было ворот?
— Да я думаю, столько же, сколько и теперь.
— Нет, Богдан Ильич! Их теперь всего пять, а было шесть: Фроловские, Никольские, Курятные, Боровицкие, Тайницкие и Константино-Еленовские. Фроловские и Курятные переименованы; первые зовутся теперь Спасскими, вторые — Троицкими, а Константино-Еленовские заложены.
— А что было на этом месте, где теперь Оружейная палата? — спросил я.
— Не на самом этом месте, а подле, против переулка, отделяющего Чудов монастырь от Сената, стоял дом, а впоследствии и дворец царя Бориса Годунова. В этом дворце по приказанию Самозванца умерщвлены супруга и сын Годунова, Федор Борисович, который был уже по праву наследства царем русским. В нем же, когда Москва стенала под игом поляков, жил польский коронный гетман Жолкевский. Ближе к Троицким воротам стояло Троицкое подворье, по имени которого названы и ворота. Это подворье достопамятно тем, что в нем совершилось избрание на царство Михаила Феодоровича Романова. Прямо из него пошел келарь Авраамий Палицын, со всем духовенством и государственными сановниками, на Лобное место, чтобы объявить народу об избрании царя.
— Как жаль, — сказал я, — что это здание не было поддержано.
— Да, конечно, — промолвил со вздохом Николай Степанович; потом, помолчав несколько времени, прибавил:
— Лет около сорока тому назад и дворец Годунова, и это подворье были проданы на сломку с аукциона. Но пойдем дальше… Иль нет, постой на минуту! Видишь ли ты эту башню, которая стоит за кремлевской стеною, в голове моста, ведущего к Троицким воротам?…
— Вижу!.. Ну, что ж такое?…
— Ничего. Я хотел только тебе сказать, что в старину ее звали: башня Кутафья. Теперь повернем налево, мимо Кавалерских корпусов.
Мы прошли несколько шагов; Соликамский остановился и спросил меня, что я вижу перед собою.
— Ордонанс-гауз, — отвечал я, — комендантский дом, а левее конюшенный двор.
— На этом-то самом месте, — сказал Николай Степанович, — стоял дом боярина Милославского; в этом доме давались первые зрелища в Москве и, вероятно, во всей России; бывали иногда маскерады, в которых немцы играли на органах и фиолах, и происходили разные другие потехи. Когда царь Алексей Михайлович женился на первой своей супруге, дочери боярина Милославского, то этот дом стал называться Потешным дворцом. Впоследствии, при царевне Софье Алексеевне, давались в этом дворце разные театральные пиесы, вроде древних мистерий, как-то: «Олоферн», «Притча о блудном сыне», «Шемякин суд»; некоторые из этих пиес, как полагают, были сочинены самой царевною. По словам издателя «Статистического описания Москвы», театральные представления в Потешном дворце продолжались до 1701 года; в этом году построена для них, сначала на Красной площади, а там у Красных ворот, так называемая Деревянная комедия, которая сломана наконец в 1753 году. Идя от Троицких ворот, подле первой конюшенной башни, меж строений Потешного дворца, был Лебединый пруд. Почти все нынешние Кавалерские корпуса составляли одну связь и назывались Дворцовыми покоями; в числе их была замечательно расписанная по золоту Ольгина палата, названная сим именем в честь великой княгини Ольги.
В продолжение этого разговора мы подошли нечувствительно к тротуару, который окаймляет вершину Кремлевского холма и с которого такой великолепный вид на все Замоскворечье.
— Вот направо, — продолжал Соликамский, — эта церковь во имя Рождества Иоанна Предтечи, построенная на холме, от которого начинается съезд к Боровицким воротам, едва ли, после Спаса на Бору, не самая древнейшая в Москве. Она первоначально была срублена из брусьев и существовала сто сорок лет; потом, в 1461 году, перестроена в каменную и стоит доныне, следовательно, от основания ее прошло с лишком пять столетий. Прямо за нею под горою стоял Житный двор, левее, по скату горы, расстилались царские сады, или, как говорили в старину, огороды, принадлежавшие ко дворцу царей Михаила Феодоровича и Алексея Михайловича. В этом дворце было много великолепных покоев, Дворцовая палата, Золотая, Средняя подписная, Царицына Золотая палата, брусяная Столовая изба, в которой происходили царские свадебные церемонии, Столовая набережная, Сенники царские, Комнатный сад, в котором водились вишни и сливы, Постельная палата, Ответная, или Посольская, палата, Панихидная палата, Крестовая палата… Да ты меня не слушаешь, Богдан Ильич! — вскричал Соликамский, прервав свой рассказ.
— Слушаю, мой друг, слушаю! Я только позагляделся на этот прекрасный вид.
— Прекрасный вид!.. Да что ты, в первый раз, что ль, смотришь отсюда на Замоскворечье!
— Да разве можно когда-нибудь на это насмотреться!
— Ну, Богдан Ильич, ты не в наших старичков: они об этом, видно, не очень думали. Знаешь ли, что тут, где мы стоим, все было застроено; по всей закраине Кремлевского холма, начиная от дворца, почти до самой Константино-Еленовской башни, тянулось сплошное строение, в котором помещались все приказы, а впоследствии коллегии. Тогда проходящие не могли любоваться этим прекрасным видом, который, как мне кажется, — прибавил Соликамский с приметной досадой, — занимает тебя гораздо более моих рассказов.
— Что ты, мой друг, — напротив! В первый раз, как ты будешь свободен, я попрошу тебя обойти со мною весь Кремль.
— А почему же не теперь?
— Теперь ты будешь моим чичероне в Оружейной палате.
— Да она еще не отперта.
— Никак нет, сударь, — сказал Никифор, подойдя к нам, — отперта-с, и публика такая, что и сказать нельзя: так друг друга в дверях и давят.
Мы отправились в Оружейную палату. Мимоходом Николай Степанович успел мне сказать, что на том месте, где теперь Сенат, был некогда дом князей Трубецких, конюшенный двор Чудова монастыря и три церкви: Козмы и Дамиана, святого Петра Митрополита и Введения Пресвятой Богородицы. А там, где возвышается огромный Арсенал, стоял Стрелецкий Лыков двор — гнездо неугомонных крамольников, столько раз посягавших на жизнь нашего великого Петра.
Мы проходили часа два по обширным залам Оружейной палаты, в которой, несмотря на множество посетителей, вовсе было не тесно. Я не берусь, да и не могу описать то, что мы видели в эти два часа; самый поверхностный обзор любопытных вещей, находящихся в Оружейной палате, составил бы том вчетверо более этой книжки; но когда-нибудь в отдельной главе скажу хотя несколько слов об этом во всех смыслах драгоценном хранилище царских сокровищ и нашей русской старины.
V Контора дилижансов
Завистники России говорят, что мы имеем только
в высшей степени переимчивость; но разве она
не есть знак превосходного образования души?…
Учители Лейбница находили в нем также одну переимчивость.
КарамзинЯ думаю, многие из моих читателей помнят то время, когда дорога между Москвой и Петербургом была самым тяжким испытанием человеческого терпения для того, кто ехал в собственном экипаже, и решительно наказанием небесным для всякого, кто ехал на перекладных. Я предпочитал, однако ж, всегда последний способ путешествия, точно так же, как предпочитают жестокую, но кратковременную болезнь медленной и изнурительной, которой не видишь и конца. У меня и теперь еще волосы становятся дыбом, когда я вспомню про эту каменную мостовую, перед которой всякая городская мостовая показалась бы вам гладким и роскошным паркетом, и эта-то мостовая была для путешественника отдохновением, когда он выезжал на нее, проехав верст триста по дорожной бревенчатой настилке, которую уж, верно бы, Данте поместил в свой ад, если б ему случилось прокатиться по ней в телеге верст полтораста или двести. Теперь мы едем от Москвы до самого Петербурга по ровному шоссе, нас не тряхнет ни разу, а если иногда придется проехать с четверть версты по дурно вымощенному селению, мы начинаем гневаться и кричать, почему у нас нет еще до сих пор железных дорог и паровозов. Видно, уже человек так создан: он тотчас забывает все дурное и привыкает ко всему хорошему; я не говорю о новом поколении: оно не знает, каково было ездить из Москвы в Петербург; но сколько есть людей, которые изведали на опыте эту адскую пытку, а меж тем весьма равнодушно поговаривают о Петербургском шоссе, как будто бы оно сделалось само собой и существовало еще до первого нашествия татар.
Эту попытку усвоить себе изобретение битых дорог, конечно, можно назвать подражанием. Но такова участь России: мы долго еще должны подражать другим, не во всем — избави господи! Я всегда был ненавистником рабского, безусловного подражания, которое есть верный признак не просвещения, а грубого невежества, желающего прикинуться просвещением. Всякий раз, когда я встречаю русского человека, который отпускает казенные французские фразы, одевается по модному парижскому журналу, толкует без толку о просвещении Запада и позорит на чем свет стоит свое отечество, мне кажется, что я вижу перед собой какого-нибудь островитянина южного океана, на котором нет даже и рубашки, но который воображает, что он одет по-европейски, потому что на него надели галстук и трехугольную шляпу. Конечно, перенимать истинно полезное и хорошее должны все друг у друга, а и того более мы, русские, которых тяжкое иго татар не только остановило на одном месте, но даже отбросило назад, в то время как западные народы хотя и очень медленно, а все-таки шли да шли вперед. Впрочем, Русь и в подражаниях своих сохраняет то, что отличает ее от всех других народов. Она мелочей не любит, ей надобно разгулье, простор; ей все давай в колоссальных размерах, все считай сотнями да тысячами верст! Наше первое шоссе раскинулось не на сто, а разом на семьсот верст, следовательно, могло бы опоясать Францию во всю ее ширину, начиная от савойской границы до Атлантического океана, и протянуться от Дувра до Эдинбурга, то есть во всю длину Англии и южной Шотландии.
Вместе с учреждением Петербургского шоссе появились в России первые почтовые кареты. Сначала только одно было заведение дилижансов, и, может быть, они уступали несколько в удобстве иностранным; иначе и быть не могло: всякое улучшение бывает следствием трех необходимых условий — времени, опыта и соревнования, или, верней сказать, соперничества. Но теперь пусть всякий, кто бывал за границею, скажет по чистой совести, есть ли где-нибудь дилижансы красивее, спокойнее и удобнее тех, в которых мы ездим из Москвы в Петербург и из Петербурга в Москву? Я не говорю ничего о дешевизне; разумеется, в Англии не повезут вас в спокойной и просторной карете от Дувра до Эдинбурга за семьдесят пять рублей, но это совершенно ничего, цена есть вещь относительная и условная; благодаря бога у нас деньги не сделались еще самым дешевым товаром, следовательно, и цены на все должны быть ниже. Теперь в Москве считают шесть заведений, из которых одни отправляют дилижансы в Петербург каждый день, а другие три раза в неделю. Сверх того одно, которое отправляет дилижансы в Петербург и Ригу; одно — в Тулу, Орел, Курск и Харьков; одно — во Владимир и Нижний Новгород; и недавно учрежденные при Московском почтамте почтовые кареты и брики, которые поспевают в Петербург в двое суток с половиной. Все эти заведения процветают или, по крайней мере, вовсе не в убыток своим основателям, потому что экипажи приметным образом улучшаются и делаются с каждым годом удобнее и спокойнее для путешественников.
Николай Степанович Соликамский, с которым в предыдущей главе я познакомил моих читателей, заехал ко мне вчера часов в восемь утра объявить, что он отправляется по своим делам на несколько дней в Петербург.
— Когда ты едешь? — спросил я.
— Сейчас, — отвечал Соликамский. — Я взял место в дилижансе, который выезжает в девять часов.
— Так я тебя провожу, а меж тем посмотрю хоть одно из этих заведений. Я думаю, они все очень похожи одно на другое?
— Да, конечно. Я перебывал во всех конторах: разницы большой нет. Однако ж если хочешь, так поедем, пора! У меня пролетка широкая, усядемся оба.
Мы отправились и минут через десять остановились на Тверской у подъезда лучшей московской гостиницы. Войдя в сени и повернув налево мимо великолепной лестницы, мы очутились в просторной комнате, не щеголевато убранной, однако ж довольно опрятной. В ней сидело несколько дам и мужчин в дорожных платьях. В одном углу прикидывали на весах чемоданы, шкатулки, погребцы и разные другие дорожные укладки; в другом — сидел за прилавком конторщик и писал что-то в толстой шнуровой книге. Соликамский, узнав, что дилижансы отправляются не прежде получаса, пошел в столовую позавтракать, а я остался в комнате пассажиров.
Когда я бываю с людьми, совершенно мне незнакомыми, то очень люблю отгадывать по их физиономии, платью, речам и ухваткам, к какому разряду общества они принадлежат, какого характера и что в эту минуту их занимает. Разумеется, я часто ошибаюсь, но иногда отгадываю довольно верно. Некоторые из дорожных стояли подле весов и наблюдали за конторским служителем, который взвешивал их поклажи; другие сидели на диване и креслах, обитых не слишком красивым ситцем. Ближе всех были ко мне двое отъезжающих, из которых один весьма толстый пожилой купец с окладистой бородою, а другой детина молодой, с усиками, но без бороды, в нанковой сибирке и красной шелковой рубашке с косым воротом. Толстый купец считал что-то по пальцам, от времени до времени поглаживал правой рукой свою густую бороду и бормотал себе под нос: «Отправлено фамильного два места да цветочного три цибика, итого в остатке… да, так точно!..»
Мне нетрудно было отгадать, что этот толстый купец торгует в овощном ряду и предпочтительно чаем, что он человек богатый, потому что бедный торговец не стал бы так важно и с таким самодовольным видом поглаживать свою бороду, и, наконец, что он рассчитывает в эту минуту барыши, которые должна ему принести поездка в Петербург. Вот он шепнул что-то своему соседу, и тот бросился вон из комнаты; из этого я заключил, что молодец в нанковой сибирке его сиделец и что толстый купец характера крутого, взыскательного и любит, чтоб его приказания исполнялись без малейшего отлагательства. Тут я обратил внимание на другого дорожного, который сидел поодаль от всех, развалясь весьма небрежно в креслах. На нем был долгополый косматый сюртук, застегнутый на все пуговицы, а на шее слабо завязанный пестрый шелковый платочек. При первом взгляде на его рыжеватую козлиную бородку и длинные виски вроде кудрявых пейсиков я принял его за польского жида, но тотчас же увидел свою ошибку: на нем не было ермолки, а всем известно что польский жид не расстанется ни за что с этою скуфьею, которая отличает его от всех иноверцев. «Так точно, — подумал я, — это какой-нибудь щеголек из панского ряда, которому раскольник-отец не дозволяет обрить бороды, но который, однако ж, желает хотя издалека идти за веком, то есть носить жилетку, галстук и вместо русского кафтана долгополый сюртук». В то время как я делал эти наблюдения и внутренне радовался моей проницательности, гостинодворец с рыжею бородкою подошел к конторщику и спросил его — представьте мое удивление! — по-французски, самым чистым парижским наречием, во сколько суток дилижансы поспевают в Петербург? «Ах, батюшки, — подумал я, — принять парижанина, быть может какого-нибудь маркиза, сначала за жида, а там за купеческого сынка из панского ряда!.. Ай да отгадчик!..» Меж тем француз продолжал толковать с конторщиком, который на все его вопросы отвечал, пошатывая головой: «Не понимаю, батюшка, не понимаю: я по-немецки не говорю!» Мне стало жаль француза, который начал уже от нетерпения топать ногою и произносить не вовсе приличные восклицания. Я подошел к прилавку и предложил ему мои услуги; но едва успел перевести ответ конторщика, как вдруг подошел к нам какой-то барин в плисовых сапогах, шелковом ваточном халате, подпоясанном носовым платком; он держал в одной руке кожаный картуз, а в другой — шитый серебром сафьянный кисет и пенковую трубку с волосяным чубуком и янтарным наконечником. Этот господин казался очень встревоженным.
— Позвольте узнать, — сказал он, — кто здесь старший?
— А что вам угодно? — спросил конторщик.
— Я, батюшка, пассажир, надворный советник Щипков.
Конторщик поклонился.
— Позвольте вам сказать, — продолжал г-н Щипков, — что это такое: с меня требуют за мою поклажу почти половину того, что я заплатил за место в дилижансе!
— Кто ж виноват, сударь, если у вас так много поклажи?
— Да помилуйте! Все вещи нужные, необходимые, без которых никто в дорогу не ездит.
Конторщик подошел к весам.
— Это все ваша поклажа? — сказал он. — Ну, сударь, да с вами целый воз всякого хламу!.. Что у вас в этом кульке?… Помилуйте!.. Окорок ветчины, каравай хлеба!.. Ах, батюшки, полголовы сахару!..
— Я, сударь, всегда по дорогам пью мой собственный чай.
— Да ведь это выйдет вам дороже, сударь.
— Покорнейше вас благодарю! Я знаю, как дерут с проезжих по большим дорогам!
— А эта киса чем набита?… Позвольте, что в этой жестянке?… Ой, ой, ой!.. Да ее насилу подымешь!
— В ней, батюшка, костромской табак: я другого не нюхаю.
— А это что?… Колодка… сапожные щетки… четыре пары сапогов… Ну вот зачем вы это с собой берете?
— Как, батюшка, зачем? Да что мне в Петербурге-то, босиком, что ль, ходить?
— Ну, воля ваша, — только вы за все заплатите весовые деньги!
— Как за все? Да разве у вас в положении не сказано, что всякий пассажир может взять с собою…
— Двадцать фунтов поклажи… да, сударь; а тут с лишком четыре пуда.
— Так что ж прикажете мне делать?
— Не хотите платить, так оставьте все лишнее здесь.
— Покорнейше благодарю!.. Нет, уж я лучше заплачу.
— Как вам угодно.
— Ах ты, боже мой! — продолжал барин, вынув из-за пазухи довольно туго набитый бумажник и расплачиваясь с конторщиком. — Прошу покорно, — тридцать рублей за одну поклажу!.. Ну вот, скажите пожалуйста!.. А еще говорят — дешево ездить в дилижансах!
— Батюшка барин, — сказал вполголоса слуга этого господина, человек лет за сорок, с небритою бородою, в фризовой шинели, подвязанной какою-то мочалкою, — да уж прикажите хоть колодку-то оставить; право, она не стоит того, что за провоз заплатите!
— Дурак!.. А на чем ты станешь в Петербурге-то сапоги чистить?
— Мы там, батюшка, купим другую ногу.
— А на что мне две ноги?
— Да ведь одна-то придется нам даром, сударь.
— Вот еще, стану я на пустяки деньги тратить!.. Пошел, дурак, укладывайся! Да постой, и я с тобою пойду: надобно уложить так, чтобы все было под руками.
Барин и слуга вышли из комнаты, а я сел возле двух дам, подле которых стояла с узлом в руках довольно смазливая служаночка. Одна из этих дам казалась женщиной пожилой, другой было на вид лет около двадцати, они разговаривали между собой вполголоса. По смешению французского языка с нижегородским мне нетрудно было отгадать, что я имею честь сидеть подле русских барынь.
— Как скучно! — говорила молодая. — Nous sommes venus trop tot, maman.
— Non, ma chere! Мы приехали как должно.
— Так чего ж мы дожидаемся?…
— Чего дожидаемся?… Порядок хорош!.. Да это всегда у нас: заведут на иностранный манер, расхвалят, распишут, а там посмотришь — гадость!..
— Я думаю, что давно уже десять часов, maman.
— А что на твоих часах — voyez, ma chere?
— Да они стоят.
— Опять не завела? Ах, Sophie! comme c'est ridicule!.. Всякий раз!
Я воспользовался этим случаем, чтоб начать разговор с моими соседками, — вынул часы, посмотрел и сказал:
— Вам угодно узнать, который час? Без десяти минут девять.
— Mersi, monsieur! — прошептала маменька. — А я думала, что гораздо позднее.
— Вы изволите ехать в Петербург?
— Да-с, теперь в Петербурге…
— А оттуда a l'etranger, — прервала с живостию дочка, — на пироскапе.
— Позвольте спросить, вы московские жительницы?…
— О нет! — проговорила маменька с такою обидною улыбкою, что меня зло взяло.
— Так вы, — продолжал я после минутного молчания, — проездом в Москве?
— Да, мы хотели здесь пробыть одни только сутки и вместо этого должны были прожить целых две недели.
— Ну что, понравилась ли вам Москва?
— Помилуйте, да что ж в ней хорошего? Большой город, в котором умирают от скуки, и больше ничего.
— А какой театр! — прибавила дочка. — Dieu, comme c'est mauvais!
— Это уж слишком немилостиво, — сказал я. — Впрочем, вероятно, вы имеете полное право быть взыскательными, и если вы были за границею…
— Ах, нет еще! — промолвила со вздохом маменька. — Но я надеюсь, что нынешним летом мы увидим чужие края.
— Так, конечно, вы бывали в Петербурге и, сравнивая тамошний театр с здешним…
— Je vous demande pardon, monsieur! — подхватила дочка. — Мы с маменькой никогда не были в Петербурге.
— Так позвольте же вас спросить, откуда вы изволите ехать?
— Из Костромы.
К счастию, я держал мой платок в руке и успел им закрыться.
— Здравствуй, Богдан Ильич! — сказал кто-то подле меня густым басом; я обернулся и увидел перед собою моего старого сослуживца Андрея Даниловича Ерусланова, с которым мне должно познакомить короче моих читателей.
Андрей Данилович — человек лет сорока пяти, среднего роста, плечистый, здоровый и краснощекий. Он может по всей справедливости назваться и в моральном и в физическом смысле самым чистым, без всякой примеси, русским человеком. Русская беспечность и русский толк; радушие и удальство; по временам необычайная деятельность и подчас непреодолимая лень; одним словом, вы найдете в нем все то, в чем упрекают и за что хвалят русский народ. Несмотря на то что многие называют его старовером, невеждою, отсталым, он человек образованный, много читал, много видел; но вообще небольшой обожатель Запада и любит Русь, как любили ее в старину наши предки, то есть не только с пристрастием, но даже с ослеплением, которое иногда, надобно сказать правду, выходит изо всех границ.
— Здравствуй, Андрей Данилыч! — сказал я. — Ты также отправляешься в дилижансе?
— В дилижансе?… Что ты, братец, перекрестись! Я зашел проститься с Соликамским. Поеду я в дилижансе! Вот нашел человека!
— А почему же не поедешь? Если б мне нужно было прокатиться в Петербург, я непременно бы поехал в дилижансе.
— Поехал! Да кто тебе сказал, что ты едешь в дилижансе? Нет, не едешь: тебя везут, голубчик! Напихают вас в этот курятник, как тюки с товарами, да и потащат!..
— А тебе бы все скакать сломя голову.
— Да, воля твоя, Богдан Ильич, не люблю я этой аккуратной немецкой езды. Ну какая в ней поэзия?… Тоска, братец! Ведь наша Русь не то, что чужие края: там живут тесно: проехал версту — село, проехал две — пригородье, а верстах на десяти в трех городах побываешь. В одном государстве позавтракаешь, а в другом придется отобедать. Нет, брат, русская земля не то: и широко, и просторно, и гладко, так что ты себе хоть шаром покати. Поезжай-ка у нас в дальнюю дорогу в каком-нибудь рыдване, немецкой трухою — с ума сойдешь: все то же да то же в глазах. Ну то ли дело наш родимый экипаж? И беспокойно, да весело. Заляжешь в просторную телегу, завернешься в шинель да и покатывай! Эх, как вспомнишь, братец: случится иногда попасть на удалого ямщика — ах ты, господи!.. Коренная рвется из оглобель, пристяжные визжат, ну, вот так и грызут землю!.. Бравый ямщик встряхнет кудрями, шапку набекрень, присел кой-как бочком, прибрал вожжи, гаркнул — и света божьего не взвидишь! Только что по кочкам попрыгиваешь да любуешься русскою удалью. Кати, лихая тройка!.. Захлебывайся, валдайский колокольчик!.. Летите мимо, поля, леса и перелески!.. Любо, да и только! Вот засинелся вдали черный бор… глядь, а ты уж в нем… Вот порой проглянет деревенька, мелькнет в стороне боярская усадьба, — ау!.. поминай как звали!.. Ну, словно вихрем несет тебя на край света, словно крылья тебе подвязали и ты мчишься туда, где небо сходится с землею!.. Вот это, братец, езда!.. Не успеешь оглянуться, а станция и тут! Хлебнул чайку, впрягли, и пошел опять по всем по трем!
— А бока-то что, Андрей Данилыч?
— Бока!.. Эх, братец, не русский ты человек!.. Эка важность, отобьет тебе бока, ну, что за беда?… Приехал домой, сходил в баню, и как с гуся вода!..
— Пожалуйте садиться! — проговорил громким голосом кондуктор, растворив обе половинки дверей.
Все поднялись со своих мест и стали понемногу выбираться из комнаты: я вышел также вместе с другими на крыльцо. В несколько минут оба дилижанса наполнилась пассажирами, но Соликамского между ними не было. Я поспешил воротиться назад и нашел его в столовой комнате, — вы думаете, за завтраком? Нет, перед ним стояли две котлеты и порция бифштекса; но он еще до них не дотрогивался, а спорил с каким-то ученым мужем, который, сколько я мог понять, сомневался в подлинности известного Евангелия, писанного дьяконом Григорием в начале второй половины XI столетия. Я застал этот ученый диспут в самом его разгаре, и, надобно сказать правду, не случись меня в ту пору, пришлось бы Соликамскому гнаться за своим местом и чемоданом до первой станции. Когда я почти насильно вытащил его из столовой, дилижансы уже отправились, и мы с трудом догнали их у Петровской заставы, да и то потому только, что тут обыкновенно все проезжающие останавливаются на несколько минут, чтоб прописаться в караульной и запастись на всю дорогу московскими калачами и сайками.
VI Два московских бала в 1801 году
Я провожу, говорит, время с крайним удовольствием;
барышень, говорит, много, музыка играет, штандарт скачет.
ГогольВо второй главе этих записок я намекнул мимоходом о ложном понятии, которое многие из петербургских жителей имеют о Москве. Москва, по мнению их, конечно, большой город, но город решительно провинциальный, в котором вы должны непременно подвергаться разным лишениям, весьма чувствительным для человека, привыкшего ко всем удобствам и роскоши петербургской жизни. Да это бы еще ничего, — пускай бы уж они думали, что в Москве, точно так же, как и в Новгороде или в Архангельске, все порядочное должно выписывать прямо из Петербурга; но эти господа полагают даже, что большая часть жителей Москвы, и среднего и высшего класса, имеет на себе какой-то особый отпечаток, что почти все москвичи сплошь Фамусовы, Репетиловы, Молчалины и Загорецкие. Я должен, однако ж, сказать, что этот образ мыслей принадлежит почти исключительно только тем, которые никогда не бывали в Москве, и весьма редко встречается у людей, живущих в лучшем обществе; но зато ступайте к какому-нибудь петербургскому старожилу, который во всю жизнь свою не видал ничего выше Пулковской горы и живописнее Парголова, у которого свой дом на Песках, в Коломне или у Таврического и который, нанимая каждое лето избенку на Петербургской или Выборгской стороне с тридцатью квадратными саженями болота и пятью тощими березками, воображает, что живет на даче; заговорите с ним о Москве, и вы увидите, что он в грош ее не ставит, а особенно с тех пор, как появилась на сцене комедия Грибоедова. Как будто бы есть в целом мире такой город, в котором не нашлось бы дюжины две комических лиц, и как будто бы эти лица должны быть непременно представителями и образчиками целого общества? Конечно, Москва во многом не походит на Петербург, но это вовсе не оправдывает мнения тех, которые воображают, что она отстала от него целым столетием. Разумеется, Москва, как и всякий большой город, имеет свою собственную физиономию: в ней еще сохранились кое-какие предания старины, некоторые общественные и религиозные обычаи, неизвестные в нашей северной столице. Вы встретите в ней оригиналов, которых, может быть, не увидите в Петербурге. Вам попадется иногда на Тверском бульваре отчаянный франт в таком фантастическом наряде, что вы невольно остановитесь. Вероятно, вы не увидите также на Невском проспекте какого-нибудь барина в уродливом картузе собственного изобретения, или в пальто, похожем на широкую юбку с рукавами, или в шляпе величиною с открытый зонтик. В Петербурге даже и в крещенские морозы все ходят в обыкновенных круглых шляпах, а в Москве зимою носят бобровые каскеты, эриванки и круглые шапки с кистями, похожие на греческие фески. Конечно, это несколько напоминает Азию, да зато голове тепло и уши не зябнут. Что ж делать, мы, москвичи, народ смирный, по большей части отставные, живем на покое — так где нам воевать с морозом. Теперь я спрошу всякого: неужели эти мелкие и ничтожные особенности что-нибудь значат? Неужели Москва не может быть таким же просвещенным городом, как и Петербург, потому только, что в ней побольше пестроты и разнообразия? Поверьте, не только Москва, но и провинции наши вовсе не походят на то, чем они были лет сорок тому назад. Тогда — о, тогда, конечно, московское общество отделялось резкими чертами от петербургского; но это время прошло и, вероятно, уж не воротится. Я давно живу на свете, так помню эту старину. Я не забыл еще того времени, когда существовало в Москве старое поколение коренных русских бояр, когда граф Ш***, граф Р***, князь Д***, граф О***, граф С*** и некоторые другие были по праву представителями московской аристократии. Все эти магнаты жили с необычайной роскошью, но эта роскошь была совершенно азиатская. Огромные дома, по большей части убранные без всякого вкуса, бесчисленное множество слуг, крепостные театры, доморощенные танцовщицы, домашние оркестры, ежедневные обеды, богатые не качеством, а количеством блюд, и балы, на которые съезжалась вся Москва. Многие из петербургских жителей думают, что этот образ жизни, но только в уменьшенном размере и, следовательно, лишенный даже своего восточного характера, и теперь еще не в диковинку у нас в Москве. Я могу уверить их, что они решительно ошибаются, и, чтоб дать понятие, — не им, а моим согражданам, — до какой степени в течение последних сорока лет изменились нравы и обычаи нашей Москвы, расскажу, что видел некогда собственными моими глазами, хотя уверен заранее, что этот рассказ примут многие за вымысел и только разве самые доверчивые скажут, покачивая головами: «Свежо предание, а верится с трудом».
Я воспитывался в Петербурге в Первом кадетском корпусе и знал Москву по одной только наслышке. Когда я был выпущен офицером, дальний мой родственник, генерал Д***, взял меня к себе в адъютанты. Он ввел меня в лучший круг петербургского общества. Я был хорош собою, ловок, танцевал прекрасно и болтал очень мило по-французски. Благодаря этим блестящим качествам я сделался в короткое время самым модным молодым человеком. В числе искренних моих приятелей был один природный москвич, Иван Андреевич Двинский. Отправляясь перед Рождеством на свою родину, он предложил мне ехать с ним вместе, провести в Москве Святки и посмотреть, как погуливают там наши старики.
— Эх, братец, — говорил он, — вы здесь не знаете, что такое веселье. Погляди-ка, любезный, как тешатся у нас в Москве. По два, по три бала в вечер, домашние театры, обеды, катанья; у Медокса в маскераде битком набито, в Благородном собрании давка; одним словом, такая гульба, братец, что когда придет великий пост, так все врастяжку лежат. Ну, конечно, ты не найдешь у нас такого утончения, таких парижских форм, такого приличия, какими щеголяют здесь. Может быть, кое-что покажется тебе и странным, да зато, любезный друг, мы в Москве и живем, и веселимся, и гуляем — всё нараспашку!
Увлеченный красноречием моего приятеля, я взял отпуск и отправился вместе с ним в Москву. Мы приехали на четвертые сутки довольно поздно вечером и остановились у родной тетки Двинского Марьи Степановны Заозерской, которая жила в своих наследственных деревянных хоромах на Чистых прудах. Я не знаю, что больше меня поразило, наружная ли форма этого дома, построенного в два этажа каким-то узким, но чрезвычайно длинным ящиком, или огромный двор, на котором наставлено было столько флигелей, клетушек, хлевушков, амбаров и кладовых, что мы въехали в него точно как будто в какую-нибудь деревню. В лакейской мы разбудили нашим приходом двух слуг, которые преспокойно почивали на деревянном конике; один из них был в поношенной ливрее, с напудренной головой, другой — в суконном сюртуке с оборванными петлицами. Спросонья они кинулись как шальные снимать с нас шубы, засуетились и уронили столик на трех ножках, на котором стояла шашечница и горела сальная свеча, воткнутая в бутылку. На этот шум вышел из столовой, и, к счастию, со свечкою, толстый старик в немецком кафтане и камзоле, с красной рожей, отвислым подбородком и огромным чревом: это был дворецкий Марьи Степановны.
— Батюшка Иван Андреевич! — вскричал он, увидев племянника своей барыни. — Милости просим!.. Пожалуйте ручку!
— Здравствуй, Трифон Семенович! — сказал Двинский. — Ну, что тетушка?
— Все слава богу!.. Уж мы вас, сударь, ждали, ждали!
— Что, тетушка дома?
— Как же, батюшка, дома-с! В боскетной… Пожалуйте!
Толстый Трифон Семенович пошел перед нами со свечою. Пройдя большую столовую и две гостиные, мы подошли к полурастворенным дверям освещенной комнаты. Дворецкий распахнул обе половинки дверей и проговорил торжественным голосом:
— Иван Андреевич, сударыня!
Вместе с этими словами поднялась ужасная кутерьма: тетушка — старушка лет шестидесяти пяти, в гродетуровом шлафроке и белом чепце, с радостным восклицанием вскочила с дивана. Весь двор ее пришел в движение: зеленый попугай засвистел, как соловей-разбойник, со всех сторон кинулись к нам под ноги с громким лаем три болонки, две моськи и одна поджарая английская собачонка.
Пожилая калмычка Федосья Тихоновна вскрикнула, молоденькая фаворитка Глашенька ахнула, а Михеич, безобразный карло с огромной головою, бросился унимать собачонок, из которых одна успела уже мне прокусить сапог.
— Друг мой, Ваничка! — говорила Марья Степановна, обнимая своего племянника. — Насилу ты приехал!.. А я уж думала, не случилось ли что с тобою?… Ах ты, мой душенька!.. Да ты, мне кажется, потолстел?… Право, потолстел!.. Ну, слава богу!.. Давно ли ты из Петербурга?… Говорят, дорога такая гибель, что не приведи господи!.. А ведь ты, я думаю, все скакал!.. Да что это у тебя нос-то?… Уж не отморозил ли?… Постой-ка!.. Нет, нет! обветрило только!.. Ах ты, мой сердечный!.. То-то, чай, умаялся!.. Глашенька, чаю!.. Проворней, проворней!.. Однако ж, Ваничка, послушайся меня: как ляжешь спать, натри себе нос гусиным салом. Феничка, приготовь ему!.. Право, я боюсь, — кажется, прихватило немножечко!.. Ах ты, мой милый друг!.. Ах ты, мой голубчик!..
Во все продолжение этой семейной сцены я играл довольно жалкую роль, казалось, никто не замечал моего присутствия; наконец Двинскому удалось промолвить словечко.
— Тетушка, — сказал он, — честь имею вам рекомендовать моего искреннего друга и сослуживца Богдана Ильича Бельского.
Я, как следует, подошел к руке.
— Ах, батюшка, — сказала Марья Степановна, целуя меня в щеку, — извините; я совсем обезумела от радости!..
— Я уговорил его приехать со мной в Москву, — продолжал Двинский, — и надеюсь, тетушка, вы не позволите ему жить нигде, кроме вашего дома.
— Разумеется!.. Очень рада, Богдан Ильич!.. Будьте здесь, как у себя… Все друзья моего Ванички мне свои.
— Но мне, право, совестно… — проговорил я.
— Что вы, что вы?… Да неужели я допущу вас жить в каком-нибудь трактире? Нет, батюшка, этого в Москве не водится… Может быть, у вас в Петербурге… А мы живем по старине! Милости просим гостить у меня, хоть вплоть до самой весны… Чем дольше, тем лучше!.. Феничка, займись-ка, матушка, вели прибрать зеленую да голубую комнаты!.. Да скажи Трифону, чтоб он поторопился ужином…
— Позвольте нам не ужинать, — сказал Двинский.
— Не ужинать? Что ты, мой друг! Может быть, у вас в Петербурге не ужинают — по-иностранному, а мы люди русские, мы всегда ужинаем.
— Да мы сейчас будем пить чай, тетушка.
— Чай чаем, батюшка, а ужин ужином. Да что это мы стоим?… Богдан Ильич, прошу покорно! Садись, Ваничка!
Мы сели; и вот тетушка принялась рассказывать племяннику разные семейные и городские новости: как двоюродный братец Степан Степанович женился на Анне Дмитриевне Фурсиковой; как дядюшка Иван Николаевич отказал полковнику Бирюлькину, который вздумал посвататься за его старшую дочь Агаточку; как две недели тому назад в маскераде у Медокса одна тульская помещица разрешилась от бремени; как на последнем бале у графа О*** княжна Филанцета Димитриевна поссорилась с княжной Ариной Михайловной за то, что та перебила у нее пару в длинном польском; как Аграфена Тихоновна подымала Иверскую божию матерь по случаю тяжкой болезни своего мужа, которому благодаря бога теперь гораздо лучше; как Иван Павлович третьего дня завел ужасную историю в Благородном собрании и вызывал на дуэль Алексея Степановича, который был во второй паре и, не спросясь у него, переменил фигуру в экоссезе, и как Настасья Прохоровна отказала от дому князю Башлыкову за то, что он не приехал сам, а прислал человека поздравить ее с днем ангела. Этот длинный монолог продолжался до самого ужина, после которого мы отправились в отведенные нам комнаты, разделись и, утонув в огромных пуховиках, заснули как убитые.
На другой день поутру Двинский поехал делать визиты, а я отправился смотреть Москву. Я воротился домой ровно в два часа и, к крайнему моему удивлению, узнал, что меня давно уже дожидаются к обеду. За столом Двинский объявил мне, что я буду вечером на двух балах: во-первых, у Катерины Львовны Завулоновой, а потом у графа О***.
— У Катерины Львовны немножко тесненько, — сказал мой приятель, — домик небольшой; но она такая милая, умная женщина! Вся Москва ее любит и уважает. У нее чрезвычайно обширное знакомство, и хотя она сама принадлежит к лучшему здешнему кругу, но ты встретишь у нее образчики почти всех здешних обществ. Мы поедем к ней часу в восьмом, пробудем до девятого и отправимся к графу; там ты увидишь всю московскую аристократию. Сам хозяин в мундире и во всех орденах, разумеется, и все гости также в мундирах; однако ж это нимало не мешает веселиться не только молодым, но даже и весьма пожилым людям, из которых многие так-то выплясывают матрадуры да экоссезы, что любо-дорого посмотреть. Вот припомни мои слова: когда станут танцевать алагрек, так в первой паре непременно будет кавалер в ленте и звезде. Нет, мой друг, у нас в Москве не то, что у вас: у нас старики подают пример молодым, как веселиться. Да зато уж мы и веселимся не по-вашему.
— Правда! — промолвила тетушка. — В Москве как начнут веселиться, так некогда и лба перекрестить! А коли придет желание богу помолиться, так наша матушка Москва и на это хороша. Святой город, батюшка!.. Была бы только охота, а то и в Киев незачем ехать.
Мы отправились с Двинским ровно в семь часов и приехали почти в половине восьмого к Катерине Львовне Завулоновой. Мы сбросили наши шинели в передней и продрались кой-как сквозь толпу лакеев, из которых иные были навьючены, как верблюды, салопами и шубами своих господ. В небольшой зале, освещенной сальными свечами, танцевали круглый польский. С величайшим трудом пробираясь подле самой стенки, дошли мы наконец до хозяйки дома. Двинский меня представил. Катерина Львовна наговорила мне тьму приятных вещей и, надобно сказать правду, в несколько минут очаровала меня совершенно своей любезностью и милым обращением. Между тем польский кончился и музыканты заиграли экоссез; прежде чем мы с Двинским отыскали себе танцовщиц, во всю длину залы вытянулись уже два фронта, один из кавалеров, а другой из дам, и нам решительно негде было приютиться. В эту самую минуту подбежал к хозяйке довольно рослый горбун в полосатом сюртуке.
— Катерина Лимоновна, — сказал он, — Катерина Лимоновна, посмотри, как я отхватываю лакесею!
И с этим словом, припевая под музыку какие-то не слишком пристойные рифмы, он ворвался в средину экоссеза и пустился догонять вприсядку первую пару, которая сходила вниз.
— Что это, братец, такое? — сказал я, не веря глазам своим.
— Это Федька Горбун, — отвечал весьма хладнокровно Двинский. — Он один из самых знаменитых московских дураков — преумная бестия!.. Однако здесь становится очень душно; пойдем в другие комнаты.
Мы вошли в первую гостиную, в которой было так же тесно, потому что столах на пяти играли в бостон. Подле одного из играющих, толстого барина с владимирским крестом на шее, стояла дама лет тридцати, одетая не только без всяких претензий, но даже с каким-то неряшеством. В ее грубом и мужиковатом голосе не было ничего женского, точно так же, как и в продолговатом лице, которого резкие черты выражали, однако ж, какое-то добродушие. В ту минуту, как мы вошли в гостиную, она говорила толстому барину:
— Врешь, врешь, князь, давай синенькую!
— Да у меня, кажется, нет мелких, — проговорил толстый барин, раскрывая нехотя свой бумажник.
— Все равно, я сдам!.. Да вот синенькая, давай ее, давай!.. А, Иван Андреевич! — продолжала она, увидев Двинского. — Какими судьбами?
— Вчера приехал из Петербурга, — отвечал мой приятель, поцеловав с большим почтением ее вовсе не прелестную ручку.
— Полно, полно врать: чай, недели две живешь в Москве, а ко мне глаз не покажешь! Хорош, батюшка, очень хорош!
— Право, я вчера только приехал; спросите у тетушки.
— Ну, добро, добро! Бог тебя простит!.. Давай синенькую!.. Для бедной вдовы… пятеро детей… есть нечего; жалость такая, что не приведи господи!
— Позвольте уж мне предложить вам десять рублей, — сказал Двинский, подавая ей красную ассигнацию.
— Спасибо, мой отец, спасибо! — проговорила барыня, поклонясь в пояс Двинскому. — Вот это бог тебе зачтет! Это уж, батюшка, истинно добровольное подаяние!
«Да, — подумал я, — по русской пословице: добровольно, наступя на горло».
— Э, — вскричала барыня, — да вон, кажется, Ведеркин!.. С него можно и беленькую слупить — откупщик! Чай, так-то разбавляет свое вино водицею!.. Прокофий Сергеич!.. Прокофий Сергеич!..
Но догадливый откупщик как будто бы не слышал и спешил продраться в залу, чтоб как-нибудь улизнуть от этой сборщицы добровольных подаяний. Она пустилась за ним в погоню, а мы пошли далее.
— Что это за строгая барыня? — спросил я у Двинского.
— Это очень известная дама, Настасья Парменовна Нахрапкина; ее знает вся Москва.
— Ну, мой друг, если у вас много таких дам…
— А что? Тебе не нравится ее слишком простодушный тон?… Да на это никто не обращает внимания, все к этому привыкли. Конечно, она походит несколько на переодетого мужчину, не слишком вежлива и коли примется кого-нибудь отрабатывать, так я тебе скажу!.. Но, несмотря на это, женщина предобрая и, если надобно бедному помочь или оказать услугу кому бы то ни было, знакомому или незнакомому, всегда первая.
Пройдя вторую гостиную, мы остановились в дверях небольшого покоя, который, вероятно, по случаю бала превратился из спальни в приемную комнату. Посреди этой комнаты стоял длинный стол, покрытый разными галантерейными вещами. Золотые колечки, сережки, запонки, цепочки, булавочки и всякие другие блестящие безделушки разложены были весьма красиво во всю длину стола, покрытого красным сукном. За столом сидел старик с напудренной головою, в черном фраке и шитом разными шелками атласном камзоле. Наружность этого старика была весьма приятная, и, судя по его благородной и даже несколько аристократической физиономии, трудно было отгадать, каким образом он мог попасть за этот прилавок. Да, прилавок, потому что он продал при нас двум дамам, одной — золотое колечко с бирюзою, а другой — небольшое черепаховое опахало с золотой насечкой; третья, барышня лет семнадцати, подошла к этому прилавку, вынула из ушей свои сережки и сказала:
— Вот возьмите! Маменька позволила мне променять мои серьги. Только, воля ваша, вы много взяли придачи — право, десять рублей много!
— Ну, вот еще много! — прервал купец. — Да твои-то сережки и пяти рублей не стоят.
— Ах, что вы, князь! — возразила барышня. — Да я за них двадцать пять рублей заплатила.
— Князь! — повторил я шепотом.
— Да, Богдан Ильич, — сказал мне на ухо Двинский. — Это отставной бригадир князь Н***. Он промотал четыре тысячи душ наследственного именья и теперь видишь чем промышляет. Ты будешь часто встречать его сиятельство с этим же самым подвижным магазином; с некоторого времени он сделался почти необходимой принадлежностью всех балов.
— Ну, какие я вижу у вас чудеса!
— И, мой друг, да это что еще! Посмотрел бы ты наши гулянья, а особливо лет десять тому назад. Этот бедный князь торгует поневоле, а там по собственной охоте выкидывают иногда такие балаганные штуки, что глазам своим не веришь. Вот, например, известный богач Д*** выехал однажды в таком экипаже, что уж подлинно ни пером описать, ни в сказке рассказать, — все наперекор симметрии и здравому смыслу: на запятках трехаршинный гайдук и карлица, на козлах кучером мальчишка лет десяти, а форейтором старик с седой бородой; левая коренная с верблюда, правая с мышь. Другой барин не покажется на гулянье иначе, как верхом, с огромной пенковой трубкой, а за ним целый поезд конюхов с заводскими лошадьми, покрытыми персидскими коврами и цветными попонами. Третий не хочет ничего делать, как люди: зимою ездит на колесах, а летом на полозках; четвертый… Да где перечесть всех наших московских затейников. Воля, братец!.. Народ богатый, отставной; что пришло в голову, то и делает. Но вот, кажется, первый экоссез кончился; пойдем скорей ангажировать дам на второй. Через полчаса нам должно ехать, так третьего не дождемся; а ведь, право, неловко, если ты для первого раза вовсе танцевать не станешь.
Мы пошли опять в залу, протанцевали один экоссез, потом отправились втихомолку и через четверть часа попали в «веревку», то есть в длинный ряд экипажей, который начинался за полверсты от дома графа О***. Вот наконец дошла и до нас очередь. Я воображал, что увижу огромные каменные палаты, а вместо этого мы подъехали к большому деревянному дому вовсе не красивой наружности. Внутренность его также не ослепила меня своим великолепием. Конечно, комнаты были просторны и отделаны богаче, чем в доме Катерины Львовны Завулоновой, но зато они почти все были обезображены огромными изразцовыми печами самой старинной и неуклюжей формы. Бесчисленное множество слуг, и богато и бедно одетых, рассыпано было по всему дому. В танцевальной зале, также не очень великолепной, но довольно обширной, гремела музыка. Мы нашли в этой зале почти всех гостей и самого хозяина, который в полном мундире и во всех орденах своих сидел посреди первых сановников и почетных московских дам. Этот аристократический круг, эти кавалерственные дамы и седые старики в лентах и звездах, эта толпа молодых людей, которые, все без исключения, были в мундирах, — все это вместе придавало какой-то важный и торжественный вид балу, который во всех других отношениях, конечно, не мог бы назваться блестящим. Двинский подвел меня к хозяину; он обошелся со мной очень просто, но с большой ласкою и радушием; просил веселиться, танцевать и ездить к нему без всякого зова по всем понедельникам. Чтобы не ввести в слово моего приятеля, который рекомендовал меня отличным дансёром всем своим кузинам, а их было у него с полсотни, я принялся прыгать с таким усердием, что под конец совсем выбился из сил. После ужина, который, если сказать правду, отличался только великолепным серебряным сервизом да полнотой и обилием блюд, музыка опять заиграла, и начался бесконечный алагрек. Я не участвовал в этом последнем танце и присел отдохнуть недалеко от хозяина. Вот проходит полчаса, алагрек все продолжается; одна фигура сменяет другую, и кавалер первой пары, несмотря на то, что ему гораздо за пятьдесят, кажется, решительно не знает усталости; вот он начинает пространную фигуру, что-то похожее на хороводную потеху «Заплетися, плетень», — все пары перепутываются, подымаются суматоха, хохот, беготня — и что ж?… В самую минуту этого танцевального разгула вдруг хозяин привстал и закричал громовым голосом: «Гераус!», то есть: «Вон!» Музыка остановилась, кавалеры раскланялись с дамами, и в две минуты во всей зале не осталось ни одного гостя. Я. до того был поражен таким неожиданным заключением бала, что не вдруг опомнился, вышел из залы последний и с трудом отыскал Двинского в толпе гостей, которые теснились в официантской комнате и передней.
— Что это, братец? — сказал я. — Так этак-то у вас провожают гостей?… Ну!!! Двинский улыбнулся.
— Надеюсь, — продолжал я, — в следующий понедельник хозяину угощать будет некого.
— Право? — сказал Двинский. — Не хочешь ли побиться об заклад, что все гости, которых ты видел сегодня, приедут опять сюда на будущей неделе?
— Как? После такой обиды? Двинский засмеялся.
— Обиды! — повторил он. — Ох вы, петербургские! Да чем тут обижаться? Все знают, что добрый хозяин рад своим гостям, а это уж у него такая привычка: у него почти все балы так оканчиваются; иногда он закричит «гераус», а в другое время протрубит на валторне, что также значит «ступайте вон». Я уверяю тебя, что за это на него никто не сердится.
— Не может быть!
— Да посмотри вокруг себя: ну, видишь ли ты хотя одно недовольное лицо?
В самом деле, ни на одном лице незаметно было не только досады, но даже удивления; все казались и веселы и спокойны, как будто бы не случилось ничего необыкновенного. Меж тем закричали нашу карету, мы сбежали с лестницы, сели и отправились домой.
Вот, любезные читатели, самый верный очерк двух московских балов, на которых я танцевал тому назад с лишком сорок лет. Хотя в этом рассказе я не позволил себе ни малейшего отступления от истины, хотя в нем все от первого до последнего слова совершенная правда, но эта правда так походит на вымысел, что я вовсе не удивлюсь, если никто из нового поколения московских жителей не даст веры моим словам. Не странно ли после этого встречать людей, которые воображают, что Москва до сих пор еще сохранила эти простодушные нравы, невежественные причуды и безвкусную роскошь, которые, с примесью какого-то собственного московского европеизма, составляли некогда отличительные черты ее прежней, хотя не очень красивой, но зато решительно самобытной физиономии.
VII Московские балы нашего времени
…Толпа мазуркой занята;
Кругом и шум и теснота;
Бренчат кавалергардов шпоры;
Летают ножки милых дам…
А. ПушкинАх какой я был охотник в старину до балов, как любил танцевать до упаду! Сначала для того только, чтоб танцевать, а потом для того, чтоб танцевать или, лучше сказать, разговаривать свободно с той, с которой я не мог иначе говорить, как в присутствии строгой и подозрительной маменьки; а эти маменьки — избави господи!.. Они взвешивают каждое ваше слово, готовы ко всему придраться, перетолковать все по-своему и, смотря по обстоятельствам, или включить вас в число женихов своей дочери, или запереть от вас двери своего дома. Я помню, бывало, как мне не посидится на одном месте, как бьет меня лихорадка, как нетерпение мое превращается в совершенную тоску, когда, окончив мой туалет, я ожидаю блаженной минуты, в которую мне можно будет отправиться на бал. Часы нейдут, время не двигается. «Боже мой, — думаю я, бывало, — да что ж это за бесконечный вечер?… Вон уже фонари, кажется, тухнут по улицам, а все еще восьмой час в начале!..» И вот наконец бьет половина девятого. Я бросаюсь в карету, скачу… Дом освещен, но у подъезда всего-навсе только два или три экипажа… Что за дело! Пусть зовут меня провинциалом… Вхожу… Хозяин рассыпается в похвалах моей аккуратности: я приехал ровно в назначенный час. Вот начинают съезжаться; в гостиных становится тесно… Вот гремит неизбежный на всех балах польский: «Гром победы раздавайся!» Танцевальная зала наполняется гостями; старики подымают почетных дам, молодежь спешит вслед за ними; я один не танцую… И до того ли мне? Скоро десять часов, а ее нет как нет!.. Уж будет ли она?… О, непременно!.. А если не будет?… Мне кто-то сказывал, что маменька ее нездорова… сестра больна… старуха тетка приехала из Калуги… Да, кажется, на последнем бале у Горемыкина она долго дожидалась кареты… а у этого глупого полубоярина на лестнице холод, в сенях дует… Что, если она…
Боже мой!.. Вот двери из передней настежь… Сердце мое замирает… Она?… Нет, семейство Ковришкиных; маменька чуть дышит, дочери с огромными носами, у одной все лицо в веснушках… И охота же этим уродам ездить по балам!.. Чу!.. Один, два… восемь… десять часов… а ее все нет!.. О, она, верно, не будет!.. Вот опять отворяются двери… О, боже мой, несносный Фуфлыгин с своей седой головою, красными раздутыми щеками и с клеймом дурака на лбу!.. А вот и его супруга, эта полуфранцузская и полумордовская барыня, эта жеманная кривляка в пятьдесят лет!.. Ну, беда, — она меня увидела, идет ко мне!.. Эта старая кокетка вопьется в меня, как пиявка, начнет интересничать, мучить, пытать, тянуть из меня жилы!.. Скорей куда-нибудь… в дальнюю комнату!.. И вот я за полверсты от бальной залы, чуть слышу музыку, стою подле ломберного стола, смотрю, как играют в карты, не различаю мастей, ничего не вижу, ничего не слышу… Проходит несколько минут, я иду назад, шатаюсь из комнаты в комнату, нигде не найду места… О, боже мой, как скучно, как темно на этом бале!.. Какие у всех длинные лица!.. Как скверно играет музыка!.. Вдруг позади меня шорох. Я обертываюсь — она!.. О, как один этот взгляд, одна эта милая улыбка изменяет все в глазах моих!.. Этот бал прелесть!.. Как все вокруг меня светло, весело, живо!.. Я жму руку у Фуфлыгина, смеюсь его тупым остротам, говорю вежливости его супруге; огромные носы девиц Ковришкиных кажутся мне целым вершком короче; одним словом, я всем доволен, все мне нравится; я счастлив — я блаженствую… О молодость, молодость!.. Ты прошла, моя молодость, — да и бог с тобою!.. Пусть жалеют о тебе другие, а я вовсе не жалею. Подумаешь, что осталось от этих бурных дней моей юности, когда, томимый жаждою наслаждений, я искал их везде, — что осталось от них? Одно воспоминание о каких-то неполных, скоротечных радостях, о каком-то тревожном, лихорадочном состоянии души, что-то похожее на смутный сон, в котором существенное было только одно — пресыщение и тоска. «О чем?»- спросите вы. И сам не знаю, по крайней мере, не знал тогда. Я только чувствовал, что мне чего-то недоставало, что вся эта суета, все эти порывы страстей, эта минутная любовь, минутные друзья, минутные радости… Да что говорить об этом; я вижу, вы готовы уж перевернуть страницу, не читая. Но бойтесь, я не хочу вас делать участниками моих психологических размышлений, а поговорю с вами о бале, на котором, может быть, и вы были вместе со мною, если только вы бываете на балах.
Кто из постоянных московских жителей не знает или, по крайней мере, не слыхал об Андрее Николаевиче Радушине, который так счастливо соединяет в себе любезность и образованность нашего времени с русским хлебосольством и добродушием старинных московских бояр? Во всяком другом городе, разумеется исключая Петербурга, его роскошные обеды, блестящие балы и барское житье вошли бы в пословицу; но здесь, в нашей гостеприимной Москве, это вовсе не в диковинку; мы точно так же привыкли к великолепным пирам, как пригляделись к живописным видам, которыми так богата наша Белокаменная. Говорят, что у нас в старину живали еще веселее. Да, это правда! Мы все, теперешние старики, жили гораздо веселее прежде, да полно, не оттого ли, что были молоды? Впрочем, если эта веселость измеряется числом даваемых праздников и количеством тех, которые посещают эти праздники, то, конечно, в старину или больше веселились, или меньше занимались делом; вы можете из этих двух заключений выбрать любое.
В пригласительном билете на бал, который я получил от Андрея Николаевича Радушина, хозяин просил пожаловать к нему на бал и ужин в восемь часов пополудни. Это показалось бы мне довольно странным, когда бы я не знал, что Радушин хотел испытать, не съедутся ли к нему все гости часу в десятом, если он будет приглашать их в восемь. Я люблю сам делать разные опыты и, признаюсь, ожидал с нетерпением назначенного часа, чтоб посмотреть, как примет это нововведение московская публика и захочет ли она веселиться, не вредя своему здоровью и не утомляя бедного хозяина, которому после всех дневных и ночных хлопот, право, не мешало бы прилечь отдохнуть хотя в первом часу ночи. Я приехал к Радушину в половине девятого часа. Прекрасный дом его был освещен, как фонарь, у подъезда стояли жандармы, у дверей — швейцар, в сенях и по лестнице — лакеи в богатых ливреях, по всем комнатам — официанты, в обширной беломраморной зале музыканты настраивали свои инструменты, и во всем доме, кроме хозяина и его семейства, не было никого: я приехал первый. «Что делать, — подумал я, — времена переходчивы! В старину гости не только съезжались, но даже и уезжали по желанию хозяина, а теперь он просто не хозяин, а нижайший слуга тех, которым угодно к нему пожаловать, то есть должен за свою хлеб-соль покоряться безусловно их причудливой воле и модным капризам». Вот ровно в десять часов раздался второй звонок (первый раз прозвонили в колокольчик для меня); через несколько минут в приемной комнате, в которой помещался буфет, прошептали тоненьким голоском:
«Ах, maman, я вам говорила, что рано!» И несколько дам вошло в первую гостиную. Через четверть часа прозвенели в третий раз, вскоре затем — в четвертый, потом чаще, чаще — и вот звонок забил тревогу; гости начали входить толпами, и наконец часу в двенадцатом ночи загремела музыка. Люди нетанцующие составили партии; несколько стариков, по прежней привычке, засели в вист, а все другие принялись козырять в преферанс — эту бестолковую, но забавную игру, которая сбила с поля и затейливый бостон, и глубокомысленный вист и завладела, вероятно, надолго всеми ломберными столами Российской империи. Звонок продолжал до самой полуночи возвещать изредка о приезде новых гостей. Впрочем, по моему замечанию, эти запоздалые гости были почти все молодые люди, которые надеялись еще натанцеваться досыта. Один только господин пожилых лет приехал в двенадцать часов; но зато как же он был и наказан! Как не принятая Хароном тень на берегах Стикса, скитался он, бедняжка, из одной комнаты в другую. Тут играют, там играют, везде играют, а он лишь только смотрит!.. Долго следил я за этим сиротой: то присядет он, сердечный, к висту, то приютится к преферансу. Вот за одним столом партия кончилась, осталось разыграть пульку. Надежда ожила в сердце бесприютного горемыки. Играли втроем, следовательно, он мог как-нибудь пристать четвертым, и вдруг — о, небеса! — на пульку ставят ремиз… два ремиза… десять ремизов!.. Я взглянул на запоздалого гостя и ужаснулся: лицо его осунулось, помертвело, не походило даже на человеческое!.. Чтоб рассеять неприятное впечатление, произведенное во мне отчаянием этого господина, я отправился смотреть танцы. Залитая светом огромная зала была наполнена гостями. Две французские кадрили, обхваченные со всех сторон толпами зрителей, помещались на таких малых пространствах, что танцующие едва могли шевелиться, а к дамам, которые сидели вдоль стен, не было никакой возможности подойти. Я заметил наконец в одном углу порожний стул: нелегко было до него добраться, но мне как-то посчастливилось; я протеснился вслед за двумя дамами сквозь толпу, нашел этот благодатный стул еще не занятым и сел. Моими соседями были: с правой стороны — одетая сильфидою толстая барыня лет тридцати, а с левой — какой-то господин, который, вероятно, так же, как я, приехал на бал вовсе не для того, чтоб танцевать. Несмотря на его довольно свежее лицо и румяные щеки, нетрудно было отгадать, что он давно живет на свете; на нем был форменный камергерский фрак, сшитый не очень модно, однако ж и не по-стариковски. Мне с первого взгляда понравилась его открытая и веселая физиономия.
— Фу, какая духота! — прошептал этот господин, протирая свои золотые очки, которые запотели от жару.
— Да, кажется, в зале очень тесно, — сказал я.
— Ужасно! Впрочем, так и быть должно: что за бал, на котором и прохладно и просторно.
Я что-то ему отвечал, и вот мы, слово за слово, разговорились наконец как старинные знакомые.
— Позвольте вас спросить, — сказал я, — кто эта прекрасная брюнетка с огненными черными глазами, которая, проходя мимо нас, протянула вам свою руку?
— О, — отвечал мой сосед, — это одна из самых блестящих созвездий нашего общества. В Лондоне ее непременно назвали бы львицею, а мы, москвичи, просто зовем ее любезной, милой женщиной, которая умела без танцев и карт привлечь в свой дом все то, чем может похвастаться московское общество. Вы встретите в ее гостиной и наших вельмож, и литераторов, и художников и, конечно, по ее приему не отличите действительного тайного советника от какого-нибудь ученого профессора или поэта.
— Да кто же она? — спросил я.
Мой сосед назвал ее по имени, и тут я узнал, что эта блестящая дама — жена человека, которого уважает вся Москва и которого нельзя не любить всякому, кто любит ум, честь и истинное просвещение.
— Видите ли вы, — сказал мой сосед, — эту даму высокого роста в черном бархатном платье, вот направо, против самой люстры?…
— Какая прекрасная женщина! — вскричал я невольно.
— Какой ангел доброты, сказали бы вы, если б она была с вами знакома. Знаете ли, почему я хотел обратить ваше внимание на эту даму? Она может служить живым доказательством, что из всех известных средств, сохраняющих нашу телесную красоту, самое действительное и самое верное заключается в чистоте и спокойствии души нашей. Знаете ли, что этой даме, которая, вероятно, кажется вам моложе своей соседки, хотя она пятнадцатью годами ее старее, знаете ли, что ей, — страшно вымолвить, — с лишком сорок лет.
— Нет, вы шутите!
— Уверяю вас! Прибавьте к этому, что она в жизни своей натерпелась много горя, но она не знала никогда ни злобы, ни зависти; сердце ее не волновали бурные страсти; она умела только любить и прощать, и вот вы видите, как она до сих пор еще прекрасна. Как жаль, что к ней подсел этот господин, одетый по модному парижскому журналу. Бедненькая, он задушит ее своими пошлыми французскими фразами! Посмотрите, как он развалился, как всякое движение его, как этот надменный взгляд, эта обидная улыбка, как все в этом русском денди напрашивается на дерзость и вызывает грубость на язык того, кто имеет несчастье с ним разговаривать.
— А кто этот барин?
— Да как бы вам сказать?… Вы знаете, каких людей называли некогда на Руси баскаками?…
— Как же! Это были татарские сборщики податей.
— Ну да! То есть чиновные и знатные татары, которые приезжали в Россию, чтоб сбирать оброки с русских крестьян, давить своей гордостию русских бояр, говорить с презрением о земле русской и потом, собравши, а иногда и награбив кучу денег, отправляться с ними обратно на житье в свою орду. Ну, вот этот господин точно такой же баскак: он живет всегда за границею, каждые пять лет приезжает на короткое время в Россию, чтоб собрать все недоимки со своих десяти тысяч душ, посмеяться над русскими обычаями, поговорить о нашем варварстве и невежестве, изъявить свое душевное презрение к земле, которая его поит и кормит, и потом, накопив побольше денег, отправиться снова проживать их в свою орду — Париж.
— Да, вы правы! — сказал я. — Этот господин точно напоминает татарских баскаков, но, впрочем, он все-таки не татарин и, вероятно, хотя из приличия, скрывает истинные свои чувства.
— Скрывает?… Что вы?… Он хвастается ими. Конечно, ему не всегда проходит это даром. Вот и на этих днях, споря с одним умным и почтенным стариком, который доказывал ему, что мы, русские, точно так же, как и все другие народы, созданы по образу и подобию божьему, он вошел в такой азарт, что сказал при всех: «Вы можете защищать, как хотите, вашу Россию, а я вовсе не патриот и говорю решительно: я жалею, что я русский». — «И все русские также об этом жалеют», — сказал весьма хладнокровно старик, оборотясь к нему спиною.
Тут две дамы, проходя мимо моего соседа, кивнули ему ласково головами.
— Вот, — сказал он, — я желал бы, чтоб этот полуфранцуз, о котором мы сейчас говорили, показал мне двух парижанок, которые были бы милее, просвещеннее и любезнее этих двух русских барынь. Как я люблю видеть их вместе! Вот эта, у которой белоснежное лицо, округленное руками самих граций, так привлекательно, так мило, у которой глаза, не черные, не голубые, а просто прекрасные глаза, кипят таким чувством и жизнию, — побеседуйте с нею, поговорите о чем вам угодно, и я уверен, что в два или три часа, которые покажутся вам несколькими минутами, она успеет совершенно обворожить вас своим умом, любезностию и заставит от души пожалеть о том, что вы не были с нею знакомы прежде. Другая дама, в лице которой вы можете заметить какую-то задумчивость, которая придает такую необычайную прелесть ее очаровательной улыбке, постарее годами, но она сохранила вполне эту мечтательность, эту живость ума и милую простоту, которые так часто гибнут вместе с нашей молодостью. Чтоб получить ясное понятие о тех женщинах, которые царствовали в аристократических гостиных Парижа, надобно видеть эту русскую барыню, когда она принимает гостей в своем роскошном доме. С каким тактом, или, говоря по-русски, с какою сметливостью, обходится она с каждым из своих гостей, как умеет самого неловкого и застенчивого провинциала сделать в несколько минут не только развязным, но почти любезным и как чересчур свободный щеголь становится в ее доме приличным, вежливым и скромным. Она несколько раз была за границею, объехала почти всю Европу и не вздыхает о том, что живет в Москве. У нее друзей немного, но если кто имел счастье попасть в число этих избранных, тот может смело быть уверен, что прекращение этой дружеской связи не зависит от какой-нибудь минутной прихоти или женского каприза; в этом случае она вовсе не женщина.
— А, здравствуй, mon cher! — сказал, подойдя к моему соседу, смуглый мужчина, лет сорока пяти, приятной наружности и довольно видный собой.
— Ба, ба, ба! — вскричал мой словоохотливый камергер. — Разгуляев! Ты в Москве?
— Пятый день, мой друг.
— Как это ты решился приехать на бал?
— И сам не знаю! Да зато сейчас еду: надобно выспаться, я завтра рано поутру отправляюсь.
— В Петербург?
— Разумеется!.. А, да кстати: на будущей неделе в воскресенье я обедаю дома ровно в три часа, — не забудь, мой друг! Прощай!
— Что это за господин такой? — спросил я камергера. — Что он, служит при почтамте, что ль?
— Нет, он нигде не служит. Славный малый, хороший приятель, человек умный, любезный и сверх того большой путешественник.
— Право?
— Пренеутомимый! Беспрерывно в дороге.
— Что он, путешествует по одной Европе?
— Да, по одной Европе: из Москвы в Петербург, а из Петербурга в Москву; и надобно отдать ему справедливость, в этом отношении он истинно русский человек: ему семьсот верст нипочем. Сегодня он угощает вас обедом в своем московском доме, а через три дня сам обедает в Петербурге у кого-нибудь из своих приятелей; потом через неделю приедет к нам в Москву напиться чаю, и дней через пять после этого вы легко можете его увидеть в петербургском театре, а особенно если дают в первый раз новую оперу или балет.
— Вот странная охота, — сказал я, — ездить так часто по этой скучной Петербургской дороге!
— Странного тут ничего нет, — прервал с улыбкой мой сосед. — Один путешествует для того, чтоб видеть новые предметы, другой потому только, что любит быть в дороге. Мой приятель принадлежит к этому последнему разряду путешественников, а так как Петербургское шоссе едва ли не лучшее во всей Европе, так он круглый год по нему и катается… Однако ж, — продолжал мой сосед, обтирая платком свой лоб, — здесь становится уж слишком жарко. Не знаю, как вы, а я выпил бы охотно стакан лимонада.
— И я от этого не прочь.
— Так пойдем в буфет, — сказал камергер, вставая, — пойдем скорей, — повторил он, схватив меня за руку, — к нам идет одна дама, от которой я готов убежать на край света.
— Что ж это за страшная барыня такая?
— Она очень добрая женщина, но так раздушена этим гнусным пачули, что от нее пахнет за версту аптекой!.. И как могла быть мода на эти отвратительные духи?… Какой-то запах камфоры, проникнутый мускусом… Фуй, мерзость какая!
Я засмеялся.
— Вам смешно, — продолжал камергер, — что я говорю с таким жаром о каких-нибудь духах. Да у меня личная к ним ненависть; я не могу хладнокровно говорить об этой заразе — да, заразе! Человек, раздушенный этой гадостью, походит на чуму; он заражает все своим прикосновением; ему стоит только пожать вашу руку, и вы на целый день получите запах египетской мумии.
Мы вошли в буфет, то есть в столовую комнату, обставленную кругом прилавками, на которых в хрустальных чашах лежали грудами плоды и конфекты; в граненых разноцветных графинах стояли освежительные напитки и кипела вода в серебряном самоваре. В этой комнате было также довольно тесно. Пока мы дожидались нашей очереди, чтоб напиться лимонаду, один приземистый барин успел пропустить в себя пять чашек чаю и проглотить с полдюжины сдобных булочек, но, по крайней мере, он ничем не запасался, а в двух шагах от него какая-то пожилая барыня преспокойно набивала конфектами свой огромный ридикюль, который начинал уже принимать форму довольно увесистого кулька. Признаюсь, я очень обрадовался, когда заметил по выговору этой запасливой дамы, что она хотя и барыня, да только не русская. Меж тем камергер, напившись лимонаду, вступил в разговор с тремя господами, из которых один, судя по его речам, был петербургский житель, а двое других природные москвичи. Дело шло о бале, то есть эти господа, наперерыв один перед другим, критиковали всё.
— Какой это бал! — говорил один из москвичей. — Это базар! Здесь недостает только гостинодворцев с бородами.
— Да! — подхватил другой москвич. — Что за народ! С какой площади хозяин нахватал этих гостей? Я, конечно, видел до пятидесяти лиц, с которыми встречаюсь в первый раз отроду.
— Но, вероятно, вы также встретили здесь и всех ваших знакомых? — сказал камергер.
— Да, конечно; но я желал бы…
— Чтоб хозяин пригласил к себе на бал только тех, которые имеют честь быть с вами знакомы?
— Я не говорю этого, но согласитесь, однако ж, что если б выбор гостей был несколько построже…
— Так их было бы гораздо меньше, — прервал камергер, — и, может быть, вы первые тогда бы сказали, что бал был скучен, вовсе не оживлен, что танцевать было некому, что в зале мерзла вода, а в гостиных надобно было сидеть в шубах.
— Почему вы думаете, что я сказал бы это?
— Не вы, так другой. Что ж делать: мы все любим осуждать, — уж такова натура человеческая вообще, а московская в особенности.
— Я в этом случае, — сказал петербургский житель, — вовсе не судья; я человек приезжий и почти никого здесь не знаю, но если смею заметить, так мне кажется, туалет московских дам…
— Хуже петербургских? — прервал камергер. — Вот это я очень часто слышу и, признаюсь, никак не могу отгадать причины этой разницы. Кажется, моды здесь те же самые, большая часть наших московских барынь бывают часто в Петербурге и за границею, модные торговки у нас также все француженки, так отчего бы кажется?… Уж не климат ли этому причиною?…
Петербургский житель улыбнулся и хотел что-то сказать, как вдруг подошел к разговаривающим молодой человек, причесанный а-ля мужик, в широкополом фраке, который с первого взгляда походил на распахнутый сюртук, в бледно-палевых перчатках и щегольских сапогах из лакированной кожи.
— Знаете ли, господа, — сказал он, — что делается на дворе?
— А что такое? — спросил один из москвичей. — Уж не метель ли?
— Не может быть, — сказал другой москвич, — теперь градусов двадцать морозу, а при таком холоде метели не бывает.
— Совсем не то! — продолжал щеголь. — Наши кучера точно так же пируют на дворе, как мы веселимся здесь.
— Наши кучера?
— Да! Их поят сбитнем.
— Неужели? — вскричал один москвич.
— Diable! — прошептал петербургский житель. — Comme c'est Moscovite!
— Да нет, ты шутишь! — сказал другой москвич.
— Да, да! Уверяю вас, их поят сбитнем и кормят калачами.
Москвичи и петербургский житель засмеялись.
— А позвольте вас спросить, господа, — сказал камергер, — что тут смешного? Вместо того, чтоб смеяться, вам бы должно было сказать спасибо доброму хозяину за то, что он, угощая вас, позаботился и о том, чтоб кучера ваши, которые дрогнут всю ночь на морозе, посогрелись и отвели чем-нибудь свою душу. Неужели просвещенье и хороший тон требуют непременно, чтоб эти невольные участники ваших ночных забав не имели никакой отрады? Неужели радушный хозяин, который хочет, чтоб не только господа, но и слуги их остались довольны его угощением, должен казаться вам смешным потому только, что это не водится ни в Париже, ни в Лондоне?… Эх, господа, господа! Перенимайте себе что хотите у иностранцев, обедайте в семь часов, приезжайте на балы в двенадцать, одевайте жен и дочерей ваших в газовые платья, тогда как в сенях, в которых они дожидаются своих экипажей, бывает подчас десять градусов морозу; одним словом, делайте все, что вам угодно, только оставьте в покое тех, которые не хотят еще, ради европейства, покинуть вовсе гостеприимные обычаи своих предков. Ведь уж этих чудаков осталось немного, — подождите, они скоро все переведутся. Еще годков десять или двадцать, и мы будем знать только по преданию, что русские были когда-то большими хлебосолами и славились своим роскошным гостеприимством.
— Ну, в этом я с вами не соглашусь, — сказал щеголь с насмешливой улыбкой. — Я думаю, вы знаете, что гостеприимство есть добродетель всех непросвещенных и варварских пародов; следовательно, мы еще очень долго, а может быть и навсегда, останемся гостеприимными.
Хотел бы я очень, — только никак не могу, — описать вам, хотя приблизительно, этот взгляд, исполненный глубочайшего презрения, которым отвечал мой бывший сосед на эту нелепую фразу московского европейца.
— А вот, кажется, и мазурка! — вскричал франт. Он кинулся опрометью в залу, москвичи и петербургский житель отправились вслед за ним, и через несколько минут в буфете не осталось никого, кроме меня, камергера и той самой барыни, которая запасалась на всю зиму конфектами; только, видно, она успела найти где-нибудь складочное место, потому что ридикюль ее показался мне порожним.
Часу во втором ночи гости стали понемногу разъезжаться, но большая часть, а в том числе и я, остались ужинать. Стол был прекрасный, вина также. «Ну, — думал я, отправляясь домой, — недешево стал этот праздник Радушину! И если не все довольны его балом, так уж, верно, все скажут ему спасибо за ужин». Размышляя таким образом, я сошел потихоньку с лестницы, послал моего слугу отыскать карету, а сам, накинув шубу, остался в сенях. Передо мной стояли два господина: один — человек нестарый, высокого роста и очень толстый; другой — пожилых лет, худощавый и весьма невзрачный собою. Они разговаривали вполголоса.
— Ну, что, mon cher, — говорил худощавый, — что ты скажешь об ужине?
— Да что, братец, — отвечал толстый, — так! Майонезы были порядочные, дичь плохо изжарена, а осетрина… избави господи!
— Да, это правда: осетрина и дурно сварена, и без толку приправлена. Впрочем, кушанье и туда и сюда, блюда два-три было порядочных; но вино, mon cher, срам! Плохонькое марго, дюжинный сотерн; а шампанское!.. фу, дрянь какая, — рублей по осьми бутылка!
Тут возглас жандарма, который прокричал мою фамилию, помешал мне дослушать разговор этих господ; я сел в карету и отправился. Дорогою, размышляя о всем том, что видел и слышал на этом бале, я вспомнил мой разговор с татарским мурзою Алтын-беем, с которым три года тому назад познакомился в Касимове. Этот татарин был родом из Самарканда, человек неглупый, и хотя он провел большую часть своей жизни на Востоке, однако ж понимал и говорил весьма порядочно по-русски. Он очень любил со мною беседовать о наших столичных обычаях, и вот слово от слова один из этих разговоров.
— А что, бачка, хочу я у тебя спрашивать, — сказал однажды Алтын-бей, поглаживая свою густую черную бороду, — что такая балам?
— Балам?… То есть бал? — спросил я.
— Да, бачка, — балам.
— А вот что, Алтын-бей: какой-нибудь богатый барин или барыня выберет один вечер, осветит свой дом, наймет музыку, наготовит всякого кушанья, различных напитков и позовет своих знакомых — обыкновенно в девять или десять часов; они съедутся около полуночи…
— Ай, ай, ай, бачка! Зачем так поздна?
— Так уж водится. Одни гости сядут играть в карты, другие начнут танцевать, а третьи не делают ничего: ходят только взад и вперед по комнатам, кушают конфекты, всякие плоды, пьют разные прохладительные напитки и разговаривают меж собою.
— Так, бачка, так!.. Ну а хозяина что?
— Хозяин всех принимает, хлопочет о том, чтоб все были заняты, чтоб всего было довольно…
— Так, бачка, так! Ну, хозяина много работа!
— Да, конечно, хозяину и хозяйке хлопот довольно. Вот как натанцуются, наиграются и наговорятся досыта, сядут все ужинать, а там перед рассветом начнут разъезжаться; а как все разъедутся, так хозяева лягут спать. Вот что, Алтын-бей, называется балом.
— Так, бачка, так! Ну, эта балам хорош!.. А что, хозяина многа деньга тратил?
— Каков бал; иному хозяину бал стоит несколько тысяч рублей…
— Ай, бачка, многа деньга!
— Зато уж бал бывает хорош.
— Правда, бачка, правда!.. То-та, чай, вся гость дает большая поклон хозяина.
— Нет, любезный, плохо кланяются; напротив, почти всегда осуждают хозяина; на всех не угодишь: одному то не нравится, другому другое, а если в самом деле что-нибудь не так-то хорошо: музыка попадется дурная или дом худо освещен, — так распозорят хозяина на чем свет стоит.
— Ай, ай, ай!.. Да зачем же хозяина и балам дает? Да что им, бачка, за охота за свои деньга лиха покупать?
— Ну, уж на этот вопрос, Алтын-бей, и я тебе ответа дать не могу; спроси у них.
VIII Сцены из домашней и общественной московской жизни Сцена 2-я. Живописец
О женщины, могу признаться,
Что вы гораздо нас хитрей.
И. И. ДмитриевВ одном из кривых переулков, выходящих на Басманную улицу, в глубине обширного двора подымается выше всех соседних деревянных домиков двухэтажный каменный дом, обставленный, как и все барские дома, службами и флигелями. Басманная улица, некогда знаменитая, а теперь покинутая всеми московскими боярами, которых огромные палаты или стоят пустые, или давно уже перешли в руки богатых купцов, может быть причислена к самым отдаленным и спокойным частям города; следовательно, переулок, в котором находится этот каменный дом, принадлежащий действительной статской советнице Анне Ивановне Чокиной, вовсе не может назваться шумным; изредка только проедут по нем с обычным своим звоном и дребезжаньем ободранные дрожки какого-нибудь ванъки, прокатятся тяжелые роспуски ломового извозчика, пролетит на щеголеватом калибере купеческий сынок, и редко, очень редко прогремит по бойкой мостовой карета. Кой-когда пронесется по воздуху однообразный напев: «А дыни, мелоны!.. Вот садовая вишенья!» Или раздастся грозный голос хожалого, который щуняет дворника за то, что у него не подметен тротуар, или какой-нибудь замысловатый пьяница, которого два будочника тащут под руки, затянет охриплым голосом: «Мчится тройка удалая!» Одним словом, кроме самых редких и необычайных случаев, спокойствие и тишина, которыми наслаждаются жители этого переулка, не нарушаются ничем. Анна Ивановна Чокина — самая чиновная обывательница и почетная прихожанка в своем квартале и приходе. Она бездетная вдова; ей шестьдесят лет от роду; из этих шестидесяти лет пятьдесят девять она прожила безвыездно в Москве, а один год в своей владимирской деревне, да и то потому только, что в 1812 году ее выгнали из Москвы французы, которым она и до сих пор этого простить не может. Анна Ивановна занимает верхний этаж своего дома, а нижний, разделенный на две половины, ходит внаймах, так же как и два флигеля, из которых в одном живет булочник и помещается мелочная лавочка, а к другому прибита вывеска со следующею надписью: «Гребенное изделие и разные другие токарные производства». Не подумайте, однако ж, что Анна Ивановна пускает в свой дом жильцов по необходимости. О нет!.. У нее полторы тысячи душ крестьян и тысяч триста лежит в Опекунском совете; нельзя также сказать, чтоб она была скупа или слишком привязана к интересу, а меж тем всякий раз, когда жилые комнаты в ее доме или флигелях стоят порожними, она очень сокрушается, и вы никак не отгадаете отчего. Анна Ивановна — женщина властолюбивая: ей чрезвычайно приятно окружать себя людьми, которых благосостояние более или менее зависит от ее воли, то есть которым она может предписывать законы, оказывать милости, делать при случае выговоры, замечания, одним словом, иметь их под своим домашним полицейским надзором и управлением. Анна Ивановна говорит точно с такою же гордостию: «Мои жильцы», как говорит какой-нибудь немецкий принц: «Мои подданные», но, без всякого сомнения, гораздо более его занимается домашним их бытом, входит во все мелкие подробности их семейной жизни и наблюдает за их поведением. Конечно, эта управительная и полицейская власть хозяйки надо всеми жильцами дома не имеет никакого законного основания, но Анна Ивановна властна отказать всякому непокорному жильцу от квартиры, а это весьма важная статья, потому что она отдает покои в своем доме по таким дешевым ценам, каких решительно нет во всей Москве. А чтоб это обстоятельство имело более веса и сильнее действовало на умы жильцов, Анна Ивановна отдает предпочтительно квартиры в своем доме мещанам, мастеровым, не слишком известным художникам или, по крайней мере, весьма небогатым и нечиновным дворянам. Эта неограниченная власть хозяйки была бы очень тягостна для жильцов, если б правление ее было чисто деспотическое, но оно скорее может назваться патриархальным. В случае несчастия или болезни кого-нибудь из жильцов Анна Ивановна превращается из самовластной правительницы в нежную и попечительную мать: лечит больных, дает взаймы на бессрочное время тем, которые имеют в этом действительную надобность, а всего чаще мирит жен с мужьями и восстановляет порядок и тишину в семействах, в которых поселился раздор. Все живущие в доме Анны Ивановны, и свои и посторонние, никогда не называют ее по имени, а просто величают генеральшею. Если иногда хозяин мелочной лавочки, человек не очень трезвый, слишком порасшумится, жена скажет ему: «Что ты, Терентий, горланишь! Вон, посмотри, генеральша подошла к окну». И как бы ни был хмелен Терентий, он тотчас притихнет или начнет ругаться шепотом. Точно так же все работники токарного производства дерутся меж собой на дворе или поют заливные песни только тогда, когда Чокиной не бывает дома; и лишь только раздается вестовой голос: «Генеральша приехала!» — песни умолкают, бойцы, которых надобно уже было разливать водою, тотчас перестают драться, побежденный с подбитыми глазами и победитель с выщипанною бородою — оба весьма чинно кланяются ее превосходительству и отправляются выпить по чарке на мировую или, — если вражда их еще не потухла, — идут додираться на улицу.
Познакомив своих читателей с ее превосходительством Анной Ивановной Чокиной, я прошу их перенестись вместе со мною в большую комнату, обитую штофом, который я не смею назвать зеленым, потому что он был зеленым еще до французов, а теперь сделался какого-то безыменного цвета, который, всего скорее, можно назвать радужным, потому что он местами походит еще на зеленый, местами на фиолетовый, а кой-где напоминает палевый. В глубине комнаты, между двух дверей из красного дерева, которые должны представлять два шкапа, тянется длинный диван; я также не могу вам сказать, чем обит этот диван, потому что он покрыт белым миткалевым чехлом. Перед диваном стоит круглый стол, за столом раскладывает гранпасианс пожилая барыня в ситцевом капоте и тюлевом чепце; подле нее на диване лежит толстая моська. В двух шагах от стола старушка лет семидесяти, также в ситцевом капоте, но только не в тюлевом, а кисейном чепце, сидит на стуле и вяжет чулок. Поближе к окну за пяльцами вышивают по канве две молодые девушки, толстые, здоровые и краснощекие. Старуха в тюлевом чепце — разумеется, Анна Ивановна Чокина; старуха в кисейном чепце — экономка ее Степанида Федоровна; обе швеи — горничные девушки: одна Матрена, другая Аксинья. Теперь не угодно ли вам, мои почтенные и любезные читатели, послушать разговор этих действующих лиц.
Анна Ивановна (бросая с досадой карты). Опять не вышел!.. Нет, этот гранпасианс никуда не годится… Такая путаница!.. Аксютка, подыми карту!.. (Ласкает моську.) Что ты, Мопсинька, мой друг?… Что ты так нахмурился… голубчик мой? Мопсу!.. Голубчик!.. Степанида Федоровна, что это он сегодня так храпит?
Степанида Федоровна. Жирен, матушка.
Анна Ивановна. И, что ты, помилуй, такой ли он был прежде… он исхудал; точно исхудал!.. Мопсинька мой!.. Мопсурушка!.. Матрешка, открой табакерку!.. Что это она стала так туго запираться?… Надобно отдать ее нашему токарю поправить. А что, Степанида Федоровна, как он со своею женою?
Степанида Федоровна. Да бог их знает, матушка Анна Ивановна; всю прошлую неделю жили, кажется, ладно: в воскресенье ездили вместе в Марьину рощу, приехали назад такие веселые, а сегодня поутру, говорят, опять была баталия.
Анна Ивановна. За что?
Степанида Федоровна. А кто их знает — чай, все за булочника.
Анна Ивановна. Да ты проведай как-нибудь, Степанидушка; зайди к ним, узнай все толком!.. Ах, батюшка, какой ревнивец этот Григорий Иванов!.. Матрешка, подыми платок!.. Кажется, человек он неглупый, трезвый…
Степанида Федоровна. И самый смирный, матушка! Да сожительница-то его такая нравная!.. Он слово, она десять. Вот недели три тому назад схватились они при мне ругаться. Где мужу!.. Так и засыпала!.. Уж она причитала, причитала! И отец-то его был пьяница, и мать гуляка, и бабушка ведьма киевская! Я говорю: «Полно, Кондратьевна, перестань!.. Что ты этак позоришь мужа? Ну, какой бы он ни был, хоть лыком шитый, а все-таки он тебе муж». Куда!.. Моя баба так на стену и лезет?… Да такие начала слова говорить, что я не знала, куда и деваться!.. Ну, нечего сказать — язычок!.. Вот ей бы мужем-то нашего лавочника — у него бы она но много поговорила! Фу, какой крутой, матушка! Чуть жена не по нем, тотчас и за косу!
Анна Ивановна. Скажите пожалуйста, какая же притворщица эта Кондратьевна!.. Вот прошлый раз, как я мирила ее с мужем, жалко было видеть: плачет, бедненькая, ну, вот так и разливается! И житья-то ей вовсе нет, и муж бьет ее походя. Ревнует ее к булочнику, а она о булочнике вовсе и не думает — да ведь божится, образ со стены снимает… Аксютка, что ты?… Чему, дура, смеешься?
Аксинья. Так-с.
Анна Ивановна. Врешь, врешь!.. не так! Чему ты смеялась?
Аксинья. Да так-с, ничему-с.
Степанида Федоровна. Эх, матушка Анна Ивановна! Кондратьевна божится… Что эта божба? Коли наша сестра сама себя не бережет, так что ей образ со стены спять? Покаюсь, дескать, разом во всех грехах на исповеди.
Анна Ивановна. Ах, батюшки!.. Да неужели в самом деле?… Да если это правда, так я булочнику завтра же от квартиры откажу…
Степанида Федоровна. И, ваше превосходительство, от этого не уйдешь! Мало ли есть таких же, как ваши, генеральных домов, а, поглядишь, в редком не живет какой-нибудь амурной дамы.
Анна Ивановна. Что мне на других смотреть: мне никто не указ, Степанида Федоровна! Стану я в моем доме такие беспорядки терпеть!
Степанида Федоровна. Да уж нынче такой свет, матушка! Бывало, девушка лет двадцати пяти не смеет вон из дому выйти. Побывает раз в году, об Святой, под Новинским, да и дожидается другой Святой. А теперь какая-нибудь девчонка лет семнадцати так-таки и норовит шмыгнуть каждое воскресенье в Марьину рощу, на Ваганьково, в Нескучное… Совсем избаловались!
Анна Ивановна. Я этого и знать не хочу! Там что хочешь делай, но у меня-то в доме… Матрешка, вынеси моську!.. Нет, Степанида Федоровна, не стану я смотреть сквозь пальцы. Хочешь жить в моем дому, так живи честно! (Входит управитель.) А, Прокофий!.. Ну что, был у квартального?
Прокофий. Был, ваше превосходительство; поручика не застал дома, так ходил к самому надзирателю. Приказал вам доложить: «Я, дескать, для Анны Ивановны готов бы все сделать, ее превосходительство первый человек в моем квартале; да только, дескать, никак нельзя жильца выгнать тотчас из дому; это, дескать, противно городовому положению; всякому жильцу дается для приискания новой квартиры законный срок».
Анна Ивановна. Как? Так этот негодяй, который нанимает у нас внизу под самой моей спальней, не выедет сегодня?
Прокофий. Нет, сударыня, он еще с неделю у нас проживет.
Анна Ивановна. Что ты говоришь?… Целую неделю!
Прокофий. А может быть, и дольше; время-то пришло такое, сударыня. Вот зимою можно было бы как-нибудь понудить: вьюшки у печей обобрать, окно выставить, а теперь что станешь с ними делать?…
Анна Ивановна. Правда, правда!.. Нельзя ли как-нибудь хоть чрез неделю-то его выжить?
Прокофий. Да не прикажете ли сходить к частному? Он, может быть, покруче повернет.
Анна Ивановна. Сходи, Прокофий, сходи!.. Вот навязали себе какого жильца на шею. Невежа, грубиян!.. На прошлой неделе я иду садиться в карету, гляжу, этот пострел стоит в сенях — подбоченился таким фертиком! А ведь не на что взглянуть: плюгавец этакий, фрачишка истасканный, все швы белехоньки, жилетка замасленная, а туда ж, одет по моде — вперетяжку, волосы в кружок, бородка, в желтых заштопанных перчатках, ну точь-в-точь запачканная модная картинка! Вот я думаю: поклонится! Как бы не так!.. Вытащил из кармана роговую лорнетку, воткнул в правый глаз да и смотрит на меня, как будто б в стену! Головой не пошевелил, мужик этакий, неуч! А вчера сажусь в карету — глядь: стоит, голубчик, у окна, в изорванном халатишке, в какой-то жидовской ермолке, и так-то важно курит свою копеечную сигарку! Ну, хоть бы вид сделал, что хочет спрятаться; нет, так и лезет вон из окна!.. Наглец этакий, нахал!.. А все, Прокофий, твое несмотренье!.. Ну как не видеть с первого взгляду…
Прокофий. Помилуйте, ваше превосходительство, ведь жильцы-то всякие бывают — не узнаешь. Вот если б нам попался еще такой же жилец, как этот живописец, который нанимает внизу другую половину…
Анна Ивановна. Да, нечего сказать, учтивый человек! Третьего дня, как я приехала от моей сватьи, он из кареты меня высадил… И вид у него такой приятный! Да что бы ему вовсе не переехать к нам жить? Ведь он здесь не ночует, Прокофий?
Прокофий. Нет, сударыня, никогда не ночует. Он живет у родного дяди на хлебах, а сюда приходит только рисовать. Дядя-то у него человек семейный, — тесненько, негде ему со своим инструментом расположиться, так и нанимает для этого квартиру. «Ко мне же, — говорит, — господа приезжают списывать с себя портреты, а иногда и барыни, так надобно же иметь для этого особую квартиру. Вот, — говорит, — и теперь снимаю по секрету портрет с одной барыни; хочет, дескать, в именины подарить своему мужу».
Анна Ивановна. Это не та ли, Прокофий, что раза по два в неделю приезжает?
Прокофий. Должно быть, та, сударыня; она и теперь здесь.
Анна Ивановна. Что ж он так долго с нее списывает?
Прокофий. Да говорит, четыре портрета уж перепортил, не может потрафить.
Анна Ивановна. А что, узнал ли ты, кто эта барыня?
Прокофий. Никак нет, ваше превосходительство.
Анна Ивановна. Как же, я тебе приказывала…
Прокофий. Да в прошлый раз, как она изволила приезжать, меня не было дома.
Анна Ивановна. Смотри же, сегодня узнай непременно.
Прокофий. Слушаю, сударыня. (Входит слуга; Прокофий уходит.)
Анна Ивановна. Что ты?
Слуга. Андрей Сергеевич Перебиваев. Прикажете принять?
Анна Ивановна. Проси!.. Давно он ко мне не завертывал. То-то, чай, вестей-то привез!.. Все знает, что делается и в своих и в чужих краях; а уж о Москве и говорить нечего, все дома ему приказаны. И как он успеет везде побывать, все выведать…
Степанида Федоровна. На том стоит, матушка! И люди-то у него все так приметаны, шныряют везде да все пронюхивают.
Анна Ивановна. Вот охота, подумаешь, мешаться в чужие дела; видно, своих-то мало! (Входит Перебиваев.) А, редкий гость!.. Андрей Сергеевич!.. Прошу покорно!..
Перебиваев (целуя руку у Чокиной). Здравствуйте, Анна Ивановна! Как ваше здоровье?
Анна Ивановна. Да так, батюшка. Бог грехам терпит, живу понемногу. Забыл ты меня, старуху! Легко ли, целых два месяца!
Перебиваев. Да меня в городе не было.
Анна Ивановна. А где ж ты был?
Перебиваев. Все разъезжал по разным подмосковным; был у графа Яворского, у княгини Луцкой, у Дедюнина, ездил к Троице…
Анна Ивановна. Один?
Перебиваев. Нет; нас ездило четырнадцать человек, целое общество, — в аериэне…
Анна Ивановна. В чем, батюшка?
Перебиваев. В аериэне — это род большой крытой линеи на лежачих рессорах. По гладкой дороге спокойно, очень спокойно!.. Неловко только, что сидишь боком и ног нельзя протянуть да по сторонам ничего не видно, и если пойдет дождь, так, я вам скажу, нитки живой не останется!.. А впрочем, приятно, очень приятно! Прекрасная выдумка!.. О, французы на это мастера!
Анна Ивановна. Да полно, батюшка, хвалить этих французов!.. Меня выгнали из дому… Москву сожгли… разбойники этакие!.. Скажи-ка лучше, что новенького?
Перебиваев. Не спрашивайте! Я ничего не знаю. Я все ездил по деревням, иностранных газет в глаза не видел… Слышал я как-то мимоходом, что англичан поколотили в Индии да в Испании также дела плохо идут…
Анна Ивановна. И, батюшка, что нам до чужих! Ты мне скажи, что в Москве-то делается?…
Перебиваев. Да ровно ничего. Москва пуста; в театре никого, в Петровском парке очень мало, в воксале бывает человек по двадцати — тоска, да и только! А, кстати!.. Вы знаете Ивана Андреевича Хлынова?
Анна Ивановна. Как же, батюшка, с его покойной женой мы были большие приятельницы.
Перебиваев. Женился.
Анна Ивановна. На ком?
Перебиваев. На мадаме, которая была при его дочерях.
Анна Ивановна. Как? На этой немке Шарлотте Карловне?
Перебиваев. Да, да, я и на свадьбе был. Венчались у Николы в Звонарях.
Анна Ивановна. Скажите пожалуйста!.. Сын в службе, дочери — невесты!.. Ах он, старый дурак!..
Перебиваев. Посмотрите, они приедут к вам с визитом.
Анна Ивановна. Не приму, батюшка, не приму! (Входит Ольга Николаевна Влонская.)
Влонская. Здравствуйте, тетушка!
Анна Ивановна (вставая с дивана). А, Ольга Николаевна!.. Здравствуйте, матушка!.. Милости просим, прошу покорно садиться!
Влонская. Вы на меня сердитесь, тетушка?
Анна Ивановна. За что, Ольга Николаевна?… Что вы у меня не были три недели?… Помилуйте, да кто нынче за это сердится?… Вы же, матушка, женщина модная, живете в большом свете… Стыдно, племянница, стыдно!.. Ну, да бог с тобою!.. Здравствуй, мой друг! (Целуется с Влонской и сажает ее подле себя.)
Перебиваев. Как ваше здоровье, Ольга Николаевна?…
Влонская. Слава богу, Андрей Сергеевич! Да с вами что делается?… Я вас нигде не встречаю.
Перебиваев. Меня не было в Москве.
Влонская. Ведь это ваши дрожки стоят на дворе?
Перебиваев. Мои, Ольга Николаевна.
Влонская. А чья ж карета?…
Анна Ивановна. Это, матушка, какая-то барыня приехала к моему жильцу…
Влонская. К вашему жильцу?…
Анна Ивановна. Да, портретный живописец…
Влонская. Вот что! Так у вас в дому atelier?… А что, этот живописец старик?
Анна Ивановна. Нет, человек молодой.
Влонская. Хорош собою?
Анна Ивановна. Так себе!.. Однако ж довольно приятной наружности. Ну что, племянница, что в вашем свете новенького?
Влонская. Ничего, ma tante; одно только, да я думаю, вы слышали: Зоринские выдали старшую дочь свою за какого-то французского графа.
Перебиваев. А, кстати! Хотите ли, я расскажу вам об этой свадьбе престранную историю!
Влонская. Ах, сделайте милость!
Анна Ивановна (покачивая головой). Выдали свою дочь за француза!.. Ох, напрасно!
Перебиваев. Подлинно напрасно, Анна Ивановна! Да вот изволите видеть: этот француз обещался остаться навсегда в России; малый ловкий, прекрасный собою — ослепил!.. Третьего дня была свадьба, а сегодня поутру я приехал их поздравить. Вслед за мной приезжает Иван Иванович Тумаков. Ну, вот этот старик, — вы знаете, Анна Ивановна, у которого жена такая вертлявая, хорошенькая!.. Он еще возил ее лечить прошлого года в Карлсбад — ну, знаете!.. Зоринский, как следует, подвел к Ивану Ивановичу молодого — гляжу, мой Тумаков смешался, покраснел; а когда хозяин назвал своего зятя по имени, так он совсем растерялся: прошептал что-то сквозь зубы, присел на минуту да и вон. Я думаю: «Что такое? Тут что-нибудь да есть!» Вот я вслед за Тумаковым; он домой, я к нему. «Иван Иваныч, — спросил я, — что это вы были так сконфужены?… Вы как будто бы испугались этого француза?» — «Ох, батюшка, — сказал Тумаков, — бедные Зоринские! Ведь они дочь-то свою погубили!» — «Как так!» — «Да так: этот француз вор!» — «Вор! Что вы говорите, Иван Иванович?» — «Да, батюшка, вор! Вы знаете, мы прошлого года ездили в Карлсбад; на водах обыкновенно бывает всякий сброд. Вот и этот француз там был. Мне он с первого взгляда показался что-то подозрительным. Граф!.. Какой граф? Не графские вовсе ухватки. А делать нечего — на водах зала общая. Вот этот француз танцует с той, с другой, танцует и с моей женой и этак, знаете ли, куртизанит. Да это мне ничего! Я знаю мою Катеньку: у нее, батюшка, не много выторгуешь! Вот однажды пригласил нас к себе на вечер князь Дунаев: он также со всем семейством приехал на все лето в Карлсбад; меня посадили играть в вист, а Катенька, которая с утра еще жаловалась на мигрень, отправилась домой; мы сели играть этак часу в десятом. На втором роберте с хозяином сделалось дурно; во всем доме поднялась такая суматоха: жена плачет, дети в тревоге; послали за доктором. Ну, разумеется, какой уж тут вист! Все гости по домам; отправился и я. Мы нанимали домик у самого выезда. Вот я подошел к дверям, начал звонить в колокольчик; вдруг вижу — прыг кто-то из окна! Я закричал: «Воры, воры!..» Бросился за мошенником, поймал его за фалду; он обернулся — глядь: французский граф!.. У меня так руки и опустились!.. Слышу, и в доме кричит Катенька: «Воры, воры!..» Я совсем потерял голову… Меж тем этот самозванец граф вырвался да и давай бог ноги… Я кричу: «Держи, держи!» Кому держать: на улице пусто. Вот наконец выбежали из моего дома люди, а я скорей к жене; вхожу в спальню — бедная Катенька лежит без чувств!.. Представьте себе: только что хотела она раздеваться, вдруг слышит, что окно потихоньку растворилось и какой-то человек шмыг прямо в комнату. В эту самую минуту я позвонил у дверей, а вор и назад тою же дорогою. Катенька говорит, что видела у него в руке нож и так испугалась, что не могла никак рассмотреть его в лицо. Видно, этот разбойник не успел путем оглядеться: на бюро стоял ящик с ее бриллиантами, лежал кошелек с деньгами — все осталось цело. Пропало только любимое ее колечко с бриллиантиком, которое она только что сияла с пальца и положила на туалетный столик… Разумеется, батюшка, — прибавил Тумаков, — этот подложный граф в ту же ночь ускакал из Карлсбада. Только бедная моя жена так перепугалась, что после этого недели три была в беспрерывной истерике с утра до вечера, — плачет, да и только!»
Анна Ивановна. Ну, батюшка, какая, в самом доле, странная история!
Влонская (смеется). Да, очень странная!.. И Тумаков точно уверен, что этот француз вор?
Перебиваев. Да хоть зарежь его: стоит в том, да и только.
Влонская. Бедняжка!..
Перебиваев. А что всего-то забавнее: он это дело так не оставил и жаловался на другой день тамошнему правительству.
Влонская. Нет, шутите?
Перебиваев. Право! «Представьте себе, — говорит, — судья не хотел меня и слушать! «Вы, дескать, как-нибудь осмотрелись; этот граф человек известный; ну, может ли он быть вором?» — «Да помилуйте, — закричал я, — как же он не вор? Катенька видела у него в руке нож, он вылез из окна ее спальни; я сам это видел своими глазами!» И что ж вы думаете? Судья так и помер со смеху! Вот оно, батюшка, — прибавил Тумаков, — славны бубны за горами. Вот оно, правосудие-то, в чужих краях — ищи его!»
Анна Ивановна. Да, батюшка, да! Конечно, лучше бы сидеть дома; и мужья-то бы меньше ветреничали, и жены-то были бы вернее.
Влонская. Ну, этого, тетушка, не говорите! Кто не бережет своей репутации, тот будет вести себя дурно и в Париже, и в Карлсбаде, и в Москве…
Анна Ивановна. Извините, матушка, — мы еще благодаря господа не дошли в этом до иностранцев. У нас есть и стыд и совесть. Не побоимся бога, так добрых людей постыдимся; а там ведь это нипочем. У нас в Москве барыня ездит в экипажах с лакеями, пешком пойдет — слуга позади. А ведь это, матушка, почетная стража; иная бы и свихнулась, может быть, да ведь нелегко, сударыня, взять себе в конфиденты какого-нибудь Егорку или Андрюшку. А там что?… Воля! Наденет вуаль да и пошла себе бродить по улицам.
Влонская. И, тетушка, женщина без правил найдет возможность и в Москве вести себя дурно.
Анна Ивановна. Знаю, матушка, знаю! Бывают и услужливые знакомые — добрые вдовушки; есть и модные магазины. Муж дожидается в лавке, а жена пойдет платье примеривать, — все знаю! Да ведь не у всякой же есть такая сердобольная приятельница и не всякая также захочет поверить свою честь какой-нибудь модной торговке.
Влонская. Вас, тетушка, не переспорить! (Вставая.) Однако ж прощайте! Я ведь к вам заехала на минутку; мне до обеда надобно еще сделать несколько визитов. (Анна Ивановна и Перебиваев встают.)
Анна Ивановна. Так, так! Всегда на одну минуту.
Влонская. Я завтра к вам приеду на целый вечер, тетушка.
Анна Ивановна. Спасибо, мой друг, спасибо! Смотри же, не забудь!
Влонская. Как это можно! (Анна Ивановна провожает Влонскую, которая, взглянув мимоходом в окно, останавливается.) А, вот уезжает эта дама, что списывает с себя портрет!
Анна Ивановна. Постой-ка, матушка, и я взгляну — что она, какова собою. (Все подходят к окну.)
Влонская. Вот она вышла садиться… Ах, да это Марья Васильевна!
Анна Ивановна. Какая Марья Васильевна?
Влонская. Чернозерская.
Анна Ивановна. Какая Чернозерская?
Влонская. Урожденная княжна Долина! Да вы, я думаю, были знакомы с ее матерью.
Анна Ивановна. Давно, матушка, еще до французов. Так это ее дочь?… Недурна собою!
Влонская. Вот, тетушка, вы сейчас спорили… Да хоть эта Чернозерская — что, как вы думаете, она списывает с себя портрет, для кого?
Анна Ивановна. Для мужа, матушка, я это знаю.
Влонская. Вот то-то и есть, что не знаете! Они с мужем никогда не были за границею, а посмотрите, как живут! Муж разоряется на какую-то актрису, а жена влюблена в графа Сицкого. Я думаю, вы также слыхали об этом? Человек холостой, ни отца, ни матери, семь тысяч душ…
Анна Ивановна. Скажите пожалуйста — этакий жених!.. Чем бы выбрать себе невесту, а он… То-то бы сек да сек!
Перебиваев. Всех не пересечете, Анна Ивановна.
Анна Ивановна. Да еще правда ли это?… Я, матушка, не слишком верю этим сплетням. Бабочка молоденькая — может быть, немножко и ветреная… не остереглась, пококетничала, а уж тут и пойдут!..
Влонская. Да об этом вся Москва говорит.
Анна Ивановна. Москва говорит! Да о чем наша матушка Москва не болтает? Пусти лишь только в ход какую-нибудь злость, она, моя голубушка, и пойдет плести!.. Такая кружевница, что не приведи господи!
Влонская. Ну, если вы, тетушка, этому не верите…
Анна Ивановна. Не верю, матушка! А если б это была и правда, так, верно бы, она не выбрала моего дома, чтоб списывать с себя портреты для любовников… А вот и мой жилец идет!..
Влонская. Кто? Этот молодой человек с портфелем?… Так он-то списывает портрет с Чернозерской?
Анна Ивановна. Да, мой друг! Он портретный живописец.
Влонская. Хорош живописец!.. Андрей Сергеевич, посмотрите, посмотрите!..
Перебиваев. Что это?… Граф Сицкий!..
Анна Ивановна. Кто, батюшка, кто?…
Перебиваев. Граф Сицкий, Анна Ивановна.
Анна Ивановна. Как? Тот самый?…
Влонская. Да, тетушка, тот самый. (Смеется.)
Перебиваев. Ну, какая история!.. Уж как же я распотешу князя Григория и Марью Власьевну!.. Извините, Анна Ивановна, я вспомнил, мне надобно ехать. Честь имею кланяться! (Уходит.)
Влонская (продолжая смеяться). Ну, тетушка, какие у вас живут в доме художники!.. Прощайте! До завтрего. (Уходит. Анна Ивановна в совершенном оцепенении падает на кресла. Двери потихоньку растворяются, и входит Прокофий.)
Прокофий. Узнал, сударыня: эта барыня — Марья Васильевна Чернозерская.
Анна Ивановна (вскакивает). Пошел вон!.. Постой!.. Все пожитки этого живописца выкинь на двор, двери на замок, и чтоб с этой минуты нога его в моем доме не была!
Прокофий. Как, ваше превосходительство?… Да помилуйте, срок еще не вышел!
Анна Ивановна. Срок!.. Какой тут срок?… Вон его, вон! Самозванец мерзкий… Осмелиться… в моем доме!.. Ах, смерть моя!.. Душно!.. Аксютка!.. Матрешка!.. Капель, капель!.. (Опускается опять в кресла. Девушки около нее суетятся; экономка дает нюхать спирт, а Прокофий стоит как вкопанный у дверей и смотрит с удивлением на эту картину.)
IX Марьина Роща
Вы можете смеяться, но утверждаю смело, что
одно просвещение рождает в городах охоту
к народным гульбищам, о которых не думают
грубые азиатцы и которыми славились умные греки.
КарамзинКуда, подумаешь, как богата наша матушка Москва садами, бульварами и всякими другими частными и народными гульбищами. Чего другого, а уж в этом мы вовсе не нуждаемся. Взойдите летом на Ивана Великого, взгляните кругом, и вы увидите перед собой не город, а беспредельное зеленое море, усыпанное домами. Уверяю вас, это вовсе не пиитическая выходка, а самое верное выражение истины. Исключая средину города, где строение по большей части сплошное, вы редко встретите дом, при котором не было бы хотя маленького садика или, по крайней мере, нескольких кустов бузины и акации. В Москве считается садов публичных шесть, ботанический один, частных тысяча двадцать четыре и пятнадцать бульваров, из которых иные могут назваться садами. Из городских садов, открытых для публики, самые лучшие: Дворцовый сад за Москвой-рекой, Нескучное, Лафертовский, или Слободской, сад и Пресненские пруды. Кремлевские сады прекрасны, но они более походят на затейливые бульвары, чем на сады. Весной лучшее московское общество гуляет до обеда на Тверском бульваре, а купцы после обеда в кремлевских садах. В этих же садах есть довольно обширный луг, который так же, как и Тверской бульвар, может назваться аристократическим гуляньем, но только не взрослых, а детей. Всякий раз, когда мне случается проходить кремлевскими садами весной часу в двенадцатом утра, я останавливаюсь и смотрю иногда по целому часу на веселые игры и беготню этих милых крошек, любуюсь их прелестными нарядами и гляжу также с некоторым удовольствием на этих по большей части молодых и щеголевато одетых нянюшек, которые, играя в горелки и мячики со своими малютками, посматривают украдкой на проходящих и, обдергивая измятые платьица детей, не забывают приглаживать собственные свои волосы и оправлять свои газовые косынки.
Не знаю, существует ли еще в Петербурге знаменитый сад г-на Ганина; если уж он опустел и зарос, если его дощатая башня-древлянка развалилась и деревянный Вольтер перестал кланяться всем гуляющим, то я могу сказать его поклонникам: утешьтесь, тип этих садов не вовсе погиб: у нас в Москве есть также сад, который едва ли еще не затейливее сада г-на Ганина. Он невелик, это правда, но сколько в нем необычайных и особенного рода красот! Какое дивное смешение истины с обманом! Вы идете по крытой аллее, в конце ее стоит огромный солдат во всей форме. Не бойтесь — он алебастровый. Вот на небольшой лужайке посреди оранжерейных цветов лежит корова… Какая неосторожность!.. Успокойтесь, — она глиняная. Вот китайский домик, греческий храм, готическая башня, крестьянская изба, вот гуси и павлины, вот живая горная коза, вот деревянный русский баран, вот пруд, мостики, плоты, шлюпки и даже военный корабль! Одним словом, вы на каждом шагу встречаете что-нибудь неожиданное и новое, и все это, если не ошибаюсь, на одной десятине земли. Этот сад можно также причислить к разряду публичных садов, потому что он благодаря радушному хозяину открыт для всех, желающих полюбоваться его затейливым разнообразием.
Наши загородные гульбища также очень многочисленны; у нас есть свой Пратер, свое Тиволи; оба эти названия вы можете прочесть в афишках, в которых с таким красноречием приглашают вас за тридцать копеек серебром гулять, сколько вам угодно, по тенистым дорожкам, смотреть безденежно на чрезвычайные представления эквилибристов, быть зрителем морских сражений, происходящих на покрытых зеленью прудах и узеньких канавах, восхищаться пятидесятирублевым фейерверком или дивиться изобретательности ума человеческого, смотря на воздушный шар из китайской бумаги, который, как извещают обыкновенно в афишках, будет пущен при звуках военной музыки. Петровский парк, Останкино, Сокольники, Марьина роща и Петровское-Разумовское — вот загородные гулянья, более других посещаемые московскими жителями. Я не говорю уже о прогулках в Коломенское, Кусково, Кунцево и еще несколько далее от Москвы: в Царицыно, Архангельское, Спасское, Братцево, Марфино, Кузьминки — все эти царские потешные дворцы и подмосковные русских бояр, очаровательные или местоположением своим, или роскошью своих садов, открыты для всех посетителей.
Я люблю вообще противоположности: вечное лето мне точно так же бы надоело и сделалось несносным, как и беспрерывная зима. Мне приятно иногда провести ночь на пышном бале, в кругу лучшего московского общества, полюбоваться великолепным убранством и освещением наших аристократических гостиных, посмотреть на этот роскошный цветник московских красавиц, на их воздушные и легкие наряды, подчас довольно тяжелые для мужей и отцов. Но я люблю также иногда посидеть вечером у какой-нибудь замоскворецкой барыни, у которой дом освещен рублевыми кенкетами и сальными свечами; люблю попировать на свадьбе русского купца, у которого каждого гостя встречают молодые при звуке труб и литавр, где во время бала вас угощают брусничной водой, чаем, виноградным вином, шоколадом, финиками, сладкою водкою и балыком и где за ужином хозяин и хозяйка просят вас кушать непременно за четверых, приговаривая: «Да уж сделайте милость, батюшка, поневольтесь!» Мне случалось также, и, право, не без удовольствия, трапезничать у русского мужичка, когда он справляет храмовый праздник своего селения, пить вместе с ним сычёную брагу, кушать вареную баранину или пирог с капустою и лакомиться калеными орехами. Я люблю особенно эти противоположности тогда, когда между ними нет никаких постепенных переходов и они, так сказать, встречаются меж собой, и вот почему решился в последнее воскресенье прошлого июля месяца побывать в один и тот же день в Марьиной роще и в Петровском парке. Эти два загородные гулянья не в дальнем расстоянии друг от друга, но общества, их посещающие, до такой степени различны меж собою, что даже цыгане, которые поют в Петровском воксале, не хотят знаться и водить хлеб-соль с цыганами и цыганками, забавляющими посетителей Марьиной рощи. Время было прекрасное, тихо, нигде ни облачка. Я велел заложить мою пролетку и отправился.
От Пресненской заставы до Марьиной рощи я ехал Ходынским полем мимо летнего бега и скачки; потом, оставив на левой руке Петровский парк и Бутырки, доехал до дороге, проложенной меж огородов и лугов, до березовой рощи, перерезанной во всю ее длину широкой просекою.
Я приказал кучеру дожидаться меня у большой рощи, а сам пошел пешком. Эта роща отделяется от другой, не очень обширной, которая примыкает к Лазареву кладбищу, широким и продолговатым лугом. На нем бывает в Семик одно из лучших годовых московских гуляний. Марьина роща или Марьины рощи, бывшие некогда немецким кладбищем, принадлежат теперь графу Шереметеву. Олеарий в своем «Путешествии по России» при царе Михаиле Феодоровиче упоминает о немецком кладбище за Покровскими воротами, следовательно, должно было бы полагать, что в Марьиной роще погребали иноверцев еще при царе Борисе Феодоровиче Годунове, но надпись на одном могильном камне, на котором вырезан 1668 год, противоречит этой догадке; впрочем, можно сказать утвердительно, что в царствование Петра Великого это кладбище было вовсе оставлено и, судя по названию Немецкие станы, которое и доныне еще старики дают Марьиной роще, вероятно, превратилось в загородное гулянье иноземцев, живших тогда в Немецкой слободе… В большой роще гуляющих было немного; кое-где сидели отдельными группами семейства купцов и ремесленников. Одни пили чай на каменных могильных плитах, из которых многие совсем уже вросли в землю, другие курили трубки и беседовали за бутылкой кроновского пива. Эти мирные наслаждения добрых и трудолюбивых людей были в совершенной противоположности с тем, что происходило в двух трактирах, которые стоят на лугу между большой и малой рощами. В наружной галерее одного из этих трактиров играла музыка, то есть какой-то краснощекий артист с затекшими от перепоя глазами заливался на кларнете, безобразный старик с небритой бородой колотил в турецкий барабан, и полупьяная немка, примаргивая правым глазом, отпускала удивительные трели на скрипке. Вокруг этого оркестра толпились: цыганки в запачканных платьях и красных мериносовых платках, записные гуляки в венгерках, удалые купеческие сынки в щеголеватых сибирках и пьяные старики с такими беспутными и развратными рожами, что гадко и страшно было на них взглянуть. В другом трактире, как целая псарня голодных собак, с визгом и завываньем ревела толпа цыган, а перед дверьми трактира на песчаной площадке двое растрепанных оборванцев отхватывали трепака, этот классический танец всех загородных питейных домов и трактиров самого низшего разряда. Я заметил, однако ж, что большая часть гуляющих по лугу или вовсе не обращала никакого внимания на эти притоны разврата, или смотрела на них с явным отвращением. Я пошел вслед за толпами, которые спешили в небольшую рощу, примыкающую к Лазареву кладбищу. При самом входе в это средоточие народного воскресного гулянья я был поражен звуками, которые сильно потрясли мою душу; они воскресили в ней память о давно прошедшем, перенесли меня за семьсот верст, в ту деревню, где я, будучи еще ребенком, слышал так часто эту самую хороводную песню, которая раздавалась теперь в одном углу рощи. Разумеется, я пошел прямо туда, протерся кое-как сквозь густую толпу народа и стал в первом ряду зрителей. Почти весь хоровод был составлен из молодых крестьян, и только две или три сельские девушки в шелковых повязках и ситцевых сарафанах вмешались, как будто бы нечаянно, в этот мужской круг. Внутри хоровода ходила пара: краснощекая девушка с потупленными глазами и молодой, видный собой детина, который от времени до времени отпускал разные коленцы, то есть помахивал своим красным платком, подергивал левым плечом и припадал бочком к своей даме, которая продолжала ходить по-прежнему, опустив книзу свои ясные очи и не обращая никакого внимания на пантомиму своего кавалера. Когда кончилась песня, под которую происходил этот танец, по образу пешего хождения, танцевавшая пара облобызалась и уступила свое место другой паре. Я пошел далее. Влево, за деревьями, подымалось несколько зданий, около которых теснился народ. В самом большом из них помещается главный трактир, или, если вам угодно, ресторация Марьиных рощей; на высоком ее крыльце пели русские песенники, а вокруг ходили толпами цыганки и приставали к каждому гуляющему, хотя несколько похожему на такого человека, который может для своей забавы бросить полтину серебра и даже, при случае, не постоит за целковый. Одна из этих цыганок, безобразная, как смертный грех, подбежала ко мне и проговорила сиповатым голосом:
— Барин, голубчик, прикажи спеть песенку!
— Спасибо, любезная! — отвечал я очень сухо, оборотясь к ней спиной.
— Ах ты, сокол мой ясный! — продолжала цыганка, забежав с другой стороны. — Да прикажи: потешь, золотой, и себя и нас.
— Я, душенька, не охотник до песен, ступай к другим.
Тут подлетела ко мне еще цыганка, также очень смуглая, но довольно миловидная собою.
— Ах, сжальтесь над нами! — сказала она, устремив на меня свои сверкающие черные глаза. — Прикажите нам спеть!
— Хочешь, красное солнышко, — прервала первая цыганка, — мы споем тебе: «Ты не поверишь» или «Общество наше»? Уж распотешим — прикажи?
К этим двум цыганкам присоединилось еще с полдюжины других. Не зная, куда мне от них деваться, я вошел в трактир, взглянул мимоходом на буфет, в котором человек десять прохлаждали себя ерофеичем, и остановился послушать разговор двух мастеровых, из которых один был уже под хмельком.
— То-то, брат Иван, — говорил он другому мастеровому, — раненько ты стал погуливать! Тебе бы не след сюда шататься.
— А почему ж, Никита Степаныч? Ведь ты пришел же сюда погулять?
— Я?… Ах ты, глупая голова! Да я-то разве ты?
— Да что ж ты, Никита Степаныч, так кочевряжишься? Ты подмастерье, и я подмастерье…
— Эк рассудил!.. Дурачина ты этакий! Да вот, примером сказать, крестьянская кляча лошадь и графский рысак лошадь, а разве они равны? Я был мастер и буду мастером; я приеду домой размертвецки — хозяин не посмеет мне слова сказать. А ты что? Нахлюстаешься, а тебя завтра и по шеям!.. Нет, Ванюха, выучись-ка прежде хорошенько своему мастерству, а там и погуливай!
Тут подле меня началась какая-то ссора; явился городовой, и я, как человек миролюбивый, поспешил выйти из трактира и пошел по дорожке, которая вела прямо к Лазареву кладбищу. Эта усыпанная песком дорожка может назваться местом гулянья самого избранного общества Марьиной рощи: тут на скамейках сидело несколько купцов со своими женами, два или три пожилых чиновника в форменных фраках; по этой дорожке ходили взад и вперед какие-то дамы в щеголеватых бурнусах и даже один франт в альмавиве и белой соломенной шляпе. Он шел рука об руку с другим молодым человеком, который, вероятно, также в своем уголку считался записным денди; его бакенбарды сходились на подбородке, волосы были острижены в кружок, на манишке блистала стразовая булавочка, по бархатному жилету висела цепочка, вероятно бронзовая; но что более всего изобличало в этих господах самых отчаянных львов своего квартала, так это было то, что от них пахло за версту пачули и что они говорили во услышание всем на французском диалекте; по крайней мере, один из них, проходя мимо меня, сказал другому: «Ком ву зет плезант, мон шер!» Пройдя несколько раз по этой дорожке, я вышел опять к трактиру и остановился против дощатого балагана, у которого верхняя часть построена в виде сквозной галереи; в ней с правой стороны две женские куклы, в обыкновенный человеческий рост, в белых кисейных платьях и с букетами в руках, кружились на одном месте; с левой стороны другие две куклы, небольшого размера, возбуждали беспрерывный смех в толпе любопытных зрителей; одна из них, представляющая лысого старика с красным носом, закидывала назад голову и пила из деревянного стакана, а другая, которую почтенная публика называла экономкою, поминутно нюхала табак. Посреди галерей вертелись на кругу небольшие лодочки, в которых сидели посетители этого, по словам вывески, машинного парохода. Я подошел к дверям и прочел на них надпись: «Вход в ботаническую галерею».
— Ты, братец, хозяин этой комедии? — спросил я у русского мужичка, который сидел при входе за небольшим прилавком.
— Я, батюшка! — отвечал он, приподняв свою шляпу.
— А что за вход?
— Пятак серебром.
— Вот тебе гривенник, любезный, только растолкуй мне, почему у тебя написано: «Вход в ботаническую галерею»?
— А как же, сударь?… Ведь у меня там вертятся машинные боты.
— А, вот что!.. Так, любезный, так!.. Ты сам придумал эту надпись?
— Сам, батюшка, — отвечал русский механик, поглаживая свою бороду. — Мы уж давно в этом упражняемся. Да милости просим — пожалуйте, сударь!
Я не мог воспользоваться этим приглашением, потому что торопился в Петровский парк. «Как это странно, — подумал я, идя к моим дрожкам, — в Москве самые любимые гулянья простого народа — Ваганьково и Марьина роща; Ваганьково — кладбище за Пресненской заставой, Марьина роща — также старое кладбище в двух шагах от Сущевского кладбища; одним словом, это место самых буйных забав, пьянства и цыганских песен окружено со всех сторон кладбищами. В этой Марьиной роще все кипит жизнию и все напоминает о смерти. Тут, среди древних могил, гремит разгульный хор цыганок; там, на гробовой плите, стоят самовар, бутылки с ромом и пируют русские купцы. Здесь, у самой насыпи, за которой подымаются могильные кресты Лазарева кладбища, раздается удалая хороводная песня; кругом мертвые спят непробудным сном, а толпа живых, беспечно посматривая на эту юдоль плача, скорби и тления, гуляет, веселится и безумствует, не думая нимало о смерти. Что за чудная страсть у нашего простого народа веселиться на кладбищах? Отчего происходит это совершенное равнодушие к месту, которое должно бы возбуждать не веселье, не житейские помыслы, но чувство грусти и христианского умиления? Уж не остаток ли это наших языческих обычаев? В древние времена мы справляли тризну по усопшим; в наше время простой народ пьет вино и гуляет на поминках почти так же, как на свадебном пиру; следовательно, изменилось одно только название этого обычая. Быть может, в старину русский народ любил так же, как и теперь, сбираться в известные дни пировать на гробах своих предков и передал этот обычай своим потомкам. Я скорей хочу верить этому, чем думать, что наши мужички и ремесленный народ веселятся среди могил по какому-то грубому и безотчетному равнодушию к смерти, свойственному одним бессловесным животным.
Рассуждая таким образом, я вовсе не думал встретить в этой же Марьиной роще неоспоримое доказательство тому, что есть люди, которые, наблюдая обычаи просвещенной Европы, стоят еще ниже в моральном отношении этих развратных мещан, гуляк-мастеровых и безграмотных мужиков. Пробираясь к моим дрожкам, я остановился против одного из трактиров, о которых сказал уже несколько слов моим читателям. На крыльце этого трактира, в толпе цыган, которые пели плясовую песню, стоял молодой человек лет тридцати; он присвистывал, приплясывал и, по-видимому, был в совершенном восторге от песни. Тут нет еще ничего странного, но вот что меня поразило: у этого молодого человека шляпа была обвернута крепом, а на обшлагах черного фрака нашиты широкие плерезы, следовательно, он недавно еще, быть может несколько дней тому назад, лишился отца, матери или жены и, несмотря на это, не снимая даже своего глубокого траура, приехал слушать цыган в Марьину рощу!.. Поглядев несколько минут на этого чудака, я сел в мою пролетку и велел кучеру ехать в Петровский парк, о котором порасскажу кое-что читателям не в этой, а в следующей книжке моих записок, если только эта следующая книжка выйдет, что, впрочем, совершенно зависит от приема, который сделают читатели этому первому опыту «Московских очерков», может быть весьма неискусных, но, если не ошибаюсь, довольно верных и чуждых всякого пристрастия.
X Смесь
Визитные карточки
Откуда перешел в Европу обычай посылать по праздникам друг к другу визитные карточки? Уж не из Китая ли? В Китае этот размен поздравительных записок на разных узорчатых и цветных бумажках принадлежит к числу самых древних обычаев. Мы только упростили этот способ поздравления с праздником. Мы пишем или печатаем на карточках одни имена наши, а все остальное подразумевается. Есть люди, которые никогда не посылают карточек и даже находят этот обычай невежливым; они обыкновенно вместо визитных билетов рассылают слуг с изустными поздравлениями. Да полно, лучше ли это? Карточка может затеряться — это правда, но слуга еще скорее забудет доложить своим господам, что такой-то или такая-то присылали их поздравить с праздником, а ведь это не безделица. Недаром говорится, что от копеечной свечи Москва сгорела. «Да помилуйте, на что это походит? Я сам был у него с визитом, а он даже не прислал меня и поздравить! Да с чего он взял, что может трактовать меня каким-нибудь Кондрашкою?… Да чем я хуже его?… Да я в другой раз ему и карточки не пошлю!..» И вот люди, которые были в приятельских отношениях, начинают ссориться между собою, расстаются домами и даже перестают кланяться друг другу.
Было время визитных карточек цветных, тисненых, с гирляндами, коймами и разными другими затеями; теперь мода на белые лакированные карточки без всяких украшений. Других вы не увидите. Очень жаль, что мы, несмотря на нашу охоту подражать во всем иностранцам, не переймем у них обычая печатать или писать свои адреса на визитных карточках. Как часто случается, что самого строгого исполнителя всех общественных приличий и условий называют невежей и гордецом за то, что он, бедняжка, не знает, куда ему ехать или куда отослать свою карточку. Мне самому случилось однажды обегать все гостиницы и перебывать почти во всех частных домах, чтоб узнать, где живет один провинциал, который был у меня с визитом. Меж тем как я искал его по всей Москве, он кончил дела, уехал в свою губернию и теперь, как слышно, гневается ужасным образом не только на меня, но даже на всю Москву. «Хороша столица! — говорит он при всяком удобном случае. — Вежливый народ эти москвичи!.. Спесивцы этакие… невежи! Им бы приехать к нам в Казань да поучиться общежитию!..»
В Новый год и на Святой неделе бывает самый большой расход визитных карточек. Лакеи на извозчиках, верхом и пешком рыскают по всему городу. Москва так велика, что эта развозка билетов бывает иногда весьма затруднительна и тягостна; например, если вы живете у Калужской заставы и должны послать карточку к Лафертовскому дворцу, то вашему человеку придется сделать в два конца, то есть туда и назад, без малого двадцать пять верст. Впрочем, разносчики билетов находят средство облегчать свои труды; у них есть сборные места, главное из них — в Охотном ряду; там они сличают свои списки и меняются визитными карточками. Разумеется, это не всегда бывает без ошибок. Иногда вам отдадут карточку какого-нибудь барина, с которым вы вовсе не знакомы, или заставят вас самих поздравить с праздником человека, с которым вы не хотели бы и встретиться. Я помню одну из этих ошибок, которая имела весьма грустные последствия. Тому назад лет тридцать жили в Москве две сестры, одна замужняя, другая вдова. Вдова, которую я назову Анной Ивановной Смельской, занемогла на Святой неделе и умерла на Фоминой. Спустя почти год после этого, в первый день Светлого праздника, сестра ее отправила, по обыкновению, лакея развозить визитные билетцы. По ошибке горничной девушки слуге отданы были билеты, которые остались после умершей сестры, то есть Анны Ивановны Смельской. И вот покойница принялась разъезжать по Москве и делать визиты всем прежним своим знакомым. Это бы еще ничего, подивились бы этой ошибке, да и только, но, к несчастию, этим дело не кончилось: у покойной Смельской была задушевная приятельница, княгиня Д***. Когда-то во время дружеского разговора Смельская сказала княгине, что если умрет прежде ее, то непременно к ней явится за несколько дней до собственной своей смерти. Представьте же себе ужас бедной княгини, когда ей в первый день праздника подали билет с именем умершей ее приятельницы. Это до того поразило ее воображение, что она упала в обморок, занемогла; с ней сделалась воспалительная горячка, и она точно так же, как Смельская, умерла на Фоминой неделе, повторяя беспрестанно: «Ах, Анета, зачем ты прислала так рано за мною? Ведь мне еще хотелось пожить, мой друг!»
Московские фабрики
В письме моем к издателю этих записок я сказал, что в Москве процветает наша ремесленная промышленность; в числе моих читателей найдутся, может быть, и такие, для которых одни слова без фактов и положительных цифр ничего не значат. Чтобы удовлетворить вполне их требованиям, я помещаю здесь краткое, но самое верное исчисление всех московских фабрик, заводов и ремесленных заведений. В Москве различных заводов 198, фабрик 884, ремесленных заведений 2989, всего 4071. При них рабочих людей 70209 человек, что составляет более чем пятую долю всего народонаселения Москвы. Кажется, после этого Москва, если б она не была нашей древней столицей, могла бы назваться, по всей справедливости, русским Манчестером.
Некоторые из московских фабрик (не во гнев будь сказано русским европейцам) могут без стыда поставить свои произведения рядом с лучшими произведениями иноземных фабрик. Фарфор господина Попова, хрусталь господ Орлова и Мальцева, серебряные изделия г-на Сазикова и несколько фабрик, на которых выделываются шелковые материи, штофы и парчи, конечно бы, заняли почетное место везде, не исключая ни Англии, ни Франции. Я не назвал в этом числе фабрику бумажных табакерок г-на Лукутина, потому что она относительно стоит выше всех других. Табакерки, работанные на этой фабрике, по своей отличной отделке, изящной форме, живописи, а особенно по необычайной прочности своего лака решительно превосходят знаменитые брауншвейгские. Эти московские табакерки расходятся не в одной России: г-н Лукутин отправляет их в большом количестве за границу. Многие этому не верят. Не верил также этому и один из моих знакомых, пока не побывал в Париже. Отправляясь назад в Россию, ему вздумалось купить в Пале-рояле хорошую бумажную табакерку. Он выбрал ту, которая ему понравилась, и, любуясь ею, вероятно, пожалел в душе, что у нас в России не умеют еще так работать. Представьте же себе его удивление, когда, желая обновить свою покупку, он увидел на внутренней стороне крышки двуглавого русского орла и подпись фабриканта Лукутина. Знакомый мой этому порадовался, а я знаю людей, которых бы это весьма огорчило: купить русскую табакерку в Париже — да это такой срам, что его пережить нельзя!
Дураки
У меня был приятель — дай бог ему царство небесное! — Федосей Гаврилович Прутиков — истинно умный и добрый старик, но самый отчаянный и упрямый софист. Его любимый парадокс, который он защищал с необыкновенным искусством, покажется для всякого очень странным. Он уверял, что дураков нет на свете, что дурак есть существо мифическое, небывалое, что это просто выдумка, клевета на природу. «Да с чего взяли, — говорил он всегда, — что есть на свете дураки? Чистых, безусловных дураков нет в натуре; все дело состоит в том, чтоб каждый был на своем месте, и тогда, поверьте мне, дурак будет такой редкостью, что его станут за деньги показывать. Вот, например, природа создала Степана хорошим пастухом, а случай и люди сделали его судьею. Ну, разумеется, Степан за своим присутственным столом будет сидеть дурак дураком. Да разве он в этом виноват? Дайте-ка ему под команду коров да кнут в руки, так вы посмотрите, откуда у него и ум возьмется. Или знаете ли что? Представьте себе, что в карете сидит барин, который охотник до рысаков и выезжает их сам на бегу, а на козлах сидит кучер, который из отличных старост попал в прескверные кучера потому только, что у него черная окладистая борода и плечи в косую сажень. Барин, который сидит в карете, промотал глупым образом все наследственное имение: заводил конские заводы там, где и солома в чести, сажал на пашню безземельных крестьян и строил фабрики именно в тех деревнях, где много было земли, а мало рук; одним словом, во всю жизнь свою делал глупости. Кучер, который сидит на козлах, вовсе не умеет править лошадьми: одна у него везет, другая нет; ту затянет, этой даст волю, путается в вожжах, то зацепит за фонарный столб, то наедет на надолбы, — ну, такое животное, что не приведи господи! Что ж, батюшка? Вы верно скажете: «И в карете сидит дурак и на козлах дурак»… Ан нет, сударь: им стоит только поменяться местами, и они будут люди преумные».
Я обыкновенно, слушая моего приятеля, улыбался, не спорил с ним и дивился его красноречию, но в душе моей никогда не был с ним согласен. Нет, есть на свете природные дураки, которые во всяком состоянии и во всяком звании останутся дураками, только их не так много, как думают иные. Совершенные умницы и совершенные дураки редки, люди умные и люди простые встречаются несравненно чаще. Есть также люди, которые кажутся глупыми, а меж тем ведут себя и поступают очень умно, есть и такие, которые славятся своим умом и подлинно, на словах города берут, а посмотришь — поминутно делают глупости. Послушайте иного, — господи, боже мой! — начнет говорить о политической экономии, об умножении народного богатства, о государственном кредите, о погашении всех внутренних долгов — министр финансов, да и только!.. А поговорите с его приказчиком, так у вас волосы дыбом станут! Другой начнет толковать о воспитании детей — книга, заслушаешься! А поглядишь: у кого дочка убежала с каким-нибудь гусарским корнетом? — у него; у кого сыновья все до одного пострелы? — у него… Впрочем, все это одни исключения. Самая большая часть людей относительно ума — как бы вам сказать… ни то ни се: в них есть довольно здравого смысла, чтоб не делать пошлых глупостей, но нет довольно ума, чтоб по собственному побуждению решиться на что-нибудь новое или необыкновенное. Они готовы идти всю жизнь свою по той же самой битой тропинке, по которой шли их отцы и деды; собственно своего мнения они почти никогда не имеют: поживут с глупцом, а особливо начитанным, тотчас поглупеют; поживут с умным человеком, как будто бы сделаются умнее. Одним словом, эти господа походят на бесчисленные колеса какой-нибудь огромной и сложной машины; каждое из этих колес вертится очень хорошо на своей оси, но уж больше этого ничего и не требуйте, само собою оно не зацепит другого колеса, не приведет в движение рычага, не заставит вертеться шестерню: для этого нужна мысль и воля великого художника, под творческой рукой которого все эти бесчисленные колеса будут действовать заодно: станут подымать тяжести, чеканить монету, прясть бумагу, ткать узорчатые ковры; как птица, полетят по железной дороге и, как рыба, без весел и парусов, вспашут волны беспредельного океана. Зато уж к этой машине какой-нибудь шарлатан или мастер-самозванец и не притрогивайся — все пойдет вверх дном! А, к несчастию, это иногда бывает. Обыкновенно мнением этих господ ни то ни се, то есть мнением толпы, управляют умные люди, но подчас удается забрать эту власть к себе в руки или бойкому шарлатану, или наглому глупцу, и вот почему общее мнение, которое должно бы всегда оправдывать русскую пословицу «Глас народа — глас божий», бывает нередко ошибочным, несправедливым и даже иногда совершенно нелепым.
Вообще дураков можно разделить на три разряда: дураки — просто дураки, дураки с претензиями и дураки ученые. С господами первого разряда жить еще можно; с теми, которые принадлежат ко второму разряду, можно только жить по крайней необходимости, однако ж все-таки хоть с трудом, да можно; а не приведи вас господи не только жить, но иметь какое-нибудь дело с ученым глупцом. Будьте ласковы с простым дураком, не смейтесь над ним в глаза, погладьте иногда по головке — с него и довольно. Глупец с претензиями совсем другое дело: за ним надобен большой уход. Он чрезвычайно раздражителен, всем обижается, все осуждает, во все мешается, хочет быть знатоком в изящных искусствах, оценщиком талантов, и если сверх того он человек богатый или знатного рода, то любит окружать себя льстецами, которые кадят ему, обманывают, обирают и которых он обыкновенно называет людьми ему преданными. С глупцом этого разряда ужиться, конечно, нелегко: тут надобен и ум и сноровка; например, если он отпустит какую-нибудь пошлую остроту, тотчас засмейтесь, а если обмолвится и скажет что-нибудь не вовсе глупое, так начните хохотать до того, чтоб вас водой обливали; если он похвалит какие-нибудь плохие стихи — ставьте их тотчас рядом со стихами Жуковского и Пушкина; если покажет вам дурную копию с известной картины — восхищайтесь; если назовет ее оригиналом — верьте! Одним словом, что бы он ни сделал, что бы ни сказал, вы все это должны находить разумным, прекрасным, и если вдобавок к этому станете почаще и пониже ему кланяться, то уж, верно, с ним поладите. Но ученый дурак… нет, от него вы так дешево не отделаетесь!.. Что ему ваши поклоны! Он требует, чтоб ему не кланялись, а поклонялись, как воплощенной науке. Глупец с обширной памятью, которая дается иногда и пошлым дуракам, может быть отличной справочной книгой, хронологической таблицей, энциклопедическим словарем и даже ординарным профессором любого немецкого университета, но истинно ученым человеком никогда не будет, а он-то именно и думает, что он светильник между людьми. Конечно, дураки этого разряда попадаются нечасто, но если судьба сведет вас с одним из этих господ, то уж вы, конечно, не скажете, что в здешнем мире глупцы созданы для забавы умных людей, — а разве с душевным убеждением повторите прекрасный стих князя Шаховского: «Нет, глупость не порок, а все пороки в ней».
Большой колокол и Царь-пушка
Кто из приезжающих в Москву, а особенно в первый раз, не спешит побывать в Кремле, поклониться московским угодникам, взглянуть на царские терема, Красное крыльцо и Грановитую палату! Если Москва может назваться сердцем России, то и Кремль заслуживает это название относительно самой Москвы. Обыкновенно приезжие начинают или оканчивают свою прогулку в Кремль поклонением Иверской божией матери, вокруг часовни которой всегда толпится народ. В самом Кремле более всего, разумеется после святыни, обращают на себя внимание простолюдинов Большой колокол и Царь-пушка. Я думаю, нет такого отдаленного уголка в России, где не знали бы, хотя по рассказам, что в Москве есть колокол, которым можно, как шапкою, накрыть порядочную избу, и толстая пушка, которая так велика, что в ней солдаты в карты играют и что из нее никогда не стреляли: затем, дескать, что если из нее выпалить, так Иван Великий покачнется и стена кремлевская треснет.
Вот, рассказывают, однажды ночью Большой колокол, который стоит на своем каменном подножии, под самыми колоколами Ивана Великого, заговорил человеческим голосом.
— Куда, подумаешь, — сказал он, — я велик и славен! Кто на святой Руси не знает Большого московского колокола, в котором двенадцать тысяч пудов веса? Нельзя только мне удали-то своей показать: замолчали бы у меня все эти валдайские колокольчики, которые величают себя колоколами! Поубавил бы я в них спеси, а то туда ж, звонят себе, как будто путные, — бубенчики этакие!.. Эх, кабы воля да воля, рявкнул бы я так, что у меня бы вся Белокаменная ходуном заходила, а Москва-река из берегов выплеснулась! Да что и говорить: много в Кремле всяких колоколов и пушек, а кто мне пара?… Всех я и больше и тяжелее!
— Полно, соседушка! — заговорила Царь-пушка, разинув свою огромную пасть. — Не один ты велик и тяжел: в тебе двенадцать тысяч пуд весу, — ну, что ж я перед тобою? Зато, любезный, ты с изъянцем: у тебя край вышиблен, а во мне хоть только две тысячи четыреста пуд, да я целехонька. А годами-то со мной уж и не считайся! Тебя вылили на белый свет при императрице Анне Ивановне, а меня русский литец Андрей Чохов отлил при царе и великом князе Феодоре Ивановиче, — так я, голубчик, в бабушки тебе гожусь. Гневаешься ты, что над тобою звонят такие мелкие колоколишки… ну, кто говорит — обидно! Да мне-то разве легче? Посмотри, какую наклали подле меня мелюзгу, взглянуть не на что, — пистолетишки карманные! А еще зовут их пушками!.. Хороши пушки!.. Да что из них, горохом, что ль, стреляли?… Эх, соседушка, кабы тебе зазвонить, а мне выпалить, так уж подлинно Москва бы ходуном пошла!
— Да что вы так расхвастались? — сказал прохожий, который подслушал разговор. — Ты, колокол, велик, да что в тебе толку? Ты, пушка, толста, да на что ты годна? Ты, колокол, честишь другие колокола бубенчиками, — да они звонят, а в тебя звонить нельзя. Ты, пушка, называешь другие пушки пистолетишками, — да из них стреляли, а из тебя стрелять не можно. Так стойте-ка себе оба смирнехонько на своих местах да не больно чваньтесь. Пусть простой народ на вас зевает и дивуется вашей толстоте и дородству, — а вы себе знайте и ведайте, что в людях не тому почет, кто велик телом, да мал делом, дюж и дороден, да ни на что не пригоден, а тому, кто и мал, да удал и хоть собой невзрачен, да на все удачен. Мал золотник, да дорог, велика Федора, да дура.
Бульварный разговор
Третьего дня, гуляя на Тверском бульваре, я присел отдохнуть на скамье против самой беседки. Возле меня сидели два господина средних лет, один очень толстый, другой отменно худощавый. Мое соседство не помешало им продолжать начатый разговор, который я передаю своим читателям во всей его первобытной простоте и без всяких прикрас и замечаний с моей стороны.
— Так ты, Иван Алексеевич, был вчера на этом аукционе? — говорил толстый.
— Был, Андрей Степанович, — отвечал худощавый.
— Купил что-нибудь?
— Как же! Купил картину.
— Что, дорого заплатил?
— Триста двадцать пять рублей ассигнациями. Славная картина; огромная, братец, — во весь простенок… Одна рамка этих денег стоит.
— А что она представляет?
— Да как бы тебе сказать? Какое-то народное сходбище — фигур до тридцати будет. Особенно, братец, понравилась мне одна фигура: откуда ни зайди, она все на тебя смотрит, — удивительно!
— Так это, Иван Алексеевич, должен быть какой-нибудь оригинал?
— Да, я думаю! Знаешь ли, заметна этак фламандская замашка.
— Ну, любезный, поздравляю! Я сам сегодня на этом аукционе разорился: накупил книг.
— Каких?
— Французских, братец. Диковинный переплет! И все такого большого формата, с золотым обрезом; есть и с картинками. Прекрасные книги, любо посмотреть, братец! А в шкафу со стеклом еще будет виднее!.. Однако ж пора обедать. Пойдем, Иван Алексеевич!
Мои соседи встали и пошли скорыми шагами вниз к Никитскому бульвару.
Кремль при лунном свете
Как прекрасен, как великолепен наш Кремль в тихую летнюю ночь, когда вечерняя заря тухнет на западе и ночная красавица, полная луна, выплывая из облаков, обливает своим кротким светом и небеса, и всю землю! Если вы хотите провести несколько минут истинно блаженных, если хотите испытать этот неизъяснимо-сладостный покой души, который выше всех земных наслаждений, ступайте в лунную летнюю ночь полюбоваться нашим Кремлем, сядьте на одну из скамеек тротуара, который идет по самой закраине холма, забудьте на несколько времени и шумный свет с его безумием, и все ваши житейские заботы и дела и дайте хоть раз вздохнуть свободно бедной душе вашей, измученной и усталой от всех земных тревог… Поздно вечером вы никого не встретите в Кремле; часу в одиннадцатом ночи в нем раздаются одни только редкие оклики и мерные шаги часовых. Внизу, под вашими ногами, гремят проезжающие кареты, кричат извозчики, раздаются громкие речи гуляющих по набережной; с противоположного берега долетают до вас веселые песни фабричных, и глухой, невнятный говор всего Замоскворечья как будто шепчет вам на ухо о радостях, забавах и суете земной жизни. Но все это от вас далеко, — вы выше всего этого. Вот набежали тучки, светлый месяц прикрылся облаком, внизу густая тень легла на все Замоскворечье, потухли сверкающие волны реки и все дома подернулись туманом. Но здесь, на кремлевском холме, облитые светом главы соборов блестят по-прежнему и позлащенный крест Ивана Великого горит яркой звездою в вышине. Поглядите вокруг себя: как стройно и величаво подымаются перед вами эти древние соборы, в которых почивают нетленные тела святых угодников московских. О, как эта торжественная тишина, это безмолвие, это чувство близкой святыни, эти изукрашенные терема царей русских и в двух шагах их скромные гробницы, — как это отрывает вас от земли, тушит ваши страсти, умиляет сердце и наполняет его каким-то неизъяснимым спокойствием и миром! Внизу все еще движенье и суета: люди или хлопочут о делах своих, или помогают друг другу убивать время; а здесь все тихо, все спокойно и все так же живет, — но только другою жизнию. Эти высокие стены, древние башни и царские терема не безмолвны, — они говорят вам о былом, они воскрешают в душе вашей память о веках давно прошедших. Здесь все напоминает вам и бедствия и славу ваших предков, их страдания, их частные смуты и всегдашнюю веру в провидение, которое, так быстро и так дивно возвеличив Россию, хранит ее как избранное орудие для свершения неисповедимых судеб своих. Здесь вы окружены древнею русской святынею, вы беседуете с нею о небесной вашей родине. Как прилипший прах, душа ваша отрясает с себя все земные помыслы. Мысль о бесконечном дает ей крылья, и она возносится туда, где не станут уже делить людей на поколения и народы, где не будет уже ни веков, ни времени, ни плача, ни страданий… Испытайте это сами, придите в Кремль попозже вечером, и если вы еще не вовсе отвыкли беседовать с самим собою, если можете несколько минут прожить без людей, то вы, верно, скажете мне спасибо за этот совет. Впрочем, во всяком случае, вы не станете досадовать, если послушаетесь меня и побываете в Кремле, потому что он при лунном свете так прекрасен, что вы должны непременно это сделать, — хотя из любви к прекрасному.
Вороны
Проходя Петровскою площадью, я иногда останавливаюсь и смотрю с любопытством на стаи ворон, которые беспрестанно вьются над кровлею Большого театра; меня очень забавляют их усилия посидеть на остроконечной верхушке громового отвода. Они дерутся меж собой, кричат, суетятся, и если одной из ворон, побойчее других, удастся на несколько секунд удержать себя в равновесии, то другие бросаются на нее целою гурьбою, бьют ее крыльями, щиплют и тотчас сгоняют.
«Вот животное-то, как ни говорите, а все глупее человека! — думаю я всякий раз, смотря на эти воздушные побоища. — Ну что за охота этим глупым воронам хлопотать, мучиться, терпеть побои, держаться одной ногой на остром беспокойном шпице, и все это для того только, чтоб просидеть четверть минуты повыше других!»
Выход второй
I Петровский парк и воксал
По моему сужденью,
Пожар способствовал ей много к украшенью.
ГрибоедовВероятно, эти два стиха из комедии «Горе от ума» заставляли вас всегда смеяться, и я также, слушая их, смеюсь, а ведь если рассудить хорошенько, так Сергей Сергеевич Скалозуб говорит совершенную правду. Конечно, пожар двенадцатого года весьма способствовал к украшению Москвы. Постепенное улучшение, не допускающее никаких насильственных мер, требует много времени; нельзя заставить хозяина какого-нибудь безобразного и уродливого дома сломать его и построить новый; если же этот дом сгорел, то правительство вправе требовать, чтоб при постройке нового дома соблюдены были все необходимые условия если не изящной, то, по крайней мере, правильной архитектуры. Но это еще один дом, а что будете вы делать с целыми улицами, кривыми, тесными, в которых один дом стоит вкось, другой боком, третий прячется назад, а четвертый выходит вперед и захватывает половину улицы, и без того похожей на узкий переулок; тут уж горю пособить нечем. «Следовательно, — скажет какой-нибудь насмешник, — мы должны радоваться, что в двенадцатом году Москва почти вся сгорела». Избави, господи! Я говорю только, что она не была бы так хороша, если б ее не нужно было всю вновь перестраивать. Как жаль, что сравнение с фениксом, который возрождается из своего пепла прекраснее, чем был прежде, так часто употреблялось некстати и сделалось до того пошлым, что почти совестно употребить его, говоря о Москве. А ведь трудно найти сравнение, которое было бы во всех отношениях вернее этого, — начиная даже с того, что Москва превратилась в пепел не случайно, не по воле врага, но по собственному своему желанию. Нельзя довольно надивиться, когда посмотришь, что сделано для Москвы в течение последних двадцати пяти лет под управлением того, который, облеченный доверенностию русского царя, так долго и с таким постоянным рвением заботится об ее благосостоянии. Не говоря уже об огромном Петровском театре, о великолепной набережной по той стороне реки, между Каменным и Москворецким мостами, о бульварах и о множестве других улучшений, имеющих целью одну красоту и великолепие города, — сколько сделано в течение этих двадцати пяти лет для существенной пользы и блага московских жителей! Крутые спуски, от которых езда по Москве не всегда была безопасною, везде срыты, и грязные, заплывшие тиною пруды превратились в светлые бассейны, обсаженные тенистыми липами. Придет ли кому в голову, что этот широкий бульвар на Трубе, со своими зелеными полянами и гладкими дорожками, был не так еще давно почти непроходимым и зловонным болотом! Кто поверит, что несколько лет тому назад на том самом месте, где теперь красивые сады опоясывают западную часть кремлевской стены, был безобразный ров, заваленный всякою отвратительною нечистотою? Любуясь изящной и легкой архитектурой Москворецкого моста, вспомните, что недавно еще один только Каменный мост соединял весной все Замоскворечье с остальной частью города. Сколько раз, бывало, проездом в Троицкую лавру, останавливался я в Больших Мытищах для того только, чтоб напиться знаменитой мытищинской воды, которая издавна славится своею свежестию, чистотою и чрезвычайно приятным вкусом, или, лучше сказать, совершенным отсутствием всякого вкуса — главным достоинством хорошей пресной воды. Как часто жалел я, что предположение императрицы Екатерины II не было исполнено и что эта превосходная вода не проведена в Москву. И вот уже несколько лет, как она в самой средине города, на всех площадях, окружающих Кремль, бьет из водометов, украшенных прелестными группами московского художника Витали. И вот уж мы почти забыли, что это величайшее благодеяние, оказанное московским жителям, принадлежит нашему времени. Пройдет еще несколько лет, и нам будет казаться, что это всегда так было, и даже, — я уверен в этом, — мы станем гневаться за то, что у нас нет фонтанов во всех частях города. Уж, видно, человек так создан: с улучшением его положения всегда умножаются его требования, и то, что вчера казалось ему благодеянием, становится завтра естественною обязанностию, за выполнение которой он даже и благодарить не должен.
Создание Петровского парка принадлежит также нашему времени. Если вы, любезные читатели, не забыли мою прогулку в Марьину рощу, то, вероятно, вспомните также, что я намерен был проехать из нее в парк, для того чтоб в один и тот же день взглянуть на два общества, совершенно различные между собою. «Давно ли, — думал я, подъезжая к этому любимому гулянью московской аристократии, — давно ли было здесь чистое поле, на котором не росло ни одного деревца, не красовалось ни одного домика: направо — однообразное и бесконечное Ходынское поле, налево — продолжение того же поля, песчаная земля, глиняные копи, кое-где ряды с тощей зеленью и несколько лачужек, в которых жили огородники, — вот все, что представлялось вашим взорам, когда вы, миновав Петровский дворец, прекрасное здание мавританской архитектуры, переделанной на европейские нравы, продолжали ехать к Тверской заставе». А теперь!.. Посмотрите, каким роскошным ковром раскинулся этот веселый парк, как разбегаются во все стороны его широкие, укатанные дороги, с каким изящным вкусом разбросаны его рощи, опушенные цветами и благовонным кустарником, какой свежей и яркой зеленью покрыты его обширные поляны, как мил и живописен этот небольшой пруд со своими покатыми берегами и прелестными мостиками! А это тройное шоссе с двумя бульварами, обставленное с обеих сторон загородными домами, которые, начинаясь от заставы, тянутся до самого парка, эти дачи, которые обхватили такой разнообразной и красивой цепью строений большую часть парка, эти чистые и веселые домики, которые столпились кругом дворца, этот игрушка летний театр со своим греческим портиком и огромный воксал со всеми своими затеями, — лет десять тому назад обо всем этом и речи не было.
При самом въезде в парк я должен был сойти с дрожек, потому что мимо воксала было каретное гулянье, в котором смиренному экипажу в одну лошадь не дозволяется участвовать. Я пошел пешком по широкому тротуару, минуты через три попал в толпу гуляющих и, пройдя несколько шагов, остановился, чтоб взглянуть сначала на горы, а потом на круглые и висячие качели и разные другие детские забавы, которые подчас забавляют и людей пожилых. Я удостоверился в этом, глядя на одного человека лет тридцати. Куря весьма важно свою сигару, он сидел на деревянном коне, который то опускался, то подымался на своей гибкой перекладине. Признаюсь, я почти позавидовал стоическому спокойствию и совершенному равнодушию, с которым этот пожилой дитя поглядывал на толпу любопытных зрителей, несмотря на то что многие из них указывали на него пальцами и смеялись. Миновав воксал, огромное и красивое здание, — право, не знаю, какой архитектуры, — я дошел до небольшой рощи, в которой играла музыка. Вдоль по опушке этой рощи в открытых беседках, построенных простыми навесами, сидели по большей части дамы, только уже вовсе не похожие на тех, которых я видел в Марьиной роще. Я нашел в одной из этих беседок порожний стул, сел на него и очень обрадовался, когда узнал в моем соседе с левой стороны того самого словоохотливого камергера, с которым я провел вечер на балу у Андрея Николаевича Радушина. Мы тотчас возобновили наше знакомство.
— Странная вещь, — сказал камергер, — у меня было предчувствие, что мы сегодня опять с вами встретимся, точно предчувствие! Мне кажется, что всякий раз, когда я бываю на балу, на гулянье, в театре — одним словом, в большом обществе, я непременно должен с вами сойтись. Не знаю, почему, но только мне с вами так ловко, так свободно, как будто бы мы век прожили вместе. Уж не двойники ли мы?
— А почему знать, — сказал я с улыбкой, — может быть, я и в самом деле ваш двойник.
— Надеюсь, по крайней мере, на сегодняшний вечер, — прервал камергер. — Вы будете в воксале?
— Как же? Я для этого и приехал… А скажите мне, отчего здесь так много народу? Что сегодня, праздник, что ль, какой?
— Нет, просто воскресенье и хорошая погода.
— И все, что мы видим, будет в воксале?
— О, это другое дело! За гулянье не берут ничего, а за вход в воксал платят деньги. Однако ж, я думаю, сегодня и в воксале не вовсе будет пусто.
Тут подошел к моему приятелю человек небольшого роста, в сюртуке нараспашку, в легком суконном каскете и с толстой палкою в руке. Если б сосед мой не сказал мне после, что этому господину без малого семьдесят лет, то я никак бы не отгадал этого. Все движения его были так свободны и так быстры, его румяные щеки, веселый взгляд, ласковые речи и приветливая улыбка исполнены были такого юношеского простодушия и жизни, что я невольно вспомнил про некоторых известных мне двадцатилетних философов и отчаянных гегелистов, которые показались бы старыми перед этим семидесятилетним стариком.
«О премудрые юноши, — подумал я, — что-то с вами будет, когда вы доживете до этих лет? Мы, дескать, все мыслители, мы все идем за нашим веком. Нет, господа, вы только заедаете ваш собственный век. Ну что за жизнь, в которой нет ни весны, ни лета, а только одна осень да зима? Кто говорит, хорошо и молодому человеку отрешать себя от этих ничтожных забав света и суеты мирской, — да только не ради Гегеля».
— Ну что, моя душа, — сказал этот любезный старик, пожимая дружески руку у моего соседа, — будешь в воксале?
— Буду.
— Так пора; через полчаса зажгут фейерверк. Э, да это, кажется, княгиня Вера Андреевна! — продолжал он, взглянув на пожилую даму, которая сидела в одной с нами беседке. — Да, так точно!.. И с обеими дочерьми!.. О, да их надобно непременно завербовать. Без них бал не бал!.. А вот и Матрена Дмитриевна с племянницей… Какой у них щегольской экипаж!.. Пора в воксал, Матрена Дмитриевна!.. Вы будете?… Да!.. А, князь Иван!.. Постойте-ка, батюшка, ваше сиятельство, — одно слово!.. А ты, мой друг, отправляйся в воксал. Я сейчас буду!..
— Пойдемте, — сказал мне камергер. Мы встали.
— Вот истинно счастливая старость! — продолжал он, идя вместе со мною к воротам воксала. — Сколько еще жизни в этом семидесятилетнем старике! И как полна была его жизнь!.. Попробуйте заведите с ним разговор о старине, так он порасскажет вам о таких диковинках, что вы заслушаетесь! Он служил при дворе во времена Екатерины, имел счастие беседовать с Суворовым и представлялся Наполеону, когда еще он был только первым консулом. Кого он не знал, чего он не видал и чего не испытал, не исключая горя, — да еще какого!.. О, в жизни его были тяжкие минуты, но природная веселость одолела все. Подлинно, если можно чему позавидовать, так это счастливому характеру человека, сохранившего и под старость всю беспечную веселость юноши, который горюет и смеется почти в одно и то же время.
У ворот воксала мы взяли билеты и, пройдя несколько шагов двором, подошли к крыльцу, на котором стояли жандармы и полицейский чиновник. В самом воксале почти никого еще не было.
Надобно сказать правду, трудно было бы придумать что-нибудь лучше и приятнее этого сборного места посетителей Петровского парка. Крытые широкие террасы, прекрасные галереи, чистые красивые комнаты и огромная зала в два света истинно изящной архитектуры; совершенная свобода: все мужчины в сюртуках, все дамы в шляпках; хороший ужин, музыка для желающих танцевать, отличный хор цыган для тех, которые любят цыганские песни, — а этих любителей в Москве очень много; полковая музыка и фейерверк для всех. Одним словом, воксал Петровского парка мог бы стать наряду с лучшими европейскими заведениями в этом роде, если бы у нас было побольше хороших летних дней и поменьше людей, для которых за морем все мило, а дома все не по душе. Исполнение первого условия зависит не от нас, хотя и в Москве иногда лето бывает прекрасное; что ж касается до второго условия, то, бог милостив, авось и оно когда-нибудь сделается для нас возможным: ведь не век же нам оставаться детьми, для которых чужая игрушка всегда кажется лучше своей.
Через полчаса собралось в воксал человек полтораста. Вот первая ракета зашипела, взвилась под облака и рассыпалась огненным дождем над кровлей воксала. В одну минуту опустели все залы: боковые террасы и средний балкон покрылись зрителями. Я также вместе с моим неразлучным товарищем вышел на балкон. Огненная потеха продолжалась минут десять и окончилась, как следует, павильоном, или букетом, то есть полсотнею ракет и двумя бураками, которые взлетели в одно время на воздух. Мы возвратились в большую залу, прошли по ней раза два и, когда музыка заиграла вальс, присели в уголку подле двух дам. Их лица показались мне знакомыми, но если б мой товарищ не назвал этих дам по имени, то я не скоро бы отгадал, что имею честь сидеть подле двух артисток французской труппы. Они разговаривали между собой довольно громко, и, разумеется, дело шло о притеснениях и обидах, — обыкновенный разговор всех актрис, из которых я еще не встречал ни одной, которая не была бы чем-нибудь обижена или притеснена. В особенности одна из этих артисток, женщина лет за сорок, горько жаловалась на несправедливость начальства, не дозволяющего ей играть молодых любовниц и отдающего эти роли девчонке неопытной, бездарной, которая нравится публике только потому, что всем делает глазки и перемигивается с креслами.
— Представьте себе, — говорила она, разумеется, по-французски, — эта мерзкая интриганка, которой бы следовало занимать в нашей труппе место ютилите или даже аксессуара, лезет в первые амплуа и хочет играть все роли госпожи Алан! Надобно же иметь медный лоб!.. А как дерзка, как нагла! Третьего дня она до того кривлялась и кокетничала с каким-то господином, который сидел в первом ряду кресел, что забыла свою реплику, — начала врать вздор, сбила совершенно с толку суфлера да его же, бедного, толк ногою в самый нос!
— Что вы говорите!
— Да, да! Этого никто не заметил, а я видела, — точно видела!
— Так что ж он не пожалуется?
— И, ma chere! Да как он смеет? Ведь у нее так много протекторов: весь город и все предместия.
— Как вы злы, ma chere!
Сначала я слушал с некоторым любопытством эту закулисную болтовню, но под конец мне сделалось скучно, и я обратил все внимание на французскую кадриль, в которой кавалеры танцевали в шляпах, а дамы в шляпках, в мантильях и даже одна в своем бурнусе. Глядя на кадриль, я невольно вспомнил, как отличался тому лет сорок назад в этом классическом танце, с какой отчетливостью выделывал свои балансе, па-де-коте и шасе-ан-аван, с какой легкостью выполнял я этот блестящий па-де-ригодон, доступный только для первых учеников незабвенной памяти знаменитого московского танцмейстера Меранвиля.
«И эти пешеходы, — подумал я, поправив с гордостию мой галстух, — воображают, что они танцуют французскую кадриль!.. Нет, господа, мы не так ее танцевали в старину!.. Что это такое?… Дамы еще как будто бы делают какие-то па, а эти жалкие кавалеры… да они просто ходят и даже не в такт… И это называют танцами!..»
Первая кадриль кончилась; вслед за нею составилась другая.
— Кто эта молодая девица? — спросил я у моего товарища. — Вот, что танцует против нас… в розовой газовой шляпке с белыми цветами?… Как она хороша собою!
— Да, это правда! Только она не девица.
— Неужели замужем?
— И уж давно, то есть несколько лет.
— Вот этого бы я никак не подумал. Как она грациозна!
— Да!
— Какая пленительная улыбка!
— Да!
— Я думаю, она должна быть очень любезна и мила?
— Да, говорят, что она любезна и мила.
— Говорят? Так вы с нею не знакомы?
— Нет, знаком; да мне без малого пятьдесят лет, а эта дама разговаривает и даже кланяется только с теми, которым не более тридцати. Уж, видно, у нее такая привычка.
— Однако ж она разговаривает со своим кавалером, а он, кажется, человек пожилой.
— Кто? Этот господин с рыжеватой бородкой?… О, это другое дело! Он один из московских львов, а эти господа пользуются всеми правами молодых людей; да и кому придет в голову, что человек пожилой решится носить бороду, одеваться по модной картинке и танцевать до упаду?
— Понять не могу, как есть люди, которые, прожив полвека…
— Дурачатся наравне с молодыми повесами?… Да, это, конечно, странно, а особенно когда между ними встречаются, хотя и очень редко, однако ж все-таки встречаются, люди весьма неглупые. То-то и есть, видно, ум и благоразумие не всегда уживаются вместе.
— Полно, так ли? — сказал я. — Англия наполнена чудаками, которых странные поступки и нелепые причуды не доказывают большого благоразумия, а ведь, право, англичане люди вовсе не глупые и весьма благоразумно обрабатывают свои дела; а если надобно подняться на хитрости, так проведут хоть кого и за пояс заткнут своих ветреных соседей, несмотря на все их остроумие.
— Об англичанах не говорите! Их странности имеют своим основанием совсем другую причину. Англичанин оденется каким-нибудь шутом или станет поступать вопреки всем принятым обычаям вовсе не для того, чтоб обратить на себя внимание или отличиться чем-нибудь от других: он это делает по гордости. У себя дома он еще соблюдает некоторые приличия, но вне своего отечества англичанин ставит себя выше всякого общего мнения: он делает все, что ему придет в голову, и, выполняя свои причуды, не заботится нимало, что скажет об этом общество, которого мнением он вовсе не дорожит. Да вот, кстати, — посмотрите на этого господина, у которого сюртук опускается до самых пяток… ну, вот, что танцует с дамою и лиловой шляпе. Он путешественник, англичанин и, могу вас уверить, человек очень умный.
Я взглянул и онемел от удивления. Представьте себе господина пожилых лет, высокого и худощавого, в долгополом неуклюжем сюртуке, в башмаках и штиблетах; представьте себе на длинной, бесконечной шее угрюмое и бледное лицо, осененное огромным носом, гладко выбритый подбородок, обхваченный снизу тонкой каймою рыжих волос, и пару серых оловянных глаз, из которых в правый воткнута черепаховая лорнетка. Представьте себе, что это святочное пугало не танцует французской кадрили, — хотя и это было бы довольно забавно, — но работает как лошадь, коверкается, изгибается, прыгает, переплетает ноги и выделывает ими такие узоры, что глазам не веришь. Его дама закрывает платком рот. Все вокруг его смеются вслух, хохочут ему в глаза; что ж он — сердится? Нет. Сам смеется? Нет. Он продолжает с тем же самым важным и неподвижным лицом вырабатывать с механическою точностию разные танцевальные сальто-мортали, один другого вычурнее и глупее. Ну, точь-в-точь огромная выпускная кукла, которая двигается и прыгает до тех пор, пока в ней не сойдет пружина.
— И вы говорите, — сказал я камергеру, — что этот нарядный шут умный человек?
— И умный, и рассудительный, и очень просвещенный.
— Да помилуйте! Станет ли умный человек выкидывать такие балаганные штуки в присутствии целого общества?
— Но если он совершенно равнодушен и к похвалам и к насмешкам этого общества, так оно как будто бы для него не существует.
— Как не существует, когда он из кожи лезет, чтоб позабавить всю честную компанию?
— Да он вовсе никого не забавляет — и не думает об этом.
— Так из чего же он трудится?… Зачем делает такие удивительные скачки?…
— Зачем?… Чтоб вспотеть хорошенько. Он говорит, что это необходимо для его здоровья.
Кадриль кончилась; англичанин обтер платком лицо, кивнул головою даме, запустил обе руки в карманы своего сюртука и пошел, переваливаясь с ноги на ногу, в ту сторону, где раздавались песни цыган. Мы отправились вслед за ним. В конце длинной галереи сидели полукружием смуглые певицы, не слишком красивые собою, но все с блестящими черными глазами. Трудно было бы отгадать по их платью, что они цыганки; их прежний наряд, с перекинутым через одно плечо платком, был гораздо живописнее. Теперь они как две капли воды походят на горничных девок самого низшего разряда, которые принарядились, чтоб идти под качели. Позади их стояли рослые цыгане в купеческих кафтанах и сибирках. Насупротив, также полукругом, поставлены были в несколько рядов стулья; на них сидели по большей части дамы, а мужчины толпились кругом, ходили взад и вперед или сидели вдоль стен залы на обитых ситцем скамьях.
Цыгане пели, и довольно дурно, какую-то протяжную песню в три голоса.
— Вот это вовсе не по их части! — сказал я камергеру. — Мне не очень нравятся их дикие, неистовые вопли, их бешеные выходки и визготня, составляющие отличительный характер цыганских песен, но, по крайней мере, в этом музыкальном бесновании есть что-то оригинальное, поражающее вас своей новостию, странным смешением разладицы с согласием, неожиданными переходами из одного мотива в другой и какой-то жизнью — безумной, это правда, но исполненной силы и движения, а это вялое пение, на манер французских романсов, приправленное какими-то глупыми, некстати приткнутыми руладами, эти черствые, полуосипшие голоса, которые прикидываются нежными, — все это, по-моему, чрезвычайно дурно, и, признаюсь, я не могу надивиться терпению наших дам… Посмотрите, с каким вниманием слушают они это дурацкое мяуканье… Нет, нет, вот, кажется, одна начинает уже понемножку морщиться.
— Кто?… Вот та, что сидит крайняя в первом ряду?… Да, я думаю, что ей тошно. Это одна из наших московских барышень-певиц, которая стала бы наряду первых европейских артисток, если б родилась не дворянкой. Теперь только одни избранные могут восхищаться ее пленительным голосом и жалеть, что случай и общественные условия заключили в такие границы огромный талант, для жизни которого всегда необходимы простор и рукоплескания очарованной толпы.
— А кто эта дама, что сидит подле нее?
— А! — сказал с улыбкой камергер. — Вы заметили?… Не правда ли, что хороша?
— Удивительно!.. Ее можно бы назвать совершенной красавицею, если б она была немножко потоньше…
— И очень любезной женщиной, если б она не так занималась своей красотой, поменьше рисовалась и не думала, что эта красота дает ей право самовластно царствовать даже и над теми, которые почли бы за счастие быть ее друзьями, но вовсе не имеют желания умножать собою число ее подданных. Ей не мешало бы иногда подумать, что власть красоты есть самая ненадежная из всех властей и что поклонники ее точно так же, как и поклонники богатства, ужасные эгоисты: и те и другие любят не вас, а ваше богатство или красоту. Первое еще можно сохранить до самой смерти, а ведь красота — дело скоропреходящее… Да что ж это такое? — прибавил камергер. — Уж я никак начал говорить поучительные речи?… Послушаемте-ка лучше цыган; вот они собираются петь что-то хором.
Один из цыган, детина среднего роста в обшитом позументами казакине, вышел вперед; он держал в руках гитару.
— Это, верно, их запевало? — спросил я.
— Да! Он старший в их таборе.
— Однако ж не летами. Какой бравый детина! Как он ловок, развязен; сколько огня во всех его движениях. Ну, подлинно молодец!
— А знаете ли, сколько лет этому молодцу?
— Под сорок…
— Давным-давно за шестьдесят.
Тут этот почти семидесятилетний бандурист ударил по струнам своей гитары. Глаза его засверкали; все смуглые певицы встрепенулись; одна старая, толстая и безобразная цыганка завертелась как беснующая на своем стуле. Цыган махнул отрывисто правой рукой, и вот грянул хор и разразился каким-то ураганом оглушающих, диких и в то же время гармонических звуков. Подле нас стояли два француза. Они, казалось, были в восторге от этого бешеного хора.
— Comme c'est echevele! — шептал один из них.
— C'est ravissant! — восклицал другой.
— Да, да! — проговорил позади их исковерканным французским языком тот самый англичанин, который так усердно танцевал французскую кадриль. — Год-дем! Как эти голоса напоминают мне вой моих охотничьих собак, когда их запрут на псарню!
Вот мотив песни изменился. Голоса стихли; тоненькое, едва слышное сопрано пропело несколько тактов, — и вот снова грянул хор, и тихий голосок утонул в этом приливе звуков, как одинокая капля… чуть было не сказал, в бурном море, да, к счастию, вспомнил, что в прозе дозволяется быть поэтом только до некоторой степени. В двух шагах от меня сидел около стены человек пожилых лет; взглянув на него нечаянно, я заметил, что он необыкновенно бледен; это заставило меня еще раз оглянуться. В эту самую минуту цыгане, кончив свой хор, запели плясовую песню. Вдруг пожилой господин, на которого я смотрел, покачнулся и грянулся об пол. Вслед за этим раздались пронзительные крики. Жена и две дочери несчастного бросились к нему на помощь. Все засуетилось, пришло в движение. Толпа, окружавшая цыган, стеснилась вокруг умирающего.
— Доктора, скорей доктора!.. Ему надобно пустить кровь!.. — кричали со всех сторон.
Англичанин схватил его за руку, засучил рукав и вынул из кармана перочинный ножик.
— Позвольте, позвольте! — раздался громкий голос. Толпа расступилась, и один из наших известных московских медиков подошел торопливо к лежащему без чувств господину, взял его за пульс; потом приложил руку к сердцу и, помолчав несколько времени, сказал вполголоса:
— Он умер!
О, каким ужасом поразили эти слова толпу, за минуту до того веселую и беспечную!.. Как изменились все лица, когда на этот пир, кипящий жизнию, пожаловала нежданная, непрошеная гостья — гостья неминучая и дорогая, но которую мы так редко встречаем с радостию и веселием. В полминуты во всех освещенных залах воксала не осталось никого, кроме нескольких полицейских чиновников и отчаянной семьи умершего. Я вышел вслед за другими, отыскал мои пролетки и отправился домой.
Не стану рассказывать вам, что думал я дорогою; кажется, было о чем поразмыслить и повторить не раз так часто повторяемый нами вопрос: «Ну, скажите, что такое жизнь человеческая?…»
Думал ли этот отец семейства, отправляясь в воксал, что дни его сочтены и что он, — страшно подумать, — умрет под цыганскую песню!.. Боже мой, боже мой, как ничтожна эта земная жизнь, которую мы ценим так дорого! Мы станем смеяться над тем, кто будет украшать и отделывать с большим старанием постоялый двор, на котором сбирается прожить несколько часов, — а сами… Да что говорить об этом!.. Кто из нас не разыгрывает в лицах русскую пословицу «Гром не грянет, мужик не перекрестится». Утихнет гроза, взойдет солнышко, и мы как ни в чем не бывало опять затянем гулевую песню до новой грозы и нового удара!..
Рассуждая таким образом, я вспомнил об одном давно уже забытом послании, из которого очень кстати пришли мне на память следующие, весьма посредственные, но совершенно справедливые четыре стиха:
Сегодня я здоров, а завтра бил мой час, И часто, может быть забыв, о друг мой милый, Что жизнь зависит не от нас, Мы пляшем над своей могилой.II Городские слухи
C'est une des plus bizarres et des plus generales
dispositions de 1'esprit humain, que cette sorte
d'inquиtude d'oщ nait le besoin d'apprendre
et de rиpandre des nouvelles.
JouyВ числе русских старинных поверий есть одно весьма странное: наш простой народ уверен, что когда льют необыкновенной величины колокол и хотят, чтоб эта работа шла успешно, то непременно пускают в ход какую-нибудь ложь и стараются распространять ее в народе. Если это подлинно справедливо, то вряд ли где-нибудь льют так много колоколов, как в нашей матушке Москве белокаменной. Говорят, в древние времена афинские жители славились не столько своей любовью к изящным художествам и философии, как своей постоянной страстию, или, лучше сказать, жадностию, ко всем новостям, ложным или справедливым — об этом они не заботились; главное дело состояло в том, чтоб услышать самому или пересказать другим что-нибудь новенькое. Мы, москвичи, в этом случае очень походим на афинян; разница только в том, что они менялись своими новостями на городской площади, а мы развозим их из дома в дом. Самые свежие известия о производствах и наградах играют в этих новостях главную роль. Сколько на моем веку было пережаловано в генералы людей, которые и до сих пор еще полковники; сколько статских советников, произведенных в действительные статские, которые умерли высокородными. Едва ли на небе есть столько звезд, сколько их роздано чиновникам, из которых, вероятно, многие и теперь еще ничего не носят по мундиру. В иной год эта городская молва очень щедра на чины, в другой — на ленты, а иногда с необыкновенным усердием раздает графские достоинства. Вслед за этими официальными новостями занимают первое место новости о необыкновенных случаях; к этому разряду принадлежат: неожиданные свадьбы, похищения, самоубийства и затейливые воровства, в которых вор играет обыкновенно самую интересную роль и проводит отличным образом полицию. В Москве также нередко умирают внезапной смертью люди, которые в день своих похорон, то есть на третий день после смерти, преспокойно играют в вист или танцуют на каком-нибудь бале. Иногда появляется около Москвы невиданный и неслыханный зверь, который таскает из стада быков и глотает людей целиком, как мух. Разумеется, на поверку выходит, что этот допотопный зверь — простой волк, которого впоследствии какой-нибудь мужик убьет дубинкою, но многие этому не верят и шепотом толкуют меж собой, что это должен быть упущенный из клетки тигр или, по крайней мере, необычайной величины гиена. Вообще новости, самые интересные и более других возбуждающие всеобщее участие, бывают трагического и даже мелодраматического содержания. Я заметил также, что почти всегда одно истинное происшествие, не вовсе обычайное, порождает несколько ложных, разумеется, в том же самом роде. Вот не очень еще давно ревнивый муж в припадке безумия умертвил ужасным образом свою жену и малолетнего сына и убил самого себя. В Москве не перестали еще разговаривать об этом происшествии, как вдруг разнесся слух, что один молодой человек известной фамилии, который только что женился, и разумеется по любви, зарезал свою жену и, вероятно, убил бы и ребенка, если б у них был ребенок. Эта новость, в достоверности которой никто не сомневался, взволновала все умы; одни принялись позорить отца и мать убитой женщины за то, что они выдали свою дочь за такого беспутного мальчишку; другие, защищая его, говорили, что он сделал это из ревности и что имел полное право ревновать свою жену. «Вот, — толковали старушки, — поехал, разбойник, в подмосковную провести на иностранный манер какой-то медовый месяц. Вот тебе и медовый месяц!» Мне рассказывали, что этот злодей-муж приказал несчастной жене своей как обреченной на смерть жертве нарядиться в ее подвенечное платье; мне описывали, как она, умирая под ножом убийцы, молила о пощаде, клялась в своей невинности, как он таскал ее за волосы, топтал ногами и наконец медленно и с ужасным варварством перерезал ей горло. Были и такие рассказчики, которые могли описать вам с необычайной точностию не только все страдания этой бедной женщины, но даже форму и величину ножа, которым она была зарезана. И вдруг, представьте себе удивление этих господ — и убийца-муж, и зарезанная жена явились оба на одном большом бале и как нарочно протанцевали вместе первую французскую кадриль.
Я должен предуведомить моих читателей, что сцены, которые они прочтут в этой главе, основаны вовсе не на выдумке. Лет двенадцать или пятнадцать тому назад, — не помню хорошенько, — вся Москва толковала об этой необычайной и ужасной смерти одного чиновного человека, который впоследствии оказался не только живым, но даже совершенно здоровым.
Гостиная комната, убранная опрятно, но без роскоши. Надежда Васильевна Влонская, барыня лет тридцати пяти, в щеголеватом шелковом капоте, сидит перед пяльцами и вышивает по канве. Супруг ее, Дмитрий Кондратьич Влонский, мужчина лет за сорок, развалясь в больших креслах, читает «Московские ведомости». В одном углу, на низеньком столике, Ванюша, сын их, мальчик лет семи, строит карточный домик; подле него стоит нянюшка, женщина средних лет, в ситцевом платье и черном коленкоровом переднике.
Ванюша. Няня, няня, посмотри-ка, — еще сверху дом построил.
Влонский. Полно шуметь, Ванюша! Не даешь делом заняться. (Читая газету.) Гм… Гм… Да!.. «Из С-Петербурга: генерал-майор Крикуновский… действительный статский советник Мигунков… надворный советник Свиблов… отставной майор… Нет!.. Что ж это мне говорил Иван Иванович Сицкий, что дядя его, Алексей Тихонович Волоколамский, должен приехать из Санкт-Петербурга непременно к третьему числу… а ведь сегодня, кажется, уже пятое?
Влонская. И, Дмитрий Кондратьич, охота тебе верить этому хвастуну!.. Что скажет, то солжет.
Влонский. Да из чего тут лгать?
Влонская. Да так — чтоб солгать.
Влонский. Полно, жена. Уж ты больно на него нападаешь! Я, право, не заметил, чтоб он лгал. Он человек порядочный…
Влонская. Ну так хвали, хвали его!.. Да, пожалуйста, при Глашеньке, — это будет еще умнее.
Влонский. Помилуй, матушка! Неужели ты в самом деле думаешь?…
Влонская. Я ничего не думаю, я знаю только, что этот Иван Иванович, у которого всего-навсего пятьдесят душ крестьян, ухаживает за нашей дочерью.
Влонский. Да с чего ты это взяла?… Разве он делал нам предложение?
Влонская. Вот то-то и худо, мой друг!.. Если б он сделал нам предложение, так мы бы ему отказали и тогда он поневоле перестал бы к нам ездить… Эх, Дмитрий Кондратьич, добьешься ты чего-нибудь с твоею деликатностию!.. Кабы ты послушался меня да не велел бы его принимать!..
Влонский. Воля твоя, мой друг, я не могу этого сделать. Он человек такой вежливый, хороший… Ну за что я его обижу? Может быть, он и не думает свататься за Глашеньку.
Влонская. Право?… А что значат эти частые посещения?… Что он, в меня, что ль, влюблен?… Конечно, он ничего лишнего не может сказать Глашеньке: она всегда со мною, но зато как он на нее смотрит!.. Ну, веришь ли, иногда возьмет такое зло, что так бы ему глаза и выцарапала!.. Наглец этакий!.. Ни стыда, ни совести!.. Уж я ли, кажется, не обхожусь с ним холодно, только что не говорю: «Да уймитесь, батюшка, к нам ездить!» Нет, сударь, лезет, как лезет в глаза! Ну, нечего сказать, истинно у этого Ивана Ивановича медный лоб! (Ванюша вслушивается в слова своей матери и смотрит на нее с удивлением.)
Влонский. Да полно, правда ли, мой друг, что он так беден?
Влонская. Ну вот еще!.. А не сам ли он нам рассказывал, что ему досталось только пятьдесят душ после покойного отца, который, — не тем будь помянут, — пропил на шампанском да проездил на рысаках и свое и женино именье?
Влонский. А дядя-то его Алексей Тихонович Волоколамский?…
Влонская. Что дядя!.. Конечно, он богат, у него три тысячи душ, и если бы он прошлого года не женился… то есть не сошел с ума…
Влонский. А почему так?… Он человек нестарый, ему нет и пятидесяти… Впрочем, если он умрет бездетен…
Влонская. Да, дожидайся!.. И не увидишь, как с полдюжины детей будет… А нет, так все именье укрепит молодой жене…
Влонский. Правда, правда!.. Нет, уж тут бедному Сицкому дожидаться нечего. Однако ж неужели он его ничем не наградит?
Влонская. Может быть, отсыплет ему тысяч десяток на свадьбу — вот и все!
Влонский. Только-то?
Влонская. А ты думаешь, больше? Нет, душенька, не такой он человек — не расшибется!
Влонский. А ведь жаль! Иван Иванович, право, хороший малый и собою такой видный мужчина.
Влонская. Ну уж хорош!.. Да что в нем хорошего? Бледный, худой!.. Глаза недурны — это правда.
Влонский. Так, по-твоему, Иван Иванович не хорош собою?
Влонская. Нет, не хорош!
Ванюша. Иван Иванович, маман?… Ах, нет, он хорошенький!
Влонская. Полно врать! Ты говоришь это потому, что он тебя конфектами кормит.
Ванюша. Нет, маман! Он Глашеньку конфектами не кормит, а ведь и она также говорит, что он прехорошенький.
Влонская. Ну, батюшка, слышишь?… Вот твое деликатство! «Как отказать от дому! За что разобидеть человека!»
Влонский. Да я тут еще большой беды не вижу.
Влонская. Не видишь?… Дочь называет его хорошеньким?…
Влонский. Ах, матушка, да если он в самом деле хорош!
Влонская. Ох, уж эти отцы, никогда ничего не видят! Да помилуй, Дмитрий Кондратьич, если девица называет мужчину хорошеньким, так этот мужчина ей нравится… Нет, надобно непременно отделаться от этого Ивана Ивановича! Как хочешь, батюшка, а я прикажу, чтоб ему всякий раз отказывали.
Влонский. Да как же это можно, Надежда Васильевна? Ведь у нас по вторникам дни.
Влонская. Что ж делать!.. Для всех дома, а для него нет. Кто виноват?… Кажется, он мог бы давно догадаться по моему приему, что его посещения для нас неприятны. В последний раз я с ним двух слов не сказала, а он как ни в чем не бывало!.. Уж я тебе говорила, что у этого Ивана Ивановича медный лоб…
Ваня (переставая строить карточный, домик). Няня, слышишь, что говорит маман? У Ивана Ивановича медный лоб.
Няня. Стройте, сударь, стройте!.. Не ваше дело.
Влонский. Ну, как хочешь, мой друг, а мне, право, совестно… Кто и говорит, конечно, он не пара нашей дочери… да мне все кажется, что ты из мухи слона делаешь.
Влонская. Да уж позволь мне этим распорядиться — сделай милость!.. Уж, верно же, я знаю лучше тебя, что такое девушка осьмнадцати лет… Ты мужчина, ты судишь по себе… (Входит слуга.) Что ты?
Слуга. Василий Игнатьич!
Влонская. Бураковский?… Проси!.. Иль нет — постой! Зажги две свечи, — вон, что стоят на столе… да приди поправить лампы. Как они у тебя всегда скверно горят!..
Слуга. Масло, сударыня…
Влонская. Врешь, врешь!.. Дурно чистишь, лентяй этакий!.. Ступай проси! (Слуга уходит)
Влонский. Да где Глашенька?
Влонская. У себя наверху. У нее так разболелись зубы, что она головы поднять не может.
Василий Игнатьич Бураковский (входит спешно в комнату). Здравствуйте, Надежда Васильевна!.. Дмитрий Кондратьич!
Влонская (привставая). Здравствуйте, Василий Игнатьич!
Влонский. Милости просим!
Бураковский (садясь). Слышали вы?…
Влонская. А что такое?
Бураковский (с радостию). Так вы не слышали?
Влонский. Ровно ничего.
Бураковский. Какое ужасное приключение!..
Влонская. Что такое?…
Бураковский. Страшно подумать!..
Влонская. Эх, да говорите!.. Истомили!
Бураковский. Вы знаете, что Алексей Тихонович Волоколамский был со своей женой в Петербурге и что он должен был на этих днях возвратиться сюда, в Москву?
Влонская. Ну да! Так что ж?…
Бураковский. Нет, уж не воротится!
Влонский. Что вы говорите?
Бураковский. На четвертой станции от Москвы по Петербургской дороге…
Влонская. Он скоропостижно умер?
Бураковский. Нет, хуже!
Влонский. Как хуже?…
Бураковский. Да, хуже!.. Его заели собаки.
Влонская. Как заели собаки?… До смерти?
Бураковский. До смерти.
Влонский. Не может быть!
Бураковский. Как не может быть — помилуйте!.. Я удивляюсь, что вы до сих пор этого не знаете; со вчерашнего дня вся Москва кричит об этом.
Влонский. Да это ни с чем не сообразно — живого человека заели собаки!.. Это неслыханная вещь!
Бураковский. Однако ж, к несчастию, совершенная правда. Вот как это случилось: Алексей Тихонович, как я уже вам докладывал, на четвертой станции отсюда остановился переменить лошадей. Пока закладывали карету, ему вздумалось пройти пешком по шоссе. Вот он сказал жене, чтоб она, когда будут готовы лошади, догоняла его на большой дороге. Лошадей не скоро запрягли, прошло этак с полчаса. Вот наконец Волоколамская отправилась; проехали версту, две — глядят, на большой дороге целая стая собак. Как стал экипаж подъезжать, они разбежались. Ямщик остановил карету. Волоколамская высунулась в окно — глядь, боже мой!.. ее муж, растерзанный, окровавленный, лежит посреди дороги!.. Она вскрикнула — и покатилась… Люди бросились к Алексею Тихоновичу, думали, что он еще жив… Нет, и признаков жизни не осталось! Горничные девушки засуетились около своей барыни: спирту, того, другого — не приходит в чувства. Вернулись назад на станцию. На ту пору ехал из Клина городской лекарь, — и фамилию его сказывали, — позабыл!.. Он употреблял все возможные средства, всякие медицинские пособия — все напрасно!.. И муж и жена…
Влонская. Как, и она умерла?
Бураковский. Скончалась! Оно, впрочем, весьма и натурально: такое внезапное поражение, такая ужасная картина!.. Она же, говорят, была беременна…
Влонская. Ах, боже мой, какое несчастие!
Бураковский. Да, необыкновенный случай.
Влонский. Воля ваша, а мне что-то не верится.
Бураковский. Поневоле поверишь, Дмитрий Кондратьич, когда есть человек пятьдесят очевидных свидетелей. Мало ли по Петербургской дороге проезжих? Ведь это случилось не в стороне где-нибудь, а на большой дороге, на станции, где все останавливаются. Вот я сейчас был в клубе, — только и разговоров, что об этом. За полчаса до меня один приезжий из Петербурга рассказывал в клубе все подробности этого несчастного приключения. Он был на самом месте — видел покойников. Ну, помилуйте, что может быть достовернее этого?
Влонская. Да не видали ли вы его племянника?
Бураковский. Ивана Ивановича Сицкого? Я к нему заезжал.
Влонский. Ну, что он?
Бураковский. Его нет в Москве. У слуги не добился. Дворник мне сказывал, что Иван Иванович уехал на два дня к кому-то в подмосковную и вряд ли будет назад прежде завтрашнего утра. Вот, Надежда Васильевна, подлинно правду говорят: «Несчастие одного составляет счастие другого». Хоть Иван Иванович Сицкий поехал из Москвы бедным человеком, а воротится богачом.
Влонский. Да что, он точно единственный наследник?…
Бураковский. А как же! Родной племянник по сестре покойному Волоколамскому.
Влонская. Но, может быть, найдутся и другие наследники?
Бураковский. Да их нет. Вот, извольте видеть: у Тихона Степановича Волоколамского было только двое детей — Алексей Тихонович и Марья Тихоновна. Марья Тихоновна вышла замуж за Сицкого. У них был один сын — вот этот самый Иван Иванович Сицкий. Алексей Тихонович скончался бездетен, так, разумеется, его именье должно перейти к сыну родной сестры. Конечно, если б он умер прежде своей жены и не так скоропостижно, то, вероятно, отказал бы ей все свое именье, а теперь и седьмой-то части брать некому.
Влонская. Скажите пожалуйста! Так поэтому у Сицкого три тысячи душ?
Бураковский. Не прогневайтесь.
Влонская. Жаль, очень жаль Алексея Тихоновича! Погибнуть такой ужасной смертию!.. А признаюсь, я рада за Сицкого: он прекрасный молодой человек!.. Подумаешь, какой неожиданный переход!..
Влонский. Да, конечно! Если все это не сказки…
Влонская. Помилуй, Дмитрий Кондратьич! Чего ж еще тебе!.. Очевидные свидетели…
Влонский. Очевидные свидетели… Ну, разумеется, это доказательство; да ведь вы, Василий Игнатьич, не говорили сами лично с очевидным свидетелем?
Бураковский. Не говорил; но мне двадцать человек повторяли его слова. Впрочем, если хотите, я сейчас поскачу в клуб, узнаю, где живет этот приезжий из Петербурга, отправлюсь к нему, расспрошу обо всем и приеду вам сказать.
Влонский. Вот это будет повернее.
Бураковский (вставая). Так до свиданья.
Влонский. Смотрите же, приезжайте!
Бураковский. Непременно приеду. (Уходит.)
Влонская (помолчав несколько времени). Ну, мой друг, каков женишок?… Три тысячи душ!..
Влонский. А ты хотела ему отказать от дому.
Влонская. Да можно ли было предвидеть…
Влонский (улыбаясь). Впрочем, ведь он тебе не нравится.
Влонская. Эх, мой друг, да разве я могла говорить иначе? Мы за дочерью многого дать не можем, так жених ли ей человек, у которого всего-навсего пятьдесят душ крестьян? А ведь Глашенька к нему неравнодушна. Ты этого не замечал, а я давно уж вижу. Ну, конечно, Сицкий — прекрасный молодой человек, да нам-то не следовало этого говорить. Теперь дело другое — три тысячи душ, мой друг, да еще каких!.. Одно рязанское именье… вот то, что рядом с нашей деревнею…
Влонский. Село Хотиловка?
Влонская. Ну да! Семьсот душ. Одно оно дает с лишком тридцать пять тысяч в год дохода.
Влонский. Кто и говорит — барское состояние!.. И если только эти слухи справедливы…
Влонская. А ты все еще не веришь?
Влонский. Случай-то, матушка, очень странный, такой необычайный, невероятный…
Влонская. Да это то самое и доказывает, мой друг, что говорят правду. Ну, кому придет в голову сказать, что живого человека съели собаки?
Влонский. Да, конечно, это была бы такая нелепая ложь…
Влонская. Подумай хорошенько, если б это была выдумка, так уж выдумали бы что-нибудь поумнее: лошади разбили, карета опрокинулась, удар сделался. Мало ли есть смертей, которые на дело походят. А то рассуди сам: съели собаки! И где же? На большой, проезжей дороге!
Влонский. Правда, правда! Точно, это никому и в голову не придет!
Слуга (растворяя дверь). Иван Иванович Сицкий.
Влонская. Сицкий?… Так он приехал?… Проси!.. Смотри, Дмитрий Кондратьич, мы ничего не знаем.
Влонский. Как ничего?
Влонская. Ну да! Может быть, и он еще ничего не знает.
Влонский. Да зачем же нам об этом секретничать?
Влонская. Ах, какой ты бестолковый! Зачем, зачем! Да разве я так его приму, как принимала прежде! Что ж ты хочешь, чтоб он подумал, что мы из интересу…
Влонский. Ох, жена, смотри не перехитри!..
Влонская. Да уж не беспокойся!.. Те!.. Идет!.. (Встает и делает несколько шагов навстречу Сицкому.) А, Иван Иванович! Какой приятный сюрприз.
Влонский. Нам сказали, что вас в Москве нет.
Сицкий. Сию минуту приехал.
Влонская. Прошу покорно садиться! (Сажает его рядом с собою на канапе. Влонский садится подле жены в креслах.)
Влонский. Так вы еще нигде не были?
Сицкий. Нигде. Я только что успел сбросить с себя дорожное платье и еду теперь к дядюшке.
Влонский. К Алексею Тихоновичу?… А он уж приехал из Петербурга?
Сицкий. Должен, кажется, приехать.
Влонский. Так вы не знаете… (Влонская толкает мужа локтем.)
Сицкий. А что?…
Влонский. Так, ничего. Я хотел только спросить вас, не знаете ли вы, приехал он или нет?
Сицкий. Право, не знаю. Дома у меня никого не оставалось. Я сейчас только приехал, ни с кем не встречался и к вам завернул потому, что не хотел проехать мимо, не узнав о вашем здоровье.
Влонская. Как вы добры, Иван Иванович!.. Впрочем, я вас за это не благодарю: вы должны любить нас, потому что мы сами любим вас, как родного сына.
Сицкий. Как, Надежда Васильевна?… Неужели в самом деле я так счастлив?… Ах, боже мой!.. А я полагал…
Влонская. Что я вас не люблю?… Ну, так!.. Я вижу, по-вашему, те только нас и любят, которые к нам ласковы?… Да вот я, например, готова за мою Глашеньку в могилу лечь, а приласкать ее не могу: такой уж у меня характер.
Влонский. Да, да, у нее такой характер. Я даже заметил, что она, чем больше кого любит, тем холоднее с ним обходится. А ведь это, мой друг, нехорошо, воля твоя, нехорошо!
Влонская. И сама знаю, да что будешь делать?… Видно, уж так создана.
Влонский. Нет, Иван Иванович, напрасно вы это думали. Мы все вас любим; да вот даже Ванюша, — вы не поверите, как он к вам привязан… Ваня, Ваня, что ж ты не подойдешь к Ивану Ивановичу? (Ваня подходит.)
Сицкий (сажает его к себе на колени и ласкает). Здравствуй, миленький!.. Здоров ли ты? (Ваня щупает у него лоб.)
Влонский. Ваня, что ты это?… Шалишь!
Ваня. Маман, что ж ты говорила, что у Ивана Ивановича медный лоб? У него такой же, как у меня.
Сицкий (с удивлением). Как медный лоб?… Что это он говорит?
Влонская. Ах, скверный мальчишка!.. Ну, скажите пожалуйста!.. Хорошо, что это с вами!.. Пошел вон, негодный!.. Няня, отведи его на антресоли!
Ваня (начинает реветь). Маман, да что ж я такое сделал?
Влонская. Пошел, пошел!
Влонский. Веди, Авдотья, веди!.. Дурак этакий! (Ваню уводят.)
Влонская. Ну, вот говори при детях!.. Представьте себе: мы сейчас, перед вашим приездом, разговаривали про Ивана Ивановича Котомкина. Вы, я думаю, его знаете?… Несносное создание: ни стыда, ни совести!.. Я, между прочим, сказала, что у этого Ивана Ивановича медный лоб; он вслушался — и вот изволите видеть!.. Ну, если б он это Котомкину сказал: ведь с ног бы нас срезал!..
Влонский. Беда с этими детьми!
Влонская. И, мой друг, что это за беда! Вот горе и беда, если детей нет.
Влонский. Да, конечно! Не приведи господи состариться одному.
Влонская. Признаюсь, я не могу видеть без грусти старого холостяка. Ну что за жизнь?… В настоящем скука, в будущем никакой надежды!.. Мы как будто оживаем в наших детях, а он что?
Влонский. Бесплодная смоковница, сирота!
Влонская. Закон бы надобно выдать, чтоб все молодые люди женились не позже тридцати лет.
Влонский. А вам сколько лет, Иван Иванович?
Сицкий. Двадцать девять.
Влонская. Так вы бы под этот закон подошли.
Сицкий. Да всегда ли это от нас зависит, Надежда Васильевна? Та, которая за меня бы пошла, мне не нравится, а ту, на которой бы я хотел жениться, за меня не выдадут.
Влонский. Почему ж вы это думаете?
Сицкий. Я беден.
Влонская. Нет, Иван Иванович, вы богаты.
Сицкий. Помилуйте, у меня всего пятьдесят душ!
Влонская. Да зато ваша-то собственная стоит тысячи.
Сицкий. Не все так думают, Надежда Васильевна.
Влонский. По крайней мере, мы с женою так думаем.
Влонская. Разумеется! Да вот если б за нашу Глашеньку посватался человек без всякого состояния, но честный, умный, благородный…
Сицкий (с живостию). Так вы бы не стали над ним смеяться?
Влонская. Смеяться?… Да разве предложение благородного человека, как бы он беден ни был, не делает чести родителям и девице, за которую он сватается?… Нет, Иван Иванович! Придись нашей Глашеньке по сердцу человек добрый и с умом, так мы на состояние не посмотрим. Я первая обеими руками благословлю.
Влонский. Почему ж и нет. Богатство — дело наживное, а ум и доброе сердце никто еще не наживал.
Влонская. Конечно, конечно! И если вы, Иван Иванович, имеете виды на какую-нибудь девицу… А!.. Покраснели!.. Вот что!.. Так вы влюблены?…
Сицкий. Ах, Надежда Васильевна! До безумия!
Влонский. Право?… Так за чем же дело стало — посватайтесь.
Сицкий. Но я не смею и надеяться…
Влонская. И, полноте, Иван Иванович! Вы слишком уж скромны… Послушайте: хотите ли, я за это возьмусь?… Если люди знакомые, я завтра же к ним поеду, если незнакомые, так познакомлюсь.
Влонский. В самом деле, мой друг! У Ивана Ивановича нет ни отца, ни матери…
Сицкий (с большим смущением). Ах, Надежда Васильевна!.. Я никогда бы не осмелился… Но вы так ко мне милостивы!.. Ваши слова… ваше почти родственное участие…
Влонская. И, полноте, Иван Иванович!.. Скажите только, куда мне ехать?…
Влонский. Да, да, скажите только нам, кто эта девица и от кого зависит…
Сицкий. Вы хотите знать, от кого это зависит?… Это зависит единственно от вас.
Влонская. Как от нас?
Сицкий. Да, Надежда Васильевна, — моя участь в ваших руках.
Влонская. Ах, боже мой! Так вы влюблены…
Сицкий. В Глафиру Дмитриевну.
Влонский. В дочь нашу?…
Сицкий. О, поверьте мне… я никогда б не решился, если б вы сами!.. Ах, Надежда Васильевна, скажите, скажите!.. Могу ли я надеяться?…
Влонская. Извините, Иван Иванович!.. Это так внезапно… так неожиданно… Мы очень вас любим, уважаем… но, рассудите сами: решиться вдруг, не подумавши на такое важное дело…
Влонский. Дайте нам хотя несколько опомниться.
Влонская. Конечно, ваше предложение делает нам честь: вы такой достойный молодой человек, что всякое семейство почтет за счастие с вами породниться…
Сицкий. Итак, я могу надеяться?…
Влонский. Иван Иванович, я вам скажу прямо: мы все вас любим и вовсе не прочь от этого, но прежде всего нам должно поговорить с дочерью.
Сицкий. О, разумеется! Но если только вы согласны…
Влонская. Так Глашенька противиться не станет, я это вижу по всему… Ох, эти молодые люди!.. Уж я ли, кажется, с дочери глаз не спускала!..
Влонский. Да, усмотришь за ними!.. И то сказать: чему быть, тому не миновать… Послушай, мой друг, ну что его томить: если в самом деле Глашенька согласна…
Влонская. Ах, Дмитрий Кондратьич, да разве легко расставаться с дочерью!.. Замужество… это ужасная вещь!.. Это такой шаг!..
Сицкий. Поверьте, она будет счастлива!
Влонская. Так, Иван Иванович, так!.. Но ведь сердце-то матери!.. (Утирает платком глаза.) Конечно, на все воля божия!.. И если вы пришли по сердцу нашей дочери…
Сицкий. Так вы согласны?… (Целует руку у Влонской.) Ах, Надежда Васильевна, я не нахожу слов… я так счастлив!..
Влонский. Судьба-то, судьба, подумаешь!.. Могло ли нам прийти в голову, что сегодня…
Влонская. Ну, поверите ли, я и теперь еще не могу образумиться… Мне все кажется, что это сон!..
Влонский. Надежда Васильевна, да уж не позвать ли нам сюда Глашеньку?…
Влонская (с живостию). Нет, мой друг, нет!.. Она целые сутки промучилась зубами и только теперь заснула.
Сицкий. Так, бога ради, не беспокойте ее! А позвольте мне, Надежда Васильевна, съездить к дядюшке. Он, верно, уж приехал. Я хочу, чтоб он первый узнал о моем счастии.
Влонский. В самом деле… Ступайте, Иван Иванович, ступайте!
Сицкий. Я только объявлю ему о моем благополучии и тотчас возвращусь.
Влонская. Да, да, Иван Иванович, приезжайте скорее. (Сицкий целует руку у Влонской и уходит поспешно.)
Влонский. Ну вот. Надежда Васильевна, как все это хорошо обделалось.
Влонская. Ну да, конечно… Но только ты очень скор, мой друг.
Влонский. Я?
Влонская. Да, ты! К чему эта поспешность!.. Можно было принять благосклонно его предложение, не сказав ему ни да, ни нет. А ты, мой друг, тотчас!.. И Глашеньку хотел еще позвать…
Влонский. Так что ж?
Влонская. Как что? А если Волоколамский жив?…
Влонский (испугавшись). Жив?… Так ты думаешь, что это ложный слух?…
Влонская. Нет, я этого не думаю: слишком много доказательств… Но благоразумный человек должен быть всегда осторожен… Конечно, и теперь мы зашли так далеко, что трудно уже воротиться… По крайней мере, Глашенька ничего не знает, так мы всё еще хоть как-нибудь, а можем отделаться… Но если б мы их свели вместе да сделали формальную помолвку…
Влонский. Да, это правда!.. Эх, поторопились мы!.. Что, если в самом деле…
Влонская. Нет, быть не может, мой друг!.. Конечно, Бураковский болтушка, любит развозить вести, однако ж он не лгун и сам ничего не выдумает. Нет, на этот счет я совершенно спокойна.
Слуга (растворив дверь). Княгиня Варвара Кирилловна с сестрицею.
Влонская. Проси!.. Вот кстати!.. Она знает все московские новости и, верно, расскажет нам об этом подробнее и лучше Бураковского.
(Входят княгиня Варвара Кирилловна и княжна Ольга Кирилловна. Первая — женщина лет пятидесяти, не слишком красивой наружности, толста, с широким раздутым лицом и отвислым подбородком. Вторая — лет сорока, одета с большими претензиями, высокого роста, с бледным лицом, красным носом и томными глазами.)
Влонская (идя к ним навстречу). Ах, княгиня, здравствуйте!.. Княжна!.. (Целуются. Влонский раскланивается.)
Княгиня. Ну, Надежда Васильевна, как я устала!
Влонская. А вы откуда?
Княгиня. Ох, матушка!.. Делала визиты. Сейчас с Басманной.
Княжна. Ах, ma soeur, какая Басманная! Мы были за Разгуляем!
Влонская. Скажите пожалуйста! Да ведь это верст восемь! (Садятся.)
Княгиня. Что, Надежда Васильевна, слышали ли вы?
Влонская. А что такое?
Княгиня. Вот, матушка, история-то!
Влонский. Какой-нибудь вздор. Ведь у нас в Москве беспрестанно сочиняют.
Княгиня. Нет, сударь, не вздор! Алексея Тихоновича Волоколамского на большой Петербургской дороге съели собаки.
Влонская. Помилуйте! Как съели собаки? Может ли это быть?
Княгиня. Видно, может, когда съели.
Влонский. Разве искусали?
Княгиня. Съели, батюшка, съели!
Княжна. То есть до смерти заели.
Влонская. Неужели в самом деле?… Я что-то слышала, да так мимо ушей и пропустила. Думаю: не может быть, это кто-нибудь сочинил, а Москва и рада — подхватила, да и ну трезвонить в колокола!
Княгиня. Нет, Надежда Васильевна, истинная правда; и следствие уж наряжено. Мне называли по именам чиновников, которых послали на эту станцию: Ивана Яковлевича Сальянова — вот что служит в канцелярии генерал-губернатора, да какого-то частного пристава — фамилию забыла.
Влонский. Ах, боже мой! Так это в самом деле справедливо?
Влонская. Да ведь с ним, кажется, была жена?
Княгиня. Как же! Говорят, бедная не могла вынести этого удара…
Влонская. Неужели умерла?
Княгиня. Умерла.
Влонский. Вот истинно трагическое приключение!
Княжна. О, не говорите!.. Ужасно!.. Боже мой, какая смерть!..
Влонская. Не знаете ли, кто первый привез об этом известие в Москву?
Княгиня. Одни говорят — граф Петр Сергеевич Сборский, другие — Федор Николаевич Башлыков…
Княжна. Нет, ma soeur. Я слышала, что об этом отправлен был эстафет к главнокомандующему. А так как он получил его в приемный день, так вовсе не удивительно, что вся Москва узнала…
Княгиня. Нет, ma chere! Первое известие получено от приезжих. Я это наверно знаю. Да впрочем, от кого бы ни получено, а только это правда. Вот, Надежда Васильевна, до чего мы дожили: на больших дорогах едят живых людей собаки! Видно, хороша земская полиция!..
Влонская. Ну, я думаю, исправнику за это достанется.
Княгиня. И, матушка! Оправдается как-нибудь!.. Да что и говорить, все так распущено, что я удивляюсь, как до сих пор волки не бегают по московским улицам, как нас не грабят в полдень на Красной площади…
Влонский. Конечно, княгиня, это весьма несчастный случай, но ведь всего и правительство предвидеть не может.
Княгиня. Должно, сударь, должно все предвидеть! На то оно правительство… Нет, в старину не так бывало!.. Когда покойный мой батюшка князь Кирилл Андреевич был губернатором, то у него дела шли другим образом. Случилось однажды, что какая-то дворняжка загрызла матушкину болонку, так он приказал и цепных-то собак перебить во всем городе.
(Входит Мардарий Степанович Шарапов, небольшого роста пожилой человек с рябым широким лицом, в зеленых очках и во фраке стариковского покроя.)
Влонский. А, Мардарий Степанович!.. Здравствуйте!
Шарапов. Как ваше здоровье?… Надежда Васильевна!.. Ваше сиятельство! (Раскланивается.)
Влонская. Прошу покорно садиться.
Шарапов (садясь). Как я входил, мне послышалось, что вы изволите говорить о собаках. Верно, у вас шла речь об этом удивительном происшествии?…
Княгиня. Да, мы говорили о смерти Алексея Тихоновича.
Шарапов. Чудный случай!.. Живого и здорового человека заели собачонки!.. Вот если бы, я вам доложу, хоть у меня меделянские собаки, так это другое дело: быка растянут, а то, помилуйте, дворняжки!
Влонский. Ну, каковы дворняжки!
Шарапов. Да ведь, я вам доложу, не то, что заели, а растерзали на части.
Княгиня. Как на части?
Шарапов. Да-с! Мне это рассказывал верный человек. Я вам доложу, такая жалость, что и сказать нельзя! Где рука, где нога…
Княгиня. Ах, ужас какой… Что ж, собрали как-нибудь?
Шарапов. Да-с, кой-как. А головы-то не нашли.
Княгиня. Что вы говорите?
Шарапов. Истинно так! Приказано искать по всему уезду. Да-с, ужасное происшествие, ужасное! Говорят, вышнее начальство очень горячо за это взялось!.. Я вам доложу, исправник — человек мне знакомый. Жаль мне его, очень жаль! Погиб!
Княгиня. Туда ему и дорога!
Шарапов. Конечно, оплошность!.. А истинно жаль! Человек небогатый, жена, дети… Ведь уж Алексея Тихоновича не воскресишь.
Княгиня. Ах, батюшка, так и смотреть сквозь пальцы? Сегодня собаки заели его, а завтра заедят меня!.. Покорнейше благодарю!
Влонская. Что слышно об его жене?…
Шарапов. Говорят, что она от испуга умерла. Обоих вместе хоронили.
Княгиня. Бедный, бедный Алексей Тихонович!.. Подумаешь, какая смерть!.. А пожил бы еще!.. Ведь он был человек нестарый.
Шарапов. Да-с! Ему было этак под шестьдесят.
Княгиня. Что вы, что вы!.. Много-много пятьдесят два. Да он еще был молодец… Как теперь смотрю на него!.. (Двери отворяются.) Господи!.. Что это?… (Входят Алексей Тихонович Волоколамский и Сицкий. Все вскакивают.)
Влонская (с ужасом). Алексей Тихонович!..
Волоколамский (улыбаясь). Да, это я.
Княгиня. Вы живы, здоровы?…
Волоколамский. Слава богу!
Княгиня. Скажите пожалуйста!.. Что ж это вся Москва говорила…
Волоколамский. Что меня заели собаки?
Княгиня. Так это выдумка?
Волоколамский. Не совсем. Я точно, на четвертой станции отсюда пошел один пешком по шоссе, на меня точно напали собаки и точно загрызли до смерти, но только не меня, а моего пуделя.
Княгиня. Так из этого-то сочинили… Ну, уж нечего сказать, — ай да матушка Москва!
Влонская (тихо мужу). Ну вот… что мы наделали!
Влонский (также тихо). Да уж молчи! (Громко.) Ну, слава богу!.. А мы было так перепугались!.. Да что ж мы стоим?… Прошу покорно! (Садятся.)
Волоколамский. Я ехал к вам, Надежда Васильевна, и повстречался с племянником… Ну что, здоровы ли вы?… (Влонская молчит.) Да вы что-то очень расстроены?
Влонская. Ах, боже мой!.. Да как же не быть расстроенной, когда…
Волоколамский. Так и вы также поверили?…
Влонская. Ох, не говорите!.. Я и теперь еще не могу опомниться… И что за глупость на меня напала?… Поверить такому вздору!..
Княгиня. Да, признаюсь!.. Нельзя надивиться, как мог такой нелепый слух распространиться по всей Москве?
Влонская (с жаром). И, помилуйте, княгиня, чему тут дивиться, когда есть люди, которые всю жизнь свою проводят в том, что развозят по городу всякие глупые новости; скачут от одного конца Москвы до другого для того только, чтоб пересказать какой-нибудь вздор, перемутить, перетревожить, и для чего? Спросите!
Княжна (тихо княгине). Ma soeur, да уж это, кажется, на наш счет?…
Княгиня. Что вы, что вы, Надежда Васильевна?… Да разве всякий не волен рассказывать, что слышит?
Влонская. Я не о вас говорю, княгиня, а об этих вестовщиках, которые, по мне, хуже всякой язвы и чумы, которые или переносят чужое лганье из дома в дом, или сами сочиняют, но только уж не могут жить без того, чтоб не плести и не распускать всякие нелепые слухи…
Княгиня (вспыльчиво). Да что вы, в самом деле, так разгневались, Надежда Васильевна?
Влонская. Я говорю не на ваш счет, княгиня! А есть люди, которых бы надобно именным указом засадить дома, чтоб они не таскались по Москве да не развозили дурацкие вести, в которых нет ни на волос здравого смысла. Не мешало бы также пугнуть их порядком за то, что они лгут на правительство, выдумывают какие-то небывалые следствия…
Княгиня (вставая). О, это уже слишком!.. Это личности!.. Поедем, ma soeur! (Все встают.)
Влонская. Вы напрасно это берете на свой счет, княгиня. Я говорю вообще.
Княгиня. Нет, уж извините!..
Влонская. Впрочем, как угодно. Я не смею вас удерживать.
Княгиня (своей сестре). Partons, ma chere, partons! (Уходят.)
Шарапов. Я вам доложу, Надежда Васильевна, вы напрасно изволите гневаться.
Влонская. Хороши и вы, сударь. «От верного человека слышал — растерзали на части! Головы не найдут!..» Ну, не стыдно ли в ваши лета?
Шарапов. Позвольте, позвольте!.. Я вам доложу, я тут ни в чем не виноват… Вся Москва говорила…
Влонская. Москва говорила!.. А кто это Москва… Это вы… вы сами сочинили!
Шарапов. Кто? Я-с?… Да я вам доложу, что я от роду моего ничего не сочинял.
Влонская. Вы?… Да вы только этим и занимаетесь!
Шарапов. Нет-с, извините, у меня есть и другие занятия.
Влонский. Надежда Васильевна!..
Влонская. Ах, мой друг!.. Да что ж, в самом деле?… Нас огорчили, перепугали, а ты прикажешь за это благодарить?… Я вас прошу, Мардарий Степанович, и прошу серьезно, не приезжать к нам вперед с такими новостями.
Шарапов (обидясъ). Как вам угодно-с! Как вам угодно-с!
Влонский. И, полноте, Мардарий Степанович!
Шарапов. Да помилуйте! Что ж я, бессловесный, что ль, какой? Сам слышишь, а другим не смей пересказывать!
Влонская. Никто вас об этом не просит.
Шарапов. Как вам угодно-с!.. Прощайте, Дмитрий Кондратьич!.. Признаюсь, я никак не ожидал таких неприятностей!.. Никак не ожидал! (Уходит.)
Волоколамский. Что это, в самом деле. Надежда Васильевна, вы так разгневались?… Я этому смеюсь, смейтесь и вы.
Влонская. Признаюсь, для меня очень странно, Алексей Тихонович, что когда ваши друзья принимают к сердцу…
Волоколамский. И, Надежда Васильевна! Да ведь, несмотря на это вранье, я жив и здоров, жена моя также…
Влонская. Вам, конечно, это ничего. Вас не могли уверить, что вы умерли, но я желала бы, чтоб вы были на нашем месте…
Волоколамский. О, я никогда не сомневался в вашей дружбе! Я уверен, вы очень испугались и огорчились, да ведь, слава богу, все это вздор, так о чем же и говорить?… Поговоримте-ка лучше о другом. Племянник объявил мне, что вы приняли благосклонно его предложение…
Влонская. Да-с!.. Иван Иванович сделал нам честь… Мы, конечно, отдаем всю полную справедливость достоинствам Ивана Ивановича… Но вы сами знаете, Алексей Тихонович, что это не такое дело, чтоб можно было его кончить в двух словах… Во-первых, для этого необходимо согласие нашей дочери…
Волоколамский (улыбаясь). Да если верить словам племянника, так, кажется, с этой стороны больших затруднений не будет.
Влонская (вспыхнув). А разве Иван Иванович позволил себе сказать, что Глашенька к нему неравнодушна?…
Волоколамский. О нет!.. Он думает только… надеется…
Влонская. Надежда нас часто обманывает, Алексей Тихонович!..
Сицкий (тихо дяде). Боже мой!.. Что ж это?
Волоколамский (также тихо). Успокойся!.. (Громко.) Конечно, ваша Глафира Дмитриевна такая милая, такая достойная девица… Я не спорю, она имеет полное право быть разборчивой невестой. Но я скажу при моем племяннике, что и он также отличный молодой человек, и хоть у него только семьсот душ…
Влонский и Влонская. Семьсот душ!..
Волоколамский. Да! Я продал ему мое рязанское именье. Вот и купчая.
Сицкий. Ах, дядюшка!
Волоколамский. И, полно, мой друг, не благодари! (Улыбаясь.) Я и так отнял у тебя с лишком две тысячи душ…
Сицкий. Можете ли вы думать, дядюшка!..
Волоколамский. Нет, мой друг, не думаю! (Обнимает его.)
Влонский. Рязанское именье?… Так это Хотиловка?…
Волоколамский. Ну да! Он теперь ваш сосед, и если Глафира Дмитриевна…
Влонская. Да, это решительно от нее зависит. (В сторону.) У!.. Слава богу, полегче!..
Влонский. Что ж касается до нас… (Глядит на свою жену)
Влонская. Так я и муж мой — мы оба согласны… Уж одно то, что мы породнимся с вами, Алексей Тихонович…
Волоколамский. Все это прекрасно, да если Глафира Дмитриевна…
Влонский. Ах, Алексей Тихонович, что вы слушаете жены?… Ведь эти барыни всегда так: надобно поломаться, потомить… А я так вам скажу напрямки…
Влонская. Дмитрий Кондратьич!..
Влонский. Да полно, матушка, что тут хитрить!.. Алексей Тихонович, мы согласны, и Глашенька будет согласна.
Волоколамский. Так за чем же дело стало? Попросите Глафиру Дмитриевну сюда.
Влонская. А вот позвольте… я сама… Надобно ее немного приготовить… Вы, мужчины, этого не понимаете: это такая страшная минута для девицы… даже и тогда, когда она любит…
Влонский. Ступай же, мой друг! (Влонская уходит.)
Волоколамский. Ну что, племянник?
Сицкий. Ах, дядюшка!
Волоколамский. А что, сердце бьется?
Влонский. Да уж, верно, не от страха!.. Ох вы, молодые люди!.. И как успеют все спроворить!..
Волоколамский. Да так же, как мы в старину проворили, Дмитрий Кондратьич.
Влонский. Правда, правда!..
Волоколамский. Извините!.. Мне нужно сказать слова два племяннику…
Влонский. Сделайте милость!..
(Волоколамский и Сицкий подходят к окну и говорят меж собой вполголоса, а Влонский садится подле канапе; в эту самую минуту двери растворяются и вбегает Бураковский.)
Бураковский (не замечая Волоколамского и Сицкого). Все узнал, Дмитрий Кондратьич!.. Все узнал!.. Я отыскал этого приезжего из Петербурга, расспросил его, — все точно так. Алексея Тихоновича заели собаки, жена его умерла от испуга. Об этом послан курьер в Петербург, наряжено следствие…
Влонский (вставая). Полно, так ли, Василий Игнатьич?.
Бураковский. Помилуйте! Да уж это не пересказы какие-нибудь — очевидный свидетель!.. При нем хоронили и мужа и жену, — он был в церкви, когда их отпевали.
Волоколамский (подходя к Бураковскому). И очень усердно молился, — я сам это видел.
Бураковский (с ужасом). Господи!.. Что это?… Алексей Тихонович! Это вы?…
Волоколамский. Я.
Бураковский. Вы живы?
Влонский. А вот как видите: жив и здоров.
Волоколамский (улыбаясь). А впредь уповаю на власть божию.
Бураковский. Что ж это такое?… Да как же можно этак лгать и с такими подробностями?
Волоколамский. В них-то, Василий Игнатьич, вся и сила. Что ж это за лгун, который просто уморит живого человека, а не расскажет вам, как он умирал, что говорил перед смертию, сколько было духовенства на его похоронах и в какой именно церкви его отпевали? Да это, батюшка, не лгун, а лгунишка, самый пошлый, обыкновенный прозаист, а вы, видно, попали на поэта.
Бураковский. Так это все выдумки?… Ну, слава богу!
Волоколамский. Вы большой охотник до новостей, Василий Игнатьич, так я вас потешу, скажу вам такую новость, о которой вы можете смело всем рассказывать. Сейчас будет помолвка племянника моего Сицкого с Глафирой Дмитриевной.
Бураковский. Что вы говорите?… Как я рад!.. Честь имею поздравить!
Горничная девушка (растворив двери). Барыня приказала вас просить к себе в диванную.
Бураковский. Теперь вам, Дмитрий Кондратьич, не до гостей. Итак, прощайте, — я еду…
Волоколамский. И, верно, домой?
Бураковский. Нет. Надобно кой-куда заехать… Честь имею кланяться! (Уходит.)
Влонский. Что вы это наделали!..
Волоколамский. А что?
Влонский. Да ведь это все равно, что объявить на площади…
Волоколамский. Тем лучше! Не нужно будет карточек посылать. Пойдем. (Уходят.)
III Английский клуб
Ну что ваш батюшка? все Английского клоба
Старинный, верный член до гроба?
ГрибоедовВ Москве четыре клуба: Английский, Дворянский, Купеческий и Немецкий. Довольно замечательно, что ни один из этих клубов не оправдывает вполне своего названия. В Дворянском клубе многие из членов не дворяне, в Купеческом не все купцы, в Немецком большая часть членов русские, в Английском едва ли наберется человек десять англичан. Английский клуб первый по старшинству своего основания, решительно также первый и во всех других отношениях — это неоспоримая и ничем не опровержимая истина; против этой истины не осмелятся восстать даже и те бессрочные кандидаты, которые, провисев на стенке лет пятнадцать и не видя конца своему искусу, решились завести свой собственный клуб и назвать его Дворянским. Попасть в члены Английского клуба довольно трудно; число членов, ограниченное уставом, почти впятеро менее числа кандидатов, из которых многие, как я уже имел честь докладывать, ждут лет по пятнадцати своей очереди. Не подумайте, однако ж, чтоб эта трудность побеждалась одним терпением. О нет! Дождавшийся своей очереди кандидат баллотируется и если не будет избран, то должен навсегда отказаться от чести быть членом Английского клуба, потому что вторичная баллотировка воспрещается уставом. Для многих этот день страха и тревожных ожиданий остается на всю жизнь днем достопамятным и незабвенным. Я знаю одного члена, и надобно сказать, что он вовсе не один в своем роде, который разделяет свою жизнь на четыре главные эпохи: рождение, производство в первый офицерский чин, женитьбу и поступление в члены Английского клуба. Чему же дивиться, что один из этих господ в минуту восторга захотел сделать всю Москву участницей своей радости и напечатал на визитных карточках: «Андрей Андреевич Мухоморов, член Английского клуба»! Говорят, будто бы какой-то насмешник прибавил: «…и разных других ученых обществ». Но я решительно этому не верю — это сказка. Каждый из членов Английского клуба имеет право записывать гостем всякого иногороднего и даже московского жителя, если только он не служит и не имеет собственного дома, но этим правом должно пользоваться с большой осторожностью. Ваш гость может требовать все, что ему угодно: кушать устерсы, разварных стерлядей, пить шампанское и сверх того проиграть несколько тысяч рублей, не заплатя за все это ни копейки; от него ничего не потребуют, ему даже не намекнут, что в Английском клубе едят и пьют за деньги, а на мелок никогда не играют, он как гость не обязан этого знать: за все будет отвечать тот член, которым он записан. Если вы, опасаясь беды, не станете сами никого записывать, то вас будут просить об этом другие, потому что каждый член имеет право записать одного только посетителя. Разумеется, в этом случае ваш отказ будет оскорбителен; это все равно, если б вы сказали, что не полагаетесь на честь того, который просит вас об этом. Опытные члены изобрели весьма хорошее средство отстранять и это неудобство: они постоянно записывают в книгу посетителей, разумеется по очереди, имена двух или трех приятелей, которые или вовсе не бывают в клубе, или бывают очень редко; их личная безопасность ограждена, и в то же время они могут всегда отвечать с приличной вежливостью: «Ах, извините!.. Мне очень жаль, но я уж записал одного из моих знакомых».
Московский Английский клуб открыт в 1802 году на Петровке, в бывшем доме князя Гагарина; в этом доме помещается теперь новая Екатерининская больница. Я был в то время одним из самых ревностных членов клуба, но в 1812 году, вступая снова в службу, не возобновил моего билета и с тех пор ни разу не был в клубе. Я знал только по рассказам, что он с Петровки перешел на Дмитровку, в дом Муравьева, а потом на Тверскую, в великолепные палаты графа Разумовского. Старики бывают иногда так же причудливы, как прекрасные женщины, и избалованы, как дети. С лишком тридцать лет не думая я о клубе, и вдруг недели две тому назад пришла мне смертная охота возобновить мой билет и снова начать ездить в клуб. В то время как я придумывал, как бы поскорее приступить к этому важному делу, заехал ко мне Захар Иванович Илецкий, старый холостяк, который лет сорок тому назад был блестящим молодым человеком, царем паркета, украшением московских балов, любимцем всех женщин и предметом зависти всех мужчин. Предание гласит, что он точно был некогда московским ловеласом и что по милости его бесчисленное множество влюбленных девиц сошло с ума, зачахло и умерло от любви, отчаяния, чахотки, воспаления в мозгу и разных других телесных и душевных болезней. Разумеется, Захар Иванович, живя одними воспоминаниями, не мог любить настоящего времени; да и как любить его?… В старину Захар Иванович был молод и здоров, в старину все веселились, то есть он веселился, а теперь все скучают, то есть ему скучно. Бывало, ему недостает времени на удовольствия, а теперь он не знает, куда с ним деваться. На балах он лишняя мебель, на званые обеды доктор запрещает ездить, все молодые дамы смотрят на него так смело, все мужья с ним так ласковы!.. Тоска, да и только!.. Захар Иванович Илецкий попал в члены Английского клуба в тот самый год, когда перестал танцевать и получил отказ от третьей невесты, за которую сватался; ему было тогда ровно пятьдесят пять лет. Теперь он решительно покинул свет и бывает в одном только клубе.
— Я заехал к тебе на минутку, — сказал Илецкий. — Скоро семь часов, а мне надобно непременно побывать в Английском клубе, чтоб записать гостем одного из моих приятелей.
— Ты в чем приехал? — спросил я.
— В моей каретке. На дворе прескверная погода — дождь так и льет.
— Захвати и меня с собою. Я хочу сегодня быть в клубе.
— Нет, шутишь?…
— Право.
— Что это тебе вздумалось? Уж, кажется, лет двадцать как ты его покинул?
— Нет, мой друг, с лишком тридцать…
— И ты хочешь возобновить свой билет?
— Хочу, только не знаю, как это делается…
— Очень просто: ты заплатишь триста рублей штрафу за твою долговременную отлучку из клуба и станешь по-прежнему в него ездить.
— А что, мой друг, встречу ли я там кого-нибудь из прежних моих сотоварищей?… По крайней мере, я многих давно уже потерял из виду. Я думаю, почти все перемерли.
— Почему знать? Может быть, и отыщутся. Ведь у нас есть старички, которые к себе никого не принимают, а сами ездят только в клуб, так не диво, что ты многих из них потерял из виду… Однако ж время, мой друг, — поедем!
Мы отправились.
— Ты знаешь, кому принадлежал прежде дом, который нанимает Английский клуб? — спросил меня Илецкий, когда мы поворотили с бульвара на Тверскую.
— Его, кажется, построил граф Разумовский.
— Нет, мой друг! Главный корпус, в котором, собственно, помещается Английский клуб, существовал гораздо прежде, — это был дом знаменитого русского писателя Хераскова. Граф Разумовский пристроил к нему только деревянные флигели, которые ты, верно, до сих пор принимал за каменные.
— Да, это правда!.. Я даже никогда не подозревал, что эти двухэтажные огромные флигели, придающие такой величественный вид всему зданию…
— Построены из деревянных брусьев?… Конечно, теперь это странно, но в Москве до двенадцатого года много было огромных деревянных домов, которые ни в чем не уступали каменным палатам. Теперь осталось в этом роде два образчика: дом графа Шереметева в Останкине и дом графа Разумовского на Гороховом поле. Когда подумаешь, как живали в старину наши московские бояре!.. Хоть, например, этот дом графа Разумовского на Гороховом поле… Кому придет нынче в голову построить в средине города не дом, а дворец, не из кирпича, а из корабельного мачтового леса, что, конечно, стоит вдвое дороже, и развести позади этого дома на двадцати пяти десятинах сад, в котором вы могли прокатиться на шлюпке по светлому озеру, купаться в реке Яузе и даже подумать, что вы за сто верст от Москвы. Все это в наше время кажется сказкою. У нас уж нет теперь десяти или пятнадцати барских домов, которые наперерыв угощали всю Москву, зато, — продолжал с насмешливой улыбкою Илецкий, — у нас есть Клубы, в которых мы сами себя угощаем. Там, бывало, одевайся, тянись, представляйся хозяину, а здесь то ли дело: накинул на себя какой-то шушун, который французы называют пальто, закурил сигарку, да и знать никого не хочешь.
— Что ж это, Захар Иваныч, ты это говоришь в насмешку, что ль?…
— В насмешку?… Что ты, Богдан Ильич! Где нам, старым парикам, насмехаться над этим молодым поколением, остриженным а-ля мужик, лишь только бы над нами-то не смеялись…
— Так что ж, по-твоему…
— Известное дело, все новое лучше старого, братец.
— А вот и неправда, — сказал я шутя, — и старое вино лучше нового, и старый друг.
— Ну, уж о друзьях-то не говори! В наш просвещенный и положительный век смело можно повторить слова одного древнего мудреца: «Друзья! На свете нет друзей!» Но вот мы и приехали.
Нам помог выйти из каретки рослый и дюжий швейцар. Видный унтер-офицер, обвешанный медалями, отворил двери стеклянной перегородки, которая отделяла сени от великолепной двойной лестницы. Когда мы взошли по ней в прихожую, нас встретил другой швейцар; мы отдали ему шинели, шляпы и палки и вошли в первую комнату, по стенам которой висели разные объявления от старшин клуба, отчет за протекший месяц и бесконечный список кандидатов, из которых последнему надобно будет прожить лет сто, чтоб дождаться своей очереди.
— Вот комната, — сказал Илецкий, — которую можно было бы назвать лобным местом Английского клуба, потому что в ней не только вывешиваются отчеты и разные объявления от старшин, но происходит также и моральная казнь недостойных членов клуба, исключаемых за разные нарушения устава и неприличные поступки. Их имена, с подробным описанием преступления, вывешиваются на черной доске. Конечно, эта политическая смерть ограничивается одними пределами Английского клуба и не лишает виновного никаких гражданских прав, но не менее того попасть на черную доску вовсе не забавно. Разумеется, хорошему человеку бояться нечего: он ведет себя хорошо не из страха наказания; но «В семье не без урода», гласит русская пословица, а шестьсот человек — семейка порядочная. Следовательно, можно сказать утвердительно, что по милости этого спасительного страха благочиние, порядок и приличие весьма редко нарушаются в клубе. Теперь завернем на минутку в эти две комнаты. Тут, — продолжал Илецкий, — играют в лото. Посмотри, в каком здесь все порядке, с какой роскошью устроены эти машины, посредством которых выходят номера, как все до последней мелочи щеголевато, удобно и красиво!
— Да, конечно! Только это для меня совершенный сюрприз. Я никак не ожидал, чтоб лото, эта старинная, давно забытая игра…
— Ну да, вошла опять в моду точно так же, как старинная мебель а-ля помпадур, резьба на дереве, готическая архитектура, китайские куклы, наклейные столы и множество других вещей, на которые разорялись наши предки и которые несколько лет тому назад казались нам самыми вычурными и смешными образцами безвкусия. Поверь, мой друг, ничто не ново под луною. Мы думаем, по нашей гордости, что все идет вперед, а в самом-то деле мы лишь только кружимся на одном месте.
— Что ты, Захар Иваныч! Да неужели художества и все изящные искусства нейдут вперед?
— А дошли ли они до той степени совершенства, на которой находились у древних греков и римлян?
— Но, по крайней мере, ты согласишься, что науки…
— А почему знать, мой друг, может быть, все наши ученые не что иное, как школьники в сравнении с учеными, которые жили до потопа?… Да что толковать об этом! Мы еще успеем наговориться. Прежде всего надобно тебя провести по всем комнатам клуба.
Я пошел за Илецким.
— Вот, — сказал он, — эта огромная гостиная, в которой играют теперь на шести столах, известна под названием детской.
— Детской? — повторил я. — Уж не потому ли, что здесь очень шумят?
В самом деле, в эту минуту за одним карточным столом поднялся ужасный крик.
— Ого, — сказал я, — да тут никак ссорятся?
— О нет, — прервал Илецкий, — здесь никогда не ссорятся.
— Да разве ты не слышишь, как эти четыре господина кричат?
— Это оттого, мой друг, что они все четверо немного крепки на ухо. Вот, — продолжал Илецкий, — вторая гостиная, в ней редко играют в карты. Тут по большей части, как и теперь, сидят на диване и беседуют о всякой всячине, всего чаще о политике. Это столбовые члены клуба, о которых Грибоедов говорит, что они вовсе новизны не вводят,
… а придерутся К тому, к сему, а чаще ни к чему, Поспорят, пошумят и… разойдутся.Мы вышли из второй гостиной в великолепную галерею, в которой столах на восьми играли в вист.
— В первой гостиной, — сказал Илецкий, — играют так же, как и здесь, но там еще забавляются, а здесь уже работают. Там обыкновенно играют в вист по полтине и никогда больше одного рубля, а здесь козыряют по два, по три и даже по пяти рублей. Там, играя, разговаривают о посторонних вещах, шумят, смеются, а здесь все заняты своим делом и посторонних речей не услышишь; там пятьдесят рублей большой проигрыш, а здесь почти всегда рассчитываются сотенными ассигнациями. Вот, — продолжал Илецкий, — направо из этой галереи выход на террасу; с нее по отлогой дорожке ты спустишься незаметно в сад; в этом саду есть и тень, и прекрасные деревья; разумеется, он не огромен, однако ж в нем можно досыта нагуляться, поиграть, если хочешь, в кегли и потом отдохнуть на красивой галерее, на которой ты можешь точно так же, как в пале-рояльской ротонде, кушать мороженое, пить чай и даже ужинать. Ты, кажется, любил в старину играть на биллиарде? Милости просим сюда, налево! Вот к твоим услугам три биллиарда, едва ли не лучшие во всей Москве. В огромной зале, в которой они поставлены, был некогда зимний сад. И я когда-то прогуливался в этом саду, — примолвил со вздохом Илецкий. — Тогда об Английском клубе и разговоров не было, тогда еще в Москве веселились.
— И ты еще танцевал и кружил головы московским красавицам! — прервал я с улыбкой.
— Да, все прошло.
— И не воротится, мой друг.
— Так что ж?… По крайней мере, есть что вспомнить. А нынешние-то молодые люди? Да они, братец, хуже прежних стариков! Мы жили, а они что?
— И они живут, только по-своему. Если день на день не приходит, так почему ж настоящий век должен непременно походить на прошедший?
— А если прошедший-то был хорош?
— Для нас, потому что мы были молоды. Я помню, однако ж, стариков, которые не очень были им довольны, а их деды и отцы, вероятно, стояли за свой век, — это всегда так было и всегда так будет. Все молодые любят настоящее, все старики хвалят прошедшее, а на поверку-то выходит, что мы любим не век, а то время собственной своей жизни, когда мы были молоды, здоровы, веселы и когда будущее, теперь весьма для нас ограниченное, казалось нам почти бесконечным.
— Ну, хорошо, хорошо! Ведь тебя не переспоришь! Теперь прошу приготовиться и войти если не с трепетом, то, по крайней мере, с должным уважением в эту комнату.
— Что ж особенного в этой комнате?
— А то, что в ней деньги решительно теряют свою цену. В детской комнате, то есть первой гостиной, двадцать пять рублей больше значат, чем здесь тысяча. Не подумайте, однако ж, что в этой комнате играют в азартные игры. Боже сохрани! Здесь не играют даже в экарте. Невинные палки, классический пикет — вот единственные игры, известные в этой комнате. Играют также иногда и в преферанс, но это так — от нечего делать. Мне случилось однажды только видеть здесь партию в преферанс, которая заслуживала некоторого внимания: играли по десяти рублей серебром фишку.
— По десяти рублей серебром?… Ну!!
— Да это еще что! — продолжал Илецкий. — Вот если б ты поглядел, как здесь поигрывают в пикет… Я думаю, ты знаешь, что в эту игру можно легко проиграть более пятисот призов. Ну, отгадай же, почем иногда играют здесь в пикет?
— Неужели также по десяти рублей серебром?
— Побольше, мой друг. Я однажды был свидетелем, как играли в пикет по тридцати рублей серебром.
— О господи! — вскричал я невольно.
— Впрочем, не пугайся, — продолжал Илецкий, — это не так страшно, как ты думаешь. В этих случаях почти всегда играет не один игрок против другого, а целая партия против другой, следовательно, и проигрыш и выигрыш делятся между многими. Правда, случаются иногда такие неустрашимые и закаленные в боях герои, которые не хотят ни с кем поделиться ни славою решительной победы, ни стыдом совершенного разбития. Но эти случаи бывают очень редко; обыкновенно сражаются только двое, а в самом-то деле стена идет на стену, и смертельно раненных с обеих сторон почти никогда не бывает.
— А это, налево, что за комната? — спросил я.
— Это комната отдохновения. Посмотри, с какой прихотливой точностию соблюдены в ней все условия этого утонченного английского комфорта. Попробуй сядь против камелька на эти кресла. Ну, что?… Не правда ли, покой, нега, встать не хочется?… Приляг на этот диван и скажи мне, случалось ли тебе спать на постели, которая была бы так покойна и располагала бы тебя к такой усладительной дремоте, как этот зыблющийся под тобою роскошный диван? Хочешь ли ты не спать, а только отдохнуть и понежиться в этом бездейственном забытьи, этом итальянском иль дольче фарниенте, — садись сюда, на эти кресла с высокою эластическою спинкою, и покачивайся в них, как в люльке. В этой комнате после упорного сражения какой-нибудь отчаянный боец может отдохнуть и перечесть свои раны или полюбоваться своими трофеями, то есть смекнуть на просторе, сколько прибыло или сколько убыло в его бумажнике — разумеется, ломбардных билетов. Убыль и прибыль ассигнаций для первоклассного игрока не значат ничего; это все то же, что лихому партизану получить легкую контузию или взять в плен какого-нибудь обер-офицера. Теперь пойдем, я покажу тебе нашу журнальную библиотеку.
Мы вышли опять в ту комнату, где, по словам моего товарища, происходят такие знаменитые побоища. На этот раз поле сражения было почти пусто, вероятно потому, что главные войска еще не подошли. Я заметил только мимоходом небольшую схватку между двумя фланкерами, которые от нечего делать перестреливались рублика по три в палки. Пройдя небольшим коридором, мы вошли в прекрасную залу; по стенам ее стояли шкафы с книгами, а посредине — один длинный стол и два других стола поменее, покрытые журналами и газетами. Нельзя не полюбоваться отличным порядком и чистотой, в которой содержится эта журнальная комната. Особенного рода освещение, очень яркое, но не вредящее зрению, спокойная мебель, строго наблюдаемая тишина, множество и разнообразие периодических изданий — одним словом, тут все придумано для удовольствия и удобства читающих.
— Не знаю, в каком порядке была эта часть в твое время, — сказал Илецкий, — а теперь мы можем ею похвастаться: клуб выписывает русских двадцать три журнала и двадцать газет, французских журналов и газет пятнадцать, немецких четыре и один английский «Revue», который, впрочем, кажется, никто не читает, вероятно потому, что клуб называется Английским, — прибавил с улыбкою Илецкий.
— А что, — спросил я, — у вас те комнаты, в которых играют в карты, имеют также каждая свое определенное назначение, то есть в первой гостиной играют не больше рубля, в третьей…
— И, нет, мой друг! Каждый член волен играть где ему угодно и по чем угодно, но ведь ты знаешь, что привычка сильнее всякого закона. Члены, играющие по маленькой, привыкли собираться в детской, то есть первой гостиной, и ты никак не найдешь себе партии по полтине в вист в третьей гостиной, где люди уже возмужалые, играют как следует, в серьезную игру, тихо, смирно и с большим вниманием. В свою очередь, тот, кто играет в эту серьезную игру, в которую можно проиграть рублей триста или четыреста, не найдет себе партии в комнате, где сторублевая ассигнация не значит ровно ничего. И вот почему все играющее общество Английского клуба разделяется на несколько кругов, которые сделали уже привычку собираться каждый в особенной комнате. У нас есть и такие члены, для которых весь клуб ограничивается одной избранной ими комнатой и даже одним местом в этой комнате. Иной будет везде в гостях, исключая комнаты, в которой он поселился. Тут он дома, эта комната его мир, это место его собственность. Тут он каждый день сидит, курит трубку, беседует с приятелями, пьет чай, ужинает, дремлет после обеда и только не спит ночью, потому что может за это наравне с запоздалым игроком заплатить довольно значительный штраф. Из этой комнаты по средам и субботам он отправляется в гости в столовую пообедать и каждый день в журнальную комнату прочесть «Северную пчелу», «Инвалида» и «Московские ведомости». Эти последние выезды для него совершенно необходимы, потому что он любит извещать первый всех своих приятелей об испанских делах, о перемене французских министров, о продаже имений с публичного торга, об отъезжающих за границу и в особенности о наградах и производствах в чины, потому что тут всегда представляется обширное поле для всяких рассуждений, замечаний и глубокомысленных заключений. Да вот, всего лучше, войдем, присядем где-нибудь и послушаем.
Мы отправились назад тою же самою дорогою и сели на длинном диване в проходной комнате, которая отделяет биллиардную от третьей гостиной. На другом конце дивана сидели четверо господ, из которых один, человек очень пожилых лет, но довольно еще свежий, что-то рассказывал.
— Да, батюшка, — говорил он, — чудное дело, истинно чудное! Я знал Подольского еще ребенком… так, мальчишка глупенький, лет десяти, Сережа! Отец его был человек простой, нечиновный и связей никаких не имел. А сынок его… вот что мы Сережей-то называли, произведен, сударь, в действительные статские советники!.. Ну, давно ли, кажется?… Много-много, лет тридцать пять, в курточке ходил, а теперь ваше превосходительство!.. Бывало, в старину увидишь шляпу с пухом, так уж знаешь вперед: человек с именем, почтенный!.. А теперь!.. Ну, нечего сказать, чудные дела делаются, чудные!..
— А правда ли, — спросил один из слушателей, — говорят, будто бы Андрею Ивановичу Макшанову дали Анну через плечо?
— И, нет, батюшка! Станислава.
— Как же мне сказали…
— Да уж позвольте, я знаю наверное — Станислава. Вот также пожаловаться на службу не может. Летит, сударь, летит!.. Ну, да этот другое дело — голова… и связи большие. Ведь матушка его была урожденная княжна Красноярская, а, вы знаете, Красноярские в свойстве со всею знатью, так тут дивиться нечему; а вот что любопытно, — продолжал рассказчик, понизив голос, — знаете ли вы, что Степан Иванович Стародубский уволен от службы?…
— Неужели?
— Да, да! Говорят, будто бы какой-то иностранный двор настоятельно требовал этой отставки.
— И, что вы, Алексей Дмитрич, иностранный двор!.. Да какое право имеет иностранный двор?…
— Уж там говорите себе, а слетел, сударь! Политика, батюшка, политика!.. Знаете ли, бывают этакие разные дипломатические обстоятельства… Мы сделаем, и для нас сделают… понимаете?
— Конечно, конечно!.. Однако ж это что-то странно?… Какое бы, кажется, дело?…
Старик улыбнулся, понюхал табаку и сказал:
— Да, сударь, да!.. Кто не посвящен в таинства политики, тому многое должно казаться странным!..
— Алексей Дмитрич, — проговорил один господин, идя скорыми шагами из биллиардной, — сейчас принесли в журнальную последний номер «Северной пчелы», меня тащат в вист, так я не успел его пробежать… не хотите ли вы?
Старик вскочил с дивана, товарищи его также встали. Он отправился в журнальную, они разошлись по разным сторонам, и я остался один с Илецким.
— Пойдем и мы, — сказал Илецкий, — посмотрим, не найдешь ли ты в первой гостиной кого-нибудь из прежних твоих сотоварищей.
— Нет, — прошептал я с невольным вздохом, когда мы вошли в эту комнату, — я не вижу здесь ни одного знакомого лица.
— Посмотри хорошенько.
— Чего смотреть! Я вижу только, что в этой комнате, которую вы называете детской, большая часть господ вовсе не дети: один другого старее!..
— Да, конечно, народ пожилой.
— Вот, например, что сидит у крайнего стола?…
— Этому еще только семьдесят пять лет.
— А вот этот, что кушает чай?
— Ну, этот немного постарее: ему за восемьдесят.
— И этот, я думаю, не моложе? — спросил я, указывая на дряхлого старика, который шел, не подымая ног, шаркал ими по полу и двигался как будто бы не своей, а какой-то посторонней силой. — Как его фамилия?
— Курильский.
— Иван Андреевич?
— Да!
— Ах, боже мой! Да я баллотировал его в члены Английского клуба… Он был еще такой молодец! А теперь…
— Да это, братец, все ребятишки; вот посмотри на этого барина, который расхаживает так бодро и с такой странной припрыжкой по комнате.
— А кто он такой?
— Иван Сергеевич Саянов.
— Что ты! В уме ли?… Иван Сергеевич Саянов?… Не может быть! Да он уж лет двадцать, как умер.
— Нет, Богдан Ильич, не прогневайся, — живехонек; да еще, может быть, и нас с тобой похоронит.
— Да, помилуй, двадцать семь лет тому назад я играл с ним в бостон; он и тогда говорил, что ему за семьдесят! Сколько же ему лет?
— Без малого сто.
— А, почтеннейший Захар Иванович! — вскричал какой-то худощавый господин лет сорока пяти, протягивая руку Илецкому. — Вас вчера не было в клубе, — верно, изволили быть в концерте?
— Нет, не был.
— Так поэтому: вы Листа уж слышали?
— Нет, еще не слышал.
— Неужели?… Ну, уж я вам скажу, что за диковина этот Лист!.. Удивительный, сударь, человек, удивительный!.. Этакого проворства я никогда не видывал! Как он работает пальцами, ах, господи!.. Молния, сударь, молния!.. Детина такой видный… острижен в кружок… нос большой… Необычайный артист, сударь, необычайный!.. Нет, Захар Иванович, поезжайте, поезжайте! Право, стоит раз послушать. А что, пойдете по рублику в вист?
— Нет, я больше полтины не играю.
— Эх, Захар Иванович, пуститесь!.. Партия приятная: Иван Андреевич, Степан Трифоныч, я… Ну, что за беда. Рискните раз по рублику!
— Помилуйте, на что мне менять игру?
— Так не угодно ли вам? — продолжал этот вистный вербовщик, обращаясь ко мне.
— Извините, — отвечал я, — я также не играю по рублю.
— Да вот вам четвертый, — прервал Илецкий. — Андрей Михайлович, четвертого нет — по рублику! Хотите?
Андрей Михайлович, человек лет шестидесяти пяти, толстый, осанистый, с брюзглым лицом и важною выступкой, остановился и, поглядев прямо в глаза Илецкому, спросил:
— По рублю? Во что?
— В вист.
— В вист? — повторил толстый барин таким ужасным голосом, что у меня волосы стали дыбом. — Кто, я — в вист?… Ха, ха, ха!
— Ох, Андрей Михайлович! — сказал Илецкий. — Что это вы так страшно смеетесь?
— Мне играть в вист?… Нет, батюшка, нет!.. Покорнейше благодарю!..
— Что это с вами сделалось? Вы, кажется, вист любите?
— Да он-то меня не любит. Два месяца сряду проигрываю — каждый день, каждый день!.. Нет, будет! Во что угодно: в бостон, в преферанс, а в вист — ни за что!.. Сейчас проиграл четыре роберта, да еще какие!.. И добро бы, играл несчастливо, — нет, карты идут!
— Так отчего же вы проигрываете?
— Контры, Захар Иванович, контры, каких я в жизнь мою не видывал. Да вот хоть последний роберт представьте себе: я играю с Федором Кирилловичем Граниковым, против нас под рукою у меня — Онисим Алексеевич Туренин, за рукою — Федор Дмитрич Шахонской. У них партия двенадцать, у нас четыре; у них записано три, у нас девять. Вскрывают козыря — пики. Я беру карты; у меня король сам-шесть с маленькими козырей, четверо старших треф от короля, туз бубен и туз, король червей, — наша ли игра?
— Ну, конечно.
— Так слушайте! Мой ход; разумеется, я козыряю с маленькой, Туренин не дает козырей, мой товарищ кладет даму, Шахонской бьет тузом и идет в десятку бубен; я бью тузом и козыряю с короля. Туренин сбрасывает какую-то фоску, мой товарищ не дает козырей, Шахонской кидает пятерку; у него остаются валет, десятка, девятка и осьмерка — все четыре старшие козыря! Теперь слушайте. Разумеется, я иду в короля треф, Шахонской хлоп тузом — и пошел! Козырь, другой, третий, четвертый — да шестеро старших бубен! Три было записано, пять леве и два онера — вышли!.. Ну, батюшка, что скажете?
— Удивительно!
— Мой ход. У товарища козырная дама, а у меня король сам-шесть козырей, четверо старших треф от короля, туз, король масти и туз масти.
— Да, это странно!
— И с этой игрой только две взятки!..
— Подлинно, большое несчастие! — заметил худощавый господин, который искал четвертого в вист. — Зачем вы козыряли?
— Как зачем?… Король сам-шесть козырей, все масти — и я не стану козырять? Помилуйте!
— Воля ваша, а мне кажется…
— Ну, уж позвольте мне знать, что я делаю! — прервал толстый барин. — Я могу играть несчастливо — это другое дело, но как разыграть игру — извините, в этом я ни у кого совета не попрошу!
Проговорив эти слова со всем достоинством обиженного таланта, толстый господин отправился в другую комнату.
— Ого, какой сердитый барин! — шепнул я.
— Нет, он человек смирный, — сказал Илецкий, — но это слабая его сторона: он уверен, что лучше всех в мире играет в коммерческие игры, а так как это одно, чем он может гордиться, то и малейшие сомнения в его карточной непогрешимости приводят его в совершенную ярость. Сказать ему, что он дал выиграть игру или сам проиграл по ошибке, это все равно, что назвать его негодяем или бесчестным человеком. Избави господи, если кто-нибудь докажет ему, что он плохо играет в вист, — этот человек будет его убийцею.
— Да, — прервал худощавый барин, — Андрей Михайлович тяжел! Все у него дурно играют, а ему не смей и слова сказать. То ли дело Тимофей Сергеевич: крепонек на ухо, это правда, кричать надобно, а какой приятный игрок!.. А, да вот и он! Здравствуйте, Тимофей Сергеевич!..
— Слуга покорный! — сказал небольшого роста старичок с плешивой головой и добрым, простодушным лицом.
— Ну, что, как ваше здоровье?
— Да, батюшка, поздненько сегодня приехал…
— Ну, вот говори с ним! Не хотите ли, Тимофей Сергеевич, по рублику в вист?
— Что, батюшка, — Лист?… Да, говорят, хорошо играет!.. В старые годы и я бы послушал, а теперь что будешь делать!..
— Я вам говорю: не хотите ли по рублю в вист?
— Слышу, батюшка: вы предлагаете мне партию в вист. Почем?…
— Если вам угодно, по рублю.
— Вы не играете по рублю?… Извольте, я и по полтинке сяду.
Худощавый господин понатужился и закричал во все горло:
— Вас просят по рублю!
— Давайте, батюшка, давайте! Это обыкновенная моя игра.
— Человек, отборные карты — вон туда, на крайний стол!.. Пожалуйте, Тимофей Сергеевич, пожалуйте!
Тут подошли к Илецкому с предложением составить вист; я попал в четвертые. По всегдашнему моему обыкновению, проиграл три роберта сряду, потом поужинал, то есть съел котлетку, и отправился с Илецким домой.
— Ну, что, — спросил он меня, когда мы уселись в каретку, — теперь ты имеешь понятие о нынешнем Английском клубе? Как он тебе кажется?
— В старину он был не так роскошен.
— Не правда ли, что этот дом…
— Великолепен.
— А услуга?
— Прекрасная.
— А все то, что служит к удовольствию, удобству и занятию членов?…
— Что и говорить, все придумано и устроено отличным образом.
— И все это стоит каждому члену только семьдесят пять рублей ассигнациями в год.
— Да, конечно, это недорого.
— Недорого! Скажи лучше, дешево до невероятности. Представь себе, что ты человек очень бедный и не можешь почти ничего тратить на твои удовольствия, но тебе посчастливилось попасть в члены Английского клуба, и вот ты каждый день, напившись у себя чайку, отправляешься в клуб провести вечер. Ты там совершенно дома; ты можешь быть в сюртуке, даже в модном пальто-сак, то есть почти в халате. Ты находишь здесь большую часть твоих знакомых; хочешь беседовать с ними — беседуй, не хочешь — займись чем-нибудь другим. Тебе нечего проигрывать, следовательно, ты не играешь ни в карты, ни в лото; в биллиард также не станешь играть, потому что надобно платить за партии, но никто не мешает тебе играть в шахматы, за которые ничего не платят, или читать журналы, на выписку которых клуб истрачивает несколько тысяч рублей в год. У себя дома ты провел бы вечер в какой-нибудь низенькой комнатке, плохо освещенной сальным огарком, плохо вытопленной, а здесь ты также дома, и все эти огромные, великолепные комнаты, в которых и тепло, и светло, и просторно, принадлежат тебе. Дома прислуга твоя состоит из какой-нибудь полусонной кухарки или оборванного полупьяного лакея, а здесь сорок официантов, ловких, вежливых, проворных, смотрят тебе в глаза и предупреждают все твои желания. Каждую среду и субботу в клубе обед. Положим, что ты не можешь платить и по три рубля, разумеется не серебром, за обед, который стоит клубу вдвое дороже, но если ты не очень совестлив, то можешь каждую среду и субботу приходить в клуб не обедать, а завтракать. По уставу клуба за завтрак, и, надобно заметить, весьма сытный, не берут ничего. Конечно, немногие пользуются этим правом, однако ж это право существует для каждого члена. Сверх того в известное время года каждый член может присылать в клуб одного или многих бедных со своей запискою, и им, по усмотрению старшин, выдают редко менее десяти рублей, а иногда до пятидесяти. Я не говорю уже о разных других мелочных правах и удобствах, которыми пользуются члены клуба. И за все это вы платите семьдесят пять рублей ассигнациями в год, то есть меньше двадцати трех копеек медью в день. Кажется, дешево?
— Да, это правда! Если б какому-нибудь бедняку сказали, что он может за эту цену провести целый вечер, как человек, получающий двести тысяч в год доходу, то он конечно бы подумал, что ему рассказывают сказку из «Тысяча одной ночи». Ну, как же после этого ты можешь предпочитать прошедший век настоящему? Лет пятьдесят тому назад бедный человек знал только понаслышке, как живут богатые…
— И был гораздо счастливее, чем теперь, — прервал с жаром Илецкий. — Если он имел какое-нибудь образование, то всегда мог попасть в хорошее общество и, следовательно, быть участником тех наслаждений, которыми дарят нас просвещение, богатство и роскошь. Если же он был человеком не очень грамотным, то жил попросту в своей семье, не гнушался убогим домиком, играл при свете сального огарка с приятелями в дурачки и свои козыри, читал с наслаждением письмовник Курганова и сочинения Эмина, ел щи и гречневую кашу, а пил вместо шампанского и лафита домашнюю наливку. Теперь, если он побывает в Английском клубе, не покажется ли ему скверным чуланом та самая комната, которую он находил до того и чистой и опрятной? Не захочет ли он, чтоб в этой комнате было светлее и чтоб его простой кожаный диван был на пружинах?… В старину европейская утонченная роскошь была запрещенным плодом для всех бедных людей, не имеющих никакого права жить в высшем обществе; теперь эта роскошь, по милости клубов, доступна для каждого. Как же ты хочешь, чтоб, вкусив раз от этого запрещенного плода, какой-нибудь бедняк не захотел как можно чаще пользоваться этим наслаждением? И вот он из хорошего семьянина мало-помалу превращается в самого усердного члена Английского или Дворянского клубов и вместо того, чтоб позаботиться, как бы прокормить свое семейство и помочь жене хозяйничать, таскается каждый день в клуб и становится наконец человеком совершенно чуждым для своего семейства.
— Да что с тобою сделалось? — прервал я. — Ты, кажется, сначала хвалил Английский клуб, а теперь нападаешь на него с таким ожесточением? Да неужели, по-твоему, человек семейный не может никуда ездить в гости? А мне кажется, ездить по вечерам в гости или ездить в Английский клуб — одно и то же.
— Нет, извините! Вы едете в гости с женою, с вашим семейством. Да это еще ничего! Ты, верно, заметил, что в Английском клубе бывают не одни только старики?… А я спрашиваю тебя: что такое для молодого человека общество, из которого исключены женщины?… На что он сделается похожим, если пристрастится к этому обществу? Вечно с сигаркою в зубах, плохо выбритый, в сюртуке или пальто, в шароварах… Да что тут говорить! — продолжал Илецкий с возрастающим жаром. — Посмотрим на нынешнюю молодежь: что это такое? Какой тон, что за манера! На балу хозяйка дома не знает, что делать с бедными девицами: один не танцует, у другого нога болит, тот сел играть в преферанс, а этого не выгонишь из буфета — срам, да и только!.. А начнут танцевать, так истинно гадко видеть — насилу двигаются! Ни один ноги поднять не хочет! Ходят взад и вперед разваливаясь, как разбитые лошади!..
Я засмеялся.
— Ну, чему ты смеешься? — спросил Илецкий.
— Так, мой друг! Я вспомнил, как ты танцевал в старину, и очень понимаю теперешнее твое негодование. Общий наш учитель, танцмейстер Меранвиль, приходил в восторг, смотря на твои чудесные ригодоны и отчетистые шасе-ан-аван.
— Да, конечно, мы танцевали и разговаривали с нашими дамами, а спроси, что теперешние-то молодые люди говорят во время танцев?…
— Ну, это, любезный, не по нашей части. Что бы они ни говорили, а уж, верно, их слушают охотнее, чем нас с тобою, Захар Иванович!
— Так, так! Ты всегда горой стоишь за новое поколение.
— Да ведь и мы были во время оно новым поколением, мой друг, и про нас то же говорили тогдашние старики… Однако что ж это значит: если ты до такой степени не жалуешь все клубы, так зачем же ты сам бываешь почти каждый день в Английском клубе?
— Что я, братец?… Я бобыль!
— Да еще вдобавок — старый.
— Старый, старый!.. Есть и старее меня.
— Ну, хороши и мы с тобой!.. Да дело не о том: мне кажется, что изо всего, что мы говорили и видели сегодня, можно с довольной справедливостию заключить, что молодым людям и людям семейным не мешало бы пореже ездить в Английский клуб, но что для людей одиноких и пожилых, которые не вовсе еще расстались с обществом, а между тем, по своему плохому здоровью и привычке к спокойной домашней жизни, не могут выезжать в свет, Английский клуб, так, как он есть теперь, может назваться самым благодетельным заведением. Конечно, и против этого найдется что сказать; да разве есть что-нибудь на свете, что не имело бы своей дурной стороны?…
— О, конечно, есть! — прервал Илецкий.
— А что бы такое?
— Мало ли что. Да вот, например, хоть выдумка крытых экипажей. Посмотри, какой льет дождь, а мы этого не замечаем: сидим преспокойно в нашей каретке, беседуем: нам тепло, спокойно… Ну, найди мне в этом какую-нибудь дурную сторону.
— Я советую тебе обратиться с этим вопросом к твоему кучеру Федоту.
— Да разве ему на дрожках-то было бы лучше?
— Разумеется, не лучше, но если б крытые экипажи не были еще выдуманы, то, вероятно, ты сидел бы сегодня дома.
Каретка остановилась у моих ворот. Я простился с Илецким, поблагодарил его за компанию и дал слово в первую субботу отобедать с ним в клубе и составить его партию — разумеется, по полтине в вист.
IV Литературный вечер
Мы никогда не будем умны чужим умом
и славны чужою славою. Французские,
английские авторы могут обойтись без нашей
похвалы, но русским нужно, по крайней мере,
внимание русских.
КарамзинЯ должен прежде всего познакомить своих читателей с главным действующим лицом этого драматического рассказа.
Авдотья Ивановна Сицкая прожила всю молодость свою в одном не близком от Москвы губернском городе; этот губернский город, несмотря на свое отдаление от обеих столиц, щеголял всегда своим европейским просвещением, безусловной любовью к Западу и, вероятно, был родиною знаменитой госпожи Курдюковой, потому что все жители его чрезвычайно любили говорить разом на двух языках, на плохом русском и на дурном французском. Пока муж госпожи Сицкой был жив, она не могла никак вырваться из своего северо-восточного края и взглянуть на свет божий, который, как известно, светит только на Западе. Этот камчадал, то есть муж госпожи Сицкой, стоял в том, что русский дворянин должен жить в России и ездить для своей потехи за границу только в таком случае, когда это не может расстроить его домашних дел. Как ни восставала бедная Сицкая против такой вопиющей несправедливости, как ни доказывала текстами из Бальзака и Жоржа Занда, что жена вовсе не обязана повиноваться мужу, но должна была покориться этой ненавистной грубой силе (Force brutale), потому что все именье принадлежало мужу, а не ей. На сорок восьмом году своей страдальческой жизни сделалась она свободною: муж ее умер, оставив ей в пожизненное владение шестьсот душ крестьян и тысяч пятьдесят наличными деньгами. Неутешная вдова, которой на родине все напоминало о потере мужа, уничтожила пашню, посадила крестьян на оброк и отправилась за границу — сначала тосковать на берегах Рейна, а потом порассеять свою тоску в Париже. Она прожила в нем два года, и, действительно, тоска ее рассеялась, но вместе с тоскою рассеялись и все наличные ее деньги; так надобно было, хотя на время, возвратиться опять в Россию. Вот она явилась в Петербург. Эта пышная столица севера, наполненная иностранцами, могла еще в глазах ее выдерживать некоторое сравнение если не с Парижем, то, по крайней мере, с другими городами Европы. Но Петербург ей скоро наскучил. Она думала, что женщина, которая прожила два года безвыездно в Париже, должна обратить на себя внимание всей петербургской аристократии, а вышло совсем напротив. Теперь, когда благодаря пироскапам путешествия из Петербурга за границу превратились в самые обыкновенные и даже пошлые прогулки, никто не прибавит себе ни на волос значения тем, что был во Франции, Англии или Италии, а тот, кто станет этим хвастаться, сделается непременно смешным, как сделалась смешною Сицкая, которая беспрестанно намекала о том, что была за границею. Тому, кто живет в высшем обществе, не запрещается быть глупым, но он ни в каком случае не должен быть смешным, вероятно, потому, что первое зависит не от нас, а второе есть необходимое следствие дурного образования, незнания общественных приличий и какая-то вывеска вовсе не аристократического происхождения. Взгляните на знатного дурака: проговоря с ним несколько минут, вы, может быть, догадаетесь, что он дурак, а прошу сказать, что в нем смешного? У него нет двух собственных идей в голове — это правда, но зато посмотрите, как он ловок, послушайте, какие гладкие, вылощенные французские фразы! Какое — как бы это сказать? — врожденное чувство… нет, я думаю, вернее — инстинкт приличия и хорошего тона, которому он никогда не изменяет, да и не может изменить, потому что сроднился с ним еще в ребячестве. Вследствие всего вышесказанного Сицкая, заметив, что она играет весьма жалкую роль в этом блестящем кругу, который, надев однажды на кого-нибудь дурацкую шапку с бубенчиками, никогда уж ее не снимает, решилась уехать в Москву. Здесь ей жить было гораздо легче: здесь она могла почваниться тем, что была в Париже, критиковать дамские наряды, посмеяться над русским театром и даже уверить какого-нибудь простодушного москвича, что в Париже все поденщики люди с образованием и все рыбные торговки чрезвычайно приятны в обращении и очень любезны. В Москве ей гораздо легче было попасть в высший круг общества. Она бывала на балах у графини А***, на вечерах у княгини С*** и сама назначила у себя дни по вторникам, вероятно для того, чтоб все знали, что она никогда не бывает в Благородном собрании{Московское Благородное собрание, без всякого сомнения, одно из великолепнейших клубных заведений в Европе; но хороший тон требует, чтоб его посещали как можно реже. (Замечание для иногородних) — (Сноска автора)}. На этих вечерах не танцевали, не играли в карты, а ведь надобно ж чем-нибудь занимать гостей. Вот Авдотья Ивановна прикинулась страстной любительницей словесности, и поневоле — русской: в Москве нет французских литераторов. Стала покровительствовать всем молодым писателям, отыскивать гениев и открывать громадные таланты. В Париже была когда-то госпожа Графиньи, — почему ж не быть ей и в Москве? Сицкая завела у себя литературные беседы и чтения. Ей как-то не удалось заманить на свои вечера ни известных литераторов, ни первоклассных московских львиц и львов, но зато в ее доме вы могли бы всегда встретить проникнутых европеизмом русских барынь, которые или приехали из-за границы, или сбирались ехать за границу; художников, которых замечательные произведения разбросаны по всем московским альбомам; иностранцев, по большей части путешествующих для своей забавы и разных торговых оборотов; с полдюжины писателей, которые ничего еще не написали; одного или двух гениев, не вовсе еще зрелых, но готовых при первом удобном случае вспыхнуть и озарить новым светом всю вселенную; и целую толпу глубоких мыслителей, которые, дожив до двадцати лет, успели все испытать, все перечувствовать и всем надоесть.
Теперь позвольте мне для большей ясности представить вам именной список всем лицам, действующим, говорящим и даже не говорящим в этом драматическом рассказе, который, если вам угодно, вы можете назвать шуткою, — я за это досадовать не стану.
Действующие лица говорящие
Хозяйка дома Авдотья Ивановна Сицкая. С нею уж вы знакомы.
Федор Федорович Гуськов, приехавший по делам в Москву, деревенский сосед Авдотьи Ивановны Сицкой. Ему лет за сорок; одет несколько по-стариковски; в белом галстуке, с бронзовой медалью в петличке. Федор Федорович Гуськов принадлежит к числу тех русских помещиков, которые слывут в своем уезде людьми просвещенными и начитанными. Он выписывает журналы, разумеется те, которые потолще других, и умножает ежегодно свою библиотеку, переплетая все — даже «Московские ведомости» со всеми прибавлениями, не исключая бенефисных афиш и особых извещений от старшин Немецкого клуба.
Неофит Платонович Ералашный, гений двадцати пяти лет; в черном фраке, с распущенными по плечам волосами; бледное, изможденное лицо его, по словам некоторых, изобличает, как и все лица гениев, неукротимые страсти и сильную волю, а по словам других, — разгульную жизнь и не слишком похвальное поведение, что, впрочем, по мнению новейших французских писателей, составляет также необходимую принадлежность каждого гения. Друзья называют его взгляд орлиным, враги, то есть люди, не знающие толку в гениальности, замечают в этом взгляде что-то полоумное и шальное. Он читает свои стихи этим мощным вдохновенным голосом, который люди обыкновенные и чуждые всякой поэзии называют басом. Никто еще не знает, каким кипучим ключом забьет вдохновение в груди этого избранника небес; каким мировым созданием разразится этот громадный талант; в какую форму облечет он свои вечные идеи. Это для всех тайна. До сих пор он написал еще только четыре стиха к портрету Бирона, неоконченное послание к морю и сочинил фантастическую повесть «Душа в хрустальном бокале».
Варсонофий Николаевич Наянов, длинный, худой, косматый молодой человек лет двадцати семи. Он пошел было сначала по ученой части, да что-то не посчастливилось: науки ему не дались, языки также, звание действительного студента также, но он знал имена всех современных писателей, затвердил несколько латинских слов, выучил наизусть всю ученую немецкую терминологию и сверх того обладал необычайным даром болтать без устали по два часа сряду, не сказав решительно ничего. С таким богатым запасом нельзя было ему оставаться в числе простых, обыкновенных мыслителей; вот он и решился испытать свои силы на литературном поприще. Читающая публика, которую он теперь называет всегда толпою, не умела оценить его высокого дарования. Варсонофий Николаевич Наянов остервенился, окунул свое перо в желчь и начал свирепствовать, то есть писать на всех рецензии и ругательства. Все это в порядке вещей: бездарный писатель, который хочет во что бы то ни стало продолжать писать, всегда превращается в неумолимого критика; это плебей, который ненавидит всех патрициев; чем выше талант, тем с большим ожесточением старается он забросать его грязью. Да и что за радость повторять слова толпы и хвалить вместе с нею писателей, именами которых гордится Россия? То ли дело поднять свою святотатственную руку на Ломоносова, Державина, Карамзина, Дмитриева и хоть не доказать, а сказать, по крайней мере, что они были писатели вовсе бездарные и что новое поколение и знать их не хочет! Конечно, люди умные, читая этот литературный пасквиль, станут пожимать плечами, но зато дураки, — а ведь их очень много, — закричат в один голос:
Ай, Моська! знать, она сильна, Что лает на Слона!
Андрей Степанович Лычкин, второклассный лев; с рыжей бородкою, в модном полусюртуке; голова острижена под гребешок.
Артемий Захарьич Рылъский, человек сорока пяти лет; одет просто, но очень опрятно и с большим вкусом. Он много читал, много путешествовал и много видел. Он не кричит беспрестанно: «О Россия, мать героев!» — но не говорит также кстати и некстати: «Где нам! Что мы!..» Артемий Захарьич Рыльский не стоит на коленях пред Западом, однако ж и спиною к нему не оборачивается; он истинно любит науки, художества, словесность и вообще все прекрасное, какому бы народу оно ни принадлежало.
Ольга Николаевна Букашкина, дородная, шарообразная русская барыня с большими претензиями. Хотя ей не удалось побывать за границею, однако ж она поговаривает о Москве с большим пренебрежением, потому что была когда-то в Варшаве и сбирается ехать в Одессу.
Елена Дмитриевна Суховолъская, молодая женщина, бледная, худая, с прекрасными голубыми глазами, исполненными задумчивости и какой-то тихой… опять не знаю, как выразиться… грусти… нет!.. ей не о чем грустить. Ну, так и быть скажу: меланхолии — хотя это слово давно уже вышло из моды! Елена Дмитриевна очень любит погружаться в мир фантазии, смотреть на луну, сидеть под тенью плаксивой ивы и ронять свои слезы в прозрачные струи журчащего ручейка; одним словом, госпожа Суховольская живой анахронизм. Вероятно, это произошло оттого, что она воспитывалась в одном отдаленном уездном городе, где и до сих пор еще любят слезливых писателей осьмнадцатого столетия, восхищаются путешествием в полуденную Россию Измайлова и проливают горячие слезы, читая прекрасную повесть Клушина «Вертеровы чувствования, или Несчастный Маслов». Впрочем, госпожа Суховольская, руководимая своей наставницей Авдотьей Ивановной Сицкой, начинает понемногу привыкать к современной словесности. Она уже редко плачет, но зато часто содрогается и, хотя любит еще по старой привычке кроткие и грустные ощущения души чувствительной, однако ж слушает без отвращения эти несколько грязные, но не менее того гениальные описания житейских мерзостей и, читая «Парижские таинства» Ежена Сю, постигает всю поэзию неистовых страстей, буйного разврата и той разгульной жизни каторжных, пьяниц, разбойников и знатных людей, которые гуляют с ними по кабакам и дерутся на кулачки.
Мадам Григри, француженка лет сорока. Она живет у Сицкой для компании и в то же время исполняет должность экономки.
Лица не говорящие
Три мыслителя. Старшему не более двадцати лет; одеты не очень красиво и даже с некоторым неряшеством. У одного волосы обстрижены в кружок, у другого подковкою, у третьего вовсе не обстрижены, но у всех троих одинаким образом плохо расчесаны и висят как ни попало. Взоры их важны, проницательны и мрачны.
Два гения в зародышах. Также молодые люди, только еще неопрятнее, более растрепанны и смотрят гораздо свирепее.
Две барышни. Одна — дочь Букашкиной, другая — меньшая сестра Суховольской; первая сочиняет по секрету французские стихи, вторая пишет втихомолку русской прозою. Первая написала уже до половины стихотворение «Mon reve»; вторая начала повесть «Сердце женщины». Обе они как начинающие писательницы довольно еще скромны и застенчивы.
Служанка госпожи Сицкой.
Слуги госпожи Сицкой.
Утро. Дамская уборная комната. Перед письменным столиком, в белой кисейной блузе и спальном чепце, сидит пожилая женщина; ей на лицо лет пятьдесят. Заметно, что некогда она была хороша собою: все черты лица ее правильны, но заклятый враг роз и лилий, это неумолимое время покрыло желтоватой бледностью ее щеки, провело на лбу морщины, превратило гибкий стан в дородную талию, густые шелковые локоны — в жесткие и редкие волосы и, что всего хуже, не оставило ей ни одного переднего зуба. Эта старая, увядшая и, страшно вымолвить, беззубая барыня — Авдотья Ивановна Сицкая. Перед нею стоит мадам Григри — женщина средних лет, в белом платье, голубом шелковом фартуке, в волосах и бархатной черной кокетке.
NB. Весь нижеследующий разговор происходит, с небольшими исключениями, на французском языке.
Авдотья Ивановна (окончив записку и обращаясь к мадам Григри). Ma chere, как вы меня сегодня находите?
Мадам Григри. Вы очень хороши.
Авдотья Ивановна. Право? А я так дурно спала всю ночь! Вы знаете, что у меня сегодня литературный вечер?
Мадам Григри. Как же! Вы мне еще вчера об этом говорили.
Авдотья Ивановна. Я думала дать этот вечер на будущей неделе, но сегодня также чтение у княгини Долинской. Ей неугодно было пригласить меня… впрочем, я бы и не поехала… У нее всегда такая скука, такая тоска!.. Вот мы посмотрим, чей вечер будет интереснее… (Звонит в колокольчик. Входит слуга.) Возьми эти две записки: отнеси эту к Неофиту Платоновичу Ералашному, а эту к Варсонофию Николаевичу Наянову; да зайди к Елене Дмитриевне Суховольской, к Лычкину, к Артемию Захарьичу Рыльскому и скажи, что я прошу их к себе на вечер в осьмом часу, — слышишь? Ну, ступай!
Мадам Григри. Что, у вас много будет гостей?
Авдотья Ивановна. Нет, не больше пятнадцати человек. Ко мне стали бы многие напрашиваться, да я терпеть не могу толпы. Литературный вечер не раут. Вот, я думаю, у этой княгини Долинской сегодня будет человек сто. Она рада с улицы нахватать. Ей все равно: карточный ли вечер или чтение, было бы только тесно!.. Дура!.. Как я рада, что она меня не позвала.
Мадам Григри. В котором часу начнется чтение?
Авдотья Ивановна. Часу в девятом… Ах, ma chere, не забудьте графин воды и мелкого сахару!.. C'est de rigueur. Читать будут у меня в кабинете, за круглым столом.
Мадам Григри. Будьте спокойны, я все приготовлю.
Авдотья Ивановна. Чай можно подать, пока мы будем еще в гостиной.
Мадам Григри. Очень хорошо.
Авдотья Ивановна. Между двух чтений будет отдых; в это время можно подать мороженое.
Мадам Григри. А ужин надобно?…
Авдотья Ивановна. Как же, ma chere! Я не хочу, чтоб мои гости поехали от меня ужинать в ресторацию, так как это всегда делают у Долинской. Литературный вечер!.. Желала бы я знать, что у нее станут читать и кто будет слушать?… Я думаю, все дело кончится вистом и преферансом… Это чтенье только предлог. Ведь ей необходимо, чтоб у нее играли: она весь дом содержит картами!.. Ах, как я рада, что она меня не пригласила! Ни за что бы не поехала!.. (Входит слуга и подает Сицкой записку.) От кого?… А, от Велькомирова! (Читает.) «Позвольте мне поблагодарить Вас за Вашу обязательную записку, которую я имел честь получить вчера вечером. Мне очень грустно, что я не могу исполнить Вашего приказания. Я читаю мои стихи только в кругу самых близких мне друзей, в снисхождении которых уверен заранее; впрочем, если Вам угодно слышать мои стихи, я за счастие поставлю приехать к Вам и прочесть их, когда Вы будете одни». Вот прекрасно!.. Очень мне нужны его стихи, когда у меня никого не будет!
Мадам Григри. Кто этот Велькомиров? Он, кажется, никогда у вас не бывает.
Авдотья Ивановна. Мы с ним часто встречаемся в свете.
Мадам Григри. И он обещал вам?…
Авдотья Ивановна. Как же! Я вчера поутру видела его у Соликамской, просила, чтоб он сегодня прочел у меня свои стихи, и он очень вежливо мне поклонился… Да что он так о себе думает?… Уж не правду ли говорит Наянов, что в нем вовсе нет таланта?… Признаюсь, мне и самой то же кажется… А я еще назвала его в своей записке русским Ламартином… Мужик!.. Ах: как это досадно: стихов не будет… одна проза… Ну, делать нечего!.. Вот, ma chere, что такое русские писатели!.. В Париже мне стоило бы сказать одно только слово, и сам мосье Бальзак или Александр Дюма за честь бы поставили… О, если б не обстоятельства… конечно бы, нога моя не была в России!.. Париж!.. О, сколько в нем удовольствий, наслаждений.
Мадам Григри. Вы правду говорите: Париж — рай женщин!
Авдотья Ивановна (как будто что-то припоминая). Ах!.. Да!.. (Входит горничная.) Что ты?
Горничная. Вы приказали в первом часу…
Авдотья Ивановна. Да разве уж первый?…
Горничная. Скоро час.
Авдотья Ивановна. Неужели?… А я еще и не думала о моем туалете. (Вставая.) Пожалуйста, ma chere, не забудьте, что я вам приказывала.
Мадам Григри. Будьте спокойны.
(Мадам Григри уходит. Двери уборной запираются на замок.)
Вечер. Гостиная комната в доме Авдотьи Ивановны Сицкой. Бронзовая люстра и канделябры по углам с зажженными свечами. На подстольниках бронзовые часы. Перед диваном на столе фарфоровый карсель. На всех других столах разбросаны альбомы, кипсеки и литографии.
Слуга (растворяя обе половинки дверей). Пожалуйте! Барыня сейчас выйдет.
(Входят Артемий Захарьич Рыльский и Федор Федорович Гуськов.)
Гуськов (оглядываясь назад). Ну, как хорошо у Авдотьи Ивановны! Нечего сказать — барски живет!
Рыльский. Да, она живет недурно.
Гуськов. А что, Артемий Захарьич, я думаю, эта бронза вся заграничная?
Рыльский. Я думаю.
Гуськов. У нас этак не сделают. Да и мебель-то, верно, парижская?
Рыльский. Нет, мебель здешняя.
Гуськов. Отлично хорошо!.. Так сегодня у Авдотьи Ивановны будет чтение?
Рыльский. Кажется, что так.
Гуськов. Не известно ли вам, что будут читать?
Рыльский. Право, не могу вам сказать.
Гуськов (с важностию). Вероятно, или прозу или стихи?
Рыльский. Вероятно.
Гуськов. Я вам доложу, я страстный охотник до чтения. Много и денег на это трачу. Да что будешь делать, жить не могу без книг… пища моя, сударь, пища!
Рыльский. Я слышал, у вас есть библиотека?
Гуськов. Как же! И смею доложить — библиотека порядочная! Много есть, знаете, таких книжек — весьма замечательных… Классические… и разные другие.
Рыльский. Что ж, это очень хорошо.
Гуськов. Да-с, и все в переплетах. Нарочно отдавал мальчика учиться; хорошо переплетает, очень хорошо! И в кожу, и в папку, и в корешок — как угодно.
Рыльский. Так поэтому вы ссужаете всех ваших соседей?
Гуськов. Да что будешь делать? Ведь я, Артемий Захарьич, один во всем уезде. Такое невежество, что и сказать нельзя! Не то чтобы не хотели читать, да все норовят этак как-нибудь на даровщинку… «Московские ведомости» еще кой-кто выписывает, а купить что ни на есть посерьезнее… журнал литературный какой-нибудь выписать — так нет!.. Правда, им иногда за это достается.
Рыльский. Как достается?
Гуськов. Да так же! Наш дворянский предводитель… человек просвещенный, батюшка!.. получил прошлого года письмо от одного столичного журналиста, который просил его как ревнителя отечественного просвещения раздать дворянам несколько билетов на его журнал. Наш предводитель рассердился: «Да долго ли, дескать, этому журналисту с кружкой-то ходить? И к губернатору пишет, и к предводителям, ну, словно нищий какой — отбою нет! И добро бы еще журнал-то был порядочный, а то врут какую-то чепуху, ругаются, как пьяные фабричные, и только хвалят себя да своих приятелей». Вот, батюшка Артемий Захарьич, он и отослал назад билеты. Что ж вы думаете?… Наш предводитель лет тридцать тому назад пописывал стишки — и то и другое печатал в журналах; они и принялись выкапывать эти старые грехи да ну-ка его, ну-ка — и так и этак! Уж они имя-то его волочили, волочили по грязи!.. Им что, их уж ничем не запачкаешь, а каково-то было нашему предводителю! То-то и есть, плетью обуха не перешибешь. Вот я ничего не выдавал в печать, так никто не смей обо мне и слова сказать, а уж если кто был в печати, хоть сто лет назад, так держи ухо востро! Всякий лоскутник может позорить его имя безданно, беспошлинно…
Рыльский. И, полноте!.. Да кто же станет смотреть на ругательство пьяного мужика или на лай какой-нибудь дворняжки?
Гуськов. Так, Артемий Захарьич, так-с! Да ведь на пьяного-то мужика есть полиция, на дворняжку палка, а на этих господ…
Рыльский. А вот, кажется, и хозяйка.
Входит женщина средних лет, то есть лет за тридцать. Немного полный, но чрезвычайно стройный стан ее пленителен; ее густые темно-русые локоны роскошно опускаются на дивные плечи ослепительной белизны. Щеки несколько впалые, но они горят ярким и живым румянцем. При малейшем движении ее пламенно-пунцовых губок открываются не зубы, а два ряда жемчужин, белых, ровных, ну, как будто нарочно подобранных одна к другой. Эта прекрасная женщина — Авдотья Ивановна Сицкая. Она одета вся в белом; воздушный шарф из gaze illusion обвивает прозрачным туманом ее белоснежную шею и небрежно падает волнами вдоль очаровательного стана.
Авдотья Ивановна (подавая руку Рылъскому). Здравствуйте, Артемий Захарьич! (Обращаясь к Гуськову.) Что я вижу!.. А, любезный сосед!..
Гуськов (подходя к руке). Я, Авдотья Ивановна, вчера только приехал в Москву, завернул нынче к почтенному Артемию Захарьичу, узнал от него, что вы сегодня вечером дома, и за долг почел…
Авдотья Ивановна. Покорнейше вас благодарю!.. Очень рада… Прошу покорно!.. (Все садятся.)
Рыльский. Мы, кажется, немного рано к вам забрались!
Авдотья Ивановна. Тем лучше: мы успеем побеседовать, поговорить…
Гуськов. У вас, сударыня, будет сегодня чтение?
Авдотья Ивановна. Да, у меня будут читать, и, кажется, вещи интересные. (С улыбкою.) Может быть, вы до этого не охотники, Федор Федорович?
Гуськов. Кто? Я-с?… Помилуйте! Да я умираю над книгами; это моя пища, Авдотья Ивановна, — истинно пища!
Авдотья Ивановна. Право?…
Рыльский. А кто будет у вас читать?
Авдотья Ивановна. Да, я думаю, всё люди, которых вы давно знаете. Вы человек просвещенный, Артемий Захарьич, и любите заниматься литературою. У меня будет читать «Обзор русской словесности» Варсонофий Николаевич Наянов. Вы его знаете?
Рыльский. Фамилия мне что-то знакомая… Постойте?… А… да!.. Ведь он журналист?
Авдотья Ивановна. Нет. Он был несколько времени журналистом, да как-то не пошло… Теперь он печатает свои сочинения в чужих журналах… Вы, верно, их читали?
Рыльский. Нет, не читал.
Авдотья Ивановна. Как, вы не читали сочинений Наянова — этого знаменитого полемика?…
Рыльский. Знаменитого?… Представьте себе, я до сегодняшнего утра и не подозревал даже, что у нас есть какой-то господин Наянов и что этот Наянов — знаменитый полемик!
Гуськов. Наянов!.. Позвольте, позвольте!.. Так точно!.. Ведь он, кажется, пишет критики в журналах?… У, какой ученый человек!.. Верите ль богу, иногда в тупик станешь… такие странные слова! Я, признаюсь, хотел было их позатвердить, да нет — памяти не хватает. Должно быть, человек с большими способностями.
Рыльский. А почему вы это думаете?
Гуськов. Помилуйте!.. Да как же?… И всех критикует, и пишет таким высоким слогом; все термины отборные!.. Нет, сударь, ученый муж, ученый!
Авдотья Ивановна (обращаясь к Рыльскому). Ну, если вы не знаете Наянова, так, вероятно, имеете понятие о Неофите Платоновиче Ералашном?
Рыльский. Извините, и о нем никогда не слыхал.
Авдотья Ивановна (с удивлением). Помилуйте!.. Не слыхали — вы, человек такой просвещенный… Да это один из наших гениев…
Рыльский. Неужели?
Авдотья Ивановна. Кто ж этого не знает?
Рыльский. Виноват, я не знал.
Авдотья Ивановна. Он будет читать у меня свою фантастическую повесть «Душа в хрустальном бокале».
Гуськов. Как-с?
Авдотья Ивановна. «Душа в хрустальном бокале».
Гуськов. Скажите пожалуйста, какие странности! Мне случалось видеть в петербургской Кунсткамере в стеклянных банках и хрустальных бокалах и голову красавицы, и разных уродцев, и даже сердце человеческое; но душа в бокале… Ну, это должно быть очень занимательно!
Авдотья Ивановна. У меня будет также читать свои русские афоризмы Иван Антонович Дутиков. Ну, знаете ли вы хоть этого, Артемий Захарьич?
Рыльский. Что, Авдотья Ивановна, мне стыдно на вас смотреть: и этого не знаю.
Авдотья Ивановна ми умножающимся удивлением). Ах, боже мой, да кого же вы знаете?… Ну, видно, вы давно перестали следить русскую словесность?…
Рыльский. Видно, что так! Да что такое этот господин Дутиков?
Авдотья Ивановна. Что такое? А вот спросите Варсонофия Николаевича Наянова, так он вам скажет, что такое Дутиков. Это самый глубокий моралист, это русский Лабрюер, русский Рошефуко и, без всякого сомнения, первый наш мыслитель.
Гуськов. Мыслитель?… А, знаю-с!.. Как же-с! Об этих господах часто упоминается в журналах. (Входит слуга.)
Авдотья Ивановна. Что ты?
Слуга. Вы изволили посылать меня к Ивану Антоновичу Дутикову…
Авдотья Ивановна. Да, да!.. Чтоб напомнить ему, что он сегодня у меня читает. Он такой рассеянный!.. Ну что?
Слуга. Нездоров-с.
Авдотья Ивановна. Так он не будет?
Слуга. Не будет-с.
Авдотья Ивановна. Ах, какая досада! Да что с ним сделалось?
Слуга. Говорит, что угорел, сударыня.
Авдотья Ивановна. Так это, может быть, через час пройдет?
Слуга (ухмыляясь). Нет-с, не пройдет.
Авдотья Ивановна. Почему ты это знаешь?
Слуга. Да я говорил с его кухаркою: сегодня только начал, так разве через неделю…
Авдотья Ивановна. Начал? Что начал?… (Слуга поглядывает на гостей и переминается.) Да отвечай же, когда тебя спрашивают?
Слуга (вполголоса). Запоем изволит пить.
(Рыльский смеется.)
Авдотья Ивановна. Фи, какая гадость!.. Пошел вон, дурак!
Рыльский (продолжая смеяться). И вы называете этого господина глубоким моралистом, Авдотья Ивановна!
Авдотья Ивановна. Ах, Артемий Захарьич!.. Ну, конечно, это очень жаль; да разве вы не знаете, что все великие таланты…
Рыльский. Пьют запоем?
Авдотья Ивановна. О, нет! Но, однако ж, всегда имеют большие слабости. Да вот, например, хоть сам великий, неподражаемый Бирон… Вы читали его биографию?
Рыльский. Читал.
Авдотья Ивановна. Так вспомните, какую он вел беспутную жизнь, как пил со своими друзьями вино из человеческого черепа, какие оргии бывали в его наследственном замке. А Кин, этот гениальный артист, которому не было и не будет равного…
Рыльский. Да, это правда, он был первым негодяем в Англии.
Авдотья Ивановна. Ну, вот видите!.. Что ж делать, когда человек так создан? Чем выше его гений, тем сильнее его страсти. Знаете ли что? Я даже думаю, что добродетельный человек не может быть гениальным писателем.
Рыльский. Ну, а человек хоть не добродетельный, а порядочный?
Авдотья Ивановна. И того менее. Что такое человек порядочный? Верно, по-вашему, это тот, у которого в голове пошлый рассудок, а в сердце вечный холод? Ну скажите, что может создать этот человек?
Рыльский. Да то же, что создавали весьма порядочные люди: Невтон, Мольер, Вальтер Скотт, Шекспир…
Авдотья Ивановна. О, не говорите мне о Шекспире; он был актером и, верно…
Рыльский. Так же пил и буянил, как знаменитый Кин?…
Авдотья Ивановна (почти с досадою). Да уж, конечно, не был вашим порядочным человеком. Нет, Артемий Захарьич, поверьте мне, все эти чинные и добропорядочные писатели были только таланты, но гений — о, гений стоит выше всего этого; для него нет законов!..
Гуськов. А что вы думаете, Авдотья Ивановна, ведь это правда. Вот у меня есть один мужичок — природный механик; смею вам доложить, гениальный человек! Так, сударыня, строит самоучкой ветряные мельницы, что и немцу не удается, а ведь прегорький пьяница и ужасный буян: каждое воскресенье напьется, пьян как стелька и всегда с подбитыми глазами.
Слуга (растворяя обе половинки дверей). Ольга Николаевна Букашкина.
Авдотья Ивановна (идя навстречу к Букашкиной, которая входит вместе с дочерью). А, chere amie! Как вы милы! On ne peut-etre plus exacte!.. (Дочери.) Здравствуйте, мой ангел! (Усаживается.)
Букашкина. Я, кажется, приехала немножко рано?
Авдотья Ивановна. О нет, Ольга Николаевна! Уж давно девятый час!
Букашкина. Неужели? Так Наденька правду мне говорила: «Ах, маменька, поедемте, пора!» Она так много обещает себе удовольствия от вашего чтения, так боялась опоздать…
Авдотья Ивановна. А кстати, chere Nadine! Когда же вы прочтете у меня ваши французские стихи?… Ну, вот и покраснела…
Букашкина. Нет, Авдотья Ивановна, как ей можно читать свои стихи на литературном вечере? Дело другое вам одним, — вы, верно, будете к ней снисходительны. Правда, мосье Жобар говорит, что стихи очень хороши, что нельзя даже и подозревать, что их писала русская, но читать публично, в кругу литераторов — о, это ужасно!
Слуга. Елена Дмитриевна Суховольская. (Суховольская входит с племянницей.)
Авдотья Ивановна (встречая ее). Здравствуйте, ma bonne amie!
Суховольская. Честь имею представить вам мою племянницу.
Авдотья Ивановна (подавая ей руку). Очень рада, что имею удовольствие с вами познакомиться.
Суховольская. Вы не можете себе представить, как ей хотелось быть у вас сегодня на чтении.
Авдотья Ивановна. Что ж, это весьма натурально. Mademoiselle ecrit elle-meme… Прошу покорно!.. (Суховольская садится на диван; в правой стороны у нее Букашкина, с левой хозяйка. Ближе всех к хозяйке сидит на креслах Рыльский, подле него Гуськов, напротив, также на креслах — дочь Букашкиной и племянница Суховольской.)
Букашкина (Суховолъской). Я вас целый век не видела… Кажется, в последний раз во французском театре?…
Суховольская. Кажется, так. Моя ложа была подле вашей. Вы абонированы?
Букашкина. И, ma chere, что за охота абонироваться? Можно иногда, от нечего делать, побывать в театре; но ездить каждый день… да это наказанье! Вот если б здесь была итальянская труппа, которую я надеюсь скоро услышать…
Суховольская. Так вы едете?…
Букашкина. На будущей неделе.
Суховольская. В Петербург?
Букашкина. О нет! Подите вы с вашим севером! Я еду на юг — в Одессу.
Суховольская. В Одессу? Как я вам завидую! Ведь это, кажется, на берегу моря?
Букашкина. Как же — Черное море.
Суховольская. Ах, море, море!.. Я воображаю, как грустно шумят его волны; как тонет в его водах заходящее солнце; как играют в нем дельфины!.. Ах, прелесть!.. Я думаю, и город очень хорош?
Букашкина. Разумеется!.. Совершенно не русский город. Мне говорили, что он даже более походит на Европу, чем Варшава. Как весело там живут! Какая итальянская опера! А климат, климат!.. Вообразите себе: воздушные персики, виноград; ну просто — Италия!
Рыльский (улыбаясь). Не совсем: немножко похолоднее.
Букашкина. Помилуйте! Да там вовсе нет зимы.
Гуськов. Скажите пожалуйста!
Авдотья Ивановна. Что вы это, ma chere, говорите! Как нет зимы? Ведь, au bout du compte, это все еще Россия. Вот если б вы были на берегах Рейна или в Париже…
Букашкина. Да, может быть, и буду, Авдотья Ивановна. Ведь Франция не бог знает где! (Тихо Суховолъской.) Как она скучна со своим Парижем! (Громко.) Ах, какой у вас прекрасный брош! Что это, антик или кокиль?
Суховольская. Антик.
Букашкина. Я слышала, что в Одессе антики нипочем, — прямо из Италии.
Авдотья Ивановна (тихо Рыльскому). Да она, кажется, в самом деле думает, что Одесса — чужие края, бедняжка! (Громко.) У вас, Артемий Захарьич, всегда такие верные часы, — который час?
Рыльский (посмотрев на часы). Скоро девять. (Начинают подавать чай. Входят несколько молодых людей.)
Авдотья Ивановна. А вот мои литераторы!.. Здравствуйте, мосье Окуньков!.. Здоровы ли вы, мосье Голушенко?… А, мосье Белоносов! Я на вас и не рассчитывала! Мне сказали, что вы так заняты вашей драмой, заперлись кругом, никого к себе не пускаете… Прошу покорно садиться!.. (Молодые люди, поклонясъ молча хозяйке, рассаживаются по креслам. В комнате начинает пахнуть курительным табаком.)
Авдотья Ивановна (вполголоса Рыльскому). Вы знаете этих молодых людей?
Рыльский. Нет, не знаю.
Авдотья Ивановна. Трудно отгадать, что из них будет, но что они недюжинные молодые люди, в этом могу вас уверить! Какой взгляд на все предметы, какая ученость!..
Рыльский. Право? Что же, они получили свое образование в здешнем университете?…
Авдотья Ивановна. Да, они так же, как и другие, начали университетом.
Рыльский. И, вероятно, выпущены действительными студентами, кандидатами?…
Авдотья Ивановна. Ах, Артемий Захарьич, какой вы русский человек! Вы помешаны на чинах.
Рыльский. Да это не чины, а ученые степени.
Авдотья Ивановна. Ах, боже мой!.. Я уж вам сказала, что это недюжинные люди. На что им ваши ученые степени? Помилуйте, да разве Шекспир, Бирон, Виктор Гюго, Жорж Занд были когда-нибудь кандидатами?
(Входит Андрей Степанович Лычкин.)
Лычкин (кланяясь хозяйке). Madame!
Авдотья Ивановна (привставая). Здравствуйте, Андрей Степанович! Я ждала вас ранее.
Лычкин. Виноват, Авдотья Ивановна! Впрочем, я наказан за мою вину, и очень жестоко: я был в русском театре… Dieu, quelle misere!..
Авдотья Ивановна. Охота же вам ездить.
Лычкин. Меня затащили насильно.
Авдотья Ивановна. Хотите чаю?
Лычкин. Сделайте милость!
(Человек подходит с подносом. Лычкин берет чашку и садится.)
Букашкина (тихо Суховольской). Это один из московских львов.
Суховольская. В самом деле?… Какая у него странная бородка!
Букашкина. Здесь, ma chere, это редкость, но в Одессе все так ходят.
Авдотья Ивановна. Мосье Лычкин, не виделись ли вы с Неофитом Платоновичем Ералашным?
Лычкин. Я сейчас обогнал его. Он едет к вам вместе с Наяновым. Да вот они!
(Входят Ералашный и Наянов.)
Авдотья Ивановна (идя к ним навстречу). Неофит Платонович!.. Варсонофий Николаевич!.. Мы все ждали вас с таким нетерпением!.. Надеюсь, вы привезли с собою…
Наянов. Разумеется!
Авдотья Ивановна. А вы?
Ералашный. Вы знаете, Авдотья Ивановна, я не очень охотно читаю, а особливо в большом обществе. Но я не смел вам отказать… (Окидывает беглым взглядом всю комнату. Бледное и длинное лицо его становится еще длиннее, и вежливая улыбка превращается в какую-то весьма неприятную гримасу.) И у вас больше никого не будет?
Авдотья Ивановна. Никого! Как видите, человек пятнадцать, не больше.
Ералашный (сквозь зубы). Только!..
Наянов. Я слышал, что наш Дутиков болен?
Авдотья Ивановна. Да. Представьте себе, какая досада!
Наянов (с важностию). Мы много потеряем. Его афоризмы носят на себе отпечаток гениальности. Какая глубина, какой взгляд, какая энергия, какое беспрерывное проявление обособленных идей, как развертывает он эту высокую идею Гегеля, что бытие и небытие одно и то же! О, конечно, появление его афоризмов сделает эпоху в нашей словесности!
Авдотья Ивановна. Ну вот, скажите пожалуйста!.. Ах, как я на него сердита!
Наянов. Помилуйте, за что?… Разве от нас зависит…
Авдотья Ивановна. Конечно, конечно!.. Но если б он захотел!.. Да что об этом говорить!.. Messieurs et mesdames, милости прошу ко мне в кабинет. (Все встают.)
Наянов (Сицкой). Неофит Платонович начнет своею повестию, а потом уж я прочту мой взгляд на русскую словесность. Мы с ним так согласились.
Авдотья Ивановна. Как вам угодно. (Хозяйка, а за нею все выходят из гостиной.)
Кабинет Авдотьи Ивановны Сицкой. За круглым столом сидит Неофит Платонович Ералашный. Перед ним стоит графин с водою, сахарница с мелким сахаром и стакан. По правую его сторону Наянов, по левую Букашкина, Суховольская, обе барышни-сочинительницы, хозяйка, Рыльский и Гуськов. Остальные слушатели несколько поодаль, а всех далее от стола, в темном углу, сидит, развалившись на спокойных креслах, Андрей Степанович Лычкин; он спит.
Ералашный (дочитывая свою повесть). «Ступай! — прогремел невидимый голос. — Ступай, гостья неземная; давно желанный час твоей свободы наступил! Ты путем страданий достигла до самопознания; для тебя нет вещественных преград!.. И вдруг с громовым треском блестящей пылью рассыпался хрустальный бокал, и обновленная душа на радужных своих крылах взвилась огненной струею к небесам. Как призраки, замелькали вокруг ее бесчисленные миры; казалось, они тонули в какой-то бездонной мрачной бездне, а душа парила все выше и выше! Она стремилась туда, где нет ни времени, ни пространства, — туда, где конечное, сливаясь с бесконечным, исчезает и в то же время живет новой, непостижимой для нас жизнию!» (Манускрипт выпадает у него из рук, и он, по-видимому в совершенном изнеможении, опускается на кресла.)
Авдотья Ивановна. Вы кончили? (Ералашный отвечает наклонением головы.)
Суховольская. Ах, какая прелесть!
Авдотья Ивановна. Как мы вам благодарны!
Наянов. Вот она — истинная-то поэзия!
Гуськов. Поэзия? Так это в стихах?… Скажите пожалуйста, — не заметил!
Букашкина. Вы наш Гофман, Неофит Платонович!
Наянов. Нет, извините, я с вами не согласен! Наш знаменитый друг вовсе не походит на Гофмана: у него можно скорей найти сходство с Жан-Поль Рихтером, но и тот несравненно его ниже.
Суховольская. Как эта душа меня интересовала!
Гуськов. Да-с, понатерпелась, горемычная! (Общий невнятный шепот восторга между неговорящих лиц.)
Лычкин (проснувшись). Браво, мосье Ералашный, браво!.. (Подают мороженое.)
Авдотья Ивановна (Рыльскому вполголоса). Что вы скажете об этой повести?
Рыльский (также вполголоса). Я не очень люблю этот род.
Авдотья Ивановна. И, Артемий Захарьич!.. Все роды хороши, исключая скучного.
Рыльский. Да мне было скучно.
Авдотья Ивановна. Тс!.. Тише!.. Что вы!.. (Громко.) Еще раз покорнейше благодарим вас, Неофит Платонович! Мы слушали вас с истинным наслаждением.
Ералашный. Быть может, я напишу что-нибудь в этом роде посерьезнее, а это так — небольшая попытка, и мне должно благодарить вас, что вы слушали с таким вниманием эту безделку.
Букашкина (Суховолъской). Как он скромен!
Суховольская. Это всегда признак истинного таланта.
Наянов. Вы называете это безделкою, Неофит Платонович! Дай-то бог, чтобы у нас было побольше таких безделок! Ведь это уж не «Мои безделки» Карамзина, которыми так простодушно восхищались наши бабушки.
Гуськов (тихо Рыльскому). Ого, как он поговаривает о Карамзине! Слышите, Артемий Захарьич?
Рыльский. Слышу.
Гуськов. Ну вот видите ли? Я вам говорил, что он человек ученый.
Наянов. На бесплодном поле нашей словесности много крапивы и репейнику. Давайте нам почаще цветов, Неофит Платонович!
Ералашный. Мы все должны вас просить об этом, Варсонофий Николаевич!
Наянов. Что я!.. Моя миссия тяжка и неблагодарна; я должен говорить горькие истины, преследовать бездарность и, несмотря на детские возгласы невежественной толпы, идти по тому тернистому пути, на котором растут розы для вас одних, Неофит Платонович!
Ералашный. Нет, Варсонофий Николаевич, не говорите! Высоко и ваше назначение: вы очищаете нашу словесность от плевел.
Наянов. А вы даете ей жизнь и самобытность.
Рыльский (про себя). Ну, пошли кадить друг другу!
Ералашный. Вы сокрушаете кумиры, которым до сих пор поклоняется толпа.
Наянов. Стараюсь, по крайней мере, но вы не можете себе представить, как упряма эта грубая, невежественная толпа: если книга ей нравится, так вы ее никак не убедите, что эта книга дурна.
Ералашный. Что вам на это смотреть?
Наянов. Да я и не смотрю.
Авдотья Ивановна. Варсонофий Николаевич, теперь очередь за вами!
Наянов (обращаясь с вежливым поклоном ко всем слушателям). Я чувствую всю невыгоду моего положения; после такого увлекательного чтения всякая ученая статья должна вам показаться и скучной и сухою. К тому ж и самый предмет ее не заключает в себе почти ничего интересного. Я намерен говорить с вами о русской словесности, то есть рассказывать историю дитяти, который еще в пеленках. Мы до сих пор называли его детский, нескладный крик поэзиею, а бессмысленный лепет прозою. Мы и теперь еще толкуем о какой-то народной литературе, как будто бы у нас есть какая-нибудь литература! Прошу сказать, что у нас написано с тех пор, как мы выучились кой-как писать? Чем можем мы похвастаться перед Западом? Чье имя назовем мы с гордостию?…
Рыльский (улыбаясь). Это, вероятно, риторическая фигура, а не вопрос?
Наянов. Извините! Простой, обыкновенный вопрос, на который отвечать очень легко: у нас не было литературы и нет ее! Несколько современных нам великих писателей, опередивших свой век, не составляют еще народной словесности: она должна быть богата прошедшим. Конечно, есть люди, которые воображают, что им удалось собрать русскую библиотеку, что у них стоят на полках русские знаменитые писатели… Эта детская мечта забавляла и теперь еще забавляет многих.
Гуськов. Мечта-с?… Нет, уж это слишком, воля ваша!.. Так поэтому и моя русская библиотека мечта?
Наянов. Разумеется.
Гуськов. Нет, уж извините!.. Я за нее деньги платил!
Наянов. Очень жаль! Вы могли бы употребить их лучше.
Авдотья Ивановна. Не угодно ли вам начать, Варсонофий Николаевич?
(Наянов вынимает из кармана довольно толстую тетрадку, кладет ее на стол, выпивает стакан сахарной воды и начинает читать.)
Я не стану пересказывать моим читателям то, что читал господин Наянов. Все эти чтения на литературных вечерах имеют большое преимущество перед всякою книгою. Вежливость, приличие, желание выказать при людях любовь свою к словесности — все заставляет вас быть если не снисходительным, то, по крайней мере, терпеливым, а притом хорошее угощение и ожидание вкусного ужина могут еще кой-как поддержать внимание слушателей, готовых заснуть. Все эти побочные средства не существуют для книги; если она вас не забавляет, вы перестаете ее читать, а я желаю, чтобы вы дочли этот рассказ до конца. Все, что говорил господин Наянов, сбираясь читать, может назваться сущностию и результатом прочтенного им взгляда на русскую словесность. Он доказывал в нем, что у нас нет никакой литературы, что все наши великие писатели, начиная с Ломоносова, не написали ничего путного и что все современные литераторы, разумеется за исключением писателей одного с ним прихода, люди бездарные, безграмотные, с детскими взглядами, с пошлыми идеями и с квасным патриотизмом. Теперь прошу вас вообразить, что прошло часа полтора, как господин Наянов продолжает читать, что Лычкин спит по-прежнему, что у всех дам слипаются глаза, что многие из мужчин зевают и что все без исключения сидят как приговоренные к смерти.
Наянов (дочитывая последнюю страничку). «И вот я провел вас по этой песчаной, бесплодной степи, которую мы называем нашей словесностию. Вы видели, что вместо пышных роз, о которых вам натолковали ваши нянюшки, растет на этой степи один колючий шиповник, без всякого аромата и красоты. При конце нашего путешествия я указал вам на несколько красивых цветков и две или три роскошные пальмы, которыми оканчивается эта обширная пустыня. Но разве эти счастливые исключения дают нам право думать, что у нас есть словесность? О, конечно, нет! И у персиян есть свой Фердуси, свой Сади, а, несмотря на это, не только все народы Европы, но даже мы, в детской нашей гордости, называем персиян народом варварским и непросвещенным. Что ж должны мы заключить изо всего этого? Грустно, а надобно высказать горькую истину: мы все гении-самоучки и таланты-скороспелки; мы толкуем об учености и знаем только одни имена наук; мы ничему не учились, а говорим о просвещении; мы холодны ко всему прекрасному и восхищаемся пошлостями, и, что всего забавнее, мы плохо знаем грамоте и рассуждаем о литературе; едва, едва читаем по складам, а хотим называться писателями». (Наянов перестает читать. Минутное молчание.)
Гуськов (тихо Рыльскому). Что, сударь, каково?
Рыльский. Хорошо!
Ералашный. Превосходно!.. Какие новые взгляды, какая энергия!..
Суховольская. Ах, какие вы строгие, Варсонофий Николаевич!
Наянов. Я только что справедлив, сударыня.
Букашкина. Я совершенно с вами согласна. Какая у нас литература? Да и на что она? Разве нет французских писателей?
Авдотья Ивановна. Как прекрасно вы оканчиваете этот взгляд на русскую словесность! Не правда ли, Артемий Захарьич?
Рыльский. О, конечно!.. Впрочем, я не знаю, что сказал бы господин Наянов, если б кто-нибудь сделал небольшую поправку в этом окончании.
Наянов (вслушавшись в слова Рылъского). Что вы изволите говорить? Сделать поправку?… Какую поправку?
Рыльский. Самую ничтожную — заменить множественное число единственным.
Наянов. Я вас не понимаю.
Рыльский. А, кажется, это ясно. Употребляя местоимение «мы», вы, разумеется, говорите и о самом себе. Но «мы» слово неопределенное; гораздо лучше, если б вы говорили просто «я», то есть: «Я толкую об учености и знаю только одни имена наук; я ничему не учился, а говорю о просвещении…»
Наянов (вспыльчиво). Милостивый государь!..
Рыльский (продолжая весьма хладнокровно). «И что всего забавнее: я плохо знаю грамоте и рассуждаю о литературе; едва читаю по складам, а хочу называться писателем».
Наянов. Да кто вам дал право, сударь?…
Рыльский. Ну вот, я знал, что это вам не понравится.
Ералашный. Позвольте вам сказать: это личность!
Рыльский. Личность?… Какая личность?… Я повторяю только собственные слова господина Наянова: ведь он говорит «мы»; если б он не полагал себя в общем числе безграмотных, то, верно бы, вместо этого слова употребил местоимение второго лица во множественном числе, то есть «вы». Нет, сударь, извините, — я грамматику-то знаю!
Ералашный. Да это, сударь, принятая, условная форма.
Рыльский. А, вот что!.. Понимаю! Под словом «мы» господин Наянов разумеет всех, выключая самого себя?… Ну, так бы и говорили! Вы, дескать, все люди безграмотные, ничему не учились, ничего не знаете, а я, дескать, всему учился, все знаю и один имею право производить рядового писателя в гении и разжаловать гения в рядовые писатели.
Наянов. Вы, милостивый государь, так странно толкуете мои слова…
Рыльский. Да, мне кажется, их иначе а растолковать не можно…
Наянов (Ералашному). Ну вот, Неофит Платонович, не говорил ли я вам, что моя миссия тяжка и неблагодарна?…
Рыльский. А, кстати! Позвольте мне еще один вопрос: вот уж второй раз вы изволите повторять, что у вас есть какая-то миссия. Мы знаем теперь, что эта миссия состоит в том, чтоб доказать нам, что мы люди безграмотные и что у нас нет никакой словесности, но, извините моему любопытству, я желал бы знать, кто возложил на вас эту миссию?…
Наянов. Мое собственное твердое убеждение…
Рыльский. Что вы к этому призваны — очень хорошо, но, вероятно, Ломоносов, Державин, Карамзин и все те, которых вы называете бездарными, думали то же самое.
Наянов. И очень ошибались.
Рыльский. А вы не ошибаетесь?
Наянов. Не знаю, ошибаюсь ли я, но только, во всяком случае, могу вас уверить, что никогда не кривлю моей душою и ни за что в мире не назову дурного хорошим, а хорошего дурным.
Рыльский. Полно, так ли?… Вот, например: за что вы так жестоко нападаете на Луцкого, говорите с таким презрением о его прекрасном таланте?
Наянов. Помилуйте, и вы это называете талантом! Ничтожный подбиратель рифм, пошлый и водяный до невероятности!.. Да он не годится даже в альбомные стихотворцы; его настоящее назначение писать конфектные билетцы.
Рыльский. Однако ж его читают.
Наянов. Да, может быть, и у него есть читатели — в фризовых шинелях.
Рыльский. Извините, я ношу суконную, а читаю его с наслаждением, и, право, знаю много людей, которые разделяют это мнение.
Наянов. Что ж? И это быть может: у кого нет приятелей!
Рыльский. Ну, воля ваша, а вы к нему несправедливы. Сегодня еще он читал мне новые свои стихи — прелесть!
Наянов (с некоторым беспокойством). Сегодня?… Да разве он здесь?
Рыльский. Проездом из Тифлиса. Он препоручил мне напечатать здесь, в Москве, собрание своих стихотворений, отдал мне свой портфель, и я, перебирая в нем бумаги, нашел одно распечатанное письмо на его имя, которое совершенно противоречит вашим словам, господин Наянов. Я взял это письмо с собою, чтоб отдать его Луцкому, да как-то не успел сегодня с ним повидаться.
Наянов (смотрит на свои часы). Скажите, как поздно! Двенадцатый час!
Рыльский. Это письмо со мною. Позвольте мне его прочесть, Авдотья Ивановна. Оно очень коротко и, уверяю вас, чрезвычайно любопытно.
Авдотья Ивановна. В самом деле?… Прочтите, Артемий Захарьич, прочтите!
(Рыльский вынимает из бокового кармана письмо.)
Наянов (тихо Ералашному). Я не хочу здесь ни минуты оставаться. Поедемте!
Ералашный. Извольте!
Рыльский (читая письмо). «Милостивый государь Андрей Михайлович» — это имя Луцкого…
Наянов (вставая в одно время с Ералашным). Извините, мне и Неофиту Платоновичу нужно ехать.
Авдотья Ивановна. Помилуйте, куда так поздно?… Мы будем сейчас ужинать.
Наянов (раскланиваясь). Право, нельзя!.. Мы дали слово!.. (Уходит вместе с Ералашным.)
Авдотья Ивановна (вставая). Позвольте вас поблагодарить… Ушли!.. Что это сделалось с Наяновым?… Уж не рассердили ли вы его, Артемий Захарьич? Отчего он вдруг так заторопился?…
Рыльский. А вот вы сейчас увидите отчего… Не угодно ли вам выслушать это письмо?… (Читает.) «Милостивый государь Андрей Михайлович! Совершенное отсутствие всякого достоинства, детские взгляды и невыносимая пошлость всех наших периодических изданий побудили меня принять на себя редакцию журнала, хотя несколько похожего на журналы европейские. Мой «Вестник Запада» будет выходить книжками по декадам, то есть через каждые десять дней. В обширном его объеме будут заключаться: словесность, науки, искусство, художество, политика, статистика, история, археология, критика, юмористика, одним словом — всё. Для приведения и исполнение этого истинно европейского предприятия мне необходимы пособие и соучастие наших первых отечественных писателей. Вот почему, милостивый государь, я обращаюсь к вам со всепокорнейшею моею просьбою: не откажитесь украсить вашим знаменитым именем первую книжку моего журнала. Я многого не смею от вас требовать: самые мелкие произведения вашего очаровательного пера носят на себе отпечаток гениальности; я буду доволен всем. Во всяком случае, не откажите мне хотя в одном: позвольте в объявлении о моем журнале поставить имя Луцкого первым в списке всех моих сотрудников. С чувством глубочайшего уважения к самобытному и прекрасному таланту вашему честь имею навсегда остаться вашим покорнейшим слугою. Варсонофий Наянов». (Общее удивление.)
Авдотья Ивановна. Как, это письмо писано Наяновым к Луцкому?
Рыльский. Ну да! Вы знаете руку Наянова, посмотрите сами.
Авдотья Ивановна. Да, точно, это его рука!.. Так за что ж он теперь…
Рыльский. За то, что Луцкий отказался от предложенной чести и не прислал ему стихов.
Суховольская. Ну, это не очень благородно!
Голос из толпы мыслителей. Это даже подло!
Букашкина. Comme c'est ignoble!
Гуськов. Прошу покорно!.. Ну, хват!
Рыльский. Вот вам этот добросовестный критик, который ни за что в мире не назовет дурное хорошим, а хорошее дурным; который, не имея никаких прав на уважение и доверие своих читателей, ругает все…
Авдотья Ивановна. Да, конечно, и я скажу: он слишком желчен. Приговоры его так резки!.. А впрочем, что ж такое?… Ну, если в самом деле это его миссия?…
Рыльский. И, полноте, Авдотья Ивановна! Да этак, пожалуй, каждый задорный бурлак вообразит, что у него есть миссия обижать всякого, кто не поднес ему вина.
Гуськов. Все так, Артемий Захарьич, а воля ваша — бойкое перо, сударь, бойкое!
Рыльский. Послушайте, Федор Федорович, если б это говорили одни вы, так я бы только засмеялся, но, к несчастию, много есть людей, которые повторяют вместе с вами: «Ну, как он отделал! Бойкое, сударь, перо, бойкое!» А эти журнальные кулачные бойцы того только и добиваются. Право, грустно, когда подумаешь! Посмотрите, например, как соседи наши, немцы, любят и уважают своих родных писателей. А мы… Да что и говорить об этом! Каждый литературный торгаш, желающий забросать своей природной грязью творение истинного таланта, менее или более, а непременно найдет отголосок в наших обществах; как же ему не подумать, что он подлинно великий критик и непогрешающий судия нашей словесности, когда вместо общего презрения он часто встречает одобрительную улыбку и слышит похвалы вроде той, которою вы сейчас почтили господина Наянова!
Гуськов. Однако ж, Артемий Захарьич, если какой-нибудь, по словам вашим, литературный торгаш на всех нападает, а никто не защищается и все молчат, так, извините, — и я подумаю, что этот торгаш прав и что все люди просвещенные уважают его мнение.
Рыльский. В самом деле?… А если, например, в публичный сад, заведенный для хорошего общества, ворвется какой-нибудь трубочист и все опрятно одетые люди будут сторониться, давать ему дорогу и никто не решится вытолкать его вон из саду, так вы скажете, что эти люди его уважают?…
Гуськов. Ну, если не уважают, так боятся.
Рыльский. Не его, Федор Федорович, а сажи, которою он запачкан.
Гуськов. Ого, как вы поговариваете! Да позвольте спросить, Артемий Захарьич, на кого вы это намекаете и каких людей изволите называть литературными торгашами?
Рыльский. Да тех, которые торгуют и совестью, и своим пером.
Гуськов. Ну, то-то же, смотрите!.. Вы сами когда-то сочиняли и печатали. Помните, что я вам рассказывал о нашем предводителе?… Как узнают про ваши речи да примут на свой счет…
Рыльский. А кто может принять на свой счет то, что я говорю?… Я ни на кого не указываю, не называю никого по имени.
Гуськов. Ох, батюшка Артемий Захарьич! Не поможет вам это, — право, беду наживете! Или вы по знаете русской поговорки: «Зачем звать вора по имени, закричи: «Мошенник» — разом откликнется».
Слуга (растворяя обе половинки дверей). Кушанье готово.
Авдотья Ивановна. Милости прошу! (Все встают.)
Лычкин (просыпаясь от шума). Браво, мосье Наянов, браво! C'est charmant! (Все смеются и уходят.)
V Ванька
На лихом извозчике недалеко уедешь,
а на ваньке хоть в Питер ступай.
Народная поговоркаПочему все дешевые извозчики, которые появляются в Москве зимой, а исчезают летом, называются ваньками? Неужели потому, что первый крестьянин, который задумал покинуть зимой свою деревню и приехать в Москву извозничать, назывался Иваном?… Или не потому ли, что крестьяне вообще любят это имя и что почти всегда из трех мужиков, взятых наудачу, один называется Иваном? Впрочем, как бы то ни было, а мы привыкли уже называть ванькою каждого крестьянина, который зимой приезжает из деревни извозничать в Москве. Не так еще давно водились у нас и летние ваньки, их экипажи были довольно уютные тележки и волочки, то есть небольшие роспуски, весьма похожие на роспуски ломовых извозчиков, только несравненно менее. Теперь они исчезли совершенно, и рессорные дрожки, начиная от смиренного калибера до роскошных пролеток, остались единственным экипажем всех летних московских извозчиков, из которых самый оборванный и запачканный не откликнется вам, если вы назовете его ванькою; точно так же, как и всякий градской сторож, хотя несколько уважающий самого себя, не станет отвечать, когда вы осмелитесь назвать его не часовым, а будочником. Всех московских извозчиков можно разделить на два разряда: на ванек, приезжающих из деревень зимою, и постоянных извозчиков, которые занимаются этим промыслом круглый год. Ваньки почти все походят друг на друга: у каждого лубочные пошевеньки, плохая упряжь и безобразная, но не знающая устали крестьянская лошаденка. О постоянных извозчиках нельзя этого сказать; они вовсе не одинакового достоинства. У одних дрожки отличаются от прежних волочков только тем, что к ним приделаны крылья и четыре куска железа, довольно похожие на низенькие рессоры; у других летний экипаж действительно походит на дрожки, не слишком красивые, это правда, но, по крайней мере, сидя на них, вы чувствуете, что едете не в телеге. Извозчики-аристократы, известные под названием лихих, составляют совершенно отдельную касту. Их гордость и презрение ко всем другим извозчикам не имеют никаких границ. По их мнению, тот, кто не может выехать на рысаке, иноходце или, по крайней мере, на красивой заводской лошади, — не извозчик, а ванька, хотя бы выезжал летом на рессорных дрожках, а зимой в городских санках, обитых бронзой и выкрашенных под орех. Впрочем, так и быть должно: ваньки, проживающие по зимам в Москве, не слишком уважают своих земляков, которые никогда не видали Белокаменной; с ваньками не любят знаться городские их товарищи, которых, в свою очередь, презирают лихие извозчики, а с лихим извозчиком и говорить не захочет какой-нибудь кучер-наездник, который славится на бегу, правит знаменитым рысаком и не боится соперничать с Бычком, Похвальным, Барсом и Могучим {Первые рысаки на московском бегу. (Сноска автора.)}. На свете всё круговая порука.
Однажды, — это было зимой, — я собрался ехать с визитом к одному приезжему, который остановился на постоялом дворе у самой Преображенской заставы. Дорого бы я дал, чтоб избавиться от этого путешествия! Да, путешествия: от Пресненских прудов до Преображенской заставы мерных восемь верст. Но делать было нечего: этот господин, которому я должен был визитом, приехал из провинции, а я уж изведал на опыте, как строго наблюдается в губернских городах этот обычай и как позорят и казнят тех, которые не платят счетом визит за визит. Вот я распрощался со всеми домашними, надел теплые сапоги, шапку, закутался в енотовую шубу и, перекрестясь, отправился в дорогу. Только что я стал выезжать на Кудринскую площадь, наскакал на меня тройкой в санях какой-то удалой барин в длинных усах и отчаянной эриванке, сбил с ног мою пристяжную, исковеркал сани и помчался как ни в чем не бывало вдоль по Садовой; к счастию, я и кучер мой остались целы. Надобно признаться, что я, по своему характеру, или темпераменту, или, лучше сказать, по моей русской натуре, человек довольно ленивый и чрезвычайно тяжелый на подъем, но если подымусь, так ничто на свете меня не удержит. Вот я приказал кучеру воротиться домой, а сам решился нанять извозчика и ехать к Преображенской заставе. Нельзя не подивиться сметливости и догадке наших извозчиков: я не сказал ни слова, не сделал ни одного движения, по которому можно было бы отгадать во мне седока, а уж на ближайшей бирже все пришло в движение, и не прошло нескольких секунд, как со всех сторон обсыпали меня извозчики и принялись кричать:
— Куда прикажете, батюшка?…
— Садитесь, барин, садитесь!..
— Пожалуйте, пожалуйте!..
— Тише, ребята, тише! — сказал я. — Дайте выговорить: к Преображенской заставе и назад.
— Садитесь без ряда, сударь! Прокачу! — закричал ловкий детина в синем кафтане и шелковом кушаке. — Графский рысак, батюшка!.. Утешу…
— Эх, барин, — прервал рыжебородый извозчик в щегольской шапке с бобровым околышем, — садитесь ко мне — лихой иноходец!.. Плетеные саночки. В пять минут доставлю!
— Что больно скоро! — подхватил рослый извозчик в обыкновенной кучерской шапке. — Вишь, лихач какой!.. В пять минут!.. Задохнешься!.. Пожалуйте, батюшка, лучше ко мне: городовые сани с полостью.
— Сюда, барин, сюда; вот санки!.. Садитесь!..
Тут снова поднялся такой шум, что я вышел из терпения.
— Да полноте, пострелы! — закричал я. — Дайте порядиться!.. К Преображенской заставе и назад сюда, к Пресненским прудам. Ну, что?…
— Извольте, сударь, — сказал извозчик в шелковом кушаке. — Что торговаться: красненькую!
— Везу за два целковых! — закричал извозчик с рыжей бородою.
— Синенькую!.. Три полтинничка!.. Целковый! — загремели вокруг меня голоса.
В эту минуту проезжал мимо в новеньких пошевеньках, запряженных небольшой, но плотной лошадью, ванька в сером зипуне и красной поношенной шапке. Я махнул ему рукой.
— Что вы, батюшка? — сказал извозчик в шелковом кушаке. — Да вам стыдно будет сесть на этого ваньку. Помилуйте — дерюга этакая!
— Доеду и на нем, братец.
— Так вы бы, сударь, к бирже-то и не подходили! — промолвил рыжебородый извозчик, надевая свою бобровую шапку. — Смотри, Андрюха, — продолжал он, обращаясь к извозчику в шелковом кушаке, — экий конь — добра лошадь!.. А сбруя-то, сбруя!
— Да, брат, упряжь мочальная, конь богатырский!..
— По Сеньке шапка, по седоку извозчик.
Все эти насмешки на меня не подействовали: я сторговался с ванькой за полтинник.
— Смотрите, барин, чтоб вам не пришлось покормить! — закричал рыжебородый. — Не довезет до Преображенского.
— Ах ты, щеголек этакий! — возразил ванька, прибирая вожжи. — Садись и ты, так я и тебя свезу. Видали мы вашу братью, лихачей: версту вскачь, а там и плачь!.. Ну, ты!
И мой ванька, вероятно желая доказать на самом деле, что его лошадка не без удали, пустился вскачь по Арбату.
— Держи, держи! — раздался за нами крик, прерываемый громким хохотом. — Батюшки, бьет!.. Держи, держи!
— Ох вы, скалозубы этакие, каторжные! — бормотал ванька, сдерживая свою лошадку. — Вам бы только пьяниц да буянов возить!.. Сами житьмя живут по трактирам да со всякой дрянью знаются… У самого шапка с бобровым околышем, а жене перекусить нечего!..
— Что это, брат, ты так их позоришь? — спросил я.
— Да как же, батюшка! Вот этот с рыжей-то бородою, — ведь я его знаю, он из нашего села, четыре года извозничает, а домой гроша не прислал: все на чаю пропивает. Ребятишки в людях живут; жена милостинку просит, а он в синих кафтанах ходит, катает на своем иноходце купеческих сынков да вместе с ними погуливает… Чай, и бога-то забыл!.. И то сказать: с кем поведешься, таким и будешь.
Я очень люблю разговаривать с русскими мужичками, а особенно с теми, которые приезжают из дальних деревень. Постоянно живущие в Москве крестьяне и даже крестьяне из самых близких подмосковных теряют почти всегда свой природный характер, эту смесь простодушия и лукавства, невежества и ума, суеверия и набожности: они превращаются в каких-то полумещан и, по большей части утрачивая все хорошие свои качества, остаются при одних дурных. Судя по некоторым словам моего ваньки, я тотчас догадался, что постоянное его жилище не близко от Москвы.
— Откуда ты родом, любезный? — спросил я.
— Владимирский, батюшка.
— Господский или экономический?
— Господский. Может статься, слыхали об Алексее Андреевиче Черноярском? Мы его. Село Завалихиио Шуйского уезда.
— Так это не близко от Москвы?
— Да верст около трехсот будет.
— Что, у тебя есть хозяйка?
— Как же, сударь! Без хозяйки и дом не стоит.
— Баба еще молодая?…
— В поре, батюшка. Баба такая знатная, повадливая, работящая; Феклой зовут.
— И детки есть?
— Были, батюшка, да бог взял. Одна дочка осталась.
— Ну, что, барин у вас каков?
— Грешно пожаловаться: человек добрый, ничем нас не обижает. Покойный его батюшка, старый наш барин, так тот был, — не тем помянут, — крутенек! Вот теперь коли два мужика повздорят да придут к барину на суд, так он выслушает и рассудит: ты, дескать, прав, а ты, дескать, виноват; а бывало, к старому барину и не ходи: из своих рук замает!
— Как: и правого и виноватого?
— Обоих, батюшка. Ты, дескать, не художествуй, а ты не жалобись.
— Так поэтому при нем мужички-то нечасто ссорились?
— Все так же, батюшка, и судиться так же ходили. Ведь наш брат мужик упрям! Я и сам к нему на суд ходил с моим шабром, Федькой рыжим; думаю, что за беда, что барин поколотит? Да пусть себе потешится! Лишь только бы Федьку-то буяна порядком отвалял.
— Э, брат, да какой же ты злой!
— Что ж делать, сударь, — и в курице есть сердце. Да этот же рыжий такой озорник, что и сказать нельзя! Вот уж подлинно, кабы на эту крапиву да не мороз, так из деревни вон беги. Теперь он вовсе от нас отшатнулся: извозничает здесь, в Москве.
— Здесь? Не он ли это в Кудрине лихой извозчик на иноходце?
— Он самый, батюшка!.. Ну, ты, сердечная!..
— А что, — сказал я, помолчав несколько времени, — ты каждую зиму сюда приезжаешь?
— Да, сударь! Вот уж четвертый год, как я в Москве извозничаю.
— Так поэтому тебе выгодно?
— А как же, батюшка! Да что бы я добыл зимою-то, лежа на печи? Ведь под лежачий камень и вода не течет. Конечно, год на год не приходит, а все-таки сотни полторы, а иногда и две свезешь домой; и оброк заплатишь, и подушное, и рекрутское, и всякие другие подати, а все копейка заляжет. Привезешь жене кумачу на сарафан, фату шелковую; девчонкам — кому колечко, кому сережки.
— Девчонкам? Да как же ты говорил, что у тебя одна только дочь?
— Одна, батюшка, да две… как бы этак сказать?… Сиротки не сиротки, а хуже сирот.
— Родные, что ль, тебе?
— Нет. Вот дочки шабра-то моего, Федьки рыжего.
— Как, этого лихого извозчика?
— Его, батюшка.
— Да ведь он тебя обижал? Ты ходил с ним судиться к барину?…
— Так что ж? Барин нас рассудил: поколотил обоих — вот и все! А детки его чем виноваты?… Сердечные! Родная мать покинула, пошла в какие-то странницы, отец с ними не живет, кровных никого нет… Вот мы с хозяйкой и подумали: у нас всего довольно, господь бог нас не покидает, так и нам не след их покинуть… Дело соседское… Да и то сказать: у нас всего-навсего одна дочка, так не съедят же нас две сироты.
— И вы их любите?
— Как родных дочерей, батюшка, видит бог, как родных! Коли Тане пряник, так и всем по прянику. Да еще, батюшка, они-то нам как-то жальчее. Свою иногда потеребишь за волосы, а на них и рука не подымается. Горемыки этакие!.. При живом отце и матери и круглые сироты!..
— Ну, брат… Как тебя зовут?
— Иваном, батюшка.
— Ну, брат Иван, добрый ты человек!
— И, сударь! Кинь хлеб-соль назад — будет впереди! Не узнаешь, может статься, и наша Танюша останется сиротою, так и ее господь помилует; мы призрели сирот, и ее добрые люди не покинут… Ну, ты, сивка! Иль кнута захотела?
В продолжение этого разговора мы выехали на Сретенку. Не доезжая до конца улицы, мой ванька повернул направо в переулок.
— Куда ты, братец? — спросил я.
— А вот, батюшка, мы тут выедем как раз на вал, а там уж прямо Дербенским переулком до самого Каланчевского поля.
— Да ведь все равно и по Сретенке.
— Нет, сударь, все-таки выкинем уголочек; да и дорога-то поглаже.
— Ну, как хочешь; ступай!
Я заметил, что мой Иван, проезжая этим переулком, беспрестанно и с особым вниманием посматривал вперед на небольшую площадку или, лучше сказать, перекресток, на котором у плохой и до половины развалившейся биржи стоял один извозчик в синей плисовой шапке и кормил сенцом своего пегого коня.
— Ну, так и есть! — прошептал мой Иван. — Батюшка барин, — продолжал он вполголоса, останавливая лошадь, — подержите на минутку!
И, не дожидаясь моего ответа, бросил мне вожжи, спрыгнул с саней, подбежал к извозчику, который стоял у биржи, и принялся, не говоря ни слова, пороть его своим кнутом. Извозчик, детина дюжий и рослый, вместо того, чтоб обороняться, засуетился, кое-как заворотил свою разнузданную лошадь, упал в санки и поскакал сломя голову прочь от биржи. Вся эта экспедиция продолжалась не более полуминуты. Мой Иван воротился, сел преспокойно на свое место и повез меня далее.
— Что это, братец? — спросил я. — За что ты его бил?
— Как за что, сударь? Ведь эта биржа-то наша. Мы деньги за нее платим, а этот колотырник, прах его знает, кто такой… вишь, для него припасли… мошенник этакий!.. Вздумал у чужой биржи лошадь кормить. Иногда случится, второпях и сенца оставишь, а эти чужехваты тут и есть! Ведь в Москве, батюшка, много этаких шишимор; не хочет за место платить, да по чужим биржам и таскается. А проворен, разбойник: не успел его десяти раз хлестнуть.
— Да как же это, братец, ты так на него кинулся? Ты мужик небольшой, а он, кажется, детина такой ражий; ну, если б он стал обороняться?…
— Обороняться?… Да как он смеет!.. Каков бы он ни был человек, а все-таки знает, что я не напрасно перепоясал его кнутом.
«Вот оно, естественное-то право, — подумал я, — этот закон совести».
— Уж коли захватили вора в горохе, — продолжал мой ванька, — так где ему обороняться: малый ребенок прибьет.
— Нет, любезный, — сказал я, — у нас не по-вашему: у нас иногда и поймаешь вора в горохе, да не смей ему сказать, что он вор.
— Вот еще!.. Что вы, батюшка?… Да неужели вору-то кланяться?
— Пожалуй себе, не кланяйся, да чести-то его не смей порочить.
— Да что, сударь, за честь у мошенника?…
— Эх, братец! Вы народ необразованный, вы этого не понимаете…
— Конечно, батюшка, где нам! Мы люди темные; по нашему глупому разуму, кто плут, так плут, кто честный человек, тот честный.
— Вот то-то и есть! Это по-вашему, а у нас не так; у нас две чести, братец: одна честь та же, что у вас…
— А другая-то, батюшка, какая?
— А вот какая. Если тебя поймают в плутовстве да назовут в глаза мошенником, так ты не покоряйся. «Я, дескать, сам знаю, что я мошенник, да не люблю, чтоб мне это говорили; так не угодно ли со мною за это разделаться».
— Разделаться?… Как разделаться?…
— Да как хочешь: или на саблях рубиться, или на пистолетах стреляться.
— Ах, господи! — вскричал мой ванька. — Да за что ж это?… Меня же обидели, да я же и живота лишайся!
— А не захочешь ответить, так не прогневайся: честным-то человеком останется он, а бесчестным будешь ты.
Эти последние слова до того поразили моего Ивана, который, вероятно, никогда не слыхивал о дуэлях, что он решительно онемел от удивления. Желая удостовериться, точно ли я говорю не шутя или смеюсь над ним, он опустил вожжи и обернулся ко мне лицом. Лошадка воспользовалась этой оплошностию, повернула в сторону, зацепила за надолбы, пошевеньки упали набок, а вместе с ними, разумеется, и мы.
— Ах, батюшки! — вскричал Иван, вскочив на ноги. — Виноват, сударь, зазевался!
— Ничего, братец, — сказал я, отряхая мою шубу, покрытую снегом. — Ты только вперед, разговаривая со мной, не оглядывайся.
— Ахти! — сказал Иван, подымая свои пошевеньки. — Да ведь лошадка-то распряглась!.. Батюшка барин, уж не прогневайтесь, повремените немного, — сейчас запрягу; а вы извольте в санки-то сесть. Эка проклятая, — ну, лишь только вожжи опусти, тотчас повернет направо или налево!
Я сел в сани, а Иван принялся вправлять дугу, которая выскочила из гужей. В эту самую минуту поравнялись со мной парные сани; в них сидел барин лет тридцати, мужчина видный и красивый собою. Он приказал кучеру остановиться и закричал:
— Здравствуйте, Богдан Ильич!
Признаюсь, я не очень обрадовался этой встрече. Федор Андреевич… ну, все равно — назовем его хоть Мишурским… Федор Андреевич Мишурский принадлежит к числу тех выглаженных, ошлифованных и натертых чужим умом или, лучше сказать, чужими фразами глупцов, которые, по милости этих готовых фраз, слывут людьми просвещенными, остроумными и живут иногда полвека на счет какого-нибудь острого французского словца, удачно переделанного на русские нравы. Мишурский получил, как обыкновенно выражаются, хорошее образование, то есть говорит иностранными языками, толкует о живописи и музыке, рассуждает о политике и литературе, беспрестанно говорит о Западе и врет такую чепуху, что все второклассные дураки смотрят на него, как на чудо; а родной его дядя, Иван Михайлович Сурский, человек очень умный, слушая его, приходит в отчаяние. «Какое несчастие! — сказал он мне однажды почти сквозь слезы. — И нужно было моего племянника учить языкам! Ну, был бы просто дурак на русском языке, а то дурак на французском, дурак на немецком, дурак на итальянском, легко вымолвить — дурак на четырех диалектах!» Этот Мишурский женился на одной московской красавице, которая, несмотря на то что ее голова была набита идеалами и французскими романами, могла бы сделаться препорядочной женой, если б муж ее был только что глуп; но он был и глуп, и развратен, и, что всего хуже, вовсе не стыдился, а щеголял своим дурным поведением.
— Здравствуйте, Богдан Ильич! — повторил Мишурский, выпрыгнув из своих саней. — Здоровы ли вы?
Не видя никакой возможности отделаться от этого барина, я принял очень ласковый вид и с этой официальной улыбкой, которая, как известно, ровно ничего не значит, отвечал:
— Слава богу! Покорнейше вас благодарю! А вы?
— Голова болит. Не выспался: вчера ужинал у Шевалье.
— А ваша Марья Александровна?
— Кажется, здорова. Я с ней со вчерашнего утра не видался.
— Ай, ай, ай, Федор Андреевич! Давно ли вы женаты?
— Право, не помню. Да что это вы так строго поговариваете?… А сами втихомолочку… на извозчике… Богдан Ильич… Куда это изволите ехать?
— К знакомому.
— Уж не к знакомой ли?… Только я, право, не понимаю, к чему эти предосторожности? Вы человек свободный. Ну, дело другое наш брат женатый. On a des procedes avec sa femme… Вот и я пробираюсь иногда на извозчике к какой-нибудь закулисной сильфиде. А, кстати! Вы были вчера в театре?
— Нет, не был.
— Какую я видел там фигурантку! В первый раз показалась на сцене. Прелесть!.. Что, улыбаетесь, Богдан Ильич?… Чай, думаете: «Какой он ветреник!» Вот то-то и дело, что нет!.. Je suis inconstant par principes. Жизнь коротка — надобно ею наслаждаться.
— Ну, ты! — крикнул мой ванька, прибирая вожжи.
— До свиданья! — сказал Мишурский, садясь в своп сани. — Bonne chance!
Проехав несколько минут молча, я завел опять речь с Иваном об его промысле.
— А что, — спросил я, — что этак ты можешь выездить в целый день?
— Неровен день, батюшка, — отвечал Иван, пошевеливая вожжами. — Иногда промерзнешь на бирже до полуден — нет седоков, да и только! Выедешь куда-нибудь на бойкое место — стоишь, стоишь!.. К другим садятся, к тебе нет. Ну, верите ль, батюшка, для почину за грош бы куда-нибудь поехал, так нет — словно заколдовано! Да это еще ничего: не привез денег домой, зато лошадка отдохнула, а как иногда наймет какой-нибудь щеголек — катает, катает по городу да где-нибудь в проходном доме велит дожидаться у калитки, а сам нырнет в задние ворота, и поминай как звали. Зато случится в другой раз такая задача, что денег брать не успеваешь — так седоки и валят! Да еще какие!.. Вот хоть вчера — ну, уж вышел денек!
— А что, много возил, что ль?…
— Седоков было немного, да выручка-то была знатная. Я выехал вчера с фатеры не так чтоб рано — вот этак в обедни, не доехал еще до биржи, слышу, кричит: «Извозчик!» Гляжу, идет ко мне молодой купчик, не великонек ростом, а такой бравый, в лисьей шубе, в шапке с собольим околышем. «Куда, хозяин?» — «Давай санки, а я уж скажу, куда ехать!» — «Ого, — подумал я, — без ряды! Ну, тут, может статься, перепадет!» Купец сел в санки и говорит: «Ступай к Покровской заставе». Приехали. «Пошел за заставу по большой дороге!» — «В Андроньевку, что ль, хозяин?» — «Нет, подальше: в Перовский трактир». — «Вот оно что! — подумал я. — Гульнуть, видно, захотелось!» Вы, батюшка, чай, знаете, что от Покровской заставы до Перовского трактира версты две с походцем будет? А делать-то нечего: вез четыре версты, так поневоле еще две повезешь, — авось не обидит! Вот как мы приехали к Перовскому трактиру, гляжу — стоят трое саней, одни тройкою — упряжь такая знатная, с медными бляхами да побрякушками. «Что, батюшка, назад поедете?»- спросил я. «Нет, братец! — сказал мой седок. — Меня приятель довезет. Вот тебе!» Да и швырк мне — двугривенный. А я меньше бы полтинника ни за что не поехал. Я туда-сюда!.. «Помилуйте, да как, да что?…» А мой купчик махнул рукой да и в двери. Я было за ним… Куда! Выскочили двое таких дюжих ребят да ну-ка меня по затылку!.. Что будешь делать? Не город: хоть ты себе до завтра кричи караул, никто не придет на выручку; и еще так тебе бока отломают, что вовсе зачахнешь. Вот я стал за уголок, чтоб дать лошадке вздохнуть, а неравно и попутчик набежит. Прошло этак немного времени — слышу, поднялся такой шум и гам в трактире!.. Драка. Кричат: «Бей его, бей в мою голову!» Гляжу, бежит мой купчик, растрепанный такой, вся шуба в лоскутах, одна пола оторвана, а за ним двое молодцов с кулаками. Не знаю, кто, товарищи, что ль, позадержали их немножко, а мой седок прямо ко мне в санки да и кричит: «Вези скорей в Москву!..»- «Нет, хозяин, — сказал я, — постой, без ряды не поеду». — «Ну, ну, хорошо! К Сухаревой башне». — «Давай синенькую». — «Как синенькую?» — «Да так, меньше не везу». Купчик было заломался, да как глядь назад — ох, худо; два молодца так к нему и рвутся. Сробел мой детина, кричит: «Даю!» Я ударил по лошади, отъехал этак саженей двадцать и остановился. «Что ты?» — «Да вот что, хозяин: давай-ка синенькую-то вперед. Ведь ты, пожалуй, опять отвалишь двугривенный». — «Эх, братец, со мною денег нет». — «Эва на! Вот дурака нашел! Приехал в трактир гулять, да денег нет! Да что калякать-то: или деньги давай, или с санок долой! Дойдешь и пешком до заставы». А на дворе-то, батюшка, поднялась погода, закрутило так, что и, господи! Шубенка-то у него вся в лоскутах, так стало морозцем прохватывать. Ну, нечего делать, помялся да вынул из бумажника синенькую. Зато уж во всю дорогу он меня позорил на чем свет стоит. А мне и горюшка мало, — пожалуй себе, лайся сколько хочешь, а синяя-то бумага у меня в мошне!.. Эй, ты!..
— Ну а после кого ты возил?… — спросил я.
— От Сухаревой башни, — отвечал Иван, — подрядили меня за пятиалтынный на Мясницкую купец с женою — такие оба толстые, насилу в санки-то уселись. Видно, они за что-нибудь повздорили: всю дорогу прогрызлись. Хозяин-то, кажись, мужик смирный и трезвый, а хозяйка под хмельком и такая злющая — избави, господи! Он скажет слово, другое, а она так и засыпет: «Я, — дескать, — дура этакая, вышла замуж за нищего; такие ли у меня женихи были! Кабы не я, так тебе бы век оставаться в подносчиках, голь этакая!.. Ты по мне и в люди-то пошел!.. Жить с тобой не хочу. Отдай мое добро, лапотник этакий!..» Ну, вот так его поедом и ест! «Слава тебе, господи, — подумал я, — что моя Фекла из бедного дома: вот она — богатая-то жена!»
— Эх, брат Иван! — прервал я. — По-мужичьи ты судишь!
— А по-вашему как же, батюшка?
— По-нашему первое дело, чтоб за невестой было большое приданое.
— Конечно, батюшка, кто и говорит: лишняя деньга не беда; да и с богатой-то женой ладить трудновато: чуть не по ней — и пошла хлестать тебя по глазам своим богатством. Ты хочешь быть хозяином в дому, а она норовит упрятать тебя в батраки.
— Да это, братец, у вас.
— А в вашем господском быту не бывает?
— Никогда.
— Вот что!.. Ну, конечно, ваше дело господское… А мне покойник батюшка, — дай бог ему царство небесное! — всегда говаривал: «Ванюха, не зарься на богатую невесту: у богатой жены и родня богатая, — как раз попадешь в кабалу; да и честнее, коли муж кормит жену, а не жена мужа…» Эй, ты!..
— Ну, что ж, Иван, — сказал я, — как ты отвез своих седоков на Мясницкую…
— Так поехал, батюшка, шажком вдоль по улице. Вдруг из одного большого каменного дома выбежал барин, махнул мне рукой и говорит: «На Никольскую и назад, — да только смотри, живо! Хорошо поедешь, полтинник дам!» Я припугнул сивку, где вскачь, где рысью — мигом приехали на Никольскую. Барин велел остановиться подле одной… как они: лавки не лавки? Ну, вот еще над ними подписи с орлами…
— А!.. У маклера.
— Не знаю, батюшка! Пождал я маленько — гляжу, бежит назад мой седок, а с ним какой-то приказный, под мышкой большая книга. Сели в санки. «Ступай проворней, — закричал барин, — еще полтинник прибавлю!» Я ударился вскачь и слышу, что они меж собой разговаривают. «Боюсь, — говорит барин, — не застанем; больно плох». — «Вот то-то и есть, — молвил приказный, — поздненько хватились!» — «Что ж делать? — сказал барин. — И слышать не хотел — насилу уломали». — «Ну, да все равно, — шепнул приказный, — лишь бы только подмахнул как-нибудь…» — «Вот и приехали!» — закричал барин, кинул мне целковый, да и шмыг в дом вместе с приказным, а я поехал на фатеру. Будет покамест: зашиб в полдня почти десять рубликов… Ну, ты, сивка!
— Так ты этим и покончил вчерашний день? — спросил я, помолчав несколько времени.
— Нет, сударь! День был хорош, а вечер и того лучше. Я задал моей лошадке корму, а сам пообедал да отдохнул вдоволь и выехал опять с фатеры гораздо после вечерен. Против Николы в Грачах подрядили меня за гривенник до театра две барыни с узелками, одна помоложе, в знатном лисьем салопе, а другая постарее и одета похуже. Дорогой они все толковали, что опоздают приехать, что какой-то Иван Николаевич обещал прислать санки, да обманул. Та, что постарее, журила все ту, что помоложе. «Вот то-то и есть, Машенька, — говорила она, — вы всегда так! Зачем вы отпустили карету?» Как мы стали подъезжать к театру, барыни приказали мне остановиться у задних дверей — там, где стоят театральные кареты. Гляжу, у самых дверей прижался к стенке барин — молодец такой, с усами. Как увидела его молодая-то в лисьем салопе, так на него и вскинулась, да не успела порядком поругать: выбежал какой-то господин, такой сердитый, да как закричит: «Что вы тут болтаете, ступайте проворней, — дилектур сердится!» Они было в двери, а я молоденькую-то за салоп: «А деньги-то что ж, барыня?» — «Молчи, дурак! — шепнул господин с усами. — На вот тебе! Пошел!» Он дал мне полтинник, я снял шапку, поклонился и поехал шажком от театра по Трубе. Вот я еду себе да мурлыкаю песенку: стал уж подъезжать к Самотеке, слышу — кличут меня из одного домика. Подъехал. Гляжу — в сенях стоит со свечою старуха, провожает какую-то барыню в малиновой бархатной шубе, а на голове у нее покрывало. Вот эта барыня села ко мне в санки и шепнула таким тоненьким голоском: «На Кузнецкий мост!» Дорогой она все охала, видно о чем-нибудь тосковала, сердечная! И однажды так громко сказала: «Ах, боже мой, боже мой, верно, он болен!» Как мы выехали на Кузнецкий мост, она указала мне дом и велела остановиться у ворот, подальше от фонаря, спрыгнула с санок, развязала узелок у своего платочка, пошарила, пошарила, да и сунула мне в руку бумажку. «Матушка, — сказал я, — у меня мелких нет; повремените немного, сейчас разменяю в лавочке». — «Не надо!» — шепнула барыня да бегом в вороты. Я к фонарю… глядь на бумажку — красненькая!.. Экий выдался денек! Я повернул назад и как заехал с другой стороны дома… что за диковинка такая!.. Против магазеи стоит четверкою карета, и лакей сажает в нее — ну, точь-в-точь такую же барыню, какую я привез с Трубы.
— Неужели? — вскричал я.
— А может статься, и не та, батюшка, — проговорил Иван, почесывая затылок, — темненько было.
— Что ж, после этого ты поехал домой?
— Нет, сударь! Подождал у театра разъезду, да как-то попутчиков не случилось, а вдаль ехать не хотел, так и отправился порожняком на фатеру. И как стал распрягать лошадь, глядь, в санках лежит мешочек. Видно, обронила барыня, что я возил с Трубы на Кузнецкий мост. Другому некому.
— Что ж, этот мешочек пустой?
— Почитай, пустой. Ключик маленький да какие-то записочки. Я было взял его сегодня с собой, чтоб свезти в часть, да раздумал.
— А что?
— Так, батюшка, чтоб не вышло чего-нибудь. Неравно еще в полиции доищутся, чей мешочек. Ну, что хорошего!.. Коли, в самом деле, у этой барыни своя карета, так зачем ей на извозчиках таскаться? Ан и выходит, дело-то неладное. Она такая добрая, пожаловала мне десять рублей, а я стану на нее выводить… Да бог с ней! Не наше дело, батюшка.
— Ты мог бы сказать, что нашел его на улице.
— И это думал, да страшно: пожалуй, скажут, что в мешочке деньги были. Вот он, — продолжал Иван, вынимая из-за пазухи щеголеватый ридикюль. — Бархатный, батюшка! Купите, за полтинник уступлю.
Мне давно хотелось подарить что-нибудь моей экономке; ридикюль показался мне совершенно новым. Я положил его в карман и отдал полтинник извозчику. Минут через десять мы доехали да Покровской заставы.
— Куда прикажете? — спросил ванька.
— Налево, на двор!
Сойдя с санок, я отыскал дворника и хотя с трудом, а добился наконец, где живет мой знакомый. Его слуга объявил мне, что барина нет дома, но что он сейчас за ним сбегает.
— Они, сударь, у своего приятеля, через улицу, — сказал мне этот деревенский личарда во фризовой шинели, с небритой бородою и, если не ошибаюсь, немного под хмельком. — Извольте пообождать полминутки… Пожалуйте в комнату.
Я вошел в горницу, не очень опрятную или, верней сказать, очень неопрятную. В ней лежали чемоданы, стояло несколько стульев топорной работы и канапе, обитое черною кожею, которая от старости вся сморщилась и порыжела. Слуга пошел за барином, а я, оставшись один, начал от нечего делать рассматривать мою покупку. В ридикюле точно не было ничего, кроме одного ключика и двух записок. Первая, которая попалась мне в руки, была без надписи и на французском языке от какой-то Алины — вероятно, Алены. Она уведомляла свою Софи, что на балу у князя Вельского танцевала три раза сряду с каким-то Вольдемаром, то есть Владимиром, что реченный Вольдемар был не только любезен, но даже очарователен и что она, нижеподписавшаяся Алина, совершенно от него без ума. Вторая записочка была на русском языке и с надписью. Я взглянул на адрес и прочел, — не скажу, с удивлением, однако ж и не вовсе равнодушно, — написанные четкими буквами имя и фамилию супруги Федора Андреевича Мишурского.
VI Сцены из домашней и общественной московской жизни Сцена 3-я. Новорожденный
Мне завещал отец:
Во-первых, угождать всем людям без изъятья —
Хозяину, где доведется жить,
Начальнику, с кем буду я служить,
Слуге его, который чистит платья,
Швейцару, дворнику, для избежанья зла,
Собаке дворника, чтоб ласкова была.
ГрибоедовНебольшая комната с одним окном. Немодная, но довольно опрятная мебель. На окне стоят ширмочки с разноцветными стеклами. По стенам литографированные портреты разных знаменитых или, лучше сказать, знатных особ. Стол, покрытый красным набивным ковром. На столе небольшое зеркальце и полный бритвенный прибор. Перед столом в бухарском халате сидит Алексей Алексеевич Ползков. Он только что обрился и стрижет у себя ногти. Подле него стоит женщина лет сорока, в ситцевом капоте, измятом кисейном чепце и небрежно накинутом купавинском платке.
Ползков (с досадою). Эх, полноте, Марья Григорьевна. Не ваше дело! Вы просто бабушка, а это может только решить акушер или доктор.
Бабушка. Воля ваша, Алексей Алексеевич, а я этого греха на душу не возьму. Мое дело вам доложить: извольте послать за священником! Супруга ваша слава богу, а младенец очень слаб.
Ползков. Окрестить-то недолго, матушка Марья Григорьевна.
Бабушка. Да и умереть-то недолго, батюшка Алексей Алексеевич! Эй, сударь, поторопитесь!
Ползков. Хорошо вам говорить: поторопитесь!.. Вам что!.. А мне это не безделица. Ведь двух разов не крестят!.. И если я не попрошу теперь в крестные отцы…
Бабушка. Кого теперь просить! Прикажите кому-нибудь из домашних.
Ползков. Что вы это, Марья Григорьевна! Захочу я покумиться с моим лакеем!
Бабушка. Так отца дьякона попросите!
Ползков. Ну, вот еще!
Бабушка. Да помилуйте, где уж тут разбирать чины, — лишь только бы успеть окрестить!
Ползков. Да вы все не то говорите, Марья Григорьевна! Не может быть, чтобы ребенок был так слаб!..
Бабушка (глядя в окно). Вот, слава богу, и доктор приехал!.. Посмотрите, Алексей Алексеевич: он также скажет, что откладывать нечего. (Уходит.)
Ползков. Какое несчастие! И надобно ж было этому случиться!.. Варвара Юрьевна обещалась быть крестной матерью, если у меня родится сын… Она близкая родственница графу, так уж, верно бы, и его превосходительство Андрей Никифорович не отказался пойти в крестные отцы. Я покумился бы с моим начальником, а это не шутка — это весьма важный шаг по службе!.. Ну, если уж нельзя, так надобно, по крайней мере, хоть имя дать новорожденному такое, чтоб можно было этим польстить кому-нибудь, доказать мою преданность… У Варвары Юрьевны старшего сына зовут Иваном… Да кто ж еще Иван?… Нет, можно придумать что-нибудь получше!.. Начальника моего зовут Андреем… Прекрасно!.. Его сиятельство графа Куродавлева также Андреем… Очень хорошо!.. Э, да как это мне в голову не пришло? Ведь и князь Знатов также Андрей!.. Нет ли еще кого-нибудь?… Постой!.. Ну, так и есть!.. У, славно!.. Чего ж лучше, назову его Андреем… решительно Андреем. (Входит бабушка.) Ну, что?
Бабушка. Вот я вам говорила!.. Доктор сейчас послал за священником.
Ползков. Да это все вы, Марья Григорьевна!.. А я, право, думаю…
Бабушка. Ну, уж воля ваша, думайте, что хотите, а мы без вас окрестим. Иван Иванович будет восприемником.
Ползков. Доктор?
Бабушка. Ну да, сударь!.. А я крестной матерью… Какое прикажете дать имя новорожденному? Супруга ваша желает назвать его в честь своего батюшки Александром.
Ползков. Нет, нет!.. Я хочу, чтоб он назывался Андреем!.. Слышите ли, Андреем!
Бабушка. Софья Александровна велела вас просить…
Ползков. И, полноте! Она не знает сама, чего просит… Это дело отцовское… Извольте окрестить моего сына во имя Андрея Первозванного… Слышите ли?… Я хочу этого, я требую… Ну, одним словом, я обещался, Марья Григорьевна!
Бабушка. О, если обещались, так это другое дело. Вот и я также по обещанию назвала старшую мою дочь Матреною, хотя у меня в родстве нет ни одной Матрены.
Ползков. Ну, вот видите!.. Как же после этого…
Бабушка. Кто и говорит, Алексей Алексеевич! Уж коли обещались, делать нечего… Я так и доложу Софье Александровне. (Уходит.)
Ползков. Ну, теперь скорей к Андрею Никифоровичу: он мой начальник, да и живет поближе других… Эй, малый! (Входит слуга.) Готовы ли дрожки?
Слуга. Готовы, сударь.
Ползков. Фрак!.. (Одевается.) Шинель и шляпу!.. Если неравно завернет ко мне дядюшка, Максим Петрович, скажи ему, что я поехал по делам службы. (Уходит.)
Просто, но со вкусом убранный кабинет делового человека. Большой шкап с книгами. В одном углу конторка для письма. Посреди комнаты длинный стол, заваленный бумагами. Два или три тома Свода законов, с загнутыми листами и закладками, лежат на том же столе. Андрей Никифорович Гореславский, в шелковом ваточном сюртуке и красных сапогах, сидит перед конторкою. Подле него стоит секретарь с бумагами. Андрей Никифорович Гореславский — человек лет пятидесяти, небольшого росту, худощавый, с лицом весьма благородным, приятным и добрым, даже слишком добрым. Хороший физиономист тотчас бы заметил в этом простодушном лице какое-то отсутствие — не ума, нет, Андрей Никифорович человек вовсе не глупый, но этой твердости, этой собственной воли, без которой всякий начальник рано или поздно, а непременно попадет под команду своему секретарю. Андрей Никифорович очень любим своими подчиненными; чиновники усердные, смирные и честные любят его за то, что он ласково с ними обходится, а наглецы, плуты и лентяи — за то, что им все сходит с рук; одним словом, он принадлежит к числу тех людей, про которых обыкновенно говорят: «Что за добрейший человек: во всю свою службу не сделал никого несчастным!» Андрей Никифорович, как человек честный и благородный, не очень уважает льстецов. Ему даже отвратительны их грубая лесть, низкие угождения, лакейская преданность, а между тем эти господа делают из него все, что им вздумается, и хотя он чувствует сам, что это не доброта, а слабость характера, но никак не может устоять против их нападений, потому что ему как-то совестно отказать в чем-нибудь человеку, который валяется у него в ногах. Секретарь его… но об нем распространяться нечего. Он человек хитрый, ловкий, досужий и, как все умные секретари, знает своего начальника как свои пять пальцев.
Гореславский (отдавая секретарю бумаги). Да я в том списке не вижу столоначальника Чистякова, а, кажется, я своей рукой отметил!
Секретарь. Виноват, ваше превосходительство! Видно, как-нибудь в переписке ошиблись, а я поторопился, недосмотрел.
Гореславский. Вот то-то, Павел Васильевич, вы все торопитесь! Ну, если б представление пошло без него?…
Секретарь. Конечно, ваше превосходительство, когда уж вам так угодно… А если осмелюсь доложить, так Чистяков мог бы и пообождать…
Гореславский. Да разве он не заслуживает?… Он хорошо занимается делом, малый честный…
Секретарь. Да, точно так, ваше превосходительство, — отличный чиновник.
Гореславский. Так почему ж его не представить?
Секретарь. Конечно, ваше превосходительство, почему и не представить, а впрочем, у нас в канцелярии есть чиновники постарее его… Вот, например Алексей Алексеевич Ползков…
Гореславский. Да он почти каждый год получает награды.
Секретарь. Человек-то прекрасный, ваше превосходительство! С большими способностями…
Гореславский. А разве Чистяков…
Секретарь. Помилуйте, где ему равняться с Ползковым! У того деятельность необычайная и такие соображения, что истинно надобно удивляться… А как предан вашему превосходительству…
Гореславский. Предан!.. Да кому он не предан?… Эх, Павел Васильевич, не люблю я этих низкопоклонных людей!
Секретарь. Да это уж у него так, ваше превосходительство, — манера такая… А низости в нем ни на волос нет. Он человек преблагородный!
Гореславский. Все это очень хорошо, но почему же мне не представить Чистякова? Если я не ошибаюсь, так многие из его товарищей моложе его носят Станислава на шее, а у него еще нет и Владимира в петлице.
Секретарь. Да ведь он какой-то философ: он вовсе и не думает об этом.
Гореславский. Неужели?
Секретарь. Точно так, ваше превосходительство. Да если б это его занимало, так он стал бы просить вас или сам, или через других…
Гореславский. Да, это правда: за него никто никогда не просил.
Секретарь. А сам он об этом и не заикнется. Вот если бы Ползков удостоился быть представленным от вашего превосходительства к Анне на шею, так он с ума бы сошел от радости!
Гореславский. Эх, Павел Васильевич!.. Да за что?… Конечно, меня уж об этом просили Варвара Юрьевна Белоухова и княгиня Авдотья Кирилловна Перекопская, да я не знаю, как это сделать: я и так представляю десять человек… Много, Павел Васильевич, право, много!
Секретарь. Да вот, ваше превосходительство: в списке одного недостает… Чистякова можно в будущем году, а теперь, если б вы сделали эту милость Ползкову…
Гореславский. Конечно, дело возможное… Но за что же бедный Чистяков… И вы думаете, он не огорчится?
Секретарь. Да отчего же ему огорчаться? Не в нынешнем, так в будущем году… Вы извольте ему сказать слова два ласковых, так на этот раз он и этим будет доволен.
Гореславский. Но я так часто награждаю Ползкова, что это должно наконец показаться каким-то пристрастием.
Секретарь. Помилуйте, ваше превосходительство! Да кто может помешать начальнику отдавать справедливость подчиненному, если он этого заслуживает?…
Слуга (входя в кабинет). Алексей Алексеевич Ползков.
Гореславский. Зови сюда!
Слуга (обращаясь к дверям). Пожалуйте.
(Ползков входит и низко кланяется сначала Гореславскому, а потом секретарю.)
Гореславский. Здравствуйте, Алексей Алексеевич! Что скажете?
Ползков (кланяясь). Ваше превосходительство!.. Бог даровал мне сына.
Гореславский. Право?… Поздравляю, поздравляю!
Ползков (нагнувшись несколько вперед и глядя с умилением на Гореславского). Служа под благодетельным начальством вашего превосходительства, взысканный к, так сказать, осыпанный милостями вашими, я осмелился в знак моей душевной и всенижайшей благодарности назвать новорожденного моего сына Андреем в честь вашего превосходительства.
Гореславский. Очень вам благодарен.
Ползков. Мне бы должно было сначала испросить на это соизволение вашего превосходительства, но в ту минуту, когда я сделался отцом, я до того обезумел от радости, что забыл мой долг и осмелился без вашего согласия… Конечно, дерзость эта велика…
Гореславский. И, полноте, Алексей Алексеевич! Какая тут дерзость!
Ползков. Нет, ваше превосходительство! Вы это по доброте вашей изволите говорить, а я, конечно, поступил опрометчиво. Увлеченный чувствами моей неизъяснимой благодарности, я не подумал, что, может быть, вам не угодно будет…
Гореславский (с приметным нетерпением). Да почему ж не угодно?… Что это вы все говорите, Алексей Алексеевич!.. Скажите-ка лучше, как здоровье вашей супруги?
Ползков. Слава богу, ваше превосходительство, слава богу! Слаба немножко… Однако ж и ей тотчас пришло в голову… говорит мне: «Алексей Алексеевич, непременно надобно назвать нашего сына Андреем в честь его превосходительства Андрея Никифоровича: ведь он наш благодетель!..» И поверите ли, ваше превосходительство, с каким она это говорила жаром. «Да если, — говорит, — ты не назовешь его Андреем, так я и видеть его не хочу». (Секретарь делает знаки Ползкову и указывает головою на дверь.) Но я не смею долее мешать занятиям вашего превосходительства; я поспешу обрадовать жену мою и сказать ей, как милостиво вы изволили принять…
Гореславский. Хорошо, хорошо! Прощайте, Алексей Алексеевич! (Ползков низко кланяется и уходит.) Слава богу! Ушел!.. Ну, того и глядел, что он повалится мне в ноги!
Секретарь. Вот, ваше превосходительство, вы, верно, изволите думать, что это лесть, а ведь все, что он говорил, истинная правда.
Гореславский. Да зачем это говорить!
Секретарь. Что ж делать, ваше превосходительство! Ведь это говорит не язык, а сердце… Вы, может быть, не изволили заметить — у него слезы были на глазах.
Гореславский. Нет, не заметил! Мне совестно было на него смотреть.
Секретарь (помолчав несколько времени). Как же, ваше превосходительство, прикажете его внести в список?
Гореславский. Эх, Павел Васильевич, пристали вы ко мне!.. Да ведь это будет несправедливо!
Секретарь. На милость образца нет, ваше превосходительство. О нем же вас все просят…
Гореславский. Да, да! Ох, эти мне протекции!.. И Варвара Юрьевна, и княгиня Авдотья Кирилловна…
Секретарь. Оно же и кстати пришло: у него родился сын, уж так бы радость к радости… Да ведь вашему превосходительству надобно же что-нибудь ему на зубок положить.
Гореславский (развеселясъ). Да, конечно! Это будет получше червонца!.. Ну, так и быть!.. Но только на будущий год…
Секретарь. Не извольте беспокоиться, я сам напомню вашему превосходительству о Чистякове.
Гореславский. Ну, то-то же!.. Смотрите!.. Подайте мне бумагу: я подпишу и отмечу, к чему представляю Ползкова, а вы уж после внесите его в список. (Берет и подписывает бумагу.)
Роскошный кабинет большого барина. По стенам картины в великолепных рамах. В одном углу мраморная статуя Венеры Медицейской, в другом — «Умирающий Гладиатор». Вовсе не красивой формы, но в высочайшей степени комфортабельная кабинетная мебель, обитая рытым пунцовым бархатом. Мраморный камин с огромным зеркалом, перед которым стоят бронзовые великолепные часы рококо. Посреди круглого стеклянного балкона, или фонаря, заменяющего одно из окон кабинета, на гранитном пьедестале — группа похищения Сабинянок из прозрачного итальянского алебастра. В одном простенке туалетный столик а-ля помпадур с серебряным вызолоченным лавабо и со всеми своими прихотливыми затеями; в другом — довольно большой стол; на нем, в ящике за стеклом, коллекция золотых табакерок: круглых, овальных, четырехугольных, высоких, плоских, сундучками, брусочками, лодочками, с эмалью, резьбою, антиками и портретами. Пол устлан пестрыми пушистыми коврами. Посреди кабинета длинный стол, покрытый кипсеками, живописными путешествиями и портфелями с рисунками; подле самого стола, на тумбе из палисандра, в модной клетке сидит серый попугай. В кабинет — трое дверей: одни, против окон, ведут в приемную комнату; другие, по концам кабинета, соединяют его с огромной библиотекой и зимним садом, составленным из померанцевых, лимонных и лавровых деревьев. Перед столом на эластическом стуле с высокой спинкою, закутанный в атласный халат, сидит граф Андрей Никитич Куродавлев; он очень занят. Перед ним лежит большой лист пергамента, и его сиятельство, вооруженный широким ножом из слоновой кости, растирает на этом листе французский табак. Графу на взгляд лет за сорок; он человек дородный, высокого роста, весьма приятной наружности, с полными красными щеками; в глазах его заметна какая-то усталость и лень; впрочем, он весьма добросовестно занимается своим делом, и под его костяным ножом каждая крупинка табаку получает вполне свою окончательную отделку. Сквозь затворенные двери слышен в приемной комнате нешумный, но беспрерывный говор и от времени до времени раздаются шаги людей, которые весьма осторожно и тихо прохаживаются по комнате.
Граф (переминая щепоть табаку между двумя пальцами). Все еще слишком сыр… Что это у меня за привычка такая: всегда перемочу.
(Из приемной комнаты входит официант.)
Официант. Ваше сиятельство, надворный советник Фитюлькин.
Граф. А, знаю!.. Надоел! Скажи, чтоб извинил; я не могу сегодня принять — занят!.. Да кто там еще?
Официант. Человек десять, ваше сиятельство. Орловский помещик Дудкин…
Граф. Деревенский мой сосед? Зачем он таскается в Москву?… Ну, кто еще?…
Официант. Статский советник Черпопольский, отставной майор Брыкалов, по вашему приказанию какой-то француз с бородкою, подрядчик Дергунов, итальянец с картинами…
Граф. Хорошо, хорошо!.. Проси подождать. (Официант уходит. Граф продолжает еще несколько минут растирать табак; потом, наклонясь над листом пергамента, нюхает.) Кажется, табак хорош?… Крепок… сильный букет… Да, да!.. Этот меланж очень душист и приятен!.. Петербургский, от Иансена, недурен, но этот лучше!.. Признаюсь, я не ожидал, чтоб у Депре был такой хороший табак!.. (Насыпает в табакерку и нюхает.) Очень хорош!.. (Из-за дверей библиотеки выглядывает хорошенькое личико с черными бойкими глазами и розовыми щечками.) А, Груша! Что ты?… Войди! (Девушка лет восемнадцати, в белом платье и голубом шелковом фартуке, входит в кабинет и останавливается у дверей.) Ну, что, миленькая?
Груша. Графиня прислала вас спросить, поедете ли вы сегодня поутру со двора?
Граф. Что-о?
Груша (громче). Ее сиятельство графиня спрашивает вас, поедете ли вы сегодня поутру со двора?
Граф. Не слышу, мой друг, подойди поближе!
Груша. Что это, ваше сиятельство, разве вы глухи?
Граф. Видно, что так! Да подойди же поближе, душенька!
Груша. Не нужно-с!
Граф. О, плутовка!
Груша. Да полноте, ваше сиятельство! Вы извольте сказать, поедете ли вы или нет?
Граф. Ну, ну, не гневайся! Скажи, что поеду на Кузнецкий мост… Мне надобно кое-что купить… Да постой, Груша! Хочешь ли, я куплю тебе сережки?…
Груша. Покорнейше вас благодарю!.. Ох, вы!..
Граф (встает). Послушай! (Груша уходит.) Постой, постой!.. Разбойница!.. Настоящий чертенок!.. А хороша!.. Премиленькая рожица!.. (Подходит к попугаю.) Попинька! Что ты, мой друг?… Дай головку, попинька… дай головку!.. Попинька!.. Да что ж ты ничего не говоришь?… Кто пришел?
Попугай. Дурак!
Граф. Фи, попинька, фи!.. Говори: бонжур, Жако!.. Бонжур, Жако! (Попугай кричит своим натуральным голосом.) Шалишь!.. Что это?… Кусаться?… Вот я тебя!..
Официант (входя в кабинет). Алексей Алексеевич Ползков.
Граф. Проси! (Садится на прежнее место. Ползков входит.) А, здравствуй, Алексей Алексеевич! Как поживаешь?
Ползков (кланяясь). Слава богу, ваше сиятельство!
Граф. Садись.
Ползков. Покорнейше благодарю, ваше сиятельство! Я не устал.
Граф. Садись, братец! (Указывает ему на стул, который стоит против дверей библиотеки. Ползков садится.) Ну, что поделываешь?
Ползков. Да так-с, все по-прежнему. Служу, тружусь!.. (Вставая.) Ваше сиятельство! Бог даровал мне сына.
Граф. Честь имею поздравить!
Ползков. Пользуясь всегда благорасположением и облагодетельствованный ласками вашего сиятельства, я осмелился просить дозволения назвать моего сына Андреем, в честь вашего сиятельства.
Граф. Спасибо, Алексей Алексеевич, спасибо!
Ползков. Это имя будет беспрестанно напоминать сыну моему о высоком покровителе и благодетеле нашего семейства. О, я уверен, если когда-нибудь сын мой, — от чего да сохранит его боже, — поколеблется на пути чести и добродетели, мне только нужно будет сказать ему: «Андрюша, вспомни, чье ты носишь имя!»
Граф. И, полно, Алексей Алексеевич! Ты уж слишком меня хвалишь.
Ползков. Я, ваше сиятельство?… Да я только что отголосок общего мнения — и почел бы себя совершенно счастливым, если бы мой сын походил хотя несколько на вас…
Граф (с громким смехом). На меня?… И ты этого желаешь?… Ха, ха, ха!.. Что ты это, братец, Алексей Алексеевич?… Помилуй!.. Да разве эти вещи говорятся?…
Ползков (также смеется). А, да!.. Хе, хе, хе!.. Извините, не так выразился, ваше сиятельство! Я говорю о сходстве относительно ваших душевных качеств. Разумеется, сын мелкого, незначащего человека может ли иметь какое-нибудь другое сходство с таким знаменитым вельможею, таким истинным русским боярином? Нет, ваше сиятельство, я желал бы только, чтобы он душою-то на вас походил; чтобы он был точно так же, как вы, неутомим на поприще службы; так же, как вы, посвятил всю жизнь свою для общего блага, — разумеется, вы в большом и огромном размере, а он — в маленьком; но чтобы действия-то его были так же чисты и так же исполнены самоотвержения, как все действия ваши… Ведь вы, — извините, ваше сиятельство, — несмотря на вашу знатность и богатство, вы труженик!.. Другой бы на вашем месте бросил все, стал бы жить для себя, а вы нет! У вас одна только цель — быть полезным отечеству.
Граф. Однако ж, любезный Алексей Алексеевич, и я уж начинаю уставать; хочется отдохнуть, пожить за границею…
Ползков. Конечно, ваше сиятельство, кто другой, а вы и в службе и в отставке — все будете барином. Вам же тихая и спокойная жизнь не надоест; ведь вы отличный семьянин, примерный супруг. (Из-за дверей библиотеки выглядывает Груша. Ползков встает.) Но я не хочу во зло употреблять вашего снисхождения… Вы заняты…
Граф. Куда торопишься?…
Ползков (поглядывая на двери библиотеки). Мне нужно еще побывать за Красными воротами… Сейчас вспомнил… Крайняя нужда… Честь имею кланяться вашему сиятельству!..
Граф. Ну, прощай, любезный! Не забывай.
Ползков (кланяясь). Помилуйте-с!.. Как это можно!.. (Уходит.)
Груша (из-за дверей кабинета). Графиня просит вас к себе, ваше сиятельство.
Обитая малиновым штофом гостиная княгини Авдотьи Кирилловны Перекопской; старинная раззолоченная мебель в белых чехлах. В простенках узенькие составные трюмо. На подстольниках японские вазы с цветами. Люстра с хрустальными подвесками. Дорогой паркет из разноцветного дерева. В одном углу на пьедестале мраморный бюст Екатерины II. Перед канапе или софою большой наклейной стол с изображением вида Царскосельского дворца; с одной стороны дивана на низенькой скамеечке приютилась с чулком в руках фаворитка княгини, Мимиша, хорошенькая собою девочка лет десяти; с другой на вышитой по канве подушке лежит полово-пегая английская собачка в красном сафьяновом ошейнике. На диване, в белом кисейном капоте и кружевном чепце, сидит весьма еще бодрая и благообразная старушка лет шестидесяти пяти. На белом и румяном лице ее заметны следы прежней красоты. Рядом с нею, также на канапе, но только немного боком, сидит молодая женщина, одетая по последней моде; эта дама — правнучатная племянница княгини. Подле окна за маленьким столиком занимается рукодельем Ольга Николаевна — воспитанница ее сиятельства, девица лет тридцати. У дверей стоит карлик в гродетуровом голубом французском кафтане и розовом атласном камзоле.
Княгиня (продолжая разговаривать с молодою дамою). Да, мой друг, мне очень грустно, что ты разошлась с мужем; в наш век это не делалось так легко.
Молодая дама. Да вы не можете себе представить, ma tante, что я должна была терпеть! Если б вы только знали, то, верно бы, пожалели обо мне — вы так ко мне милостивы! (Целует ее в плечо.)
Княгиня. О, конечно, ma chere, я очень тебя люблю! (Молодая дама целует у нее руку.) Но неужели в самом деле твой муж такой дурной человек?…
Молодая дама. Чудовище, ma tante, совершенное чудовище!
Княгиня. Право, это для меня удивительно! Я знала его мать — прекрасная была женщина! Мы были с нею обе фрейлинами. И с мужем ее была знакома, на всех придворных балах и куртагах он всегда был моим кавалером. Прелюбезный человек! А какой тон, какая манера. Его многие принимали за эмигранта! Право, за эмигранта!.. Неужели сын до такой степени на них не похож?… Он мне казался всегда таким порядочным…
Молодая дама. Одна наружность, ma tante!.. Человек самый безнравственный!.. Faisant la cour a tout le monde…
Княгиня. Право?…
Молодая дама. Поверите ли, ma tante, я иногда с ним по нескольку дней сряду не видалась…
Княгиня. А, вот что! Ты ревнива?
Молодая дама. Кто? Я, ma tante? Помилуйте! Напротив, он ревнив, как Отелло.
Княгиня. Это уж что-то слишком странно, мой друг. Ревнив, а оставлял тебя одну. Добро бы, он держал тебя взаперти…
Молодая дама. Взаперти! Нет, ma tante, уж этого бы я ему не позволила! Довольно и того, что я, по милости его, не была до сих пор за границею.
Княгиня. Ну, это еще не большая беда, мой друг.
Молодая дама. Помилуйте! Да мне два раза предписывали карлсбадские воды.
Княгиня. От чего?
Молодая дама. Нервы, ma tante, нервы!.. Мне кажется, здоровье жены должно же что-нибудь значить для мужа… Я просилась даже в Ревель, а он и туда меня не пустил!.. Тиран!..
Княгиня. И он просто, без всякой причины не хотел тебе этого позволить?
Молодая дама. Всё пустые отговорки — глупости! То денег нет, то должен на все лето ехать в деревню.
Княгиня (качая головою). Ох, мой друг, уж полно, так ли он виноват, как ты говоришь? Мне что-то кажется, что и ты не вовсе права.
Молодая дама. Я, ma tante? Да я на всех пошлюсь. Я просто была несчастная жертва. Если б вы знали, какие он мне делал сцены, неприятности… Да и теперь еще делает. Представьте себе: мы разошлись, а он не хочет ничего давать на мое содержание.
Княгиня. Да ведь у тебя, кажется, есть свое состояние…
Молодая дама. Так, ma tante; но он как муж обязан… Ах, если б вы за меня вступились! (Целует у княгини руку.) Вам стоит только написать в Петербург.
Княгиня. Я думаю, ma chere, всего лучше, если б вы помирились…
Молодая дама. О, ни за что на свете!.. Да он совершенный злодей. Он ненавидит всех родных моих!..
Княгиня. Неужели?
Молодая дама. Дядюшку Степана Степановича перестал принимать, бабушку Маргариту Дмитриевну называет сплетницей, кузину Глашеньку — кокеткой. Леону, моему двоюродному брату, этому доброму, милому ребенку, отказал от дому и даже вас, тетушка…
Княгиня (с удивлением). Меня? Что меня?
Молодая дама. Ах, ma tante! Мне не хотелось бы вам говорить…
Княгиня (с жаром). Нет, скажи, скажи, ma chere! Я хочу знать…
Молодая дама. Ну, если вам угодно… (Посмотрев кругом и вполголоса.) Но мы здесь не одни, ma tante…
Княгиня. Ты меня пугаешь, мой друг!.. Так это что-нибудь важное?… Оленька, который час?
Ольга Николаевна. Половина первого, ваше сиятельство.
Княгиня. Так время завтракать. Поди, душенька, похлопочи! (Ольга Николаевна уходит.) Мимиша, тебе пора учить урок; а ты, Кондратьич, ступай в переднюю. (Девочка и карлик уходят.) Ну, вот теперь мы одни. Скажи, что говорит обо мне твой муж?…
Молодая дама. Ах, тетушка, мне, право, тяжело повторять его низкие и скверные клеветы… Во-первых, он иначе вас не называет, как вдовушкой-Минервой, фрейлиной Екатерины Первой…
Княгиня. Фи, как это глупо!.. Да это из какой-то русской комедии.
Молодая дама. Говорит, что вы белитесь и румянитесь…
Княгиня. Кто, я?… Скажите, какой клеветник!
Молодая дама. Да то ли еще он говорит, ma tante!
Княгиня. Ах, батюшки!.. Уж не говорит ли он, что я людей режу?
Молодая дама. О, нет, совсем не то!.. Он уверяет всех, что будто бы вы любите вашу воспитанницу Ольгу Николаевну потому… Ах, ma tante! Я, право, не знаю, как вам это и сказать… Ну, потому, что у вас одно с нею лицо.
Княгиня (с ужасом). Что, что?…
Молодая дама. А вашу фаворитку Мимишу любите за то, что она как две капли воды походит на Ольгу Николаевну.
Княгиня. Dieu, quelle horreur!
Молодая дама. Да это еще ничего. Он говорит, что и прежние ваши воспитанницы, которых вы выдали замуж…
Княгиня. Молчи, мой друг, молчи!.. Ах, он, чудовище!
Молодая дама. Изверг, ma tante, изверг! И вы хотите, чтоб я помирилась с этим человеком!
Княгиня. Нет, мой друг, нет! Теперь ничего не хочу… Ах, боже мой! И как могло прийти в голову… Ну, признаюсь, этого я не ожидала!!
Молодая дама. Теперь видите, ma tante, как мне нужна ваша помощь?
Княгиня. Вижу, мой друг, вижу! Этот злодей способен на все.
Молодая дама (целуя у княгини руку). Так вы похлопочете, чтоб его заставили дать мне приличное содержание?… Он так скуп, ma tante, что это будет для него ужаснейшим наказанием…
Княгиня. Ты думаешь?
Молодая дама. Уверяю вас!
Княгиня. Ну, если так, хорошо, мой друг, хорошо! Тебе должно будет подать просьбу, а я уж напишу куда следует… Я докажу этому гнусному клеветнику, что фрейлина Екатерины Первой имеет еще кое-какие связи!.. Ах, какой злодей!.. Подумать не могу!
Слуга (входя в гостиную). Алексей Алексеевич Ползков, ваше сиятельство.
Княгиня. Скажи, что я нездорова, не принимаю!.. Или нет, постой, постой!.. Ты знаешь, ma chere, Ползкова?
Молодая дама. Знаю, ma tante, он человек очень неглупый.
Княгиня. И большой делец. Чего же лучше? Он напишет тебе просьбу. (Слуге.) Проси сюда. Этот Ползков, ma chere, мне очень предан. Мой князь Алексей Петрович в последний год своей жизни, то есть тридцать три года тому назад, доставил его отцу офицерский чин и вывел в люди все их семейство. (Ползков входит.) А, здравствуйте, Алексей Алексеевич!
Ползков (кланяясь). Ваше сиятельство!.. (Молодой даме.) Честь имею кланяться вашему превосходительству!
Молодая дама (слегка кивает головой). Здравствуйте-с!
Княгиня. Садитесь, Алексей Алексеевич! Прошу покорно!.. Вы очень кстати меня навестили: у племянницы есть до вас просьба.
Ползков. Я почту себя очень счастливым… Позвольте узнать…
Молодая дама. Мне нужно с вами посоветоваться… Да вот всего лучше: пожалуйте ко мне завтра часу в первом, так мы об этом поговорим.
Ползков. С моим удовольствием!.. Мне очень приятно, что я…
Княгиня. Ну, что ваша Софь… Извините!.. Кажется… Софья Алексеевна?…
Ползков. Точно так-с.
Княгиня. Ах, нет, нет!.. Софья Александровна!..
Ползков. Помилуйте! Все равно-с.
Княгиня. Ну что, здорова ли она?…
Ползков. Бог даровал мне сына, ваше сиятельство!
Княгиня. Очень рада, Алексей Алексеевич! Очень рада!
Ползков (вставая). Ваше сиятельство, все семейство наше, а в особенности я, так давно пользуемся вашими милостями и высоким покровительством, что я был бы самым неблагодарным человеком, если бы не искал случая хотя чем-нибудь доказать вам мою беспредельную преданность. Позвольте же, ваше сиятельство, в ознаменование душевной моей преданности назвать моего новорожденного Андреем в честь его сиятельства князя Андрея Алексеевича.
Княгиня. В честь моего сына?… Очень вам благодарна, Алексей Алексеевич!.. Я напишу ему об этом.
Ползков. В таком случае потрудитесь, ваше сиятельство, прибавить, что я почел бы себя истинно счастливым, если б его сиятельство принял благосклонно эту скудную лепту моей хотя бесплодной, но искренней благодарности за все милости, изливаемые на меня вашим знаменитым домом.
Княгиня. И, полноте, Алексей Алексеевич! Да что ж мы такое для вас сделали? Мы любим вас как человека нам преданного.
Ползков (прижимая руки к груди). О, совершенно преданного!.. Да позвольте спросить: я не вижу Ольги Николаевны; уж здорова ли она?
Княгиня. Слава богу.
Ползков. А ваша прелесть — Минодора Назарьевна?
Княгиня. Мимиша?… Также здорова.
Ползков. Голубушка моя!.. Верите ли богу, ваше сиятельство, не видывал таких детей!.. Что это мне кажется, ваша Леди как будто бы потолстела… Леди, Леди! (Английская собачка подбегает к Полякову, виляет хвостом, и начинает к нему ласкаться. Ползков вынимает из жилетного кармана кусочек сахару и дает ей.) А, догадалась! Знаешь, плутовка, что у меня всегда для тебя гостинец есть!.. Что это, какая красавица! Удивительно!..
Слуга (входя в гостиную). Завтрак готов, ваше сиятельство!
Княгиня. Не хотите ли с нами позавтракать, Алексей Алексеевич?
Ползков. Покорнейше вас благодарю! Мне еще надобно далеко ехать.
Молодая дама. Не забудьте: завтра в первом часу.
Ползков. Как забыть, помилуйте! (Раскланиваясь.) Ваше сиятельство!.. Ваше превосходительство!.. (Уходит.)
Большая комната. Стены, выкрашенные голубою краскою, окаймлены гирляндою пунцовых и желтых цветов. На потолке нарисованы по углам в светло-голубых кружках розовые купидоны; над стеклянным фонарем, заменяющим люстру, в большом кругу среди фиолетовых облаков изображено что-то похожее на колесницу, в которой сидит что-то похожее на человека и правит двумя дельфинами. В одном из углов кивот из красного дерева с иконами в богатых окладах; перед ними висят три стеклянные разноцветные лампады. В простенках маленькие зеркала в огромных рамах, покрытых резьбою. Все окна с белыми миткалевыми занавесками. Мебель карельской березы, обитая пестрым ситцем с большими разводами. Поставец с серебром и фарфором. По боковым стенам висят литографированные портреты графа Платова, Кульнева и других русских генералов. На средней стене с одной стороны эстамп, изображающий вшествие в Париж союзных войск, с другой — взятие Варны, а посреди, в раззолоченных рамах, написанный масляными красками портрет хозяина дома, Андрея Трифоновича Цибикова. Оригинал этого портрета, дородный купец лет пятидесяти, с полным, краснощеким лицом и красивою окладистою бородою, сидит на диване; перед ним на круглом столе лежит раскрытая снуровая книга, стоят большие счеты, графин горечи и тарелка с хлебом и паюсной икрой. По левой стороне, опираясь на спинку кресел, стоит его приказчик, детина лет тридцати, в полуевропейском наряде, то есть в галстуке, жилетке и купеческом долгополом кафтане.
Андрей Трифонович (выкладывая на счетах). Четыреста семьдесят семь рублей ассигнациями… Нет, Лукьяныч, что-нибудь да не так!
Приказчик. Я два раза, Андрей Трифонович, прикидывал на счетах: аккурат четыреста семьдесят семь рублей.
Андрей Трифонович. А вот посмотрим!.. Сорок целковых, сто сорок рублей… Двенадцать золотых, по осьмнадцати рублей по две копейки с денежкою, — двести шестнадцать рублей тридцать копеек. Семь лобанчиков, по семнадцати рублей двадцати пяти копеек каждый, — сто двадцать рублей семьдесят пять копеек. Итого четыреста семьдесят семь рублей пять копеек… Ну что, Лукьяныч?
Приказчик. Ах, батюшки!.. Как эти пять копеек у меня ускользнули?… Оно, конечно, сумма неважная…
Андрей Трифонович. Неважная!.. Эк ты, Лукьяныч, как поговариваешь! Видишь, капиталист какой!.. Да ведь двадцать-то пятаков — рубль, а рублями миллионы считают! Вот то-то и есть; все вы франтики, купеческие сынки, умеете только чужую копейку проживать, а приберечь свою родную, да присовокупить, да гривной рубль зашибить — так нет! Это, дескать, что за коммерция! Мы хотим тысячами ворочать! Нет, брат, поучись-ка прежде на грошах, а там что бог даст! Для вашего брата-щеголька пять копеек что?… Тьфу!! А покойный мой батюшка, царство ему небесное, от пятака жить пошел. Был он простым подносчиком и терпел такую крайнюю нужду, что подчас сапогов не на что было купить. Вот завелся у него лишний пятак — он булавочек купил; продал их по рознице хозяйским дочкам за гривенку — купил иголочек, и те с рук сошли с барышом. Вот этак помаленьку, то тем, то другим, наколотил он рублишков пяток да накупил сережек, перстеньков, запонок; выпросился у хозяина в побывку к себе на село и вернулся назад уж с красной бумагой. Прошло еще годика два, батюшка начал пораспространять свою коммерцию: стал торговать на Смоленском рынке железной посудою, замками, гвоздями — всяким старьем; со Смоленского рынка перешел в железный ряд на Неглинную; а там посчастливилось ему взять казенную поставку на кровельное железо. Вот батюшка пооперился; на ту пору досталась по наследству одному купеческому сынку меняльная лавка на Моховой. Купчик-то был парень мотоватый; батюшка подвернулся как-то кстати, да и купил оптом всю лавку за полцены, а там, года через три, лавка-то стала магазином. Бог послал покойнику двух-трех господ, которые сбирали редкости, покупали картины, любили меняться. Вот он и пошел в гору: продаст вещь за тысячу рублей, а она придет опять к нему в трехстах; а там, глядишь, набежит охотник да купит ее же опять за тысячу. Я помню, этак у него одна золотая табакерка оборотов десять сделала да принесла ему тысяч до пяти чистого барыша. Вот, любезный, такими-то судьбами и вышло, что как батюшка скончался, так мне досталось восемьсот тысяч рублей чистоганом да вещей на столько же. А ведь все пятак!
Приказчик. Конечно, так, Андрей Трифонович! Да ведь на все счастие надобно.
Андрей Трифонович. Дураку и счастие не помога, Лукьяныч! Глупый человек словно карман с дырою: что в него ни клади, все вывалится.
Женский голос за дверьми. Дома, сударь! Пожалуйте в гостиную.
(Входит молодой человек, весьма щеголевато одетый. Андрей Трифонович встает.)
Молодой человек (вежливо кланяясь). Я имею честь говорить с Андреем Трифоновичем?
Андрей Трифонович. Точно так, батюшка!.. Прошу покорно садиться! Лукьяныч, поди покамест в контору; если понадобишься, так я тебя кликну.
Молодой человек (подавая А ндрею Трифоновичу письмо). От Степана Фомича Скоробогатого.
Андрей Трифонович. А, от почтеннейшего моего куманька? Позвольте-с, позвольте-с!
Молодой человек. Сделайте милость!
Андрей Трифонович (читая письмо и поглядывая на молодого человека). Гм!.. Вот что!.. Да-с!.. Осмелюсь спросить, вы коротко знакомы со Степаном Фомичом?
Молодой человек. Мой покойный батюшка был его искренним приятелем.
Андрей Трифонович. Так-с!.. А батюшка ваш давно скончался?
Молодой человек. Года три будет.
Андрей Трифонович. Так-с!.. Ну, конечно, в три года много воды утечет!.. Кум пишет ко мне, что вы имеете надобность в деньгах.
Молодой человек. Да-с! Мне нужно на короткое время перехватить — так, безделку!
Андрей Трифонович. Нет, батюшка, семь тысяч рублей сумма значительная.
Молодой человек. Помилуйте, Андрей Трифонович! Что для вас семь тысяч рублей ассигнациями?
Андрей Трифонович. Да то же, батюшка, что и для всякого: две тысячи целковых. У вас есть какое-нибудь обеспечение?
Молодой человек. У меня тысяча душ, но они все заложены в Опекунском совете.
Андрей Трифонович. Так-с!
Молодой человек. Впрочем, не беспокойтесь, заемное письмо написано на полгода, но, может быть, я через четыре месяца с вами расплачусь; у меня торгуют триста душ.
Андрей Трифонович. Вот изволите видеть, батюшка; я ведь этим не занимаюсь!.. Другие берут большие проценты, а я по десяти. Я даю только так, ради приязни… И, признаюсь, если бы не просил меня об этом Степан Фомич, так, не прогневайтесь: я не мог бы вас ссудить… Заемное письмо с вами?…
Молодой человек (подавая бумагу Андрею Трифоновичу). Вот оно.
Андрей Трифонович (читая). «Я, нижеподписавшийся… две тысячи рублей государственною серебряною монетою… сроком на шесть месяцев…» Так-с!.. Ну, делать нечего! Степан Фомич так усердно о вас просит… Извольте, сударь, извольте!.. Только уж, сделайте милость, в срок…
Молодой человек. Будьте спокойны!
Андрей Трифонович (вынимая из бумажника несколько пачек ассигнаций и подавая их молодому человеку). Вот шесть тысяч рублей; остальные, за вычетом процентов, шестьсот шестьдесят пять, сейчас вам додам. Потрудитесь перечесть.
Молодой человек (положив деньги в карман). Помилуйте! Зачем?
Андрей Трифонович (с удивлением). Как зачем?
Молодой человек. Я и так вам верю.
Андрей Трифонович. Вот что?… (Смотрит в бумажник.) Позвольте, позвольте!.. Да ведь я ошибся, я вам не то отдал… Пожалуйте-ка назад деньги!
Молодой человек. Извольте! (Андрей Трифонович берет назад свои деньги и молча подает молодому человеку заемное письмо.) Что это значит?
Андрей Трифонович. А то, сударь, что я никогда не даю денег взаймы тем, которые принимают их без счету.
Молодой человек (вставая). Позвольте вам сказать…
Андрей Трифонович. Да что тут говорить! У всякого свой обычай, батюшка, не прогневайтесь.
Молодой человек (с досадою). Так поэтому вы сомневаетесь?…
Андрей Трифонович. Шесть тысяч — деньги, батюшка, и кто берет их с тем, чтобы отдать, так уж, верно, перечтет. Ведь только даровому коню в зубы-то не смотрят.
Молодой человек. Так вы думаете, что я…
Андрей Трифонович. Я ничего не думаю. Деньги мои, заемное письмо ваше, так каждый при своем…
Молодой человек (вспыльчиво). А позвольте вас спросить, как вы смеете?
Андрей Трифонович. И, батюшка, не горячитесь! Я у себя в дому, а вот напротив живет частный пристав. Ну, что хорошего?… Счастливо оставаться! Кланяйтесь Степану Фомичу!..
Молодой человек. Да, я поблагодарю его!.. Заставить меня приехать бог знает к кому!.. (Уходя.) Купчишка этакий!
Андрей Трифонович. Добро, добро, дворянчик!.. Знаем мы вас!.. Тысяча душ, а перекусить нечего!.. Ну, хорошо, что я спохватился!.. И как не стыдно куму рекомендовать мне таких людей!.. Шесть тысяч рублей без счету берет!.. Хорош гусь!.. (Входит Ползков.) А, батюшка Алексей Алексеевич!..
Ползков. Здравствуйте, мой почтеннейший. (Целуются.)
Андрей Трифонович. Милости просим! Вот здесь, на канапе: тут вам будет покойнее!
Ползков (садясь). Ну что, мой любезнейший Андрей Трифонович, что поделываете, как вам можется?…
Андрей Трифонович. Благодарю моего создателя: и делишки идут порядком, и здоровье бредет. А вас, кажется, о здоровье и спрашивать нечего!..
Ползков. Эх, Андрей Трифонович! Что наше здоровье? Как цвет сельный: сегодня цветет, а завтра…
Андрей Трифонович. И, что вы, Алексей Алексеевич!.. Вы еще человек молодой!.. А что супруга ваша?
Ползков. Сынка мне родила.
Андрей Трифонович. Право? Ну, слава богу!.. Честь имею поздравить.
Ползков. Да что, Андрей Трифонович, все не так вышло, как мне хотелось: младенец родился таким слабым, что должно было сейчас его окрестить, а мы было с женою хотели просить вас быть восприемником нашего первого сына.
Андрей Трифонович. Ах, батюшка Алексей Алексеевич!.. Да чем я мог заслужить такую честь?…
Ползков. Чем?… Андрей Трифонович! Да ведь это смирение паче гордости… Что вы это?…
Андрей Трифонович. Истинно так, Алексей Алексеевич!.. Ну, что я за важное лицо такое? Мало ли у вас есть приятелей: и чиновных, и знатных, и князей, и графов…
Ползков. И, почтеннейший! А много ли на Руси таких именитых граждан, как вы? Кто не знает в Москве Андрея Трифоновича Цибикова?
Андрей Трифонович (поглаживая бороду). Что правда, то правда!.. Касательно известности я пожаловаться не могу. Меня, батюшка, и в Кяхте знают.
Ползков. Вот изволите видеть!.. А на Нижегородской ярмарке я сам слышал своими ушами: «Ну, плохо торговля идет! Да чему и быть? Поджидают все Андрея Трифоновича Цибикова: подъедет, так все закипит».
Андрей Трифонович (улыбаясь). Это уж, батюшка, напрасно говорят… Конечно, и мы от других не отстаем…
Ползков (шутя). А что, почтеннейший, если б этак под вас огоньку подложить, ведь миллиончиках в десяти покаетесь?
Андрей Трифонович. Уж и в десяти! Что вы это, Алексей Алексеевич!
Ползков. Да кредиту на столько же. Ну-ка теперь, сударь, скажите мне, не важен ли тот, который ворочает миллионами да дает ход торговле и русской промышленности? Нет, Андрей Трифонович, вы в моих глазах уважительнее всякого знатного барина, и я конечно бы за счастье почел с вами покумиться… Ну, да, видно, богу так угодно!.. По крайней мере, я все-таки в честь вашу назвал моего новорожденного Андреем.
Андрей Трифонович (обнимая Ползкова). Покорнейше вас благодарю!.. Да что ж мы в самом деле… Позвольте, батюшка Алексей Алексеевич, выпить за здоровье новорожденного! (Подходит к дверям и кричит.) Эй, Маланья! Бутылку полынного!
Ползков. Не пью, почтеннейший! Да мне же и пора домой. Я только за тем к вам и заехал, чтоб сказать, что бог даровал мне сына и что я в честь вашу назвал его Андреем.
Андрей Трифонович. Да выкушайте хоть рюмочку!
Ползков. Право, не пью.
Андрей Трифонович. Ну, как вам угодно, я не держусь нашего, купеческого, обычая: не люблю моих гостей неволить.
Из боковых дверей входит Анисья Максимовна, сожительница Андрея Трифоновича, толстая женщина лет сорока пяти, в ситцевом затасканном капоте; на ногах у нее надеты красные туфельки, на плечи наброшен заштопанный платок бур-де-суа; голова ее ничем не покрыта, и растрепанные волосы торчат во все стороны.
Анисья Максимовна (не видя Ползкова). Батюшка Андрей Трифонович, забыла тебя спросить; как прикажешь подать поросенка — жареного или под хреном?
Андрей Трифонович. Под хреном, матушка, под хреном! Да что ты, Анисья Максимовна, ослепла, что ли? Взгляни!..
(Анисья Максимовна, увидев Ползкова, вскрикивает и хватается обеими руками за голову.)
Ползков. Здравствуйте, матушка Анисья Максимовна!
Анисья Максимовна. Ах, батюшка Алексей Алексеевич!.. Не знала я совсем!.. А я просто, по-домашнему, такой растрепой!..
Ползков (подходя к ней). Позвольте ручку поцеловать!
Анисья Максимовна (махая руками). Нет, извините, извините!.. Мне, право, стыдно! Ах, срам какой!.. (Уходит.)
Ползков. Ну, прощайте, мой любезный, мой почтеннейший Андрей Трифонович!..
Андрей Трифонович. Прощайте, Алексей Алексеевич! Дай бог вам доброго здоровья! И если вам когда-нибудь Андрей Цибиков на что ни есть понадобится, так вот вам рука моя!..
Ползков (с чувством). Дружбы, дружбы вашей, вот чего я желаю. Все прочее — дело постороннее, но дружба такого человека, как вы, — о, это такая драгоценность, которую я ставлю выше всего на свете!
Андрей Трифонович (обнимая Ползкова). Ах, мой бесценный Алексей Алексеевич! Да чем я заслужил?…
Ползков. Ну, что об этом говорить!.. Прощайте! Дай бог вам всякого благополучия. До свидания, почтеннейший! (Уходит.)
Прежняя комната в доме Ползкова. Алексей Алексеевич входит поспешно; за ним идет слуга.
Алексей Алексеевич. Ну, что жена?
Слуга. Слава богу-с.
Алексей Алексеевич. А младенец?
Слуга. Говорят-с, очень труден.
Алексей Алексеевич. Который час?
Слуга. Второй в начале.
Алексей Алексеевич. Так можно еще успеть… Будь готов идти на почту… Или нет, найми извозчика. Ступай! (Садится за стол и пишет.) Ну, вот и кончил! Кажется, недурно… (Читает.) «Ваша светлость! Бог даровал мне сына. Я осмелился назвать его в честь вашей светлости Андреем. Это имя, принадлежащее знаменитому вельможе и мудрому сановнику, на которого обращены взоры всей России, да послужит ему путеводительной звездой на поприще жизни. Пусть это имя напоминает ему беспрестанно имя того, кто не столько по рождению, сколько по своим личным доблестям стал наряду первых государственных мужей нашего времени! С чувством наиглубочайшего почтения и совершенной преданности за счастие почитаю называться вашей светлости всепокорнейшим и преданнейшим слугою». Теперь скорей в пакет да и на почту… (Кладет письмо в пакет и надписывает.) «Его светлости князю Андрею Сергеевичу Знатову». Эй, Ванька! (С одной стороны входит слуга, с другой бабушка.) Ступай проворней… А, Марья Григорьевна! Что вы?
Бабушка. Да что, Алексей Алексеевич, делать нечего… воля божия!..
Алексей Алексеевич. Что такое?…
Бабушка. Младенец скончался.
Алексей Алексеевич. Что вы говорите?… Ах, боже мой, какое несчастие!.. (Закрывает руками лицо.) Андрюша, друг мой!..
Бабушка. И, Алексей Алексеевич! Слава богу, что он скончался теперь… Ангел божий! Да и вам некогда было к нему привыкнуть…
Алексей Алексеевич. Эх, Марья Григорьевна! Вы человек посторонний, а каково сердцу родителя!
Бабушка. Да полноте, Алексей Алексеевич! Подите-ка лучше к Софье Александровне да постарайтесь ее утешить; она очень огорчена.
Алексей Алексеевич. Утешить!.. А кто утешит меня?… Боже мой, боже мой, вот жизнь человеческая!.. (Проходя мимо слуги.) Возьми это письмо, ступай сейчас на почту. Да смотри не опоздай!.. Пойдемте, Марья Григорьевна, пойдемте!
VII Смесь
Брат и сестра. Загадка
Если вы их не знаете лично, то уж, верно, знакомы с ними понаслышке: без этой уверенности я не стал бы вам описывать два характера, в которых нет ничего особенно замечательного, кроме какой-то странной противоположности между собою, несмотря на то что эти брат и сестра не сводные, не двоюродные, а единокровные, то есть родились от одной и той же матери. Воспитание получили они также одинаковое, — по крайней мере, учитель был у них один — человек очень умный, немного крутой, это правда, но зато совершенно беспристрастный и истинный их друг. Когда он взял их на выучку, брат был ребенком, а сестра уже девица взрослая; брат жил с ним в одной комнате, а сестра на своей половине, — так, разумеется, он был чаще со своим учеником, чем со своей ученицей; а из этого и заключили, что он больше любит брата, чем сестру, — только это совершенная клевета. Да дело не о том.
Я уж сказал вам, что сестра гораздо старее годами своего брата, следовательно, вовсе не удивительно, что по наружности они не походят друг на друга: он малый молодой, она пожилая барыня, у него нет ни одной морщины на лице, а у нее, бедняжки, как она ни белится, ни румянится, как ни красит волосы, а все седые локоны так из-под модной шляпки и выглядывают. Братец смотрит молодцом, выправлен, всегда навытяжке, строен, подборист, затянут в рюмочку и застегнут на все пуговицы; сестра, напротив, плотная, дородная барыня, держит себя весьма нерадиво, любит покривляться, не терпит никакого принуждения, ходит нараспашку и, как избалованная красавица гарема, нежится с утра до вечера на своих пуховых подушках. Нельзя, однако ж, не отдать ей справедливости: она большая мастерица выбирать свои положения и придавать им какую-то особенную грациозность. Я знаю многих, которым правильные движения и эстетические позы брата гораздо менее нравятся, чем небрежная манера и вовсе не европейские ухватки сестры.
Брат много ходит пешком, не боится тесноты и любит жить высоко; его не испугает лестница и в двести ступеней. Трудно найти человека, который уважал бы более его чистоту и опрятность. Он также чрезвычайно любит однообразие и симметрию: если один воротничок его рубашки выпущен из-под галстука на полвершка, так уж будьте уверены, что другой ни на волосок не выставится ни больше, ни меньше этого. Когда старая мода носить по двое часов вернется к нам вслед за вычурной мебелью рококо, то, без всякого сомнения, он первый явится с двумя часами, для того чтоб на левой стороне его жилета висела цепочка с ключиком, так же как и на правой. Вообще, он большой щеголь и зимой одевается отлично легко, вероятно, потому, что в Италии и Франции никто не носит медвежьих шуб. В самый сильный холод он скорее решится отморозить себе уши, чем надеть вместо своей круглой европейской шляпы нашу теплую русскую шапку.
Сестра ходить пешком не охотница и до того не любит ездить парою в карете, что даже к обедне в свой приход не поедет иначе, как четверней. Жить в тесноте она решительно не может: ей надобен простор, то есть особый дом, высокие, большие комнаты, обширные службы, а пуще всего хотя грязный, да просторный двор с небольшим садиком, в котором должны расти непременно бузина, сирень и акация; точно так же, как ее брат любит гранитные тротуары, великолепные набережные и чугунные мосты, она любит берега реки, обросшие травою, сады, рощи и даже огороды с капустою и картофелем. Стоит только на нее взглянуть, чтоб увериться в совершенной ее ненависти ко всякому однообразию и симметрии. Посмотрите на ее головной убор — какая пестрота, какое смешение ярких цветов, не имеющих меж собой никакой гармонии, какое странное сближение старого с новым. Над жемчужной поднизью старинной русской боярыни приколоты цветы из французского магазина; посреди тяжелых ожерельев и монист блестит новомодная севинье; на руках длинные лайковые перчатки; на ногах черные коты с красной оторочкой; на одной руке парижский браслет, на другой — запястье, осыпанное драгоценными каменьями, — ну, точно меняльная лавка! И что ж вы думаете?… Несмотря на эту пестроту и безвкусие, у вас язык не повернется сказать, что этот наряд дурен; может быть, он вам даже и понравится. Впрочем, надобно вам сказать, что это наряд домашний, а когда она выезжает, так, уверяю вас, вы не распознаете ее от француженки; только не требуйте от нее, чтоб она ради европейства отморозила себе нос или уши: этого она ни за что не сделает, и если холодно, так наденет непременно сверх тюлевого чепца теплую шапочку и вовсе не постыдится даже в апреле месяце выйти погулять в салопе на лисьем меху, несмотря на то что в ее гардеробе есть и клоки, и манто, и даже бурнус, который она выписала прямехонько из Парижа.
Брат недавно завелся домом, а несравненно богаче сестры; он не скуп, однако ж расчетлив; она большая экономка — и вечно без денег. Брат нечасто дает пиры, а уж если даст, так истинно на славу, с большим вкусом, с роскошью, одним словом — все прекрасно. Сестра большая хлебосолка; конечно, она не всегда хорошо накормит, и вино у нее подчас бывает с грехом пополам; но зато брат даст обед, да тотчас и ворота на запор: как ни звони в колокольчик, а все дома нет да нет; а к сестре каждый день милости проси! У нее двери без колокольчика и ворота всегда настежь. Брат очень умен, а сестра чрезвычайно простодушна; он рассудителен, холоден и с утра до вечера занят делом; она добра, приветлива и день целый ничего не делает. Он охотно любуется всем прекрасным и не жалеет на это денег; она в восторге от всего необыкновенного и хочет все иметь, но только как можно подешевле. За последнее осуждать ее нельзя: где ей тягаться за братом! Да вот что странно: уж если она сама чувствует, что не может сорить деньгами, как ее братец, так зачем же требует, чтоб ее забавляли точно так же, как забавляют ее брата? Ведь она русская барыня и должна бы, кажется, знать старинную пословицу: «По одежке тяни ножки». Брат, как и все богатые люди, любит, чтоб его тешили новостями; однако ж не пренебрегает старым, когда оно хорошо. Сестра не может терпеть ничего старого; давай ей каждый день что-нибудь новенькое, — такая ветреница, что и сказать нельзя! Сегодня ей нравится одно, завтра другое; да вот хоть, например, пришло ей однажды в голову, что она до смерти любит французский театр, — ну, просто помешалась на этом пункте. «Хочу французский театр! Не могу жить без французского театра!» Шумит, да и только! «Я, дескать, за казной не постою, ничего не пожалею, последнее именье в ломбард заложу, — давайте мне только французский театр!» Вот откуда ни возьмись явился французский театр — сестрица в восторге! «Что за совершенство! Какие таланты! Как сладко поют!.. Ну, чудо, да и только!» Вот едет она во французский театр: раз, другой, третий, а там — глядь-поглядь, и след простыл! Конечно, это можно было предвидеть, потому что моя барыня в душе русская и только так, ради хвастовства, прикидывается француженкой; но вот что трудно изъяснить: по ее словам, русский театр очень плох, а французский чудо, им только она душу себе и отводит, — и что ж вы думаете! С ног сбила своих лакеев, посылая их каждый день за билетами в русский театр, а во французский и заглянуть не хочет; да еще, такая проказница, уверяет всех, будто бы не ездит во французский театр оттого, что нельзя достать ложи, — а их бери сколько хочешь, я это знаю наверно от самого директора.
Брат — человек молчаливый, слова не скажет даром; сестра такая болтунья, что не приведи господи! А уж если дело пойдет на новости, так что твое «не любо — не слушай»! Того женили, другого уморили, третьего произвели в чин, а ничего не бывало — все вздор! Ну, как после этого не извинить брата, что он иногда над своей старшей сестрой подшучивает? Хоть, впрочем, я уверен, что он ее истинно любит и уважает и еще бы любил и уважал больше, если бы знал ее покороче. Я забыл вам сказать, что они всегда живут розно. Сестра, конечно, имеет свои недостатки, но зато такая радушная, гостеприимная и добросердечная женщина, что, несмотря на все ее странности и причуды, ее нельзя не полюбить. Я знаю это по себе: стоит только раз с ней познакомиться, а там уж ни за что не захочешь расстаться.
С братом и сестрой во время их жизни случались также большие несчастия, только и в этом нет у них никакого сходства. Брат всегда страдал от воды, а сестра от огня. Он однажды совсем было утонул, а ее раза четыре чуть живую из полымя выхватывали; правда, в последний раз она сама зажгла свой дом, и вот по какому случаю, — я могу вам рассказать об этом как очевидец.
Вы уж знаете, что она большая ветреница и очень легковерна; вот какие-то хвастунишки наговорили ей, и бог знает что, об одном мусьё, отъявленном сорванце и буяне: и мил-то он, и хорош, и любезен! Моя барыня с ума сошла: бредит им и день и ночь. Дошли и до него об этом слухи. Надобно вам сказать, что этот мусьё — человек пресамолюбивый и считает себя лучше всех на свете. Вот он и вообразил, что наша барыня влюбилась в него по уши; ему же сказали, что она женщина богатая, что у нее всего много; так не диво, что у этого мусьё глаза разгорелись на ее богатство. «Постой, — сказал он, — отправлюсь к ней в гости; оно не близко, да у меня лихой ямщик, разом доставит. Она, разумеется, выбежит навстречу, кинется мне на шею; я наговорю ей с три короба всяких комплиментов, облуплю как липку и скажу ей на прощанье: «Барыня, я доволен тобою! Ты оправдала мое ожидание — я люблю тебя!» — и прочее и прочее». Да, как бы не так! Вот мусьё в самом деле шасть к ней на двор; подождал, подождал — встречи нет; он без доклада в комнату. Батюшки, как взбеленилась моя барыня! «Да как ты смел? Да кто тебе позволил? Да разве я звала тебя в гости?… Ах ты, наглец!.. Сейчас со двора долой!» Другому стало бы совестно, а у этого мусьё медный лоб; да он же и привык по чужим дворам шататься. Хоть и досадно было, что его приняли так неласково, а он все-таки решился у нее погостить: надел халат, натянул колпак и расположился у нее, как в своем доме. «Так-то! — сказала барыня. — Так я же тебя, дружок, выкурю!» Она призвала старостиху Василису, приказала ей снарядить всех дворовых девок чем ни попало: кого метлой, кого кочергой, а сама подсунула в дом огоньку и притаилась за углом. Мусьё очень не жалует нашего русского мороза, да ведь и огонь-то не свой брат. Вот как он догадался, что его хотят живого изжарить, — скорее вон! А тут из засады на него и высыпали да ну-ка его отрабатывать! Он было отгрызаться — куда! Не дали молодцу образумиться. Мусьё давай бог ноги, а его вдогонку-то, вдогонку, — только одна голова и уцелела, а бока так отломали, что он, сердечный, никак бы до дому не дотащился, если б добрые люди его на салазках не довезли. Разумеется, этот геройский поступок и самоотвержение нашей барыни расхвалили в газетах, описали и в прозе и в стихах, но она, моя голубушка, вовсе этим не возгордилась и даже так была незлопамятна, что очень скоро после обиды, которую ей сделал этот мусьё, отправила к нему визитную карточку и велела спросить о здоровье. Все это весьма похвально, а вот за что нельзя ее хвалить: давно ли, кажется, она по милости этого буяна вконец было разорилась, а поверите ли?… опять уж в него влюблена или прикидывается, что ль, влюбленною — бог ее знает! Только как она теперь ни кокетничай, а уж мусьё в другой раз на бобах не проведешь. Чай, он думает про себя: «Нет, madame, шутишь! Полно глазки-то делать: знаем мы тебя! Что, по-прежнему стал миленьким? И человек-то я образованный, и сам-то я просвещен, и других всех просвещаю — и то и сё, а попробуй сунься — так ты опять ухватом или кочергою!»
Я мог бы еще продолжать это сравнение брата с сестрою, да, верно, уж вы знаете, о ком речь идет, так можете и сами это сделать. А если вы еще не отгадали, кто этот брат и кто эта сестра, так, пожалуй, я вам скажу, кто они… Да нет… боюсь! Они люди умные, добрые и, кажется, за шутку гневаться не станут, а ведь бог знает, может быть, и рассердятся, если я назову их по имени.
Дешевые товары
Слыхали ли когда-нибудь (прошу заметить, что я делаю этот вопрос иногородним), слыхали ли вы об одной московской ярмарке, которую никто не называет ярмаркой и о которой не упоминается ни в одной статистике, несмотря на то что на ней сбыт товаров бывает иногда весьма значителен, а стечение народа всегда неимоверное и особенно замечательное тем, что вы непременно на одного мужчину насчитаете, по крайней мере, десять женщин. Эта ярмарка бывает на Фоминой неделе, от понедельника до четверга, и происходит в городе, то есть в городских рядах, предпочтительно в Панском ряду, и вообще во всех магазинах, где торгуют шелковыми, шерстяными, льняными и бумажными изделиями. На этом торгу продаются только одни остатки, начиная от дорогого бархата до самых дешевых тафтяных лент, от воздушных газов и индийской кисеи до толстого миткаля и тридцатикопеечных ситцев, от мягкого, шелковистого терно до грубого фриза и от белоснежного батиста до простой посконной холстины. Этот торг остатками получил свое начало от старинного обычая московских купцов, которые представляли в пользу своих сидельцев все мелкие остатки от товаров, скопившиеся в лавке в течение целого года. Разумеется, эта лоскутная продажа давно уже изменила своему первобытному назначению. Теперь пользуются выгодами этой торговли не сидельцы, а сами купцы. Главное стечение покупщиков бывает обыкновенно на Ильинке, по которой в эти дни решительно нет проезда. Если вы захотите когда-нибудь взглянуть на этот временный толкучий рынок московских барынь, то я советую вам пробраться сквозь пеструю их толпу вниз по Ильинке до магазина господ Матьясов и посмотреть, как бесчисленные покупщицы выходят из него по довольно крутой лестнице. Издали это должно вам показаться каким-то разноцветным водопадом, которого голубые, желтые, белые, розовые и всех возможных цветов волны льются беспрерывно на улицу. Вблизи вы рассмотрите, что это не волны, а женские шляпки, и даже с прискорбием заметите, что многие из них сдернуты на сторону, оборваны, исковерканы и превращены в такие странные головные уборы, что им нельзя приискать никакого приличного названия. Если вы человек смелый и решительный, то есть не боитесь ни тесноты, ни толчков, ни этих острых локтей, которые будут впиваться в ваши бока, то присоединитесь к какой-нибудь отдельной дамской толпе, которая сбирается взять приступом эту лестницу. Ступайте смело вперед, толкайте направо и налево и не теряйте времени на вежливые извинения: в этой давке никто и ни в чем не извиняется. После некоторых неудачных попыток вы успеете наконец вместе с вашей толпой ворваться в сие хранилище всевозможных остатков. Не думайте, однако ж, чтоб вам удалось подойти к прилавку, а и того менее — купить что-нибудь. Нет, это дело невозможное! Вы все-таки мужчина и хотя решились толкать женщин, однако ж драться с ними, верно, не захотите. Разумеется, вы прижметесь к стене и если останетесь тут на несколько минут, то, верно, будете свидетелем многих сцен смешных, забавных, а иногда даже и немножко отвратительных. Вы увидите, как женщины, по-видимому довольно порядочные, вырывают друг у друга какой-нибудь лоскут гривенной тафты; вы услышите, как они переругиваются меж собою. Извините, это выражение не слишком благородно, но другого я никак придумать не могу. Впрочем, не пугайтесь: вы на этом базаре редко встретите известное вам лицо и очень часто узнаете под красивою шляпкою какую-нибудь горничную девушку или барскую барышню знакомой вам дамы.
Этот годовой торг известен под названием «Остатки, или Дешевые товары». И подлинно, вы можете иногда купить очень дешево, но только почти всегда то, за что в другое время вы не захотели бы заплатить ни копейки. Надобно вам сказать, что в числе остатков действительных есть очень много остатков искусственных; обыкновенно шелковые и всякие другие материи, вышедшие совершенно из моды, разрезываются на куски различных мер и продаются под названием остатков. Купить себе на платье материи, которую давно уже перестали носить, никто не захочет, но как не соблазниться, не купить остаток, который вам отдают за полцены? Ведь это бывает только один раз в году; после вам и понадобится, да вы уж нигде не найдете. Так или почти так рассуждают все те из московских барынь, которые любят покупать дешево и набивать всякой всячиной свои кладовые, а таких барынь в Москве очень много. Этот легкий способ сбывать в несколько дней весь хлам, накопившийся в лавке в течение целого года, изобретен московскими купцами и, кажется, до сих пор не имеет еще подражателей. Ну как же после этого не подивиться сметливости и догадке наших гостинодворцев, как не сказать, что они знают прекрасно свое дело и вполне постигли характер своих русских покупщиц?
Первые театральные представления в Москве
Можно полагать с достоверностью, что театральные представления не были известны русским до второй половины XVII столетия. В 1659 году российский посол Лихачев видел во Флоренции в первый раз театральное представление; ему более всего понравилась скорая перемена декораций и деревянные лошади, которые двигались, как живые. Вероятно, возвратясь в Россию, он подал мысль царю Алексею Михайловичу завести нечто похожее на театр в доме боярина Матвеева; потом, в 1676 году, под надзором того же боярина были представления в Кремлевском дворце, Преображенском селе и Потешном дворе. От царя Алексея Михайловича до императрицы Елизаветы, то есть до того времени, как начались театральные представления в кадетском корпусе, были частные театры в Киеве, в Москве, в Заиконоспасском монастыре, в новгородской семинарии и в Ростове в доме архиерейском; играли обыкновенно семинаристы. Все драматические сочинения того времени могли по содержанию своему называться духовными представлениями. Вот названия некоторых: «Грешник», «Есфирь и Агасфер», «Рождество Христово и Воскресение» — сочинены святым Димитрием Ростовским; «Олоферн и Иудифь», «Иосиф с братьями и Новуходоносор» — сочинены иеромонахом Семионом Полоцким; «Владимир» — сочинение Феофана Прокоповича. Феофан, игумен Батуринского монастыря, сочинил несколько комедий стихами; царевна София Алексеевна написала также трагедию «Екатерина Мученица», в которой лицо Екатерины представляла Татьяна Ивановна Арсеньева; сверх того разными лицами сочинены: «Святая мученица Евдокия», «Пиролюбец и Лазарь», «Второе пришествие господне» и многие другие. Наконец, в 1748 году основался в Ярославле первый постоянный театр, актеры которого в 1756 году по высочайшему повелению переведены в Санкт-Петербург. Дмитриевский, два брата Волковых, Шумский и Попов были лучшими актерами этой труппы. Вскоре после этого благодаря Фонвизину и Княжнину русские увидели на своем национальном театре прекрасные комедии, разыгранные хорошими актерами.
Большая часть наших русских духовных представлений, или мистерий, писана прозою, а некоторые — весьма плохими силлабическими стихами с рифмами; в том числе комедии: «Притча о блудном сыне», в которой секут этого расточителя нещадно плетьми, и «Комедия о Новуходоносоре Царе, о теле Злате и трех Отроцех, в пещи сожженных».
Вот образец тогдашних драматических стихов. Царь Навуходоносор, замыслив выставить перед народом собственное свое изображение, вылитое из золота, с тем, чтоб ему поклонялись, как богу, говорит:
Тем же умыслих образ сотворити Лица нашего и всем представити На поле Дейре, да все почитают Образ наш, и нас богом нарицают. Слыши, Казначей. Се велим мы тебе: Даждь чиста злата, елико есть требе, Абие вели наш образ творити, На высоце столбе поставити.
Вы видите, что наши древние поэты вовсе не щеголяли ни богатством рифм, ни гладкостию стихов, ни даже правильностию ударений, которые в их стихах всегда подчиняются необходимому созвучию рифм.
Другая комедия, названная также «Новуходоносором», но в которой изображена в действии история Олоферна и Иудифи, писана прозою. Эта комедия едва ли не более бесконечной трагедии Шиллера «Дон Карлос». Действие начинается в Вавилоне и потом переходит в Иудею, где беспрестанно переносится из Иерусалима в ассирийский лагерь и обратно. Интрига этой мистерии до того перепутана, что нет никакой возможности следовать за действием и даже часто нельзя понять, где оно происходит. Пустословие и многоглаголание действующих лиц не имеют никаких границ, и все они говорят языком надутым, высокопарным и чрезвычайно тяжелым. Самые нелепые анахронизмы встречаются на каждой странице. Древние ассирияне и евреи говорят о рублях, алтынах и ефимках; о блинах и калачах; рассуждают о кислой капусте и немецких колбасах; упоминают о рейтарах, огнестрельном оружии, барабанщиках, войсковых маршалах и называют Олоферна гетманом. В этой мистерии есть комическое лицо, довольно замечательное по некоторому сходству с знаменитым Фальстафом Шекспира. Это какой-то ассирийский воин по имени Сусаким: он большой балагур и точно такой же обжора, хвастунишка и трус, как Фальстаф; точно так же, как он, попавшись в беду; старается отделаться шуточками, по большей части весьма пошлыми, но иногда довольно замысловатыми. Иудеи делают вылазку и захватывают его в плен. Вот Сусаким начинает их уверять, что он человек не военный и во всю жизнь свою не убил ни одного жида; а когда его спрашивают, зачем же при нем ружье и сабля, то он отвечает, что из ружья бьет свиней, а саблею крошит начинку для колбас. Иудейские воины, заметив из его речей, что он шут, начинают над ним забавляться и объявляют, что им приказано сначала его повесить, потом допросить, а после отрубить голову. «Как отрубить голову? — кричит Сусаким. — Помилуйте, да разве это можно?… Да на чем же я стану шапку носить?» Вместо ответа ему приказывают стать на колени, чтоб, в силу данного указа, отрубить ему голову, то есть укоротить его на целую четверть. Сусаким бросается на колени и говорит, что указ исполнен и что он теперь стал не только одною, но двумя четвертями короче. Но так как воины не принимают этой отговорки, то он просит дозволения проститься с белым светом. Ему позволяют. И вот он начинает прощаться со всеми родственниками, а в особенности со старшей сестрой своей, которая, по его словам, торгует в Ненивии трескою, веревками и сапожными колодками. «Прощайте, мои благородные братья, — говорит он, — земские ярыжки, трубочисты и вы, о высокие чины, питающиеся мирским подаянием!» Потом прощается с жареными телятами, баранами, гусями, цыплятами, крупичатыми калачами, пшеничными блинами и всеми другими радостями земными, а в заключение приглашает ворон попировать над его трупом.
«Ну, — говорит один из воинов, — коли уж ты гостей зазвал, так время на стол накрывать!» Тут схватывают его, кладут на землю, вместо меча бьют по шее лисьим хвостом и уходят. Сусаким, оставшись один, не верит, что он жив, и, конечно, от испуга начинает врать такой вздор, что уж ни на что не походит. Он говорит, что душа его перешла в ногу, потом кинулась в горло и вылетела в правое ухо, что он не может никак ощупать своей головы и что ее решительно нет у него на плечах. Этот длинный монолог оканчивается точно так же, как известный монолог Мольерова Скупого. Гарпагон обращается к зрителям и спрашивает, не украл ли кто-нибудь из них шкатулку с деньгами? Сусаким также относится к публике и спрашивает; не вздумал ли кто-нибудь ради шутки спрятать его голову? Этим шутовством оканчивается шестой акт комедии «Новуходоносор». В ней всего семь действий, разделенных на явления, которые в оригинале называются сеньми.
Русский магазин
Мы все более или менее любим мечтать, все строим воздушные замки, но вряд ли вы найдете в этом отношении такого неутомимого архитектора, как я. Сколько в жизнь мою перестроил я этих замков! Чего не приходило мне в голову во время бессонницы! Как много сооружал я колоссальных зданий, перед которыми ничто и Альямбра, и Версальский дворец, и древние златые чертоги Нерона, и новейший Ватикан! Сколько создавал великолепных местоположений, какой придумывал климат, в какой земной рай превращал я всю Россию! В этих случаях я обыкновенно не скуплюсь и, чтоб украсить и обогатить мою родину, забираю все что ни есть лучшего во всей Европе. Из Швейцарии перетаскиваю горы, из Англии — феодальные замки с их живописными парками, из северной Франции — виноградники, из южной — оливковые леса, из Италии — безоблачное небо и развалины Древнего Рима, из Испании — померанцевые и апельсиновые рощи, а из Германии — Рейн, разумеется с его берегами. Иногда спускаюсь я пониже, и мечты мои становятся хотя также довольно несбыточными, однако ж все-таки по-человечески возможными. Я строю великолепные города по всей Волге, соединяю Каспийское море с Черным, восстановляю древнюю столицу России первопрестольный град Киев, сооружаю вновь Десятинную церковь, перекидываю через Днепр чугунные мосты, соединяю судоходные реки каналами, перекрещиваю всю Россию железными дорогами, провожу их от Петербурга до Одессы, от Нижнего Новгорода до Варшавы и, по милости этих быстрых сообщений, превращаю Южный берег Крыма в предместье Москвы. Все это прекрасно и даже возможно, были бы только деньги. Правда, их бы понадобилось так много, что для исполнения половины этих патриотических замыслов недостало бы всех сокровищ не только Великого Могола, который, говорят, в старину был очень богат, но даже и всех наличных денег Англии с прибавкою ее долгов, а это, кажется, не безделица! Случается также, что я, утомясь от этого пиитического бреда, перехожу к мечтам и желаниям самым умеренным и самым прозаическим. Вот, например, сколько раз, бывало, читая на раззолоченных вывесках: «Английский магазин», «Французский магазин», «Голландский магазин», я думаю: «Да почему же у нас в Москве нет русского магазина?…» Лет сорок тому назад на этот вопрос можно было бы отвечать также вопросом: «А что же вы будете продавать в этом магазине? Линючие выбойки, солдатское сукно, сало, кожу и паюсную икру?» Но теперь, когда развитие нашей мануфактурной промышленности становится с каждым годом блистательнее; когда наши публичные выставки начинают соперничать с выставками почти всех европейских государств; когда вы платите два рубля за фарфоровую чашку, за которую не так еще давно брали с вас рублей десять; когда хрустальный графин сделался для нас так же обыкновенен, как простая стеклянная бутылка; когда мы носим фраки из русского сукна, а наши барыни одеваются, конечно большая часть по неведению, в шелковые материи, вытканные русскими людьми на русских фабриках, — когда все это делается перед нашими глазами, так почему бы, кажется, не завести русский магазин или, если хотите, складочное место русских мануфактурных изделий? Таскаться по рядам, а особливо зимой, не все любят; да там же обыкновенно и запрашивают: надобно торговаться, а что и того хуже — чуть товар получше, так его тотчас вам назовут немецким или французским. Думая таким образом, я обыкновенно начинал мечтать и, разумеется, сыпал деньгами, потому что в этих случаях я всегда бываю миллионщиком. Я покупал большой дом на Кузнецком мосту, превращал его в огромный магазин, забирал у русских фабрикантов весь лучший их товар, делал заказы первым московским и петербургским ремесленникам, и вот из моего русского магазина выходит постоянная выставка отечественных изделий во всех возможных родах. В огромных его залах, так же как в Петербурге в английском магазине, всегда толпятся покупщики и покупщицы; а чтоб московским дамам не стыдно было покупать и употреблять для своего туалета изделия русских фабрикантов, то я постарался бы, чтоб все мои приказчики были люди ловкие и любезные и все непременно говорили по-французски, — на первый раз это необходимо: звуки милого языка невольным образом примирили бы наших барынь с неприятной мыслию, что они в русском магазине, покупают русские товары и что эти товары показывают им не французские commis, а русские приказчики.
Я вовсе не думал, чтоб эта мечта, которая забавляла меня тому назад несколько лет, осуществилась в нынешнем году — не скажу вполне, однако ж для первой попытки весьма удовлетворительным образом. Под руководством председателя московского отделения мануфактурного совета барона Мейендорфа составилось Общество русских фабрикантов, которые, наняв на Кузнецком мосту прежде бывший дом господина Волынского, а ныне княжны Долгорукой, открыли в нем магазин русских мануфактурных изделий. Изящная архитектура этого дома, его щеголеватая наружность, аристократическое положение посреди красивого двора, отделенного от улицы прекрасной чугунной решеткой, — все это с первого взгляда заставит вас подумать, что в этом доме живет богатый московский барин, и вы не ошибетесь: конечно, в сравнении с другими магазинами этот первый русский магазин может по своему удобству, красоте и роскоши назваться барином. Разумеется, его прежние заморские дядьки и нянюшки станут долго кричать: «Помилуйте, что это: называть безграмотного ребенка барином! Да у нас последний мальчишка умнее его. Ходил бы себе да ходил на наших помочах, а то туда же, в люди нарахтится!.. Эка важность, что он живет в великолепных палатах! Да разве от этого в нем ума прибудет?…» Легко быть может, что найдутся и домашние, которые, по старой привычке, будут говорить то же самое… Так что ж?… Пускай себе кричат, пусть называют его безграмотным ребенком; а он под шумок растет себе да растет!.. Кто и говорит, теперь этот барин еще молод, малоизвестен, не оперился, но подождите немного, дайте ему возмужать, познакомиться с добрыми людьми и доказать им на самом деле, что он уже вовсе не дитя, и тогда вы увидите, каким он сделается вельможею.
Если вы приедете зимой в этот магазин, то можете в теплых сенях отдать вашу шубу не швейцару, а заслуженному унтер-офицеру, у которого грудь закрыта не шутовской перевязью, а целым рядом почетных медалей. По мраморной красивой лестнице, уставленной цветами, которые также продаются, вы взойдете в верхние сени, с большим вкусом украшенные зеркалами и колоннами под белый мрамор. Из этих сеней вы входите в небольшую проходную комнату; в ней продаются косметические товары братьев Шевелкиных, стальные вещи Завьялова и табакерки, подносы, ящики и разные другие изделия фабрики господина Лукутина. Об этой последней фабрике я уже говорил в первом выходе «Москвы и москвичей» и могу прибавить только одно, что господин Лукутин продолжает с прежним постоянством улучшать произведения своей фабрики и что вообще его бумажно-лаковые вещи становятся с каждым годом отчетистее, красивее и прочнее. Придуманные им лепные барельефы на табакерках и бумажные шарниеры истинно могут назваться образцовыми. Стальные изделия Завьялова, которые, если не ошибаюсь, продаются в одном только русском магазине, заслуживают также особенного внимания. Попробуйте, хотя из любопытства, купить любой перочинный ножик его работы, и вы уверитесь на самом опыте, что этот ножик ни по наружной отделке, ни по внутреннему своему достоинству не уступит ни немецкому, ни французскому, ни даже… страшно вымолвить!.. Ну, да и то сказать: «Волка бояться — в лес не ходить». Если уж я, отъявленный патриот, из уважения к нашим европейцам не осмелюсь вымолвить правды, так кто же решится ее сказать? Да, стальные изделия Завьялова не уступают ни в чем того же рода изделиям иностранным, не исключая даже английских, и продаются несравненно их дешевле. Впрочем, несмотря на мой патриотизм, я должен признаться, что до сих пор это можно сказать об одних только стальных вещах Завьялова; в особенности же ружья делаются несравненно лучше, прочнее и добросовестнее прежнего.
Во второй комнате продается писчая бумага фабрики господина Усачева. Тут найдете вы всевозможные сорта бумаги, от самой дешевой до самой дорогой. Если вы заметите, что бумага английская, голландская и французская, разумеется самого высшего достоинства, превосходнее той, которую здесь вам покажут, то я попрошу вас вспомнить только о том, в каком положении была у нас эта мануфактурная промышленность лет пятнадцать тому назад, и вы тогда поневоле удивитесь ее быстрым успехам. Я уверен даже, что вы не станете спорить со мною, когда я скажу, что мы хотя и отстали в этом случае от англичан, голландцев и французов, однако ж гонимся за ними и, конечно, рано или поздно, а непременно догоним.
Вся третья комната занята хлопчатобумажными изделиями фабрик господ Прохоровых, Титова, Битепажа, Матвеева и некоторых других. Не говоря уже о коленкоре, ситцах, холстинке, кашемире и полубархате, которые, конечно, ни в чем не уступают иностранным, вы найдете тут. и самые модные товары, например креп-шине, креп-рошель, и, может быть, узнаете в них ваших прежних знакомых, которые не так еще давно прикидывались французами.
То же самое можно сказать и о шелковых изделиях, которые продаются в четвертой комнате. Особенно замечательны великолепные парчи фабрики господ Сапожниковых. По сознанию самих иностранцев, московские парчи, бесспорно, самые лучшие в Европе, и если нужно подтвердить это каким-нибудь фактом, то я могу удостоверить моих читателей, что известный пэр Англии, маркиз Лондондери, которого я имел удовольствие знать лично, уезжая из Москвы в свое отечество, купил на десять тысяч рублей парчи в здешних городских рядах. Отдавая полную справедливость шелковым дамским материалам фабрики господ Сапожниковых, нельзя, однако ж, не пожалеть, что в русском магазине вы не найдете шелковых материй господина Кондрашова, которые доведены у него до такого совершенства, что почти везде продаются за французские. В этой же самой комнате вы можете покупать русские сукна фабрик господ Невиля, Новикова, Тугариновых, Четверикова и разных других. Это мануфактурное изделие, которое стоит наряду с первыми и необходимыми потребностями каждого европейского государства, идет быстрыми шагами к совершенству. Давно ли никто из нас не смел даже и мечтать, что русское сукно, в которое мы с грехом пополам одевали наших кучеров, заменит нам большую часть иностранных сукон? Сначала попытки наших суконних фабрикантов не имели большого успеха; русские сукна были вообще грубы, ворсисты, непрочны и весьма скоро белели по швам. Эти неудачные опыты имели весьма неприятные последствия. Мы забыли русскую пословицу: «Первую песенку зардевшись спеть» — и решили почти единогласно, что у нас не может быть хороших сукон. К счастию, этот слишком поспешный приговор не расхолодил наших фабрикантов: они продолжали с необыкновенным постоянством улучшать свои изделия; выписывали из-за границы мастеров, выучились красить шерсть, не жалели ни трудов, ни денег, и вот наконец мы носим наше собственное сукно и можем без стыда называть его нашим. Конечно, есть люди, которые и теперь еще уверены, что русское сукно хотя по наружности и довольно красиво, однако ж непрочно и чрезвычайно скоро белеет по швам. Я могу уверить этих господ, что они ошибаются; хорошее русское сукно ни в чем не уступает равноценному с ним сукну иностранному. Я знаю это по опыту, потому что ношу всегда русское сукно, не очень часто дарю себя обновками, а, несмотря на это, никогда не хожу в платьях, у которых швы побелели. Впрочем, из этого не должно заключить, что наши фабриканты достигли вполне своей цели, — нет, русские сукна (я говорю о самых лучших) требуют еще больших улучшений. Я желал бы, — и почему не желать этого? — чтоб наше сукно первого сорта ни в чем не уступало французскому сукну Лувье и английскому «регенту».
В пятой комнате продаются шерстяные и полушерстяные изделия, шали, платки, полутерно, мебельная материя и шерстяная кисея (mousseline de laine) фабрики братьев Гучковых; жилетные материи и платки фабрики господина Локтева; шерстяные и полушерстяные материи фабрики Рошефора. Все эти изделия более или менее могут заменить нам привозные товары того же рода, а особенно шерстяные кисеи братьев Гучковых и жилетные материи господина Локтева; эти изделия решительно ничем не хуже иностранных. В той же комнате помещаются серебряные и золотые вещи фабрики господина Губкина, который может назваться единственным соперником господина Сазикова, приобретшего такую большую известность своими серебряными изделиями.
Вся шестая комната занята зеркалами завода господина Мелешкина. Тут нет колоссальных зеркал, которые отливаются на петербургской казенной фабрике, но вообще все зеркала очень чисты, правильны и продаются за весьма умеренную цену.
В седьмой комнате вы можете покупать прекрасные ковры фабрики господина Епанечникова; льняные и пеньковые изделия, накладное серебро и лакированные вещи фабрик господ Козмина, Эмме и Кондратьева. Средину комнаты занимает огромная горка с фарфоровыми и фаянсовыми вещами братьев Гарнер и хрусталем заводов господ Бахметьева и Мальцова. Превосходные хрустальные изделия сих заводов всем известны. Может быть, они несколько уступают в достоинстве богемским хрустальным изделиям, но не должно забывать, что богемские хрустальные заводы признаны первыми во всей Европе. С нас будет покамест и того, что мы в этой мануфактурной промышленности если не опередили, то уж, конечно, не отстали от англичан и французов; те, которые никак не хотят с этим согласиться, говорят, между прочим, что английский хрусталь тяжеле, как будто бы не чистота и совершенство отделки, а тягость составляют достоинство хорошего хрусталя. Будь английский хрусталь легче, тогда бы эти господа стали говорить: «Ну, конечно, русский хрусталь недурен, но он несравненно тяжеле английского». Фарфоровые и фаянсовые изделия братьев Гарнер, кроме существенной своей доброты и отчетистой отделки, отличаются особенно своей неимоверной дешевизною. Мне захотелось однажды купить себе чайную фарфоровую чашку, которая своей прекрасной формою и простым, но чрезвычайно милым узором очень мне понравилась. Я спросил о цене; мне отвечали, что одну чашку купить нельзя, а должно взять, по крайней мере, полдюжины. Полагая, что чашка не может стоить менее полутора рублей серебром, я решился не покупать, а спросить из одного любопытства, что стоит полдюжины, — и представьте мое удивление, когда мне объявили, что я могу купить не одну, а шесть чашек, как вы думаете, за что? С небольшим за два рубля серебром!.. В числе фарфоровых и хрустальных изделий вы едва заметите несколько бронзовых вещей, которые служат доказательством, как мы отстали в этой мануфактурной промышленности от французов. Мне скажут, может быть, что в Петербурге делают прекрасные бронзовые вещи, — не спорю; но не угодно ли вам узнать, почем они продаются? А это весьма важное обстоятельство. Мне кажется, что нам тогда только позволительно думать, что мы не отстали от других, когда какое-нибудь русское художественное или ремесленное изделие совершенно одинакового достоинства с привозным продается у нас дешевле или, по крайней мере, не дороже того, как оно продается за границею.
Ну вот, любезные читатели, вы прошлись со мной по всему русскому магазину. Не правда ли, что мечта моя осуществилась на первый случай весьма удовлетворительным образом? Мне помнится, я хотел, между прочим, чтоб все приказчики моего русского магазина были люди ловкие, любезные и все без исключения говорили по-французски. Кажется, и это желание не вовсе осталось без исполнения. Управляющий конторою магазина господин Быковский, умный, просвещенный и любезный молодой человек, знает иностранные языки; все приказчики весьма вежливые молодые люди, ловкие, предупредительные; не знаю, говорят ли они по-французски, но могу вас уверить, что по-русски они изъясняются как люди образованные и вовсе не походят на прежних наших гостинодворцев, из которых иному и теперь еще можно сказать: «Конечно, любезный, ты носишь фрак, повязался галстуком и бороду себе выбрил, а все бы не мешало тебе умыться».
Карты
Изобретение карт приписывали попеременно итальянцам, немцам и французам. У последних они появились при короле Карле VI, то есть в конце XIV столетия. Сначала вместо нынешних фигур были на них следующие изображения: император, отшельник, шут, висельник, луна, астролог, солнце, правосудие, фортуна, воздержность, сила, смерть, страшный суд и дом божий. Впоследствии карты совершенно изменились: их разделили на масти. Трефы представляли рукоятки мечей, бубны — четвероугольное лезвие стрелы, пики — наконечник копья, а черви — наконечник стрелы, которая пускалась из самопала. Фигуры были те же самые, что и теперь: четыре короля, четыре дамы и четыре валета. Короли изображали: французского короля Карла VII, царя Давида, Александра Македонского и Юлия Кесаря; дамы: Иудифь, Палладу, Рахиль и Аржину — псевдоним Марии Анжуйской. Валеты представляли дворянство и назывались: один Гектором, другой Ожие, третий — Лагир. Трефовый валет был без имени.
Сколько было говорено и писано и прозой и стихами против этой общей и повсеместной забавы или, если хотите, занятия, а подчас и ремесла, которое мы называем карточной игрой, но ничто не могло поколебать владычества карт, которые продолжают спокойно царствовать везде, начиная от самой запачканной и скверной лакейской до самой великолепной и роскошной гостиной. Не знаю, найдется ли во всей Европе город, в котором выходило бы так много карт, как у нас в Москве. Карты! Да без них ступить нельзя; они так же необходимы для жизни нашего общества, как воздух необходим для жизни человека. Во всех клубах играют, на всех вечерах играют, на всех балах играют и даже почти на всех обедах играют в карты, то есть начинают свои партии до обеда и оканчивают их после. Конечно, бывают изредка вечера, на которых стараются заменить карты разговором, чтением, ученой беседой, но на этих вечерах обыкновенно бывает не очень тесно и гости редко сидят до полуночи.
У меня есть два приятеля: Степан Степанович Ладогин и Андрей Иванович Привольский; оба они люди умные, честные, добрые, живут очень дружно; их характеры и образ мыслей имеют меж собой много общего, а, несмотря на это, они беспрестанно спорят друг с другом, и почти всегда предметом этих споров бывают карты. Андрей Иванович их ненавидит, Степан Степанович не может без них жить. Вот один из этих диспутов, который происходил у меня вчера вечером. Я предоставляю моим читателям решить, чья сторона с большим искусством защищала свое мнение.
Степан Степанович(смотря на часы). Ого! Скоро семь.
Я. Что это вы посматриваете на часы?
Степан Степанович. Да пора ехать.
Андрей Иванович. Эх, полно, Степан Степанович! Куда? Что это тебе нигде не посидится?
Степан Степанович. Нельзя, надобно к Ухабину.
Андрей Иванович. А что, у него большой вечер?
Степан Степанович. Нет, звал на преферанс.
Андрей Иванович. Ну так — на преферанс!.. Вот, истинно, понять не могу!.. Человек, кажется, умный, просвещенный… Да скажи мне, пожалуйста: неужели ты не можешь прожить дня без карт?…
Степан Степанович. Как не прожить!.. Да зачем?… Я люблю играть, и если есть партия…
Андрей Иванович. Непостижимое дело!.. Ну, пускай бы уж ты играл в большую игру — это еще понятно: есть много людей, которые любят сильные ощущения. Разумеется, для этих людей тихие и спокойные наслаждения не имеют никакой прелести, им нужно совсем не то; они любят замирание сердца, томительные ожидания, резкие переходы от счастия к несчастию. Проигрывая и выигрывая десятки тысяч, они пользуются вполне этими тревожными наслаждениями, но ведь ты, кажется, никогда не играешь больше четверти в преферанс?
Степан Степанович. Нет, иногда пускаюсь и по гривенке серебром.
Андрей Иванович. То есть можешь проиграть и выиграть рублей пятьдесят ассигнациями?
Степан Степанович. Случается.
Андрей Иванович. Вероятно, это не слишком волнует твою кровь?
Степан Степанович. Нимало.
Андрей Иванович. Так какое же ты находишь удовольствие сидеть каждый день по нескольку часов сряду за картами?
Степан Степанович. А что бы я стал делать по вечерам?… Читать при свечах я не могу, писать и подавно, а нашим осенним и зимним вечерам конца нет.
Андрей Иванович. Да разве ученая беседа и умные разговоры не могут тебе заменить карты?
Степан Степанович. Эх, мой друг! Да ведь ум так же устает, как и тело, и ему надобно отдохнуть. Когда мы разговариваем о чем-нибудь серьезном, тогда умственные наши способности бывают в напряженном положении, а за картами они отдыхают. Я обыкновенно поутру занимаюсь делом, а вечером, признаюсь, люблю поиграть в преферанс.
Андрей Иванович (передразнивая). «Люблю поиграть в преферанс!» Ну, как же после этого не сказать, что карты — язва общества?… Вот человек образованный, умный, любезный…
Степан Степанович. Покорнейше благодарю!
Андрей Иванович. Не за что! Я говорю только о том, как создал тебя бог, а теперь послушай, что ты сам-то из себя делаешь: ты приезжаешь куда-нибудь провести вечер, встречаешься с людьми образованными, с любезными женщинами; ты мог бы поговорить с ними о науках, художествах, литературе — о том, о другом… Взаимная передача мыслей и понятий — вот истинное наслаждение людей просвещенных, а ты, человек просвещенный, что ты делаешь?… Тебе дают карточку, ты садишься за свой преферанс и ну козырять до самого ужина!.. Из существа разумного и мыслящего ты превращаешься в карточную машину или, по крайней мере, в безграмотного игрока, которому, впрочем, и не нужно знать грамоту: знал бы он, как провести масть, заручить того, кто играет, да снести, кстати, туза, чтоб спасти своего товарища, так он человек преученый; правда, в этой премудрости не уступит ему, может быть, собственный его слуга, да ведь тот играет в засаленные карты, а барин его в атласные. Того иногда за это поколотят, — разумеется, если он играет в деньги, — а барина бить некому. Конечно, другой разницы я между ними не вижу, и им стоит только поменяться платьями да перейти — одному из гостиной в лакейскую, а другому из лакейской в гостиную, так уж, верно, не узнаешь, кто из них барин, кто слуга.
Степан Степанович. Хорошо, Андрей Иванович, хорошо, — я не буду играть в карты; что ж я стану делать?… Разговаривать?… О чем?… Ты знаешь, из чего состоят наши разговоры: насмешки, злословие, пересуды. Ну, известное дело, говоря в обществе, а особенно с дамами, хочешь пощеголять своим умом, потешиться, посмеяться, поострить, разумеется не на свой счет, а на счет ближнего. Чтоб сорвать улыбку с каких-нибудь розовых губок, ты решишься отпустить эпиграмму насчет человека, достойного уважения, в котором есть что-нибудь смешное; ты не остановишься даже принести в жертву своему мелкому и ничтожному самолюбию доброе имя женщины. Разумеется, начнешь тем, что скажешь: «Представьте себе, что я слышал! Это вздор — я этому не верю…» И примешься рассказывать об этой женщине какой-нибудь забавный анекдот, то есть милую, затейливую клевету, от которой все помрут со смеху. Ну, конечно, весело! Все тебе улыбаются, слушают тебя с удовольствием; ты любезен, остер, ты душа общества. «Comme vous etes mechant!» — говорят тебе милые и прекрасные женщины, а тебе это как маслом по сердцу!.. Надобно же поддержать эту репутацию! И вот ты, по природе добрый человек, становишься злоязычником; ты радуешься, когда тебя называют в глаза злым; глядя на твое завидное торжество, и другие начнут добиваться этого почетного названия, и ты как воротишься домой, останешься один с самим собой да оглянешься назад, так горе и возьмет!.. Кажется, весь вечер пробеседовал с людьми хорошими и сам человек не вовсе дурной, а греха-то, греха… не оберешься!.. Нет, Андрей Иванович, воля твоя, а я уж лучше буду играть по четверти в преферанс!
Андрей Иванович. Да разве нет других разговоров? Вот, например, ты любишь словесность…
Степан Степанович. Люблю, мой друг, да только не всякую: та, которая теперь в ходу, мне вовсе не по душе. Эта западная литература, которая в осьмнадцатом веке с таким ожесточением воевала против всего, что должно быть священным для человека, опять пожаловала к нам в гости, только в другом наряде. Тогда она была щеголихою, надушена, распудрена, в фижмах, а теперь просто в посконной блузе, с красными от перепоя глазами, с косматой головой и козлиной бородкою; тогда она шутила, насмехалась, отпускала остроты, а теперь беснуется, валяется в грязи да тащит туда же своих читателей или с важным и глубокомысленным видом порет такую богохульную дичь, что уши вянут…
Андрей Иванович. Вот уж это неправда, Степан Степанович! Когда ты услышишь в наших ученых и литературных беседах что-нибудь противное религии или нравственности?
Степан Степанович. Так, мой друг, так!.. Да ведь есть два способа выражать свои мысли: один из них и проще и яснее, зато другой гораздо безопаснее, а меж тем точно так же доведет тебя до твоей цели. Не пускают по столбовой дороге, так ты доедешь проселком. Ты не станешь сам проповедовать безнравственность, а будешь говорить с восторгом о тех, которые ее проповедуют; не будешь восставать против религии, но станешь насмехаться над теми, которые ее уважают. Оно кажется и не то, а выходит то же самое.
Андрей Иванович. Как то же самое?
Степан Степанович. Разумеется. Вот если б, например, я принялся хвалить философию осьмнадцатого столетия и, не говоря ни слова о цели этой философии, которая изложена весьма подробно в книгах, стал бы только называть Вольтера, Гельвеция, Дидеро, Даламберта светильниками мира и благодетелями человечества, так разве это будет не все то же, что проповедовать вместе с ними неверие?
Андрей Иванович. И, Степан Степанович! Кто нынче говорит о Вольтере, Даламберте, Дидеро?…
Степан Степанович. Да, это правда, у нас теперь найдутся почище их; посмотри только, что проповедуют с кафедр и печатают в этой некогда благочестивой Германии.
Андрей Иванович. Да это, Степан Степанович, философия, а я тебе говорю о литературе.
Степан Степанович. И, вероятно, французской?… Хороша, мой друг, и она!
Андрей Иванович. Да уж как хочешь, а получше прежней!.. Не то время, мой друг! Теперь я не советую потчевать нас розовою водицею.
Степан Степанович. Конечно, конечно!.. Зачем нам светлый ручеек — это приторно! Подавай нам помойную яму. Вот, например, «Таинства Парижа»…
Андрей Иванович. А что, чай, скажешь — дурная книга? Нет, любезный, — это гениальное произведение. Какая глубина!.. Сколько истины! А какие эффекты!.. Вздохнуть некогда!
Степан Степанович. Подлинно, вздохнуть некогда!.. Не успеешь полюбоваться одним кабаком, а тебя ведут в другой; то посидишь в остроге, то попируешь в грязной харчевне с каторжниками, то побеседуешь с распутными женщинами; что глава, то новый эффект! Жаль только, что все эти эффекты отзываются торговой площадью, на которой у нас секут кнутом, а у французов рубят головы. Почти в каждой главе или идут кого-нибудь резать, или зарезали. А какое разнообразие мучений и смертей!.. Одну топят в реке посредством клапана, приделанного к лодке, ей же хотят стравить все лицо купоросным маслом; другой ломают все кости и разбивают голову о каменную стену; третьего душат; четвертый захлебывается в погребе, в котором вода потихоньку прибывает; пятого травят крысами; шестого… и заметьте, родная мать закладывает в комнате, где он должен задохнуться от недостатка воздуха; седьмой умирает такой позорной и отвратительной смертию, что нельзя без тошноты об этом и подумать; восьмой… Да где перечесть все эти пиитические вымыслы, от которых любой палач станет в тупик!..
Андрей Иванович. Да это что, Степан Степанович, — мелочи! Ты мне скажи, каковы характеры?…
Степан Степанович. Ну, характеры действующих лиц далеко не так разнообразны; большую часть из них можно разделить на два только рода: злодеи возможные и злодеи невозможные, но этот недостаток с избытком выкупается разнообразием имен, которые поражают своей новостию. Красная рука; Скелет; Горлопанка — иначе перевести нельзя: la goualeuse — производное речение от слова «gueule»: Тыква; Волчица. Прелесть!.. Ну, вот так и пышет на вас смирительным домом!.. Главное действующее лицо романа — какой-то владетельный немецкий принц, который для какой-то высокой цели, вероятно известной одним избранным читателям этого романа, таскается по кабакам, дерется и бражничает с заклейменными разбойниками; одних жалует, других наказывает; одному каторжному, который хотя человек очень честный, но любит проливать кровь, дарит бойню; другому, который уж вовсе никуда не годится, выкалывает глаза и дает пенсион, что, впрочем, не мешает ему продолжать разбойничать. Второе лицо, на котором основывается весь интерес повести, молоденькая девочка — истинно странное и необычайное создание… Эта девочка… приученная с ребячества к распутству, не принадлежит даже к числу развратных женщин, которые служат забавою для пьяных фабричных. Нет, она еще ниже! Она живет с каторжными, гуляет с ними по кабакам, пьет водку; они ее и ласкают и бьют, говорят с нею своим условным мошенническим языком, — одним словом, нет уже ничего в человечестве презрительнее и гнуснее класса женщин, к которому принадлежит эта несчастная… И что ж, вы думаете, что такое эта девочка? Наружностию она совершенство, прелесть, идеал красоты! Душою — ангел чистоты и непорочности!.. Нет, батюшка Андрей Иванович, тут уж поневоле вспомнишь стишок Грибоедова: «…ври, да знай же меру…»
Андрей Иванович. Да ты что хочешь говори, а недаром же эта книга заслужила такой колоссальный успех. Поверь мне, если б сочинитель не имел высокой нравственной цели, если б он не раскрывал нам всю глубину порока и разврата, до которых может достигнуть человек с необузданными страстями…
Степан Степанович(улыбаясь). И которые может только обуздать не провидение, не вера, — об этом и речи нет, — а какой-то немецкий принц Родольф, человек, впрочем, весьма замечательный как отличный полицейский сыщик и первой силы кулачный боец…
Андрей Иванович. Шути себе, шути! А все-таки эта книга нравственная…
Степан Степанович. Да, точно так же, как записки знаменитого парижского мошенника Видока или «Жизнь московского сыщика, известного плута Ваньки Каина». Конечно, этого рода сочинения только что гадки, а вот, например, на этих днях мне случилось быть в обществе литераторов, и один из них, говоря об известной сочинительнице соблазнительных романов, госпоже Жорж Занд, не постыдился назвать ее великой женою и честью нашего века.
Андрей Иванович. Так что ж?… Разве Жорж Занд явление обыкновенное? Разве талант ее не велик и не самобытен?… Неужели ты будешь спорить против этого?
Степан Степанович. Нет, не буду. Эта женщина действительно одарена большим и, к несчастию, необычайно увлекательным талантом. Но уж, конечно, она не великая жена и не честь нашего века. Великая жена!.. Эта проповедница разврата, которая, прославив себя беспутным поведением, старается во всех сочинениях своих доказать, что законное супружество — постановление безнравственное и унижающее достоинство женщины!
Андрей Иванович. Да где она это говорит?
Степан Степанович. Везде, где только может. Это господствующая мысль во всех ее сочинениях. В одном месте она говорит даже просто: «Cette infame institution de mariage». Кажется, это ясно.
Андрей Иванович. Да, это уж слишком резко!.. Ну, конечно, и я не стану спорить с тобою: сочинитель «Парижских таинств» немножко грязненек, а Жорж Занд не слишком нравственная писательница, но зато какие таланты!.. Как они оба владеют пером! Сколько красот рассыпано в их сочинениях!..
Степан Степанович. Как владеют пером!.. Вот то-то наша и беда! Мы станем восхищаться всякой мерзостью, лишь только бы эта мерзость была облечена в изящную форму…
Я. Однако ж позвольте вам, господа, заметить: вы, кажется, стали говорить о картах?…
Степан Степанович. А вот сейчас к ним вернемся. Я хотел только доказать, что в обыкновенной общественной болтовне мало доброго, а разговаривая о словесности, услышишь такие вещи, что у тебя вся желчь придет в движение, начнешь спорить, разгорячишься, выйдешь из себя…
Андрей Иванович. Зачем горячиться?
Степан Степанович. Зачем?… Не могу же я слышать равнодушно, когда хвалят с восторгом яд потому только, что этот яд подслащен…
Андрей Иванович. Эх, мой друг, да мы должны отделять искусство исполнения от самой цели!
Степан Степанович. Вот уж этого я никак не умею. По-моему, как бы ни было вкусно отравленное питье, а все-таки оно яд. Как ни усыпай цветами грязь, а все-таки эта грязь останется грязью.
Андрей Иванович. Ну, в этом с тобою не все будут согласны.
Степан Степанович. Оттого-то, мой друг, я и не люблю литературных и ученых бесед. Зачем без всякой пользы расстраивать себя, надсаживать свою грудь?… То ли дело в преферанс, разумеется по маленькой: твой проигрыш для тебя нечувствителен, выигрыш никого не разоряет. Шутишь, забавляешься; заставишь поставить ремиз — смеешься; тебя обремизят — также смеешься. Ничтр не тревожит твоей желчи, кровь не волнуется, а время идет да идет!..
Андрей Иванович. Да, конечно, время проходит, и с большою пользою.
Степан Степанович. По крайней мере, без большого зла, мой друг, а в нашем грешном быту и то слава богу.
Андрей Иванович. Да ты себе что хочешь говори, а я все-таки стою в том, что эти карты — чума и язва нашего общества… Да, да!.. Я ненавижу их! И если б только мог, то собрал бы карты со всего света, сложил бы из них огромный костер и зажег бы его собственной моей рукою!
(Степан Степанович смеется.)
Я. Ну, Степан Степанович, что бы вы тогда сделали?
Степан Степанович (продолжая смеяться). Что бы сделал?… Я бросился бы на этот костер, сложенный из карт, и сгорел бы вместе с ними!
Выход третий
I Несколько слов о наших провинциалах
Ну, что за общество!
То харя, то урод! Здесь вся кунсткамера
……
Какая вежливость, какие обращенья!
Все эти чучелы похожи ль на людей?
Без вкусу, без ума, совсем без просвещенья.
Князь ШаховскойДавно уже я не беседовал с вами, любезные читатели, не потому, чтоб я боялся надоесть вам моею болтовнёю, мне это и в голову не приходило: ведь дети и старики (что, по мнению некоторых, одно и то же) никогда об этом не заботятся, — им бы только болтать. Вы также ошибетесь, если подумаете, что я так долго молчал потому, что мне нечего было вам рассказывать, — помилуйте!.. Уж я вам докладывал, что Москва не город, не столица, а целый русский мир; что в ней собраны вместе все образчики главных начал, составляющих то огромное тело, которому Петербург служит главою, а Москва — сердцем. Так неужели я мог в двух небольших книжках высказать вам все то, что можно сказать о нашей матушке Москве православной?… О, нет!.. Была бы только охота, а поговорить есть о чем; и я, верно бы, продолжал забавлять или усыплять вас моими рассказами, если б не был занят другим. Вот уж около года мой домик на Пресненских прудах стоит, как сиротинка, с запертыми воротами и затворенными ставнями; мой широкий двор зарос крапивою; мои акации, бузина и сирени заглохли травою; моя дерновая скамья, с которой я так часто любовался изгибистым бегом Москвы-реки, развалилась и стала похожа на небрежно засыпанную могилу. После этого вам нетрудно будет отгадать, что меня не было в Москве. Я ездил по домашним делам верст за тысячу; прожил долго в Калужской губернии, потрудился, поработал, нагулялся досыта по этим некогда дремучим Брынским лесам; погостил несколько дней в селе Толстошеине, в котором, говорят, жил в старину какой-то боярин в великолепных хоромах с вышками и теремами. Теперь на месте этих хором выстроен обширный железный завод. Видно, везде промышленность и общеполезные заведения вытесняют понемногу русских бояр из их наследственных дедовских палат. Вот, посмотришь, у нас в Москве: в этом старинном боярском доме — фабрика, в том — училище, в одном — больница, в другом — трактир; да так и быть должно. У нас не было ни майоратов, ни наследственной аристократии, так диво ли, что дедушка давал роскошные пиры и жил в огромных палатах, а внук сзывает гостей на чашку чаю и живет скромнехонько в деревянном домике. Оно, дескать, и приютнее, и комфортабельнее, и опрятнее, да и печей-то поменьше надобно топить.
Вы уж знаете, любезные читатели, что я, как истинный москвич, немножечко ленив, тяжел на подъем и без крайней надобности ни за что бы не решился уехать надолго из Москвы. Обыкновенно все мои поездки ограничивались посещением некоторых подмосковных, редкими прогулками в Новый Иерусалим и довольно частыми путешествиями в Троицкую лавру, — то есть в течение тридцати лет я ни одного разу не был за границею Московской губернии. Разные домашние обстоятельства, о которых рассказывать я полагаю излишним, вынудили меня расстаться на целый год с моим уютным домиком, со старинными друзьями, со всеми удобствами столичной жизни и ехать добро бы еще, за границу, а то, страшно вымолвить, — в самую глубь России!.. Не подумайте, любезные читатели, что это ирония или шутка, — нет. Я струсил не шутя, отправляясь в дорогу; и правду сказать, было от чего призадуматься!.. Тому, кто живет постоянно в столице, трудно следить за изменением нравов и обычаев наших провинциальных жителей; бывая по своим делам в Москве, они не всегда появляются в обществе, а сверх того человек заезжий обыкновенно старается приноровиться к обычаям и принятым условиям города или общества, в которое он попал случайным образом. Чтобы изучить нравы, узнать обычаи и получить понятие о степени просвещения не только целого общества, но одного человека, надобно застать его, так сказать, врасплох, подсмотреть его домашний быт, пожить с ним вместе. В противном случае понятия ваши об этом человеке будут всегда поверхностны и неверны. Строго придерживаясь этого правила, я не дозволял себе никакого собственного суждения о наших провинциалах, но зато слепо верил, что они с необычайной точностию и глубоким познанием дела описаны, изображены и выведены на сцену в некоторых современных повестях, романах и комедиях. «Не может быть, — думал я, — чтоб эти господа сочинители писали наобум…» А жаль, истинно жаль!.. Ну, не грустно ли подумать, что все наши провинции заселены помещиками, которые вполне оправдывают обидное название северных варваров — название, данное нам французами, вероятно, потому, что мы за пожар Москвы не отомстили разорением Парижа. Волосы становятся дыбом, когда видишь в какой-нибудь комедии или читаешь в каком-нибудь романе, что за народ эти русские провинциалы!.. Все, от первого до последнего, такие уроды, что не дай, господи, не только с ними жить, да и на улице-то повстречаться. И все как будто бы в одну форму вылиты; только и есть между ними разницы: один невежда-глупец, другой невежда-мошенник; тот пошлый дурак и, разумеется, невежда, а этот естественный плут — а все-таки невежда!.. Ну, истинно, не на ком душе отдохнуть!.. Иным это очень нравится — смешно!.. А я так, бывало, чуть не плачу… Ах, матушка наша святая Русь!.. Да что же это с тобою делается?… В столицах народ становится просвещеннее, — конечно, и мы идем нога за ногу, а все-таки подвигаемся вперед; так отчего же провинциалы-то наши все пятятся назад? Вот уже шестьдесят четыре года, как Фонвизин вывел на сцену русских провинциалов Скотинина, Простаковых, Митрофанушку, да зато рядом с ними поставил милую и любезную девицу, благородного и добросовестного чиновника, исполненного чести, умного старика и скромного, образованного молодого человека. А теперь заезжай в какой-нибудь губернский город — варварство, невежество!.. Ни одного человеческого чувства, ни одной благородной мысли — ну, хуже всякой Лапландии!.. А туда ж, ездят на лошадях и в каретах, словно европейцы какие!.. И с этими-то людьми я должен буду жить не месяц, не два, а, может быть, с лишком год! Говорят, что все невежды по какому-то врожденному инстинкту ненавидят человека просвещенного, и если он хочет жить с ними в ладу, то должен непременно придерживаться русской пословицы: «С волками жить — по-волчьи выть», то есть гулять вместе с ними да похваливать их домашнюю наливочку и полынковое винцо, есть медовое варенье, играть по пятаку в преферанс, соглашаться с ними, что просвещенье — чума, а книги — сущий яд; что тот помещик, который более думает о благосостоянии своих крестьян, чем о своих доходах, — пустой и даже опасный человек, потому, дескать, что он этим примером развращает и чужих крестьян; что всякая ученость и философия не стоят одной русской пословицы: «Сухая ложка рот дерет» — и что судья, который служил в теплом местечке и не умел порядком руки нагреть, — простофиля и дурак; что ум дан человеку не на то, чтоб тратить его на бесполезное ученье да на разные финты-фанты, немецкие куранты, а на то, чтоб домик нажить, дорого продать, дешево купить, с умным человеком держать ухо востро, глупого на бобах провести; одним словом, чтоб не быть в глазах провинциалов каким-нибудь выскочкой, гордецом и даже вольнодумцем, должно непременно скрывать свое презрение к этому варварскому образу мыслей, слушая какое-нибудь нелепое суждение, кивать в знак согласия головою, одобрительно улыбаться и, хотя изредка, проклинать вместе с ними это демонское наваждение, которое называют образованностию, просвещением и наукою. Теперь вы видите, любезные читатели, что мне было от чего сокрушаться сердцем и горевать, расставаясь на целый год с Москвою. «Боже мой, — думал я, — ну, если эта отвратительная картина общего невежества и нравственного разврата до того подействует на мою душу, что я стану меньше прежнего любить свое отечество?…» А ведь это дело возможное. Хотя, по милости некоторых писателей, я давно уже имел весьма выгодное понятие о наших провинциалах; но ведь большая разница — читать о чем-нибудь или видеть то же самое собственными глазами. Вы прочтете без особенного отвращения полный курс анатомии; но не угодно ли вам пожаловать туда, где эта наука преподается практически: посмотрите, как режут и вскрывают полусгнивший труп человека, в котором нет уже ничего человеческого; полюбуйтесь его растерзанными членами, подышите этим заразительным воздухом, и тогда вы поймете, что между описанием какого-нибудь предмета и самим предметом бывает иногда неизъяснимая разница.
Выехав с этими грустными мыслями из Москвы, я не слишком торопился доехать до первого губернского города, в котором мне надобно было пожить несколько времени. Вот наконец я приехал — и представьте себе мое удивление!.. Гляжу, прислушиваюсь — люди как люди. Есть помещики дурные, да много также и добрых. Есть невежды, но только большая часть из них вовсе не щеголяют своим невежеством, напротив, они прикидываются людьми начитанными, выписывают журналы, толкуют о политике и врут точно так же, как невежды московские, петербургские, французские и даже немецкие. Впрочем, я встречал нередко и мужчин, и замужних женщин, и девиц, которые любили побеседовать со мною о словесности, науках, об изящных искусствах и, что всего лучше, имели полное право рассуждать об этих предметах. Мне попадались и добросовестные судьи, и честные, благородные чиновники, которых, однако ж, никто не называл глупцами, потому, дескать, что умный человек не может быть не плутом. Конечно, и мне также случалось иметь дело с дураками, не слишком честными людьми, не очень грамотными дворянами, да где же вы с ними не встретитесь?… Это неизбежная участь всего человечества, это смешение благородства и подлости, добра и зла, света и тьмы везде одинаково, разумеется с некоторыми изменениями; в одном народе невежество, подлость и плутовство прикрыты какими-то формами, какою-то блестящей позолотой, в другом они являются без всякого покрова; и только там, где истинное, то есть основанное на религиозных началах, просвещение достигло высокой степени, эта темная сторона нравственной жизни общества становится немного посветлее, но и там не ищите безусловного добра — и там также хотя не так часто, а все-таки будут встречаться с вами и глупцы, и невежды, и негодяи: от них вы никуда не уйдете. Я должен, однако ж, вам сказать, что в Москве очень редко со мною встречались такие совершенно уже закоренелые невежды, какие попадались мне довольно часто в провинциальных обществах; но на это есть весьма естественная причина: в огромном городе грубый, неотесанный невежда исчезает в толпе; он живет в своем маленьком кружке, не знается с порядочными людьми, и вы почти никогда не увидите его в хорошем обществе — не потому, чтоб в этом хорошем обществе не было ни глупцов, ни невежд, но эти глупцы и невежды совсем другого рода: они вымыты, выглажены, покрыты политурою и по наружности точно так же опрятны и красивы, как искусно сделанная под красное дерево мебель, которую непременно надобно поскоблить, чтоб увидеть что она сосновая. В небольшом губернском городе совсем другое дело. Там необразованному глупцу и безграмотному невеже спрятаться некуда: там все на виду, всё на перечете, все знают друг друга, и тот, с кем бы вы никогда не встретились в Москве или в Петербурге, непременно познакомится с вами в губернском городе.
Я не стану вас уверять, что все провинциальные барыни походят на столичных. В нашем высшем обществе много есть дам, которые, владея свободно двумя, а часто и тремя иноземными языками, не стыдятся говорить, и говорить прекрасно, на четвертом, то есть на своем собственном. А в провинции найдутся такие барыни, которые в присутствии столичного жителя скорее решатся говорить по-чухонски, чем вымолвить два слова на своем природном языке. Впрочем, это происходит по той же самой причине, по которой наши провинциальные барыни, а особливо в отдаленных губерниях, носят платья и материи, вышедшие из моды. До них еще не дошло, что в наших столицах давно уже перестали щеголять незнанием русского языка. Вообще отличительная черта в характере провинциалов есть какое-то почти детское легковерие относительно всего печатного, и в особенности журналов. Разумеется, что каждый из них слепо верит только тому журналу, который выписывает, — в противном случае он не знал бы, чему и верить; но зато избранный им журнал становится для него совершенным оракулом. Одна очень любезная женщина говорила со мною всегда по-русски, без всякого смешения «французского языка с нижегородским». Вдруг она начала отпускать ни к селу ни к городу целые фразы на французском языке.
Я удивился.
— Что ж тут странного? — сказала она. — Посмотрите, что напечатано в моем журнале! В нем доказывают, что нам говорить иначе невозможно, и даже называют мещанами тех, которые желают, чтоб мы изъяснялись по-русски, не примешивая к нашему разговору французских фраз.
Муж этой госпожи, барин очень добрый, также на основании какого-то журнала вообразил себе, что человек просвещенный должен говорить таким странным языком, чтоб его не понимали ни иностранцы, ни русские. Я принялся было доказывать жене, что мнение одного журналиста не может быть законом для всех; что если в целом мире каждый народ говорит своим родным наречием, без примеси французских фраз, то, вероятно, и мы можем обойтись без этого. Барыня не стала меня и слушать. Я обратился к мужу и начал ему доказывать, что иностранные слова с русским окончанием можно употреблять только в таком случае, когда в нашем языке не найдется равносильного слова, которое выражало бы ту же самую мысль.
— Вот, — говорил я ему, — французы взяли у нас слово «степь», да это потому, что их «prairie» и «desert» вовсе не дают верного понятия о том безлесном, но не песчаном, а поросшем травою огромном пространстве земли, которое мы называем степью. И мы также должны усвоивать нашему языку только те слова, без которых решительно не можем обойтись. К чему, например, вы называете гостиную — салоном; говорите вместо всеобщего — универсальный, вместо преувеличения — экзажерация, вместо понятия — консепция, вместо обеспечения — гарантия, вместо раздражения — ирритация, вместо посвящения — инисиация, вместо принадлежности — атрибут, вместо отвлеченный — абстрактный, вместо поразительно — фрапонтно и прочее. Поверьте мне, — продолжал я, — что, употребляя без всякой нужды сотни подобных слов, вы вовсе не доказываете этим вашего просвещения; напротив, вместо того чтоб идти вперед, вы двигаетесь назад. В старину, то есть во времена Петра Великого и вскоре после него, получше вашего умели коверкать русский язык. Теперь, благодаря успехам просвещения и развитию нашей словесности, все эти чужеземные слова, за исключением немногих, исчезли из русского языка; нынче никто не скажет, что он ходил стрелять из фузеи или что мы под Малым Ярославцем одержали над французами знаменитую викторию. Кто нынче будет уверять кого-нибудь в своем респекте и венерации? Кому придет в голову эстимоватъ отличный мерит своего друга, хвастаться своим рангом или сделать презент своей аманте? Кто в наше время назовет заставу — барьером, штык — байонетом и предвещанье — прогностиком? А все это, однако ж, было и, слава богу, прошло. Так из чего же вы бьетесь?…
Мой ученый барин разгневался и назвал меня ограниченным пуристом. Вероятно, он занял это вежливое выражение из того же самого журнала, из которого почерпал всю свою премудрость. Я было сначала и сам рассердился, да тотчас присмирел, потому что вспомнил о собственном своем грехе. Ведь и я также имел глупость слепо верить печатным рассказам, и я также думал, что наши провинциалы только что не ходят на четырех ногах. Тут вся моя досада обрушилась на этих рассказчиков, которые описывают то, чего не видали, и говорят о том, чего не знают. Защитники этих господ оправдывают их тем, что они описывали одну только сторону наших провинциальных нравов, сиречь дурную. Эх, господа, господа! Да ведь односторонность никуда не годится, а особливо когда мы говорим о нравственном достоинстве целого народа! Уж тут всегда эта односторонность превращается или в нелепое похвальное слово, или, не прогневайтесь, в совершенную клевету. «Позвольте, — скажут мне, — да разве Гогарт был человек не гениальный, а ведь в его карикатурах вы найдете не много утешительного». Гогарт! Да это совсем другое дело: карикатура вовсе не имеет притязания на истину: она представляет действительную жизнь всегда в преувеличенно искаженном и даже иногда совершенно искаженном виде. Само название «карикатура» предохраняет уже вас от всякого обмана. Назовите ваши очерки, ваш роман или комедию карикатурою и пишите, что вам угодно. Будьте только остроумны и забавны, всякий скажет вам спасибо, и тот, кто станет кричать, что описания ваши неверны, что вы клевещете, того, пожалуй, и я назову ограниченным пуристом. Да и кому придет в голову требовать от вас правды, когда вы предлагаете ему карикатуру!
Теперь, любезные читатели, сообщив вам сделанное мною открытие, что русские провинциалы точно так же, как и все люди, созданы по образу и подобию божию, я снова поведу с вами речь о нашей матушке Москве. Прошу вас выслушать по-прежнему благосклонно мою стариковскую болтовню, а пуще всего не думать, что я мечу на кого-нибудь одного, когда пишу обо всех. Я желал бы очень походить на хорошего живописца, но только не портретного. И всякому, кто, читая мои записки, скажет: «Э, да я знаю, на кого метит сочинитель! Это вот такой-то!» — я напомню, разумеется со всей должной вежливостью, следующие три стиха покойного Крылова:
Что Климыч на руку нечист — все это знают; Про взятки Климычу читают, А он украдкою кивает на Петра!II Четыре визита
Да, матушка, ты точно права.
В Москве визиты не забава;
Вот я на Шабловке живу — а ты-то где?
Ну, страшно вымолвить!..
В Немецкой слободе!
Ведь это десять верст!..
Из рукописной комедииИз предыдущей главы вы можете заключить, любезные читатели, что я, живя в провинции, не всегда умирал от скуки и даже нередко проводил время довольно приятным образом, но, несмотря на это, к концу года я начал призадумываться и грустить по Москве. Нет, что ни говори: в гостях хорошо, а дома лучше. Вот грусть моя превратилась наконец в эту «тоску по родине», ужасную болезнь, от которой, говорят, горные швейцарцы, как мухи, умирают. А как мне умирать вовсе не хотелось, так я поторопился привести в порядок свои дела, взял почтовых, посулил на водку и вихрем помчался
По дороге столбовой В нашу матушку Москву Белокаменную.С какою радостию возвратился я опять на свое старое пепелище! Когда я въехал в Калужскую заставу, Москва показалась мне обетованною страной, земным раем и самым прекраснейшим городом в мире. «Прекраснейшим, — повторит какой-нибудь приезжий, ну, положим, из Одессы. — Да что ж в нем прекрасного? А особливо если вы едете от Калужской заставы к Пресненским прудам? Сначала бесконечная Калужская улица, то есть длинное песчаное поле, по одной стороне которого разбросаны огромные каменные здания, а по другой тянется длинный ряд плохих деревянных домов; потом неопрятный рынок с запачканными лавками, а там Крымский брод со своими грязными огородами и безобразным деревянным мостом. Дальше Зубовский бульвар с тощими липками; рядом с каменными палатами домики, конечно довольно красивые, но все-таки деревянные. Везде какое-то странное смешение городской роскоши с сельской простотою. Везде сады, огороды, овраги, горы, целые поля…» Да это-то мне и по душе! Это-то именно и делает Москву верною представительницей всей России, которая точно так же не походит на все западные государства, как Москва не походит на все европейские города. Русский человек задохнется в каком-нибудь немецком городе. Там везде теснота, люди давят друг друга, а он любит свое родное привольное житье, свое русское раздолье и простор. В России шестьдесят миллионов жителей, а ведь грешно сказать, чтоб им было тесно. И в Москве то же самое; в ней с лишком триста тысяч обывателей, а посмотрите, как они живут просторно. У иного не дом, а избушка, да на дворе-то можно построить двадцать немецких домов, а если захотите, так найдется место и для площади, разумеется также германской. Эти огромные пустыри и разбросанные по всей Москве поля не представляют ли вам в уменьшенном виде беспредельные степи наших восточных и южных губерний? Эти беспрерывные сады не напоминают ли вам о дремучих лесах нашей родины? Эти многочисленные церкви, эти древние обители иноков не возвещают ли всякому святую, православную Русь? Не говорят ли они вам о благочестивом обычае наших предков, которые не оставили нам ни развалин феодальных замков, ни древних дворцов, ни других общественных зданий, но зато всегда в память великих событий воздвигали храмы божии, строили монастыри, и если многие говорят, что у нас нет вовсе исторических памятников, так это потому, что они ищут их вовсе не там, где их должно искать.
У меня есть старинный приятель, которого я очень люблю. Он человек честный, благородный, необычайного ума, с обширными познаниями, но, к сожалению или, лучше сказать, прискорбию его приятелей, величайший в мире непосед. Он беспрестанно говорит о своем желании найти где-нибудь постоянное для себя жилище, завестись домом, а между тем вся жизнь его проходит в беспрерывной езде и перевозке его домашней утвари и библиотеки из одного конца России в другой. Ну, право, кажется иногда, что про него-то именно и сложена русская песня:
Мне моркотно, молоденьке, Нигде места не найду.Этот приятель, который, надеюсь, не навсегда еще оставил Москву, прожил в ней хотя недолго, однако ж очень верно изобразил ее в одном из своих писем. Он говорит, между прочим, что Москва не город, а собранье городов; что вся ее средина, то есть Кремль, Китай и Белый город, заслуживают вполне названия столицы; потом весь обширный Земляной город как будто бы составлен из нескольких губернских городов, окружающих со всех сторон эту древнюю столицу царства Русского, и, наконец, все то, что называлось в старину скородомом, то есть части города, лежащие за валом, походят на великое множество уездных городков, которые, в свою очередь, обхватывают весь Земляной город этой огромной цепью прежде бывших слобод, посадов и сел. Я прибавлю к этому, что самый образ жизни, домашний быт и даже степень просвещения различных обывателей московских вполне отвечают этому топографическому подразделению Москвы на столицу, губернские города и мелкие уездные городишки. Вы всё найдете в Москве: и столицу с европейским просвещением, и губернские города с их русской физиономией и французскими замашками, и уездные городки с их радушным хлебосольством и дедовскими обычаями. Да что я говорю — города! Вы найдете в Москве самые верные образчики нашего простого сельского быта, вы отыщете в ней целые усадьбы деревенских помещиков, с выгонами для скота, фруктовыми садами, огородами и другими принадлежностями сельского хозяйства. Один из моих приятелей П. Н. Ф…в нанимал по контракту в Басманной улице дом господина К…го. Я сам читал этот контракт. В нем, между прочим, сказано, что постоялец имеет в полном своем распоряжении весь сад, принадлежащий к дому, за исключением, однако ж, сенокоса и рыбной ловли. Живя в ином городе, разумеется за границею, вы можете совершенно забыть, что есть на свете деревни; в Москве с вами этого никогда не случится. Положим, что вы теперь на Кузнецком мосту, — уж тут, конечно, ничто не напомнит вам о деревне; но сверните немного в сторону, ступайте по широкой улице, которая называется Трубою, и вы тотчас перенесетесь в другой мир. Позади, шагах в пятидесяти от вас, кипит столичная жизнь в полном своем разгуле; одна карета скачет за другою, толпы пешеходцев теснятся на асфальтовых тротуарах, все дома унизаны великолепными французскими вывесками; шум, гам, толкотня; а впереди и кругом вас тихо и спокойно. Изредка проедет извозчик, протащится мужичок с возом, остановятся поболтать меж собою две соседки в допотопных кацавейках. Пройдите еще несколько шагов, и вот работницы в простых сарафанах и шушунах идут с ведрами за водой. Вот расхаживают по улице куры с цыплятами, индейки, гуси, а иногда вам случится увидеть жирную свинку, которая прогуливается со своими поросятами. Я, по крайней мере, не раз встречался с этим интересным животным не только на Трубе, но даже и на Рождественском бульваре. Вероятно, во всех столицах после проливного дождя бывают лужи по улицам, но вряд ли в какой-нибудь столице плавают утки по этим лужам, а мне случалось часто любоваться в Москве этой сельской картиной. Впрочем, надобно сказать правду, после некоторого приключения я стал гораздо менее любить эту простоту нравов, эту патриархальную жизнь нараспашку, которая мне прежде очень нравилась. Я расскажу вам все подробности этого истинного, хотя и не слишком правдоподобного приключения, по милости которого я вместо десяти предполагаемых визитов успел только сделать четыре.
Мне помнится, я уж говорил где-то, как затруднительно московским жителям выполнять эту общественную обязанность, название которой не переведено еще на русский язык… Посещать и делать визиты вовсе не одно и то же: посещают обыкновенно своих родных, друзей и приятелей, а визиты делают всем знакомым; в первом случае нам всегда приятно заставать хозяина дома, во втором мы желаем совершенно противного. Мы посещаем людей, которых любим, для того чтоб с ними повидаться, и делаем иногда визиты таким знакомым, с которыми не желали бы часто встречаться и на улице. В Москве делать сразу все визиты нельзя иначе, как на переменных лошадях, разумеется, если ваши знакомые живут в разных частях города. Например, ваш дом в Садовой у Триумфальных ворот: не угодно ли вам съездить под Донской и завернуть оттуда в Лефортовскую часть — всего два визита, а вряд ли вы успеете их сделать в одно утро и на одних лошадях. Когда я собираюсь ездить с визитами, то составляю заранее подробный маршрут. Сначала пошатаюсь день-другой по своей Пресне, Грузинам, по Садовой, по всем переулкам, которые соединяют меж собой Никитскую, Арбат и Поварскую, а там роздых; дам лошадям вздохнуть да примусь объезжать Замоскворечье и ближайшие к нему улицы; потом опять отдохну и отправляюсь наконец странствовать по всем окрестностям Немецкой слободы, побываю в Ольховцах, на Покровке, на Мясницкой, заверну на Чистые пруды, к Меншиковой башне, на Сретенку, за Сухареву башню, мимоездом на Петровку, Дмитровку, Тверскую — и таким образом, не уморив ни одной лошади, кончу дней в шесть все мои визиты.
Возвратясь в Москву, я должен был, как водится, развезти визитные карточки по всем знакомым. И вот на прошлой неделе, завернув сначала к ближайшим моим соседям, я располагался в одно утро объездить Хамовники, Пречистенку, Остоженку и побывать за Москвой-рекой. Я начал с Хамовников. Это одна из тех частей Москвы, которые приятель мой сравнивает с уездными городками, окружающими со всех сторон Земляной город. В двух шагах от нее начинается красивая Пречистенская улица, в которой несколько огромных каменных домов не испортили бы и Дворцовой набережной Петербурга; но, несмотря на это аристократическое соседство, Хамовники во всех отношениях походят на самый дюжинный уездный городишко. Местами только вымощенные узенькие улицы, низенькие деревянные дома, пустыри, огороды, пять-шесть небольших каменных домов, столько же дворянских хором с обширными садами, сальный завод стеариновых свечей с вечной своей вонью, непроходимая грязь весной и осенью и одна только церковь, впрочем довольно замечательная по своей древней архитектуре, — вот все, что составляет эту прежде бывшую слободу, прозванную Хамовниками, вероятно, потому, что в ней жили некогда крепостные дворовые люди, которых и теперь еще величают в простонародье хамами и хамовым отродьем.
В одном из хамовнических переулков гордо возвышается, окруженный со всех сторон пустырями и заборами, деревянный домик с высоким теремом, то есть, по-нынешнему, мезонином; домик весьма порядочный, яркого желтовато-канареечного цвета, с зелеными ставнями, красною кровлею и присадником, у которого решетка выкрашена также зеленою, а все столбики той же самой краскою канареечного цвета. Впрочем, вероятно, не сам хозяин придумал раскрасить таким великолепным образом свой дом, а эта мысль родилась в голове его при виде алебастровых расписных попугаев, которых лет пять тому назад оборванные итальянцы носили на лотках по всем улицам. Что ж делать? Мы, русские, сами ничего не выдумаем, но зато как раз переймем у иностранцев все хорошее. В этом домике живет Степан Савельич Бобриков со своей женой Марьей Никитишной, двумя малолетними сыновьями и дочерью, которая почти уже невеста. Мне долго было бы рассказывать, по какому случаю я познакомился со Степаном Савельичем Бобриковым, и потому скажу вам только одно, что я знаком с ним более двадцати лет и даже был его посаженым отцом, несмотря на то что, по русскому обычаю, холостые люди весьма редко бывают посажеными отцами.
Подъехав к запертым воротам этого цветистого домика, я вылез из коляски, отворил калитку и лишь только вошел во двор, как вдруг две злые главки кинулись на меня, как на дикого зверя. Прежде чем я успел опомниться, эти проклятые дворняжки прокусили у меня в двух местах шинель и до того испугали своим нечаянным нападением, что я непременно выскочил бы опять на улицу и закричал караул, если б не явилась ко мне на выручку с мочалкою в руке запачканная и растрепанная баба, которая, вероятно, в эту минуту занималась мытьем барской посуды. Не помню, кто из моих знакомых, говоря о каком-то злом и недобросовестном критике, сказал: «Если ты хочешь иметь понятие об этом журнальном пачкуне, так представь себе спущенную с цепи бешеную шавку, косматую и запачканную в грязи. Эта шавка кидается на всех людей, порядочно одетых, и лижет ноги только у тех, которые точно так же растрепаны и запачканы, как она». Я невольно вспомнил об этом, увидев, что злые собаки, которые напали на меня с таким ожесточением, присмирели и кинулись лизать сальные руки этой грязной и косматой бабы.
— Пожалуйте, сударь, — сказала моя избавительница, — пожалуйте: барин дома! Пошли вы, проклятые, — продолжала она, замахиваясь своей мочалкой, — я вас!.. Пожалуйте, батюшка, вот сюда на крылечко.
Я вошел вслед за бабою в темные сени, по которым надобно было идти ощупью.
— Нет, батюшка, не сюда, — это чулан; вот здесь! — заговорила опять моя провожатая, растворяя обитую войлоком дверь. — Терентий! — промолвила она вполголоса, просунув голову в переднюю. — Вставай: гость!
Терентий, пожилой слуга, небритый, нечесаный, в поношенном сюртуке с протертыми локтями, вскочил с коника, снял с меня шинель и растворил обе половинки дверей в столовую. В этой комнате все напоминало о том времени, когда у нас на Руси была еще в ходу пословица: «Не красна изба углами, а красна пирогами». В ней пахло каким-то сдобным кушаньем, а по углам тянулась паутина и мотались клочки изодранных обоев. Вдоль стен стояло несколько тростниковых стульев, по окнам — горшки с геранью, резедою и бальзамином; у самых дверей висели деревянные часы с узорчатым циферблатом; в одном простенке помещался ломберный стол с покоробленной верхней доской, в другом — расписанный под красное дерево высокий шкап, на котором между двумя гипсовыми зайчиками с красными ушами стояла модель хозяйского дома, то есть алебастровый попугай с красною головою, желтым зобом и зелеными крыльями.
Хозяин, человек лет сорока пяти, с добрым, простодушным лицом, вышел ко мне навстречу из гостиной. Несмотря на то что на дворе было градусов семнадцать тепла, на нем был калмыцкий тулуп, правда нараспашку и сверх платья или, лучше сказать, одежды, чрезвычайно легкой.
— Богдан Ильич! — вскричал он, запахивая свой тулуп. — Извините!.. Как вы изволили меня застать!.. Не прогневайтесь, батюшка… по-домашнему! Да позвольте, я сейчас…
— И, полноте! — сказал я. — Что мне до вашего наряда. Я рад, что застал вас дома.
— Так, почтеннейший, так!.. Да все-таки…
— Сделайте милость, не беспокойтесь!
— Нет, воля ваша!.. Позвольте мне…
— Послушайте, Степан Савельич, — прервал я, — если вы станете церемониться, так в первый раз, как вы ко мне пожалуете, я приму вас в мундире.
— Ну, как вам угодно!.. Только, право, мне совестно!.. Прошу покорно!.. Марья Никитишна! — продолжал Бобриков, входя вместе со мною в гостиную — светлую комнату о трех окнах, убранную несколько пощеголеватее столовой. — Марья Никитишна!.. Дорогой гость!
— Господи, боже мой! — воскликнула хозяйка, женщина довольно еще свежая, дородная, краснощекая, в холстинковой блузе и поношенном тюлевом чепце, — Вас ли я вижу?… Батюшка, Богдан Ильич!.. Сколько лет, сколько зим!.. Прошу покорно садиться… Когда изволили приехать?
— На этих днях.
— А мы было совсем уж отчаялись; думаем: видно, Богдан Ильич разлюбил Москву… Легко сказать — с лишком год! А сколько без вас дел-то понаделалось!.. Матрена Степановна выдала свою дочь замуж — превыгодная партия: полковник, триста душ и человек нестарый, лет этак за пятьдесят… Андрей Михайлович скончался… Федосья Дмитриевна разъехалась с мужем… Сердечная!.. Терпела, терпела — да нет, видно, уж сил не стало… человек пьяный, развратный, картежник… ну, да бог с ним!.. А вот я вас удивлю… Знаете ли, что? Ведь Федор Григорьевич — как это вам покажется?… женился на второй жене! Ну, кто бы подумал… в его лета, с его здоровьем!..
— Да о ком вы говорите?
— О Федоре Григорьевиче Фурсикове.
— Я его не знаю.
— Право?… Скажите пожалуйста!.. Да нет, вы, верно, его знаете!.. Человек светский, известный, член Английского клуба… Что вы!.. Не может быть, чтоб вы его не знали!.. Такой маленький, тщедушный старичок… в зеленых очках… Федор Григорьевич — его все здесь знают… Э, да что ж я?… Девка, девка! Ступай, скажи Танечке: «Приехал, дескать, крестный ваш батюшка — пожалуйте скорее!..» Ну, Богдан Ильич, как выросла ваша крестница — почти с меня ростом! Алеша и Николинька также подросли… они теперь учатся русскому языку и арифметике… готовим, батюшка, в гимназию… ведь уж старшему-то десять лет… Да не угодно ли вам, Богдан Ильич, позавтракать?… Мы сейчас ели пирог с курицею… Не прикажете ли?
— Нет, Марья Никитишна, я уж завтракал.
— Так чашечку кофею?
— Не беспокойтесь: я есть не хочу.
— И, Богдан Ильич! Да разве кофей еда?… Сделайте милость!
— А не хотите кофею, — прервал хозяин, — так не прикажете ли винца? У меня есть донское, — да какое еще, батюшка, монастырское, цельное!.. Эй, человек!
— Нет, Степан Савельич, напрасно раскупорите бутылку! Я пью вино только за обедом.
— Так чем же вас потчевать?
— Да ничем.
— Как ничем? Что вы, Богдан Ильич, — подхватила хозяйка, — уж коли вам не угодно ни пирога, ни кофею, ни вина, так, воля ваша, — извольте отведать моих трудов… Эй, девка, клубничного варенья!.. Да нет, я лучше сама… — примолвила Марья Никитишна, выходя из комнаты.
— Ну что, Степан Савельич, — сказал я, оставшись один с хозяином, — что вы поделываете, как идет ваше хозяйство?
— Слава богу, батюшка, слава богу! На этих днях продал леску; да пишут мне из моей рязанской деревнишки, что хлеба очень хороши — из годов вон!.. Сбираюсь туда ехать; нельзя, батюшка: хозяйский глаз всего важнее.
— А здесь-то, в Москве, как вы поживаете?
— Да так себе! Живем, по милости божией, не хуже людей. В театре иногда бываем, на гуляньях — в Петровском, в Сокольниках, — туда, сюда… Конечно, знакомства у меня большого нет. Да ведь два-три добрых приятеля лучше целой сотни шапочных знакомых. Прошлого года меня очень подбивали записаться в Немецкий клуб. «Туда, дескать, сбираются все люди порядочные. Это, дескать, не трактир какой, там и балы дают, и все так чинно и строго! Танцуй и веселись сколько хочешь, а рукам воли не давай! Чуть кто полезет на драку, так сохрани, господи: как раз выведут вон, да еще под музыку!.. А уж есть чем позабавиться: читать захотел — милости просим, все есть: и «Пчела», и «Московские ведомости». Охота пришла поиграть — играй себе сколько душе угодно: и карты, и лото, и биллиард… Истинно весело!..» Весело!.. Да мне и дома нескучно: человек я семейный — жена, взрослая дочь, два мальчика — нечего сказать, шалуны, а ребятишки добрые! Есть чем заняться: одного похлещешь, другого приласкаешь… К соседу зайдешь или он к тебе завернет, сядем по копеечке в преферанс да так-то распотешимся, что и сон на ум нейдет! Уж бьемся, бьемся… иногда до первых петухов! Вот так же недавно приятель мой, Иван Иваныч, Щелочкин, уговаривал меня вступить в Дворянский клуб. «Уж это, говорит, не Немецкому чета: общество прекрасное, все люди чиновные…» — «Нет, мол, куманек, спасибо! Я до большого света не охотник». — «А стол-то у нас какой отличный. Лучший повар в Москве, Влас!» — «Отличный стол, так что ж! Я, слава богу, и дома не голоден; стану я по пустякам деньги тратить!» — «Какие деньги!.. Ведь у нас обед-то барский, а платим мы за него безделицу». — «Может статься, да на что мне все эти деликатесы?… Еще, пожалуй, избалуешься… Как больно сладко поешь раза два в неделю, так, чего доброго, домашний-то обед вовсе тебе опротивеет. Я теперь, и то по праздникам, выпью бокальчик-другой донского, а в вашем-то клубе, говорят, шампанское так и льется. Нет, бог с вами!.. Да и за что я буду один кушать, как большой барин, а жена и дети станут есть то, что бог послал? Нет, любезный, по мне, коли нельзя сладкого куска с женою и детьми разделить, так мне его и даром не надобно!»
— Что ж вам отвечал на это Иван Иваныч?
— Да что, батюшка: начал смеяться, трунить надо мною. Ты, дескать, братец, старовер, женин прихвостник, не смеешь без ее воли из дому отлучиться…
— А кто этот Иван Иваныч?
— Лекарь, батюшка; человек с большими познаниями. У него много было мест и в казенных заведениях, и разной практики было довольно, да все растерял. Ему надо ехать в больницу, а он норовит в клуб. Ну, известное дело, коли не станешь являться к должности, так за это по головке не погладят; смолчат раз, другой, третий, а там и скажут: «Уж вы, батюшка, не извольте беспокоиться: на ваше место поступил другой!» Говорят, у него прежде и денежки важивались, да, видно, все проиграл в лото. Вчера его жена приходила занять у моей Марьи Никитишны целковый — есть нечего!
Наш разговор был прерван возвращением хозяйки; она вошла в гостиную, держа в одной руке блюдечко с вареньем и ведя другою молодую девушку лет пятнадцати, с кудрявой головкою, белым румяным лицом и светлыми голубыми глазками.
— Честь имею представить, Богдан Ильич, — сказала Марья Никитишна. — Ну, что ж ты, Танечка, целуй ручку у крестного!
— Нет, уж позвольте мне просто поцеловать ее, — прервал я.
— Как вам угодно, Богдан Ильич, ведь она ваша дочка. На-ка, Танечка, — продолжала Маръя Никитишна, передавая дочери блюдечко, — попотчевай своего крестного.
Я вовсе не охотник до варенья, а особенно когда мне надобно им лакомиться до обеда, — но делать было нечего. Я чуть не подавился, однако ж съел целую ложку, потом по усиленной просьбе хозяев еще другую и никак не мог отделаться от третьей, о которой по приказанию отца и матери неотступно просила меня Танечка.
— Ну, Богдан Ильич, — сказала хозяйка, когда я проглотил последний прием варенья, — не правду ли я говорила, что крестница ваша выросла?
— И выросла и похорошела!
— Благодари, мой друг.
Танечка очень мило присела и поцеловала меня в плечо.
— Вы еще не знаете, почтеннейший, — примолвил Степан Савельич, — ведь в дочке-то вашей открылся талант: она музыкантша.
— Право?
— Да, батюшка! Нам послал бог одного соседа, старичка немца; говорят, отлично прежде играл на фортепьянах, концерты давал. Теперь уж он сам не играет; в обеих руках хирагра, так пальчики-то плохо шевелятся, а учить мастер! Он, по соседству, не стал дорожиться, мы его взяли, и Танечка в один год сделала такие успехи, что сам Фома Фомич, первый, батюшка, гобоист в Императорском театре, не может надивиться ее таланту. И ведь мы играем не то чтоб маленькие какие штучки, вальсики да польки. Нет, батюшка Богдан Ильич, как примется — так всего Плевеля от доски до доски, только что слушай!..
— Да вот всего лучше, — подхватила хозяйка, — Танечка, садись-ка за фортепьяны да потешь крестного.
— Извините, — сказал я, вставая, — теперь мне, право, некогда, а если позволите, так я к вам нарочно для этого приеду.
— Милости просим! Да что ж вы так изволите торопиться? Посидите, сделайте милость!
— Нельзя: мне надобно много делать визитов.
— Хоть еще с полчасика! — промолвил хозяин. — Ведь рано — успеете везде побывать. Танечка, проси!
Несмотря на все просьбы этих добрых людей, я не мог пробыть у них долее. Мне непременно хотелось в это утро сделать, по крайней мере, десять визитов; а сверх того они очень напугали меня своим Плевелем, сиречь Плейелем, к которому я питаю личную вражду; и теперь вспомнить не могу без ужаса о том, что мне доставалось во время оно за этого господина Плейеля, которого бесконечные концерты я должен был вытверживать наизусть.
Выехав из Хамовников на Девичье поле, я хотел было сначала объездить всех знакомых, живущих на Пречистенке, а потом отправиться за Москву-реку, но когда посмотрел на часы, то увидел, что я решительно не успею побывать у Луцких. Надобно вам сказать, что эти Луцкие вовсе не принадлежат к числу тех знакомых, которым я делаю только визиты. Хотя у них есть уже замужние дочери, но Луцкий и жена его — люди еще нестарые. Их образ мыслей, ласковое, приветливое обращение, неизменное постоянство в дружбе и этот редкий в наше время патриархальный семейный быт до того мне пришлись по сердцу, что я с первого дня нашего знакомства полюбил их, как близких родных. Луцкие очень богаты, и дай бог, чтоб у нас было побольше таких богатых дворян. Их роскошное и в то же время радушное гостеприимство не имеет ничего общего с тем хвастливым мотовством и чванством, которые побуждают людей жить выше своего состояния и разоряться для того только, чтоб про них сказали, что они живут по-барски. Нет, Луцкие любят принимать и угощать своих многочисленных знакомых без всякой обдуманной цели, а просто по какой-то врожденной любви к этой заветной русской добродетели, которую мы называем хлебосольством. Кто раз познакомился с Луцкими и узнал поближе все это любезное семейство, для того, конечно, будет величайшим лишением их отсутствие из Москвы. Я испытал это на себе, потому что они каждое лето уезжают в свои рязанские поместья. Луцкие путешествовали по Европе и очень долго жили в Париже. Разумеется, тому, кто получает несколько сот тысяч в год доходу, можно очень весело провести время везде, а особенно в Париже — в этом средоточии всех земных наслаждений, в этом, не прогневайтесь, обширном омуте всех греховных житейских утех, облеченных в пленительные формы изящного вкуса, всех неистовых страстей, буйной гордости и своеволия, всех ложных проповедников свободы и равенства, которые стараются возмущать легковерный народ для того только, чтоб, по русской пословице, в мутной воде рыбу ловить. В Париже деньги — божество, которому все поклоняются, не жалейте их, и вы будете видеть все в розовом цвете. Все прекрасное явится к вашим услугам, и все гнусное и отвратительное усыплют для вас цветами. Надобно сказать правду, этот оптический обман до того соблазнителен, что многие из русских путешественников совершенно превратились… вы думаете, в французов? О, нет! Это бы еще не беда; тогда они были бы чем-нибудь, а то они, бедные, превратились ровно в ничто, то есть, несмотря на все свои старания, не сделались французами, а перестали быть русскими. Луцкие жили в Париже на барскую ногу, не жалели денег, следовательно, видели одну только хорошую сторону великолепного города, в котором процветают науки, художества, все изящные искусства и в полном смысле царствует это глубокое уменье — не жить, а убивать время, которое, однако ж, всегда нас переживает. Несмотря на это обольщение, Луцкие возвратились в свое отечество точно такими же русскими, какими из него выехали. Они с удовольствием вспоминают о Франции и обо всем, что видели в ней прекрасного, но не захлебываются от восторга, говоря о грязных парижских улицах, не делают обидных сравнений одного народа с другим и не плачут о том, что город, в котором они живут теперь, называется Москвою, а не Парижем.
— Пошел на Вздвиженку, к Луцким! — сказал я кучеру.
И вот минут через десять я въехал во двор и остановился у подъезда каменного дома.
— Что, барин у себя? — спросил я швейцара.
— Никак нет, сударь! — отвечал он с вежливым поклоном.
— А барыня?
— Также изволила уехать.
«Ну, так и есть, — подумал я, — со мною это вечно бывает: кого хочешь застать, того не застанешь, а вот теперь поеду к этим Лыковым — и уж, верно, меня примут!.. Делать нечего!»
— Ступай к Пречистенским воротам.
Выехав на Арбатскую площадь, я повернул налево низменной стороной Пречистенского бульвара и взглянул мимоездом на скромный деревянный домик, в котором живет один из тех могучих русских витязей, которые в двенадцатом году стояли грудью за нашу святую родину. Он уж в преклонных летах, но все еще смотрит богатырем и вовсе не походит на старика; впрочем, может быть, потому, что его седые волосы не видны из-под лавров, которыми украшено его задумчивое и величавое чело.
Не доезжая Пречистенских ворот, я повернул в переулок и остановился у большого деревянного дома. Предчувствие меня не обмануло: высокий лакей в штиблетах и модной ливрее с огромными пуговицами объявил мне, что его господа принимают. В столовой мальчик, одетый жокеем, спросил мое имя и, войдя в гостиную, громко прокричал:
— Богдан Ильич Бельский!
«Ого! Да это точь-в-точь как в Париже», — подумал я, входя в гостиную. В ней не было никого, кроме хозяина и хозяйки.
— Ah, monsieur Belsky! — закричал хозяин, идя ко мне навстречу. Хозяйка привстала и отвечала на мой поклон следующей казенной французской фразою:
— Charmee de vous voir, monsieur. Voules-vous bien prendre la peine de vous asseoir?
— Вас долго не было в Москве, — сказал хозяин.
— Да, я с лишком год прожил в провинции.
— С лишком год!.. Mais c'est une eternite!.. И вы не умерли с тоски?
— А вот как видите.
— С лишком год! — повторила хозяйка. — Я воображаю, как вам было весело… А мы только что возвратились из чужих краев.
— Право?… Куда же вы изволили ездить?
— Сначала на воды… а там в Париж; мы прожили в нем месяца три.
— Только?
— Ах, не говорите!.. Ведь у нас все делается бог знает как!.. Мы взяли с собою только двадцать тысяч и приказали нашему управляющему, когда он продаст хлеб и сберет оброк, выслать все деньги в Париж. Что ж вы думаете?… Этот негодяй не прислал нам ни одной копейки!
— Да, да, — прервал хозяин, — мошенник управитель полагал, что мы проживем года три за границею, хотел этим воспользоваться и ограбил нас самым бесстыдным образом.
— Скажите пожалуйста! Да как это вам попался такой разбойник управитель?… Что он, русский, что ли?
— Вот то-то и дело, что — нет! — вскричал хозяин. — Представьте себе — немец!
— Что вы говорите?
— Уверяю вас. Я подал просьбу, да бог знает, когда все это кончится, между тем нам пора ехать опять за границу. Да уж на этот раз мы будем поумнее. Я нанял нового управляющего: этот будет надежнее — француз. А чтоб совершенно себя обеспечить, заложил пятьсот душ в Опекунский совет, и мы теперь повезем с собою чистыми деньгами с лишком сто тысяч.
— Конечно, это гораздо будет вернее. А скоро вы отправляетесь?
— Чем скорее, тем лучше; меня давит здешний воздух.
— Да, кто привык жить в теплом климате…
— И, monsieur Belsky… Помилуйте, один ли климат! Признаюсь, для меня удивительно, как можете вы, человек просвещенный и свободный, жить в этом мертвом, несносном городе.
Вы знаете, любезные читатели, мою слабость к Москве, следовательно, можете понять, до какой степени этот вопрос показался мне обидным.
— Вы, вероятно, не были никогда за границею? — продолжал хозяин.
— Извините, — отвечал я, с трудом скрывая досаду, — я в молодости моей пошатался довольно по Европе.
— В самом деле?… Так что ж мне вам и говорить? Когда подумаешь, что мы перед этим Западом!.. А ведь туда же — гневаемся, когда французы называют нас татарами!
— Нет, уж не гневаемся, — прервал я, — и не смеемся. Одна и та же глупость, повторенная тысячу раз, не может ни забавлять, ни сердить.
— А! Да вы патриот! — сказала хозяйка точно таким же голосом, каким, вероятно бы, заговорил индийский брамин, узнав в своем собеседнике какого-нибудь презренного пария.
— И, что ты, ma chere! — подхватил хозяин. — Богдан Ильич — человек умный и образованный, он путешествовал и, верно, согласится со мною, что в смысле просвещения мы почти еще татары. Кто ничего не знает, тому простительно думать, что мы — европейская нация, но тот, кто был в Париже — этой столице роскоши и просвещения, тот уж, конечно, этого не скажет. Когда подумаешь, что такое эта парижская жизнь! Какая цивилизация!.. Утонченный вкус!.. Какое разнообразие забав! Не успеваешь наслаждаться… Ну, точно ходишь в чаду, — очнуться некогда!.. Вот, например, в Париже я гулял каждый день по бульварам, а здесь куда я пойду?…
— Куда вам угодно. Мало ли у нас гуляний? Не говоря об окрестностях, в самой Москве: бульвары, кремлевские сады, Пресненские пруды, Нескучное…
— И вы это называете гуляньями?
— А каких же вам еще надобно? Все эти бульвары и сады содержатся в отличном порядке…
— Боже мой!.. Да кто вам говорит о порядке? Вы мне скажите, кого я встречу на этих гуляньях?
— Вероятно, всех тех, которые любят гулять.
— То есть двух-трех порядочных людей и целую толпу оборванных мужиков, запачканных прачек…
— Так что ж? Я думаю, эти особы встречались с вами и на парижских бульварах?
— Да разве парижская blanchisseuse — прачка — то же, что наша московская прачка? Разве французский крестьянин имеет что-нибудь общее с русским мужиком? Русский мужик!.. Ну, походит ли на человека этот медведь в своей дурацкой шапке, в своем отвратительном овчинном тулупе?…
— Да, это правда! — прервал я, вспомнив стихи одного из искренних моих приятелей:
Ведь русский мужичок, конечно, тем и глуп, Что носит шапку и тулуп; Ему бы надобно, как умному французу, В холстинную одеться блузу И выйти этак на мороз…— Какое ослепление! — воскликнул хозяин. — Да вы, пожалуй, станете сравнивать наших горничных девок с парижскими гризетками, этими пленительными, милыми созданиями…
Тут я заметил, что хозяйка поморщилась. Казалось, как будто бы слово «гризетка» напомнило ей о чем-то очень неприятном; но господин Лыков, не обращая внимания на пасмурное чело своей супруги, продолжал с возрастающим жаром:
— О, эти парижские гризетки — прелесть! Какая ловкость, какая острота, сколько ума в этих бойких, резких ответах, за которыми они уж никогда в карман не пойдут… А какие талии!.. Какие ножки!.. Да что гризетки! Я вам скажу, monsieur Belsky, что мне случалось иногда, переменяя лошадей, слушать по целым часам, и слушать с наслаждением, разговоры французских почтарей, то есть простых ямщиков!
Представьте себе положение человека, при котором говорят такие нелепости и который не может ни смеяться в глаза тому, кто их говорит, ни заставить его молчать, ни даже напомнить ему известный стих Грибоедова: «Послушай: ври, да знай же меру!»
Я вас спрашиваю, что прикажете делать этому несчастному человеку?… Уйти скорее прочь, скажете вы. Это-то именно я и сделал. Встал, раскланялся и ушел. Не подумайте, однако ж, любезные читатели, что я для вашей потехи рассказываю вам небылицы, — честью вас уверяю, что все это правда! Если мои записки имеют какое-нибудь достоинство, так это потому, что я ничего не сочиняю, а рассказываю только то, что слышал сам и видел собственными глазами. Впрочем, то, что я скажу в заключение, покажется вам еще невероятнее. Этот господин, который слушает с наслаждением разговоры французских ямщиков, слывет в своем кругу преумным человеком.
«Куда же я теперь поеду? — подумал я, садясь в мою пролетку. — Да чего же лучше?… Чтоб отдохнуть душою после такой неприятной беседы, поеду к тому, кого давно уже привыкла звать своим православная Москва, кто остался теперь едва ли не одним из числа тех гостеприимных бояр, которыми некогда была красна и славилась наша Белокаменная». Всегдашний житель Москвы, он так сроднился с нею, что кажется совершенно невозможным ни ему покинуть Москву, ни Москве остаться без него. Вельможа в полном смысле этого слова, он в то же время самый приветливый хозяин. Его прием всегда одинаков; он с равной лаской встречает в великолепных своих палатах и нечиновного человека, и первостепенного сановника царского. В этом отношении, как истинный русский боярин, он не знает никаких различий, и всякий гость, им приглашенный, становится для него дорогим гостем. Если я прибавлю к этому, что ни один бедный не отходит от него без подаяния и, конечно, не было еще ни одного несчастливца, которому он отказал бы в своем покровительстве и пособии, то уж, верно, вы, любезные читатели, догадаетесь, о ком я говорю, и назовете по имени того, кого я здесь назвать не смею.
— Ступай к Пречистенским воротам! — сказал я кучеру.
— К Пречистенским воротам? — повторил мой Петр. — Уж не к его ли сиятельству?…
— Ну, да!..
— А зачем мы к нему поедем, батюшка? Ведь он летом всегда изволит жить в своей подмосковной.
— В самом деле!.. Совсем из ума вон!.. Так ступай на Каменный мост за Москву-реку…
— Да не прикажете ли, Богдан Ильич, заехать прежде к Буркину?… Он близехонько отсюда, из Замоскворечья нам будет не по дороге; ведь нам придется ехать на Крымский брод.
— И то дело! Поедем к Буркину.
Матвей Юрьевич Буркии — давнишний мой знакомый; мы вместе с ним служили в двенадцатом году. Он старый холостяк, богатый, умный и честный, но несколько странный; впрочем, эти странности не мешают ему быть очень любезным человеком. Матвей Юрьевич принадлежит к числу тех москвичей, которые, живя в столице, любят в то же время пользоваться всеми удобствами и простором деревенского быта. Его деревянный, обшитый тесом дом окружен со всех сторон службами и всякого рода надворным строением. Тут все есть: и баня, и сушильня, и амбары, и голубятня, и застольная изба, в которой каждый день по колокольчику сбираются обедать человек тридцать дворовых людей. Разумеется, позади дома разведен сад с тепличкою, парниками, грунтовыми сараями и затейливой беседкою, которая немного пошатнулась набок, но все еще красива и очень походит издали на развалины греческого храма. Поросший густой травой обширный двор Буркина служит довольно сытным пастбищем для разных домашних животных, из числа которых, как вы сейчас увидите, одна презадорная скотина обошлась со мною самым невежливым образом.
Когда я въехал во двор к Буркину и сошел с дрожек, мой Петр отправился с ними на другой конец двора и остановился подле конюшни, то есть, по крайней мере, шагов сто от дому. Я вошел в сени, гляжу — у самых дверей передней комнаты лежит врастяжку преогромный козел. Надобно вам сказать, что для меня нет ничего отвратительнее этого безобразного и зловонного животного, которое, по какому-то старому предрассудку, держат иногда вместе с лошадьми на конюшне, но мне и в голову не приходило, что с ним можно повстречаться в доме.
— Вот нашли швейцара, — сказал я. — Эй ты, Васька, пошел прочь!
Козел, не трогаясь с места, приподнял голову, мотнул рогами и взглянул на меня таким равнодушным и нахальным образом, что мне стало почти обидно.
— Ах ты, скверная скотина! — закричал я. — Ты не хочешь встать? Так постой же, — продолжал я, толкнув его ногою, — вот я тебя потревожу! Пошел, пошел!
Козел вскочил, отошел от дверей, а я протянул руку и только что хотел позвонить в колокольчик, как вдруг от сильного удара в правый бок повернулся назад и увидел перед собой проклятого козла, который, нагнув голову, готовился повторить свое нападение. Чтоб предупредить этот злой умысел, я схватил задорного Ваську за рога; но ведь этим не могло все кончиться: мне нельзя было позвонить, не выпустив из рук моего злодея, а он того только и дожидался. Этот забияка стоял очень смирно, не порывался, помахивал только бородкою, но я без труда мог прочесть в его лукавых глазах преступное намерение воспользоваться первой моей оплошностью и забодать меня до полусмерти. Не видя никакой возможности избавиться без посторонней помощи от угрожающей мне опасности, я решился прибегнуть к последнему средству, то есть вытащить козла во двор и довести его как-нибудь до моего кучера, но для этого мне надо было пятиться задом и тащить за рога этого дюжего козла, который, как будто бы отгадывая мое намерение, начал упираться, мотать головою и порываться во все стороны. Пока я с ним возился, во дворе у отворенных ворот собралась целая толпа мужиков, ребятишек и всякого рода прохожих; весь этот народ, глядя на мою борьбу с козлом, помирал со смеху.
— Смотри-ка, смотри, — кричал один мужик, — как Васька-то порывается!.. Экий черт здоровенный!.. Барин-то не сдержит — право слово, не сдержит…
— Погоди, погоди!.. — прервал какой-то оборванный мещанин. — Козел-то себе на уме!.. Вот как вырвется, так он его милость потешит!.. Ай да Васька!.. Молодец!.. Смотри, брат, хорошенько барина-то!.. Не поддавайся!..
Разумеется, все эти остроты возбуждали общий смех, да это еще ничего, и я бы на их месте посмеялся над пожилым человеком, который вздумал играть с козлом и таскать его за рога по двору. Но вот что было для меня досадно: все эти уличные зеваки явным образом были на стороне козла и, по-видимому, очень желали посмотреть, как он станет меня бить рогами. Вероятно, они бы и насладились этим потешным зрелищем, если б мой Петр не бросил лошадей и не прибежал ко мне на выручку. В то же время выскочил из передней слуга, а вслед за ним высыпали из застольной, кухни и людских человек двадцать всякого народа. Разумеется, козла схватили, поколотили и увели на конюшню.
— Помилуй, братец, — сказал я слуге, который объявил мне, что барина нет дома, — как это можно пускать по воле такого злого козла?
— Помилуйте, сударь, — отвечал слуга, — да наш Васька такой смиренник…
— Хорош смиренник!.. Совсем было меня изувечил.
— Скажите пожалуйста! Ах, он, проклятый!.. Да что это с ним сделалось?… Уж не вы ли сами изволили его ударить или ногой толкнуть?… Ну, этого он не любит!.. А все мальчишки набаловали.
— Куда прикажете ехать? — спросил Петр.
— Куда?… Разумеется, домой: мне так заложило бок, что я вздохнуть не могу.
В самом деле, бок у меня так разболелся, что я, приехав домой, послал за доктором и целую неделю просидел дома.
Теперь вы знаете, любезные читатели, почему я вместо десяти предполагаемых визитов сделал только четыре и отчего стал менее любить эту простоту нравов и сельский быт многих москвичей, которые живут в Москве точно так же привольно и нараспашку, как привыкли жить у себя в деревнях.
III Первое мая
Сокольники, хоть вас поэты не поют,
Не хвалят вас и вашу жизнь простую, -
Но я люблю и ваш приют,
И ваших сосен тень густую.
— Отвори окно, Никифор! — сказал я. — Кажется, дождик перестал.
— Нет еще, сударь, — моросит немножко, словно ситом сеет; да скоро пройдет: позади все прочистилось.
— В самом деле?
— Ни единой тучки, сударь; знатный будет день.
— И подлинно, какой приятный, благорастворенный воздух, — сказал я, садясь подле окна. — Я думаю, будет градусов шестнадцать тепла?
— Нет, сударь, в столовой на градуснике дошло до осьмнадцати.
— В шестом часу после обеда!.. Да это почти летний день… Что это на улице так пусто? — продолжал я, помолчав несколько времени. — Хоть по нашему переулку ни ходьбы, ни езды большой нет, однако ж все-таки изредка и пройдет и проедет кто-нибудь, а вот с полчаса, как живой души не видно на улице.
— Да кому быть, сударь, — вся Москва в Сокольниках.
— В Сокольниках? Да разве сегодня первое мая?…
— А как же, сударь!
— Скажи пожалуйста! Чуть было не пропустил любимого гулянья!.. Ступай, вели закладывать дрожки!.. Да я бы себе никогда этого не простил… Ну, что ж ты стоишь?
— Батюшка Богдан Ильич! — сказал Никифор, почесывая в голове. — Прикажите заложить коляску, да и меня возьмите на запятках с собою: хочется взглянуть на гулянье.
— Ну, хорошо! Да только вели закладывать проворней!
— Разом будет готово, сударь!
Не побывать первого мая в Сокольниках, а особливо в такую прекрасную погоду, не полюбоваться этим первым весенним праздником — да это бы значило лишить себя одного из величайших наслаждений в жизни! Забыть, что сегодня первое число мая!.. Что за странная вещь наша память! Я помню все, что читал тому лет тридцать и более назад; помню малейшие подробности моей детской жизни; помню даже иные сны, которые видел в ребячестве, — но имена и числа, как заколдованный клад, мне не даются. Из всех наук одна хронология была для меня решительно недоступной наукой; я никогда не помню ничьих именин и очень часто забываю имена моих приятелей. Хорошо еще, что у нас на Руси так много сиятельных, которых вместо того, чтоб называть по именам, можно величать графами и князьями. Без этого счастливого обстоятельства я был бы иногда человеком совершенно погибшим.
Через несколько минут вошел ко мне Никифор и доложил, что коляска готова. Мешкать было нечего: от Пресненских прудов до Сокольников будет верст восемь, если не более; я отправился и проехал, не встретив почти никого, до самой Сухаревой башни. Тут стали показываться экипажи; пешеходов было мало, они обыкновенно отправляются на гулянье, как и везде, гораздо ранее. Повернув мимо Спасских казарм, я выехал к Красному пруду, из которого вытекает речка Чечёра.
Я думаю, большая часть московских жителей и не подозревает существования этого ручья, впадающего в Яузу, которая столь же мало имеет права называться рекою, как этот проток — речкою. Впрочем, это общая привычка русского народа: он любит называть речками не только едва заметные ручьи, но даже стоячие, грязные пруды, — и крестьянка, отправляясь мыть белье на свою запруженную лужу, всегда скажет: «Я иду на речку». Когда я миновал Красный пруд, сцена совершенно переменилась: передо мною открылось большое плоское пространство, усеянное экипажами и бесчисленными толпами запоздалых пешеходов. Кареты, коляски, дрожки и щеголеватые купеческие тележки неслись шибкой рысью врассыпную по обширному Сокольничьему полю; большая часть из них съезжалась на деревянном мосту, перекинутом через другой ручей, который также, не знаю почему, называют речкой Рыбенкою. Вот вдали, на темно-зеленом поле сосновой рощи, окаймленной красивыми дачами, обрисовались белые столбы Сокольничьей заставы. Вот налево замелькали разноцветные кровли Красного села — села, в котором нет ни приходской церкви и ни одной крестьянской избы. Это собрание не дач, а загородных домиков, составляющих несколько улиц и переулков, походит на красивый уездный городок, в котором не построены еще соборный храм, гостиный двор и не устроена базарная площадь с присутственными местами. На левой руке, в близком расстоянии от заставы, была некогда знаменитая дача графа Растопчина. Теперь остались одни развалины дома и запустелый сад, по дорожкам которого растет трава и ездят иногда для сокращения пути мужички в своих телегах. Тут же проходит и водопроводный канал мытищинской воды, подымаемой посредством паровой машины в резервуар Сухаревой башни. От самой заставы начинается сосновая роща или, лучше сказать, бор, который примыкает к огромной лесной даче, известной под названием Лосиного острова. До заставы я ехал свободно и попал в веревку, или ряд экипажей, тогда только, когда въехал в широкую просеку, ведущую к обширному лугу. По обеим сторонам этой просеки толпился народ, а посреди двух рядов экипажей разъезжали разных родов кавалеристы: в мундирах, фраках, сюртуках и венгерках. Одни галопировали с большою ловкостью между каретных колес и, вероятно ради удальства, гарцевали и рисовались в самых тесных местах, заставляя прыгать своих борзых коней, покрытых пеною. Другие вели себя гораздо степеннее, ездили шажком, не вдавались ни в какие опасности и не тиранили своих лошадей, они, конечно, не обращали на себя внимания публики, но зато и не были смешны, как иные из этих лихих наездников, из которых один при каждом прыжке своей лошади бледнел как смерть и почти вслух творил молитву, а другой вследствие неудачной лансады перекувырнулся на воздухе и упал — к счастию, не под колеса, а подле колеса проезжающей кареты. Я после встретил его в роще и слышал, как он рассказывал какой-то даме, что лошадь его опрокинулась и хотя упала с ним вместе, однако ж никак не могла выбить его из седла. Более всех забавлял меня один щеголь — настоящая карикатура английского денди. Длинный, худой, с маленькой бородкою, в коротком сюртуке и цветном галстуке, он сидел на каком-то лошадином привидении, и ростом и статями похожем на чахлого верблюда; эта скаковая кровная кляча с отрубленным хвостом удивительно жеманилась: то пятилась боком, то припрыгивала, то скребла ногою землю, шла задними ногами в галоп, а передними рысью и при каждом ударе хлыста лягалась и перебрасывала своего ездока с седла к себе на шею. Он, впрочем, не терял никак от этого своей уверенности, сидел подбоченясь и сквозь стекло своей лорнетки, воткнутой в правый глаз, глядел на всех с таким величием и гордостью, что невозможно было от смеху удержаться.
— Экий уродина! — шептал позади меня Никифор. — Да где это он достал такого аргамака? Чай, таких и на живодерне мало. Вон подошел к нему такой же долговязый мусью в суконном балахоне…
— То есть в пальто, — сказал я. — Да почему же ты называешь его мусью?
— Да должен быть какой-нибудь иностранец, батюшка. Посмотрите-ка: засунул обе руки в карманы.
— Так что ж?
— Как что, Богдан Ильич? У русского человека руки всегда на свободе: неровен час — поди их вытаскивай из карманов!
— Что это у тебя, Никифор, всегда драка на уме!
— Какая драка, помилуйте! А все-таки, сударь, знаете ли, этак настороже не мешает быть. «Еду — не свищу, а наеду — не спущу!»
— Ну, полно, полно, заврался!
— Слушаю, сударь!
Я не доехал еще и до середины гулянья, а начал уж скучать и посматривать с завистью на свободных пешеходов, которые шли куда хотели и делали все, что им было угодно. Кто выезжает на гулянье не верхом, а в каком-нибудь экипаже, тот должен отказаться на несколько часов от величайшего из благ земных, от своей нравственной свободы. Он уже не лицо, а вещь, он не гуляет, а его возят под арестом в карете или коляске. Он желал бы ехать, а стоит не двигаясь на одном месте, хотел бы остановиться, а его везут вперед. Задумает ехать домой, а ему ради соблюдения порядка говорят: «Не угодно ли вам еще прокатиться?» — то есть проехать версты четыре шагом. Конечно, тот, кто является на гулянье в щегольском экипаже, имеет еще кой-какие вознаграждения за потерю своей свободы: для него гулянье то же, что выставка для фабриканта, сцена для актера и концертная зала для музыканта. Развались в своей откидной карете или коляске, он смотрит с наслаждением и гордостию на толпу, которая повторяет его имя и ахает от удивления, смотря на десятитысячную четверню. Мои весьма обыкновенные лошади не могли доставить мне этого «высокого» наслаждения, и, как бы я ни разваливался в моей старой коляске, никто не обратил бы на нее внимания, и потому я решился при первом удобном случае свернуть в рощу и отправиться гулять пешком. Благодаря искусству моего кучера-Петра, это желание через минуту исполнилось, и я снова вступил в права человека, то есть мог, как существо разумное и одаренное свободной волею, располагать моими действиями. Время было истинно прекрасное. Теплый, влажный воздух, напитанный ароматическим испарением сосен, весенние голубые небеса, кой-где подернутые прозрачными облачками, эта жизнь и всеобщее движение, эти то близкие, то отдаленные звуки полковых оркестров, расставленных по лесу, этот бесконечный ряд экипажей, посреди которых беспрестанно мелькали белые султаны и кивера лихих кавалеристов, эти балаганы, битком набитые людьми всякого звания, и аристократические палатки, наполненные прекрасными женщинами, эти веселые лица и веселый говор бесчисленной толпы народа, — все это вместе составляло такую великолепную картину, такой роскошный пир весны, что, глядя на него, сердце невольно радовалось и забывало всякое горе. Я прошел во всю длину гулянья, до обширной поляны, окруженной с трех сторон густым бором; на ней вокруг шатра, увенчанного елкою, и дощатого балагана, в котором показывали свое искусство канатные балансеры, толпился простой народ. В числе разносчиков, предлагавших свой клюквенный квас, каленые орехи, пряники, сайки и калачи, двое потчевали мужичков мороженым и несколько мальчиков занималось продажею сигар. Кто бы мог подумать, что заморская выдумка — мороженое и это табачное зелье, которое еще так недавно русский народ называл чертовой травою, найдут покупщиков у самых дверей питейного дома? Однако ж я видел своими глазами, как один мужичок с бородою курил сигару, а другой изволил кушать сливочное мороженое, но, к сожалению, это европейское наслаждение просвещенных народов не помешало им спустя несколько минут отправиться под елку. Возвращаясь к моей коляске, я присел отдохнуть на скамье подле одной палатки, которая, судя по выставленному у ее дверей самовару величиною с порядочную бочку, была одним из временных трактиров, разбросанных по всему гулянью. Я стал смотреть на проезжающие экипажи. Из числа их одна откидная карета, которая отличалась богатою английской упряжью, две щеголеватые кабриолетки и красивый штульваген, запряженный парою англизированных лошадей, обратили на себя мое внимание. Как страстный охотник до всех противоположностей, я полюбовался также патриархальною наружностью некоторых карет и долго смотрел на один дормез весьма пожилых лет, на козлах которого рядом с кучером сидела легавая собака. Вдруг кто-то звучным, тоненьким голоском произнес мое имя… Я обернулся: мимо меня проезжало целое дамское общество в огромной линейке. Этот простой экипаж показался мне красивее всех других; и подлинно, в ясный летний день что может быть прекраснее линейки, разумеется, если она так же, как в этот раз, служит для прогулки десяти или двенадцати красавиц, на которых вы можете любоваться, не подымая кверху головы и не заглядывая в узкие окна кареты. В то самое время, как этот подвижной цветник проезжал мимо, кто-то взял меня за руку; я оглянулся и увидел подле себя моего бального знакомца, камергера, который сказал мне с улыбкою:
— Здравствуйте, любезный двойник! Вот мы опять с вами встретились; только сегодня это вовсе не случай: я искал вас по всему гулянью. Подвиньтесь-ка немного, я присяду подле вас и отдохну. Вот, — продолжал он, поместясь рядом со мною на скамью, — вот это можно назвать гуляньем! И просторно и тепло, народу бездна, вокруг зелень, пыли нет…
— Так вы довольны сегодняшним гуляньем?
— Очень! Мне так весело, что я даже без досады смотрю на эти уродливые шляпы, которые в нынешнее лето надели на себя все москвичи.
— Да! Модные шляпы некрасивы: аршинная тулья, сплющенные крылья.
— Знаете ли что, — прервал камергер, — мне, право, кажется, что парижане придумали носить на своих головах эти глупые башни для того только, чтоб испытать, до какой степени простирается наше рабское, безотчетное подражание всем их дурачествам. Я помню исковерканные шляпы a la Cendrillon, помню мягкие шляпы, которые походили на измятые колпаки, и остроконечные шляпы с едва заметными крыльями, напоминавшие своей формою цветочные горшки; все эти моды были очень безобразны, но их безобразие можно назвать красотою в сравнении с этим вавилонским столпотворением, которое мы должны носить вместо шляп, потому что так угодно Парижу. И добро бы еще, дурачились одни молодые люди, а то посмотрите: вон идет старик, он едва передвигает ноги, а на голове у него не шляпа, а каланча! Боже мой, да что ж это такое? Да будет ли когда-нибудь конец этому непонятному ослеплению? Перестанем ли мы когда-нибудь одеваться не только «рассудку вопреки, наперекор стихиям», но даже вопреки вкусу и красоте, из угождения к прихоти чуждого нам по всему народа. Придет ли когда-нибудь время, что одни только молодые, очень молодые люди и женщины, которые никогда не стареются, станут повиноваться законам моды, не размышляя о том, прилична ли эта мода нашему климату, обычаям и служит ли эта мода если не к удобству и спокойствию, то, по крайней мере, к украшению нашей наружности.
Этот длинный монолог моего соседа был прерван каким-то невнятным шепотом: один щеголеватый экипаж обратил на себя всеобщее внимание. Прекраснейшая коляска, четверня великолепных лошадей, богатая упряжь — все в этом экипаже должно было возбуждать удивление и похвалу, а вместо этого я слышал вокруг себя какой-то насмешливый хохот и восклицания, из которых некоторые были даже не очень вежливы.
— Что ж это значит? — спросил я. — Чему смеются эти господа? Да это самый лучший экипаж из всего гулянья. Лакей и кучер одеты прекрасно, и в коляске сидит человек вовсе не смешной наружности… Мне кажется… да, так точно… он… должен быть иностранец?
— Вы не ошиблись! — отвечал камергер.
— Верно, какой-нибудь чиновник посольства?
— Не отгадали.
— Так, вероятно, знаменитый путешественник?
Камергер покачал отрицательно головой.
— А, понимаю! Мотоватый сынок богатого банкира?
— Совсем не то.
— Да кто, кто ж он такой?
— Артист, и даже не первоклассный.
— Нет, шутите?
— Право, не шучу. Эта четверня представляет сбор двух концертов, а коляска, вероятно, куплена ценою нескольких музыкальных вечеров.
— Так он музыкант? Бедняжка! Ну, если он как-нибудь вывихнет палец?
— Да, это будет грустно: ведь вовсе не весело при свисте и хохоте толпы пересаживаться из этой великолепной коляски на какие-нибудь оборванные дрожки плохого извозчика. Ну, теперь понимаете ли, чему смеются?
— Да, это и смешно и жалко.
— Нет, покамест только смешно. Вы знаете басню о лягушке, которая хотела сравняться с быком. О ней можно было пожалеть, когда она лопнула, но пока она хвасталась и надувалась, так, вероятно, все, глядя на нее, смеялись, а не плакали.
— Вот лошади! — вскричал я невольно, взглянув на красивую пролетку, заложенную парой вороных коней необычайной красоты.
— И, верно, пришлись очень дешево хозяину, — прервал камергер.
— А кто он такой?
— Также артист, но только совсем другого рода.
— Кто ж он такой? Скульптор, живописец?…
— Нет, механик. Да еще какой! Перед ним и знаменитый Боско ничего не значит.
— А, так он фокусник?
— Преудивительный! Если б вы знали, какие чудеса он делает картами! Попробуйте сто раз сряду из целой колоды карт поставить какую вам угодно ва банк — всегда ляжет направо. Необычайное искусство!
— Вот что! И, верно, он называет это искусство удачею и случаем?
— Разумеется, истинный талант всегда скромен.
— Однако ж посмотрите, сколько у него знакомых! Он беспрестанно раскланивается направо и налево; неужели это все такие же, как и он, артисты?
— Избави, господи! Да тогда бы надобно было бежать вон из Москвы.
— Так поэтому не всем знакомым его известно…
— Чем он промышляет? Да это знают даже и те, которые с ним вовсе не знакомы.
— И несмотря на это…
— Да, несмотря на это, с ним кланяются, ему жмут руку, и люди очень честные не стыдятся водить с ним хлеб и соль.
— Скажите пожалуйста!.. Что же значит после этого общее мнение?
— Да ровно ничего! Оно страшно только для бедняков, а тот, кто может сыпать деньгами, смеется над этим общим мнением. Все станут ругать какого-нибудь миллионщика-негодяя, и все к нему поедут обедать, лишь только бы у него была уха из аршинных стерлядей да шампанского вдоволь. Прочтите басню «Суд зверей», вот вам «общее мнение». Кто слаб, того оно задушит, кто силен, тому оно повалится в ноги.
— Да, конечно, Грибоедов прав: «…кому в Москве не зажимали рты обеды, ужины и танцы!» Но кто же в этом виноват? Все-таки не общее мнение; оно делает свое дело, да мы-то своего не делаем. Оно клеймит без пощады порок, прославляет добродетель, уважает ум, смеется над глупостью…
— И, конечно, скажете, всегда бывает справедливо? — прервал с живостью камергер. — Вот то-то и беда, что нет! Сколько раз на моей памяти это «общее мнение» поддерживало ничем не заслуженную славу бездарного писателя, губило возникающий талант и помогало распространяться гнусной клевете; сколько глупцов по милости того же «общего мнения» слывут во всю жизнь свою людьми умными, и сколько истинно умных людей разжаловано им если не в глупцы, то, по крайней мере, в совершенно пустые и ни на что не способные люди. «Общее мнение»!.. Да уж не говорите мне об этом «общем мнении»!..
— Однако же недаром же есть пословица: «Глас народа — глас божий».
— Да! Если б этот глас народа был всегда справедлив или, по крайней мере, выражал общее мнение, а то ступайте покатайтесь по Москве, послушайте!.. Вот какая-нибудь сиятельная или превосходительная дама, которая в своем углу разыгрывает большую барыню, примется все осуждать, всех казнить, позорить — и тот дурень, и этот нехорош: «Помилуйте, батюшка, на что это походит? Кого нам дали? Что это за человек?… Его Москва не любит!» То есть я, Матрена Власьевна, его терпеть не могу. А там, глядишь, другой барин начнет вам рассказывать такие нелепые новости, что у вас волосы дыбом станут; вы посомнитесь, и он тотчас вам скажет: «Да, сударь, да! Это верно! Москва говорит!» А кто эта Москва?… Какой-нибудь отставной бригадир Панкратий Ильич с своею супругою да кумушка из соседнего прихода. Да что об этом говорить, — продолжал мой собеседник, вставая, — вы, верно, приехали сюда не философствовать, а подышать весенним воздухом, погулять, позевать на толпу, — так пойдемте лучше в лес да посмотрим, как веселятся те, которые приехали сюда не в щегольских экипажах, а в плохих колясках, тележках; на извозчиках и, как обыкновенно выражаются господа пешеходы, на «паре вороных», то есть просто пешком.
Оставив в стороне большую дорогу, по которой тянулись длинные ряды нарядных экипажей, мы повернули в лес и не успели сделать двадцати шагов, как сцена совершенно переменилась. Вместо роскошного столичного гулянья мы увидели перед собой сельский праздник во всей незатейливой простоте его, но в таких колоссальных размерах, что вовсе не трудно было догадаться, из какой деревеньки пришел весь этот православный народ потешиться, погулять и напиться чайку под тенью зеленеющих сосен, которые недели четыре тому назад, занесенные снегом и покрытые инеем, стояли, как мертвецы, в своих белых саванах. Все пространство, какое только можно окинуть взором, усеяно было пестрыми толпами горожан, которые сидели на земле отдельными кружками. В одном месте курили молча трубки и сигары, в другом разговаривали, в третьем слушали заливные песни цыганок, в четвертом потешал честную компанию удалой детина, играя на берестовом рожке. Везде забавлялись и везде пили чай. Эта необходимая потребность нашего купечества, эта единственная роскошь наших небогатых мещан, это праздничное, высочайшее наслаждение всех трезвых разночинцев, фабричных мастеровых и даже мужичков — наш русский кипучий самовар дымился на каждом шагу. Мы подошли к одному из этих самоваров, вокруг которого сидело на траве человек пять рабочих людей из крестьян и две молодицы в нарядных телогреях. Все они сидели чинно, попивали чаек, и не стаканами, а из фарфоровых чашек.
— Ну, вот это хорошо, ребята, — сказал мой собеседник, — вы вместо вина пьете чай. Оно дешевле и здоровее…
— Да и батюшка не заказывает, — сказал один молодой парень, кладя в рот кусочек леденца, который служил им вместо сахару.
— Знаете ли, — продолжал камергер, обращаясь ко мне, — ведь это уже не в первый раз, что я встречаю простых крестьян, которые, желая повеселиться, пьют чай, а не вино — этот медленный яд, который хуже всякого другого, потому что он в одно время убивает и тело и душу.
— Почему же яд? — сказал я. — В нашем климате умеренное употребление вина не только не вредно, но даже полезно.
— Умеренное, — да вот то-то и беда, что умеренность редко бывает добродетелью русского человека. В нужде наш мужичок будет сыт куском черствого хлеба, но если он расположится погулять, то есть попить и поесть сколько душе угодно, то уж, конечно, съест за троих немцев, а выпьет за пятерых. Немцу что надобно? Бутылка пива, много две. А видали ли вы, как наши мужички пьют брагу? Иной столько нальет в себя этого хмельного питья, что весь растечет и сделается почти прозрачным. Немец выпьет с расстановкою небольшую рюмочку шнапсу, да и довольно, а русский человек коли уж выпил один стаканчик «казенного», так и подавай ему целый штоф! Нет, конечно, можно будет порадоваться, если у нас, так же как и в Соединенных Штатах, простой народ станет понемногу привыкать пить вместо вина чай.
— Да почему же не сбитень? — прервал я.
— Сбитень? — повторил камергер. — Конечно, зимой русскому мужичку, когда он продрогнет на морозе, хорошо выпить стакан сбитню с перцем или инбирем, — да это наслаждение совсем другого рода. Притом же с этим сбитнем много хлопот, его надо варить умеючи, и для этого есть даже особенные мастера, и обойдется-то он гораздо дороже чаю.
— Неужели дороже?
— Разумеется. Попытайтесь-ка напоить сбитнем русского мужичка да напоить, как говорится, до отвалу, так он у вас на полтину выпьет. А чай что такое? Был бы только самовар, вода непокупная, чаю для троих довольно на двадцать копеек, на десять леденцу, и вот наш мужичок примется пить не торопясь, с прохладою, выпьет чашек десять горячей воды, которая пахнет немного чаем, и протешится часа два за медную гривну. Оно и дешево и безвредно, а между тем есть чем и похвастаться. «Были, дескать, в Сокольниках, на бар посмотрели, чаю пили вдоволь… Неча сказать — потешились, погуляли досыта!» Однако ж, — примолвил мой собеседник, — вот мои пролетки, пора домой!
— И мне также пора, — сказал я, — теперь еще ехать можно свободно, а как все разом хлынут с гулянья, так и на Сокольничьем поле будет тесно. Здесь же все ездят шагом, а там начнется такая скачка, что упаси, господи! Все кучера с ума сойдут, кинутся во все стороны, начнут перегонять друг друга, благо жандармов нет — воля!.. Гони себе и в хвост, и в голову!.. Беда, да и только!
— И это также, — сказал камергер, садясь на свои пролетки, — характеристическая черта русского народа. Заставили его поездить часика четыре тихо, чинно, по-немецки, а там как дали волю русской удали, так уж только держись!
Я простился с камергером, отыскал свою коляску и отправился домой. Когда я стал подъезжать к Красному пруду, то оглянулся назад, — все Сокольничье поле было усыпано экипажами: немецкое гулянье кончилось, и началась русская скачка.
IV Поездка за границу
1. Сборы
Княгиня Дымова уехала с сестрицей,
Степан Степанович отправился с женой.
Все едут на воды. Зачем же мне одной
Нельзя пожить хоть годик за границей?
Чем хуже я других?..
Из рукописной комедииДействие происходит за Москвой-рекой, на Ордынке, в доме Андрея Тихоновича Оборкина. Гостиная, выкрашенная малиновою краскою, мебель орехового дерева, обитая желтым полуштофом с голубыми разводами. На стене против окон большая фамильная картина, представляющая все семейство Оборкиных, то есть: Андрея Тихоновича в летнем сюртуке, супругу его, Марью Алексеевну, в белой кисейной блузе, племянника Андрюшу в синей курточке и толстого мопса Шери в розовом атласном ошейнике, — все это прекрасно сгруппировано: кругом деревья, зелень, цветы, прозрачный ручеек; Андрюша ловит бабочку; Марья Алексеевна сидит на дерновой скамье; мопс Шери лежит у ней на коленях; Андрей Тихонович стоит позади; у мопса глаза до половины закрыты — он дремлет; муж смотрит с умильной улыбкой на жену; она глядит задумчиво на ручей и держит в руке раскрытую книгу, в которой написано крупными буквами: «Так мирно и спокойно течет жизнь наша!» Под этой картиной стоит диван, перед диваном круглый стол, на котором разбросаны французские альманахи, несколько томов «Странствующего жида», первый том «Лелии» Жоржа Занда, подробная карта Европы и толстый «Guide des Voyageurs». На диване сидит Марья Алексеевна и читает «Московские ведомости». Сбоку за тем же столом Андрей Тихонович выкладывает что-то на счетах, перед ним лежит кипа бумаг. Марья Алексеевна — женщина лет двадцати пяти; ее нельзя назвать идеалом женской красоты, которая, по мнению знатоков, должна заключать в себе что-то воздушное, неземное. В Марье Алексеевне нет ничего воздушного: ее белые широкие плечи, полное румяное лицо, серые светлые глаза, в которых не заметно ни малейшей томности, — все изобличает в ней самое пошлое, прозаическое здоровье и эту грубую телесную силу, которая вовсе не к лицу какой-нибудь деве неземной. Андрей Тихонович — мужчина лет пятидесяти, довольно приятной наружности: его спокойное и кроткое лицо выражает совершенную доброту и простосердечие. В своем кругу он слывет за человека недального, иные называют его даже просто дураком; но это несправедливо: в нем есть и здравый смысл, и логика, которая никогда не дается дуракам, даже самым ученым. Андрею Тихоновичу недостает только твердой воли и той силы характера, без которых и ум и логика решительно ни к чему не служат. Андрей Тихонович по большей части рассуждает весьма умно, а поступает очень глупо, потому что всегда делает не то, что хочет, а то, чего желают другие. В числе этих других, разумеется, первое место занимает его молодая жена, а второе все те, которые держат её сторону. Из этого вы можете заключить, что Андрей Тихонович муж, каких мало… Нет, любезные читательницы, не прогневайтесь: гораздо вернее будет сказать, что Андрей Тихонович муж, каких много.
Андрей Тихонович (продолжая выкладывать на счетах). С кулябкинских оброчных три тысячи семьсот тридцать рублей ассигнациями… С вихляевских пять тысяч триста двадцать рублей… Да с мельницы пятьсот… В Воропановке прошлогодничной ржи намолочено две тысячи триста четвертей, полагая средним числом по шести рублей за четверть — тринадцать тысяч восемьсот рублей; овса, гречи, ячменю запродано на три тысячи рублей, итого ассигнациями двадцать шесть тысяч пятьдесят рублей… на серебро…
Марья Алексеевна (перелистывая газеты). А, вот наконец!.. «Отъезжающие за границу». Какое множество!.. И это еще только из Москвы, что ж должно быть из Петербурга!.. (Читает.) «В Германию, Италию, Францию, Бельгию, Голландию и Англию: титулярный советник князь Павел Николаевич Наседкин с супругою княгинею Еленою Дмитриевною, с малолетнею дочерью Екатериною, с находящимися при них австрийским подданным Готлибом Вуртманом, московскою мещанкою Аксиньею Ивановою Подкипкиной и дворовою девушкою Матреною Филипповою Сыромятниковою… В Италию: надворный советник Иван Иванович Россомахин… Во Францию: полковница Федосья Антоновна Скалозубова с двумя дочерьми…» Боже мой!.. Что это?… Андрей Тихонович!.. Посмотри! Андрей Тихонович. Что такое, матушка? Марья Алексеевна. Нет, уж это, право, досадно!.. Послушай!.. «В Карлсбад: коллежский асессор Артемий Никитич Сусликов с женою Авдотьей Никифоровною и двумя малолетними дочерьми, Софьей и Надеждой».
Андрей Тихонович. Так что ж, мой друг?
Марья Алексеевна. Как что?… Всего заложенных триста душ — в Москве жить нечем, а едут за границу!..
Андрей Тихонович. И, матушка, какое нам до этого дело? У всякого свой ум в голове.
Марья Алексеевна. Нет, уж это ни на что не походит!.. Горины уехали за границу, Шестуновы другой год в Италии, Запеваловы отправились в Париж, и даже Сусликовы, которым перекусить нечего, и те едут в Карлсбад, а мы живем себе да живем в Москве!.. У нас состояние прекрасное, восемьсот душ… детей нет…
Андрей Тихонович. Да есть племянник, мой друг, — надобно также и о нем подумать. Он круглый сирота, и вся будущность его зависит от нас.
Марья Алексеевна. Ах, боже мой! Да разве мы о нем не печемся? Кажется, мы ничего не жалеем для его воспитания. Прежде он был на наших руках, а теперь мы его пристроили; он учится в дворянском институте…
Андрей Тихонович. Не о том речь, матушка! Воспитанье-то мы ему дадим, да ведь надобно же и кусок хлеба оставить.
Марья Алексеевна. Ах, Андрей Тихонович, какой вы странный… Да неужели нельзя побывать за границею, не расстроив своего состояния?
Андрей Тихонович. Конечно, можно, да ведь затеи-то у тебя больно велики!.. Дело другое съездить за границу на несколько месяцев, а ты все норовишь прожить там года два или три.
Марья Алексеевна. Другие живут и дольше. Ну, что за радость отправиться в чужие края на несколько месяцев? Не успеем приехать — и ступай назад. Да, по-моему, лучше вовсе не ездить!
Андрей Тихонович. А вот послушай, Марья Алексеевна! Я считал сейчас все наши доходы: в нынешнем году у нас будет всего-навсего с небольшим двадцать шесть тысяч ассигнациями; из них: должно внести в Опекунский совет шесть тысяч рублей, следовательно, чистого дохода останется у нас только двадцать тысяч ассигнациями, да и то, если нам заплатят сполна весь оброк и мы продадим рожь не дешевле шести рублей за четверть.
Марья Алексеевна. По шести рублей! Помилуй, Андрей Тихонович! Уж на что было хуже прошлого года, не знали, куда с хлебом деваться, и все-таки продали по пяти рублей четверть. А теперь слухи хорошие: говорят, что во всех степных губерниях неурожай.
Андрей Тихонович. Нет, Марья Алексеевна, в Тамбовской только всходы были плохие, да и то бог милостив — поправятся.
Марья Алексеевна. Ну, очень хорошо. Положимте, что у нас будет всего двадцать тысяч в год дохода, — так что ж?… Разве этим нельзя прожить целый год за границею?… Ведь там все гораздо дешевле здешнего.
Андрей Тихонович. Дешевле не дешевле, матушка, а говорят, что там живут-то посмирнее нашего. Да это еще ничего, первый год мы проживем кое-как, а второй-то?
Марья Алексеевна. Второй будем жить новыми доходами.
Андрей Тихонович. Новыми! А если новых-то не будет?
Марья Алексеевна. Это почему?
Андрей Тихонович. Эх, Марья Алексеевна! Да разве ты не знаешь, заглазное дело — беда! Коли помещик сам не станет заниматься хозяйством и не будет за всем присматривать, так его как липку облупят. Приказчик и старосты начнут воровать, уборка хлеба будет плохая, умолот бедный, продажа дешевая. Оброчные также станут утягивать, недоплачивать: до барина, дескать, далеко, он за морем! А барин-то и сиди себе на чужой стороне да в кулак посвистывай!
Марья Алексеевна. Все это, мой друг, одни предположения, а я уверена, что хозяйство и без нас пойдет прекрасно. Наш приказчик, Терентий, человек усердный, честный, мы, конечно, во всем можем на него положиться… Душенька, Андрюша!.. Да полно, мой друг, перестань упрямиться, поедем!.. Неужели ты меньше любишь свою жену, чем этот Сусликов? И добро бы, у него жена-то была добрая, а то ветреница, капризная, а он все-таки везет ее за границу!.. И уж подлинно с грехом пополам: чай, душ сто продали? Ну, подумай, Андрей Тихонович, за что ж ты хочешь, чтоб я, добрая, верная жена твоя, краснела даже перед этой кокеткой Сусликовой?… Ты знаешь, я с ума схожу на чужих краях… Эта мысль преследует меня и днем и ночью… Друг мой, жизненочек, душечка… Ну, докажи перед целым светом, что ты меня любишь!.. Поедем!..
Андрей Тихонович. Что будешь с тобою делать!.. Я вижу, тебя ничем не урезонишь.
Марья Алексеевна. Так мы едем! (Бросается на шею к мужу.) Андрюшенька, голубчик мой! Ах, как я рада!.. Ну, что ж, мой друг, уж если ты решился и мы едем за границу, там зачем откладывать? Сегодня же можно послать и в газеты.
Андрей Тихонович. Успеем, матушка!
Марья Алексеевна. Нет, мой друг, чем скорей, тем лучше. Я до тех пор не буду спокойна, пока не прочту сама в газетах, что мы едем за границу.
Андрей Тихонович. Ну, пожалуй! Вот я напишу сейчас; только надобно также написать, кого мы с собою берем.
Марья Алексеевна. Чего ж лучше Артемки, он малый проворный, а я возьму Матрену и Шарлотту Карловну.
Андрей Тихонович. Твою прежнюю нянюшку… Так она уж не живет у Вельских?
Марья Алексеевна. Нет, живет; да там ей дают всего четыреста рублей, а мы дадим шестьсот, и она охотно с нами поедет. Я уж к ней посылала.
Андрей Тихонович. Да на что она тебе?
Марья Алексеевна. Как на что?… Я говорю по-немецки плохо; ты вовсе не говоришь… Так Шарлотта Карловна очень пригодится.
Андрей Тихонович. Да, конечно… Только, воля твоя, надоест нам эта немка. Она с такими причудами.
Марья Алексеевна. Что ты, мой друг! Шарлотта Карловна предобрая!
Андрей Тихонович. Добра-то добра, да только не укладиста. Посадишь в карету наперед, так ей дурно делается; ямщик затянет песню — у нее тоска; трубку закуришь — ей тошно; остановишься в трактире — народу много; в крестьянской избе — тараканы съели. Помнишь, матушка, как мы с ней маялись, когда ездили в Воронеж?
Марья Алексеевна. И, мой друг, да ведь теперь мы не в Воронеж едем. За границею совсем не то — там все удобства: там Шарлотте Карловне не на что будет жаловаться, А как мы поедем, Андрей Тихонович: водою или сухим путем?
Андрей Тихонович. Нет уж, сделай милость, не водою! Я до морских путешествий не охотник, матушка.
Марья Алексеевна. Да чего ж ты боишься? Мы поедем из Петербурга на пироскапе.
Андрей Тихонович. Сиречь на пароходе — покорнейше благодарю! Не утонешь — так тебя на воздух взорвет. Нет, мой друг, поедем сухим путем!
Марья Алексеевна. То есть на Петербург, а там на Ригу?
Андрей Тихонович. Да, матушка.
Марья Алексеевна. В чем же мы поедем? В нашей дорожной четвероместной карете?
Андрей Тихонович. Разумеется, — она легка и поместительна.
Марья Алексеевна. Только сделай милость, Андрюша, не бери ничего с собою. Лишь бы доехать до границы, а там у нас все будет!
Андрей Тихонович. Нельзя же, матушка, не взять шкатулку, погребец, платье, белье…
Марья Алексеевна. Ну, пожалуй себе, бери! А я все здесь брошу.
Андрей Тихонович. Да ведь это, мой друг, лишний расход.
Марья Алексеевна. Уж как хочешь, а я нашего русского тряпья и дряни за границу не повезу.
Слуга (входя в гостиную). Авдотья Никифоровна Сусликова.
Андрей Тихонович. Я думаю отказать, мой друг.
Марья Алексеевна. Нет, нет!.. Проси! (Слуга уходит.) Знаешь ли, зачем пожаловала к нам Сусликова?
Андрей Тихонович. С визитом, матушка.
Марья Алексеевна. Нет! Она едет за границу, так хочет почваниться надо мною, подразнить меня!
Андрей Тихонович. И, что ты, Марья Алексеевна.
Марья Алексеевна. Уверяю тебя! Она теперь начнет разъезжать по всей Москве, станет всем колоть глаза своим Карлсбадом. Да вот, погоди, я спеси-то ей поубавлю!
(Входит Сусликова, молодая женщина довольно приятной наружности. На лице ее выражается та торжественность, то внутреннее сознание своего достоинства, которыми вообще отличаются и правоверные л мусульмане, отправляющиеся на поклонение в Мекку, и большая часть русских, отъезжающих за границу.)
Марья Алексеевна (идя навстречу к Сусликовой). Авдотья Никифоровна!..
Сусликова. Здравствуйте, Марья Алексеевна! (Целуются.) Андрей Тихонович, как ваше здоровье?
Андрей Тихонович. Слава богу, матушка… Слава богу!.. Прошу покорно садиться! (Сусликова и хозяйка садятся на диван.)
Сусликова. А я приехала с вами проститься, Марья Алексеевна.
Марья Алексеевна. Проститься?… Куда ж вы едете? Верно, в вашу тамбовскую деревню?
Сусликова. Нет, Марья Алексеевна, за границу!
Марья Алексеевна (очень холодно). Право?… А куда ж вы едете за границу?
Сусликова. В Карлсбад.
Марья Алексеевна. Что ж, это хорошо. Вы будете пить воды?
Сусликова. Да, может быть, один курс.
Марья Алексеевна. А потом?
Сусликова. Потом заедем на несколько дней в Дрезден; если успеем, посмотрим Саксонскую Швейцарию, а там назад в Москву.
Марья Алексеевна. Так вы пробудете за границею…
Сусликова. Месяца три или четыре.
Марья Алексеевна. Только-то!.. Конечно, для того, чтоб побывать в Карлсбаде да проездом взглянуть на Дрезден, больше времени и не надобно… Знаете ли что, Авдотья Никифоровна?… Ведь мы можем с вами повстречаться за границею.
Сусликова. Как?… Так и вы едете в Карлсбад?
Марья Алексеевна. Нет, в Карлсбаде мы будем только проездом. Да, если правду сказать, что там и делать?… Эти карлсбадские воды сделались так пошлы! Ну, право, по мне, все равно, что наш Липецк, что этот Карлсбад; и если б мне нужно было лечиться водами, так уж, конечно, я охотнее поехала бы на Кавказ.
Сусликова. Ах, что вы, Марья Алексеевна, помилуйте!
Марья Алексеевна. Право!.. Там, по крайней мере, другая природа, другой мир; а что такое Карлсбад? Ну, скажите сами: кто не был в этом Карлсбаде?… Да знаете ли, что в Петербурге поездка в Карлсбад не считается даже путешествием за границу?
Сусликова (с приметной досадой). Ну, нет, Марья Алексеевна, извините! Ведь съездить в Карлсбад не то, что съездить в Воронеж или Пензу.
Марья Алексеевна. Почти то же.
Сусликова (вспыхнув). Да позвольте спросить: вы-то куда изволите ехать?
Марья Алексеевна. Разумеется, сначала в Германию, на берега Рейна; там в Швейцарию; оттуда в Верхнюю Италию — на Лаго-Маджиоре, в Венецию… О, там мы непременно будем! Потом на зиму в Рим, а будущей весною…
Сусликова. Назад в Россию?
Марья Алексеевна. О, нет!.. Стоит ли того, чтоб ехать на один год за границу! Из Италии мы проедем в Париж…
Сусликова (у которой начинается истерика). Вот что!.. И долго там проживете?
Марья Алексеевна. До самой зимы.
Сусликова. А потом?
Марья Алексеевна. Опять в Италию: сначала в Неаполь, а там, может быть, проедем в Палермо… Представьте себе, Авдотья Никифоровна, в то время как вы будете здесь жить по уши в снегу, мы станем прогуливаться под тенью померанцевых деревьев… Ах, ma chere amie!.. Уж то-то я вам порасскажу, когда мы воротимся…
Сусликова (с злобной улыбкой). Покорнейше вас благодарю!.. А мы послушаем, если доживем до этого.
Марья Алексеевна. И, полноте, что вы?… Мы года через три непременно вернемся.
Сусликова. Через три года!.. Ну, помогай вам бог, Марья Алексеевна!.. Прожить три года за границею — не безделица!
Марья Алексеевна. Да, конечно, иным нельзя и году прожить за границею, но с таким состоянием, как наше…
Сусликова. Разумеется… Вам бросить пятьдесят и даже сто тысяч — ничего не значит.
Марья Алексеевна. Ну, этого сказать нельзя… Впрочем, конечно, пятьдесят и даже сто тысяч нас не разорят.
(Минутное молчание. И хозяйка и гостья не говорят ни слова, но в их глазах можно легко прочесть, что они думают следующее.)
Сусликова. Как эта дура чванится!.. Хвастунья этакая!
Марья Алексеевна. Что, голубушка, — много взяла со своим Карлсбадом?…
Сусликова (вставая). Прощайте, Марья Алексеевна!
Марья Алексеевна (также вставая). Что это вы, Авдотья Никифоровна, куда так торопитесь?
Сусликова. Извините, мне много еще надобно ездить. Хоть мы отправляемся и не в Италию и не на три года, а нельзя же не проститься со всеми знакомыми… Да не беспокойтесь, сделайте милость!
Марья Алексеевна (провожая). Sans adieu, madame!.. Мы увидимся с вами в Карлсбаде.
Сусликова. Почему знать, может быть, вы там и дня не пробудете.
Марья Алексеевна. Все равно — уж я вас отыщу!
Сусликова. Comme vous etes bonne, madame!.. Прощайте! (Уходит.)
Андрей Тихонович. Ну, матушка Марья Алексеевна, как ты свою гостью-то отделала!
Марья Алексеевна. А ты заметил?
Андрей Тихонович. Как же!.. Ее начинало уж подергивать… Я того и глядел, что с ней дурно сделается.
Марья Алексеевна. Пускай себе!.. Видишь, шиканерка какая!.. Прискакала объявлять, что едет за границу!.. Думала, что я так и ахну… что у меня желчь разольется!
Андрей Тихонович. И, нет, матушка! Чай, хотелось просто так — похвастаться…
Марья Алексеевна. Да, просто!.. Ты ее не знаешь, мой друг; поверь мне, она, отправляясь к нам, думала: «Уж как же я этим разогорчу Марью Алексеевну!.. Она начнет приставать к мужу, чтоб он вез ее также в чужие края, — он не согласится, они поссорятся…»
Андрей Тихонович. Да что ж ей от этого за радость?
Марья Алексеевна. Такой уж скверный характер!
Андрей Тихонович. А что, Марья Алексеевна, скажи правду: ведь ты в самом деле поссорилась бы со мною, если б я стал упираться?
Марья Алексеевна. Ах, Андрюша!.. И тебе не стыдно говорить такие слова?… Да разве есть что-нибудь в мире, за что бы я могла с тобой поссориться?… Разве я не делаю всегда, что тебе угодно…
(Входит слуга.)
Андрей Тихонович. Что ты?
Слуга. Письмо с почты.
Андрей Тихонович. Подай!.. Из Воропановки, от приказчика… А повестки нет?
Слуга. Нет, сударь. (Уходит.)
Андрей Тихонович (распечатывая письмо). Что ж это значит?… (Читает письмо.) Что это?… Господи!..
Марья Алексеевна. Что такое, мой друг?
Андрей Тихонович. Гнев божий, матушка!.. Несчастье… Вся Воропановка выгорела — десяти дворов не осталось!
Марья Алексеевна. Что ты говоришь?!
Андрей Тихонович. Посмотри-ка, что Терентий пишет… Все дотла сгорело; весь хлеб — и наш и крестьянский.
Марья Алексеевна. А разве наш хлеб не был еще продан?
Андрей Тихонович. Видно, что нет… Вот тебе и поездка за границу!
Марья Алексеевна. Как, мой друг, так мы не поедем?
Андрей Тихонович. Помилуй, Марья Алексеевна, как теперь нам уехать? Я завтра же поскачу в Воропановку… Надобно взглянуть самому, пособить мужичкам, обстроить их…
Марья Алексеевна. Да это все может сделать без тебя Терентий. Послушай, мой друг, уж без этого мы теперь не обойдемся… Надобно занять в Опекунском совете. Да вот всего лучше: ты сбирался купить подмосковную и взял свидетельство на Вихляевку; в ней без малого триста душ, так нам выдадут из Опекунского совета с лишком шестьдесят тысяч; ты пошлешь тысяч пять Терентию, а с остальными нам, кажется, можно будет ехать за границу.
Андрей Тихонович. Эх, Марья Алексеевна, занять легко, а прожить и того легче; да платить-то чем мы станем?
Марья Алексеевна. Как чем?… Если мы будем жить за границею занятыми деньгами, так все здешние доходы пойдут на уплату долга.
Андрей Тихонович. А если без нас доходы-то будут плохие или их вовсе не будет — тогда что? Нет, мой друг, что бог даст вперед, а в нынешнем году нам никак нельзя ехать за границу.
Марья Алексеевна. Нельзя?… Ну, делать нечего, Андрей Тихонович!.. Я до сих пор скрывала от тебя — не хотела тебя огорчить, но теперь должна сказать всю правду. Неужели ты думаешь, что я хотела прожить за границею три года для одной только забавы?
Андрей Тихонович. А для чего же, матушка?…
Марья Алексеевна. Для моего здоровья, Андрей Тихонович!.. Оно совершенно расстроено…
Андрей Тихонович. Расстроено?… Твое здоровье расстроено?
Марья Алексеевна. Ужасно!.. Я советовалась с медиками, и они полагают, что меня может спасти один теплый климат.
Андрей Тихонович (остолбенев от удивления). Спасти?… Как спасти?…
Марья Алексеевна. Да, мой друг!.. И что для этого мне непременно надобно провести две или три зимы в Неаполе, Риме или, по крайней мере, в Париже.
Андрей Тихонович. Да что у тебя за болезнь такая, мой друг? Понять не могу!.. Ты благодаря бога кушаешь хорошо, почиваешь спокойно, румянец во всю щеку…
Марья Алексеевна. Румянец во всю щеку!.. Да разве ты не знаешь, Андрей Тихонович, что у чахоточных людей всегда румянец…
Андрей Тихонович. Что ты, что ты!.. Христос с тобою!.. Ну, походишь ли ты на чахоточную?…
Марья Алексеевна. Вы всё судите по наружности, а если бы вы знали, как я страдаю, какие у меня боли в груди!.. Да вам какое до этого дело… Я худею, чахну…
Андрей Тихонович. Худеешь? Эх, матушка Марья Алексеевна, охота тебе гневить бога! Да с тех пор, как я на тебе женился, ты так подобрела, что и сказать нельзя! Попробуй-ка, мой друг, надень теперь свое подвенечное платье…
Марья Алексеевна. Я буду в нем, как в мешке, сударь. Да что об этом говорить! Если вам легче видеть меня в гробу, чем ехать за границу, так делать нечего. Мы, бедные женщины, рождены для того, чтоб быть невольницами, и если муж, то есть господин, скажет своей жене: «Я хочу, я приказываю!» — так она должна повиноваться и умирать.
Андрей Тихонович. Марья Алексеевна!.. Ну тебе ли это говорить?
Марья Алексеевна (не слушая). Боже мой, да когда же наступит час нашего освобождения!.. Неужели это рабское состояние женщины будет продолжаться вечно?…
Андрей Тихонович. Марья Алексеевна!..
Марья Алексеевна. Неужели мы должны все от рожденья нашего до самой смерти носить эти позорные кандалы?
Андрей Тихонович. Марья Алексеевна, побойся бога!
Марья Алексеевна. Когда подумаешь: что такое жизнь бедной женщины?… Никакие жертвы, никакое самоотвержение не избавляют ее от этого унизительного рабства! Ей только и твердят: «Терпи — ты на это рождена!» О, лучше бы нам вовсе не родиться! (Закрывает глаза платком.)
(Входит двоюродная сестра Марьи Алексеевны, Анна Михайловна Хопрова, женщина лет под сорок. Заметно, что она была недурна собою. Черные быстрые глаза ее еще прекрасны. Хопрова была два раза замужем и, вероятно, не отказалась бы от третьего мужа, если б он решился идти по стопам обоих покойников, то есть любить свою жену со страхом и повиноваться ей с трепетом. Она слывет в своем кругу женщиной отличного ума; впрочем, может быть, потому, что мужья ее были люди очень простые, — а ведь, известное дело, если муж глуп, а жена не пошлая дура, так она уж, верно, прослывет умницей.)
Bonjour, cousine! Что это?… Ты плачешь? Что с тобой, мой друг?
Марья Алексеевна. Ах, Анета! Я самая несчастная женщина!
Хопрова. Что ты говоришь!
Марья Алексеевна. Ах!
Хопрова. Да что такое у вас сделалось, Андрей Тихонович?
Андрей Тихонович. Анна Михайловна! Вы женщина умная, — ну, рассудите нас, бога ради! Вот, изволите видеть…
Марья Алексеевна (прерывая). Ты знаешь, мой друг, как я нездорова?
Хопрова. Да, да, Marie! Ты так же, как я, очень страдаешь нервами.
Марья Алексеевна. Что нервы!.. Об этом я не стала бы и думать! А грудь, мой друг, грудь!..
Хопрова (с невольным удивлением). Грудь?
Марья Алексеевна. Теперь скрывать уж нечего; ты знаешь…
Хопрова. Что у тебя расстроена грудь?… Как же, как же — знаю!.. Ты давно уже на нее жалуешься.
Марья Алексеевна. Слышите, сударь!.. Ты знаешь также, что я потихоньку от мужа советовалась с медиками…
Хопрова. Знаю, знаю!
Марья Алексеевна. Слышите, сударь!.. Не правда ли, я говорила тебе, что все доктора советуют мне ехать за границу?…
Хопрова. Говорила, мой друг, говорила!
Марья Алексеевна. Слышите, сударь!.. И что мне непременно должно прожить года два или три в теплом климате, что это одно может спасти меня от смерти?
Хопрова. Да, да, Marie! Ты мне это говорила.
Марья Алексеевна. И что ж ты думаешь, мой друг? Андрей Тихонович не хочет везти меня за границу, — ему жаль денег…
Хопрова. Андрей Тихонович, вы ли это?
Андрей Тихонович. Матушка, выслушайте меня!..
Хопрова. Помилуйте!.. У вашей жены смертельная болезнь, вы можете спасти ее и жалеете денег!
Андрей Тихонович. Позвольте вам только сказать…
Хопрова. Что вы, что вы!.. Да это неслыханное дело!.. Это ни на что не походит!..
Андрей Тихонович. Дайте же мне вымолвить слово: ведь я за пять минут до вашего приезда был согласен ехать на два года за границу…
Хопрова. Так отчего ж теперь?…
Андрей Тихонович. Вот прочтите письмо от приказчика! Лучшее наше имение выгорело дотла, сгорел весь хлеб, доходов никаких не будет, и, чтобы ехать за границу, нам придется заложить последнее имение в Опекунский совет… Ну, рассудите сами…
Хопрова. Фи!.. Мне стыдно за вас, Андрей Тихонович! Ну, что такое заложить имение?… Всякий порядочный муж себя заложит, когда дело идет о здоровье его жены…
Андрей Тихонович. Так, матушка, так!.. Да ведь, воля ваша, я не думаю, чтоб она была так опасно больна… Право, можно повременить!.. Зимой, в большие холода, мы не станем выезжать, а, бог даст, будущею весною…
Марья Алексеевна. Ну!.. Слышишь, кузина?… Вот моя участь!..
Хопрова. Признаюсь!.. Нет, Андрей Тихонович, этого я от вас не ожидала!..
Марья Алексеевна. А я-то разве ожидала, мой друг?… Глупая, неопытная девочка, я думала: выйду замуж за человека, который вдвое меня старее; уж если все мужья тираны, так, по крайней мере, этот, хотя из благодарности, станет меня баловать, любить, как дочь родную. И что ж? Этот муж, чтоб сберечь несколько тысяч рублей, говорит своей умирающей жене: «Нет, матушка, зачем тебе ехать в теплый климат, — ты можешь сидеть дома: в натопленной комнате так же тепло, как и в Италии. Да и чахотка-то у тебя только начинается. К чему торопиться: может быть, и так пройдет».
Андрей Тихонович. Эх, Марья Алексеевна, боишься ли ты бога? За что ты меня обижаешь?… Ну, если ты уж непременно хочешь, так поедем за границу, — только не на два года.
Марья Алексеевна. А на сколько же, сударь?
Андрей Тихонович. Да этак месяца на три… Ну, пожалуй, — так и быть — на четыре.
Хопрова (тихо Марье Алексеевне). А, торгуется!.. Не уступай!
Марья Алексеевна. Нет, Андрей Тихонович, зачем, ведь это не сделает мне никакой пользы, а только больше меня расстроит.
Андрей Тихонович (собравшись с духом). Так ты не хочешь ехать?…
Марья Алексеевна (решительно). На четыре месяца?… Не хочу!
Андрей Тихонович. Ну, как хочешь, матушка!
Марья Алексеевна. Что ж делать, — видно, уж богу угодно, чтоб я умерла в молодости.
Хопрова. Это ужасно!.. Андрей Тихонович!..
Андрей Тихонович. И, полноте, матушка!.. Что, в самом деле, дурак, что ли, я вам достался! Все была здорова, а тут вдруг…
Марья Алексеевна. Так вы думаете, что я вас обманывала?… Что я здорова?
Андрей Тихонович. Я думаю, матушка, что болезнь твоя вовсе не так опасна, как тебе кажется. И что я очень глупо сделаю, если совершенно разорюсь и останусь, может быть, без куска хлеба потому только…
Марья Алексеевна. Ну, сударь, договаривайте!..
Андрей Тихонович. Потому только, что тебе вообразилось, что у тебя чахотка.
Марья Алексеевна (Хопровой). Слышишь, мой друг? Ну, не правду ли я говорила?
Хопрова. Нет, это выходит из всех границ!.. Вы, сударь, не человек, а чудовище!
Андрей Тихонович. Покорнейше благодарю!
Хопрова. В вас нет ни сердца, ни души!
Андрей Тихонович. Знаю, сударыня, знаю! Не по-вашему делают, так и души нет! Да ведь с вами не переговоришь! (Обращаясь к жене.) Хочешь, Марья Алексеевна, ехать на четыре месяца за границу?
Марья Алексеевна. Нет, сударь, не хочу!
Андрей Тихонович. Решительно?
Марья Алексеевна. Решительно.
Андрей Тихонович. Так мы послезавтра поедем в Воропановку. Прощай! (Уходит.)
Хопрова… О, да как ты избаловала своего мужа!.. Он приказывает, повелевает!.. Seigneur et maitre!
Марья Алексеевна. Ах, кузина!.. Я в самом ужасном положении!.. Вообрази, мой друг: в то самое время, как Андрей Тихонович согласился ехать на два года за границу, пожаловала к нам Сусликова, и знаешь ли зачем? Чтоб сказать мне, что она едет в Карлсбад. Сусликовой хотелось почваниться передо мной, унизить меня. Разумеется, ей не удалось: я совершенно ее уничтожила, когда сказала, что еду за границу не на четыре месяца, а на несколько лет, и не в этот пошлый Карлсбад, а на берега Рейна, в Рим, Неаполь и Париж. Представь же себе, какое будет торжество для этой Сусликовой, — она поедет за границу, а я в Воропановку!
Хопрова. Да, это досадно!
Марья Алексеевна. Досадно!.. Нет, не досадно, а убийственно, мой друг! Когда я подумаю, какую роль станет играть в Москве эта Сусликова!.. Да мне просто от нее житья не будет!.. Она начнет при мне рассказывать о чужих краях — как там все прекрасно, удивительно, бесподобно!.. А я слушай да молчи!.. Еще, пожалуй, — да, кузина, от нее станется, — она привезет мне гостинец из Карлсбада. О, я всего ожидаю от этой негодной женщины!
Хопрова. Что ж ты намерена делать?
Марья Алексеевна. Да что, мой друг: уж не поехать ли также в Карлсбад месяца на четыре?
Хопрова. Что ты, что ты!.. Ты могла это сделать прежде; но теперь, когда муж твой осмелился предписывать тебе законы… О, нет, Marie! Il faut montrer du caractere.
Марья Алексеевна. А если Андрей Тихонович…
Хопрова. И, полно, мой друг!.. Что Андрей Тихонович! Андрей Тихонович муж, как и все другие. Он не верит, что ты больна… Посмотрим, как он не поверит, если услышит то же самое от доктора.
Марья Алексеевна. Да, может быть, он и доктору не поверит…
Хопрова. Так мы сделаем консилиум… Да я надеюсь, что до этого не дойдет. Кто ваш доктор?
Марья Алексеевна. Теперь у нас никого нет.
Хопрова. Так я привезу к тебе моего доктора; Фома Фомич Дупельшнеп — прекрасный человек: всех отправляет за границу.
Марья Алексеевна. А если он так же, как муж, станет судить по наружности и найдет, что я…
Хопрова. Что ты здорова? Сохрани, господи!.. Не таков человек, мой друг!.. Как бы ты ни казалась здоровою а уж он непременно отыщет в тебе зародыш какой-нибудь болезни, — отличный доктор!
Марья Алексеевна. Но все, я думаю, лучше, если ты скажешь ему…
Хопрова. Не беспокойся!.. Да что ж мы сидим здесь, в проходной комнате? Пойдем лучше в твой кабинет: мне еще надобно о многом поговорить с тобою…
Марья Алексеевна. Allons, ma cousine. (Уходят.)
2. Отъезд
Спустя три недели.
Село Всесвятское. У самого выезда на большой Петербургской дороге стоит запряженная шестериком четвероместная карета. Извозчик перекладывает одну из отлетных лошадей в корень; ему помогает слуга в дорожной куртке. На козлах сидит Андрей Тихонович Оборкин в сером пальто и кожаном картузе, он курит трубку. В карете, разумеется на первом месте, Марья Алексеевна в шляпке с зеленым вуалем; рядом с ней старая немка Шарлотта Карловна в кисейном чепце; впереди сидит повязанная красным платком горничная девушка. Навстречу к карете с петербургской стороны шибкой рысью несется открытая коляска. В ней сидит человек лет сорока в плаще и белой шляпе с широкими полями.
Проезжий в белой шляпе. Что это?… Да это никак?… Ну, так и есть!.. Стой!.. (Коляска, поравнявшись с каретой, останавливается.) Андрей Тихонович!..
Андрей Тихонович. Что я вижу?… Сурский!..
Сурский (выходя из коляски). Я, мой друг, я!
Андрей Тихонович (спускаясь с козел). Какая встреча!.. Здравствуй, дружище! (Обнимаются.) Откуда бог несет?
Сурский. Из Питера.
Андрей Тихонович. Куда?
Сурский. В Москву.
Андрей Тихонович. Проездом?
Сурский. Нет, на житье.
Андрей Тихонович. Что ты говоришь?… Ах, господи, вот досада-то, подумаешь! Как нарочно; ты в Москву, а я из Москвы!
Сурский. Да ты куда едешь? В Петербург?
Андрей Тихонович. Ох, нет, мой друг!.. За границу.
Сурский. Вот что!.. Да что это, братец, иль тебе в карете-то места нет?
Андрей Тихонович. Как не быть.
Сурский. Так зачем же ты на козлах сидел?
Андрей Тихонович. Да вот, как видишь, трубочку покуриваю.
Сурский. А, видно, в карете-то…
Андрей Тихонович. Не любят!
Сурский. Ага, любезный. Вот то-то!.. Жениться захотел.
Марья Алексеевна (выглянув в окно). Эй, голубчик!.. Ямщик!.. Да скоро ли ты кончишь?
Ямщик. Мигом, матушка, мигом!
Сурский (вполголоса). Андрей Тихонович, это твоя барыня?
Андрей Тихонович. Д-да, мой друг!
Сурский. Ну, брат, поздравляю!.. Ты человек со вкусом!.. Да жена-то у тебя красавица!.. Любо посмотреть!.. Вот уж подлинно кровь с молоком… Так ты едешь в чужие края, чтоб потешить молодую жену?…
Андрей Тихонович. Ох, брат!.. Чего мне будет стоить эта поездка!.. Ведь мы едем на два года.
Сурский. На два года? Да, любезный, это станет тебе в копейку.
Андрей Тихонович. К тому ж и дела-то мои не больно хороши: лучшая деревня сгорела.
Сурский. Так что ж тебе за охота?…
Андрей Тихонович. А что будешь делать!.. Моя Марья Алексеевна…
Сурский (прерывая). Отдала приказ, так ты ослушаться не смеешь?… Эге, любезный!.. Да ты, я вижу, вовсе под каблучком у твоей законной половины!..
Андрей Тихонович (обидясъ). Нет, Степан Иванович, ошибаешься, любезный! Я не такой муж, чтоб стал перед моей женой по струнке ходить; я на ней женился, а не в крепость пошел.
Сурский. Однако ж все-таки в угоду молодой жене едешь за границу.
Андрей Тихонович. В какую угоду!.. Поедешь, брат, и за тридесять земель, когда дело идет о здоровье.
Сурский. О здоровье? Ну, это другая речь… Да чем же ты болен, Андрей Тихонович?
Андрей Тихонович. Не я!
Сурский. А кто ж? Ведь, кажется, у тебя детей нет?
Андрей Тихонович. Жена больна, мой друг.
Сурский. Жена?… Вот эта дородная барыня, которую я сейчас видел?
Андрей Тихонович. Да.
Сурский. Ах, батюшки!.. Ну кто бы мог подумать?…
Андрей Тихонович. Послушай, мой друг: ты теперь едешь на житье в Москву, — сделай милость: я напишу из Петербурга к моему приказчику, чтоб он во всем к тебе относился… Я было просил об этом кой-кого из моих московских приятелей, да все люди ненадежные.
Сурский. Очень рад, мой друг!
Андрей Тихонович. Я и прежде был должен в Опекунский совет, а теперь еще заложил деревню, так уж сделай милость, потрудись из моих доходов вносить проценты и, если будущей зимой встретится что-нибудь неожиданное, напиши ко мне в Рим на имя банкира… эх, забыл!.. Ну, да все равно: адресуй просто в Рим, с удержанием на почте.
Сурский (заглядывая в карету). Хорошо, мой друг, хорошо!
Андрей Тихонович. Ты где будешь жить в Москве?
Сурский. В доме моей тетки, на Никитской.
Андрей Тихонович. А, знаю, знаю!
Сурский. Так твоя жена больна?
Андрей Тихонович. И очень нехорошо, мой друг… Ее может только спасти теплый климат.
Сурский. Да чем же она нездорова?
Андрей Тихонович. Мне доктор объявил решительно, что у нее начинается чахотка.
Сурский. Что ты, Андрей Тихонович?… Перекрестись!
Андрей Тихонович. И я также, братец, этому не верил, да Фома Фомич мне доказал, как дважды два четыре, что у ней все признаки этой ужасной болезни, — только она еще не развилась, и для нашей братьи, темных людей, вовсе не заметна, но что внутренний организм решительно поражен.
Марья Алексеевна (выглянув в окно кареты). Андрей Тихонович, ну, что ж ты не садишься? Тебя дожидаются.
Андрей Тихонович. Прощай, Степан Иванович! Теперь у меня на душе будет полегче: есть кому позаботиться о моих делах. До свидания, мой друг.
Сурский (который во все это время смотрит внимательно на Марью Алексеевну). Постой, постой!.. Одно только слово. Как зовут вашего доктора?
Андрей Тихонович. Фома Фомич Дупельшнеп. А на что тебе?
Сурский. Как на что, любезный: я теперь московский житель и могу попасть к нему на руки…
Андрей Тихонович. Так что ж?
Сурский. А вот что, мой друг: если он мне скажет, что у меня чахотка, так я вместо козлиного молока буду пить шампанское.
Андрей Тихонович. Ты все, брат, такой же балагур, как и прежде…
Марья Алексеевна. Андрей Тихонович, да что ж вы не садитесь?
Андрей Тихонович (влезая на козлы). Сейчас, сейчас!
Ямщик (расправив вожжи). Эй вы, соколики!
Сурский (садясь в коляску). Прощай, Андрей Тихонович!.. Пошел!
3. Возвращение
Спустя два года
Тверская застава. Шагах в двухстах от нее, по одному из бульваров, между которых проложено Петербургское шоссе, идут двое мужчин; один из них Степан Иванович Сурский, другой — приятель его, Федор Никитич Климов. По шоссе идут шагом коляска и парная пролетка.
Сурский (продолжая разговор). Да, Федор Никитич, как я ни хлопотал, а успеха никакого не было. Я сделал все, что от меня зависело; вчера был на последней переторжке; сам я надавать не мог, ты знаешь, я человек небогатый, но уговорил Сундукова идти до двухсот рублей серебром за душу.
Климов. Ну, что ж, это цена недурная.
Сурский. Именье-то богатое! Не продавайся оно с публичного торга, так охотно бы триста целковых за душу дали. Одна деревня в двух верстах от Рыбинска, другая — на Оке; строевой лес, поемные луга… Эх, жаль мне бедного Андрея Тихоновича!.. Если б он был сам налицо, так авось бы как-нибудь извернулся… Лес мог бы продать тысяч на сто — охотники были; а без него что будешь делать?
Климов. Да где он теперь?
Сурский. Бог знает! Жена беспрестанно таскает его из одного места в другое. В конце прошлой зимы я написал к нему в Рим, что его дела в весьма худом положении. В одной деревне крестьяне, у которых все сгорело, вовсе обнищали, не пашут ни своей, ни барской земли, шатаются по большим дорогам да милостыню просят; в другой — оброчные совсем от рук отбились, не платят, да и только! В третьей — хлеб не уродился; доходов никаких нет, а между тем надобно вносить проценты в Опекунский совет. На это письмо ответа не было, да и быть не могло, потому что я через неделю получил от него письмо из Парижа. Спустя несколько месяцев я отправил к нему письмо в Париж и советовал как можно скорее воротиться в Россию, потому что чрез шесть месяцев обе его оброчные деревни за просрочку в Опекунский совет будут продаваться с публичного торга и что он может остаться при одной орловской деревне, которая после пожара гроша не стоит. Жду-пожду — бряк от него письмо из Венеции, жалуется, что я к нему не пишу, что Венеция — город прескучный: земли вовсе нет, каменные пустые дома, вместо улиц каналы с вонючей водой, а вместо экипажей черные лодки, которые, дескать, называются здесь гондолами. Я написал к нему в Венецию, послал на почту, а мне несут с почты от него письмо из Неаполя. Вот и третье мое письмо в воду кануло. «Мы с женою, — пишет он, — другой месяц живем на берегу моря в загородном доме, которые называют здесь виллами. Жара смертная… денег выходит пропасть. Впрочем, благодаря бога жене лучше, грудью перестала жаловаться и очень раздобрела; только одно меня беспокоит: у ней сделалась одышка; я думал сначала, что это просто от толстоты, по Марья Алексеевна говорит, что здешние доктора приписывают это слабости легких и что ей должно еще непременно около года прожить в теплом климате». Потом Андрей Тихонович рассказывает мне, как жена таскала его на Везувий; что ее несли на носилках, а он сначала ехал на осле, а там шел пешком и так умаялся, что, приехавши домой, слег в постель да три недели был болен. Он оканчивает свое письмо тем, что просит переслать к нему в Неаполь все, что получено с его деревень в течение осьмнадцати месяцев. Разумеется, я отвечал ему, то есть повторил все то, что писал в письме моем, адресованном в Венецию. Не знаю, получил ли его Андрей Тихонович, только с тех пор я не имею о нем никакого известия.
Климов. Бедный старик! И что это пошло на наших московских барынь, словно поветрие какое: все так и рвутся за границу. Вот у меня есть родственник — Сергей Александрович Сусликов, человек небогатый, всего тысяч десять в год доходу, однако ж жил кое-как в Москве. Жена уговорила его съездить за границу: съездили, да вот теперь третий год и живут в своей калужской деревне: справиться не могут. Видно, что над нами сбывается русская пословица: «Куда конь с копытом, туда и рак с клешней». Люди богатые, образованные стали ездить за границу, вот и все наши полуграмотные мелкопоместные дворянчики туда же поднялись!.. Говорят, что известная русская путешественница госпожа Курдюкова — совершенно невероподобное создание, карикатура!.. Неправда! Я на свою долю знаю одну и даже двух Курдюковых, которые ездили а летранже, срамились, убили последнее свое именьишко и, что всего хуже, назывались за границею русскими барынями.
Сурский. Что ж делать, Федор Никитич, как бы человек ни был плох, а все ведь он не запрещенный товар: нельзя не пропустить за границу.
Климов. Да пусть бы себе пропускали, только не под русским клеймом.
(В продолжение этого разговора они подходят к заставе и останавливаются подле двух мужиков, которые смотрят на Триумфальные ворота; рядом с мужиками стоит ямщик, держа в поводу тройку почтовых лошадей.)
Первый мужик. Андрюша!.. Что это, брат, за ворота такие?
Второй мужик. Застава.
Первый мужик. Застава-то вот!.. Я те говорю про ворота.
Второй мужик. Да это все едино.
Первый мужик. Нет, не едино! Я заставы-то видывал: и Рогожскую, и Серпуховскую, и Калужскую; а это ворота — так они как ни на есть, да прозываются, вот, примером: Спасские ворота, Иверские ворота, Красные ворота…
Ямщик. А это, брат, Трухмальные ворота.
Первый мужик. Трухмальные?… Вишь, какие!.. Да что это наверху-то за баба с крыльями едет шестериком?
Ямщик. Шестериком?… И впрямь шестериком! Как же так?… Ведь шестериком-то в ряд ездить заказано.
Второй мужик. Да эти, брат, лошадки смирные — не разобьют. (Мужики смеются.)
Климов. А вот, кажется, едет дилижанс из Петербурга… Ну, так и есть!
(Дилижанс останавливается у шлагбаума. Кондуктор слезает с козел и идет в караульню.)
Сурский. Битком набит! Вон позади и в кабриолете трое сидят.
Один из проезжих в кабриолете. Ох как у меня ноги-то затекли!.. Проклятая езда! Вот пытка-то, подумаешь!.. Что это? Степан Иванович!
Сурский. Андрей Тихонович!..
Андрей Тихонович (вылезая из кабриолета). Ну, слава богу!.. Хоть первая-то встреча хороша! Здравствуй, мой друг сердечный! (Обнимаются.)
Сурский. Скажи пожалуйста — опять мы встретились с тобой на большой дороге! И оба раза ты таким молодцом!.. Тогда ехал на козлах, теперь в кабриолете…
Андрей Тихонович. Эх, брат!.. И то божья милость, что как-нибудь, да доехал до Москвы!.. Ну, Степан Иванович, я последнее твое письмо получил!.. Что, брат, и спрашивать нечего… Кулябкино и Вихляевка…
Сурский. Да, мой друг!.. Вчера была последняя переторжка…
Андрей Тихонович. Так проданы?… И, чай, за безделицу?…
Сурский. Нет, порядочно: по двести целковых за душу!
Андрей Тихонович (перекрестясь). Слава богу!.. Так я еще не совсем нищий!
Сурский. Нет, мой друг, — тебе причитается много денег получить из Опекунского совета.
Андрей Тихонович. Ох, брат!.. Да, чай, и много их понадобится, чтоб поправить Воропановку; ты пишешь, что она вся по миру ходит…
Сурский. Да, Андрей Тихонович… Ну, дорого тебе стоит эта прогулка за границу!
Андрей Тихонович. Что ж делать! Понатерпелся я горя, а особливо последнее время. Денег оставалось только что на проезд до Петербурга, и то водою; думаю: как занемогу — беда!.. Придется умереть на чужой стороне, да еще как: без покаяния!.. Поверишь ли — и теперь как подумаю об этом, так волосы дыбом становятся.
Сурский. По крайней мере, здоровье твоей жены…
Андрей Тихонович. По мне бы, кажется, слава богу!.. Она и прежде была женщина дородная, а теперь вдвое стала толще.
Сурский. Так в другой раз за границу ехать незачем?
Андрей Тихонович. А бог знает!
Сурский. Как так?…
Андрей Тихонович. Да вот, изволишь видеть: прежние припадки все миновались, а на место их появились другие. Жена говорит, что она чувствует себя хуже прежнего и, по совету докторов, должна непременно ехать на пирмонтские воды…
Сурский. Лечиться от чахотки?
Андрей Тихонович. Нет, Степан Иванович, — страшно вымолвить: от водяной.
(В продолжение этого разговора кондуктор вышел из караульни и сел на козлы.)
Караульный унтер-офицер. Подвысь!..
(Часовой подымает шлагбаум. Дилижанс едет.)
Андрей Тихонович. Постой, постой!..
Сурский. Оставь их, братец! Я довезу тебя в моей коляске. Садись!
Андрей Тихонович. В самом деле, довези, любезный! Да только уж, пожалуйста, поскорее: ведь моя барыня-то одна-одинехонька.
Сурский. Как так?
Андрей Тихонович. Да, любезный: немка Шарлотта Карловна осталась в Пруссии, Артемка убежал от нас в Италии, а Матрешку сманили в Париже.
(Садятся в коляску и едут.)
Климов (глядя вслед за ними). Бедняжка!.. Чай, поехал барином в своей карете, с людьми… А назад-то как вернулся!.. И то сказать, конечно, и он сам разорился, крестьян пустил по миру, да зато жене есть чем похвастаться: «Была за границею».
V Письмо из Арзамаса
Воскреснем ли когда от чужевластья мод?
Чтоб умный, добрый наш народ
Хотя по языку нас не считал за немцев.
ГрибоедовМне случилось однажды быть в обществе, где чрезвычайно много толковали о разных европейских вопросах, о требованиях века и в особенности о народном просвещении, или, по-нынешнему, цивилизации. Более всех разглагольствовал один барин с рыжей бородкой и длинными волосами а-ля мужик. Он с удивительным жаром доказывал необходимость заведения повсеместных школ в России, называл эти школы нормальными, говорил так красноречиво и таким непонятным ученым языком, что все слушали его в почтительном молчании. В числе этих слушателей нашелся, однако ж, такой бессовестный человек, который, вместо того чтоб скрывать свое невежество, не постыдился спросить у этого барина, что такое нормальная школа. Вы не можете себе представить, до какой степени этот неожиданный вопрос смутил моего красноречивого мудреца: он вспыхнул, замялся, пробормотал что-то сквозь зубы и тотчас переменил разговор, — одним словом, нельзя было не заметить, что он и сам не знал порядком, что такое нормальная школа, и, говоря вообще о первоначальных учебных заведениях, называл их нормальными ради того только, чтоб придать более важности речам. Впрочем, подобные случаи бывают у нас нередко, и вы можете встретить на каждом шагу людей, которые, как ученые попугаи, повторяют натолкованные им слова, не понимая сами настоящего их смысла.
Нет, вовсе не таков старинный мои приятель Андрей Яковлевич Миронов. Прослужив с честью лет сорок, он живет теперь на покое в уездном городе Арзамасе. Андрей Яковлевич не может похвастаться ученостью: не знает иностранных языков, не имеет никакого понятия о немецкой философии; однако ж старик неглупый, большой охотник до чтения и в некотором отношении человек очень любознательный. Например, если он встретит в книге какое-нибудь новое для него слово, то не успокоится до тех пор, пока не доберется до настоящего смысла этого слова. Он пересмотрит все словари, переговорит со всеми учителями уездного училища и если найдет их толкования неудовлетворительными, то при первом случае поедет в губернский город и отнесется прямо к господину директору гимназии; но, видно, и это последнее средство не всегда удается моему приятелю, потому что я на днях получил от него преогромное письмо, которое почти все составлено из одних вопросов.
«Я, батюшка, человек не многоязычный, — говорит он в начале письма, — я знаю только свой родной язык, и, кажется, знаю его порядочно, а вот с некоторого времени стали мне попадаться, особенно в одном журнале, такие странные слова, каких я в жизнь свою не слыхивал. Конечно, Богдан Ильич, в ученом свете часто создаются новые науки и делаются важные открытия, которым надобно же давать какие-нибудь названия, — да неужели их нельзя найти в нашем собственном языке?… Вот, например, искусство посредством солнечного света делать верные снимки с лиц человеческих и с разных других предметов французы называют дагерротипом (фу, батюшки, насилу выговорил!); а ведь мы умели же это новое изобретение назвать по-русски — и, воля ваша, слово «светопись» понятнее и вернее французского слова «дагерротип», которое, как я слышал, ровно ничего не значит. Да что об этом толковать! Я человек простой, где мне состязаться с людьми учеными: мне бы только понимать то, что они пишут; и вот почему, Богдан Ильич, я покорнейше прошу вас истолковать мне хотя приблизительно значение нижеследующих слов».
Тут начинался предлинный список словам, из которых многие, действительно, могли бы сбить с толку не только человека неученого, по даже знаменитого кардинала Меццофанти, который говорит и пишет свободно на семидесяти двух различных языках и наречиях. Я решился отвечать Андрею Яковлевичу не письменно, а печатно: во-первых, потому, что, может быть, в этом ответе и читатели моих записок найдут что-нибудь дельное, а во-вторых, для того, что это небольшое рассуждение о словесном нашествии иноплеменных будет, кажется, совершенно у места в записках старого москвича, который любит свой родной язык не потому только, что этот язык называется русским, а потому, что он истинно прекрасен, потому, что в его могучих и роскошных звуках отражается вся юношеская сила и вся мощь народа русского, потому, что этот язык так же самобытен, так же неистребим, так же велик, как наша родина святая, которую не могли сокрушить ни татарские погромы, ни завоевания поляков, ни нашествие французов, ни даже собственные смуты и междоусобия. Теперь об этих народных смутах и речи нет, но в словесности нашей они еще водятся. Одни хотят переделать наш язык на французский образец, нарядить этого русского великана в какой-то пестрый шутовской наряд, другим это вовсе не по сердцу. Одни уверяют, что по-русски нельзя и простого письма написать порядочно, а другие убеждены, что русский, который не напишет порядочного письма по-русски, не напишет его ни на каком языке. Одни ругаются именами Ломоносова, Державина и Карамзина, другие гордятся этими великими именами. Одни уверяют, что история русского народа все то же, что история грудного ребенка, а другие говорят, что Русь и при Владимире Святославиче не походила уже на малое дитя. Теперь вы видите, что в нашей словесности действительно есть смуты и усобица, не льется только кровь христианская, не гибнет народ православный, но зато чернила льются рекою и писчая бумага гибнет целыми стопами.
Ответное письмо Андрею Яковлевичу Миронову:
«Любезнейший Андрей Яковлевич! Я получил ваше дружеское письмо, и, надобно сказать правду, оно заставило меня призадуматься. Ну, задали вы мне порядочную задачу! Я ужаснулся, когда окинул взглядом бесконечный список этих исковерканных и перекроенных на русский лад иностранных слов; они, конечно, были для меня не новостью, но прежде эти изувеченные пришлецы встречались со мною поодиночке, а теперь, когда я увидел перед собою это безобразное полчище тенденций, консеквенций, субстанций, абстракций, эксплуатации, то, признаюсь, волосы стали у меня дыбом. Господи, боже мой!.. Да это второе нашествие галлов и с ними двадесяти язык! И добро бы еще, все эти уродливые слова были для нас необходимы, но когда подумаешь, что почти каждое из них можно перевести буквально на русский язык или, по крайней мере, заменить русским словом, заключающим в себе тот же самый смысл, то поневоле скажешь: «Ну, господа преобразователи! Много надобно иметь вам гордости, упрямства и ненависти ко всему отечественному, чтоб решиться на такое нелепое искажение своего родного языка. Как бы порадовался знаменитый профессор элоквенции Тредьяковский, если бы мог провидеть, какие у него будут достойные последователи! Ведь и он также, не тем будь помянут, любил употреблять без всякой нужды исковерканные иностранные слова, и он также называл достоинство меритом и говорил вместо принадлежности атрибут, а вместо последовательности консеквенция. Бедный Тредьяковский! Жаль, что ты не дожил до нашего времени!
Несмотря на все мое желание угодить вам, почтеннейший Андрей Яковлевич, я никак не могу отвечать на все ваши вопросы: для этого мне пришлось бы составить целый пояснительный словарь. Позвольте мне на первый случай истолковать вам значение только тех слов, которые, как вы сами говорите, более других тревожат ваш любознательный и пытливый ум. Вот эти слова: тенденция, субстанция, цивилизация, гуманность, юмористика, меркантильная индустрия, ирритация и беллетристика.
Тенденция (tendance) — по-русски наклонность, а в некоторых случаях направление. Преемники Тредьяковского, вероятно, написали бы: «Тенденция умов совершенно гармонировала с действиями правительства», или: «Жители Океании имеют прононсированную тенденцию к воровству». А русский человек скажет: «Направление умов совершенно согласовалось с действиями правительства»; «Жители Океании имеют явную наклонность к воровству». Лет около ста тому назад, когда несчастный русский язык напоминал вавилонское столпотворение, слово тенденция было неизвестно, но вместо него часто употреблялось слово пропензия (propention), которое значит почти то же самое.
Субстанция (substance) — слово от слова по-русски сущность. Даже в обеих грамматиках, русской и французской, часть речи, называемая по-русски имя существительное, а по-французски le nom substantif, происходит от одного и того же корня. Теперь я спрашиваю: что за необходимость из этих двух совершенно тождественных слов употреблять непременно французское слово, понятное только для тех, которые знают этот язык? Вероятно, господа восстановители школы Тредьяковского скажут мне: «Да какой же порядочный человек не знает по-французски?» А я так думаю, что в Англии, Германии и в разных других государствах много есть порядочных людей, которые не знают французского языка; и что за странный вывод такой что за курьезная консеквенция: «Если хочешь понимать русский язык, учись французскому?»
Цивилизация (civilisation) — производное речение от слова «civil», то есть вежливый, общежительный; следовательно, civilisation, или цивилизация, значит одно и то же, что наша образованность, а в смысле более обширнейшем — просвещение. Спросите у любого грамотного француза, что он понимает под словом «civilisation», и вы увидите, что он разумеет под ним именно то же, что мы разумеем под словами просвещение и образованность, то есть общежительность, вежливость, науки, художества, изящные искусства и образ мыслей, сходный с понятиями нашего века; следовательно, мы могли бы прожить и без этого новенького словца, которое не обогатило ни на волос ни наш язык, ни наши понятия. У французов есть еще слово «les lumieres», которое, в смысле нашего просвещения, заменяет иногда слово «civilisation». Уж нам бы взять и его; ну, чем слово люмиеры хуже цивилизации? Оно так же непонятно для русского человека и точно так же придает какой-то ученый вид разговору, а ведь мы из этого только и бьемся.
Просвещение!.. Подумаешь, какое это чудное слово!.. Мы все им очарованы, все пленяемся, а между тем никто еще не взял на себя труда определить настоящий смысл этого слова. Каждый толкует его по-своему: для одного просвещение — дар божий, для другого — наказание небесное, и как послушаешь, так они оба правы, а, кажется, истина должна быть одна? Уж не оттого ли это, что в здешнем мире все имеет свою дурную и хорошую сторону? Ведь самое благодетельное целебное лекарство может превратиться в яд, если мы станем употреблять его не так, как должно.
Вообще наши понятия о просвещении бывают до того различны, что одни часто находят его в полном развитии там, где другие не замечают и малейших его признаков. Одни говорят, что просвещение начинает уже проникать во все слои нашего общества, другие, и в особенности усердные поклонники Запада, уверяют, что оно не делает почти никаких успехов в нашем отечестве, что мы стоим всё на одном месте и отличаемся от своих предков только платьем и обритой бородою. Одним словом, что мы точно такие же неучи, какими были лет за сто назад. Я желал бы спросить этих страстных обожателей Запада: да что ж такое, господа, по-вашему, просвещение?… Если вы разумеете под этим распространение полезных знаний, художеств и наук, смягчение нравов, повсеместное учреждение учебных заведений, умножение всех житейских удобств, улучшение мануфактурных изделий, усовершенствование ремесленной промышленности и устроение удобных путей сообщения, дающих новую жизнь внутренней торговле государства, — так это все у нас делается; быть может, по-вашему, слишком медленно, да ведь вы знаете, господа, что в деле просвещения поспешность и скачки никуда не годятся. Ну, что бы вы сами сказали о человеке, который, не сделав еще потолков и не сведя кровли над своим домом, начал бы штукатурить и расписывать в нем стены потому только, что соседи его, у которых давно уже дома построены, принялись за эту окончательную работу. Вероятно, и вы нашли бы этот поступок необдуманным… Так чего же вы хотите?… Уж полно, то ли вы разумеете, господа, под вашею цивилизациею и прогрессом? Не полагаете ли вы, что русские тогда только сделаются просвещенным народом, когда совершенно превратятся во французов, немцев или англичан, то есть станут жить, как они, переймут все их обычаи, будут смотреть их глазами, мыслить их головой, закидают грязью все родное и заговорят все вашим исковерканным полурусским языком? Да разве это просвещение? О, конечно, нет! Это не просвещение, а самое жалкое и презрительное обезьянство. Если образованные немцы, англичане, голландцы, шведы и даже итальянцы, вовсе не походя на французов, имеют право называться просвещенными людьми, так почему же русский не может заслужить этого названия, не утратив своей народной самобытности? Нет, господа! В наше время безусловное подражание всему иноземному есть чистый анахронизм. Одни только дети подражают всему, не рассуждая, а нам уж пора выйти из пеленок.
Гуманность. Я думаю, что в этом слове не всякий француз узнает свое humanite, тем более что при переделке на русские нравы оно получило смысл гораздо обширнейший. Гуманность можно перевести русским словом человечность, то есть способность сочувствовать всему, что составляет истинное достоинство человека, или вообще любовь ко всему человечеству, и, разумеется, в самом высоком значении этого слова. Гуманность заменила у нас другое выражение, которое уже несколько поизносилось, а именно космополитизм. Вероятно, господа космополиты, сиречь граждане вселенной, оправдывают это странное гражданство своей любовью ко всему человечеству; следовательно, гуманный человек и космополит почти одно и то же; надобно только сказать, что есть два рода космополитизма или гуманности: один выражается не словами, а делом; другой по большей части ограничивается одним красноречивым пустословием; первый имеет своим основанием закон божий, второй опирается на просвещение и философию, а самый опыт не раз нам доказывал, как хрупки и ненадежны эти опоры. Любовь ко всему человечеству — какое прекрасное, высокое чувство! В духовном смысле это едва ли не первая христианская добродетель; но посмотрим, то ли оно будет в своем приложении к нашему мирскому греховному быту. Космополит, сиречь человек гуманный, не хочет знать никакой исключительной любви; он любит всех одинаким образом и заботится не о частном благе одного поколения или одного народа, но о всемирном, общем благе всего рода человеческого; для него мало быть хорошим отцом семейства, полезным членом общества, верным сыном своей родины, — он выше всего этого: он гражданин вселенной. Все это прекрасно, звучно и великолепно на бумаге, а в самом-то деле почти всегда служит благовидным предлогом, чтоб не думать ни о чьем благе, кроме своего собственного. Друг человечества, гражданин вселенной!.. Какие очаровательные слова и в то же время какой верный расчет! Эта многолюдная семья, которую мы называем отечеством, требует от нас иногда большого самоотвержения, великих жертв, а что может требовать от одного человека вся вселенная?… Будет и того, что он ее любит.
Здесь кстати упомянуть о филантропии, близкой родственнице этой модной гуманности и заштатного космополитизма. Филантропия — греческое составное слово, которое бог знает почему попало в наш язык. Французы начали употреблять его потому, что в их языке нет решительно выражения, которое заключало бы в себе точный и полный смысл этого слова; а мы зачем взяли его у французов? У нас есть звучное прекрасное слово человеколюбие, которое и по смыслу, и по составу своему совершенно одно с греческим словом филантропия, составленным так же, как русское, из двух слов: любовь и человек. И есть же люди, которые называют это обогащением языка! Я согласен, что язык обогащается, когда мы переносим в него слова, заключающие в себе новую мысль или понятие, для которых в нашем языке нет верного и приличного выражения; но если мы свое коренное слово заменяем без всякой нужды совершенно тождественным иностранным словом, то, конечно, вовсе не обогащаем, а разве истощаем и портим свой собственный язык.
Юмористика — производное речение от английского слова юмор, которое, в свою очередь, происходит от французского humeur. Слово юмор дает понятие о какой-то особенного рода веселости, свойственной англичанам или, вернее сказать, некоторым английским писателям, в голове которых стоит имя известного юмориста Стерна, написавшего роман «Жизнь и мнения Тристрама Шанди». Если вы спросите меня, можно ли слово юмористика перевести хотя приблизительно на русский язык, то, может быть, я отвечал бы вам утвердительно, если б не боялся, что меня закидают камнями. Мне кажется, лучше будет, когда я предоставлю вам самим разрешение этого вопроса. Вот что понимают англичане под словом юмор, разумеется, в том значении, о котором идет у нас речь. Английский словарь «Royal Dictionary english and french» определяет смысл этого слова следующим образом: «Юмор — свойство воображения, дающее всему оборот забавный, оригинальный и фантастический; особенная способность ума показывать все в потешном, смешном и шутовском виде (grotesque)». Ну, теперь я спрошу вас, как назовете вы русского человека, обладающего этой способностью?… Я вижу отсюда, что вы боитесь только вымолвить, а название этого человека вертится у вас на языке. Не правда ли, что этих людей зовут у нас балагурами?… Да не пугайтесь! Во всяком случае, камнями станут бросать не в вас, а в меня, потому что я скажу не запинаясь, что английский юмор и русское балагурство, или веселость, в существе своем одно и то же, и если они выражаются различным образом, так это оттого, что каждый народ имеет свою собственную веселость, точно так же как свою собственную народную физиономию. Английская веселость, которую мы называем юмором, резка, карикатурна и в то же время не чужда какого-то простодушия, глубокого чувства и даже грусти. Французская веселость жива, остра, легка и насмешлива. Немецкая тяжела, натянута и почти всегда походит на какую-то заказную веселость, которая не просто выливается из души, а преподается с кафедры по всем правилам науки. Этот немецкий юмор менее всех других походит на разгульную и удалую веселость нашего народа, на это затейливое балагурство, исполненное насмешки и иронии. Русский человек почти всегда назовет какого-нибудь урода красавцем, недоростка — великаном, дурачка — умницей, и если вы услышите на улице, что народ хохочет и кричит: «Держи, держи!.. Батюшки, разбила!..», — то будьте уверены, что дело идет о каком-нибудь лошадином остове, который едва передвигает ноги. «Да помилуйте, — скажут мне, — что общего между благородным английским юмором и нашим площадным балагурством?» Площадным?… А разве, вы думаете, английский юмор никогда не бывает площадным? Все зависит от того, кто обладает этой врожденной способностью. Он может быть и человеком образованным, и каким-нибудь трактирным балясником. Ведь и русские балагуры бывают разных родов. Вы можете повстречаться в гостиных нашего лучшего общества с каким-нибудь милым, любезным и весьма остроумным балагуром; вы найдете балагура также и в кабаке, только в этом случае его любезность и остроумие будут совершенно другого рода. Посмотрите, как шутит Грибоедов, как потешается Пушкин, как балагурит иногда Гоголь, и взгляните потом на иную статью журнального балагура, который воображает, что его пошлые, отвратительные шуточки, площадная брань и литературное кощунство исполнены самочистейшего юморизма.
Впрочем, я вовсе не предлагаю заменить русским словом балагурство английское слово юмор. Пусть оно останется в нашем языке для названия веселости, собственно принадлежащей англичанам. Я замечу только, что производное от него слово юмористика составлено весьма неудачно. Юмор есть не что иное, как отдельное достоинство всякого сочинения, принадлежащего к изящной словесности, какого бы содержания и рода оно ни было. Говоря о книге, написанной с умом и веселостию, вы скажете, что в ней много юмору. Но разве вы не говорите также, что в таком-то сочинении много занимательности, ясности, живости, силы, однако ж никому еще не приходило в голову составлять из этих частных достоинств всякого хорошего сочинения какие-нибудь особенные отрасли словесности. Мне возразят, может быть, что ясность, занимательность, живость и сила не имеют в себе ничего исключительного и принадлежат равно всем, а юмор есть особенного рода веселость, по преимуществу принадлежащая англичанам. Согласен!.. Позвольте только спросить вас, чем отличаются вообще наши волжские песни?… Не этим ли русским удальством, по преимуществу свойственным нашему народу? Следовательно, если б кто написал что-нибудь и духе этих разгульных песен, то мог бы назвать свое сочинение удалистикой? Разумеется, это было бы смешно и даже нелепо, а между тем он имел бы на это полное право. Если из юмора, этой народной веселости английских писателей, можно было составить юмористику, так почему ж из русской удали, этой отличительной черты наших народных песен, нельзя сделать удалистики.
Ирритация — по-русски слово от слова раздражение.
Меркантильная индустрия также слово от слова мелочная промышленность.
Беллетристика. Вы спрашиваете меня, Андрей Яковлевич, что это за наука такая и для чего ей дали такое неблагозвучное название? Что грех таить! Увидев в первый раз слово беллетристика, я и сам подумал, что это какая-нибудь новая наука, и очень жалел, что для этой науки — может быть, весьма полезной — придумали название, которое так странно и так неприятно звучит для русского уха. Разумеется, я не мог долго ошибаться и, порассмотрев внимательно эту незваную гостью, тотчас узнал в ней нашу старую знакомую, которую до сих пор звали изящной словесностью. Неужели, спросите вы, эта бесстыдница, мадам беллетристика, то же самое, что наша чинная барыня, изящная словесность? Жаль, Андрей Яковлевич, что вы но знаете иностранных языков, а то бы я попросил вас заглянуть во французский академический словарь, и вы увидели бы тогда, что слово «belles lettres», от которого состряпали беллетристику, значит все то же, что наше слово изящная словесность. Преобразователи русского языка не ограничились, однако ж, этой переделкою, они сочинили еще слово беллетрист, которое не может даже похвастаться и своим иноземным происхождением, потому что у французов нет слова un homme de belles lettres, а есть только un homme de lettres — по-русски словесник, да еще слово un homme lettre, то есть человек умный.
Вот вам, любезный Андрей Яковлевич, довольно подробное истолкование этим модным словам, которые я выбрал из вашего огромного списка. Не правда ли, что эти иностранные слова с русским окончанием походят на каких-то одетых в шитые кафтаны французов, которые воображают, что мы их примем как наших кровных и родных, потому что они надели на свои пудреные головы русские шапки с заломом. Нет, почтенные иноземцы, этот святочный, шутовской наряд не обманет никого! Надевайте-ка опять ваши треугольные шляпы с плюмажем: ведь наша русская шапка вам вовсе не к лицу.
Теперь вы спросите меня, Андреи Яковлевич, из чего хлопочут эти господа преобразователи и что им за радость увеличить без всякой нужды свой родной язык? Что за радость? Да разве вы не знаете, что они давно уже объявили войну нашему богатому, роскошному, звучному языку, которым мы вправе гордиться перед всеми, потому что из всех новейших языков он один заключает в себе почти все достоинства древнего греческого языка, едва ли не первого из всех языков человеческих? Записные враги русского языка называют его грубым, бедным, неуклюжим и, чтоб доказать это на самом деле, пишут таким уродливым языком, который равно непонятен и для безграмотного мужика, и для просвещенного человека. Но это бы еще ничего: пусть себе какой-нибудь удалой скоморох коверкается и корчит рожи, чтоб потешить толпу зевак; но что вы скажете, если этот гаер потребует, чтоб и все так же ломались и искажали свое человеческое обличье? Что скажете вы, если он будет ругать невеждами, ограниченными пуристами и староверами всех тех, которые не желают ему подражать? Что скажете вы, если он начнет кричать: «Чему вы смеетесь, неучи? Уж не думаете ли, что я какой-нибудь площадной шут и кривляюсь ради вашей потехи? Да знаешь ли ты, неспособная ни к какому процессу мышления, невежественная толпа, что это все юмористика и беллетристика! Я хотел было инисиировать тебя во все таинства гуманности, эксплуатировать твой грубый интеллект, приготовить тебя к цивилизации, но я вижу, что в тебе нет ни малейшей тенденции к прогрессу, потому что ты, стюпидная толпа, составлена вся из детей с отсталым понятием и ребяческими взглядами». Разумеется, вы скажете ему: «Нет, господин паяц! Дети, может быть, и станут тебя передразнивать: они, по легкомыслию, свойственному их летам, любят и сами покувыркаться, попрыгать на одной ноге, подразниться языком; а мы, люди взрослые, мы можем забавляться твоим гаерством и даже платить за это деньги, но уж, верно, сами не пойдем к тебе в ученики». Конечно, это не уймет скомороха; напротив, он начнет кричать и дразниться языком пуще прежнего, надоест всем порядочным людям, — они разойдутся, а все-таки этот отчаянный фигляр не останется без публики. Что ж делать: ведь у нас так же, как и везде, много есть простодушных и не слишком грамотных людей, которые до смерти любят площадных шарлатанов и верят им во всем на честное слово.
Может быть, вы мне сделаете еще вопрос: «Почему же есть люди умные, даровитые, владеющие прекрасно русским языком, которые, однако ж, заменяют иногда без всякой нужды русское слово иностранным?» Почему?… Да так! По какому-то необдуманному подражанию, по любви к новости, а чаще всего по лени. Зачем переводить иностранное слово, если добрые люди успели к нему приделать русское окончание и употребляют его без малейших оговорок, как будто оно давно уже усвоено нашему языку. Иногда не вдруг придет на память русское слово, выражающее ту же самую мысль, а это переделанное словцо уж совсем готово, под руками! Конечно, не все грешат против русского языка по этой причине. Есть люди, которые коверкают его потому только, чтоб подражать во всем каким-нибудь знаменитым беллетристам, к которым они питают беспредельное уважение. «Да за что ж они так уважают этих отъявленных врагов русского языка?» — спросите вы. Ну, уж на это я вам отвечать не стану; а если б вы знали французский язык, так я бы вам посоветовал прочесть до конца первую песнь из поэмы Боало «L'art poetique», вы нашли бы в ней самое удовлетворительное разрешение этому вопросу.
Прощайте, любезнейший Андрей Яковлевич! Будьте здоровы и любите по-прежнему вашего искреннего приятеля Богдана Бельского».
VI Прогулка в Симонов монастырь
Всего приятнее для меня то место,
на котором возвышаются мрачные
готические башни Симонова монастыря.
КарамзинКто из приезжающих в Москву, особенно летом, не побывал на Воробьевых горах и у Симонова монастыря, чтоб взглянуть с двух сторон на нашу златоглавую красавицу Москву! Я не говорю уже о постоянных жителях московских; конечно, многие из них очень редко бывают на Воробьевых горах, но зато почти все ездят летом в Симонов монастырь: одни, чтоб помолиться богу и послушать благолепное пение монастырских иноков, умиляющее душу своим неизъяснимо благозвучным согласием; другие для того, чтоб полюбоваться колоссальной панорамой одного из самых живописных городов в мире. Разумеется, зимою бывают в Симоновом монастыре одни богомольцы. Изредка только посетит его или иностранный путешественник, которому не удалось побывать у нас летом, или какой-нибудь любитель зимних прогулок. Я однажды ездил нарочно в Симонов монастырь, чтоб посмотреть оттуда, какова наша матушка Белокаменная в своем зимнем наряде. День был светлый, вдали все кровли бесчисленных домов сливались в одну снежную волнистую равнину, над которой подымались главы церквей и пирамидальные вершины колоколен. Все это горело и сверкало в солнечных лучах, которые расстилались по снегу золотом и самоцветными каменьями. Да, хороша Москва и под этим пушистым белым покрывалом! Но она во сто раз лучше в своей летней зеленой мантии, сотканной из тысячи садов!
Не знаю, помните ли вы, любезные читатели, приятеля моего, Николая Степановича Соликамского, большого знатока и страстного любителя русской старины. В первом выходе моих «Записок» я познакомил вас с этим чудаком, который простит вам от души всякую личную обиду и возненавидит как врага, если вы посомнитесь в подлинности Несторовой летописи или — от чего да сохранит вас боже — скажете при нем, что мы, русские, происходим не от славян. На прошлой неделе он явился ко мне часов в шесть после обеда, в ту самую минуту, когда я садился в коляску, чтоб ехать за город.
— Куда ты отправляешься? — спросил он.
— Да так, — отвечал я, — куда глаза глядят. В такую хорошую погоду грешно сидеть дома. Не хочешь ли со мной?
— Нельзя, мой друг: я еду пить чай в роще Симонова монастыря.
— Один?
— Нет, с княгиней Зориной, дочерью ее княжной Ольгой, племянником Александром Васильевичем Прилуцким и Богданом Ильичом Бельским.
— Сиречь со мной? Пожалуй, — для меня все равно, куда ни ехать.
— Так поедем же! Княгиня тебя только и дожидается.
Соликамский сел ко мне в коляску, и мы отправились. Вы знаете, любезные читатели, что я, начиная какой-нибудь рассказ, имею привычку всегда знакомить с вами те новые лица, о которых я не упоминал еще в моих «Записках». Чтоб не отступить от этого правила, я скажу вам несколько слов о княгине Зориной, ее дочери княжне Ольге и родном племяннике Александре Васильевиче Прилуцком.
Княгиня Зорина родилась и воспитывалась в Москве; на двадцатом году она вышла замуж, уехала в Петербург и, прожив там почти сорок лет, решилась после смерти своего мужа возвратиться на старое свое пепелище, то есть в Москву, на Покровский бульвар, в каменный дом о двух жильях, построенный ее дедушкою, заслуженным бригадиром Андреем Никитичем Прилуцким. Я был знаком с нею, когда она была еще девицею и занимала первое место в числе московских красавиц. С тех пор, до самого возвращения ее в Москву, мне не удалось ни разу с нею повстречаться, следовательно, ничто не могло изгладить прежних моих впечатлений, и когда я вспоминал о княгине Софье Николаевне Зориной, урожденной Прилуцкой, то предо мною являлась всегда дивная красавица с томными глазами, черными ресницами, прелестным станом и обворожительною улыбкой. Разумеется, первое наше свидание могло показаться очень забавным для других, но уж, конечно, не для нас: мы ахнули, ужаснулись и принялись было, как следует, лгать без всякого стыда и зазрения совести; но, видно, мы с княгинею плохие артисты; я говорил заикаясь, что узнал ее с первого взгляда, она уверяла меня сквозь слезы, что я почти совсем не переменился, — одним словом, мы очень дурно разыграли эту трудную сцену первого свидания; к счастию, что все это происходило с глазу на глаз и над нами некому было посмеяться. Княгиня Зорина была некогда самой усердной поклонницей одного русского молодого поэта. Этот сочинитель гладеньких стишков, чувствительных повестей и небольших журнальных статеек сделался впоследствии одним из тех великих писателей, которые составляют эпохи в словесности каждого народа; но княгиня не хотела и знать об этом, для нее он остался по-прежнему очаровательным поэтом, певцом любви и всех ее страданий, милым рассказчиком и любимым сыном русских Аонид. Ей и в голову не приходило прочесть его «Историю государства Российского», но зато она знала наизусть «Бедную Лизу», «Наталью, боярскую дочь», «Остров Борнгольм» и говорила с душевным убеждением:
— Нет, уж теперь не умеют писать таких стихов, какими написаны послания «К неверной», «К Филиде», «К женщинам». Нет, уж нынче никто не скажет: «Возьмите лавр, а мне в награду… поцелуй!»
Дочь ее, княжна Ольга Дмитриевна, принадлежит к числу тех умных, просвещенных русских барышень, которые благодаря бога начинают нередко появляться в наших обществах. Она получила самое блестящее воспитание: отличная музыкантша, изъясняется прекрасно по-французски, говорит свободно по-английски и читает в подлиннике Шиллера, но все это не мешает ей знать свой собственный язык если не лучше, так, по крайней мере, не хуже всех этих иностранных языков. Она любит русскую словесность, радуется успехам наших художников и уверена, что мы, русские, вовсе не лишены способности идти вперед, просвещаться и сохранять в то же время нашу народную самобытность. Княжна не менее своей матери уважает ее милого поэта, — она с любовью и благоговением произносит имя этого знаменитого историка и бессмертного преобразователя русского слога, но решительно предпочитает его стихам стихи Жуковского, Пушкина и даже других второстепенных наших поэтов. Когда ей случается говорить об этом, княгиня обыкновенно пожимает с презрением плечами и вместо ответа шепчет про себя:
Ручей два древа разделяет, Но ветви их сплетясь растут; Судьба два сердца разлучает, Но вместе чувства их живут!Племянник Зориной, Александр Васильевич Прилуцкий, красивый мужчина лет тридцати пяти, по рожденью — москвич, по воспитанию — западный европеец, по образу жизни — англичанин, по своим поверхностным познаниям, светской любезности и легкомыслию — француз, по любви к праздности, по лени, беспечности, мотовству, хлебосольству, благородному образу мыслей и врожденной чести — настоящий русский столбовой дворянин, по душе — добрый малый, по уму — человек очень дюжинный, на словах любитель всего изящного, на самом деле любитель хороших обедов, цельного шампанского и скаковых лошадей. Княгиня давно хочет женить своего племянника, и он бы не прочь от этого, да боится, что жена помешает ему ездить каждый день в Английский клуб, — конечно, ему там скучно, в этом Прилуцкий сам сознается, да уж он сделал привычку, а для русского человека, как бы он ни прикидывался иностранцем, привычка всегда будет второй натурой. Разумеется, Александр Васильевич, как человек богатый и свободный, объездил почти всю Европу, задолжал, порасстроил свое имение и воротился назад, чтоб заняться хозяйством и накопить денег, или, как он сам выражается: «пожить в деревне годика два на подножном корму». Теперь Прилуцкий сбирается опять за границу, только еще не решился, куда ехать, потому что он одинаковым образом любит и английский комфорт, и парижскую уличную жизнь, и итальянское far niente. Я думаю, однако ж, что Прилуцкий отправится в Лондон, потому что с некоторого времени он очень пристрастился к английским пудингам и начал их запивать вместо шампанского портером. Александр Васильевич — отъявленный поклонник Запада; он очень забавно насмехается над варварством и невежеством своих соотечественников и поговаривает иногда весьма непочтительно про нашу матушку святую Русь. А между тем за границею два раза стрелялся с людьми, которые, не будучи русскими, говорили о России точно то же, что он говорит о ней, живя в Москве. Впрочем, в этом нет ничего особенного; мы, русские, вообще любим побранить самих себя, да это тогда только, когда мы дома, а на чужой стороне наших не тронь! «Свой своему поневоле брат!» — говорит русская пословица. Конечно, бывали русские, которые и дома и в гостях злословили свою родину, да ведь это случаи необыкновенные. Нравственные уроды точно то же, что уроды физические: они так же редки и так же ничего не доказывают; разница только в том, что одних показывают за деньги, а других можно видеть даром, вероятно потому, что они уже слишком отвратительны.
От Пресненских прудов до Покровского бульвара с небольшим четыре версты, разумеется самой ближайшей дорогой, то есть по большой Никитской в Кремль, потом Спасскими воротами на Ильинку, а там, выехав из Китайгорода, прямо Покровкою на бульвар. Проезжая Спасскими воротами, я и Соликамский, по давнему обычаю всех москвичей, сняли наши шляпы.
— А знаешь ли ты, любезный друг, — спросил меня Соликамский, — почему, проезжая этими воротами, мы сняли шляпы?
— Да если верить преданию, — отвечал я, — так это в память того, что в тысяча шестьсот двенадцатом году князь Пожарский, победя поляков, вошел с православным русским войском этими воротами в освобожденный Кремль.
Соликамский улыбнулся.
— Ох вы, романисты! — сказал он. — Так, по-вашему, до тысяча шестьсот двенадцатого года, проходя этими воротами, русский человек и шапки не ломал. Нет, любезный, лет за сто еще до Пожарского все православные проходили сквозь эти ворота с непокрытыми головами, и, вероятно, потому, что, по их понятию, эти ворота были святые.
— Да почему же они считали их святыми? — прорвал я.
— А вот почему, Богдан Ильич: в Спасских воротах благоверные цари русские, святители московские и бояре торжественно встречали следующие святые иконы: Владимирскую божию матерь из Владимира, Всемилостивого Спаса и Спаса Вседержителя из Новгорода, Благовещенье Пресвятой Богородицы из Устюга, Спаса Нерукотворенного из Хлынова и Святого Николая Великорецкого из Вятки; а сверх того в старину из двенадцати ежегодных крестных ходов девять проходили Спасскими воротами. Теперь понимаешь ли, почему все москвичи и до сих пор еще снимают шляпы, проезжая и проходя этими воротами?
— Понимаю, любезный, но признаюсь, что это поэтическое предание, о котором я тебе говорил…
— Больше тебе нравится, чем простая истина?… Вот то-то и есть; вы, господа поэты, только что сказочки рассказываете; вам жить легко, а мы, труженики, из одной любви к истине разбираем рукописи, копаемся в старых архивах, перечитываем столбцы.
— И все это для того, — прервал я, — чтоб доказать, что Адам был славянин и говорил сербским наречием?
— Шути себе, шути, — прошептал Соликамский, взглянув на меня почти с презрением, — я за это не рассержусь. Ведь безграмотные всегда смеются над теми, которым грамота далась!
Соликамский замолчал. Через несколько минут мы выехали на Покровский бульвар и остановились у подъезда большого каменного дома не очень затейливой, однако ж вовсе не безобразной архитектуры. Соликамский сказал правду: княгиня Зорина меня только и дожидалась. Мы поместились все, то есть хозяйка с дочерью, Прилуцкий, Соликамский и я, в большой линейке, заложенной шестериком. Красивые заводские лошади тронулись с места крупной рысью, и мы, переехав Яузу, стали подниматься в гору. Полюбовавшись мимоездом на великолепный дом Шепелева, мы повернули мимо Таганского рынка, оставили в правой руке Новоспасский монастырь и доехали наконец до Крутиц.
— Постой! — закричал Соликамский в ту минуту, как кучер повернул налево, чтоб выехать к городскому валу. Мы остановились.
— Не угодно ли вам, княгиня, — продолжал Соликамский, — взглянуть на этот клочок стены и ворота, принадлежавшие некогда знаменитому Крутицкому монастырю, которым управляли епархиальные епископы Крутицкие и можайские. Эта уничтоженная епархия была учреждена князем Александром Ярославичем Невским и называлась при нем Сарскою и Подонскою. Рассмотрите хорошенько эти ворота, не правда ли, что они прекрасны?
— В самом деле, — сказала княгиня, — это что-то очень недурно. C'est tout a fait rococo.
— Ах, как они хороши! — вскричала княжна. — Вот истинно русская архитектура!.. Ее нельзя никак назвать ни готической, ни византийской. Нет!.. В ней есть свой собственный, особый характер… Как хороши эти окна… А эти покрытые резьбою столбики, как они легки и красивы!.. Посмотрите, Богдан Ильич, на эти карнизы и простенки, выложенные изразцами; может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что в древней архитектуре мавров есть что-то похожее на этот изразцовый мозаик?
— Да, вы точно правы, — сказал я. — Так вам нравятся эти ворота?
— Очень! Все это вместе и странно и пестро, а прелесть как хорошо. Да что ж ты, Александр, не смотришь? — продолжала княжна, обращаясь к своему двоюродному брату. — Посмотри!
Прилуцкий вынул из жилетного кармана лорнетку, воткнул ее в правый глаз, взглянул на ворота и сказал с улыбкою:
— Подлинно прелесть: тяжело, уродливо и безвкусно! Ты правду говоришь, кузина: это истинно русская архитектура!
— Уродливо! — повторил Соликамский.
— Знаете ли, — продолжал Александр Васильевич, — что мне напоминает этот законченный домишко с воротами, изразцовыми стенами и столбиками? Не правда ли, ma tante, что он очень походит на эти безобразные кафельные печи, которые казались так красивы нашим почтенным предкам?
— Ах, в самом деле! — вскричала княгиня. — Я помню, за Москвой-рекой, в одном барском доме, где мы так часто с вами встречались, Богдан Ильич, во многих комнатах были огромные печи, и с такими же столбиками… Что, этот дом существует или нет?
— Нет, он давно уже сломан, — отвечал я.
— И слава богу! — сказал Прилуцкий. — Я всегда радуюсь, когда истребляют эти памятники варварства и невежества наших предков.
— Есть чему радоваться, — подхватил Соликамский. — Ах, вы, господа русские чужестранцы!.. Да если не из любви к своему родному, так, по крайней мере, из подражания вашему Западу, перед которым вы стоите на коленях, не разрушайте древних памятников, а берегите их так же, как их берегут и поддерживают немцы, англичане, итальянцы…
— Да это совсем другое дело! — прервал Прилуцкий. — Им как не беречь своих памятников: у них есть развалины римских зданий, феодальные замки, старинные аббатства…
— Да чем же наши церкви и монастыри уступают вашим западным аббатствам? — вскричал Соликамский, задыхаясь от негодования.
— И, полноте спорить, — сказала княгиня, — мы этак век не доедем до Симонова монастыря! Ступай, Никифор!
Проехав версты полторы вдоль городского вала, потом мимо пороховых магазинов, мы подъехали наконец к Симонову монастырю, оставили за оградою нашу линейку и вошли главными воротами в монастырь. Сначала мы осмотрели соборную церковь, а потом огромную колокольню, построенную по плану архитектора Тона. Эта монастырская звонница, не говоря уже о ее прекрасной архитектуре, замечательна тем, что она выше всех московских колоколен. В ней, не полагая в счет основание, или фундамент, с лишком сорок семь сажен, следовательно, она гораздо выше Ивана Великого, в котором с небольшим тридцать восемь сажен вышины. Разумеется, мы зашли также посмотреть палату, в которой живал по постам царь Федор Алексеевич, особенно любивший Симонов монастырь. Эта палата обращена теперь в братскую зимнюю трапезу. Над папертью, или сенями, этой трапезы возвышается красивая четвероугольная башня с открытой площадкою, или террасою. Послушник, который показывал нам монастырские здания, предложил княгине взойти на башню, чтоб взглянуть оттуда на окрестности монастыря.
— Не ходите, ma tatnte, — шепнул Прилуцкий.
— Отчего же мне нейти? — спросила княгиня. — Я хочу сверху полюбоваться на Москву.
— Ну, смотрите, чтоб у вас голова не закружилась!
— В самом деле, — промолвила княгиня, остановясь на первой ступени, — какая крутая лестница.
— Лестница! И это называют у вас лестницей!
— А что, — прервал Соликамский, — чай, в ваших-то западных аббатствах все лестницы парадные, мраморные…
— По крайней мере, такие, — возразил Прилуцкий, — по которым можно ходить и молодым и старым людям, а по этой стремянке…
— Таким старухам, как я, ходить не можно? — подхватила княгиня. — А вот я тебе докажу, Александр, что я вовсе не так стара, как ты думаешь!
Княгиня начала довольно бодро подниматься по узенькой лестнице, а вслед за нею и мы все, исключая Прилуцкого: он остался внизу. Взойдя на площадку башни, мы долго не могли налюбоваться разнообразием и красотой монастырских окрестностей. Прямо по реке от самой подошвы Симоновской горы начинается обширный зеленый луг с небольшими прудами; посреди его в песчаных берегах извивается Москва-река; за нею тянется вплоть до Данилова монастыря Серпуховская часть Замоскворечья со своими садами и огромными фабриками. Направо поднимается амфитеатром вся Заяузская сторона Москвы со своими каменными палатами и великолепными церквами. Вы обернетесь назад, и вот перед вами, вместо высоких холмов, усыпанных домами, широкие луга, темный сосновый лес, засеянные поля, живописные перелески, рощи, несколько деревень, Перервинский монастырь и вдали, на самом краю небосклона, знаменитое село Коломенское.
Сойдя с башни, мы не нашли в сенях Прилуцкого: он дожидался нас за оградою, в монастырской роще, подле самовара, около которого хлопотала Аксинья Федоровна, ближняя барская барыня княгини Зориной. Мы сели все на разостланном ковре; княгиня начала разливать чай, Прилуцкий закурил сигару, а княжна обратилась к Соликамскому с вопросом: не знает ли он, когда и кем основан Симонов монастырь?
— Как не знать, — сказал Соликамский, — Симонов монастырь принадлежит к числу исторических монастырей нашей родины. Его основал при князе Дмитрии Иоанновиче Донском инок Феодор, племянник преподобного Сергия Радонежского, но только не здесь, а шагах в двухстах отсюда. Вон видите близехонько от заставы на правой руке несколько изб и домиков?
— Кругом небольшой каменной церкви?
— Да. Эта слободка и до сих пор называется Старым Симоновом.
— Так вот где был сначала Симонов монастырь!.. А почему он называется Симоновым?
— Потому, что это урочище принадлежало некогда одному именитому человеку из рода Головиных, по имени Симон. Когда перенесли монастырь на теперешнее его место, святой Феодор заложил во имя Успения божией матери соборную церковь, ту самую, которую мы с вами осматривали.
— Так она должна быть очень стара?
— Да. Она строилась двадцать шесть лет и освящена в 1405 году, следовательно, от основания ее прошло четыреста шестьдесят семь лет.
— То есть без малого пять веков? Ну, это древняя церковь.
— Древняя! — прервал Прилуцкий. — Конечно, для русских очень древняя, — ребенку и тридцатилетний человек кажется стариком. Большая древность пятьсот лет! На Западе об этом и говорить бы не стали.
— Как же! — подхватил Соликамский. — Ведь там есть здания, построенные тотчас после потопа.
— Не слушайте его, Николай Степанович, — шепнула княжна, — он и мне надоел до смерти своим Западом. Скажите лучше, что, эта церковь в Старом Симонове также древняя?
— Да, она давно уже построена. Ей почти триста шестьдесят пять лет. Впрочем, это уже вторая; первая была десятью годами старее Симоновского собора. А знаете ли, княжна, чем особенно замечательна эта церковь? Вы русскую историю читали, так, вероятно, помните, что в Куликовскую битву, которую простой народ называет Мамаевым побоищем, сражались с татарами и положили свои головы за святую Русь два чернеца из обители святого Сергия.
— Как же, помню: один из них назывался Пересвет, а другой… странное такое имя…
— Ослябя. Эти сподвижники Димитрия Донского, эти иноки-богатыри, погребены…
— Неужели в этой церкви? — прервала княжна.
— Да, в ней.
— О, так нам должно сходить поклониться их могилам.
— В самом деле, господа, — сказала княгиня, вставая, — пойдемте в эту церковь.
Все наше общество поднялось. Прилуцкий также встал, но, казалось, он вовсе не охотно покидал мягкий ковер, на котором ему было так спокойно лежать и курить сигару.
— Я должен вас предуведомить, — сказал Соликамский, идя подле княгини, — что гробницы Пересвета и Осляби вовсе не древние, они поставлены на могилах этих иноков по приказанию Екатерины II.
— Да это все равно! — отвечала княгиня. — Главное, что они тут похоронены. Признаюсь, я очень люблю эти грустные перелинажи! Для души чувствительной, для сердца нежного все эти меланхолические воспоминания чрезвычайно приятны!.. Знаете ли что, Николай Степанович, теперь вы нас ведете на могилы этих монахов, а после я вас поведу взглянуть на пруд, в котором утопилась бедная Лиза.
— Какая Лиза? — спросил Прилуцкий.
— Какая Лиза? Ну, та самая, которую погубил злодей Эраст. Да неужели ты не знаешь, кто была бедная Лиза?
— Нет, тетушка. Я много знавал и бедных и богатых Лиз, только из моих знакомых ни одна не утопилась.
— Так ты не читал этой прелестной повести?
— Повести?… Постойте?… А, точно… теперь вспомнил!.. Я читал ее, когда еще был мальчиком лет десяти; тогда эта повесть мне очень понравилась.
— А теперь?
— И, ma tante, ведь я уж не ребенок!
— Кажется, и я не дитя, Александр, — возразила с приметной досадой княгиня, — однако ж я и теперь восхищаюсь этим образцовым произведением… Может быть, оттого, что не похожу на этих бездушных людей…
— Которые не имеют голоса на дворянских выборах, — подхватил Прилуцкий. — Кузина, каков каламбур?
— Я каламбуров не люблю, а особливо, когда их не понимаю, — сказала очень сухо княжна.
— Так ты не знаешь, — продолжал Прилуцкий, — что на дворянских выборах все помещики, у которых нет ста душ, не имеют голосов и называются, смотря по их состоянию, малодушными или даже вовсе бездушными?
— А я, — сказала княгиня, — называю бездушными тех, которые над всеми смеются, всеми пренебрегают, ничего не любят, для которых хороший страсбургский пирог приятнее всякого сердечного наслаждения…
— Ну, нет, ma tante! — прервал Прилуцкий. — Вот если б вы сказали сытнее, так я не стал бы с вами спорить.
— Да что с тобою говорить, Александр. Мы друг друга никогда не поймем!
Прилуцкий улыбнулся и не отвечал ни слова. В продолжение этого разговора мы дошли до Старого Симонова. Услужливый пономарь отпер нам церковь, показал надгробные камни Пересвета и Осляби, несколько древних икон и остался очень доволен двугривенным, который дал ему за труды Николай Степанович Соликамский.
— Ну, — сказала княгиня, когда мы сошли с церковного погоста, — теперь моя очередь быть вашим чичероне.
— Видите ли вы вон там, за городским валом, эту семью унылых берез: они растут на берегу пруда, в котором утонула бедная Лиза.
— Я вижу два дуба, — сказал Прилуцкий, — из которых один высох, да несколько берез, если не унылых, так, по крайней мере, очень жалких.
— В самом деле, — прервала княгиня, — куда девались эти огромные, развесистые березы, которые склонялись так живописно над водою? Я помню, они были все покрыты надписями.
— Да, может быть, мы и теперь найдем какие-нибудь надписи, — сказал я.
— Но уж, верно, не такие, — подхватила княгиня, — какие сочиняли в старину московские поэты. О, сколько в этих стихах было истинного чувства. Нет, нынче не умеют так писать. Я помню, один из московских поэтов, князь Платочкин, написал при мне карандашом на березе четыре стиха; я их не забыла:
Я здесь люблю мечтать Под тению березы, О бедной Лизе вспоминать И лить сердечны слезы.— Не правда ли, Оленька, что эти стихи очень милы?
— Может быть, маменька, только мне кажется, что и я бы могла написать такие стихи.
— То-то и есть, что кажется, а попробуй, так и не напишешь. Нет, мой друг, князь Платочкин был в свое время известным поэтом. Я помню, как мы все гонялись за ним в Слободском саду, а он этого как будто и не замечает, идет себе задумавшись, остановится, вынет карандаш, попишет у себя в книжке и пойдет опять. Конечно, Платочкин далеко не был таким поэтом, как автор «Бедной Лизы», но какие он писал мадригалы, триолеты, так я тебе скажу — прелесть!.. Ну, вот мы и пришли!
Я помог княгине взойти на земляную насыпь, которая окружает со всех сторон небольшой прудик, более похожий на дождевую лужу, чем на пруд.
— Посмотрите, тетушка, — сказал Прилуцкий, указывая на одну березу, — не при вас ли были писаны эти стихи?
— Где, мой друг? Где?
— А вот здесь! Видите?… Карандашом.
— Да, точно! Только я никак не могу разобрать. У тебя, Александр, глаза помоложе моих, — прочти-ка, мой Друг!
Прилуцкий не вдруг разобрал надпись, однако ж прочел наконец кое-как следующие стихи:
Созданье легкое минутного каприза, Пустая выдумка и дичь! Ну, что за Сафо эта Лиза? И что за Ловелас какой-нибудь москвич?— Ах, боже мой! Да это, кажется, эпиграмма?
— Да, тетушка! И мне кажется, что это не мадригал.
— Хороши же ваши теперешние стихотворцы!.. Бездушники! Да что и говорить, для них нет ничего святого!
— Постойте, тетушка! Вот еще другие стихи — может быть, эти лучше.
— Не верю; если они писаны недавно, так, верно, какая-нибудь гадость, однако ж, так и быть, прочти!
Прилуцкий прочел довольно бегло следующее двустишие:
Ну, можно ль поступить безумнее и хуже: Влюбиться в сорванца и утопиться в луже?— Фи, какая глупость! — вскричала княгиня. — Да уж не ты ли нам все это сочиняешь, Александр?
— Я, ma tante? Что вы! Да я и прозой-то по-русски плохо пишу.
— Ну, не правду ли я говорила, что в наше время поэты были не то, что теперь: тогда умели чувствовать и выражали это в прекрасных стихах… А нынешние писатели что такое?… Грязная проза, дурные стихи… Не правда ли, Богдан Ильич?
— Извините, княгиня, — отвечал я, — стихи нынче пишут вообще гораздо лучше прежнего, — в них больше мыслей, но зато в них часто выражаются какие-то неистовые, буйные страсти. Эта модная поэзия, которую французы называют растрепанной (echevelиe), в отношении к прежней нашей поэзии, скромной, опрятной, но несколько бесцветной, то же самое, что исполненная огня и силы безумная цыганская пляска в сравнении с чинным, благопристойным, но почти безжизненным менуэтом. Что ж делать, — век на век не приходит. В наше время поэты ворковали как голубки, а теперь они ревут подчас, как дикие звери. Бывало, нежная мать, убаюкивая свое дитя, поет:
Спи, мой ангел, успокойся! Баюшки-баю!А теперь в какой-нибудь колыбельной песне та же маменька поет:
Спи, пострел, пока невинный! Баюшки-баю!— Ах, что вы, что вы! — вскричала княгиня. — Да неужели в самом деле пишут такие ужасы? — И пишут, княгиня, и печатают!
— А что ж, по-вашему, — сказал Прилуцкий, — лучше, что ли, это прежнее голубиное воркованье?
— Нет, Александр Васильевич, по мне, и то и другое нехорошо: можно и не ворковать и не бесноваться. А что можно, так это нам доказывали и теперь доказывают писатели с истинным дарованием, которые никогда не гоняются за минутным успехом.
— Пойдем, Оленька, — прервала княгиня, — я не хочу здесь дольше оставаться. Богдан Ильич, дайте мне вашу руку. Ну, скажите мне, — продолжала она, идя со мною к монастырю, — не правда ли, что в старину все было лучше нынешнего? Не правда ли, что наше новое поколение, наши молодые люди…
— Гораздо нас помоложе, княгиня? Да, правда. И, признаюсь, я за это на них очень зол.
— Вы все шутите, а я вас спрашиваю не шутя. Ну, скажите, на что они похожи?
— Я думаю, что они очень походят на то, чем мы были с вами лет тридцать пять тому назад. А если многое, что казалось нам прекрасным, кажется им смешным, так это весьма естественно. Вспомните, как мы смеялись над пудреными париками и робронами наших дедов и бабушек, а ведь они были уверены, что лучше наряда придумать не можно. Что ж делать, я уж вам сказал, что век на век не приходит; одни только страсти наши остаются неизменными, а нравы, обычаи, понятия и общественные условия не могут не изменяться. Чтоб оградить их от этого изменения, мы должны бы были, как наши соседи китайцы, никого к себе не пускать и сами никуда не ездить. Всегда ли эти изменения бывают к лучшему — это другой вопрос, но что они сделались для нас неизбежными, об этом, кажется, и говорить нечего.
— Неизбежными!.. — повторил Соликамский, который шел позади нас вместе с Прилуцким. — Неизбежными!.. Да этак, пожалуй, кончится тем, что мы сделаемся французами или немцами.
— О, нет, любезный, — сказал я, — это совсем другое дело. Нам точно так же нельзя сделаться французами, как французам русскими. Все эти изменения в нравах и обычаях, как необходимые следствия просвещения, опыта и частых сношений с соседними народами, могут со временем сблизить все поколения, но эти, так сказать, кровные, родовые свойства каждого народа, его недостатки и достоинства, хорошие и дурные склонности, быть может, облекутся в лучшие формы, получат другие названия, но в существе своем останутся всё те же. Например, какое найдете вы сходство у нынешних парижан с теми, которые жили в Париже, когда еще он назывался Лютециею? А, несмотря на это совершенное изменение в понятиях и образе жизни, французы остались все теми же французами. Они, конечно, очень много переняли у своих завоевателей, однако ж не сделались римлянами и даже вовсе не походят на итальянцев, которые ведут свой род прямехонько от римлян.
— Точно так же, как и мы не сделались татарами, — примолвила княжна.
— Да, Ольга Дмитриевна! Самобытность, эта жизнь народная, имеет большое сходство с отдельным существованием каждого человека. Всякий из нас был некогда ребенком, перенимал все у тех, которые его постарше, учился, потом вырос, возмужал и сделался совершенно не похожим на то, чем был прежде, а между тем все-таки не стал другим человеком, потому что для этого надобно переродиться.
Мы подошли опять к монастырским воротам.
— Александр, — сказала княжна, — ты не хотел взойти с нами на башню, так погляди хоть отсюда на Москву.
— И, кузина! — отвечал Прилуцкий. — Как тебе не надоело восхищаться все одним и тем же; ну, право, я начинаю думать, что ты приходишь в восторг для того только, что это тебе к лицу.
— А почему ты это думаешь? — спросила княжна с приметной досадой.
— Да, да! Я уверен, это все комедия, и, надобно тебе отдать справедливость, ты мастерски разыгрываешь свою роль.
— Знаешь ли, Александр, что это становится несносным! Так, по-твоему, нельзя любоваться этим прелестным видом?
— Да чем тут любоваться, а особливо мне? Я был в Риме, в Неаполе, смотрел с колокольни Notre-Dame на Париж; все это мне прискучило, надоело, que voulez vous, ma chere, je suis blase sur tout!
— Blase!.. — повторила княжна. — Это любимое словечко людей без всякой поэзии, без чувства, воображения… Ведь им надобно же оправдать чем-нибудь свое равнодушие ко всему прекрасному.
Прилуцкий вспыхнул, но не отвечал ни слова. Мы уселись по-прежнему в линейку и поехали. Наша прогулка началась довольно весело, а кончилась очень скучно. Во всю дорогу никто не вымолвил ни слова. Прилуцкий дулся на свою кузину, княгиня гневалась на стихотворцев, которые насмехались над бедною Лизою, Соликамский досадовал на Прилуцкого за его неуважение к русской старине. Один я ни на кого не сердился, но от этого мне легче не было: ведь вовсе не весело ехать целый час, боком, в тряской линейке, с людьми, которые молчат и дуются друг на друга. Когда мы доехали до Яузы, я сказал, что мне нужно завернуть в Воспитательный дом, простился с княгинею, пересел в коляску и отправился на свои Пресненские пруды.
VII Смесь
Логический вывод
Кому случалось испытать на самом себе, что часто «услужливый дурак опаснее врага»? Мне, по крайней мере, не раз напоминали этот стих Крылова услужливые глупцы, непрошеные покровители, а пуще всего безграмотные защитники моего мнения, которое в их устах почти всегда становилось смешным и даже нелепым. Вот один из этих случаев.
Однажды, помнится, месяца два тому назад, собралось ко мне вечерком человек десять хороших приятелей; в числе их был Захар Никитич Пеньков, орловский помещик, старик добрый, весьма простой, не очень грамотный и большой патриот, но, к сожалению, в самом невыгодном смысле этого слова, то есть совершенный гражданский старовер, для которого все новое ненавистно, потому что оно ново, и все старое мило, потому только, что оно старо. Разговор зашел у нас о тех иностранцах, которые приезжают в Россию воспитывать дворянских детей.
— Знаете ли, — сказал один из моих гостей, — что у Никитских ворот был некогда трактир, известный под названием города Керехсберга, — вероятно, Кенигсберга. Этот трактир служил притоном для всех иностранных учителей, гувернеров и дядек, которых не успели еще разобрать по рукам наши добрые степные помещики. Тому лет двадцать назад мне вздумалось однажды взглянуть из любопытства на этих ежедневных посетителей трактира Керехсберга. Боже мой, что за рожи!.. На одного порядочной наружности человека, конечно, с полдюжины таких безобразных лоскутников, что истинно страшно было на них и взглянуть. Вообще, немцы показались мне сноснее, может быть потому, что они сидели спокойно за своим полпивом и молча курили трубки. Но французы!.. О, я никогда не забуду, как ворвалась при мне в трактирную залу целая ватага этих наставников русского юношества pour prendre un petit verre, то есть для того, чтобы хлебнуть водки. Вся эта честная компания уселась за одним столом, пошла громкая болтовня, россказни. Один общипанный француз, с обрюзглым от пьянства лицом, начал рассказывать, что его подговаривают ехать учителем французского языка, истории и географии к богатому помещику, живущему dans le Couvernement de Siberie, сиречь в Симбирской губернии. Другой француз, с растрепанной головой и красным носом, принялся хвастаться своими победами над прекрасным полом и объявил товарищам, что он нашел для себя теплое местечко у одной русской барыни — une grosse rejouie encore tres fraiche, которая принимает его к себе в дом soit disant pour ses enfants. Разумеется, я не мог долго пробыть в этом кабаке и ушел, признаюсь, с большою грустью в душе. Боже мой, думал я, вот кому доверяют воспитывать своих детей наши дворяне! И эти безграмотные развратные выходцы, быть может выгнанные из своей родины, будут наставниками русского юношества, и будут непременно!.. Вы знаете, что не так давно наши провинциальные помещики приезжали сами в Москву или присылали досужего человека, чтоб запастись на целый год разной провизиею и, смотря по надобности, приискать подешевле иностранного мосьё или какую-нибудь заморскую мадаму, которые могли бы выучить всяким наукам и образовать на европейский манер их милых деточек. То-то житье было тогда всем немецким геррам Вральманам и французским мосьё Трише.
— Да нынче уж не то, — прервал другой из моих гостей. — Теперь, чтоб иметь право называться учителем, надобно прежде побывать в университете и выдержать экзамен, а ведь это не безделица; тут уж не помогут ни наглость, ни болтовня, ни хвастовство, и тот, кто был у себя дома кучером или цирюльником, может и здесь также сесть на козлы или стричь волосы, но уж, верно, учителем не будет.
— Конечно, — сказал я, — это большое улучшение, но я желал бы дожить до того времени, когда все эти иностранные гувернеры, учители и дядьки заменятся русскими.
— Ну, этого вы не скоро дождетесь, — подхватил другой из моих гостей. — Французские гувернеры, которые приучают нас с ребячества к чистому парижскому выговору, до тех пор не могут быть заменены русскими, пока мы не решимся говорить по-французски, как говорят этим языком немцы, англичане, итальянцы и вообще все народы Европы, которые вовсе не хлопочут о том, чтоб их принимали за природных французов. Впрочем, я не знаю, для чего вы желаете, чтоб у нас не было иностранных учителей; разве не все равно, кто учит ребенка: немец ли, француз ли, англичанин ли, или швейцарец, лишь бы только он хорошо учил.
— Разумеется, — отвечал я, — если этот учитель преподает науку в каком-нибудь публичном заведении, с кафедры; но я говорю об учителях, которые живут по домам, которым вверяется воспитание ребенка. Тут уж дело идет не об одной науке. Ну, скажите сами: какой иностранец станет заботиться о том, чтоб его воспитанник любил свое отечество и не руководствовался во всем образом мыслей и понятиями иностранцев, потому что будущие его обязанности как русского дворянина во многом не сходны с обязанностями какого-нибудь английского лорда, немецкого барона или французского гражданина? Какой иностранец будет говорить своему воспитаннику, что безусловная любовь ко всему иноземному так же неблагоразумна и едва ли не вреднее этой исключительной, безотчетной любви ко всему отечественному? Можете ли вы требовать от иностранца, даже самого добросовестного, чтоб он не предпочитал законы и обычаи своей земли обычаям и законам нашей родины и чтоб, вследствие этого предпочтения, он не старался поселять в своем воспитаннике преувеличенное понятие о Западе и рабское уважение ко всему иноземному? Я знаю это по себе, — и у меня был также учителем француз, человек, впрочем, весьма порядочный. Когда он бывал мною доволен, то всегда, поглаживая меня по голове, говорил: «Bravo, monsieur Bogdan, bravo! Vous meriteriez d'etre francais mon cher!» Мы видим на каждом шагу горькие плоды этого ошибочного воспитания. Привыкая с ребячества к мысли, что у нас все дурно, а за границей все прекрасно, мы стараемся во всем подражать Западу. Кто говорит, — хорошему подражать всегда должно; да только вот беда, что дурному подражать гораздо легче, чем хорошему, а дурного-то найдется много и на Западе.
Некоторые из моих гостей стали со мною спорить, другие приняли мою сторону, и последних было гораздо более, как вдруг, на мое горе, орловский помещик Захар Никитич Пеньков, который до того все молчал, решился заговорить.
— Позвольте, — молвил он, — позвольте! Я вам доложу, истинно, как перед богом, доложу!.. Богдан Ильич изволит говорить совершенную правду, знаем мы это французское воспитание!.. Бедовое дело, сударь, истинно бедовое, — чума, сударь!.. Вот я вам доложу: у меня есть сосед по имению, вдовец Иван Алексеевич Холмский, человек богатый и с весом; всего детей у него было один сынок да одна дочка. Вот, сударь, занялся он очень их воспитанием, нахватал всяких учителей и мадамов; пошли их учить с утра до вечера разным наукам, языкам, всякой мудрости, а пуще всего по-французскому. Ну, верите ль богу, сударь, дело соседское, приедешь иногда в гости — не знаешь, с кем словечко вымолвить! Не токмо господа, да и люди-то все французами смотрят. Денег он потратил бездну, убил половину имения, а все пошло прахом! Сын подрос и вступил в военную службу; дочка также выросла и пошла замуж. Хорошо!.. Да позвольте спросить, конец-то какой был?… Сына, сударь, убили на Кавказе черкесы, а дочь умерла первыми родами, — вот тебе и французское воспитание!
Разумеется, это неожиданное заключение сгубило все мое красноречие; гости мои расхохотались, никто не стал меня слушать. Да я готов был и сам отказаться от моего мнения для того только, чтоб не иметь своим защитником Захара Никитича Пенькова.
Московские гостиницы
Конечно, во всей России, не исключая и роскошного Петербурга, нет таких удобных и превосходных гостиниц, какие с некоторого времени завелись у нас в Москве. Я не смею повторять то, что говорят о них все иностранные путешественники, потому что иногда и правда покажется невероятнее всякой лжи, но скажу только, что в этом отношении Москва может смело состязаться с каким угодно европейским городом. Давно ли, кажется, «Лондон», известная гостиница в Охотном ряду, казалась нам почти великолепною, а что она в сравнении с гостиницею Шевалдышева, которая, в свою очередь, отстала так далеко от «Дрездена», и что, наконец, этот аристократический, щеголеватый «Дрезден» в сравнении с роскошным, изящным, исполненным всех возможных удобств взъезжим домом господина Варгина? Не видав внутреннего устройства этого дома, нельзя никак представить себе, до какой степени совершенства доведено это истинно европейское заведение. Конечно, в нем не все отделения убраны с одинаковым богатством, но нет ни одного, в котором бы вы не забыли, что живете в наемных комнатах, которые отдаются посуточно. Везде необыкновенная чистота, удобство, прекраснейшая мебель, паркеты, бронзы, ковры и сверх того все то, о чем в старину и речи не было, то есть спокойные постели, чистое белье, столовая посуда — одним словом, все домашние необходимости, удобства и даже прихоти. Вы любите цветы, намекните только об этом — и ваша комната превратится в оранжерею; вы музыкант, скажите одно слово — и прекрасный рояль явится к вашим услугам. Мне скажут, может быть, что все это стоит довольно дорого, — да разве можно где-нибудь жить барином и не тратить денег? А если у вас их немного, так и это не беда, — в Москве около шестидесяти гостиниц и подворьев. Выбор зависит совершенно от вас. Вы можете платить посуточно за вашу квартиру, начиная от полтины до пятнадцати рублей серебром. Разумеется, в первом случае отведут для вас комнату не очень красивую и лестница, по которой вам придется ходить, будет, может статься, и крута и грязненька, — да это уж ваше дело. Вот худо, если вы ни за какие деньги не найдете для себя удобного помещения или не отыщете квартиры, сообразной с вашими способами, — а это, говорят, нередко случается не только у нас на святой Руси, но даже и за границей, где по всем городам и дорогам езды побольше нашего.
Андрей Евстафьевич Дыбков
Кажется, в первом выходе моих «Записок» я говорил уже, что многие из петербургских старожилов имеют весьма ошибочное понятие о Москве и вообще о всей России. Эти господа полагают, что все наше просвещение сосредоточилось в одном Петербурге, что Москва хотя называется столицею, однако ж в существе своем не что иное, как огромный губернский город и точно так же, как все губернские города, отстала целым веком от Петербурга. Конечно, с некоторого времени это ложное понятие начинает понемногу истребляться, и почти все истинно просвещенные петербургские жители говорят с большим уважением, а иные даже и с любовью о первопрестольном граде царей русских, об этой православной Москве, которую вся Россия или, по крайней мере, вся древняя Россия называет своею матерью. Но, несмотря на это, найдутся еще люди, совершенно убежденные в справедливости прежнего мнения. Я имел случай увериться в этом по собственному моему опыту. В конце нынешнего лета получил я письмо от одного из моих петербургских приятелей; это письмо принес мне не почтальон, а трактирный слуга вместе с карточкою, на которой было напечатано: «Статский советник Андрей Евстафьевич Дыбков». Вот письмо моего приятеля:
«Любезный Друг Богдан Ильич! Я посылаю к тебе это письмо с Андреем Евстафьевичем Дыбковым, чиновником одного из здешних министерских департаментов. Ему досталось наследство, не помню, в какой-то из наших степных губерний, и он в первый раз от роду оставил Петербург, в котором родился, вырос, начал служить и дослужил до чина статского советника. Вероятно, он пробудет у вас дня два или три; пожалуйста, мой друг, познакомься с ним и угости его Москвою — ты этого дела мастер. Я искренно уважаю Андрея Евстафьевича, он человек прекрасный, честный, благородный и доказал мне на самом деле свое истинно редкое бескорыстие. Но я должен тебя предуведомить, что у него есть кой-какие предрассудки и ложные понятия, которые могут тебе показаться смешными. Во-первых, он убежден в душе своей, что уроженец и постоянный житель Петербурга есть существо какого-то особенного роду, на которое все провинциалы должны смотреть с невольным чувством уважения. Во-вторых, — не прогневайся, мой друг, — Андрей Евстафьевич не слишком высокого мнения о вашей Москве и, вероятно, не переменит этого мнения, когда увидит, что она вовсе не походит на Петербург. Я боюсь также, чтоб он не показался тебе спесивым; нет, мой друг, уверяю тебя, он вовсе не горд… Это только какое-то невольное чувство собственного своего достоинства или, лучше сказать, следствие преувеличенного понятия, которое он имеет о звании чиновника одного из министерских департаментов. Не смейся, мой друг, — это чувство весьма естественное. Представь себе человека, который очень часто сносится с важными особами и пишет предписания, а иногда и замечания начальникам губерний, — может ли этот человек не иметь весьма высокого понятия о своем бюрократическом назначении?… Ты скажешь, может быть, что не он подписывает эти отношения, предписания и замечания, — правда, мой друг… Но знаешь ли ты, что Вольтеров переписчик говаривал иногда, и вовсе не шутя: «Да, конечно! Мы таки порядком потрудились над «Заирой», но если б вы знали, какого труда нам стоил «Магомет»!» Ну, рассуди же сам, если это мог сказать простой переписчик, то чего не может подумать о себе тот, кто не переписывает, а сочиняет все эти деловые бумаги. Конечно, Андрей Евстафьевич понимает, что в Петербурге он исчезает в этой толпе равных с ним званием чиновников, но зато он не сомневается, что в каждом провинциальном городе он должен казаться всем местным властям лицом не только замечательным и важным, но даже государственным; одним словом, я уверен, что Андрей Евстафьевич не принял бы за насмешку, если б в какой-нибудь губернии исправник встретил его на границе своего уезда, а городничий подал рапорт о благосостоянии города».
Не желая выводить из этого приятного заблуждения господина Дыбкова, я не поменялся с ним карточками, а поехал к нему сам. Андрей Евстафьевич показался мне, действительно, человеком очень добрым; он принял меня весьма ласково. Поздравив его с приездом в Москву, я спросил его, был ли он в Кремле.
— Как же! — отвечал Дыбков. — Я видел ваш большой колокол, толстую пушку, соборы, Ивана Великого — все видел. Конечно, для художника тут немного пищи, но для любителя русской старины должно быть очень любопытно… Древность, большая древность!..
— А по Москве вы покатались?
— Да!.. Я вчера целый день ездил. Скажите мне, что это за странная мысль была основать Москву на таком невыгодном месте? Ведь она была некогда первым городом в России; неужели нельзя было выбрать для нее получше местоположение?
— Да разве здешнее местоположение…
— Помилуйте!.. Для большого города необходимо ровное, гладкое место… Посмотрите наш Петербург… А это что такое?… Горы да буераки!.. То спускаешься вниз, то подымаешься вверх…
— Зато на каждом шагу какие виды, — прервал я.
— Да что хорошего в этих видах? Никакой симметрии, никакого единообразия, такая пестрота, все как-то разбросано. Церквей очень много, да все они такой безобразной старинной архитектуры!.. Узенькие улицы… Нет, воля ваша, я ожидал увидеть что-нибудь получше этого!.. Конечно, мы, петербургские жители, избалованы, нас трудно чем-нибудь удивить, да я вовсе и не думал удивляться, а полагал, что увижу хоть что-нибудь похожее на столицу… Ну, две-три широкие прямые улицы с трехэтажными домами под одну кровлю, судоходную реку с гранитной набережной…
— Да, — сказал я, — нам этим похвастаться не можно: наша Москва-река…
— Не прогневайтесь, — прервал Дыбков, — мы не променяли бы на нее нашу Черную речку или Карповку, — по них все-таки в лодках ездят; а через вашу Москву-реку, говорят, куры вброд ходят… Да скажите, пожалуйста, какую же вы пьете воду?
— Можно пить и москворецкую — она весьма недурна; а сверх того у нас во многих местах есть фонтаны с отличной водою.
— А!.. Видел, видел!.. То есть не фонтаны, а источники; вот как у нас по Царскосельской дороге… Фонтаны — дело другое, и если б вы побывали у нас в Петергофе… Да что об этом… Скажите-ка мне лучше, почтеннейший Богдан Ильич, могу ли я здесь кое-чем позапастись?
— А что вам надобно?
— Мне нужно купить французского табаку да несколько бутылок вина… Я уж не требую, чтоб это было отлично хорошо…
— А почему же вам этого не требовать?
— Сам виноват, Богдан Ильич! Забыл всем нужным запастись в Петербурге.
— Не беспокойтесь. Вы найдете здесь и цельное вино, и хороший французский табак.
Дыбков улыбнулся.
— Хороший? — повторил он. — Извините, Богдан Ильич. Если б дело шло о калачах, так в этом и спору нет: Москва ими славилась; но все предметы роскоши и все то, что идет из чужих краев… Впрочем, у меня больших претензий нет, я всем буду доволен. Кто едет за две тысячи верст от Петербурга, в самую глубь России, тот должен всего ожидать. Что делать, Богдан Ильич! Придется месяца два потерпеть, да зато я познакомлюсь с нашими провинциями; а, признаюсь, я давно желаю на них посмотреть. Жаль только, что не увижу их, так сказать, нараспашку, не застану врасплох. Мне очень бы хотелось взглянуть на их будничный, простой быт; а как это сделаешь?… Во всяком городе узнают сейчас, что я занимаю такой видный пост в Петербурге, — пойдут церемонные визиты, официальные приглашения, званые обеды… Ну, что тут увидишь и что узнаешь?… Вот, Богдан Ильич, — примолвил Дыбков с таким детским простодушием, что мне стало его жаль, — вот, сударь, случаи, в которых инкогнито должно быть очень приятно!
Несмотря на мою страсть угощать всех приезжих Москвою, я не предложил моих услуг Андрею Евстафьевичу, который отзывался так холодно о нашем Кремле и не постигал, что главная прелесть Москвы состоит именно в том, что она вовсе не походит на великолепный Петербург, на щеголеватый Берлин, на Париж, на Вену и вообще на все города Европы. Она прекрасна не заимственной, а собственной своей красотою. Мы пригляделись к нашей Москве, а послушайте, что говорят о ней иностранные путешественники. Недавно я спросил одного из них, как ему показался наш первопрестольный город.
— Ваша Москва, — отвечал он, — вовсе не походит на то, что мы привыкли называть правильным, великолепным, изящным, а между тем я не могу ею налюбоваться. Все, что я до сих пор видел, так огромно, чудно, пестро, так противоречит нашим западным понятиям и в то же время так прекрасно, что я решительно очнуться не могу. Одним словом, ваша Москва не город, а «тысяча и одна ночь», или, лучше сказать, очаровательный, волшебный сон, в котором все для меня ново.
Я распрощался с господином Дыбковым, пожелал ему счастливого пути и отправился домой. Спустя месяца полтора после этого явился ко мне поутру господин Дыбков. Он сказал мне, что, возвращаясь в Петербург, хотел узнать, не имею ли я каких-нибудь препоручений к моему приятелю. Я поблагодарил его и спросил, как он провел свое время в губернии, понравился ли ему образ жизни наших провинциалов, повеселился ли он?… При этом последнем вопросе господин Дыбков покраснел.
— Повеселился? — повторил он. — Где-с?… В этой трущобе? В этих губернских городах, в которых не имеют никакого уважения ни к званию, ни к лицам?… Помилуйте!.. Да можно ли повеселиться там, где живут какие-то мужики, варвары, которые засели в своих конопляниках да никого и знать не хотят!.. Представьте себе, — продолжал господин Дыбков с возрастающим жаром, — петербургский житель, человек, занимающий такой видный пост… должен был… Вы не поверите!.. Да, сударь, должен был во всех губернских городах обедать где?… В трактирах, сударь! В трактирах!.. Да еще в каких!.. Харчевни мерзкие!.. А туда ж: ресторации… нумера!.. Хлева, сударь… хлева!..
— Это странно, — сказал я, — у нас в провинциях вообще очень гостеприимны, и, если приезжий желает со всеми познакомиться, ему стоит только сделать несколько визитов или привезти с собой хоть одно рекомендательное письмо…
— Рекомендательное письмо? — повторил с живостью Андрей Евстафьевич. — Мне рекомендательное письмо, сударь, — подорожная!.. Такой чиновник, как я, в каком-нибудь провинциальном городишке… Да это, сударь, эпоха!.. Нет, признаюсь, я не ожидал такого разврата в наших провинциях… Все, сударь, потеряно, все!.. Покойный батюшка служил в канцелярии генерал-прокурора, — бывало, поедем не по службе, а по собственным делам в какой-нибудь губернский город… Господи, боже мой!.. Все встрепенется!.. Исправник, заседатели в мундирах… Обывательских лошадей бери безденежно сколько хочешь!.. Что лошади!.. По дорогам лагуны горят!.. А теперь!.. Скверный дух, батюшка, скверный!.. Представьте себе: вздумалось мне проездом остановиться отдохнуть в одном уездном городе. Привезли меня в гостиницу — гадость такая, что не приведи господи! Хуже всякой конюшни. Вот я посылаю сказать городничему, что такой-то проезжий петербургский чиновник желает переночевать в городе, но так как городская гостиница не представляет к сему никаких удобств, то он покорнейше просит господина городничего приказать отвести ему квартиру в каком-нибудь обывательском доме. Вот жду: явится ко мне сам городничий, вероятно, предложит свой дом… И что ж, сударь? Человек мой возвращается с ответом: «Скажи, дескать, твоему барину, что квартиры отводят только для проходящих войск, а если, дескать, его высокородию не нравится наша гостиница, так он может сам нанять квартиру у любого обывателя». Разумеется, после такого дерзкого ответа я не мог остаться ни минуты в этом скверном городишке. Добрался я наконец до первого губернского города, живу в нем сутки, двое… Поверите ли?… Никому до меня и дела нет!.. Приезжаю в другой губернский город, останавливаюсь в гостинице… Порядочная!.. Довольно чисто, не пахнет ни кислой капустой, ни рыбой… Входит трактирщик: «Позвольте узнать чин, имя и фамилию». — «Статский советник, братец, Андрей Евстафьевич Дыбков, чиновник, служащий в таком-то министерстве». Трактирщик в пояс поклон — и вон! Гляжу в окно: бежит он сломя голову по улице… повстречался с человеком в треугольной шляпе, по всему видно — квартальный… пошептались; квартальный сел на извозчика и поскакал. «А-га, — подумал я, — проснулись!» Этак через полчаса входит мой Алексей и докладывает, что ему на почтовом дворе сказали, будто бы все лошади в разгоне и только разве к ночи вернутся назад. «Я было поспорил со смотрителем, — примолвил Алексей. — Да он божится, что лошадей нет, а ямщики говорят не то; да и сам-то он, проклятый, ухмыляется». — «Ухмыляется, — подумал я, — вот что!.. Понимаю!.. Ему не приказано давать мне лошадей: это деликатная манера позадержать меня в городе… Понимаю!..» — «Не прикажете ли, — спросил Алексей, — сказать трактирщику, что вы изволите здесь кушать?» — «Нет, братец, погоди! Мне кажется, я буду обедать не здесь… Ступай себе, поешь; да вынь из чемодана шкатулку, мундирный фрак и прочее». Вот, сударь, я выбрился, оделся, сижу себе час, сижу два, сижу три… Что такое? И скучно, и есть хочется, а гонца ко мне от губернатора нет как нет!.. Видно, приготовляется — не хочет принять меня по-будничному… Проходит еще час, другой… Слышу — бьет семь часов! Да этак поздно и у нас в Петербурге не обедают!.. Я кликнул трактирщика. «Что, брат, губернатор в городе?» — «В городе, сударь. Сейчас изволил проехать». — «Проехать? Куда?» — «Да, я думаю, никуда, ваше высокородие; он всегда изволит кататься после обеда». Вот тебе раз!.. Что это все значит?… «Послушай, любезный, — сказал я хозяину, — мне показалось, что ты говорил на улице с каким-то квартальным?» — «Говорил, сударь». — «И этот квартальный сел на извозчика и поскакал». — «Точно так-с!.. Этот квартальный надзиратель — мой куманек. Я думал, что вы будете здесь кушать, так просил его взять в погребке бутылочку хорошего сотернова. Ординарное-то у меня есть, да не отличное: здешние посетители им не брезгуют, а ваше высокородие дело другое — вы человек петербургский!..» Прошу покорно, а делать-то нечего! Принимайся за трактирный обед. «Да ничего, дескать, нет». — «Как так?» — «Ваш человек сказал, что вы кушать не будете, так для вас ничего не готовлено». Поздравляю: без обеда!.. Признаюсь, Богдан Ильич, в жизнь мою я не сердился так на самого себя, как в этот раз… Дурак этакий!.. Уж я видел, какой народ эти провинциалы, — чего тут ожидать? Да разве есть что-нибудь для них святое?… Что им такое петербургский сановник? Они сами господа!.. Вы скажете, что губернатор не знал о моем приезде в город… Да как ему, сударь, не знать об этом?… Уж коли ему не донесли о приезде такого чиновника, как я, так о чем же ему и доносят?… Нет, Богдан Ильич, худо, очень худо!.. Все потеряно, батюшка, все!..
Как я ни желал примирить моего гостя с нашими провинциалами, но он остался непоколебим и, прощаясь со мною, повторил еще раз, что в наших губерниях и дворянство, и местное начальство, и вообще все сословия потеряли всякое уважение к заслуженным лицам, совершенно развратились и что это пагубное вольнодумство дошло до высочайшей своей степени; одним словом, добрый и простодушный Андрей Евстафьевич, вовсе не думая, повторил в прозе то, что сказал некогда в стихах Боало:
Qui meprise Cotin, n'estime point son roi, Et n'a, selon Cotin, ni Dieu, ni foi, ni loi.Москва-река
Я люблю прогуливаться по берегу Москвы-реки, когда она весной поднимает пологие берега Замоскворечья, ревет и крутится под сводами Каменного моста и не течет, а мчится быстрым потоком, огибая крутые берега Кремлевского холма. Но недолго живет наша Москва-река этой чужой, заимствованной жизнью; как величавая красавица, пораженная внезапным недугом, она начинает чахнуть, худеть и в несколько дней превращается из судоходной реки в мелководную, ничтожную реку, которую во многих местах, а особливо у Крымского броду, вовсе не грешно назвать речкою. Там, где прежде едва доставали дно длинными баграми, купаются, или, лучше сказать, играют по колено в воде, пятилетние ребятишки; а где проходили огромные суда с тяжелым грузом, там на широких отмелях расхаживают галки и вороны.
В конце прошедшего июля месяца мне пришлось ехать через Крымский брод. Вы помните, я думаю, любезные читатели, что в июле стояли постоянные жары; следовательно, я должен был полагать, что у Крымского броду Москва-река почти пересохла и что через нее не только не переезжают, но даже переходят вброд. Представьте же мое удивление, когда, подъехав к мосту, я увидел перед собой вместо тощей речонки, которая за месяц до того походила на какую-то проточную лужу, широкую, многоводную реку: ни одной песчаной косы, ни одной отмели — ну, точно как весною.
— Что это, батюшка, с рекою-то сделалось? — сказал мой Петр, приостановив лошадей. — Изволите видеть?
— Вижу, братец.
— Вот диковинка-то!.. Добро бы, дождливое лето, а то сушь и жарынь такая, что старики не запомнят.
— В самом деле, отчего такая прибыль воды?
— Вот то-то и есть, сударь! Чем бы Москве-то реке еще обмелеть, а смотрите, как она разгулялась: ни дать ни взять как в полую воду.
— Постой-ка, братец! — прервал я. — Что это там?… Вон налево-то!
— Где, сударь?
— К Каменному мосту, против Берсеневки.
— Ах, батюшки!.. Да ведь это плотина, сударь!.. Видит бог, плотина!..
— И мне кажется… Да, точно так! Ступай на Берсеневку.
Через несколько минут я остановился в десяти шагах от плотины и вышел из коляски. В том самом месте, где начинается отводный канал, то есть против Берсеневки и Бабьего городка, высокая плотина перерезывает во всю ширину Москву-реку; одна часть скопившейся воды выливается двадцатью двумя каскадами сквозь отверстия, сделанные в плотине, другая наполняет отводный канал, который из грязного рва превратился также в глубокую и судоходную реку. На берегу реки встретил я знакомого мне офицера путей сообщения, который рассказал мне следующие подробности о сооружении и устройстве этой плотины.
В 1833 году государь император высочайше повелеть соизволил улучшить судоходство по Москве-реке и устроить для складки и выгрузки товаров пристань обширнее и удобнее прежней. Для этого составлен был проект обхода Москвы-реки особенным каналом. В 1835 году все работы по сему предмету приведены к окончанию, и судоходство по каналу тогда же было открыто. Но в октябре месяце плотина, не выдержав напора воды, лопнула, и отводный канал остался снова без воды и употребления.
С того времени на возобновление плотины составлялись различные проекты, и наконец в 1843 году утвержден проект по системе совершенно новой. Ныне по этому проекту под главным надзором начальника четвертого округа генерал-майора Трофимовича устроена окончательно подполковником Бобрищевым-Пушкиным разборчатая плотина, названная Бабьегородскою, и судоходство по московскому отводному каналу снова открыто. Плотина будет устанавливаться каждую весну по спаде воды и разбираться осенью по закрытии судоходства; она запирается вертикальными брусками и, останавливая течение реки, наполняет водою канал до шестифутовой глубины, вполне достаточной для судоходства, пропуская затем всю излишнюю воду в нижнюю часть реки. Прежде приходящие в Москву суда, круглым числом до четырех тысяч, терпели большие затруднения от недостатка места для выгрузки товаров; теперь они найдут в отводном канале, на пространстве трех верст с половиною, удобную и обширную пристань, в которой могут разгружаться вдруг до пятисот судов, а сверх того будут иметь возможность приставать к берегам реки выше вновь устроенной плотины, то есть от Крымского брода до самых Воробьевых гор.
Не говоря уже о величайшей пользе, которую принесет московскому судоходству эта превосходно устроенная плотина, нельзя не порадоваться, когда посмотришь, до какой степени это роскошное изобилие воды украсило всю набережную часть Замоскворечья — между Крымским бродом и Каменным мостом. Теперь вся часть набережной отводного канала, называемая Бабьим городком, и вообще все его берега совершенно изменились. Прежде обывательские дома тянулись вдоль грязного канала, на дне которого во все лето не пересыхала зловонная тина и покрытая зеленью стоячая вода. Теперь эти же самые дома перенесены как будто бы волшебством на красивые берега наполненного чистой водою проточного рукава Москвы-реки. Теперь обыватели не должны ходить далеко за водою: она у них под руками, — словом, все удобства, которыми они пользовались в течение нескольких только дней в году, то есть во время весеннего разлива, упрочены для них почти на целый год.
Бабий городок
Я упомянул в предыдущем рассказе об одном замоскворецком урочище, которое называется Бабьим городком; если вы хотите знать, любезные читатели, почему это урочище получило такое странное название, так я могу сообщить вам об этом не историческое изъяснение, — вы не найдете его в летописях, — но изустное народное предание, которое, вероятно, имеет, однако ж, какое-нибудь основание. Вот что слышал я от одного почти столетнего мещанина. Несмотря на свою глубокую старость, он сохранил всю свежесть памяти и очень любит беседовать о московской старине.
— Ты хочешь знать, батюшка, — сказал он мне однажды, — почему замоскворецкое урочище позади Берсеневки прозывается Бабьим городком, — пожалуй, я расскажу тебе, что слышал от моего дедушки. Вот, изволишь видеть, давным-давно, — а при каком благоверном князе, того не знал доподлинно и мой дедушка, — дошел слух до Москвы, что идет на нее войною татарский хан с несметным войском. На ту пору почти всю московскую рать угнали в поход против Литвы, так некому было выйти в поле чистое, встретить незваных гостей по русскому обычаю — не с хлебом и с солью, а с чугунным свистуном, кистенем и булатной саблею. Вот православный государь великий князь призадумался, и бояре его головушку повесили. Вестимо дело: пришлось затвориться в Кремле да отсиживаться; только вот беда: велика матушка Москва — всю ее в Кремль не упрячешь. Что делать? Думали, думали, да и выдумали: сидеть в Кремле одним мужьям, а жен и малых детей услать куда ни есть подальше. Как сказано, так и сделано. Все московские барыни разъехались по дальним отчинам; помаленьку уплелись и жены купеческие со своими пожитками — кто в Ростов, кто в Новгород: у купцов везде приятели; а посадским бабам куда бежать? Хорошо пешком на богомолье ходить: кошель за плечами, да и с богом! А тут не то: на себе всего добра не унесешь, а коли дома оставишь, так и поминай как звали! Вот посадские бабы собрались, помолились богу, выбрали местечко за Москвой-рекой, обвели его тыном, окопались, снесли туда все свои пожитки, запаслись едою, всяким оружием, и как басурманы пришли, так они заперлись в своем городке да ну-ка отсиживаться! Татары пытались было вломиться к ним силою — да нет!.. Посадские бабы такой дали им отпор, что они свету божьего невзвидели!.. Не ведаю, батюшка, долго ли, коротко ли держали их в осаде супостаты, — только московские горожанки не хуже мужьев своих отсиделись в городке от этого татарского погрому, и вот почему урочище за Берсеневкой слывет и поныне еще Бабьим городком. Так ли это все было или нет — господь ведает. Мы люди недавние, молодые, а наши деды и прадеды так рассказывали. Видно, батюшка, в старину, — примолвил рассказчик, — и жены-то русских молодцов были поудалее нынешних: наши бы не отсиделись.
Два слова о нашей древней и современной одежде
Трудно определить ясным и положительным образом, что такое этот временный обычай, или, лучше сказать, минутная прихоть, которую мы называем модою и которая, почти всегда появляясь в Париже, как заразительная болезнь разливается по всей Европе. Как отгадать причину слепой и рабской покорности, с которой мы повинуемся прихотливым законам этой моды, всегда непостоянной и очень часто совершенно бессмысленной? Почему я, живя в Москве, где нередко бывает холодно в мае месяце, должен одеваться точно так же, как одеваются люди, которые и в апреле задыхаются от жару? Почему мое платье должно непременно походить на платье какого-нибудь француза, даже и тогда, когда бы он вздумал одеться уродом? Если все действия человека, одаренного разумом, должны менее или более основываться на здравом смысле, так почему же этот благоразумный человек, наряду с легкомысленной толпой, которая увлекается всякой новостью, надевает на себя или уродливый фрак, или короткий сюртучок в обтяжку, или безобразное пальто — мешок, который волочится по земле, — и все это не потому, чтоб ему было спокойно в этом узеньком сюртуке или чтоб он находил красивым этот шутовский балахон-пальто, но потому только, что так начали одеваться в Париже? Конечно, трудно отгадать, почему все это делается, но еще труднее изъяснить, почему это олицетворенное непостоянство, эта мода продолжает с таким постоянством наряжать нас в уродливое платье, которое мы называем фраком. Грибоедов, упомянув мимоходом о нашем современном платье, говорит, что мы все одеты по какому-то шутовскому образцу:
Хвост сзади, спереди какой-то чудный выем, Рассудку вопреки, наперекор стихиям…И подлинно: наш сюртук, разумеется, если он сшит не слишком по-модному, походит еще на человеческое платье; но в нем-то именно мы и не можем показаться нигде вечером. А что такое фрак?… Тот же самый сюртук, с тою только разницею, что у него вырезан весь перед. Ну, может ли быть что-нибудь смешнее и безобразнее этого? Попытайтесь в воображении вашем нарядить кого-нибудь из древних, например хоть Сократа, в какой вам угодно фрак, — а это вы можете себе легко представить: нынче и с фраком носят бороду; попробуйте это сделать и скажите мне по чистой совести, на кого будет походить тогда бедный философ — на мудреца или на шута? Впрочем, красота и величавость одежды дело еще второстепенное: в суровых климатах ее главное назначение состоит в том, чтоб укрывать нас от холоду и непогоды. Кажется, и в этом отношении наша современная одежда не выполняет своего назначения: мы в двадцать градусов морозу носим узенькие фраки, которые не застегиваются на груди, и шляпы, которые не закрывают ушей. На это есть шубы и теплые фуражки, скажут мне. Да, конечно! Но в какую гостиную я могу появиться с фуражкою в руке, и не во сто ли раз лучше надевать распашную шубу сверх платья, которое уже само по себе защищает меня от холоду?
Я никогда не бывал безусловным почитателем наших древних обычаев и, признаюсь, вовсе не жалею, что родился в девятнадцатом, а не в семнадцатом столетии; но, признаюсь также, от всей души желаю, чтоб мы нарядились снова в наши спокойные, величавые и красивые шубы, кафтаны, ферязи, терлики, однорядки и щеголеватые зипуны и чтоб вместо этого неуклюжего лукошка, которое мы называем шляпою и которое зимой не греет, а летом не защищает от солнца, начали носить по-прежнему меховые шапки-мурмолки и пуховые шляпы с широкими полями.
Так поэтому и русские женщины должны надеть сарафаны, кофты и телогреи?
О, нет, женщины совсем не то: для них туалет — дело очень важное, это одно из самых существенных наслаждений в их жизни; они могут и должны наряжаться как им угодно. Пускай разнообразят они до бесконечности свой наряд, подражают чужим модам, выдумывают свои собственные, и если даже они примутся снова носить огромные фижмы, пудреные шиньоны и трехэтажные головные уборы, то мы можем пожалеть, что они себя так уродуют, а должны смотреть снисходительно на это ребячество. Пусть их себе тешутся, если это их забавляет; но нам, мужчинам, пора бы перестать состязаться с женщинами на этом туалетном поприще и подражать вместе с ними всем дурачествам ветреных французов.
Многие полагают, что наша современная одежда, которая не кажется нам безобразною потому только, что мы пригляделись к ее безобразию, служит для нас какою-то вывескою европейского просвещения и образованности; да неужели и то и другое зависит от покроя моего платья? Если самый модный парижский фрак не сделает безграмотного дурака ни на волос умнее, так почему же спокойное, красивое и сообразное с климатом русское платье превратит меня из человека образованного в запоздалого невежду и записного врага просвещения? Давно ли всем западным народам Европы, а в том числе и нам, образованным русским, отпущенная борода казалась явным признаком варварства и невежества? Вдруг французам вздумалось не брить свои бороды, и хотя эта мода не сделалась общею, однако ж никому не пришло в голову заключить из этого, что просвещенные парижане хотят возвратиться к прежним нравам, то есть сделаться опять полудикими франками, от которых они происходят, или, по крайней мере, французами времен Генриха IV. Почему же, по мнению некоторых, мы, русские, потеряем все право называться европейцами, если станем одеваться, как одевались наши предки? Что, если б русское полукафтанье, на которое очень походят мундиры нынешней алжирской армии, сделалось модным парижским платьем?… Желал бы я знать, решились ли бы тогда эти проповедники цивилизации, основанной на покрое платья, позволить нам перенять у французов то, что они у нас переняли?
Вероятно, многие из моих читателей не имеют ясного понятия о том, как одевались в старину наши русские бояре и вообще все люди высшего состояния. Мы как-то привыкли под словами «кафтан», «зипун», «кожух» разуметь грубое сермяжное платье и нагольный тулуп наших крестьян, — это совершенно ошибочное понятие. В старину кафтаны русских бояр вовсе не походили на наши кучерские и даже купеческие, а великолепные шубы и ферязи с золотыми петлицами — на овчинные тулупы и серые зипуны наших крестьян. Конечно, в старину русские баричи носили платья, которые назывались зипунами, но эти зипуны были так прекрасны, что трудно придумать что-нибудь красивее и грациознее этого мужского наряда. Если вы не верите моим словам, так потрудитесь заглянуть в собрание литографированных рисунков с объяснительным текстом господина Висковатого. Это превосходное и совершенно новое в своем роде издание вышло в свет под названием: «Рисунки одежды и вооружения российских войск».
Не так еще давно один из русских журналистов нападал с необычайным ожесточением на нашу древнюю одежду. Это бы еще не беда; мне не нравится парижский фрак, вам — русский кафтан, это дело вкуса, так тут и спорить нечего. Но вот что дурно: этот неумолимый гонитель русских кафтанов, желая убедить читателей в справедливости своего мнения, спрашивает их, что лучше и красивее; серый сермяжный зипун или фрак, сшитый из тонкого сукна; безобразные бахилы, подбитые гвоздями, или красивые лакированные сапоги? Да разве можно сравнивать крестьянский наряд какого бы то ни было народа с платьем людей высшего состояния?… Если б этот журналист спросил, как и следовало спросить, что лучше: серый зипун и подбитые гвоздями сапоги русского мужика или толстая холстинная блуза и неуклюжие деревянные башмаки французского крестьянина, суконный фрак и лакированные полусапожки парижского щеголя или шелковый кафтан и сафьянные сапоги старинного русского барина, — тогда бы этот журналист поступил добросовестно, но, вероятно, не достиг бы своей цели, то есть не уверил бы читателей, что он совершенно прав. Конечно, есть люди, которые станут оправдывать эту недобросовестность; они скажут, что этого требует избранное журналом направление, что всякий журнал, имеющий свою собственную физиономию, свой отличительный характер, должен непременно поддерживать принятый им образ мыслей не только одними позволенными, но всеми возможными способами; словом, чтоб склонить читателей на свою сторону, он может и должен кривить душою, лгать, обманывать и даже клеветать: уж это, дескать, принято всеми просвещенными народами; французы называют это цветом, а мы направлением, или духом, журнала. Загляните в известный своим остроумием парижский журнал «La Mode»: он весь составлен из обидных насмешек, несправедливых обвинений, превратных толков и постоянной клеветы на существующее во Франции правительство, а между тем все находят это весьма естественным. Что ж делать, таков дух времени, и только люди устарелые и неподвижные могут восставать против этого современного направления, принятого всем Западом.
Всем Западом!.. Да разве это что-нибудь доказывает? Это подтверждает только мое мнение, что мы не должны ни в чем подражать безусловно Западу. И зачем ссылаться на Запад? Спросите у собственной вашей совести: может ли она оправдать недобросовестность, криводушие, ложь, злобу и клевету, оттого что на Западе все эти основные стихии современной журналистики названы направлением, духом и цветом журнала? Нет, пусть величают меня старовером, врагом всякой современности, запоздалым, отсталым — чем угодно, а я не перестану называть зло злом, хотя бы оно сто раз пришло к нам с Запада! И эта современность, о которой так много нынче толкуют, не заставит меня уважать ни развратных стихов, как бы хорошо они ни были написаны, ни рассказов, в которых прославляются буйные страсти, ни бессмысленного пустословия, облеченного в ученые фразы, ни этих европейских условий, на основании которых журналист может поступать недобросовестно, тогда как беспристрастие и добросовестность составляют необходимое условие всякого журнала. Конечно, это весьма старая и пошлая истина, но, несмотря на это, ее признают даже и самые недобросовестные журналисты. Толкуя беспрестанно о современности, о направлении своего журнала, они не забывают, однако ж, говорить о своем беспристрастии, разумеется точно так же, как говорят о благородной и честной игре своей все картежные шулера, играющие наверное. Авось, дескать, попадется новичок, поверит, а мы его и надуем!
Выход четвертый
К читателям
Выдавая четвертую книжку моих «Записок», я решился отступить несколько от принятого мною плана по нижеследующим причинам.
Многие из моих читателей полагают, что в книге, которая называется «Москва и москвичи», должно говорить об одной Москве и ее жителях. Основываясь на этом довольно логическом выводе, они осуждают меня за то, что я нередко, вопреки названию моей книги, говорю обо всем, что мне придет в голову. Другие замечают, и, может быть, также справедливо, что мои «Записки» как произведение чисто литературное не должны походить на статистическое или топографическое описание Москвы, что москвичи вовсе не составляют какой-нибудь отдельной касты, что они точно такие же русские, как и все, которые живут на святой Руси, и что, ограничиваясь описанием этих едва заметных особенностей, которыми Москва отличается от других русских городов, я непременно сделаюсь единообразным, мелочным или, что хуже и того, буду не описывать, а сочинять, то есть взводить на бедных москвичей тяжкие грехи, которым они вовсе не причастны, выдумывать небывалые обычаи, нелепые поверья и разные другие более или менее забавные клеветы, вроде тех, которыми так щедро осыпают нас иностранные туристы.
Эти два совершенно противоположные мнения привели меня в большое затруднение. Конечно, я мог бы отвечать на замечания моих критиков известными стихами Сумарокова:
Коль слушать все людские речи, Придется нам осла взвалить на плечи.Но я желал бы, по возможности, угодить моим читателям, — да как это сделать?… Я думал, думал, и вот что наконец пришло мне в голову. Покойный мой приятель Иван Андреевич Барсуков любил очень рукописи всякого рода; у него было большое собрание анфологионов, октаиков, синопсисов, диоптр, космографии, летописей и сборников. Не подумайте, однако ж, что Иван Андреевич был ученый антикварий, — о, нет, его археологические познания были весьма ограниченны, он любил свои рукописи потому только, что они рукописи, точно так же, как все скупые любят деньги не за то, что на них можно все приобрести, но за то, что они деньги. Я знаю одного скупого, который с утра до вечера пересчитывает свою огромную казну, разглаживает утюгом ассигнации, чистит мелом серебряные рублевики, а меж тем, несмотря на свое богатство, питается круглый год одним вареным картофелем и начинает топить свои печи только тогда, когда у него в комнате замерзает вода. Покойный мой приятель, точь-в-точь как этот скупой, любовался своими рукописями, обметал с них пыль, переставлял с полки на полку, а сам их не читал и не давал читать никому. Хотя Иван Андреевич любил особенно древние рукописи, однако ж не пренебрегал и новейшими. У него были целые тетради, исписанные стихами Ломоносова, Сумарокова, Державина и даже многих современных нам писателей; зато печатных книг было у него немного: кажется, полное собрание «Московских ведомостей», большая коллекция «Академических календарей», «Требник» Петра Могилы и древний, изданный в Стретине, «Псалтырь» Франциска Скорины. Эту печатную книгу, по ее необычайной редкости, покойный мой приятель уважал не меньше рукописи, и она стояла у него на почетной полочке, рядом с рукописной комедиею, глаголемою: «Акт комедиальный о Калеандре, Цесаревиче Греческом и о мужественной Неонильде, Цесаревне Трапезондской, скомпонованный в Москве». Иван Андреевич, зная мою любовь к русской старине, отказал мне по духовной свою библиотеку. Не разделяя с покойным моим приятелем этой исключительной страсти ко всему писаному, я занялся разбором, или, лучше сказать, браковкой, всех новейших рукописей; отобрал к стороне дюжины две плохих списков с печатных книг, отдал на обвертки целую связку учебных тетрадей какого-то семинариста, огромную кипу расходных книг, писанных рукою Федосьи Никитичны, бабушки покойного моего приятеля; и из всего собрания новейших рукописей оставил только у себя красиво переписанную «Телемахиду» Тредьяковского, его же «Поездку на остров Любви» и одну толстую тетрадь, которая обратила на себя мое внимание по следующей отметке, написанной рукою покойника: «Сей сборник, именуемый «Рассказы о былом, или Осенние вечера моего дедушки», составлен из достоверных рассказов некоторых особ, из коих многие и поднесь находятся в живых, сам же собиратель оных давно уже кончил свое земное поприще. Рукопись сия тем драгоценнее, что она никогда не подвергалась печати и может назваться единственною в своем роде».
Это собрание рассказов, перемешанных с разговорами бывалых людей, показалось мне довольно занимательным по своему разнообразию и какой-то простодушной веселости, которую я не смею назвать болтовнёю, потому что неизвестный сочинитель «Осенних вечеров», кажется, человек с большими претензиями; я это думаю потому, что на заглавном листе этого сборника написана в виде эпиграфа русская пословица или народная поговорка: «Не раскуся ореха, о зерне не толкуй». Только, воля его, это просто хвастовство: автор хочет пустить пыль в глаза своим читателям. «Вы, дескать, думаете, что я так балагурю, шучу… Нет, разберите-ка хорошенько, так вы увидите, что в этой болтовне много дела — сиречь всякой глубины и философии». Не знаю, как посудят другие; я, по крайней мере, не заметил ничего особенного, а нахожу, что эта безделка написана довольно хорошо, читается без скуки и, может быть, выведет меня из затруднительного положения, о котором я имел уже честь докладывать вам, любезные читатели.
В моих «Записках» я говорю, — или должен говорить, — об одной только Москве и москвичах; а в этих «Осенних вечерах» говорят обо всем. Действие происходит не в одной Москве, а во всей России и даже в некоторых рассказах переносится за границу, — следовательно, в них гораздо более разнообразия; и вот почему я решился печатать их отдельной статьею в каждом выходе моих «Записок». Я очень бы желал угодить этою переменою моим читателям, разумеется благосклонным; тем, которые меня не жалуют, я уж, конечно, ничем не угожу, потому что ради их потехи не намерен изменять мой образ мыслей, то есть прославлять людские страсти, поклоняться, как божеству, нашему земному разуму, валяться в ногах у Запада и идти непременно за веком, куда бы этот век ни шел.
I Купеческая свадьба
Признательно скажу:
Я этот пир отличным нахожу;
Шампанское лилось — да только не простое:
От Крича, батюшка!..
А общество какое —
Первостатейное!..
Ну, истинно банкет!
Мы этак меж собой, а генералитет
Сидел особенно…
Из рукописной комедииВопреки мнению некоторых… как бы сказать повежливее?… ну, положим, мудрецов, которые без всякого права и призвания хотят быть нашими наставниками, эта европейская образованность, о которой они беспрестанно толкуют, начинает приметным образом проникать во все слои нашего общества. Я говорю «образованность», а не «просвещение», потому что под словом просвещение разумею не одни наружные формы, домашний быт и эти общие, поверхностные познания, которыми так гордятся наши западные соседи; где речь идет о свете, там, конечно, все эти житейские удобства — покрой платья, художества, ремесла — и даже исполненная глубины и мрака немецкая философия становятся весьма мелкими. Впрочем, это дело условное. Если французы под благовидными словами «демонстрация» и «манифестация», то есть изъявление, разумеют буйные крики мятежной черни, а разрушение всех семейных связей и систематический грабеж называют социализмом, то есть общежительством, так почему же и нам не называть европейскую образованность и улучшение житейского быта просвещением? Конечно, это выражение не так еще противоречит настоящему своему смыслу, как те, о которых я сейчас говорил; да ведь мы не французы, — где нам за ними угоняться!..
Я сказал, что образованность делает весьма быстрые успехи в России и, чтоб увериться в этом, надобно только взглянуть на наше купечество. Лет тридцать тому назад русский купец, говорящий иностранными языками, довольно ловкий и образованный, обратил бы на себя всеобщее внимание. Я помню время, когда сочинитель не дворянин, не чиновник, а простой купец показался бы для всех самым странным и необычайным явлением. Не так еще давно купеческие обычаи, их образ жизни и понятия так резко отличались от дворянских, что при встрече с купцом, одетым по-нашему, вовсе не нужно было спрашивать, что за человек этот господин. Его речь, приемы, поступь — все изобличало в нем сословие, к которому он принадлежал. Теперь не угодно ли пожаловать в Купеческое собрание и поглядеть, как веселится по-дворянски наше московское купечество; посмотрите, как любезничают кавалеры, какой изящный туалет у дам; танцуя с незнакомой вам девицей, вы разговариваете с ней по-французски о театре, об иностранной словесности; она знает и «Парижские таинства» и «Вечного жида»; она вам признается, что потихоньку от отца и матери курит папиросы, читает Жорж Занд и умирает от скуки, живя в Москве; одним словом, вам и в голову не придет, что батюшка этой образованной девицы торгует в каком-нибудь москательном или панском ряду. Разумеется, эта образованность ограничивается иногда одной только наружностию; случается, что ваша дама промолвится: говоря об одном человеке, употребит множественное число «они» или назовет своего отца тятенькой; от иной вы слова не добьетесь, а другая так развернется, что вы от ее удальства в тупик станете. Конечно, в этом последнем отношении и в нашем дворянском быту не без греха, и у нас бывают барышни, которые отличаются от этих удалых купеческих дочек только тем, что вообще развязнее и гораздо лучше их передразнивают парижских гризеток; впрочем, так и быть должно: купеческие дочки почти никогда не бывают за границею, так могут только понаслышке подражать этим очаровательным созданиям, без которых и знаменитая «Grande chaumiere» и блестящий «Bal Mabille» потеряли бы всю свою прелесть.
После того что я вам сказал, вы, верно, отгадаете, что свадьба, которую я хочу вам описать, была не вчера. Где нравы и обычаи различных сословий начинают сливаться в одну общую физиономию, там исчезают все эти резкие черты, все эти особенности, составляющие главное достоинство всякой отдельной физиономии. Купеческие свадьбы, вроде той, о которой я хочу теперь с вами говорить, бывали тому назад лет тридцать. Может быть, где-нибудь в глубине Замоскворечья или за Таганским рынком бывают и в наше время свадьбы, напоминающие эту старину; но, говоря вообще, московское купечество из всех прежних свадебных обычаев сохранило только позолоченную карету, запряженную цугом вороных или серых коней, и двух рослых лакеев в парадных ливреях, с фантастическими гербами, которые называются общими; все остальное на купеческой свадьбе происходит точно тем же порядком, как и во всех дворянских семействах.
Я прошу моих читателей перенестись вместе со мной в дом московского первой гильдии купца Харлампия Никитича Цыбикова. Его каменный трехэтажный дом, некогда принадлежавший знатному барину, сохранил еще свою аристократическую наружность, но зато внутренность его совершенно изменилась. Цельные стекла в окнах, огромные зеркала, мраморные камины и даже резные двери из красного дерева — все было распродано поодиночке. В гостиной комнате на канапе, обитом полинялым штофом, сидит дородный владелец этих прежних барских палат, перед ним на столе бутылка меду, против него лепится на кончике стула человек небольшого роста в поношенном фраке; этот господин по званию своему мещанин из отпущенников по имени Кузьма Прохорович Лошкомоев, а по ремеслу кондитер, то есть подрядчик всяких свадебных и бальных угощений. Теперь не угодно ли вам послушать их разговор?
Цыбиков (налив себе кружку меду и прихлебывая). Ну, любезный, взялся за гуж, не говори, что не дюж!.. Ты берешь на себя… Фу, знатный мед, так в нос и ударяет!.. Ты берешь на себя все — сиречь оптом, и певчих, и музыку, и экипаж, и ужин, а также напитки и всякое другое угощение: сахарные заедки, варенье, шоколад, семга, икра — всё от тебя…
Кондитер. Все, Харлампий Никитич!.. Уж будьте спокойны!..
Цыбиков. Будьте спокойны!.. Знаем мы вас: на словах-то вы города берете!..
Кондитер. Да уж не извольте беспокоиться, все будет отличное…
Цыбиков. То-то отличное! Сумму ты хочешь с меня слупить порядочную, так смотри же, братец, не крохоборь!..
Кондитер. Помилуйте, — ведь вы не кто другой, Харлампий Никитич: у вас все должно быть на барскую ногу.
Цыбиков. Смотри, чтоб певчие были с голосами, не так, как на свадьбе моей кумы, Аграфены Степановны! Так пропели «Гряди, голубица моя», что весь народ разбежался, а они-то себе орут кто в лес, кто по дрова!
Кондитер. Нет, Харлампий Никитич, на этот счет я вам доложу: певчие отличные, регент получает до шестисот рублей жалованья; такое сладкозвучие, что и сказать нельзя. Я уговаривался, чтоб певчие из церкви пришли к вам на дом.
Цыбиков. Дело, братец, дело: пусть себе пропоют «Многие лета» молодым и меня, старика, повеличают. Ну а кто ж за венчаньем-то «Апостола» будет читать? Приходский дьячок?
Кондитер. Нет, Харлампий Никитич, не приходский дьячок, а известный в Москве псаломщик. Вы изволили его слышать?
Цыбиков. Слышал, любезный, на свадьбе у Фаддея Карповича Мурлыкина, — славно читает, славно! Голос как из бочки! Послушай, Прохорыч: я первую дочь выдаю замуж, да и зятек-то у меня будет, прошу не осудить, почитай, высокоблагородный — десятый год титулярным, к ордену представлен, родня у него все также чиновная, так я не хочу лицом в грязь ударить. Смотри, чтоб во всем было разливанное море!
Кондитер. Будет, Харлампий Никитич.
Цыбиков. Ужин на славу!
Кондитер. Да уж, я вам доложу, пальчики все оближут! Десять блюд, не считая пирожков и десерта.
Цыбиков. Десять блюд? Только-то?
Кондитер. Больше нельзя, Харлампий Никитич: уж нынче такая мода.
Цыбиков. Право? Нет, брат, шутишь: себе норовишь в карман, а на моду сваливаешь! Да уж так и быть… Зато смотри, побольше всяких потешек: фруктов, конфект…
Кондитер. А кстати! В рассуждении конфект, я вам доложу, как прикажете? Если все с Кузнецкого моста, так, воля ваша, — несходно будет.
Цыбиков. Уж это не мое дело, было бы всего довольно, а там где хочешь бери. Да послушай, любезный, не вздумай нас вместо шампанского отпотчевать горским или вот, знаешь, этим, что называют шампанея…
Кондитер. Помилуйте, как это можно! Ведь мне не в первый раз… Да вот на прошлой неделе у его превосходительства Захара Дмитриевича Волгина я также свадебный ужин справлял, так я подал такое шампанское, что все гости ахнули.
Цыбиков. Ну а музыка полковая?
Кондитер. Если прикажете, так можно и бальную.
Цыбиков. Нет, Прохорыч, что толку в этих скрыпунах; пиликают себе под нос — тюли, тюли!.. То ли дело полковая: как грянет, так за две версты слышно!
Кондитер. Как вам угодно.
Цыбиков. А экипаж какой?
Кондитер. От Зарайского, Харлампий Никитич; отличный цуг вороных — все графские рысаки; лакеи рослые — вершков по десяти, в новых ливреях…
Цыбиков. А карета?
Кондитер. Также с иголочки, как жар горит!
Цыбиков. Эх, жаль, приход-то наш близко!
Кондитер. Так что ж? Вы невесту не извольте отпускать из дому прямо в церковь; жених подождет, а ее меж тем повозят по вашему кварталу.
Цыбиков. А что ты думаешь?… Да, чай, можно и чужого захватить?
Кондитер. Можно, Харлампий Никитич.
Цыбиков. Да почему ж и всю часть не объехать? Что с тебя за экипаж-то возьмут?
Кондитер. Рублей полтораста, а может быть, и больше.
Цыбиков. Ну вот, изволишь видеть!.. Полтораста рублей за два часа… мошенники этакие!..
Кондитер. Да-с, эти лошадки-то кусаются.
Цыбиков. Так чего ж их жалеть?… По всей Яузской части катай, да и только!
Кондитер. А что, молодые из церкви в венцах поедут и за ужином так будут сидеть?
Цыбиков. Я уж заводил об этом речь, да родные будущего моего зятя упираются: «Нельзя, дескать, жених будет в мундире, так какой склад сидеть ему за ужином в венце, — вся форма будет нарушена!»
Кондитер. Оно и справедливо, Харлампий Никитич, чиновнику неприлично.
Цыбиков. Послушай, Кузьма Прохорыч, коли ты за все берешься, так не забудь уж и дом осветить.
Кондитер. Снаружи?
Цыбиков. Разумеется! Внутри мое дело.
Кондитер. Слушаю-с! По тротуару мы плошки поставим, а подъезд можно убрать шкаликами.
Цыбиков. Ну, там уж как знаешь. Теперь, кажется, все?… Смотри же, голубчик, не осрами!
Кондитер. Да уж будьте спокойны, Харлампий Никитич! Вы изволите знать, как я вас уважаю, да мы же и не чужие друг другу: покойная моя матушка и ваша родительница были в свойстве.
Цыбиков. Что ты, что ты, Прохорыч?… Уж не в родню ли ко мне нарохтишься?
Кондитер. Да как же? Ведь ваша матушка и моя были внучатые сестры, отпущенницы его сиятельства графа…
Цыбиков. Эк хватил! Ты бы еще с праотца Адама начал!.. Вишь, что затеял!.. Нет, любезный, не по Сеньке будет шапка! Наживи-ка порядочный капиталец да запишись в первую гильдию, так, может быть, тогда мы в родство тебя и включим. А покамест, не прогневайся, — знай сверчок свой шесток!
Кондитер. Да это так-с, Харлампий Никитич, к слову пришло; не подумайте, чтоб я возымел такую дерзость…
Цыбиков. То-то и есть! Все это гордость, братец, тщеславие…
Кондитер. Помилуйте, мы люди маленькие, где нам считаться с вами! Вы изволите миллионами ворочать, так вашим родством и генерал не побрезгует.
Цыбиков. А кстати, Прохорыч!.. Да что ж мы с тобою о генерале-то не поговорим? Чем я хуже Фаддея Карповича Мурлыкина, а у него на свадьбе было двое статских советников и один действительный, да еще со звездою.
Кондитер. Так и вам угодно, чтоб ваша свадьба была с генералом?
Цыбиков. А что, можно?
Кондитер. Извольте, Харлампий Никитич; наверное обещать не могу, а постараюсь.
Цыбиков. Постарайся, любезный, постарайся! Да уж, пожалуйста, чтоб генерал-то был не вовсе ординарный, а, знаешь, вот этак… (Проводит рукой по груди.)
Кондитер. А если, Харлампий Никитич, и так и этак? (Проводит крест-накрест по груди.)
Цыбиков. Что ты говоришь? Ах ты, мой друг сердечный!.. Вот уж бы удружил!
Кондитер. Всемерно постараюсь!.. (Встает.) Прощайте покамест, мне теперь зевать нечего. Ведь свадьба послезавтра, в пятницу?
Цыбиков. А то когда же? На воскресенье не венчают. Прощай, любезный! Надеюсь на тебя, как на кремлевскую стену.
Кондитер. А вот что бог даст, буду стараться, Харлампий Никитич. (Уходит.)
Теперь не угодно ли моим читателям завернуть вместе со мною на Солянку, в дом тайного советника Захара Дмитриевича Волгина. Вот мы в его передней; она довольно нечиста, да иначе и быть не может: у Захара Дмитриевича, не считая двух или трех подростков, всего только человек десять лакеев; следовательно, если этим господам запачкать и загрязнить лакейскую нетрудно, так зато уж вымести ее некому. Перейдемте в столовую; она почище, в ней стоит круглый стол и мебель из орехового дерева, которая была бы очень красива, если б ее почаще обтирали, но так как эта многотрудная обязанность возложена не на одного только человека, а на Ваньку, Петрушку и Степана, то я не советую вам садиться на стул, не смахнув с него предварительно пыль вашим платком. Не подумайте, однако ж, что сам хозяин любит жить нечисто, — о, нет, он человек очень опрятный, но жена его — женщина больная, сидит всегда у себя в спальной, а он служит, занят делом и только изредка кричит на людей, потому что ему сердиться нездорово; они же всегда оправдываются тем, что у них дела много, а рук мало. В этой столовой, или приемной комнате, стоит у окна кондитер Кузьма Прохорович Лошкомоев; он пристально глядит на двери, которыми входят в кабинет его превосходительства. Вот эти заветные двери распахнулись. Кондитер оправился, вытянулся в нитку и отвесил низкий поклон Антону, камердинеру Захара Дмитриевича.
Камердинер (очень холодно). А, Кузьма Прохорыч!.. Что вам надобно?
Кондитер. Я желаю поговорить с его превосходительством.
Камердинер. Теперь нельзя: генерал сейчас изволит ехать.
Кондитер. Сделайте милость!
Камердинер. Никак нельзя.
Кондитер (берет камердинера за руку). Прошу вас покорнейше!
Камердинер (опускает свою руку в жилетный карман и с приятной улыбкою). Эх, Кузьма Прохорыч, не в пору вы пожаловали! Ну, да так уж и быть, пообождите немножко, сейчас доложу. (Уходит в кабинет.)
Кондитер. Что, брат, видно, полтиннички-то любишь? Ох, эти хамы, хуже подьячих: не дашь на водку, так и рожи не воротит!
(Камердинер выходит из кабинета, вслед за ним Волгин.)
Камердинер (вполголоса). Генерал!..
Волгин (кондитеру). Здравствуй, голубчик!.. Зачем бог принес?
Кондитер (кланяясь). Ваше превосходительство, я на прошлой неделе имел счастие приготовлять угощение…
Волгин. На свадьбе моего сына? Спасибо, братец, спасибо: угощенье было недурное!
Кондитер. Так я угодил вашему превосходительству?
Волгин. Да, я на тебя не жалуюсь. Кажется, только шампанское-то было…
Кондитер. Самое лучшее, ваше превосходительство, — от Депре. Может быть, посогрелось в комнате.
Волгин. Может быть. Ведь тебе, любезный, все заплачено.
Кондитер. Все заплачено, покорнейше благодарю!
Волгин. Так что ж тебе надобно?
Кондитер. Ваше превосходительство, не прогневайтесь на мою дерзость!.. Явите ваше милосердие!..
Волгин. Что такое, братец?
Кондитер. Всенижайшая просьба: моя родная племянница выходит замуж…
Волгин. Поздравляю, любезный!
Кондитер. За чиновника, ваше превосходительство…
Волгин. Вот как!.. Так племянница твоя будет благородная?
Кондитер. Титулярная советница.
Волгин. Ого! (Кланяется.)
Кондитер. Удостойте, ваше превосходительство…
Волгин. Да что, ты меня на свадьбу, что ль, зовешь?
Кондитер. Если милость ваша будет…
Волгин. Эх, любезный, я еще и от своего-то пированья не отдохнул порядком!..
Кондитер. Заставьте за себя бога молить!..
Волгин. Да помилуй, братец, на что я тебе?
Кондитер. Как на что, ваше превосходительство? Такое лицо, как вы… да это на веки веков останется в нашей памяти; не токмо дети моей племянницы, да и внучата-то ее будут своим детям об этом рассказывать…
Волгин. И, полно, любезный!
Кондитер. Видит бог, так, ваше превосходительство! Я же слышал, что где вы ни изволите на свадьбе побывать, там уж всегда над молодыми благословение божие.
Волгин. Кто это тебе сказал?
Кондитер. Слухом земля полнится, ваше превосходительство.
Волгин. А когда свадьба-то?
Кондитер. Завтра, в семь часов после обеда.
Волгин. У тебя в доме?
Кондитер. Никак нет, ваше превосходительство. Племянница живет в доме своего отца, там и свадьба будет.
Волгин. А кто ее батюшка?
Кондитер. Известный капиталист, первой гильдии купец Харлампий Никитич Цыбиков.
Волгин. Да как же это, братец, ты зовешь меня на свадьбу, а в гостях я буду у этого господина Цыбикова, которого вовсе не знаю?
Кондитер. Он сам бы, ваше превосходительство, явился к вам вместе со мною, да что будешь делать… такой грех случился: с самого утра врастяжку лежит.
Волгин. Лежит? А завтра дочь выходит замуж?
Кондитер. Да завтра он будет как встрепанный.
Волгин. Что ж это за болезнь такая?
Кондитер. Угорел, ваше превосходительство.
Волгин. Как угорел? Летом?
Кондитер. А вот изволите видеть: он приказал поставить самовар, работница пошла, дура такая, всыпала без меры угольев, поставила самовар в комнате, сама ушла, а Харлампий Никитич на ту пору вздремнул… Поверите ль, ваше превосходительство, насилу в чувство привели: и соленые огурцы к вискам прикладывали, и хреном, и уксусом; уж мы с ним маялись, маялись…
Волгин. Какая неосторожность!
Кондитер. Да это что, ваше превосходительство!.. Угар для нашего брата ничего, мы на этом выросли. Осчастливьте, ваше превосходительство!
Волгин. Хорошо, хорошо, любезный. Только уж не прогневайся: мундира я не надену.
Кондитер. Помилуйте, — кому другому, а вам мундир на что? Всякий видит, какая вы особа. Слава тебе господи, у вашего превосходительства отличий довольно — и здесь и тут…
Волгин. Да не осуди, любезный, и в церковь также не поеду…
Кондитер. Так пожалуйте в восемь часов прямо в дом к молодым. Я вашим людям растолкую, куда ехать.
Волгин. Уж, верно, за Москву-реку?
Кондитер. И, нет, ваше превосходительство, — рукой подать: тотчас за Яузским мостом.
Волгин. Эге!
Кондитер. Близехонько, ваше превосходительство, прикажите только ехать городом… пять минут езды.
Слуга (входит в столовую). Карета готова…
Волгин. Ну, прощай, любезный, мне некогда!
Кондитер. Так мы можем надеяться?
Волгин. Уж коли дал слово, так буду. (Уходит.)
Кондитер (подходя к камердинеру). А вы уж, батюшка Антон Сидорыч, позаботьтесь о том, чтоб его превосходительство не запамятовал.
Камердинер. Извольте. В восемь часов?…
Кондитер. Или в начале девятого. Да уж сделайте милость: как станете одевать генерала, так нельзя ли этак ленту-то…
Камердинер. По камзолу? Можно, Кузьма Прохорыч, можно!..
Кондитер. А если его превосходительство не захочет?
Камердинер. Кто? Барин?… Помилуйте, не такой человек: ему что подашь, то и наденет…
Кондитер. Так вы не забудете?
Камердинер. Будьте спокойны!
Кондитер. Покорнейше благодарю!.. От свадебного ужина будут остаточки, Антон Сидорыч, так позвольте вам прислать бутылочку винца, фруктов, того, другого…
Камердинер. Сделайте милость!
Кондитер. А что, его превосходительство всегда обе звезды изволит носить?
Камердинер. Всегда.
Кондитер. Очень хорошо!.. Прощайте, почтеннейший! Счастливо оставаться! (Уходит.)
На другой день, то есть в пятницу, в восемь часов вечера вокруг дома Харлампия Никитича Цыбикова вовсе не было проезду: кареты, коляски, фаэтоны, по большей части не очень красивые, но почти все запряженные прекрасными лошадьми, стояли у подъезда, освещенного шкаликами. Разумеется, на самом видном месте красовалось раззолоченное ландо, в котором молодые только что возвратились из церкви. По всей парадной лестнице толкались незваные гости, то есть все уличные зеваки, все челядинцы соседних домов, кухарки, работницы и даже супруги и дочери мелких продавцов, которые, впрочем, пользовались явным покровительством двух хожалых, откомандированных из частного дома для соблюдения должной тишины и порядка при разъезде экипажей. В передней комнате стояли полковые музыканты; при появлении каждого нового гостя они играли туш. Все приглашенные на свадьбу были уже в полном собрании; в столовой толпились мужчины; в гостиной, по обеим сторонам молодых супругов, которые сидели рядом на диване, расположились огромным полукругом все гости. Нельзя было смотреть без удивления на великолепные наряды этих чинно и безмолвно сидящих барынь. Вот уж подлинно, чего хочешь, того просишь! Если вы заглядывали когда-нибудь на толкучий рынок, то уж, верно, любовались на этих обвешанных всяким тряпьем торговок, которые, как подвижные лавочки, расхаживают по рынку. Замените эти исковерканные женские шляпки, полинялые купавинские платки, измятые бусы, бронзовые сережки, изорванные букмуслиновые платья бархатными токами, блондовыми чепцами, турецкими шалями, жемчужными ожерельями, бриллиантовыми серьгами, изумрудными фермуарами, и вы будете иметь весьма приблизительное понятие о туалете этих дам, которые нацепляли и навешали на себя все свое наследственное и благоприобретенное приданое. Нельзя было также не подивиться этому чудному сближению ярких цветов, которые так редко сходятся друг с другом. Вы увидели бы тут и пунцовые токи с лиловыми перьями, и голубые платья с желтыми воланами, и даже желтые шали на оранжевых платьях, из-под которых выглядывали пунцовые башмачки, или, говоря по совести, башмаки, отделанные зелеными лентами. Харлампий Никитич принимал поздравления и лобызался со всеми гостями; но вместо обыкновенной в этих случаях веселости на лице его изображалось какое-то тревожное беспокойство. Он подошел к кондитеру и сказал ему вполголоса:
— Что ж это, Прохорыч? Да уж будет ли он?
— Не беспокойтесь, Харлампий Никитич, — отвечал кондитер, — что-нибудь позадержало.
— Ох, боюсь, любезный! — прошептал Цыбиков. — Я кой-кому сказал, что у меня на свадьбе будут люди генеральные, в кавалериях, а как выйдет болтун, так, пожалуй, скажут: «Вот, дескать, летела синица море зажигать!..» Стыдно будет, Прохорыч!
— Да уж будьте покойны, беспременно будет. Он обещался приехать ровно в восемь часов.
— А теперь уже девятый.
— Что вы говорите?… Так, позвольте, я пойду вниз принять его превосходительство на крыльце, он должен сию минуту приехать; а вы уж извольте, Харлампий Никитич, подождать его в передней.
— Зачем? Успею и тогда, как он подъедет.
— Нет, Харлампий Никитич, неравно как-нибудь прозеваете, неловко будет! Ведь я это говорю для вас: чем почетнее вы примете его превосходительство, тем и для вас больше чести будет. Если вы встретите его в столовой, так все станут говорить: «Э, да, видно, этот генерал-то ни то ни се, так — из дюжинных… Верно, уж не важная персона, коли хозяин не облегчился встретить его в передней».
— Правда, правда!.. Ступай, голубчик, вниз, да лишь только он подъедет, сейчас давай знать… А что, Прохорыч, для него, чай, можно музыкантам и марш проиграть?
— Можно, Харлампий Никитич.
— Знаешь, этак с трубами и литаврами?…
— Разумеется.
— Ну, с богом! Ступай, любезный!
Харлампий Никитич поговорил с музыкантами. Прошло еще несколько минут, которые показались ему часами; вот наконец подъехала к крыльцу карета.
— Генерал! — раздался голос на крыльце.
— Генерал! — повторили в сенях.
— Генерал! — заговорили в передней.
— Ух, батюшки! — промолвил Харлампий Никитич, обтирая платком свою лысину, — Насилу!.. Ну, ребята, валяй!
Полковые музыканты грянули марш, и Захар Дмитриевич Волгин, в двух звездах и в ленте по камзолу, вошел в переднюю.
— Ваше превосходительство, — сказал Цыбиков, — всенижайше благодарю за честь!
— Отец молодой, — шепнул кондитер Волгину.
— Ну что, — спросил Волгин, — прошел ли ваш угар?…
— Угар? — повторил Цыбиков. — А, понимаю, ваше превосходительство, о каком вы изволите говорить угаре! Куда пройти! Разве этак денька через два или три, а теперь все еще голова кругом идет. Нешуточное дело, ваше превосходительство!
— Какая шутка, от этого иногда люди умирают!
— Как-с? Что вы изволите говорить?
— Я говорю, что от этого иногда умирают.
— Не могу сказать, может быть, и бывали такие оказии. Оно-таки и тяжело, ваше превосходительство, очень тяжело! Кажется, дело обыкновенное, а, поверите ли, точно душа с телом расстается… Да милости прошу!
Раскланиваясь направо и налево, Волгин прошел через столовую. В гостиной представили ему молодых, усадили подле них на канапе, и угощение началось. Стали подавать чай, выпили по бокалу шампанского, потом подали шоколаду, а вслед за ним водки, икры, семги, сельдей, и все гости по приглашению хозяина отправились в залу и сели за стол. Разумеется, Волгин занял почетное место, то есть с правой стороны подле молодых. Сам Харлампий Никитич не ужинал; он ходил вокруг стола и потчевал гостей.
— Батюшка, ваше превосходительство, — говорил он Волгину, когда стали подавать двухаршинного осетра, — еще кусочек!.. Вот этот, прошу покорнейше!
— Я и так взял довольно, — отвечал Волгин.
— И, помилуйте, что за довольно! Кушайте во славу божию!.. Да вы не извольте опасаться! Вот белужина — дело другое, а свежая осетрина не вредит… Пожалуй, ваше превосходительство, уважьте меня, старика, поневольтесь! Варвара Харлампьевна, проси!.. Нет, уж не обижайте! Я осетра-то сам покупал. Варвара Харлампьевна, проси!.. Спиридон Иванович, что это с вами сделалось? — продолжал Цыбиков, обращаясь к посаженому отцу своей дочери, который ел за троих. — Вы, бывало, от хлеба-соли не отказывались.
— Да, батюшка, — отвечал Спиридон Иванович, поглаживая свою козлиную бороду, — мы в старину от добрых людей не отставали. Да не те уж времена, Харлампий Никитич: жернова-то стали плохо молоть!
— Нет, батюшка, кушайте, кушайте! Ведь наши старики говаривали: «Кто хозяина не слушает да его хлеба-соли не кушает, того и в гости не зовут».
Вот после третьего блюда захлопали пробки, и шампанское запенилось в бокалах.
— Здоровье его превосходительства Захара Дмитриевича! — возгласил кондитер. Волгин откланялся.
— Здоровье Харлампия Никитича!
Все гости осушили свои бокалы, один только Спиридон Иванович прихлебнул, пощелкал языком, наморщился и поставил свой бокал на стол.
— Харлампий Никитич, — сказал он, — не прогневайтесь, я на правду черт. Что это у вас за вино такое? Да это не шампанское, сударь, а полынковое, ей-же-ей, полынковое!
— Полынковое? — повторил с ужасом хозяин.
— Да, батюшка! Коли оно от кондитера, так не извольте ему денег платить: горечь такая, что и сказать нельзя!..
— А, понимаю! — вскричал Цыбиков. — Слышишь, Варвара Харлампьевна: шампанское-то горьковато, надо подсластить.
Молодые встали и поцеловались.
— Извольте-ка отведать теперь, — продолжал Цыбиков. — Ну что, каково? Фу, батюшки, сластынь какая!.. — промолвил Цыбиков, осушив до дна свой бокал. — Словно сахарная патока!.. Язык проглотил!
Если б Волгин не подливал воды в свое шампанское, то уж, конечно бы, возвратился домой очень навеселе: заздравные бокалы следовали беспрерывно один за другим. Пили здоровье отцов и матерей посаженых, здоровье родных и почти всех гостей поодиночке, общее здоровье всех присутствующих, общее здоровье всех отсутствующих и, наконец, здоровье дружек, то есть шаферов, из которых один давно уже не мог вымолвить ни слова и только что улыбался. Когда встали из-за стола, Волгин распрощался с хозяином, пожелал счастья молодым и отправился домой; вслед за ним стали разъезжаться все гости, и чрез несколько минут в доме Харлампия Никитича, кроме самых близких родных и посаженой матери молодой, не осталось никого.
Меж тем у подъезда, несмотря на присутствие хожалых, происходила большая беспорядица: почти все кучера, которых, разумеется, угостили порядком, едва сидели на козлах; каждый хотел прежде другого подъехать к крыльцу; две кареты сцепились так плотно колесами, что не могли двинуться ни взад, ни вперед; один фаэтон лежал на боку; три кучера таскали друг друга за волосы, а четвертый порол их всех нещадно кнутом. По временам раздавались возгласы хожалых, но только трудно было разобрать, на каком они изъясняются языке, я думаю, потому, что и их также не обнесли чарочкой; к счастию, квартальный надзиратель, который, вероятно, предчувствовал, что без него дело не обойдется, явился в пору, взглянул, увидел, наказал и привел все в порядок.
Ожидая конца этой суматохи, три или четыре гостьи стояли на крыльце.
— Ну, нечего сказать, — говорила одна из них, толстая пожилая женщина, — дай бог здоровье Харлампию Никитичу, угостил он нас!.. Перепоил всех кучеров!..
— И, Мавра Ефимовна!.. — отвечала другая купчиха, несколько помоложе первой. — Да ведь нельзя же, так уж водится, дело свадебное — как не поднести гостиным кучерам!
— Да ведь кучера-то правят лошадьми, Аксинья Тимофеевна.
— Довезут, матушка!
— Довезут!.. Покорнейше благодарю! Не знаю, как у вас, сударыня, а у меня одна только голова; как сломят, так другой не приставишь. Нет, матушка, вот на свадьбе у Фаддея Карповича Мурлыкина не такой был порядок: людей не поили, да зато и гостей не обижали.
— Помилуйте, да кого ж Харлампий Никитич обидел?
— Не вас, Аксинья Тимофеевна; я и про себя не говорю, — что мне в этих почетах! Мы же с Харлампием Никитичем вовсе люди не свои — да и слава богу! Конечно, ему не мешало бы помнить себя и знать других; кажется, роду незнаменитого, на нашей памяти был сидельцем, — да я этому смеюсь и больше ничего; а скажите, матушка, что ему сделала эта бедная Федосья Марковна?
— Что такое?
— Ведь вы знаете, что Федосья Марковна по мужу внучатая тетка Харлампию Никитичу, да она же и сама по себе роду хорошего; у нее два каменных дома: один на Смоленском рынке, другой у Серпуховских ворот, и сверх того три лавки в бакалейном ряду, — так ее обижать бы не следовало.
— Да чем же ее обидели?
— Как чем? Так вы, матушка, не заметили? Ведь ее здоровье-то не пили?
— Что вы говорите?
— Право, так!.. Гляжу на нее: господи, боже мой, жалость какая, кровинки нет в лице!.. «Здоровье такого-то! Здоровье такой-то!» — а она, голубушка моя, сидит как оглашенная какая!
— Ну, это нехорошо!
— А угощенье-то, Аксинья Тимофеевна!..
— Что ж, Мавра Ефимовна, кажется, всего было довольно, всякие напитки, фрукты…
— Да, хорошо! Я хотела попробовать грушу, да чуть было себе зуб не сломила.
— Конфектов было очень много…
— Ну, уж конфекты — эка диковинка: леденцы да патрончики! Стыдно домой привезти!.. Нет, сударыня, у Фаддея Карповича не то было, а публика-то какая была, публика!..
— Ну, вот уж касательно этого, Мавра Ефимовна, так, воля ваша, — кажется, и здесь публичность была недурная.
— И, полноте, матушка! Всего-то-навсего один только генерал, да и тот, чай, от кондитера… А, вот мой фаэтон! Прощайте, Аксинья Тимофеевна!
II Нескучное
Несносен мне зимой суровый наш климат,
Глубокие снега, трескучие морозы;
Но летом я люблю и русские березы,
И наших лип душистых аромат.
Как часто в знойный день под их густою тенью
В Нескучном я душою отдыхал…
B…нМного есть садов лучше нашего Нескучного, которое скорее можно назвать рощею, чем садом; но едва ли можно найти во всей Москве и даже в ее окрестностях такое очаровательное место для прогулки, а особливо если вы идете гулять не для того только, чтоб людей посмотреть и себя показать. Это Нескучное, поступившее ныне в ведомство московской Придворной конторы, принадлежало некогда К.Ш., человеку доброму, радушному и большому хлебосолу. Я не знаю, кому принадлежал этот сад прежде, но только помню, что когда он не был еще собственностью К.Ш., то порядочные люди боялись в нем прогуливаться и посещали его очень редко. Тогда этот сад был сборным местом цыган самого низкого разряда, отчаянных гуляк в полуформе, бездомных мещан, ремесленников и лихих гостинодворцев, которые по воскресным дням приезжали в Нескучное пропивать на шампанском или полушампанском барыши всей недели, гулять, буянить, придираться к немцам, ссориться с полуформенными удальцами и любезничать с дамами, которые, до изгнании их из Нескучного, сделались впоследствии украшением Ваганькова {Кладбище за Пресненской заставой, любимое гулянье простого народа. (Сноска автора.)} и Марьиной рощи. На каждом шагу встречались с вами купеческие сынки в длинных сюртуках и шалевых жилетах, замоскворецкие франты в венгерках; не очень ловкие, но зато чрезвычайно развязные барышни в купавинских шалях, накинутых на одно плечо, вроде греческих мантий. Вокруг трактиров пахло пуншем, по аллеям раздавались щелканье каленых орехов, хохот, громкие разговоры, разумеется на русском языке, иногда с примесью французских слов нижегородского наречия: «Коман ву партеву!»; «Требьян!»; «Бон жур, мон шер!». Изредка вырывались фразы на немецком языке, и можно было подслушать разговор какого-нибудь седельного мастера с подмастерьем булочника, которые, озираясь робко кругом, толковали меж собою о действиях своего квартального надзирателя, о достоверных слухах, что их частный пристав будет скоро сменен, и о разных других политических предметах своего квартала. С изгнания цыганских таборов из Нескучного и уничтожения распивочной продажи все это воскресное общество переселилось в разные загородные места, и в особенности в Марьину рощу. Когда я познакомился с новым владельцем Нескучного, этот сад принял уже совершенно другой вид: дорожки были вычищены, знаменитый мост, соединяющий обе части сада, мост, который, к сожалению, теперь уж не существует, исправлен, укреплен и сделан безопасным; домики украшены; и к воротам сада подъезжали не одни уж рессорные тележки и ухарские пары, но очень часто четвероместные кареты, а по тенистым аллеям бегали миловидные дети и мелькали соломенные шляпки московских дам высшего общества. Потом выстроили в Нескучном Воздушный театр, то есть театр без кровли, на котором давали не только водевили и дивертисменты, но даже большие комедии, трагедии и балеты {Я очень помню, как однажды в проливной дождь дотанцевали последнее действие «Венгерской хижины» почти по колено в воде. (Сноска автора.)}. Эта новость понравилась, и Нескучное сделалось любимым гуляньем московской публики.
Но знаменитость и слава земная — прах! Когда Нескучное было в ходу и жители Большого Калужского проспекта начинали уж поговаривать без всякого уважения о Тверской улице и при всяком удобном случае рассказывать с гордостью, что их дома в двух шагах от Нескучного, — за Петербургской заставою тихо и безмолвно вырастал опасный его соперник. Петровский парк был еще в младенчестве, но он мужал не по дням, а по часам, и вдруг, как будто бы волшебством, возникли на чистом поле прекрасные дачи, разостлались широкие дороги, зазеленелись бархатные луга, усыпанные куртинами, поднялся красивый портик театра, прекрасного, как игрушка, на которую нельзя было не полюбоваться, и выросло из земли огромное здание воксала со всеми своими принадлежностями. Вся Москва хлынула за Тверскую заставу; Нескучное опустело, его Воздушный театр превратился в пепел, то есть он был продан на дрова; диковинный мост обвалился, и обыватели Большой Калужской улицы стали обращать внимание на каждую проезжающую карету, сбавили половину цены с найма своих домов и не хвастались уже своим соседством с Нескучным садом, в котором стало очень скучно, по крайней мере для любителей многолюдной толпы, то есть для девяноста девяти сотых частей гуляющей публики.
Вот краткая современная история Нескучного. Теперь позвольте мне сказать о нем несколько слов в топографическом отношении и описать его так, как оно было в счастливые времена своей мимолетной славы и минутного величия.
Этот сад, начинаясь от рощи, принадлежавшей князю Д.В. Голицыну, оканчивался за Калужскою заставой. Одной стороною он обращен к Донскому монастырю, другая тянется по крутым и гористым берегам Москвы-реки. Войдя главными воротами в широкую аллею, ровную и гладкую, как Тверской бульвар, вы никак не отгадаете, что вас окружают если не пропасти, то, по крайней мере, такие буераки, что я не советую никому ходить вечером по левой стороне аллеи, между деревьями, которые растут на самых закраинах обрывистых и глубоких оврагов. Когда вы доходили до конца аллеи, вам открывался на правой стороне окруженный цветниками господский дом со всеми своими принадлежностями. Этот дом исчез также с лица земли, но он отжил свой век. И тогда уже страшно было смотреть на этого маститого старца; сквозь тесовую обшивку, покрытую желтой краскою, проглядывали его трещины, точно так же, как, несмотря на толстые слои белил и румян, прорезываются глубокие морщины на лице какой-нибудь допотопной красавицы, которая хочет остаться вечно молодою. От дома начиналась прямая дорожка, ведущая на длинный мост. Не бойтесь, ступайте смело за мною: этот мост поставлен на деревянных срубах и хотя на взгляд очень подозрителен, но гораздо прочнее и надежнее господского дома. Вот мы дошли до его средины. Теперь остановимся, обопремся на перила и поглядим, что у нас под ногами. Если и это нельзя назвать пропастью, так что ж это такое? Овраг? Нет, воля ваша, у меня язык не повернется назвать таким пошлым именем первую диковину Нескучного. Представьте себе поросшее сплошным лесом ущелье, мрачное и глубокое для всякого человека с хорошими глазами и почти бездонное для того, кто имеет несчастие быть близоруким. Столетние деревья, растущие на дне его, кажутся нам деревцами, потому что вы видите только одни их вершины. Их корни омывает едва заметный проток, составляющий по ту сторону моста небольшой пруд. Если вы сойдете по извилистой тропинке на дно этой… ну, да, этой пропасти, то вам надобно будет лечь на спину, чтоб, не свихнув себе шеи, посмотреть на многолюдную толпу гуляющих по мосту, который как будто бы висит на воздухе. Но я не советую вам ходить в эту преисподнюю, если вы не любите ужей: это их подземное царство, из которого они выползают иногда в аллеи сада, вероятно, для того, чтоб полюбоваться на свет божий и погреться на красном солнышке.
Сколько раз встречал я полночь на этом мосту! Я жил тогда в Нескучном. Однажды, — никогда не забуду этой ночи! — мне что-то не спалось; я встал, оделся на скорую руку и пошел бродить по саду. Ночь была лунная, воздух теплый, влажный, напитанный ароматом. Дойдя до средины моста, я остановился; мертвое молчание, густая тень деревьев и под ногами эта пропасть, — жилище пресмыкающихся и приют летучих мышей, — все располагало мою душу к каким-то таинственным ощущениям, все переносило ее в мир чудес и очарований. Мне казалось, что я стою у входа в знаменитую Волчью долину, что на дне ее льют роковые пули и Черный стрелок выглядывает из-за толстого пня сухой березы, которая, как мертвец в белом саване, отделяется от темной зелени живых деревьев. Вот яркий луч месяца прокрался между листьями и заблестел на чешуйчатой спине красноголового ужа; вот что-то зашелестилось над моей головою, и летучая мышь, крутясь по воздуху, исчезла в глубине ущелья. Вот набежала черная туча, луна скрылась за нею, мрак сгустился, и сотни светляков, как звездочки, затеплились на кустах и высокой траве, которая растет привольно на дне этих неприступных стремнин и буераков, и в то же самое время на вершине высокой сосны заохал вещий филин. Я не могу рассказать вам, что за странные ощущения, похожие на тихую грусть, не чуждые какого-то страху, но вместе с этим чрезвычайно приятные, овладели моей душою. Страх — чувство болезненное; но эта безотчетная робость, от которой замирает слегка наше сердце, имеет в себе какую-то неизъяснимую прелесть. Более часу простоял я как прикованный к одному месту; я не замечал, как звезды исчезали одна за другою, как скрылся месяц, как запылали облака и море света разлилось на востоке. Веселое чиликанье пробудившихся птиц заставило меня очнуться. Неугомонный филин давно уже убрался в свое дупло, летучие мыши также попрятались, и сквозь просвет частых деревьев засверкал позлащенный крест высокой колокольни Новодевичьего монастыря.
Вы очень ошибетесь, если подумаете, что эта пиитическая ночь создалась в моем воображении. Всякий, кто живал в Нескучном, подтвердит мои слова. В этом саду попадаются очень часто ужи, водятся летучие мыши, блестят по ночам светляки, и, когда я жил в Нескучном, каждую ночь, перед рассветом, раздавались отвратительные крики сов и стонал зловещий филин.
За этим мостом, которого теперь и следов не осталось, начинается другая часть сада. Прямая дорожка, проложенная между густых куртин березовых и липовых деревьев, приводила вас к одноэтажному домику, в котором некогда помещалась ресторация; в двух шагах от него на небольшом возвышении стояла беседка; она соединялась подземным ходом с нижним этажом другого домика, которого существования нельзя было и подозревать, потому что он выстроен был на скате глубокого оврага; из верхнего его жилья можно было пройти в беседку крытым переходом или какой-то висячей галереей, не очень благонадежною, но зато очень живописною. Все это было в совершенном запустении: кругом дичь, высокая трава, огромные деревья и немного пониже — источник прекрасной и чистой, как хрусталь, воды. Позади беседки небольшой мост соединял с садом что-то похожее на остров, который вместо воды окружен был со всех сторон обрывистыми оврагами, Теперь мы воротимся с вами назад и взглянем на великолепную липовую аллею, где вы можете и в самый полдень найти прохладную тень и укрыться от палящего солнца. Подле на пространном лугу возвышался некогда деревянный колизей под скромным названием Воздушного театра. Не знаю теперь, а тогда было тут прекрасное эхо, которое повторяло с удивительною точностию двусложные слова.
Сколько раз, бывало, я приходил один или вместе с любезным семейством Ге…вых пробуждать этот чудный отголосок. Однажды под вечер я стоял уж с полчаса против театра и радовался, как дитя, когда эхо повторяло каким-то насмешливым голосом: «Девка!.. Кошка!.. Слушай!.. Молчи!..»
— Не прогневайтесь, сударь, — сказал мне один из садовых сторожей, который уж несколько минут стоял подле меня и покачивал головою, — напрасно вы изволите этим забавляться.
— А что, любезный?
— Да так-с, нехорошо.
— Почему ж нехорошо?
— Ведь он не любит, сударь, чтоб его тревожили.
— Его? Да о ком ты говоришь?
— Ну вот, что вас передразнивает.
— А что ж ты думаешь, кто это?
— Известное дело — хозяин.
— Какой хозяин?
— Ну, иль домовой, сударь. Его трогать не надобно: ведь неровен час, как пристанет, так не отвяжется.
— Ах ты, дурак, дурак! — сказал я с громким смехом. «Дурак, дурак!» — повторило эхо и захохотало так натурально, что бедный сторож вздрогнул, пробормотал что-то под нос и плюнул, вероятно, на лукавого, а может быть, и на меня как на совершенного безбожника.
В конце липовой аллеи сходились две дорожки; одна шла направо, к Москве-реке, другая вела к самому живописному месту Нескучного. Мы зайдем туда после, а теперь я попрошу вас со мной на берег реки. Вот мы спускаемся вниз по изгибистой тропинке, перерываемой в нескольких местах деревянными лестницами, и сходим наконец на песчаный берег Москвы-реки. Позади нас пруд, за ним вдали, как будто опираясь на вершины деревьев, тянется длинный мост. Перед нами несколько красивых домиков, колодец и красивая галерея для ходьбы в ненастную погоду. Это заведение искусственных минеральных вод. «Какие минеральные воды? — спросите вы. — Да ведь они на Остоженке». Да, теперешние на Остоженке, а первые искусственные воды — воды, которыми никто не лечился, несмотря на то что они стоили очень дорого хозяину, были в Нескучном. Вот краткая история их начала, бытия и кончины. Один глубокомысленный испытатель естества, досужий и оборотливый немец, заметил хозяину, что в его колодце вода минеральная, потому, дескать, что в ней есть частицы известковые, железные и разные другие, и что хотя и в обыкновенной воде бывает не без примеси, но его колодезная вода имеет особенную целебную силу; но так как эта сила не то чтоб отличная какая сила, а только сила укрепляющая и утоляющая жажду, то не мешало бы завести около колодца и другие разные воды, имеющие разнородные силы, и что он берется сделать все это самым легким, вновь изобретенным способом, не требуя ничего, кроме посильного денежного вспоможения, необходимого для устроения сего филантропического и чисто европейского заведения. Добрый и благородный К.Ш., обрадованный мыслию, что он может положить основание такому благодетельному и общеполезному заведению, приступил немедленно к делу. Сначала, пока строили домики для ванн, залу для питья вод и галерею для прогулки больных, можно было видеть, по крайней мере, на что выходят деньги; но как дошло дело до химической части, то добрый К.Ш. призадумался.
«Ох уж мне эти машины! — говаривал он довольно часто. — Не успеешь сделать одну, подавай другую! Да ведь как дороги, проклятые! Расходы ужасные, а взглянуть не на что. Ну, видно, плакали мои денежки!»
И действительно, первая попытка завести в Москве искусственные минеральные воды не имела никакого успеха. Вот решились наконец прибегнуть к самому сильному и последнему средству: воды составлял и всем распоряжался все тот же глубокомысленный испытатель естества, а смотрителем при них, то есть сторожем, был простой русский человек; на место его сделали смотрителем какого-то физиканта с толстым чревом и важным лицом; у этого мусью была преудивительная фамилия, и он ни слова не говорил по-русски. Кажется, чего б еще? Нет, и это не помогло! В ванны никто не садился, воды не пили, в галерее не гуляли, а физикант брал по пятисот рублей в месяц жалованья, а испытатель естества придумывал все новые машины и сам назначал им цену. Тяжко пришлось хозяину! Конечно, он имел удовольствие пить свою собственную зельцерскую воду и потчевать ею своих приятелей, но если б счесть, во что обошлась ему эта забава, то для него гораздо бы выгоднее было вместо домашней зельцерской воды пить старый рейнвейн и потчевать своих гостей столетним венгерским вином. Между тем под руководством знаменитого профессора Лодера положено основание нынешнему заведению искусственных вод на Остоженке; их скоро открыли, они вошли в моду, и участь первоначального заведения была решена. Теперь не только не осталось следов ванн и галереи, но даже засыпан и колодец. Долго я добивался, но никак не мог узнать, кому вошла в голову странная мысль вырыть этот колодец? Он уже давно существовал, а никто не подозревал в нем никакой целебной силы; следовательно, нашелся же человек, который задумал выкопать колодец с обыкновенной, но только дурною водою на самом берегу реки, в которой вода весьма приятного вкуса.
Однажды — это было в мае месяце — я встретился в Москве со старинным моим приятелем Б***. Он жил безвыездно в Петербурге и в первый еще раз в жизни приехал взглянуть на Белокаменную и поклониться ее святым угодникам. Если б я родился в Италии, то уж, верно бы, попал в цех записных чичероне. Одно из величайших моих наслаждений состоит в том, чтоб показывать приезжим все диковинки и редкости города, в котором я живу. Четыре дня сряду я угощал моего приятеля Москвою, возил его из одного конца города в другой, ездил с ним в Коломенское, Царицыно, Кунцево, к Симонову монастырю; сходил вместе с ним под большой колокол, взлезал на Сухареву башню и смотрел с Ивана Великого на матушку Москву православную; наконец дело дошло и до Нескучного. Я начал с того, что познакомил моего приятеля с хозяином; он обласкал приезжего гостя, показал ему свое целебное заведение и напоил нас зельцерской водою домашнего изделия. Мы оставили хозяина на берегу Москвы-реки, а сами пустились в гору, устали до смерти; наконец, пройдя мимо липовой аллеи, повернули направо, вышли на самое живописное место Нескучного и сели на скамье, чтоб отдохнуть и полюбоваться очаровательным видом, который вдруг развернулся под нашими ногами. Внизу излучистая река, за нею обширные луга и Новодевичий монастырь; правее, по берегу реки, длинный ряд красивых Хамовнических казарм, а за ними сады и бесчисленные кровли домов; еще правее, вниз по течению реки, огромный амфитеатр, составленный из белокаменных зданий и разноцветных церквей; подымаясь все выше и выше, он оканчивается усыпанным позлащенными главами державным Кремлем. При первом взгляде казалось, на его высоких башнях покоились небеса, посреди которых выше всего блистал на главе Ивана Великого животворящий крест, осеняя своею благодатью священные гроба угодников божиих, святые соборы и древнее жилище православных царей русских. Налево, вверх против течения реки, возвышаются на полугоре большое каменное здание и церковь — это Андреевская богадельня; выше начинается сад или роща, примыкающая к Васильевскому — великолепному загородному дому, который принадлежит теперь графу Мамонову. За Васильевским подымаются Воробьевы горы; они тянутся по берегу Москвы-реки к Смоленской заставе и оканчиваются там, где речка Сетунь впадает в Москву-реку. Все это можно окинуть одним взглядом и, не переменяя положения, сидя спокойно на скамье, любоваться в одно время и Москвою, и ее прелестными окрестностями. Мой приятель был в совершенном упоении. Великолепная Нева со своими островами и море, на которое москвичи смотрят с таким восторгом, давно уже ему пригляделись, а то, что было теперь у него перед глазами, он видел в первый раз.
— Боже мой, — сказал он, — какой очаровательный вид! У нас все так гладко, единообразно, за сто шагов ничего не видно, а здесь — мы гуляем в саду, и вся Москва у наших ног!.. Вот одно из всех наслаждений, — продолжал он, — которое не оставляет пустоты в сердце, и одно только, которое доступно и понятно для всякого.
— Доступно — это правда, — отвечал я, — но понятно ли для всякого — не знаю. И нищий может войти на гору, и у него будут перед глазами прелестные виды; но станет ли он ими любоваться — это другая речь.
— Как? — вскричал мой приятель. — Да неужели ты думаешь, что необразованный простолюдин совершенно равнодушен к прекрасному и что один только просвещенный человек смотрит с удовольствием на живописное местоположение? Нет, мой друг, я уверен, что самый простой и безграмотный мужик поймет всю прелесть того, что теперь у нас перед глазами. Ведь это не картина, которую должно разбирать по правилам искусства; прекрасное в природе не подчинено никаким законам, оно пленяет нас без всякого предварительного разбора и нравится безотчетно, следовательно, действует одинаким образом и на того, кто проходил эстетику, и на того, кто не знает грамоты.
— Полно, так ли, мой друг? Я уверен, что и в высшем сословии есть люди, для которых существуют прекрасные поля, а вовсе нет прекрасных видов. Я знаю одного довольно образованного человека, который, сидя теперь с нами, не заметил бы, что отсюда вся Москва как на блюдечке, а не спустил бы глаз с Лужников и, вероятно, сказал бы с восторгом: «Вот, батюшка, место-то!.. Что, если б все эти луга засеять клевером или завести трехпольное хозяйство!» А попытайся обратить его внимание на эту роскошную панораму, так он тебе скажет: «И, сударь, что такое вид! Была бы только почва хороша, а дальновидное место ничего! Вот моя деревня в лощине, да зато голый чернозем, а хочешь вдаль посмотреть, ступай на колокольню; с нее за пять верст кругом видно!»
— Да это, мой друг, выродки: о них и говорить нечего! В их глазах только то и хорошо, что может приносить выгоду. Разумеется, тот, кто думает об одних доходах, не станет любоваться красотами природы, и я уверен даже, что бедный безграмотный человек поймет это высокое наслаждение лучше всякого богача, который заводит обширные сады и создает в них свою собственную природу, вытянутую в струнку, жалкую, изувеченную, или, не видав никогда солнечного восхода, приходит в восторг, когда на сцене театра подымается кисейный туман и всходит хрустальное солнце. Да вот, например, — продолжал мой приятель, — видишь ли ты вон там, за оврагом, на высоком холме будку?
— Вижу.
— Оттуда вид должен быть еще прекраснее здешнего. Не хочешь ли биться об заклад, что будочник, у которого этот вид с утра до вечера перед глазами, понимает всю красоту его и, может быть, не менее нашего им наслаждается?
— Зачем биться об заклад, — сказал я, вставая, — пойдем и спросим его самого.
— Пойдем, пойдем! — вскричал мой приятель. — Только не вздумай требовать от него красноречивых фраз и пиитических восторгов; не забывай, что он будочник и восхищается по-своему.
— Не беспокойся.
Мы вышли задними воротами сада и через несколько минут подошли к будке. В самом деле, от нее вид был еще живописнее. У будки стоял городовой страж пожилых лет. Этот хранитель общественного покоя был очень некрасив собою. На груди у него висели две медали, следовательно, он служил прежде в армии и дрался с неприятелем; но, вероятно, это было очень давно, потому что в нем вовсе уж не было заметно этой молодецкой выправки, которой отличается наш фронтовой солдат. Все лицо его было в морщинах, и красный нос с синим отливом почти касался подбородка, покрытого седой щетиною. Положив на руку свой грозный бердыш и прищурив левый глаз, он нюхал с расстановкою табак из берестовой тавлинки; казалось, он был совершенно погружен в это чувственное наслаждение и не замечал нашего присутствия.
— Эй, будочник, послушай! — сказал мой приятель.
Старый воин не пошевелился и даже не удостоил нас взглядом.
— Будочник! — повторил мой приятель.
Городской страж взглянул на него исподлобья, втянул в свой огромный нос последнюю напойку табаку и отвернулся.
— Да он никак глух? — молвил мой товарищ.
— Помилуй, — шепнул я, — где слыхано, чтоб кто-нибудь называл будочника будочником? Ведь это смертная обида.
— Как обида?
— Ну, да! Ты этак от него и полслова не добьешься. Ты бы еще назвал его костыльником или куроцапом. Эх, друг сердечный, как ты плохо знаешь наши простонародные обычаи вообще и нравы будочников в особенности! Посмотри, как он у меня заговорит. — Эй, часовой!
Будочник выпрямился и опустил правую руку по шву.
— Послушай-ка, служба!..
— Чего изволите, ваше благородие? — вскрикнул бодрым голосом старый воин, отдав мне честь, то есть вытянув горизонтально левую руку, в которой держал свою секиру.
— Какая здесь часть?
— Хамовническая, ваше благородие.
— А что, любезный, — сказал мой приятель, — у тебя нет никакого другого оружия, кроме этого топора?
Будочник нахмурился и взглянул почти с презрением на моего товарища.
— Да чем же эта алебарда дурное оружие! — прервал я, стараясь поправить ошибку моего приятеля.
— Да, конечно, ваше благородие, — отвечал будочник, — и алебардой оборониться можно, а то ли дело наш батюшка штык-молодец!
— Ты в каком полку служил, любезный?
— В двадцать третьем егерском.
— А давно ли служишь в городской страже?
— Пятый год.
— И все стоишь здесь?
— Никак нет, сударь. Я прежде был в Пятницкой части и стоял на Болоте.
— На Болоте! — повторил мой приятель. — Я думаю, ты очень обрадовался, когда тебя перевели сюда?
Старый воин посмотрел с удивлением на господина Б*** и пробормотал сквозь зубы:
— Да, есть чему радоваться!
— Помилуй, любезный, — вскричал мой приятель, — да что хорошего на Болоте? Скверные лавки, грязь, вонь!..
— Что грязь! — возразил будочник. — Грязь ничего, зато место людное, три раза в неделю базар. Тут поленце упадет с возу, там клок-другой сенца — только подбирай!.. Иной раз мужичок как сбудет свой товар с барышом — сам на радости в кабак, а служивому грош на табак. Там, глядишь, калачник уважит калачиком или квасник почествует стаканчиком медового, а в этом захолустье век стой, ничего не выстоишь… И хоть бы приютили где-нибудь в лощинке — так нет: поставили будку на самом юру!.. Как осенью потянет ветерок с полуночи или зимою начнет мести сверху и снизу, так господи помилуй!.. Да что и говорить — поганое место!
— Да неужели, любезный, — прервал мой приятель, — ты никогда не любуешься этим прекрасным видом?
— Видом! Каким видом?
— Да вот что у тебя перед глазами.
— А что у меня перед глазами-то?
— Как что?… Посмотри кругом!
Будочник посмотрел направо и налево, потом повернулся опять к моему приятелю и сказал:
— Да что вы тут видите, сударь?
— Экий ты, братец, какой! Да неужели ты можешь смотреть без восторга на это очаровательное местоположение?
Будочник выпучил глаза.
— Вот изволишь видеть, любезный, — сказал я, спеша на выручку к моему приятелю, — он спрашивает, любо ли тебе смотреть на эти горы, овраги, буераки?
— Да что в них хорошего?
— На Москву-реку, на эти луга…
— Эка невидаль!
— А Новодевичий монастырь? А Кремль?
— Да что мне, впервые, что ль? Иль я Кремля-то не видывал?
— Ну, все-таки, братец, место дальновидное, веселое, куда ни обернись, любо-дорого посмотреть!
— Да, нечего сказать!.. Эх, сударь, помилуйте, то ли дело стоять на Болоте! Вот там есть чем полюбоваться: каменные дома, лавки, харчевни, лабазы, а в базарный день народу-то, народу — неотолченая труба!.. Мужики гуляют, шумят, дерутся; их разбираешь — любо!.. А здесь что? Пустырь!
Как ни старался мой приятель доказать этому невежде, что он ошибается, но все было напрасно. Мы дали ему по двугривенному и пошли назад в Нескучное.
— Ну, что, мой друг? — спросил я.
— Что? — повторил господин Б***. — Ну да, этот будочник настоящий варвар; но разве это что-нибудь доказывает? Ты сам говорил, что и в нашем быту есть люди, для которых изящная природа не существует.
— То есть, по-твоему, этот будочник выродок?
— Без всякого сомнения.
— Ох уж вы мне, господа теоретисты, с вашими высшими взглядами! Что и говорить, вы смотрите высоко, да только под носом-то у себя ничего не видите! Уйметесь ли когда-нибудь судить о людях и вещах не так, как они есть в самом деле, но так, как бы вам хотелось, чтоб они были. Конечно, и у простого крестьянина есть свои наслаждения, но они не имеют ничего общего с твоими; их понятия о красоте, о чести и даже о самом счастии совершенно различны с нашими. Попытайся уверить какого-нибудь крестьянина, что женщина с воздушным станом и бледным лицом может быть прекрасна. Тебе также, верно, случалось видеть, что два мужика поссорятся, дадут друг другу по оплеухе — и преспокойно разойдутся в разные стороны; а человек образованный идет стреляться насмерть за одно обидное слово. Крестьянин счастлив, когда у него теплая изба, новый овчинный тулуп, вдоволь хлеба, три-четыре лошади, дойная корова, корчага браги и лишний рубль, чтоб в день своих именин или в храмовый праздник выставить штоф пенника и угостить пирогом своих деревенских соседей; то ли нам с тобою надобно — не для того, чтоб быть счастливыми: в нашем быту это вещь едва ли возможная, — но чтоб другие могли сказать о нас, что мы счастливы? Эх, мой друг, оставь мужичка мыслить, чувствовать и понимать по-своему!
— То есть, — прервал мой товарищ, — не мешай ему тонуть по уши в невежестве и стоять только на один волосок повыше бессловесных животных, не старайся образовать его ум, не просвещай его…
— Сохрани, господи! Нет, мой друг, есть просвещение, которое необходимо для всякого; это просвещение не кидается в глаза, оно не имеет надобности ни в латинском языке, ни в ученых фразах, но зато оно проникает, и гораздо легче, под соломенную кровлю безграмотного бедняка, чем в мраморные палаты ученого-переученого богача. Это просвещение премудрые философы восемнадцатого столетия величали фанатизмом, а мы, русские варвары, благодаря бога называем еще верою; и вот это-то просвещение, по милости которого злой человек становится добрым, скупой — милосердным, пьяница — трезвым, ленивый — трудолюбивым, а строптивый — покорным и смиренным, — оно-то одно и необходимо для крестьянина. Без этого просвещения и образованный человек бывает иногда хуже дикого зверя. Так чем же должен сделаться тот, для которого не существуют ни наши условные приличия, ни строгие понятия о чести, ни это уважение к общему мнению, которое все-таки может удержать нас иногда если не от тайных, то, по крайней мере, от явных нарушений нравственности и законов общежития.
— Я в этом совершенно с тобою согласен, — сказал мой приятель, — а не менее того желал бы от всей души, чтоб русский народ полюбил и земное просвещение.
— И я этого желаю, но только с небольшим условием. Просвещая наш простой народ, я хотел бы, чтоб мы почаще вспоминали одну басню Крылова.
— Какую басню?
— Да вот ту, которая начинается следующими стихами:
Полезно ль просвещенье? Полезно, слова нет о том. Но просвещением зовем Мы часто роскоши прельщенье И даже нравов развращенье…— Я что-то ее не помню.
— Вот в чем дело: один простоватый человек, думая придать более цены золотому червонцу, принялся его чистить песком, толченым кирпичом и, наконец, дочистился до того, что:
…Подлинно, как жар Червонец заиграл: Да только стало В нем весу мало, И цену прежнюю Червонец потерял.
А я прибавлю к этому, что и штемпель-то с него стерся совсем, так что нельзя было отгадать, какая это монета: французская, татарская, немецкая или русская, что, вероятно, также ему цены не прибавило.
— Так что ж, по-твоему, надобно делать? — прервал почти с досадой мой приятель.
— Не мешать и даже помогать тем, у которых есть врожденная любовь к просвещению, потом предоставить все времени — этому неторопливому, но лучшему учителю народов. «Не скоро, да здорово», — говорит русская пословица, и в этом случае она совершенно справедлива. А меж тем не мешало бы нам поменее говорить о просвещении наших крестьян, а поболее заботиться о их благосостоянии.
— В том-то и дело, — прервал мой приятель, — ведь просвещение-то и делает человека счастливым.
— Да, то, о котором я говорил тебе прежде, а то, о котором ты говоришь теперь, тогда только для нас полезно, когда придет нам по плечу. Хорошо идти за веком тому, кому нет надобности ходить за сохой. Да и с чего ты взял, что ты счастливее безграмотного человека? Потому что знаешь больше его? Нет, мой друг, исправный, то есть зажиточный, крестьянин несравненно благополучнее нас с тобою: его не беспокоит наша житейская суета, не тревожит честолюбие. Он, человек безграмотный, знает, что век останется крестьянином, и спит себе преспокойно; а посмотри, как иногда какой-нибудь коллежский секретарь, который занесся в чины, сохнет оттого, что его долго не производят в титулярные советники!
— Толкуй себе, как хочешь, а я все-таки желаю, чтоб наш простой народ…
— Эх, мой друг, оставь его в покое! А если хочешь чего-нибудь желать, так пожелай лучше общего просвещения для тех людей, которые могут и должны быть просвещены. Безграмотный мужик не беда, а вот худо то, когда сам помещик читает по складам.
— Да этаких уж мало, мой друг.
— Несравненно меньше прежнего, кто и говорит, а не мешало бы, чтоб их и вовсе не было.
Наш разговор был прерван нечаянным появлением хозяина Нескучного.
— Насилу-то я вас нашел, господа! — сказал он, идя к нам навстречу. — Уж я ходил, ходил по саду!.. Представьте, какая случилась со мной неприятность: я остался без вас на минеральных водах, чтоб осмотреть, в порядке ли ванны, — вот слышу, шумят подле целебного колодца. Что такое? Гляжу: какой-то барин, совсем раздетый, чуть не бьет моего смотрителя-немца. Я подбежал к ним. В чем же дело? Представьте себе, этот господин лезет купаться в колодец!.. «Помилуйте, батюшка, что вы?» — «Как что? Ведь эта вода целебная?» — «Ну да, целебная!.. Да ведь ее пьют, а не купаются в ней». — «Вот вздор какой! Я слыхал, что на Кавказе и пьют и купаются». — «То на Кавказе, а здесь совсем другое дело». — «Почему ж другое? Вода все вода!» Я чтоб урезонить — куда, так и рвется!.. А колодец глубокий, вода почти вровень с краями, — юркнет, проклятый, и поминай как звали!.. Я ухватился за него и кричу немцу: «Держи, держи!» Насилу-то вдвоем оттащили его прочь! Такой здоровый — и в голове-то порядком закачано. Что будешь делать — привязался ко мне, шумит, кричит!.. Я так, я этак, и лаской и всячески — не отстает! Уж я поил, поил его зельцерской водою; насилу, разбойник, провалился, — устал с ним до смерти. Теперь прошу ко мне, господа! — продолжал хозяин, вытирая платком свое лицо. — Милости просим позавтракать чем бог послал. Не взыщите, если мои пирог простыл; что делать: целый час провозился с этим пьяницей.
Мы отправились вместе с хозяином и, к совершенному удовольствию этого гостеприимного и радушного человека, нашли, что его отлично вкусный пирог не совсем еще остыл.
III Московские сводчики
Сводчик, а. с. м. посредник при покупках, продажах и разных сделках.
Академический словарь, изданный в 1847 годуВ Москве немного справочных контор, но зато вовсе нет недостатка в этих вольнопрактикующих посредниках, известных под названием сводчиков. Это почтенное сословие резко отличается от всех других тем, что не составляет никакого отдельного общества. Когда мы говорим: дворянское сословие, купеческое сословие, мещанское общество, ремесленный цех, то разумеем под этим отдельные общества, составленные из одних дворян, купцов, мещан и ремесленников; а между сводчиками вы найдете людей всех состояний, и хотя их занятия совершенно одинаковы, но каждый из них заботится только о себе и старается всячески вредить своим товарищам. Есть сводчики, которые одеваются по последней моде, носят белые лайковые перчатки и разъезжают в своих собственных экипажах; есть и такие, которые очень напоминают оборванных польских факторов: та же неутомимая деятельность, то же красноречие и почти та же самая добросовестность; одним словом, им недостает только длинных пейсиков и засаленных ермолок, чтоб совершенно походить на этих честных евреев, от которых нет отбоя во всех местечках и городах западной России. Я всегда дивился необычайному красноречию наших московских сводчиков; каждое именье, которое они предлагают вам купить, бывает обыкновенно или настоящим земным раем по своему чудному местоположению, или золотым дном по своему неслыханному плодородию, или истинным кладом по своим береженым лесам, сенокосам и разным водяным угодьям. Для них решительно ничего не значит назвать дровяной лес строевым, едва заметный проток речкою, грязный пруд озером и ни на что не годные болота поемными лугами. «Но для чего же они это делают? — спросите вы. — Ведь заочно именье никто не покупает, всякий поедет прежде посмотреть». Да этого-то они добиваются! Неужели вы никогда не слыхали о заграничных вывесках, которые так обольстительны для всех новичков? На одной вы прочтете, что тут не продают, а почти даром отдают разные товары; другая приглашает вас войти в лавку — как вы думаете, для чего? Единственно для того, чтоб вы обогатились. — «Faites votre fortune, messieurs!»
Разумеется, это ложь; однако ж вы зайдете в лавку и, может быть, купите что-нибудь. Говорят, что эти торговые приманки, известные под названием пуфов, доведены до совершенства англичанами; может быть, только вряд ли им уступят в этом наши московские сводчики. Мне самому случилось однажды попасть в ловушку к этим господам; впрочем, я отделался так дешево, что вовсе об этом не жалею. Я расскажу вам это происшествие, совершенно справедливое во всех его подробностях, — за это я ручаюсь вам своею честию.
Года четыре тому назад пришла мне охота купить небольшую подмосковную. Я напечатал об этом в газетах, и на другой день явились ко мне два сводчика. Первый, которого я принял к себе в кабинет, был человек пожилой, одетый довольно опрятно, с большими седыми бакенбардами и с важным, даже несколько угрюмым лицом.
— Вы изволили объявить в «Московских ведомостях», — сказал он, — что желаете купить именье?
— Да, — отвечал я. — Мне хотелось бы найти небольшую деревеньку, но только непременно в близком расстоянии от Москвы.
— Так-с! А позвольте узнать, в какую цену?
— От сорока до пятидесяти тысяч ассигнациями.
— Так-с!.. Прежде всего я должен вам доложить, что никогда не беру менее двух процентов за комиссию.
— С того, кто продает?
— И с того, кто покупает.
— То есть, четыре процента? Ну, это довольно! Впрочем, если вы найдете мне выгодное именье…
— Выгодное? То есть доходное?
— Ну, хоть и не очень доходное, но я желал бы, чтоб оно давало мне хотя пять процентов.
— Так-с!.. А местоположение?…
— Непременно красивое: без этого я не куплю; чистенький домик, роща, речка.
— И речка-с?… Это, сударь, найти нелегко!.. Подмосковные именья на видных местах и с живыми урочищами недешево стоят, — заплатите тысячи по две за душу.
— Ну, если у вас нет такого именья…
— Позвольте, позвольте!.. Я могу вам рекомендовать именье — не то что подмосковное, а близко, очень близко от Москвы… Просят за него пятьдесят пять тысяч ассигнациями, а может быть, и за пятьдесят уступят. Именье отличное, устроенное самым хозяйственным образом; стоит только руки приложить, так оно даст вам процентов до десяти. Земля самая плодородная… не то что чернозем, а, знаете ли, этакая серая… чудная земля!.. И место красивое, перед барским домом речка… можно мельницу построить: воды весьма достаточно, — будет за глаза на три постава.
— А по какой дороге это именье?
— По Можайке.
— То есть по Смоленской? Ну, это хорошо: застава от меня близехонько.
— А это, сударь, не безделица. Иное именье, кажется, и близко от Москвы, а как придется ехать городом верст двадцать…
— Уж и двадцать!.. Что вы!
— Да немного поменьше.
— Что ж, это именье недалеко от города?
— И десяти верст не будет.
— От Москвы?
— Нет, сударь, от города Вязьмы.
— Так это в Смоленской губернии?
— Так что же, сударь? Ведь Смоленская-то губерния граничит с Московскою.
— Покорнейше вас благодарю! Я ищу именье не далее тридцати верст от Москвы.
— Позвольте вам доложить: да что толку-то в этих близких именьях? Ведь, известное дело, подмосковные крестьяне или плуты или нищие, беспрестанно в Москву таскаются, все пьяницы; да вы, сударь, с ними наплачетесь!
— Это уж мое дело.
— И что за даль такая: с небольшим двести верст! Дорога как скатерть, лучше всякого шоссе — и гладко и мягко. Едешь в телеге, а точно как на лежачих рессорах. А именье-то какое! От нужды, сударь, продают… Вот кабы вы сами изволили взглянуть… Да не угодно ли, со мною есть опись и приказ?…
— Нет уж, увольте!
— Так позвольте вам предложить другое именье, поближе этого…
— Также в Смоленской губернии?
— Нет, сударь, в Рязанской, на самой московской границе.
— Я уж вам сказал, что хочу купить подмосковную.
— В такую цену у меня подмосковных нет. Вот тысяч во сто…
— Так нам и говорить нечего. Прощайте, батюшка, — там у меня дожидается другой сводчик.
— Видел, сударь, видел!.. Я советовать вам не смею, а грешно не сказать: поберегитесь, батюшка. Я этого молодца знаю: Григорий Кулаков; два раза, сударь, из Москвы выгоняли, всю прошлую зиму в тюрьме просидел… И какой он сводчик? Так… шмольник — дрянь! Из полтины пробегает целый день, а за целковый даст себя выпороть… А уж краснобай какой!.. Наговорит вам с три короба; да вы не извольте ему верить: мошенник преестественный! Прощайте, сударь!.. Рекомендую себя на будущее время: Степан Прокофьевич Кривоплясов, собственный дом в Садовой, на Живодерке, второй от угла.
— Хорошо, хорошо! Если вы мне понадобитесь, я за вами пришлю.
Когда первый сводчик вышел, я приказал позвать второго. Наружность его мне очень не понравилась. На нем был долгополый сюртук, довольно уже поношенный; сам он был росту небольшого, худощав, с продолговатой жиденькой бородкой и серыми плутовскими глазами, которые не обещали ничего доброго.
— Что, сударь, — сказал он, — вы не изволили ничем порешить с господином Кривоплясовым?
— Нет! — отвечал я. — Мне не то надобно, что у него есть.
— Чай, навязывал вам смоленское или рязанское именье? Вот уже третий месяц, как он с ними нянчится.
— А что, это хорошие именья?
— Помилуйте! Да если б мне стали эти деревнишки даром отдавать, так я бы придачи попросил!.. А туда ж, два процента!.. Вот я, сударь, из одного процентика готов вам послужить. Да ведь мы люди простые, а он большой барин, официю носит!
— Так он чиновник?
— Да, сударь, — служил в надворном, да, видно, не выслужился… попросили вон! Небось тогда не чванился; стоит, бывало, целое утро с перышком у присутственных мест, не наймет ли кто в свидетели, а теперь как удалось ему двух-трех господ обмануть, так и в люди пошел! Чего доброго — контору заведет!
«Ну, — подумал я, — как эти господа друг друга рекомендуют!»
— Вам, сударь, — продолжал сводчик, — желательно купить подмосковную?
— Да! — отвечал я. — Только поближе к Москве.
— Найдем, сударь! Кабы вот этак недельки три тому назад, так я бы вам рекомендовал с полдюжины подмосковных; а теперь одна только и есть в виду, да зато уж и подмосковная! Как посмотрите, так не расстанетесь! Душ немного — всего пятьдесят, а земли четыреста десятин: триста в окружной меже да в двух верстах отхожая пустошь. Лесу было с лишком сто десятин отличного! Теперь, конечно, лесок некрупный, однако ж и не зарост: в оглоблю будет. Барский домик — игрушка, и не то что старый дом: после французов строен; а что за крылечко такое: с выступом наподобие террасы — удивительно!.. Сад на пяти десятинах, оранжерея, грунтовой сарай, службы… оно, конечно, немного позапущено: господа давно не живут, присмотреть некому, и, если правду сказать, так на взгляд строение покажется вам ветхим, а в самом-то деле веку не будет! Стоит только кой-где подкрасить, кой-что перетряхнуть — тут тесницу-другую переменить, там новое звено подвести, так усадьба будет щегольская!
— А речка есть?
— Есть, сударь, этак с полверсты от дома, и речка-то какая: веселенькая, игривая, словно змейка, так и вьется по лугу!
— Можно в ней купаться?
— Можно, сударь. Крестьянские ребятишки все лето из нее не выходят. В ином месте по пояс будет…
— То есть ребятишкам, а большим по колено?
— Да вы об этом не извольте беспокоиться, за купаньем дело не станет: перед домом преогромный пруд, не грешно озером назвать.
— И, верно, в нем водятся лягушки?
— Как же, сударь: привозные, с отличными голосами!
Я засмеялся.
— Чему же вы изволите смеяться? — сказал сводчик. — Может статься, теперь этим не занимаются, а прежде все подмосковные бояре любили, чтоб у них в прудах были лягушки голосистые. Они этим щеголяли, сударь.
— Правда, правда, любезный! Теперь и я вспомнил: была такая мода; только я до этой музыки не охотник, а люблю, чтоб пруды были с рыбою.
— И этого довольно, сударь; в саду есть два пруда с карасями, да караси-то какие — аршинные!
— Уж и аршинные!
— Доподлинно сказать вам не могу, я не мерил, а только прекрупные.
— Что ж, эта деревня по какой дороге?
— По Звенигородке.
— По Звенигородской дороге? Места знакомые. А на какой версте?
— На двадцать шестой.
— На двадцать шестой?… Поворот налево? Мимо ветряной мельницы?
— Точно так-с.
— А там две версты лесом?
— Не будет, сударь; версты полторы, не больше.
— Так это деревня Андрея Степановича Вязникова?
— Да-с, его высокородия Андрея Степановича Вязникова.
— Спасибо, любезный!
— А что, сударь?
— Да я уж хуже ничего не знаю: мужики бедные, избенки все набоку, а барский дом и на дрова никто не купит.
— Помилуйте, сударь! Конечно, дом покривился, да это оттого, что его мезонин давит; прикажите его снять…
— Да новый дом поставить, службы перестроить, все избы новые срубить? Покорнейше благодарю!..
— Как вам угодно, а, право, именьице хорошее и за бесценок отдают.
— Нет, уж я лучше поищу другую подмосковную.
— Позвольте! У меня есть в виду еще одно именье — чудо!.. За отъездом продают, завтра опись получу. Ну, уж это подмосковная! На Клязьме, все места гористые, березовый лес, липовая роща… пообождите только до завтрашнего дня.
— Хорошо, хорошо, любезный! Прощай!
— Счастливо оставаться!.. Сейчас побегу к господам за описью и приказом.
Не прошло получаса, как мне доложили, что пришел еще сводчик. Я велел его позвать… Ну, этот вовсе не походил на прежних! Это был пожилой человек лет шестидесяти, в сером опрятном пальто, с лысой головой, краснощеким благообразным лицом и светлыми голубыми глазами, исполненными такого простодушия и такой доброты, каких я давно не видывал. Вся наружность его напоминала этих патриархальных старинных слуг, не всегда трезвых, но честных, верных и всегда готовых не только подраться, но даже умереть за каждую барскую копейку. Войдя в кабинет, он помолился на образ, потом, обратясь ко мне, поклонился по старому русскому обычаю в пояс.
— Что скажешь, любезный? — спросил я.
— Вы ли, батюшка, Богдан Ильич Бельский?
— Я, мой друг.
— Ну, слава тебе, господи! Уж я вас искал, искал!.. Не угодно ли вам, батюшка, купить подмосковное именье в двадцати верстах от города?
— Почему не купить, если именье хорошее и будет мне по деньгам.
— Будет, сударь, будет! Да вот извольте потрудиться — прочтите опись.
Сводчик подал мне исписанный лист бумаги, и я прочел следующее:
«Сельцо Былино в двадцати верстах от Москвы, по Серпуховской дороге, на речке Афанасьевке. Крестьян, по ревизским сказкам, семьдесят одна душа, а с прибылыми после ревизии восемьдесят пять душ. Из крестьян многие занимаются столярным ремеслом и платят оброку с тягла но сту рублей ассигнациями, остальные крестьяне на пашне. Земля вся особняк, восемьсот шестьдесят десятин, из которых сорок пять под господской усадьбой и крестьянскими избами. Барский дом каменный о двух жильях; в нем вся мебель красного дерева, три каменных флигеля, баня, сушильня, конюшни, сараи, погреба деревянные, не требующие никакой починки; все господское строение крыто железом. Вид из дома наиотличнейший; один сад фруктовый, другой для гулянья, с разными потешными строениями; две оранжереи: одна персиковая, другая виноградная; грунтовой сарай преобширнейший…»
— Э, любезный, — сказал я, остановясь читать, — да это именье и за сто тысяч не купишь.
— Извольте читать, сударь! — прервал сводчик.
Я начал опять читать опись:
«По речке Афанасьевке заливных лугов до шестидесяти десятин. Против барского дома каменная плотина с мельницей о двух поставах. Прошлогоднишнего необмолоченного хлеба на барском гумне семь больших одоньев. Лесу крупного, береженого, по большой части березового, четыреста тридцать шесть десятин. Последняя цена именью девяносто тысяч ассигнациями».
— Что ж это за вздор! — сказал я. — Да тут одного лесу с лишком на двести тысяч рублей.
— Будет, сударь.
— Так, воля твоя, любезный: или ты меня обманываешь, или тут есть какая-нибудь ошибка.
— Нет, сударь, я вас не обманываю, и ошибки тут никакой нет. Извольте только меня выслушать. Прежний помещик сельца Былина Антон Федорович Вертлюгин скончался прошлой зимою, и все именье покойного перешло по наследству к племяннику его, Ивану Тихоновичу Башлыкову; а он в этой деревне никогда не бывал и служит в каком-то гусарском полку, который стоит в Польше. Говорят, что этот Иван Тихонович Башлыков такой гуляка и картежник, что уж два наследства спустил. Видно, ему и теперь не посчастливилось, так он и написал к былинским крестьянам, что продает их за девяносто тысяч ассигнациями и чтоб они искали себе покупщика. Я, сударь, сам родом из Былина, отпущенник старого барина. Вот мужички и попросили меня приискать им хорошего помещика. Дело, сударь, нешуточное, тут спешить нечего, и я уж недели две по Москве шатаюсь. Спрошу об одном. «Хорош, дескать, барин, только барыня-то у него такая нравная, что не приведи господи!» Спрошу о другом. «И этот также человек добрый, да все пашню заводит на немецкий манер… Тот крутенек, этот с придурью, а вот, дескать, есть барин, Богдан Ильич Бельский, так уж нечего сказать — отец! У него и дворовым и крестьянам такое житье, что и волюшки не надо!» Я поехал да былинским это и пересказал, а они, сударь, прислали меня к вам. Уж сделайте милость, батюшка, заставьте за себя бога молить — купите их!
— Как не купить, любезный! Да где ж я возьму девяносто тысяч?
— Деньги готовы, сударь.
— Как готовы?
— А вот изволите видеть: не слыхали ли вы когда-нибудь об Иване Федоровиче Выхине?
— Не помню, любезный, кажется, не слыхал.
— Здешний купец первой гильдии; торгует лесом. Он ездил со мною на прошлой неделе в Былино, и мы с ним порешили: господин Выхин покупает двести десятин лесу по пятисот рублей ассигнациями за десятину. Оно, конечно, дешево, сударь; коли он и рубить лесу не станет, а на корню продаст, так все возьмет рубль на рубль барыша… Ну, да бог с ним! Зато человек-то верный и все деньги вперед дает.
Признаюсь, я сначала обрадовался, а потом мне стало как будто бы совестно.
— Послушай, любезный, — сказал я, — да что ж это, в самом деле, крестьяне-то: им бы написать барину, что у него одного лесу больше чем на двести тысяч, а он все именье продает за девяносто?
— Что вы, сударь, сохрани, господи! Если барин об этом узнает, да он тогда вовсе своих мужичков обездолит: продаст весь лес за бесценок, денежки спустит, а там опять деревню-то побоку! Только уж тогда, батюшка, покупщиков немного будет. Да вы первые не купите безлесное именье, — что в нем толку? Ан и выйдет, что мужички-то достанутся бог весть кому.
«А что, — подумал я, — ведь он дело говорит».
— Эх, батюшка, ваше высокоблагородие, — продолжал сводчик, — ну, что вы изволите заботиться об этом мотыге? Ведь глупому сыну не в помощь богатство. Вы подумайте-ка лучше о бедных мужичках; чем они, сердечные, виноваты, что у них барин картежник?
— Правда, правда, любезный! — сказал я.
— Ну что, сударь, ваши ли они?
— Если ты говоришь правду…
— Да из чего ж мне лгать, сударь? Помилуйте!
— До сих пор, кажется, не из чего.
— Так вы покупаете?
— Покупаю.
— Батюшка, Богдан Ильич, — сказал сводчик, повалясь мне в ноги, — коли это дело кончено, так дозвольте мне и за себя слово вымолвить!
— Что такое?
— В Былине есть у меня родной брат, краснодеревец, за все мои хлопоты и труды отпустите его на волю! Я ничего больше не прошу.
— С большим удовольствием…
— Да вы не извольте о нем жалеть, батюшка: у вас еще останутся трое краснодеревцев.
— А нет ли у тебя в Былине еще родных?
— Есть, батюшка, племянник; да я уж не смею о нем и говорить…
— Изволь, любезный, я и племянника твоего отпущу на волю.
Сводчик заплакал.
— Покорнейше вас благодарю, батюшка, — сказал он. — Пожалуйте ручку… Дай бог вам много лет здравствовать!
— Да это что!.. Если только ты меня не обманываешь…
— Ах, господи, боже мой!.. Вы всё изволите сомневаться!.. Ну, жаль, что Ивана Федоровича здесь нет!..
— Какого Ивана Федоровича?
— Да вот лесника, что былинский лес покупает. Я бы вместе с ним к вам пришел, авось бы вы тогда поверили.
— Где ж он теперь?
— Уехал в рощу. Деньжонок-то со мною мало, а то бы я за ним скатал.
— А далеко ли?
— Да не близко: верст за тридцать. Меньше трех целковых не возьмут.
— Вот тебе пять рублей серебром, — сказал я, подавая ему ассигнацию, — съезди за лесником.
— Слушаю, сударь. Оно и лучше, батюшка! Извольте сами с ним переговорить.
— Ведь завтра ты вернешься?
— Как же, сударь. Если ему завтра нельзя будет к вам приехать, так я письмо от него привезу. Да он, верно, сам прискачет. Ведь дело-то не безделичное: рубль на рубль барыша. Прощайте, батюшка! Сейчас на постоялый двор, найму лошадей да и в путь.
Сводчик вышел из комнаты, потом через полминуты воротился назад.
— Что ты, любезный? — спросил я.
— Виноват, сударь, — забыл вам сказать, — Иван Федорович Выхин очень зарится на березовую рощу, которая подошла к самому саду, да вы не извольте ее продавать: березы-то сажены еще дедушкой покойного барина, — каждая обхвата в два будет.
— А если он заупрямится?
— Так извольте ему сказать, что вы и деревню-то затем покупаете, что вам эта роща нравится. В ней же всего-навсего десятин пять или шесть, — не потянется, сударь.
— Ну, хорошо… А, кстати, как тебя зовут, любезный?
— Савелий Прокофьев. Прощайте, батюшка!
Разумеется, я провел весь этот день в самых приятных мечтах: то мысленно удил рыбу в моей речке Афанасьевке, то гулял в столетней березовой роще или ел собственный свой виноград, свои доморощенные персики-венусы!.. Доходное именье в двадцати верстах от Москвы, прекрасная усадьба с такими барскими затеями, и все это достается не только даром, но даже с придачею!.. «Не может быть, — думал я, — чтоб этот старик меня обманывал: он вовсе не похож на обманщика. Да из чего бы он стал это делать? Если он хлопотал из того только, чтоб выманить у меня несколько рублей серебром, так зачем же, подучив деньги, воротился говорить со мною о березовой роще? Это уже было бы слишком хитро, да и вовсе для него бесполезно… Нет, видно, на этот раз мне посчастливилось!»
Часу в девятом вечера приехал ко мне старинный мой приятель Андрей Данилович Ерусланов. В первом выходе моих «Записок» я познакомил вас с этим ненавистником дилижансов и страстным любителем нашей русской тележной езды.
— Здравствуй, Богдан Ильич! — сказал он. — Я приехал с тобой повидаться и поговорить кой о чем. А, нечего сказать, далеконько ты живешь!
— Да, любезный друг! Я живу на Пресненских прудах, а ты на Чистых… версты четыре будет.
— Тебя, кажется, о здоровье спрашивать нечего, — продолжал Ерусланов, опускаясь в кресла, — ты смотришь так весело…
— Да и ты, кажется, вовсе не хмуришься.
— Нет, друг сердечный, я весел, очень весел! Бог милость мне дает.
— Право! Что ж такое?
— Да так!.. Вот, братец, говорят, что добрым людям не житье на этом свете, — неправда!.. Хорошо быть добрым человеком! Добрая слава лучше всякого богатства, любезный!
— Конечно, лучше: да к чему ты это говоришь?
— А вот к чему. Я, Богдан Ильич, покупаю отличное именье, или, лучше сказать, мне дарят это именье за то, что я добрый человек.
— Как так?
— Да именье-то какое! Барское, сударь!.. В двадцати верстах от Москвы.
— В двадцати верстах?…
— Да, Богдан Ильич, по Серпуховской дороге.
«Ой, ой, ой! — подумал я. — Это что-то нехорошо».
— Помещик этого именья, — продолжал Ерусланов, — не бывал в нем никогда. Оно, изволишь видеть, досталось ему по наследству. Видно, ему денежки понадобились, так он и написал крестьянам, чтоб они искали себе покупщика, а мужички-то, голубчики мои, знать, уж обо мне понаслышались, любезный, и просят, чтоб я их купил; да ведь даром, братец, даром!
— Ой, худо! — прошептал я.
— Представь себе, Богдан Ильич; за именье просят девяносто тысяч ассигнациями, а одного лесу на двести! Каменный дом, оранжереи, мукомольная мельница…
— На речке Афанасьевке? — прервал я.
— Да, да, на речке Афанасьевке!
— Сельцо Былино?
— Точно так! А ты его знаешь?
— Как не знать! А что, к тебе сами крестьяне приходили?
— Нет, они прислали ко мне от всего миру…
— И, верно, лысого старика, в сером пальто, с таким честным, добрым лицом?…
— Э, любезный, так ты и его знаешь?
— Как же! Прокофий Савельев…
— Нет, кажется, Савелий Прокофьев.
— Все равно, любезный друг! Ты, верно, дал ему что-нибудь?
— Безделицу: десять рублей серебром.
— А когда он у тебя был?
— Сегодня, часу во втором.
— Во втором? Экий проворный, подумаешь! Так он прямо от меня прошел к тебе.
— От тебя?
— Да, он был у меня ровно в двенадцать часов. Ну, друг сердечный, не прогневайся, — своя рубашка к телу ближе: ведь я уже это именье купил.
— Как купил? — сказал Андрей Данилович, вскочив с кресел.
— Да, мой друг, купил, и гораздо дешевле твоего: ты заплатил за него десять рублей серебром, а я только пять.
— Что ж это значит?
— А это значит, Андрей Данилович, что на то и щука в море, чтоб карась не дремал.
— Что ты говоришь? Да неужели этот старик…
— Отличный плут, а уж актер такой, каких я не видывал.
— Да нет, этого не может быть!
— Не просил ли он тебя отпустить на волю его родного брата, краснодеревца?
— Просил.
— Что ж, ты обещался отпустить?
— Разумеется.
— И он заплакал?
— Так и заревел, братец!
— Фу, какой артист!.. Жаль только, что он немножко однообразен. Не взял ли он у тебя денег, чтоб нанять лошадей и ехать за лесником?…
— Как же, Богдан Ильич! Он просил у меня пять рублей, а я дал ему десять.
— Ну вот видишь ли! От меня он зашел к тебе на перепутье, а может быть, от тебя завернет еще к кому-нибудь, — так этак, глядишь, в иной день перепадет ему рубликов двадцать пять серебром. Ремесло хорошее!
— Вот тебе и речка Афанасьевка! — вскричал Ерусланов. — А я уж сбирался на ней купальню поставить… Ах он мошенник, разбойник этакий!
— Да что ж ты на него так гневаешься? — сказал я. — Разве я сержусь? А ведь он и меня так же обманул, ведь и я так же, как ты, думал про себя: хорошо быть добрым человеком!
Ерусланов засмеялся.
— Ну, — молвил он, — много я видел плутов на моем веку, а уж такого мастера не встречал!.. Да нет, Богдан Ильич, ты как хочешь, а я этого так не оставлю!
— А что ж ты сделаешь?
— Я отыщу его.
— В самом деле: съезди-ка в сельцо Былино, авось он там.
— Нет, любезный, этот Ванька Каин должен быть здесь, в Москве. Я по всем съезжим буду справляться, где живет мещанин Прокофий Савельев или Савелий Прокофьев — найду его…
— А там что?
— А там что?… Да дам ему еще целковый за то, что он молодецки нас обманул.
— Так уж дай и от меня, — сказал я, — но только не за это.
— За что же?
— За то, что я по милости его был целый день доволен, весел и даже счастлив.
— А что, ведь ты правду говоришь! — прервал Андрей Данилович. — Купить себе на целый день счастья за пять рублей серебром — да разве это не дешево? Эх, жаль, что я к тебе заехал! Сиди я дома, так мы бы с тобой за наши денежки вдоволь понатешились!
IV Осенние вечера
Вступление
Дедушка мой, Лаврентий Алексеевич Закамский, вступил в службу еще в начале царствования Екатерины II. В старину весьма немногие из родовых дворян начинали свое служебное поприще в звании канцеляристов и губернских регистраторов: обыкновенно все дворянские дети поступали почти со дня своего рождения на службу в царскую гвардию, то есть они записывались в полки солдатами и, разумеется, считались в отпуску; но их служба шла своим чередом. Этих заочных солдат производили в ефрейторы, ефрейт-капралы, каптенармусы и даже сержанты. По милости этого обычая Лаврентий Алексеевич явился также на службу лейб-гвардии в конный полк не солдатом, а старым ефрейт-капралом. Прослужив с лишком двадцать лет офицером, дедушка мой вышел наконец в отставку полковником и отправился на житье в свою наследственную пензенскую отчину. Лаврентий Алексеевич нашел в ней развалины господского дома, обширный фруктовый сад, который служил выгоном для дворового скота, сотни две крестьянских изб, ветхую деревянную церковь и царское кружало, то есть кабак. Вокруг этого питейного дома всегда по праздникам и очень часто по будням толпились православные, вероятно потому, что тут бывали мирские сходки, на которых в старину все дела оканчивались обыкновенно общей попойкой. Разумеется, Лаврентий Алексеевич отвел другое место для народных совещаний, выгнал из сада коров, начал строить высокие хоромы с бельведером и заложил каменную церковь. Потом принялся хозяйничать: выстроил винокуренный завод для дохода, завел псовую охоту ради потехи и музыку, я думаю, для того, чтоб не даром кормить своих дворовых людей, которых значилось у него, по ревизским сказкам, без малого двести душ; одним словом, мой дедушка исполнил в точности всю обязанность богатого помещика тогдашнего времени, то есть покутил порядком смолоду, послужил верой и правдой матушке царице, прожил на службе третью часть отцовского имения и приехал наконец доживать свой век барином в то самое наследственное село, где он родился, провел свои детские годы и певал некогда по воскресным дням на клиросе вместе с дьячком, у которого учился грамоте. В одном только дедушка не последовал примеру большей части помещиков, живущих на покое: он завелся всем дворянским хозяйством, только не выбрал себе по сердцу хозяюшки. Впрочем, Лаврентий Алексеевич вовсе не жалел об этом. Он любил дочь своего брата, то есть мою покойную мать, как не всякий отец любит свое родное дитя. «Да на что бы я женился? — говаривал он всегда, обнимая племянницу. — Что, у меня семьи, что ль, нет? Пусть себе говорят, что я старый холостяк, бесплодная смоковница, — вздор, вздор, матушка! По милости божьей у меня есть и дочь, и сын, и даже внучек!» — прибавлял он всегда, целуя меня в маковку.
Мне не было еще и десяти лет, как я остался круглым сиротою на руках моего дедушки. Он с такой нежной заботливостью пекся о моем воспитании, так нянчился со мною, что его не грешно было назвать не только вторым отцом моим, но даже моей второй матерью. Когда я подрос, он отвез меня в Петербург и записал в один из гвардейских полков юнкером. Сдав меня с рук на руки полковому командиру, который был некогда его сослуживцем, Лаврентий Алексеевич отправился назад в свою пензенскую отчину. Меня произвели в офицеры за несколько дней до выступления гвардии в поход против всей Западной Европы, которая в 1812 году, как необъятная громовая туча, налегла на святую Русь. Мне очень хотелось показаться дедушке во всей красоте моего обер-офицерского звания, но это желание не могло исполниться прежде окончания войны. Вот наконец увенчанные лаврами храбрые гвардейские полки возвратились в Петербург, я взял отпуск и поскакал на перекладных в Тужиловку — так называлось село, в котором жил мой дедушка. Это было в глубокую осень, в самую ужасную слякоть и распутицу. И зимой деревенский быт не много имеет приятностей, но в дурную, дождливую осень эта однообразная жизнь превращается в какое-то тюремное заключение, которое становится под конец совершенно несносным. Прогуливаться по колено в грязи вовсе не весело, прокатиться под дождем также большой забавы нет. А эти туманные небеса, этот ленивый осенний дождь, который не идет, а капает с утра до вечера, эти ранние вечера, бесконечные темные ночи — все это наведет на вас такую тоску, что вы поневоле станете завидовать суркам, которые спят по нескольку месяцев сряду. Конечно, для псовых охотников и эта глухая пора имеет свою прелесть. Сначала они охотятся в узерку, а там, при первом снеге, тешатся по пороше, и время проходит для них если не всегда приятным, то, по крайней мере, совершенно незаметным образом. Мой дедушка держал псовую охоту; но по своим летам и хворости не мог уже выезжать в поле иначе, как в хорошую погоду. К счастию, у него было много добрых соседей, которые посещали его ежедневно и даже гостили по нескольку дней сряду.
Мой приезд очень обрадовал дедушку; он несколько раз принимался обнимать меня, называл своим красавцем, молодцом и когда налюбовался мною досыта, то представил меня своим гостям, из которых многие знали меня еще ребенком.
— Вот, господа, — сказал Лаврентий Алексеевич, — нашего полку прибыло. Мы, Володя, — продолжал он, обращаясь ко мне, — рассказываем по вечерам друг другу сказки, то есть не «Бову Королевича», а вот, знаешь, этак разные истории, всякие были; ну, конечно, иногда и небылицы. Да ведь делать-то нечего — осенние вечера долговаты, и коли станешь все на одной правде выезжать, так далеко не уедешь. Вот сегодня вечером, как ты поотдохнешь, мы посмотрим и твоей удали.
Я отвечал дедушке, что я весьма плохой рассказчик и едва ли буду в состоянии отправить мою очередь.
— Да кто тебе говорит об очереди? — прервал Лаврентий Алексеевич. — Мы все после чаю вплоть до самого ужина сидим вместе, беседуем, болтаем кой о чем… придет что-нибудь к слову, милости просим — рассказывай; не придет — так молчи и слушай других. У нас неволи нет.
Прежде чем я начну пересказывать вам, любезные читатели, о том, что слышал на этих вечерних беседах, мне должно вас познакомить с обществом, которое я нашел в доме моего дедушки. У него на этот раз гостили следующие соседи: Игнатий Федорович Кучумов, Сергей Михайлович Онегин со своей женою, Максим Степанович Засекин, Александр Дмитриевич Кудринский, Богдан Фомич Бирман и княжна Палагея Степановна Задольская. Я начну по порядку.
Отставной секунд-майор Игнатий Федорович Кучумов, старинный приятель и сослуживец моего дедушки, был самым близким его соседом; он очень походил на Лаврентия Алексеевича своим образованием, простодушием и веселым нравом. Игнатий Федорович был некогда женат на окрещенной турчанке, которую ему удалось спасти от смерти при взятии Измаила. Прожив с нею лет десять, он овдовел и остался совершенным сиротою. Детей у него не было, близких родных также, а был какой-то внучатый племянник, который жил в Москве; он навещал только изредка своего дядю и, вероятно, как единственный его наследник, возвращался всегда в Москву с душой, исполненной прискорбия: Кучумов был человек приземистый, плотный, краснощекий и, несмотря на свои седые волосы, такой здоровый старик, что, глядя на него, всякий наследник пришел бы в отчаяние. Такие люди, как он, живут обыкновенно за сто лет, а ему было только с небольшим семьдесят.
Сергей Михайлович Онегин был из числа новых соседей моего дедушки. Он не более пяти лет как переселился из Москвы в свою Засурскую деревню, и говорят, будто бы у него были на это весьма уважительные причины. Онегину досталось после отца очень хорошее дворянское состояние; но, к несчастию, ему вздумалось побывать за границею, а потом прожить несколько лет в Москве истинно по-барски. Три зимы сряду он давал роскошные пиры, дивные балы и чудесные маскерады, одним словом, веселил всю Москву, которая, как водится, и спасибо ему за это не сказала. Вот наконец пришла четвертая зима, но она уж не застала Онегина в Москве. Несмотря на свое необдуманное мотовство и неуместную тороватость, эту довольно общую слабость всех русских дворян, Сергей Михайлович был человек вовсе не глупый; наружность он имел весьма приятную, и хотя ему было, конечно, лет за сорок, однако ж он вовсе не казался пожилым. Супруга его, Наталья Кирилловна, была также очень приятная женщина: стройная, прекрасная собою и, разумеется, большая щеголиха; в этом отношении она была для всех молодых барынь нашего Городищенского уезда настоящей модной картинкой. Мы все любили Онегиных за их ласковый и приветливый обычай; конечно, и они имели свои слабости: муж при всяком удобном случае и даже иногда вовсе некстати рассказывал о своих московских балах, а жена очень часто говорила о том, что они прожили шесть месяцев в Париже. Впрочем, это простодушное хвастовство Сергея Михайловича не обижало никого, а маленькое чванство Натальи Кирилловны казалось даже всем очень естественным. Разумеется, теперь, когда путешествие за границу сделалось совершенной пошлостью, никто не станет этим хвастаться; но лет тридцать тому назад как-то нельзя было взглянуть без особенного уважения на человека, который побывал в Париже. Да если сказать правду, так я сам в старину не упускал случая намекнуть, что для меня Париж не диковинка, что я часто посещал Большую оперу, ходил каждый день в «Cafe de mille colonnes» и знаю Пале-Рояль как мои пять пальцев.
Максим Степанович Засекин чаще всех посещал дедушку, и хотя деревня, в которой он жил, была только в десяти верстах от нашего села, однако ж он нередко гостил недели по две сряду у Лаврентия Алексеевича. Засекин был человек пожилой, дородный, неуклюжий, с полным, широким лицом, на котором изображалось всегдашнее спокойствие, беспечность и даже лень; но когда он начинал говорить о чем-нибудь с одушевлением, то это полусонное лицо становилось очень выразительным. Увидя в первый раз Максима Степановича, вы, верно бы, подумали, что он человек угрюмый, а он был превеселого характера, только эта веселость выражалась совершенно особенным образом: он почти всегда с преважным видом рассказывал пресмешные вещи и очень часто рассуждал шутя о вещах вовсе не шуточных. Засекин служил два трехлетия нашим уездным предводителем; его любили все дворяне, как отлично доброго и честного человека, но весьма немногие из них догадывались, что под этой тяжелой и неуклюжей оболочкой простодушного добряка скрывался ум истинно светлый и вовсе не дюжинный. Может быть, в наше время ясный и положительный ум Максима Степановича показался бы мелочным и не способным ни к чему высокому и прекрасному; но лет тридцать тому назад мы были до того отсталыми, что уважали этот пошлый здравый смысл. Теперь мы не то, — теперь нам давай поэзию. Мы ищем ее везде: в остроге, в кабаках, во всякой грязной луже; а так как этот грубый здравый смысл не усыпает никогда зловонной грязи цветами, и называет все по имени, и стоит в том, что отвратительное не может быть прекрасным, так мы его, голубчика, и знать не хотим.
Александр Дмитриевич Кудринский принадлежал также к числу новых соседей моего дедушки. Он служил несколько времени по ученой части и, чтоб получить диплом на звание доктора философии, ездил в Германию. Александр Дмитриевич был один из самых усердных слушателей известного профессора Окена, весьма прилежно изучал немецкую философию и, по особенной милости божией, возвратился в Россию не вовсе полоумным. В Германии он женился на дочери какого-то профессора всеобщей европейской статистики, науки также чрезвычайно любопытной, но уж, конечно, вовсе не положительной. Кудринский, прощаясь со своим тестем, обещал ему доставить самые подробные статистические сведения о России вообще и о Пензенской губернии в особенности. И надобно отдать справедливость Александру Дмитриевичу: он несколько лет очень усердно занимался этим делом. Его статистические таблицы Городищенского уезда были уже совершенно окончены; но по случаю всеобщего ополчения, скотских падежей и пожаров, которые истребили две фабрики и несколько винных заводов, эти таблицы сделались до того неверными, что он, как человек добросовестный, решился оставить их без всякого употребления, тем более что, по последним известиям, его тесть отдал в приданое за второй дочерью свою кафедру всеобщей европейской статистики, а сам начал преподавать теорию эстетики, основанной на одних началах чистой психологии.
Я уж имел честь вам докладывать, что Кудринский, изучая немецкую философию, не вполне утратил свой русский толк, то есть не превратился в какого-нибудь глубокомысленного гелертера, в устах которого самая простая и доступная истина, бывшая до того «светлее дня», становится непременно «темнее ночи»; но я должен вам сказать, что Александр Дмитриевич вывез кой-что из этой романтической и сантиментальной Германии. Он любил мечтать, страдал иногда припадками необычайной чувствительности, часто говорил о мире невещественном и вообще весьма охотно облекал в пиитические образы и людей и предметы, вовсе не достойные этой чести. В его глазах энергический разбойник никогда не был отвратительным душегубцем. Конечно, он не во всяком уличном воришке видел драматического Обелино или благородного Карла Моора, однако же говорил с чувством сострадания об этих несчастных жертвах сильных страстей. Чтоб познакомить вас вполне с Александром Дмитриевичем Кудринским, я скажу вам несколько слов о его наружности. Он был роста среднего, худощав, бледен, примаргивал немного левым глазом и имел привычку поправлять беспрестанно свой огромный галстух, который спереди закрывал у него весь подбородок, а с боков подымался до самых ушей.
Богдан Фомич Бирман был некогда штатным медиком нашего Городищенского уезда. Дослужась до чина надворного советника, он вышел в отставку, купил себе маленькую деревеньку в двадцати верстах от нашей Тужиловки и зажил помещиком. Богдан Фомич был родом из немецкого города Швейнфурта; он выехал оттуда с лекарским дипломом, прожил у нас в губернии без малого сорок лет, совсем обрусел, стал называться вместо Готлиба Богданом и выучился говорить по-русски так правильно и хорошо, что его почти грешно было назвать немцем. Не знаю, потому ли, что Богдан Фомич не мог с первого раза примениться к русской натуре, или по другой какой причине, но только сначала он был как-то несчастлив на руку; потом стал лечить удачнее, понаторел и наконец сделался весьма искусным практиком. Старик Бирман был человек очень добрый, и если иногда лечил неудачно, так, по крайней мере, всегда самым добросовестным и бескорыстным образом; бедных людей он пользовал даром, а богатых лечил тогда только, когда находил это совершенно необходимым. Богдан Фомич был небольшого роста, лысый старичок лет шестидесяти пяти, довольно толстый, с коротенькими ножками, длинным носом и вечно улыбающимся лицом, которое я назову просто красным, потому что не могу употребить грамматической превосходной степени и назвать его прекрасным, не введя в заблуждение моих читателей. Богдан Фомич любил выпить рюмочки две-три доброго рейнвейна, не чуждался также хорошей русской настойки и хотя называл диету лучшим лекарством от всех болезней, однако ж сам кушал весьма исправно. Он был очень разговорчив, часто вспоминал о своей родине и в особенности любил рассказывать о гражданских подвигах своего дяди, почетного бюргера и члена магистрата Генриха Блюдвурста, которого, по словам Богдана Фомича, все жители благополучного города Швейнфурта называли премудрым Соломоном.
Княжна Палагея Степановна Задольская славилась некогда своею красотою; приданого было за ней около тысячи душ; все родство состояло из людей чиновных, знатных и богатых. Как бы, кажется, после этого не найти себе мужа? Найти! Да я думаю, что при всех вышесказанных обстоятельствах ей вовсе не нужно было искать себе жениха, они от нее не прятались, и она смело могла бросить платок первому молодцу, который пришел бы ей по сердцу, тем более,
Что женихи, как на отбор,
Презнатные катили к ней на двор.
Вы, верно, знаете Разборчивую Невесту Крылова, так мне нечего вам рассказывать, по какому случаю эта знатная и богатая красавица не вышла ни за кого замуж. У Крылова Разборчивая Невеста кончила тем, что обвенчалась с каким-то уродом; но наша княжна, которая также распугала всех своих женихов, не решилась, однако ж, выйти замуж за одного кривого и лысого камергера, который посватался за нее, когда ей стукнуло ровно сорок лет. Княжна Палагея Степановна принадлежала ко двору императрицы Екатерины II и до самой ее кончины жила в Петербурге. Сначала она переехала было на житье в Москву, но эта древняя столица со своим простодушным русским гостеприимством и старыми обычаями могла ли понравиться женщине, которая в последнее время жила постоянно в кругу французских эмигрантов, лично была знакома с Дидеротом и привыкла к самой утонченной европейской роскоши. В наше время княжна Палагея Степановна не стала бы долго думать — сейчас в Петербург, на пироскап, и поминай как звали! Но тогда поездка в чужие края называлась путешествием, а не прогулкой; да и что бы стала делать наша княжна за границею? В Италию еще никто не ездил, в Германии она умерла бы со скуки, а во Францию вовсе не было езды: там бушевала первая революция, и вместо пленительных дюшесс, очаровательных дюков и милых маркизов, которые все разлетелись по Европе, как пестрые бабочки, княжна Палагея Степановна нашла бы в Париже одних диких зверей в человеческом образе — неистовых трибунов черни и этих буйных, отвратительных рыбных торговок, которых бог знает почему называют женщинами. Княжна Задольская приехала в Москву к концу лета, то есть в самую глухую пору. Она промаялась в совершенном одиночестве всю осень; вот наступила зима, московские бояре прибыли из своих деревень, и первый бал, на который была приглашена наша княжна, сделал ее навсегда соседкою моего дедушки. На этом бале она увидела в первый раз всю московскую знать: сам хозяин и все мужчины были в мундирах, дамы разряжены в пух, и тут же вместе с ними толкались дураки в оборванных французских кафтанах и шутихи в запачканных робронах; в комнатах стояла позолоченная мебель, и в то же время во всех люстрах горели сальные свечи. Княжна ахнула от ужаса! Но это было еще начало сюрпризов. В бальной зале, довольно тесной, принялись танцевать; хозяин, поглядев несколько времени на танцы, велел себе подать небольшие клавикорды и заиграл на них:
Заря утрення взошла,
Ко мне Машенька пришла.
Княжне сделалось дурно. В одиннадцатом часу подали ужин; после ужина принялись опять танцевать. В половине двенадцатого хозяин взял у одного из музыкантов валторну и затрубил таким нелепым образом, что княжна чуть не умерла от испуга; впрочем, эта повестка убираться восвояси испугала только нашу петербургскую барышню. Все гости преспокойно раскланялись с хозяином и отправились по домам. Возвратясь с балу, княжна Палагея Степановна надела свой пудремант и стала рассуждать следующим образом, по крайней мере, она сама так рассказывала: «Да с чего я взяла, что живу в столице? Да эта столица хуже всякой мордовской деревни! Нет! Завтра же вон из этой фатальной Москвы! Уеду в мое Краснополье; там, по крайней мере, я не обязана буду сидеть с сальными свечами, и уж, верно, никакой сосед не осмелится выгнать меня таким брютальным образом из своего дома». Сказано и сделано. На другой же день княжна Задольская села в дорожную карету и отправилась в Пензенскую губернию. Не знаю, полюбилась ли Палагее Степановне эта единообразная, но тихая и спокойная деревенская жизнь или по каким-нибудь другим причинам, только она жила уже осьмнадцатый год безвыездно в своем Краснополье — прекрасном и богатом селе верстах в тридцати от нашей Тужиловки. Княжна Палагея Степановна очень любила Лаврентия Алексеевича, который был с нею знаком тогда еще, когда она кружила всем головы; я не поручусь даже, что в числе этих пострадавших голов не досталось слегка и голове моего дедушки, по крайней мере, Лаврентий Алексеевич был всегда необычайно любезен со своей сиятельной соседкою. Я не смею сказать утвердительно, что дедушка за нею волочился, а ухаживать очень ухаживал, и когда принимался нам рассказывать о ее дивной красоте, то приходил в такой восторг, что глаза у него блистали, как у молодого человека. Хотя княжна Задольская решилась под конец сделать некоторые изменения в своем туалете, то есть перестала наклеивать себе на лицо бархатные и тафтяные мушки, вместо фижм стала употреблять маленькие бочки, однако ж носила еще длинный шиньон, пудрила свои седые волосы, и каждый день… ну, право, совестно сказать! а делать нечего, — «Шила в мешке не утаишь», — говорит русская пословица, — Палагея Степановна, несмотря на то что ей было лет семьдесят, каждый день румянилась. Она любила также иногда пожеманиться и, чтоб казаться интересною, ужасно коверкала русский язык. Хвалила тражедии господина Волтера или рассказывала, что ее укусила муха, которая мед делает. Конечно, это было довольно смешно; но кто бы не простил доброй княжне этих маленьких странностей: она была такая милая, гостеприимная старушка, так умела обходиться с людьми и обласкать всякого человека, что все дворяне Городищенского уезда, начиная от самых богатых до самых мелкопоместных, были от нее совершенно без ума.
Теперь, когда я познакомил вас, любезные читатели, с моим дедушкою и со всем его обществом, мне следовало бы описать вам самого себя; но как же это сделать? Во мне много слабостей, недостатков, быть может, много и смешного — лгать я не хочу, а на самого себя подымать руки мне и подавно не хочется. Нет, уж лучше помолчать об этом! Впрочем, любезные читатели, вы можете думать, что я очень умный, чрезвычайно образованный, прекрасный собою и даже предобродетельный молодой человек, — и за это на вас гневаться не стану.
Вечер первый
Мы все сидели вокруг стола, посреди которого кипел гостеприимный русский самовар. Наталья Кирилловна Онегина разливала чай, а муж разговаривал о чем-то вполголоса с Максимом Степановичем Засекиным, Александр Дмитриевич Кудринский казался погруженным в глубокие размышления, Игнатий Федорович Кучумов допивал свою огромную чайную чашку, княжна Задольская кушала чай из своей миниатюрной саксонской чашечки, я, как человек походный, пил чай из стакана, а Богдан Фомич Бирман и дедушка курили трубки. Я должен вам сказать мимоходом, что они не всегда пользовались этим правом; сначала княжна Палагея Степановна не могла выносить табачного запаха; но, видно, под конец обоняние ее несколько притупилось, и она разрешила Лаврентию Алексеевичу и Бирману курить при пей табак, но только непременно с серальскими благовонными лепешками, которых запах был для нее не противен.
Пересказывая чей-нибудь разговор, а особливо если в нем участвует целое общество, мы поневоле должны очень часто называть по именам разговаривающих и сверх того повторять беспрестанно: такой-то сказал, такая-то отвечала, он возразил, она подхватила; чтоб избежать этих вовсе не нужных повторений, я решился, за исключением отдельных рассказов, облечь в драматическую форму все остальные разговоры нашего общества.
Лаврентий Алексеевич (вытряхивая свою трубку). У, батюшки!.. Слышишь, Игнатий Федорович?
Кучумов. Да, это уж не осенний дробный дождичек — так и льет как из ведра!
Лаврентий Алексеевич. Ну, завтра, чай, и проезду не будет!.. Эх, подумаешь: то ли дело наш батюшка русский мороз!
Онегина. Ах, Лаврентий Алексеевич, да что хорошего в нашем морозе?!
Лаврентий Алексеевич. Нет, матушка, — хорошо!
Онегина. Вы это говорите потому, что никогда не бывали за границею.
Кучумов. Как не бывать! Мы с Лаврентием Алексеевичем и в Польше были, и под шведа ходили…
Онегина. Да что такое Польша и Швеция? Вот если б вы знали, какой климат в Париже…
Я. Извините, Наталья Кирилловна, я сам был в Париже: там почти всю зиму точно такая же погода, как у нас теперь; так, воля ваша, и по-моему, мороз гораздо лучше.
Онегин. А я, признаюсь, люблю подчас дурную погоду: она возбуждает во мне, разумеется при некоторых условиях, всегда приятное чувство; да вот хоть теперь: на дворе света божьего не видно, холод, непогодица, слякоть, а я и знать этого не хочу, сижу себе в теплой комнате, в приятном обществе, мне и светло и спокойно…
Кудринский. Фуй, какое эгоистическое чувство! И вы можете им наслаждаться?
Онегин. Да почему же нет?
Кудринский. Вам спокойно и тепло, так вы ничего и знать не хотите; а каково тем, которые теперь на открытом воздухе?
Онегин. Ну, разумеется, хуже моего; да разве я в этом виноват?
Кудринский (с горькой улыбкою). О, конечно, нет! Вы даже и в том не виноваты, что живете в чистом и опрятном доме, а ваши крестьяне — в грязных лачужках.
Засекин. Да, кажется, Александр Дмитриевич, и ваши мужички-то живут не в хоромах?
Кудринский. Ах, не говорите! Как подумаю об этом, так у меня сердце вот так и разрывается!
Засекин. То есть вам совестно? Верю, батюшка, верю! Эх, Александр Дмитриевич, вот то-то и есть: зачем вы построили себе такие барские хоромы?
Кудринский. Как зачем?
Засекин. Разумеется! Уж если вам не под силу выстроить для каждого крестьянина хорошенький домик, так вам бы, сударь, и самим жить в такой же курной избе, в каких живут ваши мужички. А то, помилуйте! вы живете по-дворянски, они по-крестьянски, — ну, на что это походит?
Лаврентий Алексеевич. Да что вы, господа, о курных-то избах говорите; потолкуйте-ка об этом с мужичками! Вот я хотел было завести у себя на селе побольше белых изб с трубами, так мои крестьяне так и завопили! В белых, дескать, избах и угару не оберешься, и тепло не держится, и то и се…
Кудринский. Да отчего они это говорят?
Лаврентий Алексеевич. Это уж, батюшка, другое дело. У нас речь идет о том, что коли наши мужички сами любят жить в курных избах, так отчего ж вашему сердцу разрываться?
Кудринский. Да если русские крестьяне восстают против всякого улучшения, так не должны ли мы стараться…
Засекин. Чтоб наши мужички жили не хуже немцев? Конечно, как об этом не стараться. Да только не прогневайтесь, батюшка, и это также другая речь. Что будет вперед, про то знает господь, а покамест наш крестьянин потягивает с наслаждением свою русскую брагу, так что ж нам плакать о том, что он не пьет английского портеру? Вот, примером сказать, если б человека образованного, который привык ко всем удобствам жизни, заставили насильно жить в какой-нибудь курной хате, так, конечно, о нем можно было бы пожалеть.
Онегин (вздыхая). Ах, да, это правда! Кто жил некогда с большой роскошью и умел пользоваться своим богатством, для того бедность ужаснее всего на свете.
Княжна Задольская. Конечно, конечно! Для этого нужна большая резиньяция. Ах, как подумаю, сколько я видела таких несчастных!
Лаврентий Алексеевич. Где, Палагея Степановна?
Княжна Задольская. В Петербурге, во время французской эмиграции. Представьте себе, какой-нибудь шевалье, граф, маркиз, у которого в Париже была прекрасная отель, несколько наследственных замков, должен был, чтоб не умереть с голоду, идти в гувернеры, то есть учители! Впрочем, надобно сказать правду, эти благородные иностранцы не могли пожаловаться на Россию: их тотчас разбирали по рукам.
Засекин. Вот что! Так, видно, эти эмигранты были всё люди ученые?
Княжна Задольская. Ну, этого сказать нельзя. Французские дворяне были вообще очень вежливы, милы, любезны; но что касается до учености, так я слышала, что сам знаменитый дюк де Ришелье, который переписывался с Волтером, был человек вовсе не ученый и даже худо знал французскую орфографию.
Засекин. Так почему ж их так охотно брали в учители?
Княжна Задольская. Ах, Максим Степанович! Да как же можно было поступать иначе? Во-первых, этого требовало гостеприимство, а меж тем иметь при своем сыне гувернером графа или маркиза… Помилуйте, да разве это безделица?
Засекин. Правда, правда, сударыня. Виноват, я об этом и не подумал.
Кучумов. А что, матушка княжна, — я чаю, между этими знатными выходцами попадались иногда претеплые ребята?
Княжна Задольская. Теплые?… Я вас не разумею.
Кучумов. То есть этакие, знаете ли, продувные мошенники, самозванцы: ведь тогда в Париже времена-то были смутные! Теперь попытайся какой-нибудь француз назваться графом, так ему всякий исправник скажет: «Пожалуйте-ка, ваше сиятельство, паспорт, да нет ли у вас и других законных документов?» А тогда дело другое: «Ушел, дескать, из тюрьмы в чем мать родила! До паспорта ли, когда мне хотели голову оттяпать?… Унеси только, господи!»
Княжна Задольская. Вы, Игнатий Федорович, напомнили мне престранный случай.
Лаврентий Алексеевич. А что такое, Палагея Степановна?
Княжна Задольская. Так, одно приключение, в котором я играла не очень авантажную ролю. В то время я об этом прималчивала, а теперь уж прошло без малого тридцать лет, так сказать можно.
Лаврентий Алексеевич. Сделайте милость!
Княжна Задольская вынула из кармана свою круглую золотую табакерочку с эмалью, понюхала табаку и начала следующим образом.
Эмигрант
«Я вам сейчас говорила, что положение французских эмигрантов было истинно ужасно: из них многие не имели ни пристанища, ни куска хлеба; но были, однако ж, и такие, которые могли назваться богатыми: одни привезли с собою значительные капиталы; другие, разумеется люди знатные и чиновные, вступили в русскую службу и, по милости императрицы, жили сообразно своему званию. Дюк де Монсо, один из этих знатных эмигрантов, был очень коротко знаком со мною. Ему было шестьдесят два года, по вы никак бы не дали ему этих лет, и надобно сказать правду: я мало встречала таких очаровательных людей, как этот милый дюк. Что за тон, какая манера!.. Ну, точно как теперь смотрю: шитый французский кафтан, стальная шпага, парик а-лёль-де пижон, распудренный о фрима, бриллиантовые перстни на пальцах, золотые брелоки у часов и пуандалансоновые манжеты! А что за ловкость!.. Бывало, закинет ногу на ногу, развалится в креслах, почти лежит! Сделай это другой, так будет невежливо и даже неблагопристойно, а к нему все шло. Начнет ли он играть своей золотой табакеркою или обсыпет табаком жабо и отряхнет пальцами манжеты… Ведь, кажется, ничего, что за важность такая? А посмотрели бы вы, как он это делал! В каждом его движении были такие грасы, такая прелесть!.. О, конечно, в этом отношении прежние французы были неподражаемы!.. Зато уж нынешние — надо отдать им справедливость — хороши голубчики!.. Я бы именным указом запретила им говорить по-французски!.. Какие они французы, бонапартисты проклятые!.. Мужики, грубияны!.. Ну, да что об них!
Однажды поутру заехала ко мне приятельница моя, графиня Прилуцкая, и говорит мне: «Ах, ma chere, какая жалость! У меня был вчера эмигрант, шевалье д'Естеньвиль, что за прекрасный молодой человек! И какой интересный! Представь себе, mon ange: в Париже его везли уж на эшафот; вдруг сделалось на улице какое-то возмущение, народ стал драться с войском; шевалье воспользовался этой минутой, выскочил из экипажа, в котором его везли, и спрятался в лавочке у одного хлебника. К счастию, этот хлебник был тот самый, у которого он покупал всегда крендели и булки; этот добрый человек из благодарности продержал его несколько дней в своем доме, а после помог выехать из Парижа. Пока он пробирался до границы, с ним было множество всяких приключений, и как он об этом рассказывает, ma chere! Теперь он здесь, разумеется, без куска хлеба и хочет войти куда-нибудь в дом учителем… Подумаешь: шевалье д'Естеньвиль, потомок знаменитой фамилии, человек богатый!.. Да, мой друг, у него недавно был великолепный замок в Лангедоке и огромное поместье в Провансе, которое давало ему на одном прованском масле с лишком сто тысяч франков доходу! И вот теперь он ищет места гувернера и готов ехать из куска хлеба в Кострому, в Саратов, в Вятку — куда хочешь!» — «Вот кстати, — сказала я, — мне пишет из Костромы моя кузина, что ей очень нужен французский учитель; так ты попроси своего шевалье д'Естеньвиль, чтоб он завернул ко мне сегодня вечером; мы с ним об этом поговорим».
Надобно вам сказать, что я тогда жила еще во дворце, следовательно, занимала не очень обширную квартиру и обыкновенно принимала гостей в небольшой диванной, за которой была моя спальня. Часов в восемь после обеда, когда я была совершенно одна, доложили мне, что какой-то француз желает меня видеть. Натурально, я догадалась, что это должен быть шевалье д'Естепьвиль, и велела просить его к себе в диванную. Гляжу, входит ко мне молодой человек лет тридцати, весьма приятной наружности: лицо бледное, худое, черные глаза такие быстрые и собой довольно видный мужчина; кафтанчик на нем весьма поношенный, впрочем, хорошего покроя и бархатный; из камзольных карманов висят две золотые цепочки, а под мышкою совсем истертая шляпа, однако ж с плюмажем. Я прошу его садиться — он кланяется; я повторяю мое приглашение — он продолжает кланяться и даже не очень ловко.
— Я, кажется, имею честь говорить с шевалье д'Естеньвилем? — спросила я.
— Oui, madame! — отвечал француз. — Графиня Прилуцкая…
— Да, я просила ее пригласить вас ко мне. Да садитесь, сделайте милость!
Француз еще раз поклонился, окинул робким взглядом всю комнату и сел на кончик табурета, на котором лежала моя болонка.
— Вам здесь неловко, — сказала я.
— О, напротив, мадам, очень ловко! — промолвил француз, продолжая сидеть на хвосту моей Амишки.
Я взяла ее на колени и, поверите ль, — глядя на этого жалкого молодого человека, едва могла удержаться от слез. «Бедняжка! — подумала я. — Он так смущен, что чуть было второпях не раздавил моей Амишки; не знает, куда деваться с руками, смотрит таким странным образом… Боже мой!.. Ну, походит ли этот робкий, неразвязный мужчина на какого-нибудь ловкого французского шевалье?… Вот как бедность и несчастье убивают человека!»
— Мне говорила графиня Прилуцкая, — сказала я, не смея взглянуть на моего гостя, — что несчастные обстоятельства вынуждают вас искать места гувернера…
— Да, княжна, — отвечал француз, — я хочу посвятить себя образованию русских дворян.
— И решаетесь ехать для этого в провинцию?
— С большим удовольствием, и чем дальше, тем лучше.
— Я вас понимаю, — сказала я, взглянув с участием на бедного шевалье. — Если б мне пришлось быть гувернанткой во Франции, то и я также не захотела бы жить в Париже. Я вполне чувствую, как должна быть тяжела для вас эта ужасная деградация; но для чего же вы идете в учители? Почему вам не вступить в нашу службу? Вы еще молоды, происходите от знатного рода, — теперь же в Петербурге много ваших компатриотов, некоторые из них довольно близки ко двору… Почему знать? Может быть, в числе их вы встретите ваших знакомых, приятелей, родных…
— Родных?… О, нет, княжна, они все погибли на эшафоте! Конечно, у меня были очень знатные родственники; вот, например, родной мой дядя дюк де Монсо…
— Что вы говорите? — вскричала я. — Как это счастливо! Ведь дюк де Монсо здесь!
— Здесь! — повторил с ужасом шевалье. — Казимир Эдуард дюк де Монсо?
— Да, да! Казимир Эдуард дюк де Монсо, — сказала я, глядя с удивлением на моего гостя. — Чего ж вы испугались, шевалье? Это ваш дядя…
— И величайший мой враг, княжна! Он убьет меня при первой встрече.
— Убьет своего племянника!.. Что вы, шевалье!
— Непременно убьет!.. Честь французского дворянина — о, мадам, вы не знаете, как это важно.
— Да что ж вы такое сделали?
— Не спрашивайте меня! Но знайте, княжна, что, если он кинется на меня с обнаженной шпагою, я не стану защищаться, а скажу ему: «Вот грудь моя!..»
Тут шевалье размахнул так неосторожно руками, что зацепил за мой тамбурный столик и опрокинул его ко мне на колени; Амишка завизжала, спрыгнула на пол, а шевалье бросился поднимать столик, запутался в ковре и повалился мне прямо в ноги. Признаюсь, я немного испугалась.
— Что ж это значит? — сказала я, когда француз встал и уселся опять на своем табурете. — Да разве вы, шевалье, преступник?
— О, княжна, — отвечал мой гость, — если страстная, пламенная любовь преступление, то, конечно, вы видите перед собой преступника!
Эти слова поразили меня, он же сказал их с таким чувством… Боже мой, преступник от любви!.. Я так много читала об этих преступниках, никогда их не видала, и вот один из них стоит передо мною!.. Надобно сказать правду: я забыла все неловкости моего гостя, и он сделался для меня во сто раз интереснее… Да, да, господа! В эту минуту шевалье показался мне совершенно Сен-Пре!
— Так любовь причиною ваших несчастий? — сказала я, помолчав несколько времени. — Бедный молодой человек!.. Верно, та девица, которую любил ваш дядя, предпочла вас?…
— О, — прошептал француз, — если б она была девица!
— Как, шевалье, так вы были влюблены в замужнюю женщину?
— О мадам, если б она была только что замужняя женщина!
— Ах, боже мой, да в кого ж вы были влюблены?
— Вы хотите знать об этом — извольте, княжна!.. Красота и чувствительность всегда бывают неразлучны!.. Я не боюсь открыть вам эту ужасную тайну: я был страстно влюблен… в жену дюка де Монсо!..
— В вашу родную тетку?
— Да, княжна!.. Теперь вы знаете все! Презирайте меня, выгоните меня из своего дома, но пожалейте обо мне.
Тут шевалье хотел броситься передо мной на колени; но, к счастию, я его удержала; он был в такой пассии, что непременно задавил бы Амишку, которая лежала у моих ног. «Ну! — подумала я. — Конечно, это интересно, очень интересно, только уж слишком по-французски… Родной племянник!.. И что ему сделала моя Амишка? Он решительно хочет умертвить ее!»
Я взяла опять на колени мою собачку и сказала:
— Успокойтесь, шевалье: кто умеет так чувствовать свою вину, того презирать не можно. Но как же узнал об этом ваш дядюшка?
— Ему попалась в руки моя записка.
«Ох, эти записочки! — подумала я. — От них всегда беда!»
— Я долго не решался писать к дюшессе, — продолжал француз, — наконец решился — послал письмо с моим камердинером Франсуа. Это письмо перехватили. Дюк вышел из себя, хотел со мною резаться, но тут подоспела революция, и нас разлучили. Дюк де Монсо эмигрировал, мне также удалось уйти из Парижа, и я, конечно бы, не приехал в Россию, если б знал, что могу здесь встретиться с моим дядею.
Шевалье договаривал еще эти слова, как вдруг дверь отворилась, вошел слуга и доложил мне, что приехал дюк де Монсо. Мой гость побледнел как полотно.
— Я погиб! — вскричал он.
В гостиной послышались шаги.
— Спасите меня! — шептал француз, бегая по комнате как сумасшедший. — Спрячьте меня куда-нибудь!
И прежде чем я успела на что-нибудь решиться, он кинулся ко мне в спальню и прихлопнул за собою дверь. Признаюсь, мое положение было довольно критическое. Конечно, я была уж не в первой молодости, однако ж не дожила еще до тех лет, перед которыми молчит злословие. Боже мой, какие бывают странные обстоятельства в жизни!.. Что бы стали обо мне говорить, если б узнали, что я спрятала к себе в спальню молодого человека, а меж тем я не могла себя ни в чем упрекнуть! Дюк де Монсо вошел ко мне, по обыкновению, с улыбающимся лицом, но, кажется, мое показалось ему вовсе не веселым.
— Что вы, княжна? — спросил он, опускаясь в креслы. — Здоровы ли вы?…
— Да, мне что-то нездоровится, — прошептала я, поглядывая невольно на двери моей спальни.
— Что с вами? Вы так бледны…
— Да, дюк, мне что-то не по себе.
— А вот теперь вдруг покраснели… Да у вас лихорадка… точно лихорадка.
Лихорадки у меня не было, но я чувствовала, что вся горю, как на огне. Да и было отчего: эта скверная треугольная шляпа с плюмажем лежала на полу: вероятно, шевалье обронил ее второпях. «Ну, — подумала я, — теперь надобно на все решиться. Мосье де Монсо непременно увидит эту шляпу и, разумеется, не скажет ни слова; но что он будет обо мне думать!» Меж тем дюк окинул взглядом всю комнату, и вдруг взор его остановился — вы отгадываете на чем?
— О! да вы в самом деле нездоровы! — проговорил он, вставая. — Прощайте, княжна! Я не хочу вас беспокоить, тем более что болезнь ваша очевидна: она в глаза бросается…
— Останьтесь, мосье де Монсо, — сказала я твердым голосом. — Мне нужно поговорить с вами.
— Если вам это угодно, — шепнул дюк, опускаясь снова в креслы, — но я, право, думаю, что вам лучше остаться одной.
— Позвольте вас спросить, — сказала я, стараясь смотреть ему прямо в глаза, — вы не оставили во Франции никого из ваших родных?
— Живых никого, — отвечал грустным голосом дюк. — Я выехал из Франции с моей женою, но имел несчастие потерять и ее: она умерла в Берлине.
— Как же, я слышала, что у вас есть родной племянник?
— Извините, княжна, у меня нет племянника.
— А шевалье д'Естеньвиль?
— Шевалье д'Естеньвиль? — повторил дюк. Он замолчал, понюхал табаку и, отряхая свои манжеты, сказал очень сухо:
— Да, у меня был племянник, шевалье д'Естеньвиль, но он умер на гильотине.
— Правда ли также, — спросила я, — что вы ненавидите этого племянника?
— Кто это мог вам сказать? — перервал дюк, посмотрев на меня с удивлением.
— Мосье де Монсо, — продолжала я, — вы называетесь моим другом, так позвольте же говорить с вами по-дружески. Как бы ни был виноват перед вами шевалье д'Естеньвиль, но он ваш племянник. И то ли теперь время, чтоб вам питать ненависть к родным? Неужели вы не протянули бы ему руки даже и тогда, если б встретили его на чужой стороне, брошенного на произвол судьбы, в бедности, нищете, без всякого покровительства?… Конечно, поступок вашего племянника неизвинителен; но вспомните, дюк, что и вы также были молоды, что и в вашей жизни были также эти безумные годы, когда рассудок молчит, а говорят одни страсти… Позвольте, позвольте! — продолжала я, заметив, что дюк сбирается меня перервать. — Я знаю, что вы хотите сказать: он мог влюбиться в дюшессу, но должен был скрывать эту страсть.
— Что вы это говорите? — вскричал дюк. — Я вас не понимаю, княжна!
— О, вы очень меня понимаете! — сказала я. — Конечно, вы должны находить странным, что я стала с вами говорить о таком деликатном предмете; но когда дело идет о том, чтоб примирить вас с преступным, но истинно несчастным племянником…
— С каким преступным племянником? — перервал дюк. — Позвольте вам сказать, княжна, это уж начинает походить на какую-то мистификацию. Да с чего вы взяли, что шевалье д'Естеньвиль, этот честный и рассудительный малый, был влюблен в свою родную тетку?
— К чему эта скрытность, мосье де Монсо? — возразила я. — Вы видите, я знаю все. Будьте же великодушны — сжальтесь над вашим племянником, простите его!
— Помилуйте, княжна! — сказал дюк. — Да что мне ему простить и на что ему мое прощенье, если б он и в самом деле был виноват передо мною? Я уж имел честь вам докладывать, что моему племяннику отрубили в Париже голову.
— А если вы ошибаетесь?
— Нет, княжна, я не могу в этом сомневаться: я был свидетелем его казни.
— То есть вы видели, как его везли на эшафот?
— И видел и слышал, как эта подлая чернь ругалась над бедным шевалье д'Естеньвилем, называла его чудовищем, уродом… Конечно, мой покойный племянник был необычайно дурен собою…
— Что вы говорите! — сказала я с ужасом.
— Да, княжна, природа была для него совершенной мачехою: он был горбат, крив, небольшого роста…
— Боже мой! — вскричала я невольно. — Так кто же теперь сидит в моей спальне?
— Извините, княжна, — промолвил улыбаясь дюк, — на этот вопрос я отвечать вам не могу; вы это должны знать лучше моего.
— Да этот человек называет себя шевалье д'Естеньвилем и говорит, что он ваш племянник; он вовсе не крив, не горбат и даже весьма приятной наружности…
— В самом деле?… Так, видно, он похорошел после смерти… Это очень любопытно… позвольте, княжна!
Дюк встал, подошел к дверям моей спальни и сказал громким голосом:
— Милостивый государь, не угодно ли вам пожаловать сюда, к нам! Ответа не было.
— Господин шевалье д'Естеньвиль, — продолжал дюк, — если вы не хотите сделать нам эту честь, так мы должны будем позвать людей… Да полноте манериться, любезный племянник, — выходите! — продолжал дюк, отворяя обе половинки дверей. — Прошу сюда, поближе к свету! — примолвил он, схватя за руку и таща за собой моего гостя.
Признаюсь, мне стало жалко, когда я взглянула на этого бедного француза; во всю жизнь мою я не видывала такого испуганного и несчастного лица.
— Что я вижу! — вскричал дюк. — Франсуа!.. Это ты, бездельник?
Вместо того чтоб отвечать на этот ласковый вопрос, француз освободил свою руку, кинулся опрометью вон из комнаты и выбежал из лакейской так проворно, что мои люди не успели оглянуться.
— Да кто же этот господин? — спросила я.
— Слуга или — если вам угодно — камердинер моего покойного племянника, — отвечал спокойно дюк, открывая свою табакерку.
У меня руки так и опустились. Камердинер, слуга!.. И я позволила себя обмануть таким грубым образом!.. Приняла лакея за знатного барина!.. Боже мой, что подумает обо мне дюк?… Вероятно, он заметил мое смущение и, как человек отлично вежливый и умный, сказал мне:
— Я не удивляюсь, княжна, что этот негодяй вас обманул; он очень неглупый малый и получил даже некоторое образование… Но по какому случаю вы сделались его покровительницею?
Я рассказала все дюку; он обещал мне не говорить об этом никому; разумеется, я также молчала и вот только теперь, спустя тридцать лет, решилась рассказать вам эту странную историю. Я не знаю, куда девался мосье Франсуа; но уж, верно, он успел пристроиться к хорошему месту, потому что, сколько я помню, у этого негодяя выговор был самый чистый парижский».
Лаврентий Алексеевич (набивая свою трубку). Ай да молодец мусью! Вот они каковы, французы-то! Совести ни на денежку, да зато и в карман за словом не полезут.
Кучумов. Что и говорить — лихой народ! На иного взглянуть не на что, а как примется врать, так только слушай!
Онегина. О, конечно! Мне иногда случалось в Париже разговориться с каким-нибудь портье или оборванным разносчиком — удивительно!.. Такие начнет отпускать фразы, что поневоле скажешь ему «мосье».
Онегин. Да, это правда. Когда я жил в Москве, так у меня очень часто бывали на балах французские вояжеры, графы, бароны, маркизы, а может статься, и такие же шевалье д'Естеньвили, — кто их знает! У нас дело другое. Вот, например, ваш Пахом, Лаврентий Алексеевич, или мой Терентий — да оденься они хоть по модной картинке, кто их за господ примет?
Кучумов. Это оттого, Сергей Михайлович, что во Франции народ уж такой. Там, говорят, все под одну масть. Ведь свет-то велик, батюшка! В одном месте так, в другом этак. Поговорили бы вы с моим соседом, Иваном Евстафьевичем Курильским; вы знаете, служил он во флоте и ездил по разным морям. Послушаешь его — господи, боже мой, чего-то нет на белом свете, каких обычаев, поверьев! И все это он видел своими глазами.
Онегин. Ну, хоть и не все, Игнатий Федорович! Я этому Курильскому плохо верю. Удалось ему как-то обойти кругом света, так он уж и думает, что может лгать, сколько душе его угодно.
Лаврентий Алексеевич. Да, у него за красным словцом дело не станет.
Засекин. А бог знает, может быть, иногда и правду говорит! Мало ли что нам кажется невероятным потому только, что мы об этом никогда не слыхали. Конечно, он иногда рассказывает такие диковинные вещи, что поневоле вспомнишь книжку «Не любо — не слушай, а лгать не мешай». Да вот на прошлой неделе он был у меня и рассказывал, между прочим, об одном странном обычае, который свято соблюдают на острове Борнео.
Кучумов. А что это за остров, батюшка?
Засекин. Самый большой изо всех островов Китайского моря. Представьте себе: если на этом острове какой-нибудь небогатый человек живет честно и трудится в поте лица своего, то обыкновенно питается круглый год одним рисом, маньоном, бананами и разве только изредка может полакомиться мясцом. Но лишь только этот честный, работающий человек избалуется, сделается мошенником, вором, разбойником, то его тотчас схватят, запрут в тюрьму и начнут кормить каждый день мясом.
Онегин. Какой вздор!
Княжна Задольская. И надобно же иметь медный лоб, чтоб выдумывать такие вещи!
Лаврентий Алексеевич. Да, нечего сказать, — пересолил!
Кудринский. Помилуйте, да что ж тут странного, что добрые люди стараются облегчить судьбу несчастного преступника? Я, по крайней мере, удивляюсь только тому, что такая истинно филантропическая идея могла развиться в Азии, на каком-нибудь острове Борнео, который вовсе не славится своим просвещением. Да, господа, по мне, всякий уличный разбойник, как человек совершенно погибший, достоин всякого сожаления.
Засекин. Так, батюшка, так! Истинно, всякий душегубец достоин сожаления; дело другое человек невинный, которого он уходил; о том чего жалеть: ведь уж его нет на свете.
Кудринский. Вы шутите, Максим Степанович, а я говорю не шутя. Разбойник потому уже достоин сожаления, что он разбойник; все смотрят на него с ненавистью и презрением, он должен вечно томиться в цепях, лишен навсегда свободы, а виноват ли он, бедняжка, что природа дала ему такие неукротимые страсти?…
Засекин. Да, батюшка, да, вы точно правы. Ну, виноват ли бедняжка тигр, что природа дала ему такие острые зубы и длинные когти? Зачем держать его в клетке? Пусть он себе ходит по воле да кушает на здоровье добрых людей.
Кудринский. Ваше сравнение ровно ничего не доказывает, Максим Степанович. Дикий зверь всегда останется зверем: это его природа, его назначение; а человек существо мыслящее: он действует не по животному инстинкту, но по своей свободной воле. Вы с ужасом смотрите на осужденного преступника, но ведь этот закованный в железо преступник был точно таким же человеком, как вы. Он разбойник, а известно ли вам, отчего стал разбойником?… И знаете ли вы, к чему способен этот убийца, если в нем проснется наконец человеческое чувство? Знаете ли вы, что этот же самый разбойник, которого так немилосердно вы называете тигром, решится, может быть, умереть за своего благодетеля?
Онегина. Да, Максим Степанович! И я то же скажу. За границею очень часто бывают такие разбойники.
Засекин. Как же, сударыня, а особливо в немецких драмах; там сплошь да рядом все воры и разбойники пречестные люди.
Онегина. Я не говорю вам о театральных пиесах, Максим Степанович, а о том, что слышала от людей достоверных; вот, например, италианские бандиты…
Засекин. Да-с, в стихах они должны быть очень хороши.
Онегина. Мне рассказывали о них такие удивительные черты великодушия и благодарности.
Засекин. Да ведь это за границею, Наталья Кирилловна; видно, там и разбойники-то почище наших. Впрочем, и со мной был один случай, которого я никогда не забуду, и, если угодно, расскажу вам это приключение.
Лаврентий Алексеевич. Просим покорно, батюшка!
Благодарный вор
«Это было лет двадцать тому назад, — сказал Максим Степанович Засекин, придвигаясь поближе к столу. — Я еще жил тогда в Москве и бывал очень часто у княгини Варвары Алексеевны Линской, которая, прожив лет десять за границею, приехала в Москву повидаться с родными и заложить остальное имение в Опекунский совет. Княгиня Варвара Алексеевна была женщина весьма приятная, страстно любила все изящные художества, слыла большою музыкантшею, говорила отлично по-итальянски, превосходно по-французски и даже очень недурно по-русски; одним словом, она была в полном смысле женщина замечательная. Разумеется, ее общество состояло также из людей недюжинных. К ней езжали все современные знаменитости, артисты, музыканты, писатели, иностранцы, особенно по вторникам — это был ее день. Княгиня жила в огромных палатах на Тверской; ее небольшая прислуга состояла почти исключительно из одних французов, кроме швейцара и метрдотеля, то есть дворецкого. Первый был толстый, тяжелый немец; второй, который, по-видимому, пользовался всей доверенностию княгини и держал себя очень благородно, был какой-то кривой итальянец, впрочем, человек не старый и вовсе не безобразный собою. Из этого описания вы видите, что княгиня Линская жила совершенно на иностранную ногу. Обедать она у себя никого не оставляла; об ужине и речи не было, чаю также не подавали, но зато по вечерам потчевали всех гостей мороженым, и хотя это было зимою, а в обширных комнатах ее сиятельства большого тепла не было, однако ж я помню, что многим очень нравилось это итальянское угощение, тем более что оно вовсе не походило на наше пошлое русское хлебосольство.
Однажды вечером я заехал довольно поздно к княгине; так как это было не во вторник, то я застал у нее всего человек двух или трех гостей, и в том числе одного знаменитого московского философа и поэта, которого я не назову по имени, потому что вы едва ли когда-нибудь о нем слыхали: он трудился вовсе не для потомства, а для одних только дамских альбомов, и, надобно сказать правду, в свое время его мадригалы и триолеты были в большом ходу. Когда я вошел в гостиную княгини, этот поэт говорил с величайшим восторгом о знаменитой Шиллеровой трагедии «Разбойники». Надобно вам сказать, что эта трагедия, переведенная на русский язык господином Сандуновым, имела необычайный успех на московском театре; об ней только и говорили. Я сам не пропускал ни одного представления, и, как теперь помню, когда Карл Моор, получив письмо от брата, вбегает на сцену и говорит с исступлением: «О, люди, люди, порождение крокодила!..» — или когда он клянется над трупом своего отца отомстить его убийце и восклицает: «О ты, возжигающий огнь твой превыше нощи!» — у меня всякий раз так волосы дыбом и становились. Конечно, я и тогда не очень понимал, что такое «возжигать свой огнь превыше нощи», но самый звук этих слов мне так нравился, что я вовсе не заботился о смысле. Одно только мне было не по сердцу: всякий раз, когда я смотрел эту трагедию, преступление и порок переставали мне казаться отвратительными; были даже минуты, что я видел в этих разбойниках каких-то притесненных героев, несчастных жертв людской несправедливости, и, признаюсь, мне до смерти хотелось, чтоб не их перехватало правительство, а чтоб они разбили наголову посланное против них войско. «Нет, — думал я, когда этот драматический чад выходил из моей головы, — лучше, если б Шиллер не сочинял этой трагедии! Ну что хорошего? Я человек тихий, смирный, а вот два часа сряду смотрел с любовью на разбойников и, коли правду сказать, во все это время жил с ними душа в душу».
— Вы видели новую трагедию Шиллера? — спросила меня хозяйка, когда я раскланялся и сел.
— Несколько раз, княгиня, — отвечал я.
— Как она переведена?
— Очень хорошо.
— А что вы об ней думаете?
— Я думаю, что она с большими достоинствами и что ее мог написать только человек гениальный; но я очень жалею, что Шиллер выбрал такой безнравственный и неблагодарный предмет для своей трагедии.
Поэт кинул на меня презрительный взгляд и улыбнулся самым обидным образом.
— Неблагодарный! — повторил он вполголоса. — А почему, сударь, этот сюжет кажется вам неблагодарным?
— Потому, — отвечал я, — что Шиллеру нельзя было представить разбойников в настоящем их виде; они были бы тогда слишком отвратительны и возбудили бы в зрителях одно чувство омерзения; следовательно, он должен был, чтоб облагородить своих героев, наклепать на них добродетели, которые вовсе им не свойственны; а, воля ваша, представлять в пленительном виде злодеев, усыпать цветами гнусный порок…
— А что ж, по-вашему, — прервал стихотворец, — цветами должно усыпать добродетель, что ль? Ведь вы сами, господа моралисты, говорите, что она в этом не нуждается; и что можно сделать из этой бесконечной до-бро-де-тели, которую нельзя даже и в порядочный стих упрятать! Нет, сударь, наш век идет вперед, его требования гораздо выше этого. Давайте нам сильные, необузданные страсти, неистовую любовь и даже порок, лишь только умейте облекать его в пиитическую форму.
— Помилуйте, — сказал я, — да что ж хорошего, если благодаря этой пиитической форме порок будет мне казаться прекрасным?
— Так что ж? — возразил поэт. — В этом-то и заключается великая тайна гениального писателя. Он возьмет кусок скверной грязи, и она в руках его превратится в чистое золото. Возбудить в толпе участие к страждущей невинности, к великодушному человеку, к добродетельной женщине — большая диковинка! Но заставить меня любить злодея, смотреть без отвращения на убийство, грабеж, преступную любовь, одним словом, поэтизировать все то, что мы называем пороком, — вот истинное торжество гениального писателя, этого чародея, который, вопреки нашему рассудку, увлекает нас за собой неизъяснимой прелестью своего таланта!
Я доложил этому восторженному поэту, что совершенно с ним согласен, что представлять в очаровательном виде самые отвратительные людские страсти может только человек гениальный и что морочить до такой степени добрых людей, конечно, дело нешуточное и требующее необычайного таланта; но что нам, то есть людям, стыдно бы, кажется, отбивать лавочку у бедного черта, который также не без дарования и, как всем известно, давно уж занимается этим же самым делом. Хозяйка и другие гости улыбнулись; но, вероятно, моя шутка не очень понравилась господину поэту: он посмотрел на меня ни дать ни взять, как грозный Карл Моор на своего окаянного брата, то есть с глубочайшим презрением, и повернулся ко мне спиною.
— Ваше замечание совершенно справедливо, — сказала княгиня, обращаясь ко мне. — Но я, однако ж, не во всем согласна с вами: я не нахожу, чтоб Шиллер ошибся в выборе своего сюжета. Во-первых, Карл Моор не простой разбойник; при других условиях он мог бы сделаться великим человеком, героем, и если несчастные обстоятельства и людская злоба превратили его в разбойника…
— Нет, княгиня, — прервал я, — не обстоятельства и не людская злоба, а Шиллеру угодно было сделать из него разбойника. Я, по крайней мере, думаю, что такие благородные душегубцы могут только существовать на сцене.
— Извините меня, — сказала княгиня, — это оттого, что вы не имеете понятия о пиитических разбойниках Италии; знаете ли, что эти калабрийские бандиты очень часто напоминают Карла Моора? Да вот хоть известный Фра-Диаволо — слыхали ли вы о нем?
Я признался в моем невежестве.
— Так я вам расскажу, что сделал однажды этот знаменитый разбойник, — продолжала княгиня. — Одна богатая и немолодая уже вдова, графиня Дольчини, жила в своей загородной вилле, недалеко от Портичи. Ей так много рассказывали об этом Фра-Диаволо, который одних грабил, другим сам давал деньги, то показывался под именем знатного путешественника в лучших обществах Неаполя, то в монашеской рясе ходил по деревням и говорил проповеди на площадях и даже, по рассказам весьма достоверных людей, являлся в один и тот же день в Терачино, в Калабрии и в Солерно. Все эти рассказы возбудили наконец в величайшей степени любопытство графини, и она часто говорила, что дорого бы дала, чтоб взглянуть хоть раз на этого Фра-Диаволо.
Однажды после обеда графиня прогуливалась в своем саду; она шла по дорожке, проложенной вдоль стены, которая отделяла ее сад от небольшой оливковой рощи. Вдруг шагах в десяти от нее раздался шум; казалось, что-то тяжелое упало со стены, и почти в ту же самую минуту вышел из-за кустов прямо к ней навстречу молодой человек, высокого роста, очень складный собой, с прекрасным смуглым лицом и черными блестящими глазами. Судя по его национальной калабрийской одежде, он принадлежал не к высшему классу общества; впрочем, этот незнакомец был одет не только щеголевато, но даже с некоторой роскошью. За поясом у него заткнуты были пара пистолетов в богатой оправе и короткий итальянский стилет, то есть трехгранный кинжал. Разумеется, графиня испугалась. «Что вам угодно? — вскричала она. — Зачем вы здесь?» «Я здесь по вашему желанию, экселенца», — отвечал незнакомец, снимая вежливо свою шляпу.
«По моему желанию? Да позвольте узнать, кто вы?» «Меня прежде звали Домиником Лампиери, а теперь зовут Фра-Диаволо».
У бедной графини ноги подкосились от ужаса. «Успокойтесь, синьора, — продолжал разбойник. — Чего же вы испугались? Ведь вы сами много раз говорили, что желали бы меня видеть, не правда ли?»
«Да, — прошептала графиня, — я точно говорила…» «И даже прибавляли к этому, что дорого бы заплатили за то, чтоб взглянуть на этого разбойника Фра-Диаволо. Вот я теперь перед вами — извольте смотреть».
Графиня сняла молча с руки золотой браслет, осыпанный бриллиантами.
«Не трудитесь, синьора, — сказал разбойник, — я не возьму вашего браслета; вы можете мне гораздо дороже заплатить за то, что я исполнил вашу волю».
«Чего ж вы от меня хотите?» — промолвила графиня дрожащим голосом.
«Позвольте мне поцеловать вашу прекрасную ручку, — сказал Фра-Диаволо. — Больше этого я ничего не хочу».
Графиня поглядела сначала с удивлением, а потом с приметным участием на этого милого разбойника, который предпочитал ее сорокалетнюю ручку золотому браслету, осыпанному бриллиантами.
«Ах, синьор Фра-Диаволо, — сказала она, протягивая ему свою руку, — как жаль, что вы разбойник!»
Вдруг за стеною сада раздался свист.
«Как?! — вскричал Фра-Диаволо. — Неужели это Антонио?…»
Вслед за свистом послышался близкий конский топот.
«Маледето! — прошептал разбойник. — Проклятый зевака! Чего ж он думал?… Графиня, — продолжал он, — ваша вилла должна быть теперь окружена жандармами; меня предостерегали… но мне так давно хотелось исполнить ваше желание… Впрочем, что бы ни случилось, а меня не возьмут живого… Прощайте, синьора! И когда бедного Фра-Диаволо не будет на свете, так пожалейте о нем и помолитесь о его душе».
«Нет, — сказала графиня решительным голосом, — я вас не выдам. Вы гость мой. Пойдемте со мною, синьор Фра-Диаволо, и будьте спокойны: эти сбиры не найдут вас».
В самом деле, полицейский чиновник с целым отрядом жандармов обыскал всю виллу, обшарил весь сад и нигде не нашел Фра-Диаволо.
Спустя год после этого происшествия графиня Дольчини ехала из Терачино в Понте-Корво со своим двоюродным братом, синьором Ташинарди. Проезжая одним узким и чрезвычайно диким ущельем, графиня с приметной робостью посматривала во все стороны.
«Уж не боитесь ли вы разбойников, сестрица? — спросил Ташинарди. — Не беспокойтесь, с тех пор как я занимаю место уголовного судьи в Терачино, здесь все тихо. Месяцев шесть тому назад перехватали всю шайку Фра-Диаволо; он сам как-то ускользнул, но жена его попалась к нам в руки».
«Его жена! — повторила графиня. — Бедная женщина!.. Что ж вы с ней сделали?»
«Да то же, что и с другими разбойниками: ее повесили. Конечно, у нее нашлись защитники, но я настоял на этом. Женщина, которая ходила вместе с мужчинами на разбой, не женщина».
Синьор Ташинарди не успел еще договорить этих слов, как вдруг лошади остановились, раздались ружейные выстрелы, кучер слетел с козел, и целая шайка разбойников окружила карету. Разумеется, наших путешественников заставили из нее выйти.
«Графиня Дольчини! — вскричал один высокий и статный мужчина, закутанный в широкий плащ. — Стойте, товарищи!.. Прочь, говорят вам!»
Разбойники, которые принялись было обирать графиню, выпустили ее из рук. Фра-Диаволо — это был он — подошел к ней и сказал:
«Я очень рад, экселенца, что с вами не случилось никакого несчастия. Извольте ехать — вы свободны! Что ж касается до тебя, господин уголовный судья, — продолжал он, устремив сверкающий взор на синьора Ташинарди, — так тебе торопиться нечего; мы еще с тобой поговорим, проклятый убийца моей доброй Лауреты!..»
Синьор Ташинарди хотел что-то сказать, но Фра-Диаволо не дал выговорить ему ни слова.
«Молчи, кровопийца! — сказал он. — Теперь моя очередь быть твоим судьею!.. Извольте ехать, графиня!»
«Синьор Фра-Диаволо! — вскричала графиня. — Он брат мой!»
«Ваш брат? — повторил разбойник. — Этот злодей?…»
«Да, он брат мой!»
Фра-Диаволо задумался; несколько минут продолжалось это ужасное молчание.
«Графиня, — промолвил наконец разбойник, — ваш кучер и слуга убиты, прикажите этому палачу, которого вы называете своим братом, сесть на козлы и везти вас в Понте-Корво: да посоветуйте ему сходить на поклонение к Лоретской божией матери за то, что ему не пришлось на этот раз умирать без покаяния. Прощайте, графиня! — примолвил он, когда синьор Ташинарди, взобравшись на козлы, погнал без ума лошадей. — Кажется, теперь я вполне расквитался с вами».
— Вот, Максим Степанович, — сказала княгиня Варвара Алексеевна, окончив свой рассказ, — видите ли, что и разбойники умеют быть благодарными?
— Вижу, княгиня, — отвечал я, — вижу!
— Много ли вы найдете честных людей, которые поступили бы так великодушно, как этот Фра-Диаволо? Ну, что вы о нем скажете?
— Я скажу, княгиня, что в нем очень много театрального. Прекрасный разбойник!.. А позвольте спросить: вам рассказывала об этом сама графиня Дольчини?
— Нет, я слышала это от хозяина гостиницы, в которой останавливалась, проезжая Терачиио.
«Вот, — подумал я, — иностранцы-то каковы! У них не по-нашему; трактирщики — настоящие поэты; разбойники такие приличные — целуют у графинь ручки!.. Нет, где нам до них!»
Меж тем разговор переменился: стали говорить об италианской музыке. Вот уж тут я сделался совершенно лишним человеком. Я имею несчастие не любить италианской музыки и глупость признаваться в этом публично, конечно, глупость, потому что я сумел бы не хуже всякого прикинуться самым отчаянным дилетанте, то есть кричать: «Браво, браво, брависсимо!» — и корчить превосторженные и преудивительные рожи. Что делать, видно, я так уж создан; и мог бы, кажется, да ни за что не стану удерживаться от зевоты, когда мне хочется зевать. Сначала я слушал довольно спокойно умные речи хозяйки: она только что жалела о тех, которые не понимают всю прелесть италианской музыки; но когда господин поэт заговорил, что этих негодяев нельзя даже называть и людьми, что они бездушные болваны, деревяшки, не способные ни к чему прекрасному, то, признаюсь, я не вытерпел: схватил мою шапку, раскланялся и отправился домой. Я сказал вам «мою шапку», потому что тогда еще не в одних деревнях, а и в столицах носили по зимам теплые собольи и бобровые шапки. Теперь эта ни с чем не сообразная и глупая мода прошла. Когда я сел в мои сани, мне вздумалось погулять. На дворе было светло, как днем; ночь была морозная, лунная, а вы знаете, господа, как весело прокатиться в светлую лунную ночь по нашей матушке Москве белокаменной и посмотреть, как эта русская красавица засыпает понемногу своим богатырским сном. Я приказал моему Ивану ехать за Москву-реку, чтоб посмотреть на Кремль. Покатавшись с полчаса, я отправился домой, то есть на Знаменку. Когда переехал Каменный мост и поравнялся с Кривым переулком, который выходит на Неглинную, мне послышались громкие голоса; кричали: «Караул! Держи, держи!» — и в ту же самую минуту какой-то запыхавшийся человек вскочил на запятки моих саней.
— Что ты? — вскричал я. — Пошел, пошел!
— Батюшка, спасите, — прошептал этот человек, с трудом переводя дыхание, — за мной гонятся!
В самом деле, из переулка начали выбегать люди.
— Гонятся? — повторил я. — Так поэтому ты вор?
— Батюшка, я бедный человек, жена, дети; спасите, бога ради!
— Вот он! Вот он! — раздались в близком расстоянии голоса. — Вот стоит за саньми!.. Держите его, держите!.. Вор!..
Тут пришел мне в голову рассказ княгини Линской. «Дай, спасу и я также этого бедного вора, — подумал я. — Почему знать, может быть, он станет обо мне век бога молить? Уж если этот несчастный отец семейства понадеялся на мое великодушие, так не грешно ли мне выдать его руками?»
— Пошел! — сказал я.
Иван ударил по лошадям, и не прошло полминуты, как мы, поворотив направо по Ленивке, выехали на Знаменку. Когда мы поравнялись с переулком, который идет позади Пашкова дома, вор соскочил с запяток, сорвал у меня с головы бобровую шапку и кинулся бежать. Вот и я также закричал: «Караул! Держи, держи!», но держать было некому да и некого: этот бедный отец семейства шмыгнул на какой-то двор — и поминай как звали!»
Максим Степанович замолчал.
Онегина. Вот уж этого я никак не ожидала! Неужели тем и кончилось?
Засекин. Нет, Наталья Кирилловна, этим не кончилось. Я простудил голову, занемог и целых два месяца был болен.
Лаврентий Алексеевич. Ништо тебе, Максим Степанович. Кабы ты помнил русскую пословицу: «Вора помиловать — доброго погубить», так тебе бы не пришлось покупать новой шапки.
Засекин. Что ж делать, Лаврентий Алексеевич, я и сам после догадался, что больно сплоховал. Ведь княгиня рассказывала мне о разбойнике, а это что? Так, шишимора, уличный воришка!
Кучумов. И, что вы, батюшка! Да, по-моему, разбойник во сто раз хуже всякого вора.
Лаврентий Алексеевич. Эх, любезный, да разве ты не видишь, что Максим Степанович изволит балагурить?
Кудринский. Я не знаю, шутит он или нет; но и мне также кажется, что отъявленный разбойник гораздо способнее ко всякому великодушному поступку, чем какой-нибудь мелочной, ничтожный мошенник.
Княжна Задольская. Да что это, господа, вам за охота говорить о разбойниках? Они надоели мне и в романах госпожи Радклиф. Ну, скажите сами, что в них интересного и можно ли принимать участие в судьбе какого-нибудь убийцы, разбойник ли он или нет?…
Онегин. Нет, княжна, не говорите! Разбойник и убийца — две вещи совершенно различные. Убийцы бывают всякого рода. Например, убийца от любви…
Княжна Задольская. Ох, и это ужасно!
Кудринский. А преступление, сделанное в минуту бешенства, когда оскорбленный не помнит самого себя?
Онегин. А обиженный человек, который убьет своего противника на дуэли?
Кучумов. Или как мой Гриша, который однажды на кулачном бою одного убил, а трех изувечил?
Онегин. Или как покойный мой брат, который на охоте застрелил нечаянно своего приятеля?
Засекин. Или доктор, который даст невпопад лекарство? Ведь умирать-то все равно — от пули или от пилюль!
Лаврентий Алексеевич. Слышишь, Богдан Фомич? Ну, что ты на это скажешь?
Бирман. Да что, Лаврентий Алексеевич: на нас, бедных врачей, всегда нападают. А виноваты ли мы, что люди не бессмертны? Ведь мы не боги, и кому определено умереть, того не вылечишь.
Кучумов. Правда, правда! Всякому есть предел, коего не прейдеши.
Засекин. Конечно, на иного господь пошлет смертельную болезнь, на другого — искусного медика…
Бирман. Смейтесь, Максим Степанович, смейтесь! Теперь вы, слава богу, здоровы, а случись вам занемочь, так без нашего брата не обойдетесь. Кто говорит, и мы также иногда в жмурки играем и ходим ощупью, а все-таки кой-что знаем, чему-нибудь да учились…
Лаврентий Алексеевич. Кстати, любезный! Мне давно хотелось у тебя спросить, что это значит: на моем веку я много знавал докторов — русских очень мало, французов также; куда ни посмотришь, все доктора — немцы. Что ж это, у вас в немецкой-то земле всех, что ль, этой науке учат?
Бирман. Это оттого, Лаврентий Алексеевич, что в Германии много университетов и что в каждом университете есть медицинский факультет, то есть класс, в котором преподают медицину, и в нем обыкновенно слушателей бывает несравненно более, чем в других факультетах.
Лаврентий Алексеевич. Отчего же это, батюшка?
Бирман. Да оттого, Лаврентий Алексеевич, что до сих пор не было еще примера, чтоб доктор медицины умер с голоду, а доктора прав, философии, математики и разных других наук частехонько сидят без куска хлеба.
Онегин. А что, Богдан Фомич, правда ли, говорят, что в Германии получить лекарский диплом вовсе не трудно?
Бирман. Нет, Сергей Михайлович, столько хлопот, что не приведи господи! У меня был приятель, который слушал курс медицины в Геттингенском университете, кажется, он не хуже был других, а насилу добился, чтоб ему позволили практиковать, да еще с каким условием!.. Правда, тут было особенное обстоятельство… Да вот, если угодно, я вам расскажу историю моего приятеля.
Лаврентий Алексеевич. Расскажи, любезный, а мы послушаем.
Богдан Фомич положил к стороне трубку, откашлялся и начал свой рассказ следующим образом.
Лекарский диплом
«Мой приятель, которого называли Готлибом, был так же, как я, родом из города Швейнфурта. Готлиб ходил еще в школу, когда умер его отец; вскоре потом он лишился матери, и то, что досталось ему после их смерти, уж, конечно, нельзя было назвать состоянием. Проживши кое-как до двадцати лет, Готлиб смекнул наконец, что ему скоро придется умирать голодной смертью. Вот он пошел к члену швейнфуртского магистрата достопочтенному господину Блюдвурсту и стал просить у него совета, что ему делать: заняться ли каким-нибудь ремеслом или идти по ученой части?
— Я присоветовал бы тебе, — сказал господин Блюдвурст, — заняться каким-нибудь ремеслом: ученых в Германии и без тебя много; да ты поздно хватился: тебе уж двадцать лет, а скоро ли ты попадешь не только в мастера, но даже в подмастерья? Делать нечего, ступай в университет, да только вот мой совет: учись там чему-нибудь дельному, а пуще всего не пленяйся философией; я заметил, что эта наука идет впрок только тем, которые обладают природным даром говорить очень много, и говорить так, что их сам черт не поймет. Ты человек не глупый, и в тебе есть толк, да речь-то у тебя простая; парень ты вовсе не затейливый и, верно, не сумеешь доказать, что дважды два пять или что бытие и небытие одно и то же, так уж, верно, никогда не добьешься кафедры, а без кафедры профессор все то же, что граф без графства: чести много, а есть нечего. Ступай-ка лучше по медицинскому факультету; будешь лекарем, а может статься, и доктором. Не дадут тебе места в университете, так что ж: у тебя больные останутся, и коли бог поможет тебе вылечить какого-нибудь известного человека, так ты и пошел навсегда в люди.
Разумеется, Готлиб поблагодарил за благой совет господина Блюдвурста, простился с ним и отправился пешком в Геттинген. По милости декана медицинского факультета господина Гешволенгана, к которому Готлиб имел рекомендательное письмо, приятель мой без всяких затруднений поступил в число своекоштных студентов университета. Сначала все шло наилучшим образом: Готлиб учился прилежно, жил смирно, не обижал филистимлян, — так называют немецкие студенты всех граждан, не имеющих ничего общего с университетом, — не буянил, не выходил ни с кем на дуэль и по воскресным дням выпивал только по одной кружке пива. Все это весьма не нравилось его товарищам, но зато профессоры были им очень довольны, и даже сам ректор университета господин Бухфресер решился наконец, не в пример другим, пригласить его к своему обеденному столу. Кому пришло бы в голову, что эта высокая честь будет причиной всех неудач и бедствий моего злосчастного приятеля? Когда он вошел в гостиную комнату господина ректора, его глазам представилось такое поразительное зрелище, что он, конечно, и до сих пор не может вспомнить об этом без сердечного трепета. В широких кожаных креслах покоился от своих ученых трудов высокоименитый господин Бухфресер, без парика, в ситцевом халате и шерстяных вязаных туфлях. В одной руке держал он огромную пенковую трубку, другая была вооружена кожаной хлопушкою, которою он бил нещадно мух. С правой его стороны, в домашней кофточке и зеленом наглазнике, сидела достопочтенная госпожа Бухфресер и вязала бумажный колпак, вероятно для своего мужа. Вы скажете, может быть, что в этой семейной картине не было еще ничего особенно поразительного — о, конечно, но на первом плане этой картины стояла дочь господина Бухфресера, девица Шарлотта. Господи, боже мой!.. Как подумаешь, родятся же такие красавицы! Представьте себе томные голубые глаза, длинные ресницы, розовые щечки, пунцовый ротик и мягкие, как шелк, с золотистым отливом локоны, которыми, однако ж, мой приятель любовался уж впоследствии, потому что на этот раз Шарлотта была в кисейном чепце. Эта дивная красавица стояла у окна; на левом плече ее сидела ручная канарейка, а в правой руке держала она розан. Готлиб взглянул на нее, онемел, растерялся и вместо того, чтоб отвечать каким-нибудь умным комплиментом на приветствие хозяина, заикнулся, пробормотал несколько невнятных слов и вспыхнул, как красная девушка. Эта неловкость очень понравилась господину ректору. Вероятно, он принял ее за робость, весьма приличную бедному студенту, который в первый раз имел счастие находиться в такой высокопочтенной компании.
— Не робейте, молодой человек, — сказал он. — Вы здесь не студент, а гость мой. Прошу садиться!
Разумеется, во время обеда Готлиб смотрел все на Шарлотту, не ел почти ничего и, верно бы, отказался даже от любимого своего кушанья, говядины с черносливом, если б госпожа ректорша не сказала, что это блюдо готовила сама Шарлотта, — сама Шарлотта своими пухленькими ручками!.. О магические слова, вы подействовали на моего приятеля сильнее всяких желудочных капель! Он положил на свою тарелку двойную порцию, съел, или, лучше сказать, проглотил, ее в одну минуту и, конечно, облизал бы у себя пальчики, если б это не было противно всякому приличию. Словом, бедный мой приятель влюбился по уши в дочь господина Бухфресера. Несчастный, он забыл, что между ректором университета и бедным студентом такое неизмеримое пространство, что страшно и подумать! Но кто бы не забыл об этом? Кто не захотел бы на его месте сделаться Вертером этой прелестной Шарлотты? Да, надобно правду сказать: Шарлотта была необыкновенная девица: хороша как ангел, умна, чувствительна до высочайшей степени и в то же время такая хозяйка, каких немного найдете и в самом Швейнфурте, который всегда славился своими патриархальными нравами. Сколько раз случалось, что она читает вместе с моим приятелем трагедии Гете, Шиллера; потом вдруг, не докончив какой-нибудь интересной сцены, побежит на кухню жарить картофель и вернется назад во сто раз милее и прекраснее!.. Вы улыбаетесь, Наталья Кирилловна? И вы также, княжна?… Я знаю, что у вас теперь в голове, только вы ошибаетесь! Шарлотта очень часто помогала кухарке готовить кушанье; но, уверяю вас честию, от нее никогда не пахло кухней.
Господин Бухфресер полюбил моего приятеля и позволил ему приходить к себе, не обедать, — этого рода приглашения делаются у нас довольно редко, — а так, побеседовать, поговорить кой о чем. В Германии образ жизни вовсе не походит на здешний: там живут очень скромно. Знакомые посещают друг друга, особенно в праздничные дни, для того только, чтобы выкурить вместе несколько трубок, смотря по состоянию, или доброго «кнастера», или дешевенького «дрейкених», который делается из картофельных листьев, сыграть партию в шахматы, потолковать о политике и даже выпить иногда по рюмке старого рейнвейна. Немцы вообще очень любят эти мирные беседы, которые вовсе не убыточны для хозяина и весьма приятны для гостей, разумеется если они сыты. В первый раз Готлиб почти ничего не говорил с Шарлоттою, во второй зашла у них речь о луне, в третий — о симпатии и сродстве душ; потом случилось им танцевать на одном свадебном бале, и вот этак месяца через два на заветной страничке Шарлоттина альбома появились два сердца, проткнутые насквозь стрелою, с надписью: «Страдают, но счастливы». Потом две буквы, увенчанные миртами, также с надписью: «Их уста молчат, но их души понимают друг друга». Об учебных тетрадях Готлиба и говорить нечего: они все были исписаны стихами, из которых многие, право, были недурны, особливо одни; помнится, они начинались вот так:
Шарлоттхен, Шарлоттхен! Ди либе ист ди зеле…
Да что об этом говорить! Это дело давно прошедшее. Готлиб и Шарлотта любили друг друга, но эта любовь выражалась не словами; они ни разу еще не сказали друг другу: «Я люблю тебя». Так прошло более полугода. И вот наконец, наступил день, вечно памятный для моего приятеля, день неизъяснимых восторгов и невыразимых мук. Однажды, — это было летом в жаркий ясный день, — Готлиб пришел после обеда к господину Бухфресеру. Он отдыхал. Госпожа ректорша, занятая каким-то домашним делом, предложила моему приятелю погулять в их саду. Надобно вам сказать, что сад господина Бухфресера славился во всем городе. Под ним было, конечно, не менее доброй русской полудесятины, и все это пространство, за исключением небольшого цветника, было засажено деревьями, по большей части фруктовыми; но были, однако же, и целые куртины сплошных акаций, сиреней и воздушных жасминов, среди которых узенькие, усыпанные песком дорожки разбегались во все стороны и так искусно были перепутаны между собою, что этот по-здешнему небольшой садик показался бы вам если не парком, так уж, конечно, большим и чрезвычайно тенистым садом. Готлибу он показался на этот раз краше земного рая, и неудивительно: вдали, сквозь густую зелень кустов, мелькало по временам что-то похожее на белое платьице. Готлиб едва мог переводить дух, ноги его с трудом двигались, и вот наконец дорожка, по которой он шел, вывела его на небольшой лужок, посреди которого стояла решетчатая беседка, обросшая кругом виноградными лозами. В этой беседке сидела на скамье дочь господина Бухфресера и читала какую-то книгу.
— Ах, — вскричала она, — это вы, господин Готлиб?
Мой приятель отступил назад, поклонился и сказал заикаясь:
— Да, мамзель Шарлотта, это я!
Надобно думать, что в эту минуту лицо моего друга было пресмешное, потому что Шарлотта улыбнулась и сказала своим тоненьким очаровательным голоском:
— Куда же вы бежите? Отдохните! Садитесь подле меня!
У бедного Готлиба подкосились ноги, захватило дух, в глазах потемнело, — ну, просто он захлебнулся от восторга; однако ж вошел в беседку и сел подле Шарлотты. Прошло несколько минут, а Готлиб все еще не мог выговорить ни слова. Шарлотта также молчала.
— Что вы это читаете? — спросил наконец мой приятель, не смея, однако ж, прикоснуться к книге, которая лежала на коленях Шарлотты.
— Идиллии Соломона Геснера, — отвечала она.
— Геснера, — повторил Готлиб, — этого певца природы и любви; этого очарователя, который переносит нас в блаженный век аркадских пастухов? О, как люди были тогда счастливы! Не правда ли, мамзель Шарлотта?
— Да! — прошептала со вздохом девушка.
— Тогда любовь не считалась преступлением, — сказал Готлиб, — люди не знали этих тягостных условий общества, этих глупых приличий, этого неравенства состояний…
— Ах, да! — прошептала опять Шарлотта.
— Тогда, — продолжал с жаром мой приятель, — какой-нибудь пастушок спрашивал пастушку: «Любишь ли ты меня, Хлоя?» А пастушка отвечала, вовсе не краснея: «Да, я люблю тебя, Дафнис!» Ну, вот точно так, как бы я теперь спросил вас: «Здоровы ли вы, мамзель Шарлотта?» А вы бы мне отвечали: «Слава богу, господин Готлиб!» Счастливые времена! Недаром вас называют золотым веком!
— О, конечно, — промолвила Шарлотта. Вдруг что-то зашумело между кустами. Готлиб вскочил.
— Ничего, — сказала Шарлотта, — это моя собачка. Мими, поди сюда!.. Садитесь, мой милый Готлиб, не бойтесь: мы здесь совершенно одни.
«Мой милый Готлиб!.. Мы здесь совершенно одни!..» Фу, какая тревога поднялась в груди моего приятеля! Он слушал последний курс медицины, но если б его спросили в эту минуту: «Готлиб, где у тебя пульс?» — то он, верно бы, отвечал: «Не знаю!» Вся кровь закипела в его жилах… Вот она, блаженная, счастливейшая минута в жизни!..
— Шарлотта, — сказал он, задыхаясь от избытка чувств.
— Готлиб! — прошептала девушка, покраснев, как роза.
— Шарлотта, — повторил он, — ты любишь меня?
— О, твоя, навек твоя! — вскричала Шарлотта, бросаясь в объятия моего друга.
— Врешь, негодная! — раздался из-за кустов голос, и господин Бухфресер, с хлопушкою в руке, явился перед глазами онемевших от ужаса любовников. — Я никогда не назову сыном этого нищего! — продолжал он. — Твоим мужем будет мой друг, почтенный профессор господин Гешволенган! А ты, подлый обольститель, — прибавил господин Бухфресер дрожащим от бешенства голосом, — вон из моего дома!
Делать было нечего. Готлиб должен был повиноваться; но я могу вас уверить, что он не побежал вон из сада, как подлый трус, а вышел потихоньку; и хотя разгневанный отец забылся до того, что ударил его вдогонку хлопушкою, но он не прибавил шагу и сохранял до конца все достоинство, приличное благородному немцу, для которого честь дороже всего на свете.
С тех пор Готлиб не видал уж более Шарлотты. С нею поступили самым варварским образом. Жестокая мать надавала ей пощечин и заперла в темный чулан. Но эта бесчеловечная мера не послужила ни к чему; Шарлотта была девица с необычайным высоким характером. Она сказала отцу и матери, что будет «любить Готлиба вечно». Бездушные родители не сжалились над бедной дочерью; напротив, они увеличили свои гонения, терзали ее, мучили, морили голодом, целый месяц продержали на одном вассер-супе; но ничто не помогло: Шарлотта продолжала говорить, что «решительно нейдет замуж за этого старого черта Гешволенгана», что «она принадлежит Готлибу», что «души их обвенчаны» и что «никакие истязания не заставят ее отказаться от этого священного союза». Мой приятель узнал все эти подробности от их кухарки, очень доброй женщины, которая горько плакала, рассказывая ему о страданиях своей несчастной барышни. Разумеется, эта плачевная история не могла долго оставаться тайною для городских жителей. Университетские товарищи Готлиба обрадовались этому случаю: со всех сторон посыпались на него насмешки. Мамзель Бухфресер называли нежной Шарлоттою, а его — несчастным Вертером. Он долго отмалчивался; но когда один наглец осмелился послать к нему при самой язвительной записке огромный пистолет, заряженный горохом, то он вышел наконец из себя, вызвал этого негодяя на поединок и, несмотря на то что его, как водится, защищали с двух сторон секунданты, обрубил ему уши. Это несколько поусмирило господ студентов, но в то же время восстановило против него всех прежних покровителей. Этот дерзкий насмешник, которого он окорнал, как моську, был сын ординарного профессора медицины, племянник прозектора, читавшего курс патологической анатомии, и будущий зять проректора университета господина Штокфиша, который преподавал патологию, семиотику и всеобщую терапию. О декане медицинского факультета господине Гешволенгане и говорить нечего: Готлиб, как вы уж знаете, был его соперником. Бывало, на всех экзаменах приятеля моего осыпали похвалами, а теперь, лишь только он разинет рот, кругом его поднимается неприязненный шепот и по всем углам аудитории начнут повторяться, сперва потихоньку, а потом во весь голос, чрезвычайно обидные восклицания: «Азофус! Игнарус! Индоктус! Инептус!» и даже «Азинус!!!» Другим, которые не стоят его и мизинца, дают баллы, а ему пишут нули, — горе, да и только! Вот наступил последний и окончательный экзамен; почти все товарищи Готлиба получили лекарские дипломы: и даже один глупец, которому вы бы не позволили лечить вашей кошки, удостоился звания доктора медицины, вероятно потому, что матушка его очень часто угощала господ профессоров, а прилежный и знающий свое дело Готлиб остался ни при чем. Вы можете себе представить отчаяние этого сироты; он не знал, куда ему деваться, не знал, что делать с собою!.. Как вдруг вовсе неожиданно его пригласили в университетское присутствие, и господин проректор Штокфиш, который по болезни ректора занимал председательское место, объявил ему, что из уважения к его недостаточному состоянию и ради того, что он природный немец, ему не откажут в лекарском звании, если только он даст письменное обязательство не лечить никого во всей Германии.
— Помилуйте, — завопил Готлиб, — да к чему же мне послужит лекарский диплом?
— А вот к чему, — отвечал господин Штокфиш, — по милости этого диплома все будут обязаны признавать вас за медика, а так как вы не имеете достаточных познаний, чтоб быть врачом…
Мой приятель хотел что-то возразить, но проректор не дал выговорить ему ни слова.
— Да, господин Готлиб, — продолжал он, — вы не имеете для того достаточных сведений — это решено; а что решит немецкий университет, то свято и ненарушимо, и мы, сберегая честь нашего ученого сословия, не можем дозволить вам заниматься практикою в таком просвещенном государстве, какова Германия. Но мы не запрещаем вам ехать за границу. Ступайте с богом, и всего лучше на Восток, то есть в Турцию, Персию или Россию: там и плохой цирюльник найдет себе практику. Подписку вы дадите теперь, а завтра ступайте к господину письмоводителю университетского правления — вы получите от него диплом. Но знайте, господин Готлиб, если вы осмелитесь употребить во зло нашу доверенность, то университет, в силу данной вами подписки, отберет обратно свой диплом, который вы получите не по достоинству, а по снисхождению и великодушию ваших прежних наставников. Во всяком случае, я советую вам отправиться как можно скорее из нашего города; здесь вам нечего делать; здесь ни в одной аптеке не отпустят по вашему рецепту лекарства и тотчас донесут университету, что вы, несмотря на сделанное с вами условие, пишете рецепты и беретесь лечить больных.
Мой приятель был человек неглупый и тотчас смекнул, в чем дело. Он понял, что в этой речи господина проректора милосердие и великодушие были одни только громкие слова. Университет мог признать его недостойным лекарского звания, но не имел никакого права выгнать вон из города, а господину ректору и будущему его зятю очень было нужно услать бедного Готлиба куда-нибудь подальше от мамзель Шарлотты. Конечно, мой приятель страстно любил дочь господина Бухфресера и вовсе не желал ехать на Восток; но ему не хотелось также умирать и голодной смертью; вот он подумал, подумал, да и решился наконец покинуть навсегда свое отечество… Ну вот, Сергей Михайлович, теперь вы видите, что и в Германии не так-то легко достаются лекарские дипломы и что мой приятель дорого заплатил за то, чтоб иметь право называться медиком».
Онегин. Да, конечно! Да ведь это случай необыкновенный; при других обстоятельствах ваш приятель получил бы свой диплом даром.
Бирман. Извините, Сергей Михайлович, вы ошибаетесь. По милости этих обстоятельств с моим приятелем поступили несправедливо в университете, это само по себе, но сверх того он должен был порядком поплатиться, да еще вдобавок его обругали самым обидным образом. Письмоводитель, от которого ему следовало получить лекарский диплом, жил на даче. Готлиб выпросил у одного приятеля лошадь и отправился к нему верхом. Приехав к крыльцу загородного домика письмоводителя, он спешился и постучал в дверь.
— Войди! — закричал кто-то грубым голосом.
Готлиб вошел и вместо письмоводителя увидел перед собою его супругу, самую толстую, безобразную и злую женщину из всего Геттингена.
— Что вам надобно? — спросила она так ласково, как будто бы хотела сказать: «Зачем пришел, бездельник?» — Что тебе надобно? — повторила она еще вежливее, догадываясь по смиренному виду и поношенному платью Готлиба, что перед ней стоит человек бедный и вовсе не чиновный.
— Я приехал к господину письмоводителю за моим лекарским дипломом, — отвечал Готлиб, смотря с удивлением и ужасом на огромный красный нос и рыжие усы этой отвратительной женщины.
— Моего мужа нет дома, — проворчала она. — Впрочем, все равно. Ведь тебя зовут Готлибом?
— Точно так.
— Так подожди, дружок, я схожу за твоим дипломом. Через полминуты госпожа письмоводителышца воротилась.
— Вот твой диплом, — сказала она.
Готлиб протянул руку.
— Постой, постой!.. Видишь, какой проворный! Отдай прежде деньги.
— Деньги! — вскричал Готлиб. — Какие деньги?
— Известно какие: за пергамент, за печать, за то, за другое… Всего пятьдесят гульденов.
Пятьдесят гульденов! А у бедного Готлиба только и было сто гульденов за душою.
— Помилуйте, — сказал он, — уж если я непременно должен платить, хотя мне об этом и не говорили, так нельзя ли взять поменьше: я человек бедный.
— Да оттого-то с тебя и берут только пятьдесят гульденов, — прервала эта ведьма. — С порядочных людей мы берем гораздо больше. Да что с тобою говорить: давай деньги или убирайся вон!
Готлиб хотел было еще поторговаться, но госпожа письмоводительша и слушать его не стала. Делать было нечего: он отсчитал ей пятьдесят гульденов, взял диплом и отправился. Готлиб садился уже на лошадь, как вдруг пришла ему в голову несчастная мысль посмеяться над этой грубой бабой. Он воротился назад.
— Что там еще? Зачем? — спросила ласковая хозяюшка.
— Извините, сударыня! — сказал Готлиб самым вежливым голосом. — Вы такие милостивые и добрые, довершите ваши благодеяния: уж если вы изволили мне пожаловать за пятьдесят гульденов один лекарский диплом, так не можете ли уступить за ту же цену и другой?
— Другой? — повторила хозяйка. — Кому?
— Моей лошади, — отвечал Готлиб с низким поклоном.
Отпустив эту шуточку, он думал, что разобидит до смерти гордую письмоводительшу, что она взбесится, начнет его позорить, — не тут-то было! Эта спесивая барыня поглядела на него весьма равнодушно и сказала прехладнокровным образом:
— Твоей лошади, голубчик? Пожалуй!.. Уж если я выдала лекарский диплом ослу, так почему же его не дать лошади?
Лаврентий Алексеевич (смеясь). Ай да хват баба!.. Вот как огорошила!
Бирман. Да, Лаврентий Алексеевич, поверите ль, и теперь вспомнить не могу: так меня с ног и срезала.
Кучумов. Тебя, Богдан Фомич? Так это был ты?
Бирман. Ах, нет, извините! Я хотел сказать: моего приятеля.
Лаврентий Алексеевич. Полно, полно, Богдан Фомич!.. Уж коли сболтнул, так признавайся!
Бирман. Ну, делать нечего — пришлось каяться. Да, Лаврентий Алексеевич, я рассказал вам собственную мою историю.
Княжна Задольская. Так это были вы, Богдан Фомич! Как это интересно! Ну, что, вы не знаете, что сделалось с дочерью этого господина, Бух… как, бишь, его?… ну, с вашей мамзель Шарлоттою?
Бирман. Я лет двадцать не имел об ней никакого известия, а потом узнал, и совершенно неожиданным образом, что она жива и здорова.
Онегина. Как же вы это узнали?
Бирман. От одного университетского товарища, который переселился из Германии в Саратовскую губернию и живет теперь в Сарепте. Он видел ее накануне своего отъезда в Россию.
Онегина. Ну, что ж он вам рассказывал? Что ваша Шарлотта?
Бирман. Ничего, все слава богу! Живет по-прежнему в Геттингене, похоронила двух мужей и сбиралась выйти за третьего.
Онегина. За третьего мужа?
Бирман. Вы, сударыня, этому удивляетесь, а я вовсе не дивился. Мамзель Шарлотта должна была похоронить двух мужей и выйти за третьего, я знал это наперед.
Онегина. Почему ж вы это знали?
Бирман. А вот почему, Наталья Кирилловна. Когда я увидел, что мне не остается никакой надежды и что я должен навсегда расстаться с Шарлоттою, то горесть моя превратилась в совершенное отчаяние; я вовсе обезумел: метался из стороны в сторону и рвал на себе волосы. К счастию, на ту пору завернула ко мне кухарка господина Бухфресера. Эта добрая женщина стала утешать меня и сказала между прочим: «Послушайтесь меня, господин Бирман, не горюйте, а благодарите бога, что вам нельзя жениться на мамзель Шарлотте. Теперь я могу открыть вам преважную тайну; вы от нас уезжаете, так об этом никто не узнает. Одна знаменитая ворожея, которая никогда еще не ошибалась, предсказала мамзель Шарлотте, что она будет жить очень долго, горя натерпится вдоволь, похоронит двух мужей и выйдет за третьего. Теперь подумайте, господин Бирман: ведь вы были бы у нее первым мужем, так какая же тут для вас приятность? Ну, рассудите сами!» Признаюсь, Наталья Кирилловна, эти слова очень на меня подействовали; не то чтоб я совсем утешился, а все как будто полегче стало.
Онегин. Ах, Богдан Фомич!.. Вы человек ученый, а верите таким вздорам!
Бирман. Да ведь это предсказание сбылось.
Онегин. Так что ж? Один случай ничего не доказывает.
Кудринский. Вы называете его случаем, Сергей Михайлович? Нет, я убежден, что предсказания, явления духов, таинственные сны, предчувствия, одним словом, все эти отголоски мира невещественного вовсе не вздор, а совершенная истина. Эти минутные проблески бессмертной души, заключенной в своем земном теле, бывают очень редки, и только при известных условиях; но что они возможны, в этом нет ни малейшего сомнения.
Кучумов. Да, батюшка, и я скажу, что ворожеи и колдуны есть, это так верно, как то, что меня зовут Игнатием Федоровичем Кучумовым.
Княжна Задольская. А я так решительно согласна с Сергеем Михайловичем: все это совершенный вздор, детские сказки и больше ничего. Когда я была еще при дворе, мне несколько раз случалось встречаться в обществах с знаменитым французским философом мосье Дидеро, который был тогда в Петербурге. Однажды зашел при нем разговор о предчувствиях и о предсказаниях. Боже мой, как он стал над этим смеяться! Да с какой остротой, с каким умом!..
Кудринский. Ну, вот еще, княжна, нашли человека!.. Да разве этот мосье Дидеро чему-нибудь верил?
Засекин. Извините, Александр Дмитриевич, — этот господин Дидеро многому верил. Вот, например, он верил, что часы могут составиться случайно, сами собой, что для этого вовсе не нужно часовщика, и даже называл ханжою, кажется, вовсе не набожного человека, а именно Волтера, за то, что он был противного мнения и находил весьма естественным при виде часов предполагать часовщика, который их устроил. Господин Дидеро верил, и свято верил, что только то существует в природе, что можно видеть глазами, ощупать руками, постигнуть умом, доказать правильным силлогизмом и объяснить наукою. Он не сомневался также, что в некоторых случаях никак не должно верить не только миллионам очевидных свидетелей, но даже собственным своим чувствам.
Лаврентий Алексеевич. Ах, батюшка! Да кому же прикажете верить?
Засекин. Разумеется, тому, который никогда не ошибался и не может ошибиться, который все знает, все отгадал, для которого нет никакой тайны в природе, одним словом: нашему земному разуму.
Кучумов. Нашему разуму? Помилуй, Максим Степанович! Да ведь у всякого свой разум в голове; ты думаешь так, я этак, а кто из нас прав?…
Засекин. Ну, разумеется, тот, кто ничему не верит; по крайней мере, так говорит господин Дидеро.
Лаврентий Алексеевич. Ах, матушка княжна, и вы были знакомы с таким человеком!.. Ну что за диво, что он смеялся, когда при нем стали говорить о предчувствиях и предсказаниях. Вот Сергей Михайлович вовсе не вольнодумец, а называет это вздором. Да и ты, Володя, что-то ухмыляешься: видно, также не слишком этому веришь?
Я. Да, дедушка, прежде я этому не верил, но после одного случая…
Лаврентий Алексеевич. Вот что! Так и с тобою уж бывали случаи?
Кучумов. Еще бы! Ведь Владимир Николаевич не дома сидел. Мы с тобой были в Швеции и в Польше, а он до самого Парижа доходил. И помоложе нас, да больше видел.
Онегина. Что ж это был за случай такой?
Я. С одним сослуживцем моим и приятелем, которого я очень любил. Престранный случай!
Онегина. Так расскажите нам.
Лаврентий Алексеевич. В самом деле, Володя, потешь честную компанию — расскажи!
Я. Извольте, дедушка, только не прогневайтесь — рассказчик-то я плохой.
Лаврентий Алексеевич. Ничего, любезный! Мы все люди добрые, не взыщем.
Предсказание
«Вы знаете, дедушка, — так начал я, обращаясь к Лаврентию Алексеевичу, — что в двенадцатом году меня не было при главной армии; я находился тогда в отдельном корпусе графа Витгенштейна и служил в сводном кирасирском полку, сформированном из запасных эскадронов кавалергардского и конногвардейского полков. Со мною служил в одном эскадроне поручик Порфирий Иванович Лидин. Мы шли весь поход вместе, на биваках спали в одном шалаше, на переходах всегда ехали рядом, одним словом, почти никогда не расставались. Лидин был несколькими годами постарее меня, собой прекрасный мужчина, отлично храбрый офицер, но тихий и скромный, как красная девушка. Я редко видал его веселым даже и тогда, когда ему случалось, ради компании, покутить с своими товарищами, то есть выпить лишний бокал шампанского. Другие офицеры, чем больше пили, тем громче разговаривали, шумели и веселились, как говорится, нараспашку, а он с каждым новым стаканом вина или пунша становился все тише и молчаливее. Лидин очень любил музыку и сам играл прекрасно на флажеолете, который всегда носил с собою.
Вот, если не ошибаюсь, пятого октября, то есть накануне полоцкого сражения, мы расположились биваками верстах в пятнадцати от Полоцка, из которого должны были на другой день во что б ни стало выжить французов. Зная, что нам придется вставать чем свет, мы с Лидиным поторопились напиться чайку и залегли в своем шалаше, чтоб выспаться порядком до утра; но сон — дело невольное: прошло часа два, а нам не спалось. Лидин, который казался задумчивее обыкновенного, вынул из кармана свой флажеолет и заиграл на нем похоронный марш.
— Да полно, Лидии! — сказал я. — Что ты, отпевать, что ль, нас собрался? Чем бы тебе радоваться, что у нас завтра пир на весь мир…
— У нас! — повторил Лидин. — Нет, Владимир, разве у вас, а мне на этом пиру не пировать.
— Это почему?
— Потому, что мертвые не пируют.
— Да ведь ты, кажется, жив?
— Ненадолго.
— А почему ты это думаешь? — спросил я.
— Да как тебе сказать, — промолвил Лидин, помолчав несколько времени. — Я бы сам ничего не думал, да вот тут кто-то над моим ухом шепчет: «Порфирий, насмотрись вдоволь на эти чистые, ясные небеса, полюбуйся этими яркими звездами, да и простись с ними навсегда! Другой уже ночи для тебя не будет».
— Как тебе не стыдно, Порфирий! — сказал я. — Неужели ты веришь предчувствиям? Да это совершенная глупость, суеверие!..
— Нет, Владимир, — отвечал Лидин, — если б я был суеверен, так мне бы и в голову не пришло, что меня завтра убьют. Ты не веришь предчувствиям, а веришь ли ты предсказаниям?
— Да это одно и то же, Порфирий; разница только в том, что если мы верим предчувствиям, так сами себя обманываем, а если верим предсказаниям, так нас обманывают другие. Да что, разве тебе было что-нибудь предсказано?
Лидин не отвечал ни слова. Я повторил мой вопрос.
— Да! — проговорил наконец мой товарищ. — Мне предсказано, что я умру не прежде, как увижу то, чего до сих пор, кажется, никто еще не видал, так, вероятно, и я не увижу.
— Что ж это такое?
— А вот послушай. Ты помнишь, что у нас был растах в уездном городе Невеле. Тебя послали вперед заготовлять фураж, а мне вместе с артиллерийским капитаном Прилуцким отвели квартиру у одного богатого купца. После сытного обеда, которым угостил нас хозяин, мы хотели было отдохнуть, как вдруг в сенях нашей квартиры поднялся шум.
«Эй, вы! — закричал Прилуцкий. — Что у вас там?»
«Да вот, ваше благородие, — сказал денщик Прилуцкого, входя в нашу комнату, — какая-то полоумная лезет сюда без докладу».
«Да кто она такая?»
«А шут ее знает! Кажись, цыганка».
«Молоденькая?» — спросил Прилуцкий.
«И, нет, ваше благородие! Старая карга; да рожа-то какая — взглянуть страшно!»
«Что ж, она милостинку, что ль, просит?» — сказал я.
«Никак нет, ваше благородие; хочет вам поворожить».
«Вот что! — молвил Прилуцкий. — Ну, хорошо, пусти ее».
Денщик сказал правду: во всю жизнь мою я не видал ничего безобразнее этой старой цыганки, и, судя по ее диким, бессмысленным глазам, ее точно можно было назвать полоумной.
«Послушай, голубушка, — сказал Прилуцкий, — мы люди военные, так нам не худо знать, вернемся ли мы живы и здоровы домой. Вот тебе на ладонку, — примолвил он, подавая ей двугривенный, — поворожи! Да прежде всего скажи, здорова ли моя жена и дети?»
«Изволь, молодец, — проворчала цыганка. — Подай-ка мне свою ручку… Шутишь, барин, — продолжала она, — у тебя нет ни жены, ни детей, да и слава богу!»
«А что?» — спросил Прилуцкий.
«Да так!..»
«А что, голубушка, что ж меня, французы убьют, что ль?»
«Умирать-то всем надобно, — промолвила цыганка, — да только ты, молодец, умрешь не так, как другие».
«А как же он умрет?» — прервал я.
«Да нечего сказать, не по-людски: он умрет, сидя верхом на медном коне».
Мы оба засмеялись.
«А мой товарищ?» — спросил Прилуцкий.
Цыганка посмотрела мне на руку и сказала: «И тебе, молодец, несдобровать; ты умрешь в ту самую минуту, как увидишь церковь божию на облаках».
Разумеется, мы засмеялись громче прежнего.
«А если не увижу?» — спросил я.
«Коли не увидишь, так тебе и смерти не видать».
— Вот что, Владимир, было мне предсказано, — примолвил Лидин, оканчивая свой рассказ.
— Какой вздор! — сказал я. — И ты называешь эти бессмысленные слова полоумной бабы предсказанием!
— Уж там как хочешь, Владимир, — отвечал Лидии, — а ведь Прилуцкого-то убили под Клястицами.
— Ну, что ж?
— Так ты не слыхал, как его убили? В ту самую минуту, как открылся огонь с одной маскированной неприятельской батареи и ему первым ядром оторвало голову, знаешь ли, что он сидел верхом?
— На медном коне? — прервал я.
— Да, почти: он сидел верхом на своей пушке, а ведь ты знаешь, у нас в артиллерии чугунных пушек нет.
— Ну, конечно, случай довольно странный… Впрочем, если эта цыганка действительно предсказывает будущее, так тем лучше для тебя. Верхом на пушку сесть можно, можно даже по нужде назвать эту пушку медным конем, а построить церковь на облаках, воля твоя, уж этого никак нельзя.
— А вот увидим, — примолвил Лидин, принимаясь опять за свой похоронный марш.
Я повернулся на бок, закутался в шинель, заснул и, вероятно по милости этой плачевной музыки, видел во всю ночь пренеприятные сны, особенно один, который я и до сих пор забыть не могу. Мне казалось, что я точно так же убит, как Прилуцкий, что меня хоронят со всеми военными почестями и вместо орденов несут перед гробом на бархатной подушке мою оторванную голову.
Наш полк выступил в поход до рассвета. Часа три мы шли лесом по такой адской дороге, что я и теперь не могу вспомнить о ней без ужаса. Грязь по колено, кочки, пни, валежник, и на каждой версте два или три болота, в которых лошади вязли по самую грудь. Солнце взошло, а мы все еще не могли выбраться из этой трущобы, то есть пройти с небольшим верст десять. Мы все умирали от нетерпения, потому что наш авангард давно уж был в деле и мы слышали перед собой не только пушечную пальбу и ружейную перестрелку, но под конец, несмотря на беспрерывный гул, могли даже различать человеческие голоса и это родное громогласное «ура», с которым русские солдаты всегда бросаются в штыки. Вы можете себе представить, как весело было нам все это слышать и ничего не видеть!.. Вот нашему полку велели остановиться и дать вздохнуть лошадям. Потом мы прошли еще с полверсты; этот бесконечный бор стал редеть, запахло порохом, и мы выехали на опушку леса. Сначала мы ничего не видели перед собою, кроме обширной равнины и густого дыма, который стлался по земле, клубился в воздухе и волновался вдали, как необозримое море, но когда нас подвинули вперед, то мы стали различать движение колонн, атаки конницы и беспрерывную беготню наших и неприятельских застрельщиков, которые то подавались вперед, то отступали назад, в одном месте собирались в отдельные толпы, а в другом дрались врассыпную. Когда мы стояли на опушке леса, то видели только издали, как неприятельские ядра ломали деревья или, бороздя и взрывая землю, с визгом взмывали опять на воздух, а теперь уж они ложились позади нас. Я еще никогда не бывал в деле и поэтому, как вовсе неопытный новичок, был чрезвычайно вежлив, то есть встречал всякое неприятельское ядро пренизким поклоном. Товарищи надо мной подшучивали, да я и сам после каждого поклона смеялся от всей души. Лидин, казалось, вовсе не думал о том, что смерть летала над нашими головами. На грустном лице его не заметно было ни малейшей тревоги; он был только бледнее и задумчивее обыкновенного. С правой стороны, шагах в пятнадцати от нашего полка, начиналась мелкая, но занимающая большое пространство и очень густая заросль. Лидин смотрел уж несколько минут не сводя глаз на этот кустарник.
— Владимир, — сказал он, — погляди, вот прямо, сюда… Что это?… Показалось, что ль, мне? Ты ничего не видишь?
— Ничего, — отвечал я.
— Вот опять! — продолжал Лидин. — Вон за березовым кустом… Ты не заметил?
— Да что такое?
— В этом кустарнике кто-нибудь да есть.
— Вероятно, наши егеря.
— Так зачем же на них синие мундиры?
— И, что ты! — сказал я. — Да как попасть сюда французам?… Помилуй, позади наших колонн!
— Егеря! — проговорил вполголоса Лидин. — Ну, может быть, да только не наши. Мне показалось, что и кивера-то этих русских егерей очень походят на французские.
— Ну вот еще! — перервал я. — Да как можно отсюда отличить русский кивер от французского?… Полно, Порфирий!.. Конечно, и я слышал, что эти наполеоновские волтижеры большие проказники, но уйти за две версты от своей передовой линии — нет, воля твоя, уж это было бы слишком дерзко!
Лидин не отвечал ни слова и продолжал смотреть на кусты.
— Ты бывал когда-нибудь в Полоцке? — спросил я, помолчав несколько времени.
— Бывал, — отвечал Порфирий.
— Ведь он должен быть близко отсюда?
— Да, недалеко.
— Что ж мы его не видим?
— Его не видно за дымом.
— За дымом? Так он должен быть вон там, — сказал я, указывая на дымные облака, которые, сливаясь в одну огромную черную тучу, закрывали перед нами всю нижнюю часть небосклона.
Лидин кивнул головой.
— Постой, постой! — продолжал я. — Вот, кажется, поднялся ветерок, так, может быть, этот невидимка Полоцк выглянет из своей засады.
В самом деле, облака стали расходиться, в вышине засверкали золотые кресты, дымная туча рассеялась надвое, и посреди ее разрыва обрисовался облитый солнечными лучами белый иезуитский костел со своим высоким куполом.
— Ах, какая прелесть! — вскричал я невольно. — Посмотри, Лидин, точно театральная декорация!.. Не правда ли, что этот костел стоит как будто бы на облаках?
Лидин вздрогнул, протянул ко мне руку и сказал твердым голосом:
— Прощай, Владимир!
В эту самую минуту по опушке кустарника пробежал дымок, замелькали огоньки, и пули посыпались на нас градом. Лидин тяжело вздохнул и упал с лошади. Это был последний его вздох: пуля попала ему прямо в сердце».
Кучумов. Вот изволите видеть!.. Так и выходит, что цыганка-то отгадала. Ну, что вы на это скажете, Сергей Михайлович?
Онегин. Да то же, что говорил и прежде: случай, и больше ничего.
Лаврентий Алексеевич. Случай! У вас, господа, все случай. А вот если я расскажу вам, что было со мной, так уж этого никак нельзя назвать случаем. Ты помнишь, Игнатий Федорович, — это, кажется, было в апреле месяце, после взятия краковского замка, который захватили обманом конфедераты?
Кучумов. Как не помнить! Мало ли тогда об этом толков было. Одни говорили, что ты, отправляясь за приказаниями, слишком понагрузился, сиречь хлебнул через край; другие вовсе верить не хотели, а наш полковой лекарь, Адам Карлыч, стоял в том, что у тебя на тот раз была белая горячка.
Лаврентий Алексеевич. Да я разве был один? А вахмистр Бубликов, а фурман?…
Кучумов. Адам Карлович говорил, что у вас у всех троих была белая горячка.
Лаврентий Алексеевич. У всех троих в одно время?… И нам троим все одно и то же мерещилось?… Да это было бы еще чуднее того, что мы видели.
Кучумов. А что вы такое видели?
Лаврентий Алексеевич. Если хотите, так я завтра вам расскажу, а теперь уж поздно, пора ужинать. Да вот и Кузьма пришел доложить, что кушанье готово. Милости просим, гости дорогие!
Лаврентий Алексеевич подал руку княжне Палагее Степановне; я, как ловкий петербургский кавалер, подвернулся к Наталье Кирилловне Онегиной, и мы все отправились в столовую.
Вечер второй
Канцелярист
«Ну, вот какой был со мной случай, — сказал Игнатий Федорович Кучумов, кладя на стол свою трубку. — Это, помнится, было в тысяча семьсот девяносто четвертом году. Я жил тогда в моем селе, верстах в десяти от Курска. Вот слышу, что в губернском городе хотят строить новые присутственные места и вызывают на торги желающих взять на себя поставку кирпича. У меня на ту пору был изрядный кирпичный заводишка… Чего же лучше? В нашей стороне не скоро дождешься такого сбыта, — поеду торговаться! И уж, верно, поставка останется за мной, — ведь я больших барышей не хочу: нашему брату дворянину стыдно казну грабить. Сосед мой, Сергей Кондратьевич Барсуков, крепко мне отсоветовал брать на себя эту поставку. Да я и слушать его не стал.
— Эх, Игнатий Федорович, — говорил он мне, — не за дворянское ты дело берешься! Какой ты подрядчик? Ты любишь жить барином: летом и осенью гуляешь по отъезжим полям, а зимой задаешь банкеты в губернском городе. Нет, друг сердечный, коли хочешь быть подрядчиком, так не прогневайся: надевай-ка сам армяк да ступай к себе в приказчики; дворянскую-то спесь под лавку: тому поклонись, тут подмажь…
Я не дал ему договорить:
— Господи, боже мой! Чтоб я пустился на такие воровские дела!.. И ради чего я стану это делать? Хороший кирпич и без этого примут, а дурной пускай себе бракуют. Вот нашел человека! Стану я подкупать приемщиков и обманывать нашу матушку царицу!..
Сергей Кондратьевич покачал головой и, прощаясь со мной, сказал:
— Эй, Игнатий Федорович, припомни мое слово: наплачешься ты с этой поставкой; конечно, честь твоя при тебе останется, да останутся ли за тобой твои деревеньки?…
Нечего сказать: умный был старик, дай бог ему царство небесное! Не хотел я, глупый сын, слушать его разумных речей, да за то после и каялся.
Я поехал в Курск, явился в губернское правление, — торги еще не начинались. Гляжу, стоят четверо подрядчиков, что не первые мошенники в городе. Как я вошел в канцелярию, они меж собой перемигнулись, а я думаю про себя: «Что, ребята, видно, я для вас не гостинец?… Небось теперь стачки не будет, не станете вы, плуты, казну-то обирать!» Вот они меж собой пошептались, и один из них, купец третьей гильдии Парамонов, такой осанистый, с толстым брюхом и окладистой седой бородой, подошел ко мне, поклонился низехонько и говорит: «Ваше высокоблагородие, вы также изволите нашим делом заниматься — сиречь касательно сегодняшней поставки?»
— Да, любезный, — отвечал я, — мы с вами поторгуемся.
Купец поглядел вокруг себя, подошел ко мне поближе и сказал вполголоса:
— А что, батюшка, ваше высокоблагородие! Не лучше ли, знаете ли, этак на мировую?… Вы, сударь, богатый помещик, что вам в наши торговые делишки мешаться? Что толку-то, батюшка, коли вы цену собьете, — казну не удивишь, у нее шея-то потолще нашей. Не торгуйтесь, ваше высокоблагородие, а мы бы вам отсталого дали…
Я вспыхнул и, помнится, ругнул порядком этого краснобая, а он как ни в чем не бывало погладил свою бороду, поклонился мне в пояс и пошел опять толковать со своими товарищами. Вот приехал губернатор, и торги начались… Батюшки, какая пошла резня! Купцы спускают по гривне, а мое дело дворянское, — дойдет очередь до меня, кричу: «Рубль!» Вот они стали спускать по копеечке — и я съехал на полтину… Глядь-поглядь, а уж цена-то больно мелка становится. Мои купчики начали переминаться: у одного в горле пересохло, с другим перхота сделалась, а я себе и в ус не дую. Поверите ль, в такой пришел азарт, что света божия не вижу; ну точно как будто бы опять на штурме Измаила, — выпучил глаза, да так и лезу. «За вами, Игнатий Федорович! — сказал губернатор. — Честь имею поздравить!» Я посмотрел на торговый лист… Фу, батюшки, — разбойники-то меня вовсе в нитку вытянули! А делать нечего, поставка за мной… Отправился я в свое село, построил еще два кирпичных сарая, нанял работников, приставил к ним приказчика; казалось, человек хороший, а вышел пьяница и сущий негодяй. Сначала все шло порядком; вот и думаю: «Приказчик у меня малый честный, досужий, пойдет и без меня!..» Дал ему на расход денег, а сам поехал в мою здешнюю вотчину да все лето и всю осень проохотился. По первому пути я отправился опять в Курскую губернию, приехал в мое село, — приказчик сейчас ко мне явился.
— Ну что, братец, поставка? — спросил я.
— Кончено, сударь.
— Совсем?
— Совсем, Игнатий Федорович.
— Ну, слава богу! Так браковка была небольшая?
— Да, почитай, наполовину.
— Наполовину? Как же ты говоришь, что поставка кончена?
— Кончена, сударь; только половина-то кирпичей куплена на ваш счет, и с вас взыщут двадцать пять тысяч рублен.
— Помилуй, да вся поставка была в тридцать тысяч!..
— То с подряду, сударь, а ведь на наш счет покупали кирпич по вольным ценам.
Двадцать пять тысяч! Господи, боже мой!.. Да где их возьмешь?… Вот тебе и кирпичики!
— Что ж ты мне об этом не писал, разбойник? — сказал я приказчику.
— Писал, сударь, да от вас никакой отповеди не было: видно, мои письма до вас не доходили.
Мошенник этакий!.. Я узнал после, что он ни одного письма ко мне не писал и что всем делом заправлял безграмотный староста Никита, а он погуливал на мои денежки да с утра до вечера из кабака не выходил.
На другой день я отправился в город и заехал по дороге к соседу моему Барсукову.
— Ну вот, Игнатий Федорович, — сказал мне Барсуков, — не говорил ли я тебе, что ты наплачешься с этой поставкой? Мне третьего дня губернатор сам изволил говорить, что если ты не внесешь двадцати пяти тысяч, так твое имение продадут с публичного торгу. Коли можешь внести, так поторопись, любезный, а не можешь, так десять тысяч я тебе дам, а уж остальные пятнадцать попытайся где-нибудь занять в городе; авось найдешь!
Я поблагодарил Сергея Кондратьевича, отправился в Курск, объездил всех знакомых, — все обо мне сожалеют, а денег никто не дает.
На другой день поутру поехал я к губернатору; гляжу, в приемной стоит купец Парамонов — тот самый, что на торгах давал мне отступного.
— Что, ваше высокоблагородие, — сказал он, — не угодно ли вам будет продать мне кирпичиков? Мне сказывали, что казна у вас забраковала без малого половину всей пропорции; так остаточек должен быть немалый… Я вам, сударь, заплачу по вашей же подрядной цене.
— А на что тебе, любезный, мои кирпичики? — спросил я.
— Есть казенная поставочка, ваше высокоблагородие! Чай, и вы изволили слышать: у нас собираются строить новую соборную колокольню.
— И ты хочешь купить у меня бракованный кирпич?
— Ничего, сударь! Наше дело торговое — сойдет! Я возьму у вас изрядное количество — хоть на пятнадцать тысяч, только деньги заплачу не прежде двух месяцев. А теперь угодно вам получить тысячу рублей задатку? — продолжал купец, вынимая из-за пазухи огромный бумажник, набитый ассигнациями.
Разумеется, я согласился на его предложение. Вот меня позвали к губернатору: он повторил мне то же, что я слышал от моего соседа Барсукова.
— Ваше превосходительство, — сказал я, — теперь у меня и половины этой суммы нет и прежде двух месяцев я не могу никак внести все эти деньги сполна; так нельзя ли как-нибудь отсрочить?
— Я уж об этом вчера писал к моему начальству, — отвечал губернатор. — А всего лучше поезжайте-ка сами в Петербург да похлопочите; и коли ответ на мое представленье должен быть неблагоприятный, так уж это ваше дело, постарайтесь, чтоб его там позадержали. До получения указа мы здесь ни к чему не приступим, — станем дожидаться, а время-то идет да идет.
Что будешь делать! Хоть мне вовсе не хотелось ехать в такую даль, и может статься, по-пустому, а думать-то нечего: скорей в поход! Я взял подорожную, приехал через неделю в Петербург и остановился там у одного приятеля, который был знаком с секретарем того присутственного места, где производилось мое дело. Он дал мне записочку к этому чиновнику. Вот на другой день я надел мой штаб-офицерский мундир и явился в присутственное место; скинул в прихожей мою шубу, отдал ее Ваньке и вошел в канцелярию. Гляжу, за столами сидят разные лица, — одни пишут, другие беседуют меж собой; я всем поклон, а мне никто. Спрашиваю у одного из этих неучей, где господин секретарь, — молчат. Я к другому — и тот поглядел на меня, протер свои очки, пробормотал что-то под нос и отвернулся в другую сторону… Экий народец, подумаешь, и слова-то даром не хотят сказать! Гляжу, за одним столом сидит молодой парень, собою больно некрасив, — такой черномазый; кафтанишка на нем затасканный, рукава коротенькие, рожа небритая, ну точь-в-точь как все наши курские подьячие. «Авось, — думаю, — добьюсь от него толку; кажись, барин небольшой». Я подошел к нему и спросил, где мне найти секретаря.
— Он теперь в присутствии, — отвечал очень вежливо этот чиновник. — Сейчас выйдет! Да не угодно ли вам отдохнуть? — продолжал он, подвигая ко мне порожний стул.
Я присел, мы с ним поразговорились; я рассказал ему мое дело, а от него узнал, что он служит пятый год канцеляристом и надеется скоро быть сенатским регистратором.
— Вот и его высокоблагородие господин секретарь, — сказал канцелярист, указывая мне на пожилого человека, который вышел из присутствия.
Секретарь принял от меня записку, прочел и, пожав плечами, объявил мне, что не может ничего для меня сделать.
— Это уж дело решенное, — сказал он, — указ подписан, сегодня сойдет в регистратуру, а завтра имеет быть отправлен в Курское губернское правление, которому строго предписывается приступить немедленно к продаже вашего имения.
— Нельзя ли как-нибудь приостановить ход этого дела? — промолвил я.
— Невозможно. Начальник у нас человек строгий, исполнительный и если что заберет себе в голову — так не прогневайтесь!
— Да неужели этого дела нельзя ничем поправить?
— Я думаю, что так. Оно, конечно, если б его превосходительство захотел, так можно бы… Да человек-то он не такой — барин знатный, богат, с ним, сударь, не сговоришь.
— Нельзя ли мне самому дойти до его превосходительства?
— Доложить о вас можно, я сейчас прикажу. Только из этого ничего не выйдет.
— Уж так и быть — позвольте!.. Попытка не шутка…
— Как вам угодно.
Обо мне доложили и этак через полчаса пригласили в присутствие. Фу, батюшки!.. Что за великолепие такое!.. Ну, это уж не наше Курское правление!.. Стены расписаны сусальным золотом, все кресла обиты бархатом, зеркала в узорчатых рамах… За красным сукном сидят, не нашим советникам чета, особы важные: у кого — в петлице, у кого — на шее… А главный-то начальник так уж подлинно барин, вельможа истинный! Человек рослый, дородный, лицо полное, с подбородком; высокие черные брови дугой, — в кавалерии!.. Сидит так важно — одна нога закинута на другую; в правой руке золотая табакерка с камнями, левая заткнута за камзол… Что греха таить, на первых порах я сробел немножко, да скоро оправился… Что, в самом деле, — мы и на штурмы ходили!.. Я поклонился всем присутствующим, подошел к начальнику и сказал:
— Честь имею явиться, ваше превосходительство, секунд-майор Кучумов.
— Что вам угодно, государь мой? — спросил начальник, ударив двумя пальцами по своей табакерке.
— Да милости приехал просить, ваше превосходительство, — и если вам угодно будет меня выслушать…
— Прошу покорно!
Вот я пошел — и так, и так, и так… Гляжу, его превосходительство то губы надует, то брови подымет кверху, то опустит их вниз, а слушает внимательно.
— Очень сожалею, государь мой, — промолвил он, когда я кончил мой рассказ, — но отсрочки вам дать нельзя: это дело решенное.
— Да известно ли вашему превосходительству, что я потерпел все эти убытки от моего усердия в казне?
Его превосходительство улыбнулся.
— Убытки! — повторил он. — То есть вместо рубля на рубль вы нажили только полтину? Нет, государь мой, — извольте это говорить другим, а я знаю, как у нас подрядчики-то разоряются и с каким усердием они обирают казну…
— Позвольте доложить, ваше превосходительство…
— Извините, я очень занят… не угодно ли! — промолвил он, кивнув головой и указывая рукой на дверь, сиречь: милости просим вон!..
Признаюсь, у меня краска выступила на лице! Обидно!.. Ведь я хоть лыком шит, а все-таки камзол-то у меня в позументах. Он генерал!.. Да и я не обер-офицерик какой-нибудь… А делать нечего, — ведь это не у нас в губернии, заедаться не станешь. Я вышел из присутствия, только никому не поклонился, — видит бог, никому! Прошел не останавливаясь всю канцелярию; гляжу, в прихожей разговаривает с моим человеком тот самый канцелярист, который так ласково со мной обошелся.
— Что с тобой говорил этот черномазый? — спросил я Ваньку, когда мы вышли в сени.
— Да все испытывал, сударь, где вы изволите жить.
— На что ему?
— А кто его знает?
Я приехал домой, спросил себе позавтракать; вдруг шасть ко мне в комнату все тот же канцелярист.
— Не прогневайтесь, Игнатий Федорович, — сказал он, — что я незваный к вам приехал.
— Ничего, батюшка! Милости просим! Садись-ка, любезный, да не прикажешь ли чего-нибудь?
Канцелярист присел, выпил рюмку водки, закусил и говорит мне:
— Я приехал, Игнатий Федорович, потолковать о вашем деле.
— Да что о нем говорить? — сказал я. — Напрасно только я исхарчился и к вам в Питер приезжал.
— Почему знать, Игнатий Федорович!.. Ведь вы деньги внести можете только не прежде двух месяцев?
— На шесть бы недель помирился, да и того не дают.
— Бог милостив, сударь! По мне, так дело-то ваше поправное.
— Поправное? Уж не ты ли его, голубчик, поправишь?
— А почему же нет, Игнатий Федорович?
— Что ты, что ты, любезный, перекрестись! Секретарь ничего не мог сделать, ваш генерал наотрез отказал, а ты, простой писец и канцелярист…
— И, сударь, да какое вам дело до моих чинов, лишь только бы отсрочку-то вы получили, — а вы ее наверно получите. Да что из пустого в порожнее переливать!.. Давайте-ка лучше начистоту… Что, Игнатий Федорович, дадите ли пятьсот рублей?…
Я так и помер со смеху:
— Вот с чем подъехал!.. Да что я за дурак такой? Дам я тебе пятьсот рублей, за что?
— Уж я вам докладывал: за то, чтоб иметь два месяца отсрочки!
— Да, да, как же — подставляй карман! За пятьсот рублей ты мне, пожалуй, золотые горы посулишь, а как приберешь денежки к рукам, так тебя и поминай как звали!
— А вот позвольте: вы мне пожалуйте пятьсот рублей, а я вам расписку дам, в которой будет сказано, что эти деньги я обязан вам возвратить по первому востребованию. Если я ваше дельце обработаю, так вы мне расписку отдадите, а если нет, то вам все-таки опасаться нечего, ведь я у вас в руках.
Что за пропасть такая!.. Говорит так утвердительно… Неужели в самом деле?… Да нет, быть не может!..
— Послушай, любезный, — сказал я, — если хочешь, чтоб я тебе поверил, так объясни мне прежде, как ты это сделаешь?
— Нельзя, Игнатий Федорович! Штука-то больно простая: коли я скажу, так вы, может быть, пятьсот рублей пожалеете. Да извольте быть благонадежны, что господь даст больше, а уж на два-то месяца я вам головой ручаюсь.
Вот я подумал-подумал: что, в самом деле, — ведь не разорят же меня пятьсот рублей?… Была не была — пущусь наудалую! Я отсчитал ему сполна все деньги, а он дал мне расписку и отправился. Моего хозяина целый день не было дома; когда он приехал, я рассказал ему обо всем.
— Что это, Игнатий Федорович, — закричал мой приятель, — тебе еще нет пятидесяти лет, а ты уж совсем из ума выжил! Кому ты дал пятьсот рублей?… Эка важность — канцелярист, последняя спица в колеснице!.. Ну, что он может для тебя сделать? Эх, любезный, — плакали твои денежки!
— Да у меня есть расписка.
— Куда ты с ней сунешься? Почему ты знаешь, свое ли он и имя-то подписал?
— Да разве я не знаю, где он служит?
— Да, ищи его теперь в присутствии! И что ты объявишь? «Я, дескать, дал ему пятьсот рублей». — «За что? Ну-ка скажи!..» Разве ты не знаешь, что взяточник и тот, кто взятку дал, под одним состоят указом? Его обвинят, да и тебя не помилуют.
Я всю ночь не мог заснуть: и денег жаль, и досадно, что дал себя так обмануть. На другой день часу в десятом я отправился опять в присутствие; вошел в канцелярию — так и есть, злодея моего нет, а прямо ко мне идет навстречу секретарь.
— Вы, сударь, — спросил он, — опять приехали по вашему делу?
— Да-с, — отвечал я, — мне нужно кой о чем справиться.
— Напрасно беспокоились: указ о продаже находящегося в залоге села вашего послан сегодня в Курское губернское правление, и я советовал бы вам отправиться скорее в Курск. Если уж нельзя никак спасти ваше имение, так постарайтесь, по крайней мере, чтоб оно за бесценок не пошло.
Меня так в жар и бросило… Проклятый канцелярист!.. Ну, Игнатий Федорович!.. Как это ты до штаб-офицеров дослужился?… Дурак набитый!.. За что бросил пятьсот рублей?… А туда же, в подряды лезет!.. По делам хлопочет!.. Сидел бы у себя дома да зайцев травил, простофиля этакий!.. Я велел ехать к себе на квартиру. Вхожу в комнату — ба, ба, ба!.. Мой канцелярист тут!..
— Что, голубчик, — сказал я, — деньги принес?
— Никак нет, Игнатий Федорович, — я приехал за распиской.
— За распиской?
— Да, сударь. Ваше дело кончено.
— Знаю, батюшка, что кончено; указ о продаже моего села отослан сегодня на почту!
— Отослан, Игнатий Федорович: ведь все казенные пакеты надписываю и отправляю на почту я, — это по моей части.
— Да ведь в этом указе отсрочки мне не дают?
— Не дают, Игнатий Федорович.
— Так за коим же чертом ты изволил ко мне пожаловать?
— А вот позвольте! — сказал канцелярист, вынимая из кармана какую-то книжку в бумажной изорванной обертке.
— Это что? — спросил я.
— Документ, сударь.
— Документ? Какой документ?
— А вот сейчас увидите, — сказал канцелярист, перелистывая книжку.
— Постой-ка, любезный, — перервал я, — ведь это… кажется… ну, так и есть… старый календарь!
— Это так, сударь.
— Да что ж ты, господин канцелярист, иль смеешься надо мной?
— Сохрани, господи! Что вы это, Игнатий Федорович!.. Не угодно ли вам прочесть вот тут, где подчеркнуто карандашом.
Я взял календарь и прочел: «Иркутск — областной город, расстоянием от Санкт-Петербурга шесть тысяч двадцать пять верст…»
— То есть, — прервал канцелярист, — туда месяц езды да назад столько же.
— Ну, так что ж? — спросил я, глядя с удивлением на канцеляриста.
— А вот что, сударь: когда я надписывал пакет о вашем деле, так, видно, второпях, ошибся и надписал вместо Курска в Иркутск.
У меня руки так и опустились… Ну!! Подлинно штука простая, а поди-ка выдумай!
— Однако ж, любезный, — сказал я, — меня ты из петли вынул, да не попадись сам в беду; как этот пакет пришлют обратно из Иркутска, так, я думаю, тебя по головке не погладят!
— Да и казнить, Игнатий Федорович, не станут; посадят недельки на две под арест, вот и все.
— Ну то-то, брат, — смотри!
— Помилуйте, ошибка в фальшь не ставится… И что за важность такая?… Курск — Иркутск, — да тут как раз ошибешься.
— Вот твоя расписка, — молвил я, прощаясь с канцеляристом. — Ну, нечего сказать: умен ты, любезный!
— И, сударь, — проговорил с большим смирением канцелярист, — такие ли бывают умные люди! Я что: пятый год служу, а еще лошаденки не завел.
— А, чай, теперь, — промолвил Игнатий Федорович, принимаясь опять за свою трубку, — давным-давно в карете разъезжает».


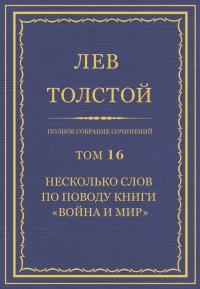
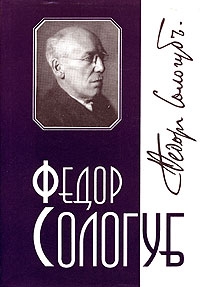
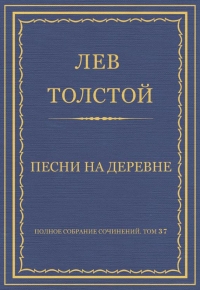
Комментарии к книге «Москва и москвичи», Михаил Николаевич Загоскин
Всего 0 комментариев