Лидия Корнеевна Чуковская Процесс исключения
ПРОЦЕСС ИСКЛЮЧЕНИЯ Очерк литературных нравов
1
В декабре 1962 года мне широко улыбнулось счастье. Издательство "Советский писатель" заключило со мной договор на мою заветную книгу: повесть "Софья Петровна". Это повесть о тридцать седьмом годе, написанная зимою тридцать девятого-сорокового, непосредственно после двухлетнего стояния в тюремных очередях. Не мне судить, какова ее художественная ценность, но ценность правдивого свидетельства неоспорима. Я до сих пор (1974) не знаю ни одной книги о тридцать седьмом, написанной в прозе здесь и тогда.
Быть может, она и существует под спудом, но еще не достигла нас? Будем надеяться…
В своей повести я попыталась изобразить такую степень отравления общества ложью, какая может сравниться только с отравлением армии ядовитыми газами. В качестве главной героини я избрала не сестру, не жену, не возлюбленную, не друга, а символ преданности — мать. Моя Софья Петровна теряет единственного сына. В нарочито искаженной действительности все чувства искажены, даже материнское, — вот моя мысль. Софья Петровна вдова; ее жизнь — сын. Колю арестовали, ему дали лагерный срок; его объявили "врагом народа". Софья Петровна, приученная верить газетам и официальным лицам более, чем самой себе, верит прокурору, который сообщил ей, будто сын ее "сознался в своих преступлениях" и заслужил приговор "10 лет дальних лаге-рей". Софье Петровне твердо известно от самой себя, что никаких преступлений Коля не совер-шал и совершать не мог, что он до кончиков ногтей предан партии, родному заводу, лично товари-щу Сталину. Но если верить самой себе, а не прокурору, не газетам, то… то… рухнет вселенная, провалится под ногами земля, прахом пойдет душевный комфорт, в котором ей так уютно жилось, работалось, аплодировалось… И Софья Петровна делает попытку верить одновременно и прокуро-ру и сыну, и от этой попытки повреждается в уме. (Я, собственно, и хотела написать книгу об обществе, поврежденном в уме; несчастная, рехнувшаяся Софья Петровна отнюдь не лирическая героиня; для меня это обобщенный образ тех, кто всерьез верил в разумность и справедливость происходившего. "У нас зря не посадят". Если разуверишься, спасения нет; остается одно — удавиться.)
Обобщить виденное и пережитое Софья Петровна неспособна, и укорять-то ее за это — нельзя, потому что для мозга рядового человека происходившее имело вид планомерно организо-ванной бессмыслицы; как осмыслить нарочито организованный хаос? Да еще в одиночку: стеною страха каждый прочно отделен от каждого, пережившего то же, что он. Таких, как Софья Петров-на, множество, миллионы, но когда из сознания народа изъяты все документы, вся литература, когда подлинная история целых десятилетий подменена вымышленной, то каждый ум брошен сам на себя, на свой личный опыт и работает ниже себя.
…Долгие годы повесть моя существовала в единственном экземпляре: толстая школьная тетрадь, лиловые чернила. Хранить тетрадь дома я не могла: три обыска и полная конфискация имущества были уже у меня за плечами. Тетрадку мою приютил друг. Если бы ее у него обнару-жили, его бы четвертовали. За месяц до войны я уехала из Ленинграда в Москву для медицинской операции; друг мой остался в Ленинграде; его по болезни не взяли в армию, и, как я узнала, оказавшись в Ташкенте, — он умер от голода во время блокады. Накануне смерти передал мою тетрадку сестре: "верни если обе останетесь живы".
И вот я жива, и в руках у меня моя тетрадь. И умер Сталин, и состоялся XX съезд, и я дала мою тетрадь перепечатать на машинке, и мою повесть читают друзья. А после XXII съезда, в сентябре 1962 года, я предложила повесть издательству "Советский писатель"; все по правилам, все честь честью: в результате двух благоприятных рецензий повесть — в декабре одобрена, принята, со мною заключен договор на принятую вещь; в январе 1963 года мне выплачивают 60 % гонорара; в марте показывают готовые и принятые отделом оформления рисунки; рукопись вот-вот должна пойти в набор и превратиться в книгу. Чудо!
Я видела, что издательство к моей повести расположено, что оно сочувствует ей и мне. Молодые редакторши, читая, плакали, и каждая просила экземплярчик для мамы и для мужа; художница исполнила рисунки с быстротой необычайной. Да что художница! Сама т. Карпова, главный редактор, правая рука самого директора, т. Лесючевского, та самая Карпова, от которой до тех пор на своем литературном пути я привыкла выслушивать одни лишь вежливые грубости, говорила мне теперь одни лишь грубые комплименты.
Единственное, чего потребовало от меня издательство: написать предисловие. Я написала.
Комплименты, расточаемые мне, искренние и неискренние, понятны были вполне. Скорость, с какой читали, рецензировали, готовили к сдаче в набор мою повесть, — тоже. Еще бы! Ведь "культ личности" разоблачен, тело Сталина вынесено из мавзолея, и каждая газета, каждый журнал, каждое издательство обязаны хоть в малой мере «откликнуться» на "разоблачение массовых нарушений социалистической законности": статьей, рассказом, стихами, повестью или романом.
Откликались! Карпова глубоко и сочувственно вздыхала, говоря о тяжелом прошлом, мудро и своевременно разоблаченном партией, — прошлом, которое никогда не вернется, и о "восстанов-лении ленинских норм партийной жизни". (Можно было подумать, будто нормы беспартийной жизни свято соблюдались всегда.)
И вдруг — одни почувствовали это ранее, я, отчетливо, в 63-м году, кругом, все нарастая, поползли тревожные слухи: «наверху» перемена курса, неудовольствие, литература слишком уж углубляется в "последствия культа", надо говорить о достижениях, а не об «ошибках»; партия на XX и XXII съездах своими решениями все объяснила и все исправила; довольно, хватит. Уцелев-шие возвращены из лагерей и тюрем, реабилитированы, им предоставлено не одно лишь жилье, и они даже, подумайте только, трудоустроены; родным погибших выданы справки о посмертной реабилитации сыновей, сестер, мужей; чего же еще? зачем же сыпать соль на раны? приступим к очередной посевной или очередной уборочной. "На энском заводе задута новая домна".
7 и 8 марта 1963 года состоялись разъяснительные встречи руководителей партии и правитель-ства с интеллигенцией. Я — не того ранга интеллигенция, чтобы меня на высочайшие встречи приглашать; но в мае я получила другое приглашение: в издательство. Меня пригласил к себе заведующий отделом советской литературы т. Козлов и, с одной стороны, невразумительно-доброже-лательно, с другой — непреклонно и категорически объяснил мне, что моя повесть хоть и принята, и сдана в производство, и даже на 60 % оплачена, но напечатана быть не может.
Хотела было я зайти по этому случаю к самой Карповой, но ее не оказалось: то ли она болела, то ли была в отпуске или в командировке. Не помню.
Конечно, отказ издательства был для меня настоящим жизненным крушением, горем, но собственно к издательству претензий я не имела. Я видела, что многие работники искренне хотели опубликовать мою повесть. Но у нас ведь не редакции решают (в сколько-нибудь серьезных случаях), что издавать, а чего не издавать. Приказ есть приказ, запретная тема запретная тема… Однако через некоторое время зашла я все-таки к главной поклоннице моей повести и главному редактору издательства "Советский писатель" т. Карповой. Села в кресло напротив нее. Спросила, как она полагает, долго ли будет длиться запрет.
— Странно, — сказала я, между прочим. — Ведь это как если бы об Отечественной войне предложено было напечатать три повести, три поэмы, три рассказа, три романа и — точка. "Не будем сыпать соль на раны!" — ведь в каждой семье убиты отец, или муж, или брат, или сын, а иногда по четверо в одной семье, и близким тяжело вспоминать о погибших. Но война длилась четыре года, а "культ личности" со своими «последствиями» — около тридцати. В каждой семье — отец, или муж, или брат, или жена, или сестра, а бывает, следа от целой семьи не осталось. Война — дело чудовищное, но можно понять ее причины и смысл, а вот смысл и причины "культа личности" и все, что этим «культом» вызвано, осмыслить много труднее. Тут каждый документ драгоценен для будущих поколений, для исследователей, в том числе и моя повесть.
— Я с самого начала говорила вам, — ответила без запинки Карпова, что ваша повесть идейно порочна. Причины же и последствия культа опубликованием в газетах партийных докуме-нтов достаточно разъяснены. Выступления Никиты Сергеевича и встречи руководителей партии и правительства с интеллигенцией внесли дополнительную ясность. Я же никогда не заблуждалась насчет вашей порочной позиции.
Карпова, главный редактор издательства "Советский писатель", в литературных кругах славилась своей патологической лживостью. Даже поговорка сложилась: "врет, как Карпова". Но прямая, наглая, бесстыдная ложь, сколько бы раз с ней ни встретиться в жизни, всегда ошеломляет наново. Об идейной порочности моей книги Карпова никогда не проронила ни слова. Напротив, более всех торопилась заключить договор и объявить «одобрение».
— Как вам не стыдно, — сказала я, растерявшись.
— Будьте еще благодарны издательству, — ответила Карпова, уткнувшись в бумаги, — что мы потребуем с вас деньги обратно. Государственные деньги на вашу повесть истрачены зря.
(Государственные деньги! Не ради денег писалась моя повесть в ту пору, когда вокруг меня, в моем родном городе, расстреливали каждого десятого, а может быть, пятого!)
Однако лгунья подала мне отличную мысль. Идею ответного удара.
— Деньги? — переспросила я, поднимаясь. — Деньги вы не вправе требовать у меня обратно. Этого не допустит закон. Принятую и одобренную к печати рукопись вы в любом случае обязаны оплатить полностью. Не я вам, а вы мне должны деньги. Я буду требовать их судом. Издательство переменило свои намерения? Пусть оно и будет оштрафовано, а при чем здесь автор?
— Попробуйте, попробуйте, — ответила мне Карпова в спину.
Через некоторое время я отправилась к юристу Союза Писателей. Услышав, что рукопись моя была принята и одобрена, что к ней были приняты рисунки, что мне выплачены 60 % гонорара, он определил мой иск как безусловно законный. Но тут же добавил: "Писатели обычно избегают судиться с издательством, потому что впредь оно перестает издавать их". Меня это не смутило. Я поехала в Управление по охране авторских прав, где один из молодых юристов, ознакомившись с копией договора, сразу согласился написать от моего имени жалобу в суд и представлять на суде мои интересы.
Время перед судом тянулось медленно. Судья вызвал меня и потребовал рукопись. Читал около месяца, если не более. Мнения своего не высказывал. Затем судебное разбирательство назначалось дважды и дважды откладывалось: не являлся ответчик. Я уж думала: все это неспроста. Наконец 24 апреля 1965 года заседание народного суда Свердловского района города Москвы при открытых дверях состоялось. Небольшой зал был полон. Судья вел дело сухо и точно, по-прежнему не говоря ни слова о повести. Юрист издательства "Советский писатель" был весьма многоречив. Он сообщил суду, что в повести обнаружен "идейный перекос", что раньше работни-ки издательства, находясь "в угаре конъюнктуры после XX и XXII съездов", не заметили этого перекоса, а теперь, в свете новых партийных решений, "взглянули на повесть другими глазами"; что повесть моя — всего лишь фотография, запечатлевшая одни лишь уродливые стороны нашей жизни; она лишь материал, из которого, поработав, можно было бы, пожалуй, создать "ударное, с ясных партийных позиций, произведение"; что повесть идейно неполноценна; что в издательство после опубликования "Одного дня Ивана Денисовича" хлынул поток произведений на лагерную тему, которому необходимо положить предел; что и Солженицына, может он нам сообщить доверительно, никто издавать более не собирается. "Да, да, он-то собирается, но мы не собираем-ся…" "Мы не сами поняли вредность темы, а нам указали: коммунистам печатать книги на эту тему нет необходимости, а главное, нет пользы…" В зале смеялись, перешептывались и, как я заметила, многие записывали*. "Если Чуковская это дело выиграет, заявил напоследок юрист издательства, — это окажется дурным прецедентом". Юрист из "Охраны авторских прав" был, напротив, очень краток. Он заметил, что мы не в Англии, что судопроизводство у нас не прецеден-тиальное, а закон об авторском праве ясен (он привел соответствующие пункты): рукопись одобрена, издательство в любом случае обязано выплатить автору все 100 % гонорара.
* Одна из записей этого судебного разбирательства опубликована за границей в 1972 году — через семь лет! — в "Политическом дневнике" 1964–1970; Амстердам, Фонд имени Герцена, с. 51–57. (Запись сделана Р. Орловой.)
Зал слушал его с сочувствием, судья — бесстрастно. Несколько раз, после очередной речи многоречивого издательского юриста, судья приказывал мне:
— Отвечайте!
Я отвечала. Сказала я, в частности, что, если перестанут издавать Солженицына, это будет большой бедой для страны; что, впрочем, моя "Софья Петровна" и его "Иван Денисович" — повести, написанные о разных временах, в разное время и на разные темы: его — о лагере, моя — о «воле»; сказала, я также, что если принята и одобрена моя повесть была "в угаре конъюнктуры после XX и XXII съездов", то не в угаре ли новой конъюнктуры договор теперь расторгается? И неужели решения XX и XXII съездов — это "угар конъюнктуры" — всего лишь?.. Я сказала, что если злодеяния прошедших годов могли совершиться, то не потому ли, в большой степени, что редакции газет, заваленные стонущими, плачущими, вопящими письмами, в которых родные молили вступиться, пересмотреть дела их близких, — лишены были возможности эти письма печатать? Редакторы не смели в угоду конъюнктуре. И действительно кто бы в ту пору "осме-лился посметь"? Подписать к печати подобный вопль значило тогда подписать себе смертный приговор.
Готовность редакций — всех! на всем огромном пространстве нашей страны, редакций всех газет, книг, журналов, всегда повиноваться дирижерской палочке стоящего у пульта дирижера, допускать или не допускать на свои страницы то или другое сообщение (например, о беззаконных арестах и пытках), — не есть ли одна из причин совершившегося? Я сказала: пусть моя повесть всего лишь фотография, а не живопись, но на этой фотографии запечатлен весьма существенный момент истории нашего общества, и повесть необходима всем, кто хочет задуматься над совершившимся.
Народные заседатели задавали ответчику вопросы, главным образом уточняющие даты "процесса прохождения". Судья был молчалив. По существу он задал юристу издательства всего один вопрос. Предоставив ему подробно обосновать утверждение, будто повесть моя "идейно неполноценна", судья спросил:
— А что, при заключении договора на принятую вещь, когда автору выплатили 60 % гонорара, тогда повесть была полноценной?
Выслушав юриста издательства, юриста "Охраны авторских прав" и меня, суд удалился на совещание.
Минут через двадцать:
— Суд идет… Прошу встать…
Зал встал настороженно.
— Именем Российской Советской Федеративной Социалистической Республики…
Именем Российской республики народный суд Свердловского района постановил: издательство обязано выплатить автору все 100 % гонорара ввиду того, что рукопись отклонена уже после одобрения.
Деньги были мне выплачены через несколько дней…
А повесть?
Над выпуском книг суд не властен. Повесть, подхваченная Самиздатом, давно ходившая по рукам, перешла границу.
В 1965 году в Париже, в издательстве "Пять Континентов", под другим названием ("Опусте-лый дом"), с переменой имен некоторых героев (например, "Ольга Петровна" вместо "Софья Петровна") повесть была опубликована по-русски. Затем в Америке в двух номерах "Нового журнала" (1966, № 83 и 84, Нью-Йорк) под верным заглавием и без перемены имен тоже по-русски. Затем оказалась она переведенной на многие языки мира: я видела ее своими глазами по-английски, по-немецки, по-голландски, по-шведски и слышала, что существуют издания на других языках.
Благодарна Самиздату, заграничным издателям и переводчикам. Никакой шальной обыск по делу № 27 или 227 или 20227 не уничтожит теперь мое свидетельство. Конечно, давать моей повести другое заглавие (вместо имени героини — "Опустелый дом") не следовало; речь в моей книге идет об интеллигентном обществе, ложью доведенном до утраты сознания. Софья Петровна (Ольга Петровна тоже) — представительница этого общества. Перемена названия в данном случае есть покушение на перемену замысла… Но как бы там ни было, я все равно благодарна.
Однако, испытывая благодарность, утоления не чувствую. Жду одного, хочу одного: увидеть мою книгу напечатанной в Советском Союзе. У меня на родине. На родине Софьи Петровны. Жду терпеливо: 34 года*.
* Нет, 48. В 1988 году "Софья Петровна" опубликована в журнале «Нева», № 2, а затем в моей книге, выпущенной издательством "Московский рабочий".
Я хотела бы подвергнуть повесть одному-единственному суду: моих сограждан, молодых и старых, в особенности старых, переживших то же, что выпало на долю пережить мне и столь непохожей на меня женщине, которую я выбрала героиней своего повествования, — Софье Петровне, одной из тысяч, виденных мною вокруг.
2
XXII съезд партии принял решение воздвигнуть памятник невинно замученным — создать нечто вроде пантеона. Но решить решили, а исполнено не было. Напротив, как прекрасно разъяснил на суде в апреле 1965 года «ответчик», "нам, коммунистам", поминать случившееся "нет необходимости, а главное, нет пользы".
Что правда, то правда. Известный современный поэт давно написал (по другому поводу):
…штабелями
В снегу лежали не дрова…*
*Александр Межиров. В блокаде. В кн.: Поздние стихи. М.: Советский писатель, 1971, с. 191.
Написал поэт о блокадном Ленинграде. Но и в лагерях штабелями в снегу лежали не дрова. Естественно, ответчику отвечать за штабеля трупов неохота.
Памятник погибшим воздвиг пока что один А.Солженицын великой книгой "Архипелаг ГУЛАГ" — писатель, изгнанный за свою упорную памятливость из пределов отечества. Те, кто в 1974 году изгнали из страны Солженицына, уже в 60-х, а может, и ранее решили вычеркнуть из истории, вытравить случившееся из памяти поколений. Пусть мерзлая земля молча хранит мертвых, пусть вьюга заметет могилы, пусть их оплачет ветер. Но не слово.
Могучий «Реквием», плач Анны Ахматовой по загубленным жизням, до сих пор не прозвучал у нас на родине.
Звезды смерти стояли над нами,
И безвинная корчилась Русь
Под кровавыми сапогами
И под ковшами черных марусь*.
* «Реквием» опубликован в 1988 году в журнале «Нева», № 6.
…А ведь какая пошлая ложь — мысль, будто поминать и оплакивать означает растравлять раны. На самом деле это единственный известный человечеству способ лечения. Недаром церковь создала для верующих бессмертные слова об усопшем, и панихида — это высокое утешение, не растрава; панихида бесцерковная — тоже. Произнести скорбное слово об ушедшем, о погибшем или загубленном — это не значит "сыпать соль на раны", это значит выплакать соленые слезы и утереть их.
…Приблизительно через четыре года после XX съезда и за год до XXII в «Правде» (29 апреля 1960) была помещена одна из глав поэмы Твардовского "За далью — даль". Касаясь "последствий культа", поэт писал:
Да, все, что с нами было,
Было!
А то, что есть,
То с нами здесь.
Нельзя считать эти четыре строки (в особенности две последние) удачными, богатыми мыслью. Они ниже Твардовского. Но в них, по крайней мере, содержалось признание: то, что с нами было, — было*. А приблизительно годика через полтора после XXII съезда начал закреп-ляться новый вариант уже не поэмы Твардовского, а фальсификации истории.
То, что с нами было, — того, оказывается, не было. Не отрицали нигде прямо, что оно было, но на этом месте — зияние, пауза, пропуск.
Мне постоянно приходили на память герценовские строки: "то, о чем не осмеливаешься сказать, существует лишь наполовину"**.
* Здесь и далее авторская разрядка, по техническим причинам, заменена издателями курсивом. — Примеч. ред. 1997.
** А. И. Герцен. Собр. соч. в 30 т. М., 1956, т. 7, с. 214.
Сначала «наполовину», потом на 1/4, на 1/10; потом пострадавшие и свидетели вымрут, а если вовремя заткнуть рот прессе (благо у всей нашей прессы рот один!), то новые поколения толком ничего и не узнают, и не осмыслят, и не выведут для себя из истории отцов и дедов никакого урока.
Расчет очень верный. Процесс выкорчевывания памяти шел и идет с полной неуклонностью, однако неравномерно, рывками: два шага вперед, три назад. Так, например, даже в 1972 году Краткая Литературная Энциклопедия еще ставила галочку: "незаконно репрессирован, посмертно реабилитирован". В других же изданиях уже в шестидесятые годы хотя писатели и пробовали иногда намекнуть на случившееся — попытки оказывались напрасными. Вот, например, книга Льва Славина "Портреты и записки" (1965). Очерк, посвященный жизни и творчеству писателя Виктора Кина. Абзац, который, по всей видимости, в конце должен был сообщать о его гибели, читается так:
"В те годы Кин… (напомню, он был корреспондентом ТАСС в фашистской Италии. — Л. Ч.)… в те годы Кин говорил, что он мечтает дожить до того времени, когда восставший народ вздернет Муссолини. Предсказание Кина сбылось. Но… сам он не дожил до его свершения. Он не мог предвидеть того чудовищного, что случилось с ним самим" (с. 106).
Что же такое случилось с ним самим? Его тоже вздернули, как Муссолини? А может быть, он заболел раком?
Попытка рассказать оборвана. Ответа нет. Следующий абзац (я убеждена: сделанный после насильственного пропуска) возвращает нас к огромному успеху романа Виктора Кина "По ту сторону". Начинается абзац с многоточия: знак пропуска. Биограф от судьбы Кина срочно переходит к судьбе его романа: судьба романа своим чередом, судьба автора — своим.
Напрасно думать, однако, что выкорчевывание из памяти народа всего пережитого началось так поздно, года через два после очистительных громов XXII съезда. Уже после XX, в самый разгар реабилитаций, Большая Советская Энциклопедия, сообщая в 1957 году, что грузинский поэт Тициан Табидзе был "вдохновенным певцом великих дел советского народа", а грузинский поэт Паоло Яшвили "воспевал героический созидательный труд" — не правда ли, как хорошо? — гибель этих вдохновенных певцов просто обходит молчанием. В скобках против обоих имен стоят даты рождения и «смерти»: (1895–1937).
Сверстники. Погодки. Каждый из них, обращаясь к другому, мог воскликнуть: "Мой брат родной по музе, по судьбам", но в 1957 году, то есть через 20 лет после их гибели и через год после XX съезда, от читателей Большой Советской Энциклопедии судьбы их были уже — или еще? — утаены: Табидзе в 1937 году расстрелян, а Яшвили загнан в самоубийство.
В 1958 году в статье, посвященной биографии Артема Веселого (Артем Веселый. "Избранные произведения". Гослитиздат), через два года после XX съезда то ли редакция, то ли кто иной так обрывает рассказ о писателе:
"Но много поработать Артему Веселому уже не удалось. Его полная творческого нетерпения и труда жизнь оборвалась рано" (с.22).
От нетерпения?
А вот — о судьбе Бруно Ясенского. Вдова Ясенского, арестованного и погибшего в заключе-нии, сохранила его рукописи, и в 1957-м, то есть после XX съезда и после реабилитации, Гослит-издат опубликовал двухтомник его сочинений. Вот как сообщает о гибели мужа во вступительной статье вдова:
""Заговор равнодушных" — роман, который не удалось Ясенскому окончить, в связи с трагическими событиями в его жизни. Преждевременная смерть унесла смелого и горячего коммуниста, талантливого писателя, прекрасного поэта".
Итак, трагическим событием в жизни Ясенского была его преждевременная смерть. Не инсульт ли? Людям горячим часто случается умирать от инсульта или, как говорили в старину, от «удара»; погорячился, "кровь бросилась ему в голову" — и конец.
А может быть, кровь лилась из простреленной головы?
…Посмертная судьба Виктора Кина менялась на глазах, демонстрируя своей переменчивостью, какими извилистыми были пути заталкивания истории в небытие. Повторяю: процесс этот совершался неравномерно, зигзагами. Начался сразу; и необязательно, чем позднее — тем лживее; иногда наоборот. Например, как мною уже рассказано, Лев Славин в 1965 году сообщил, по крайней мере, в своих воспоминаниях, что с Кином случилось нечто «чудовищное», — а в 1961-м, то есть на четыре года раньше, в тот памятный год, когда Сталин был вынесен из мавзолея, а в год XXII съезда, — Б. Галанов, преподнося читателю биографию того же Виктора Кина, ни о чем чудовищном не упоминает*. (Многое, по-видимому, зависело не только а от напора издательств, а и от отпора биографов.) У Галанова выходит нечто благостное: умер человек и умер. Должен каждый человек когда-нибудь умереть. Это само собой разумеется. Где, когда, отчего — зачем огорчать читателя?
* Б. Галанов. Виктор Кин и его роман. В кн.: Виктор Кин. По ту сторону. М.: Гослитиздат, 1961.
Семидесятые годы — уже почти сплошь эпоха неупоминаний. Либо о гибели в заключении не упоминается вовсе, либо жизнь погибшего превращена в жизнь путешественника.
Приведу пример виртуозного умения избежать слова «гибель».
Бетал Калмыков, первый секретарь Кабардино-Балкарского обкома партии, в 1938 году был расстрелян. Затем реабилитирован, и ему — редкая почесть дли расстрелянного! — на одной из площадей Нальчика воздвигнут памятник. Вот как сообщается о его гибели в очерке В.Чимарева и В.Комиссарова "Главное — впереди!" (мне представляется, у Калмыкова уже позади).
"Бегают по улицам Нальчика мальчишки и девчонки, для которых имя его история. И непо-нятно им подчас, почему их деды и бабушки нередко приходят к памятнику, установленному на площади, смотрят на бронзового Бетала, не вытирая слез"*.
* Альманах «Прометей». М.: Молодая гвардия, 1972, т. 9, с. 19.
Вот тут бы Чимареву и Комиссарову самое место и объяснить недоумевающим мальчишкам и девчонкам, с чего это их бабушки и дедушки нередко расстраиваются, глядя на памятник. Какая могла быть правдивая, увлекательная и поучительная повесть! Но книга молчит. Будем надеяться, «подчас» пробалтываются бабушки и дедушки.
Это — способ умолчать о расстреле. А вот способ умолчания о ссылке и лагере.
Философ, лингвист, теоретик литературы, исследователь Достоевского и Рабле, автор теорети-ческих работ о русском и западноевропейском романе, М.М.Бахтин провел несколько лет в ссылке в Казахстане. Сейчас он живет в Москве*. В честь его 75-летия, в Саранске в 1973 году издан сборник статей "Проблемы поэтики и истории литературы". Юбиляру посвящена почетная первая статья, открывающая сборник. Но правдивого жизнеописания юбиляр не удостоен. В статье В. Кожинова и С. Конкина о его ссылке — ни звука. Просто Бахтин — очевидно, такой уж подвиж-ный характер! — предпочел изучать историю русской литературы в глуши, подальше от централь-ных архивов и библиотек. Читаем:
"Вскоре после выхода книги о Достоевском М.М.Бахтин поселился на границе Сибири и Казахстана, в г. Кустанае".
Сам поселился. Поселил себя сам. Жил-жил в Ленинграде, взял да и переехал. В глушь — в Кустанай.
* 7 марта 1975 года М. М. Бахтин скончался. — Примеч. 1975 года.
В № 9 альманаха «Прометей» за 1972 год напечатана автобиография П.А.Флоренского. Напо-минаю: священник П.Флоренский, родившийся в 1882 году, — русский религиозный философ, писатель, богослов, историк православия; ученый-энциклопедист: специальностью Флоренского была и математика, и теория перспективы в изобразительном искусстве, и электротехника, и интерпретация библейских текстов на разньгх языках. Во вступительном очерке к автобиографии Л. Палневский указывает дату смерти 1943 (кстати, не очень достоверную), но забывает указать причину: арест и заключение.
А поэт Осип Мандельштам пером А.Дымшица просто обращен в путешественника. Этакий поэт-непоседа. Жил в Петербурге; до революции побывал в Западной Европе, в Италии, в Париже, ну а потом принялся колесить по родной стране. На страницах предисловия А.Дымшица к тому «Стихотворений» Мандельштама, вышедшему после пятнадцатилетних мытарств в Большой серии "Библиотеки Поэта"*, рассказывается, что Мандельштам живал в Крыму, в Москве, в Петрограде, опять в Крыму, потом в Тифлисе, потом опять в Петрограде, опять в Москве, снова в Тбилиси, потом в Ереване, в Ростове, в Перми, в Абхазии, — потом, представьте себе, в крохот-ном городке Чердыни (на Каме), потом в Воронеже, — ну а потом, потом — "оборвался творчес-кий путь Мандельштама". Комар носу не подточит — все правда. А что Чердынь и Воронеж были ссылкою, а умер Мандельштам арестованным и, после тюрьмы, в пересыльном лагере под Влади-востоком, на творческом пути в тундру, — об этом предисловщик умалчивает. Хочу надеяться: потому и не выходил так долго — полтора десятилетия! — том стихотворений Мандельштама с отличным комментарием Н. Харджиева, что не могли подобрать литератора, который согласился бы умолчать истину: Мандельштам не умер, он был убит тюрьмою, ссылкою, этапом, лагерем.
* О. Мандельштам. Стихотворения / Вступительная статья А. Л. Дымшица. Составление, подготовка текста и примечания Н. И. Харджиева. Л.: Советский писатель, 1973.
Пушкин был убит — в 1837 году — императорским двором и Дантесом. Убит, а не умер. Так вот, хоть и без Дантеса, через сто лет Мандельштам в 1937 году тоже был убит, а не умер.
Подобная подмена — это, в сущности, вторичное убийство. И нашелся в конце концов человек, считающий себя литератором, у кого повернулась рука написать эту злодейскую ложь. Такой ценой — ценою извращения биографии поэта, вышли у нас на родине его стихи.
Мне скажут (и говорят): вот и прекрасно! вот и должно платить подобную цену. Не напиши Дымшиц своего окаянного вранья — не получил бы советский читатель принадлежащего ему наследства: поэзии Мандельштама. А так? Что ж! Дымшица можно не читать, можно даже выдрать его предисловие из книжки, а стихи Мандельштама дошли наконец до читателей. Следует даже быть благодарными Дымшицу. Он в некотором смысле доблестно принес себя в жертву.
Быть может, говорящие — арифметически правы. (Впрочем, замечу: советский читатель получил самую малость тиража. Иноземный тоже. Куда делся тираж? "Загадочная картинка".)
…Не берусь судить о правоте людей, мыслящих арифметически. "Соглашусь умолчать о гибели Флоренского, зато мне удастся многое о нем рассказать". Правилен ли этот расчет? Честно отвечаю: судить не берусь. Надо мною подобная арифметика власти уже не имеет.
Я ведь тоже еще не так давно была печатавшимся советским литератором. Значит, в той или иной степени я соучастница общей лжи и общего молчания. Но для каждого человека наступает час, когда правда берет его за горло и навсегда овладевает душой. Общего для всех часа нет: "душа темна, пути лукавы". Со мной это случилось, когда в застенках моего родного города обильно полилась кровь. С опозданием я открыла глаза? Да, конечно: ведь не очнулась же я раньше, например в годы коллективизации; однако очнулась. Открыв глаза, я написала — хоть и "в стол" или, точнее, под землю, но все-таки написала — "Софью Петровну", повесть об ослеп-шем обществе. Через два десятилетия (после смерти Сталина, после XX и XXII съездов) я была, как и многие, обольщена надеждой. Значит, написано было когда-то не зря, значит, теперь будет опубликовано! Люди прочитают. Но надежда моя не осуществилась. Когда же я поняла, что у нас начинают снова отнимать память, я поняла и другое: ни за какие блага в мире я это выстраданное достояние не отдам. И людям буду мешать заново впасть в беспамятство. Пусть никогда больше не напечатают ни единой моей строки, пусть останутся неосуществленными дорогие мне литера-турные замыслы — но выкорчевывать из моего текста имена погибших и общее имя их гибели я ничьей руке не позволю. Никому, никогда. Не стану ни взвешивать, ни измерять, ни рассчитывать что лучше? сказать хоть что-нибудь о погибшем человеке или не сказать ничего, раз о гибели нельзя?
Пусть каждый решает этот вопрос вопросов по-своему.
Для себя я решила.
Казалось бы, не Бог весть какое трудное решение. А на деле, в наших условиях, оно нелегко — и не только из-за денег, которые вам выплатят или не выплатят, а морально. И не только, когда речь идет о загубленных людях, но и о загубленных книгах. Всего лишь.
Сколько раз на собственном литературном пути я уступала, отказывалась по требованию редакций говорить в печати о дорогом и важном — мне, читателю! Как все литераторы, я печата-лась в рамках советской цензуры. А в этих рамках всякий литератор неизбежно превращается в некий арифмометр. Согласишься на уступку — и тебе разрешат произнести вслух нечто, представ-ляющееся тебе чрезвычайно важным. Не согласишься — не дадут сказать ничего. Сосчитай, что разумнее. И я когда-то была арифмометром: рассчитывала — высчитывала. Для начала возьму пример, вовсе не касающийся гибели человека. Речь пойдет о гибели книги.
Случилось мне много писать о Борисе Житкове. Я убеждена, что такие его вещи, как «Дядень-ка», "Николай Исаич Пушкин", «Храбрость», "Про слона", "Механик Салерно", «Джарылгач», «Мираж», "Тихон Матвеич", «Мангуста», "Сию минуту-с!..", — это замечательная русская проза. А рассказ «Слово», появившийся посмертно, — шедевр*. О рассказах Житкова я много говорила в печати. Но были у него не только рассказы, был роман "Виктор Вавич", посвященный 1905 году, — роман, который автор, участник первой революции, почитал главным делом своей жизни. С конца двадцатых и до половины тридцатых я была дружна с Борисом Степановичем. Он читал мне «Вавича» вслух, по рукописи, главу за главой. Судьба у "Виктора Вавича" странная: при жизни автора отрывки из романа были опубликованы в нескольких номерах журнала "Звезда"** и отдельные части, I и II, в издательстве «Прибой» и в "Издательстве писателей в Ленинграде". Житков скончался (от рака легких, на воле) в 1938-м. Наконец в 1941 году издательство "Совет-ский писатель" выпустило весь роман целиком. Выпустило? И да и нет. Формально — да, в действительности — нет. В "Книжной летописи" (1941, № 20) роман значится вышедшим. Значиться-то значится, а до читателей не дошел. Время ко дню его выхода наступило крутое, военное, издательства срочно пересматривали не только принятые рукописи и планы на будущее, но и кипы уже отпечатанных книг. "Нужна ли книга", хотя бы и отпечатанная, «сегодня», сейчас? Издательство послало «Вавича» на рецензию тогдашнему руководителю Союза Писателей. Приго-вор был таков: не нужна. Книга хоть и талантливая, но "не полезна в наши дни"; она "страдает двумя крупнейшими недостатками, которые мешают ей увидеть свет, особенно в наши дни".
* Москва, 1957, № 5.
** 1932, № 6 и 7.
Приговор был приведен в исполнение: роман не увидел света.
Из десятитысячного тиража просочилось наружу, по-видимому благодаря рабочим типогра-фии, экземпляров 10–15. Свет увидела не книга, а тайная рецензия, сделавшаяся явной*.
* Александр Фадеев. За тридцать лет: Избранные статьи, речи и письма о литературе и искусстве. М: Советский писатель, 1957, с. 811–812.
"Эта книга, написанная очень талантливым человеком, изобилующая рядом прекрасных психологических наблюдений и картин предреволюционного быта, страдает двумя крупнейшими недостатками, которые мешают ей увидеть свет, особенно в наши дни:
1. Ее основной персонаж Виктор Вавич, жизнеописание которого сильно окрашивает всю книгу, — глупый карьерист, жалкая и страшная душонка, а это в соединении с описаниями полицейских управлений, охранки, предательства делает всю книгу по тону очень неимпонирую-щей переживаемым нами событиям. Такая книга просто не полезна в наши дни.
2. У автора нет ясной позиции в отношении к партиям дореволюционного подполья. Социал-демократов он не понимает. Эсерствующих и анархиствующих идеализирует.
1941"
Я всегда полагала, уверена и теперь, что роман Бориса Житкова "Виктор Вавич" — один из самых сильных романов в русской советской литературе "досолженицынского периода". Быть может, самый сильный.
Но роман этот не сделался достоянием читателей. Описание охранки и предательства для нас, видите ли, не современно!
В 1955 году я предложила "Литературной Газете" статью "Утаенное наследство". В ней попрекала я главным образом Детгиз: издательство переиздает только рассказы Житкова для маленьких (слабейшие, на мой взгляд, из им написанных), а рассказы для подростков — замечательные богатством языка, лаконизмом, силой изображения, неожиданностью фабульных поворотов и глубиною и ясностью этического вывода — Детгиз, писала я, никак не соберется переиздать уже лет семнадцать. Почему этого своего наследия советский читатель лишен?
Статья моя была редакцией газеты принята, но при одном непременном условии: о романе "Виктор Вавич" ни звука. Почему? Неизвестно. Тайное еще не сделалось явным: «внутренняя» рецензия А. Фадеева еще не вышла наружу. Роман Бориса Житкова "Виктор Вавич" в 1941 году был по повелению свыше уничтожен — значит, и настаивать на его издании без нового указания свыше не следует. Тем более что он числится в вышедших, — чего же вам еще?
Но ведь статья моя называется "Утаенное наследство"! О том-то я и пишу — об одном из случаев разорения русской культуры! Читатель не получил принадлежащего ему наследия!
Нельзя. Упреки по адресу Детиздата, что не переиздается много лет «подросточий» Житков, — это пожалуйста. А насчет необходимости в самом деле издать роман "Виктор Вавич", дать его читателям, а не библиографии промолчите.
— Почему?
— Промолчите.
И я промолчала. Из соображений чистой и безусловной арифметики: если запрещено доби-ваться переиздания романа, мне надлежит добиваться хотя бы переиздания рассказов — тем более что при жизни автора они постоянно попадали под обстрел педагогов, всегда предпочитающих литературную гладкопись богатству мысли и своеобразию стиля. Расчет чисто арифметический: если нельзя издать всего Житкова — пусть переиздадут хотя бы часть.
Ценою этой уступки да еще переменой заглавия статья вышла в свет*.
* Статья "Утаенное наследство" была напечатана "Литературной Газетой" 29 января 1955 года под заглавием, которое утаивало ее смысл; редакция назвала мою статью не "Утаенное наследство", а "Вперед — в страну взрослых". И я согласилась. Ведь зато этой статьей мне удалось добиться переиздания многих прекрасных рассказов!.. И такую ли еще уступчивость, всего лишь такую ли, проявляла я на своем, долгом литературном пути! Вспомнить стыдно. В мою книгу "Декабристы — исследователи Сибири" (Географгиз, 1951) я разрешила редактору вставить строки, восхваляющие сталинскую Конституцию и сталинское индустриальное преобразование Сибири, хотя к тому времени я уже отлично знала цену и той и другому. Но я покорствовала общепринятой теории "наклеенной марки". Наклеишь марку (то есть вставишь казенные фразы) — письмо дойдет, а не наклеишь — твое письмо не доставят по адресу. А в моей книге — в моем письме к читателю содержится такой, казалось мне, ценный исторический материал: рассказано о культурной работе декабристов в Сибири. Ну, соглашусь помянуть лишний раз сталинскую Конституцию. И за то…
Арифметика моя в применении к статье о Житкове сработала верно. Именно в результате газетной статьи Детгиз выпустил наконец сборник Житкова «Избранное», куда входили рассказы для подростков. Предисловие к «Избранному» написано было мной. (Его, да еще документальные свои воспоминания «Экзамен» я считаю единственно ценным, что написано мною о Житкове. Но в воспоминаниях, при всей их документальности, о романе "Виктор Вавич" — ни звука, а в преди-словии к «Избранному» — одна строка.)
В том же 1955 году то же издательство Детгиз выпустило толстую книгу "Жизнь и творчество Б. С. Житкова". Среди воспоминаний и писем, напечатанных в сборнике, опубликованы были и мои воспоминания ("Экзамен"), и отрывки из многочисленных писем Житкова ко мне. Воспоми-нания мои сплошь построены на цитатах из писем, а в письмах — сплошь! — почти всюду, без исключений, речь идет не о чем ином, а о романе "Виктор Вавич". Но всюду, даже там, где упоминаются имена персонажей, искусно представила я читателю дело так, будто речь идет невесть о чем, о каком-то безымянном «произведении», над которым тогда трудился Житков. Об уничтоженной в 1941 году книге "Виктор Вавич" я не сказала ни слова. Моя работа поддерживала ложь, а не разоблачала ее. Мало ли о каких своих произведениях и о каких задуманных героях — Наденька, Санька, Таня — мог рассказывать в письмах ко мне Житков!
Арифметически мой расчет, повторяю, был верен. Роман не переиздали, но зато ценою умолчаний рассказы "удалось пробить". И «Экзамен», и отрывки из писем — вышли в свет. А моральный расчет — верен ли был? Сомневаюсь.
…Приблизительно после 1962 года я отчетливо поняла, что завязалась борьба, как всякая борьба в нашей стране, почти без звука, в шапке-невидимке. И такая, к которой арифметика неприменима, разве что статистика смертей. Уже не вокруг загубленной книги Житкова, а вокруг памяти о загубленных жизнях. Тогда-то я и дала себе свой скромный, неоглашаемый, тоже невидимый и тоже беззвучный зарок.
Лучше я ничего не скажу о погибшем, чем, рассказывая его биографию, умолчу о гибели.
Правильное это решение? Неправильное? Решайте сами.
"Все, что с нами было, — было", — говорили одни, чувствуя себя правдолюбцами. И ставили после этого правдивого утверждения большую, жирную, правдолюбивую точку.
Вот мы какие правдивые! Признаем: было!
"Всего того, что с нами было, вовсе не было, — говорили другие. — То есть, конечно, что-то нехорошее при Сталине было — перегибы, ошибки, — но партией все уже разоблачено. Вперед по ленинскому пути — к строительству коммунизма! Мертвых не воскресишь, и чем меньше разговоров о прошлом — тем лучше".
"Необходимо исследовать, что произошло, — говорили третьи, и я в их числе, — что, почему и когда случилось, что привело к совершившемуся. Раны, не омытые слезами, гноятся. Ни шагу нельзя сделать вперед, предав совершившееся забвению".
В феврале 1968 года я написала статью "Не казнь, но мысль. Но слово", в которой попыталась найти точное выражение своему требованию.
"Я хочу, чтобы винтик за винтиком была исследована машина, которая превращала полного жизни, цветущего деятельностью человека в холодный труп. Чтобы ей был вынесен приговор. Во весь голос. Не перечеркнуть надо счет, поставив на нем успокоительный штемпель «уплачено», а распутать клубок причин и следствий, серьезно и тщательно, петля за петлей, его разобрать… Миллионы крестьянских семей, тружеников, выгнанных на гибель, на Север, под рубриками «кулаки» и «подкулачники». Миллионы горожан, отправленных в тюрьмы, в лагеря, а иногда и прямо на тот свет под рубриками «шпионы», «диверсанты», «вредители». Целые народы, обвинен-ные в измене и выгнанные с родных мест на чужбину.
Что же привело нас к этой небывалой беде? К этой совершенной беззащитности людей перед набросившейся на них машиной? К этому невиданному в истории слиянию, сплаву, сращению органов государственной безопасности (ежеминутно, денно и нощно нарушавших закон) с органами прокуратуры, существующей, чтобы блюсти закон (и угодливо ослепшей на целые годы), — и, наконец, с газетами, призванными защищать справедливость, но вместо этого планомерно, механизированно, однообразно извергавшими клевету на гонимых миллионы миллионов лживых слов о ныне разоблаченных, матерых, подлых врагах народа, продавшихся иностранным разведкам?
Когда и как оно совершилось, это соединение, несомненно самое опасное изо всех химических соединений, ведомых ученым? Почему оно стало возможным? Тут огромная работа для историка, для философа, для социолога. А прежде всего для писателя. Это главная сегодняшняя работа — и притом безотлагательная. Срочная. Надо звать людей, старых и молодых, на смелый труд осозна-ния прошедшего, тогда и пути в будущее станут ясней. И нынешние суды над словом не состоя-лись бы, если бы эта работа оказалась проделанной вовремя".
Если бы все мы, и я в том числе, не были приучены замалчивать или извращать по приказу: не одно, так другое.
"Отношением к сталинскому периоду нашей истории, вцепившемуся когтями в наше настоя-щее, — писала я тогда, — определяется сейчас человеческое достоинство писателя и плодотвор-ность его работы"*.
* Статья "Не казнь, но мысль. Но слово" разошлась в Самиздате в тысячах экземпляров. Она была напечатана во многих зарубежных газетах и передана несколькими радиостанциями мира. В 1976 году в Нью-Йорке издательство «Хроника» выпустило сборник моих статей и "открытых писем" под названием "Открытое слово". Там опубликована и указанная статья. Напечатана она теперь и в Москве — см. журнал «Горизонт», 1989, № 3, с. 44–48.
Примеч. ред. 1997. — В 1991 году сборник "Открытое слово" полностью переиздан в Москве ("IMA-press"); составил и прокомментировал его Владимир Глоцер.
Эта статья — действие активное. Но еще до ее написания я совершила поступок, который даже и поступком не назовешь.
В середине шестидесятых годов, как я уже сказала, я дала себе относительно собственного литературного поведения свой скромный зарок. Чем чаще я видела, как удаляют из книг упомина-ния о насильственных гибелях, чем чаще возникали вокруг новые суды над словом, чем чаще на страницах газет появлялись прямые или косвенные утверждениям, будто Сталин, хоть, конечно, и зря расстреливал старых большевиков, но зато был выдающимся марксистом и внес ценный вклад в науку ("Это то же самое, — заметила однажды мельком Ахматова, — что признать: человек был людоедом, но зато отлично играл на губной гармонике"), чем более явственно в беззвучной борьбе между памятью и забвением побеждали циркуляры о нарочитом забвении, а с памятью чинилась расправа, чем чаще упоминания о гибелях выпалывались со страниц предисловий и послесловий, как вредный сорняк, — тем тверже становилось принятое мною решение: я никогда не позволю ни одному редактору и ни ради какой бы то ни было высокой цели вычеркнуть из моей статьи или книги хотя бы единую строчку, посвященную памяти погибших.
Сейчас, в середине семидесятых, на меня уже вообще никакая литературная арифметика не действует. Сейчас я уже не отдала бы и заглавия "Утаенное наследство" — потому что оно в самую точку, и в замалчивании горестной истории романа "Виктор Вавич" не стала бы участво-вать. Тогда, в середине шестидесятых, литературная арифметика перестала действовать на меня всего лишь в одном пункте, но зато в самом главном.
Мой обет далеко не сразу отразился на моей литературной судьбе. Ведь занятия мои были разнообразны: далеко не в каждой статье или книге шла речь о погибших в тридцатые или сороко-вые. На литературной судьбе моей больше, чем данный мною обет, поначалу отражались "откры-тые письма", адресованные мною во все советские газеты, но не напечатанные ни в одной: "Михаилу Шолохову, автору "Тихого Дона" (1966); "Не казнь, но мысль. Но слово" (1968); "Ответственность писателя и безответственность "Литературной Газеты"" (о Солженицыне, 1968); "В судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда УССР" — заявление по делу Рейзы Палатник (1971) и др.*.
* См. тот же сборник "Открытое слово".
В наших газетах их не печатали вовсе, перестукивал и распространял охотно один Самиздат. Если говорить о судьбе моих печатных (типографским способом) книг, то на нее сильнее повлия-ли, конечно, "открытые письма", чем мой скрытый обет. С Самиздатом управиться трудно, ну, а дать насчет самовольного автора распоряжения по издательствам — легче легкого. Хочешь, чтобы тебя перепечатывали на машинке, — не будут тебя печатать в типографии. Примерно со времени моего открытого письма "Михаилу Шолохову" статьи и книги, прежде удостаивавшиеся лестного внимания советской критики, читателей и писателей, перестали переиздавать вообще. Да и новые издавать тоже. Чудом вышла в 1967 году в альманахе «Прометей» глава из большой книги о Герцене: «Начало». На этом начале моя литературная деятельность, в сущности, кончилась (если не считать опубликованной в № 9 "Нового мира" за 1968 год стенограммы двух записанных мною бесед с С.Я. Маршаком).
Далее вступил в силу мой зарок. Он мешал публикованию моих статей или книг, даже в тех редких случаях, когда издательства еще обращались ко мне или были так милостивы, что соглаша-лись рассматривать мною написанное.
Мне предлагали изъять страницу, полстранички, абзац, строку, и тогда моя работа, вся, за исключением строчки или абзаца, будет отправлена в типографию, напечатана, опубликована, а может быть, и похвалена. Но — если речь шла о погибших — я отказывалась.
…штабелями
В снегу лежали не дрова.
Приведу два примера — их было гораздо больше, но для наглядности хватит и двух.
В июле 1964 года скончался С.Маршак. Редакторской работе Самуила Яковлевича мною посвящена целая глава в книге "В лаборатории редактора". Естественно, что мне, знавшей С.Я.Маршака около 40 лет, проработавшей бок о бок с ним — 9, захотелось написать воспомина-ния о нем. В октябре 1966 года я их окончила. Прежде всего предложила свои мемуары в журнал "Детская литература". Там не пожелали даже прочесть: т. Бавина вежливо и обоснованно сообщи-ла мне, что у них в портфеле материалу на 10 номеров вперед. Так что и читать мои воспоминания не стоит. (Среди их сотрудников, по-видимому, множество людей, близко знакомых с С.Я.Марша-ком в течение 40 лет.) Я не удивилась: со времени моей статьи "О чувстве жизненной правды"*, посвященной ханжеству в детской литературе, вся казенная детская литература от меня отвернулась.
* Литературная Газета, 1953, 24 декабря.
Гораздо более удивило меня успешное продвижение моих воспоминаний в издательстве "Советский писатель", в сборнике памяти С.Я. Маршака. В один прекрасный день (полагаю, это было осенью 1970 года) мне позвонили из отдела критики и литературоведения и сообщили — приветливым юным женским голосом младшего редактора, — что воспоминания идут в набор. На следующий день тот же приветливый женский голос сообщил мне в трубку, что хотя воспомина-ния действительно идут в набор, но Борис Иванович Соловьев (заместитель т. Карповой) просит убрать полстраницы. Всего два абзаца. Какие же? Первый начинался так:
"В годы 1937-39, когда одни из товарищей Самуила Яковлевича были арестованы и исчезли — кто надолго, а кто и навсегда, он (…) пытался случалось, и с успехом — вступаться за неспра-ведливо гонимых".
Второй кончался так:
"…Миновали годы. Со смертью Сталина начались возвращения и воскрешения. В "Литератур-ной Газете" в 1955 году Юрий Герман первый помянул добрым словом "ленинградскую редак-цию", руководимую в тридцатые годы С.Я.Маршаком. "Будто отворили замурованную дверь", — говорил мне, прочитав эту статью, Самуил Яковлевич".
Вспомним ахматовское:
Что там? — окровавленные плиты
Или замурованная дверь…*
* Анна Ахматова. Эхо. В кн.: Бег времени. М.; Л.: Советский писатель, 1965, с. 425.
Когда два абзаца в моих воспоминаниях прочитал в 1970 году Борис Иванович Соловьев, ему захотелось, чтобы дверь снова была замурована.
В 1962 году в двери еще светилась щель и едва не проскочила в печать моя повесть; в 1963-м — почти точно такая же — почти та же самая — страница о разгроме редакции Маршака проско-чила во втором издании моей книги "В лаборатории редактора"*, а вот в 1970-м в сборнике памяти С.Маршака она уже напечатана быть не могла. Время крепло, определялось.
* М.: Искусство, с. 323.
Но и мое решение к этому времени уже вполне окрепло. Когда мне позвонила заведующая отделом критики и литературоведения Е.Н.Конюхова, уговаривая вычеркнуть или «смягчить» страницу в моих воспоминаниях, я отказалась и вычеркивать, и смягчать, и беседовать с Борисом Ивановичем.
Так и лежат у меня в столе мои воспоминания о Маршаке.
В 1966 году Ленинградское отделение Детиздата обратилось ко мне с просьбой: написать предисловие к повести о детстве, начатой некогда, в тридцатые годы, И.И.Мильчиком. Повесть посвящена девяностым годам прошлого века — то есть царскому времени. Когда я в середине тридцатых годов начала редактировать первые главы — И.И.Мильчик был уже пожилой человек с немалым жизненным опытом, хлебнувший при царе и каторжных тюрем, и сибирских ссылок; во время Октябрьской революции — член Совета Рабочих и Солдатских Депутатов Петрограда от Выборгской стороны; затем — заместитель директора одного из машиностроительных ленинград-ских заводов, член Общества Политкаторжан. Крупный, осанистый, плечистый человек с ярко-синими глазами на всегда загорелом лице. Он обладал большим чувством собственного достоинст-ва, которое не мешало ему, однако, сознавать в непривычной работе свою неумелость. Мы подру-жились и слушали друг друга с интересом. Глядя на его сильные плечи, на уверенные движения грубоватых, но точных рук, ощущая его самобытность и строгость, вспоминала я строки Блока из "Вольных мыслей" — те, где стих ведется о рабочих на пристани:
И светлые глаза привольной Руси
Блестели строго с почерневших лиц.
И.И.Мильчик с готовностью выслушивал мои пожелания, но принимал их строго, с большим отбором, критически.
Я узнала, что по своей дореволюционной профессии он токарь, теперь пишет историю дорево-люционного подполья, живет постоянно за городом, где жена его, врач, ведает больницей, и что есть у них маленький сын, Миша. И. И. Мильчик был отличным рассказчиком, чем, и пленил редакцию; пережил он и детский каторжный труд — чуть не с восьми лет непосильно работал в механической мастерской в Астрахани; потом — взрослый каторжный труд в Сибири (левый эсер) и рассказывал о пережитом — нам в редакции — прекрасным русским языком, как истый волжа-нин. Моя редакторская задача была и проста и трудна: не дать ему в повести для детей сбиваться со своей живой речи в трафаретную, книжную — к чему он был несколько склонен в своих статьях и книгах для взрослых. Работа у него шла споро. Крутящееся под детскими руками непо-сильное колесо, доводящее до боли в спине, до отчаянья, до изнеможенья, до тщетных попыток к бегству; дружба с татарчатами; хозяин мастерской, городовые; веселое купанье на речке Шайтанке вместе с мальчишками и лошадьми; полицейский участок; холерный бунт — все ложилось на бумагу, не только увиденное автором, но пережитое им, а потому сохраняющее яркость красок и свежесть чувств.
Одну главу повести напечатал ленинградский журнал "Костер"*.
* 1937, № 1.
В 1937 году Мильчик был арестован и погиб в заключении. И вот — через века! — стоит передо мною молодой человек, Михаил Исаевич, которого я никогда не видала; тот самый малень-кий Миша; ныне — высокий, худощавый, застенчивый; уже не волгарь, а ленинградец, уже не рабочий, а интеллигент, и просит меня не отказываться от предложения издательства: написать предисловие к сохранившейся рукописи.
Не назови он себя, я все равно узнала бы его: те же светлые глаза, приветливые сквозь строгость.
Сын просил написать о погибшем отце. Я не вправе была отказаться.
Я выполнила работу и послала ее в издательство к сроку. В своем предисловии писала я главным образом о детстве Мильчика, о колесе в механической мастерской, о встрече его с Маршаком, — но не умолчала и об аресте.
Редакции моя работа понравилась, и повесть с моим предисловием должна была вот-вот пойти в набор. В конце апреля 1966 года, около 12 часов ночи, на даче в Переделкине раздался междуго-родний, подпрыгивающий телефонный звонок.
Меня попросил к телефону директор Ленинградского отделения издательства "Детская литература" Н.А.Морозов. Он сказал, что моя статья ему нравится, очень нравится, но он просит убрать один абзац.
— Какой же?
— Ну, там… вы понимаете… мы ведь издательство для детей, а детям не следует омрачать жизнь памятью о тяжелом прошлом.
Этот омрачающий детскую жизнь абзац в моей рукописи читался так:
"В феврале 1938 года И.И.Мильчика арестовали. Да и редакционный коллектив, созданный С.Я.Маршаком, был к тому времени уже разгромлен: кого арестовали, кого уволили".
Я ответила директору, что повесть Мильчика печатается ведь не для грудных младенцев, а для подростков, которым как раз очень полезно вовремя узнать историю своих отцов и дедов.
— Мы не имеем возможности, — ответил директор. Тогда я попросила прислать мне мое предисловие обратно.
Вместо ожидаемой бандероли я, однако, получила письмо. Привожу его полностью, лишь заменяя инициалами имя и фамилию редактора.
"Государственный Комитет Совета Министров РСФСР по печати. Издательство "Детская литература", Ленинградское отделение.
"28 апреля 1966 г. Уважаемая Лидия Корнеевна!
Мне известно содержание телефонного разговора между Вами и директором Ленинградского отделения издательства Николаем Антоновичем Морозовым.
Как редактор, я очень сильно огорчена тем, что Вы не пожелали исключить из Вашей вступительной статьи к книге И.И.Мильчика "Степкино детство" один абзац и одну фразу из другого абзаца.
Я понимаю, что Вами руководит, но подумайте о читателях. Своим отказом печатать статью Вы лишаете их удовольствия познакомиться с Вашей хорошей, нужной статьей, гармонически связанной с самой повестью.
Лидия Корнеевна, подумайте еще раз о книге и о читателях.
Поздравляю Вас и Корнея Ивановича с первомайским праздником, праздником Весны и Радости.
С уважением Р. Ф."
Помню, в этом благожелательном, заботливом письме более всего почему-то привели меня в бешенство слова «Радость» и «Весна», написанные с большой буквы. Я отвечала так:
"5. V.66 г.
Уважаемая Р. И-на!
Вы написали Ваше письмо очень искусно: прочитав его, всякий человек вообразит, будто спор между издательством и автором действительно идет, как у Вас сказано, всего лишь "об одном абзаце и одной фразе из другого абзаца".
Сущие пустяки: издательство просит автора отказаться от нескольких строк вступительной статьи, а капризный автор не желает. И из-за этого, пишете Вы, читатель будет лишен удовольст-вия "познакомиться с хорошей и нужной статьей".
По-видимому, такая Ваша скрытность относительно истинного содержания нашего спора объясняется тем официальным издательским бланком, на котором Вы ко мне обратились. Бланк со штампом издательства не выдерживает, видимо, прямого разговора ни о жертвах террора, ни об инструкции, обязывающей Вас вычеркивать всякое упоминание о них.
Но я — частное лицо, пишу на обыкновенной бумаге. И скрывать сущность дела мне незачем.
Спор между мною и Вами (издательством) идет не об "одном абзаце и одной фразе", а о крови человеческой и слове человеческом. Автор издаваемой Вами книги, И.И.Мильчик, замечательный писатель и мой большой друг, член партии, человек из народа, старый рабочий, деятельный участник двух революций, был в пору сталинских зверств загублен, убит — вместе с миллионами других неповинных людей.
Должны знать об этом последующие поколения, дети и внуки погибших, или нет?
Я убеждена: должны непременно. Рассказать об этом — и не только в общей форме, но и на примерах конкретных человеческих судеб, прямой долг, дело чести тех, кто остался в живых.
Вы думаете — или обязаны думать — иначе.
Переубеждать Вас я не стану. Но и участвовать в новой лжи, прикрывающей молчанием пролитую кровь, я тоже не буду.
И.И.Мильчик погиб около 25 лет назад; 10 лет тому назад он был реабилитирован посмертно, и через четверть века, во вступительной статье, посвященной его книге и его славной биографии, мы лишены возможности упомянуть — бегло, вскользь, в "одном абзаце и одной фразе" — о его гибели.
Это чудовищно.
Вы делаете мне честь, называя мое предисловие «хорошим» и «нужным», но отказываетесь его напечатать, если я не сниму упоминания о гибели Мильчика. Между тем без этого упоминания «хорошее» и «нужное» предисловие сразу превратится в лживое, то есть тем самым в плохое и вредное. Новым поколениям людей, тем читателям, на чьи интересы Вы ссылаетесь, необходима правда — и правда не только о девяностых годах прошлого века, которым посвящена повесть Мильчика, но и о тех десятилетиях нашего века, когда погибали отцы и деды современных подростков. Давно известно, что история родной страны, правдиво рассказанная, — лучшее орудие воспитания подрастающих поколений. Я вовсе не позабыла о читателе, как предполагаете Вы: именно чувство ответственности перед ним запрещает мне соглашаться на то искажение истины, к которому вы призываете.
Уважающая Вас
Лидия Чуковская"
И тут начались главные мои мучения.
Все друзья на меня ополчились. И — еще горше — сын и вдова И.И.Мильчика. "Если останет-ся ваше предисловие, объясняли мне, вы сохраните для других образ этого человека. Откажетесь — издательство ограничится краткой аннотацией. Образа человека не будет… Читатель же и без устраненного абзаца догадается, что случилось: укажите в скобках год рождения и "смерти"".
Быть может, если бы мой отказ ставил под удар самое напечатанье повести Мильчика — я сдалась бы. Как сдавалась ради рассказов Житкова. Чужой труд, да еще публикуемый посмертно, да еще по желанию вдовы и сына, это обязывает. Тут призадумаешься волей-неволей. Опубли-кованию чужой книги мешать грех, и, кусая губы, сдаешься. Но я была уверена, что книгу выпус-тят и без моего предисловия, а уж своему труду — я хозяйка. Нарушая «гармонию», я потребовала, чтобы мое предисловие было возвращено мне. Его мне вернули.
Права ли я? Арифметика меня более не убеждает. Быть участником в истреблении памяти? Нет.
А повесть И. Мильчика, к моей радости, в 1966 году вышла. Вместо предисловия — аннота-ция. Краткая, на полстраницы, толково составленная справка об основных фактах биографии автора. Обо всех основных фактах, кроме насильственной гибели.
"…В феврале 1938 года жизнь И. И. Мильчика трагически оборвалась".
И ведь истинная правда. Не просто оборвалась, а трагически.
…Попал в авиационную катастрофу?
3
Не знаю, трагически или не трагически, но собственная моя литературная жизнь быстро шла к обрыву.
Труд продолжался и продолжается. Но возможность делиться плодами своего труда с читате-лем, то есть печатать написанное, — вот чего меня лишили.
В какой именно год, месяц, день; после опубликования в Самиздате и за границей какого из моих "открытых писем"; кем, когда, кому отдан был приказ не переиздавать и вообще не печатать мои статьи и книги, я не знаю. Мне известно лишь, что на партийных собраниях в Союзе Писате-лей ныне покойный Аркадий Васильев (в прошлом чекист, затем писатель и секретарь партийной организации Союза; в 1965 году — "общественный обвинитель" на процессе Синявского и Даниэля), — так вот, мне известно лишь, что Васильев дважды требовал моего исключения: в октябре 69-го и в мае 70-го года. Однако запрета упоминать в печати мое имя — например, говоря о редакторской деятельности, — такого запрета не было, да и новую редакторскую работу иногда поручало мне какое-нибудь издательство. А Союз? А Союз все не исключал и не исключал, и пробовал меня перевоспитывать.
Весною 1966 и весною 68-го года, я, в числе других членов Союза получила назидательно-укоризненные письма из Московского отделения. Признаюсь, оба они поразили меня. Я выросла в литературной среде, переписывалась на своем веку со многими литераторами, знаменитыми и незнаменитыми, начинающими и кончающими, прочитала, как и все мы, многие томы Сочинений, где опубликованы письма литераторов XIX и нашего века, — но никогда не читала подобных писем от писателей к писателям. "Протокол № 10/35… Слушали… Постановили…" Бывало и в XIX и в XX веке, что писатель обращался с официальной бумагой в какую-нибудь инстанцию или какая-нибудь инстанция — к писателю, но чтобы писатели обращались с подобной канцелярщи-ной друг к другу — такие бедственные происшествия неведомы мне. Когда-то, ребенком, случа-лось мне бывать среди художников, артистов, поэтов, писателей, ученых в «Пенатах», в мастерс-кой Репина; позднее, подростком, после революции, в Петрограде, я жила в общежитии "Дома Искусств" и зимою двадцатого-двадцать первого годов незаконно проникала на собрания только что объединившихся "Серапионовых братьев"; бывала школьницей — вместе с товарищами — в "Доме Литераторов" и в переводческой студии "Всемирной Литературы"; однажды наблюдала заседание Коллегии издательства "Всемирной Литературы", состоявшееся на квартире моего отца (Манежный пер., 6, кв. 6) — какие зоилиады случалось мне слышать! какие насмешливые, негоду-ющие или восторженные письма читать! но весною 1966 года и весною шестьдесят восьмого в двух письмах руководителей Союза Писателей не было ни насмешки, ни восторженной похвалы, ни гнева ничего, столь свойственного устному и письменному общению между литераторами, — одно пустомыслие, которое в сочетании с руководящей назидательностью всегда и всюду изъясняется на языке канцелярий.
Но брезжила все-таки в этом пустословии какая-то мысль?
Брезжила. Бюрократически осуждающая. Прежде чем попрекнуть безответственностью тех членов Союза, которые просили смягчить приговор Гинзбургу и Галанскову, а ранее предлагали выпустить на поруки Синявского и Даниэля, возвещалось:
"Факт обращения в партийно-правительственные инстанции является правомерным".
Читаешь и не веришь глазам своим — словно возглашается хартия вольностей. Подумать только, факт обращения — правомерен! Мы, граждане своей страны, литераторы, "мы не рабы, рабы не мы", — мы вправе, оказывается, обращаться с просьбами в партийно-правительственные инстанции! Новость оглушительная. Далее же руководители Союза Писателей объясняют нам, что просьба просьбе рознь и что вот как раз наши просьбы: освободить на поруки Синявского и Дани-эля, смягчить приговор Гинзбургу, Галанскову и их сопроцессникам… вот как раз подобными просьбами тревожить партийно-правительственные инстанции нам, литераторам, не подобает.
Изложены назидательные упреки Секретариата по нашему адресу на таком не смею сказать — языке (переберите все письма литераторов друг к другу, все эпистолярное наследие русской литературы — не найдете; не верится, что перед нами творение писателей, а не работников ЖЭКа):
"Секретариат… не может пройти мимо того обстоятельства, что по своему содержанию это заявление явно рассчитано на то, чтобы (того — что на то — чтобы!) завуалировать откровенно-неприкрытую антисоветскую сущность… произведений Синявского и Даниэля".
Да ведь по-русски неприкрытый это и есть откровенный! Что же значит "откровенно-неприкрытая"? Обнаженно-нагая?
"Даже не считают нужным должным образом"…
Нужным должным!
Чудесно кончается одно из писем — сразу видно, что составляли его мастера русской прозы:
"На основании всего вышеизложенного Секретариат считает необходимым затребовать объяснений от членов СП, связавших себя с делом Гинзбурга, Галанскова и других, путем подписи ряда писем и заявлений, с тем…"
Синтаксическая катастрофа: связавших себя с тем? связавших себя путем? И кто же себя с кем связал этим путем? Секретариат с подписавшими защитительные просьбы? Писатели, подписав-шие письма, связали себя с Секретариатом путем своих подписей?
Отступники родного языка! Кого вы смеете именовать отщепенцами!
…Весною 1968 года Секретариат счел "нужным должным" затребовать у «подписанцев» объяснений. Мне же досталось беседовать с одним из тогдашних секретарей Московского отделения т. Росляковым. Меня вызвали, и я послушно явилась. Разговор в кабинете с глазу на глаз. (Можно ли представить себе одного из "Серапионовых братьев", вызывающего на допрос другого брата; или одного члена Коллегии "Всемирной Литературы" — Блока или Ольденбурга, допрашивающих Браудо или Гумилева? или любого студиста студии "Дома Искусств"? Литературные дружбы — и распри! — не на допросах держатся.) Тов. Росляков был вполне вежлив и даже мягок, а я все равно вспоминала не "Дом Искусств", а Большой Дом. Записи я не вела, привожу разговор по памяти. Речь шла главным образом об Александре Гинзбурге. Вот, мол, западная пресса именует Гинзбурга писателем, а какой он писатель? Ни одной напечатанной вещи. Вы читали его книги? Я ответила, нет, не читала, но отсутствие напечатанных работ ничего не доказывает: могут ведь и не напечатать талантливое, живое, а в столе у Гинзбурга я не рылась. Тогда т. Росляков, весело улыбаясь, спросил, известно ли мне, где работал интеллигентный Гинзбург незадолго до ареста.
— Нет. Мне известно, что его сначала лишили возможности учиться, а потом и работать. И арестован он за то, что собрал документы по делу Синявского и Даниэля.
— Он устроился на работу в артель по уничтожению мух, — давясь от смеха, сообщил т. Росляков. — А вы его защищаете, словно он интеллигент!
Я ответила, что если т. Рослякова лишат зарплаты в Союзе, да еще перестанут печатать, да еще не возьмут на какую-нибудь интеллигентную службу, то, быть может, и он окажется вынужден-ным приняться за какой-нибудь не особенно-то интеллектуальный труд; а в уничтожении мух я ничего зазорного не вижу. "И почему вы полагаете, — сказала я, — что писатели обязаны вступать-ся только за литераторов? только друг за друга? Короленко думал иначе. Пусть Гинзбург не писатель, а всего лишь член артели по уничтожению мух — всякий труд достоин уважения… Я уважаю Гинзбурга за то, что он собрал документы по процессу Даниэля и Синявского. В прессе суд и подсудимые представлены были в умышленно-искаженном виде — документы, собранные Гинзбургом, точны"*.
* Работать в артели по уничтожению мух — в этом я ничего предосудительного не вижу и теперь. Но теперь я знаю, что Росляков солгал: накануне своего ареста Александр Гинзбург работал в Гослитмузее. — Примеч. 1977 года.
Мирно побеседовав минут 40, мы мирно расстались. Но через некоторое время я получила из Союза Писателей еще одно интересное послание. Это уже было не письмо, не машинопись, а отпечатанный в типографии, в виде тонкой тетрадочки, "Информационный бюллетень Секретари-ата Правления Союза Писателей СССР" (1968, № 6). Последняя страница: "Ответственный редактор К.Воронков". И последняя строка: "Информационный бюллетень" рассылается по списку". Никогда раньше я "Информационного бюллетеня" не держала в руках (этакий подполь-ный Самиздат Секретариата); что же это сейчас меня вдруг почтили? Перелистываю: "Собрание партийного актива творческой интеллигенции столицы". Нет, не то — я не партийный актив творческой интеллигенции. "Трибуна писателя". Нет, и это ко мне не относится: кто же меня пустит на трибуну? А, вот оно: "Осуждение политической и гражданской безответственности". И выше: "В Секретариате Правления Московской организации". Тут я уже вижу свою фамилию. Интересны рубрики: "строгий выговор с предупреждением и занесением в личное дело"; просто «выговор», не строгий, "с занесением в личное дело"; "поставить на вид"; "строго предупредить" и просто «предупредить».
Мелькают имена и выговоры, строгие и нестрогие.
Мне достался: "выговор с занесением в личное дело".
Что ж, я не в обиде. Галич, Копелев, Войнович, Искандер и Самойлов! и Корнилов!
Обижаться грех.
Но — удивляюсь. Ведь это писатели писателям "ставят на вид". Заразились писатели чинов-ничьей паршой и коростой.
И опять — неуместное видение прошедших годов: зима 1920/21, "Дом Искусств" (угол Мойки и Невского); оледенелый Петроград, лишенный дров, электричества, трамваев, а иногда и воды; сугробы и 20° мороза за окнами; я — издавна и привычно голодная — в уголке, в комнате Слонимского в "Доме Искусств", где собрались "Серапионовы братья".
Впустил — и даже втащил меня сюда Лева Лунц — "Серапионов брат" и брат моей подруги. Жени Лунц, с которой я сижу за одной партой в школе (бывшее Тенишевское училище). Никто не обращает на меня никакого внимания; я здесь не в счет, школьница, мне 13 лет; сижу и сижу; помню Слонимского, Зощенко, Никитина, Каверина — а на койке теснятся плечом к плечу три молодые девушки, не мне чета, взрослые и красивые, им уже лет 19–20; их зовут Зоя, Лида, Дуся… Я привычно, как и все, голодна и, как и все, радуюсь раскаленной трубе; на ногах у меня туфли, вроде лаптей, сплетены они из веревок — веревочные туфли, подшитые, вместо подметок, кусками занавески; но я не чувствую ни своей разутости, ни голода; я слушаю; все кругом представляются мне такими взрослыми, умными и такие непонятные слова говорят о литературе; и читают стихи (вот стихи я знаю не хуже их!), и с неистовством спорят — и тут же спор прерыва-ется эпиграммой и хохотом! Как они потешаются друг над другом… Я не решаюсь вместе с ними смеяться; я не в счет — тихонько сижу в уголке и завидую взрослым девушкам.
Живут у меня до сих пор в памяти эти молодые люди, и эти скромно-царствующие девушки, и эта раскаленная дровами и спорами труба железной печурки. Разные дарования отпущены были этим людям, но как я благодарна им по сей день за то, что они назвали себя «братьями» (пусть это братство с годами распалось! оно все-таки существовало), и можно ли вообразить, чтобы один "Серапионов брат" ставил другому "на вид"? Или "объявлял выговор"?
Они умели писать друг на друга пародии; сочиняли — кроме повестей, романов, рассказов — эпиграммы; они были литераторы, то есть по природе не только творцы, но и яростные критики, спорщики, они умели вышучивать друг друга, а вот ставить друг друга "на вид" — не умели.
Бенкендорф делал Пушкину выговоры; но Бенкендорф был Бенкендорф и не строил из себя литератора (хотя кто его знает! может быть, пописывал стишки?), но нельзя вообразить, чтобы Пушкин "ставил на вид" Дельвигу или Баратынскому; или Чехов и Короленко — Баранцевичу или Щеглову.
Что такое "выговор с занесением в личное дело", если сравнить эту кару с расстрелом или лагерным сроком? Чушь, ерунда и чепуха. Но в ней проглядывает какая-то новизна, новая форма, новое содержание.
…13 февраля 1921 года, в Петрограде, девочкой четырнадцати лет была я на Бассейной, в "Доме Литераторов", на том пушкинском вечере, где Александр Блок прочитал свою знаменитую предсмертную речь "О назначении поэта".
Блок назвал «чернью» тех людей, которые в тридцатые годы прошлого века повинны были в гибели Пушкина. "Пускай же остерегутся от худшей клички те чиновники, — сказал он в начале двадцатых годов нашего столетия, — которые собираются направлять поэзию по каким-то собст-венным руслам"…*
* Александр Блок. Собр. соч. в 8 т. М.; Л., 1960, т. 6, с. 160.
Мне было 14 лет. Мало я тогда понимала. Я помнила наизусть всю блоковскую третью книгу, но смыслила не очень-то много.
Блок отделял чиновников от писателей. Чиновникам сделал он свое предостережение — чтоб не пытались они руководить таинственной силой, которая именуется поэзией.
Но что сами поэты и писатели с годами превратятся в чиновников и начнут объявлять друг другу выговоры "с занесением" или без занесения "в личное дело" — вот чего даже провидец Блок не предвидел.
4
В 1967 году — значит, уже после моего криминального самиздатского письма Шолохову, но еще до криминальной самиздатской статьи о необходимости по винтикам разобрать и рассмотреть машину, десятилетиями убивавшую миллионы людей; уже после того, как за границей дважды вышла повесть "Софья Петровна", но еще до того, как мне был вынесен "выговор с занесением в личное дело", — в 1967 году Лениздат обратился ко мне с просьбой взять на себя работу над подготовкой к печати отдела поэзии в первом посмертном сборнике Анны Ахматовой. Название сборника — "Стихи и проза". Выбор издательства пал на меня, думаю я, потому, что как это было широко известно в литературных кругах, последний предсмертный сборник Ахматовой "Бег времени" (1965) по ее просьбе помогала ей составлять я. Составлен он был богаче, чем вышел в свет; редакция добилась от автора разрешения изъять многие стихи тридцатых годов, «Реквием» и две из трех частей триптиха "Поэма без героя" ("Поэма без героя" в "Беге времени" превращена в "Поэму без двух частей"). В сборнике существовал отдел «Поэмы», и там были помещены «Реквием», "Путем веся земли" и трехчастная "Поэма без героя". Составлялся "Бег времени" в Москве, а официальная редакционная работа с автором велась в Ленинграде. Арифметика тут была простая; перед Ахматовой поставили выбор: либо отказаться от «Реквиема» и двух частей «Поэмы», либо сборник не выйдет совсем.
Ахматова сначала говорила мне по телефону, что если не дадут «Поэму» целиком — она вернет аванс и расторгнет договор. Но потом согласилась: "пусть хоть это".
Как тут рассудить? Второе действие арифметики — вычитание. Наверное, это счастье, что Анна Ахматова, скончавшаяся в 1966 году, успела в 1965-м подержать в руках и раздарить друзьям урезанный и все же самый полный из всех когда-либо вышедших при ее жизни сборни-ков. К тому же "Бег времени" книга, с большим вкусом оформленная. (Художник — В.Медве-дев.) Неполная книга, но книга Ахматовой. Радость.
И вот Ахматовой нет, и мне предложено, уже без нее, подготовить к печати стихи в первом посмертном сборнике.
Предложение заманчивое. «Поэма» — все три части! Без «Реквиема» (но ведь на его изъятие и сама Ахматова соглашалась!), зато "Поэма без героя" все три части! Впервые. Это представля-лось мне особенно важным потому, что за границей «Поэма» печаталась «целиком» уже много раз, но каждый раз в наново перепутанном виде. А я могу, в силах, в состоянии дать окончатель-ный текст. Могу, располагая экземплярами 1942 года, и затем с 1955 по 1963-й, и поправками, сделанными позднее, включая мелкие, уже после «Бега». И еще подспорье: собственные мои "Записки об Анне Ахматовой". Записки эти я вела десятилетиями, и там указаны, в частности, даты и авторские мотивировки перемен в той или другой строфе или строке «Поэмы».
Я согласилась. Договор со мной заключили. После смерти Ахматовой многие ее стихи, вычеркнутые почему-то редакцией из "Бега времени", оказались напечатанными в наших журналах. Являлась, таким образом, возможность обогатить ими новый сборник. Трудностей в работе обнаруживалось, однако, с каждой неделей все более. Дело в том, что сборник этот, в отличие от всех предыдущих, был рассчитан издательством, на широкие круги читателей, поэтому мне пришлось в изобилии делать разъяснительные примечания и к стихам, и к «Поэме». Не говорю уж о трудности в уточнении дат, которые Ахматова имела обычай расставлять весьма прихотливо. И мне никогда не справиться было бы со всеми выпавшими мне на долю трудностя-ми, если бы не самоотверженная помощь друзей. (Много раз в течение жизни имела я возмож-ность убедиться — и в самые черные годы! — что братство рядом; что каждый из нас дышит естественным воздухом братства, не замечая его; замечает, только лишившись. Едва сосредото-чишься щедро на любимом труде братья окажутся возле. И недругов себе наживешь, но братья — рядом.)
У Анны Ахматовой было много друзей. Да, во все черные времена ее черной судьбы — много. В России существует, передается из поколения в поколение культ поэзии и поэтов. Иначе Ахмато-вой было бы не выжить, а ее стихам не сохраниться, ни в тридцатые, ни в сороковые годы… Я позвала себе на подмогу тех друзей Анны Андреевны, кому сама она любила читать новорожденные строки, с кем любила советоваться о своих многочисленных переводах, к чьей помощи прибегала, составляя свои журнальные циклы и сборники. И никто ни разу не отказал мне — ни в справке, ни в автографе, ни в книге, ни в рукописи, ни в совете.
По соседству со мной работали: К.Чуковский, автор предисловия к нашему сборнику, и Э.Г. Герштейн — составительница отдела прозы. Естественно, мы помогали друг другу.
Делились мы своими находками и с академиком Виктором Максимовичем Жирмунским, начавшим работать над подготовкой тома Ахматовой для "Библиотеки Поэта", когда мы уже свою работу кончали. И он, в свою очередь, одаривал нас.
С издательством мы регулярно переписывались и перезванивались; случалось, издательский редактор Борис Григорьевич Друян приезжал из Ленинграда в Москву посоветоваться, а то и поспорить. Редакция изъяла «Стансы» — как изъяты они были из "Бега времени"; изъято было посвящение к "Последней розе" — И.Бродскому (редакция предпочла бы, чтобы посвящены были эти стихи какому-нибудь другому поэту). Пришлось пожертвовать посвящением… Но с издатель-ством мы ссор избегали. Чувствуя свою ответственность не за свою собственную рукопись, где каждый сам себе хозяин, а за стихотворения Анны Ахматовой, которых так долго был лишен читатель, — я старалась с издательством ладить; спорила — но и на уступки шла. И двигались мы вперед во время работы хоть и не без убытков для книги, но без аварий.
Катастрофа ожидала нас впереди.
Работа была нами окончена. Издательство послало ее на рецензию академику Жирмунскому. Получив обстоятельную и положительную рецензию, редакция сдала рукопись в набор.
В июне 1968 года мы продержали одну корректуру — верстку; в феврале 1969 года вторую — сверку.
Книга была подписана к печати, и нам оставалось ждать только сигнальных экземпляров. А за ними — тираж.
Вместо этого раздался подпрыгивающий междугородный звонок, и знакомый голос Бориса Григорьевича Друяна, ленинградского редактора (правда, с каким-то незнакомым оттенком мертвенности), произнес:
— Книга остановлена на неопределенное время. Без рассмотрения.
Почему остановлена? Кем? Без чьего рассмотрения? Почему, зачем, отчего?
Никто не отвечал и не отвечает ни на чьи вопросы — ни директор издательства, ни главный редактор, ни редактор книги.
Да и как ответишь, если "без рассмотрения"? Не рассмотришь — не объяснишь.
Спрашивали мы, составители. Спрашивал ныне покойный академик Жирмунский. Спрашива-ли другие члены Комиссии по литературному наследию Анны Ахматовой. Никакого ответа.
Из-за чего же — из-за кого же — книга остановлена? За что наказан читатель?
Из-за Ахматовой? Нет. Многие ее произведения, многие статьи о ней у нас печатают, и очень даже демонстративно.
Я полагаю, что книга Анны Ахматовой "Стихи и проза" зарезана из-за меня. "Без рассмотре-ния" — просто из-за моего имени.
К тому времени, как ахматовскому сборнику выходить, я из штрафного батальона оказалась уже переведенной в лепрозорий: многие мои статьи приобрели уже большую известность, и Союз Писателей успел уже объявить мне "выговор с занесением в личное дело". Прокаженных печатать не принято.
Недавно Лениздат вернул мне мои примечания, мое маленькое разъяснительное предисловие и вступительную статью К. Чуковского. Деньги тоже выплатили.
…А моя текстологическая работа, установленные мною тексты, даты, факты? Кому-нибудь — пригодится…*
* Эти строки были написаны в 1974 году. А в 1976-м в том же издательстве вышел сборник Анны Ахматовой под тем же названием "Стихи и проза"; составителем отдела стихов вместо меня обозначен издательский редактор — Б.Г. Друян; автором предисловия вместо Корней Чуковского стал Д.Т.Хренков, главный редактор издательства. Освобожденная не от плодов моего труда, но от моего имени, книга Ахматовой не только вышла в свет, но даже двойным тиражом, чему я, разумеется, рада. — Примеч. 1977 года
5
В октябре 1969 года скончался мой отец. О своей утрате писать не стану. Опишу лишь военные действия против меня, предпринятые Союзом Писателей немедленно после смерти Корнея Ивановича.
Я к этому времени была членом шести Комиссий по литературному наследию — Комиссий, образуемых Союзом каждый раз, как умирает кто-либо из литераторов. Я была членом Комиссий по литературному наследию Анны Ахматовой, Н.П.Анциферова, Ф.Вигдоровой, Т.Габбе, Бориса Житкова, М.Ильина.
Но в Комиссию по литературному наследию Корнея Чуковского меня не включили.
Реально, практически, в данном конкретном случае, это «невключение» звук пустой. Я провела под одной кровлей с моим отцом, в тесном общении с ним, не только детство и юность, но и многие последующие десятилетия. Моя память мобилизована. "Все мое — при мне". Но оскор-бительная выходка Союза явственно показывает: во-первых — цель (разлучение, отлучение), а во-вторых — нравственный уровень изобретателей этой меры. Экзекуция на свежей могиле! До такой низкой низости не каждый способен упасть.
Впрочем, по сравнению с любой низостью всегда остается нижайшая. Можно падать еще ниже, и еще, и еще. Была бы цель, а яма безнравственности, в которую летит падший, — бездонна. Цель обнаружилась быстро.
В последние дни своей жизни, в больничной палате, Корней Иванович продолжал, по обычаю своему, работать.
Работал он над статьей "Признания старого сказочника". Статья предназначалась для газеты "Литературная Россия". Недели через две после похорон я с помощью друзей разобралась в черновиках и набросках и подготовила статью к печати. Послала ее в редакцию. И примерно через месяц заметила: статья Корнея Чуковского на страницах "Литературной России" не появилась.
Обычно это была самая жадная до его работ, самая настойчивая газета.
Я поручила разузнать по телефону, в чем дело. Ответ т. Поздняева (главного редактора) последовал такой:
— Мы рады бы опубликовать… Но, к сожалению, не можем… Там стоит в конце пометка: "Подготовила к печати Лидия Чуковская".
Я попросила сообщить т. Поздняеву, что охотно отказываюсь от этой крамольной пометки. Лишь бы напечатали статью.
(Арифметика в действии; речь ведь идет не о моей, а о чужой рукописи. Вычтите, вычтите мою преступную пометку! Я согласна — лишь бы появилась предсмертная статья Корнея Чуковского, в которой критик анализирует стихи поэта, и этот критик, и этот поэт — одно лицо… Редчайший случай в литературе: автор во всеоружии своего критического мастерства анализирует собственные свои сочинения.)
Но мой отказ не удовлетворил редакцию.
Поздняев: Устного отказа Лидии Корнеевны недостаточно. Пусть она изъявит свою (!) волю в письменной форме.
Я — изъявила. С большим удовольствием. Написала в редакцию письмо и сохранила копию. Люблю письменную форму. Написано пером — не вырубишь топором.
Культура — отверделые следы благородных порывов человеческого духа, пересекающиеся, перекрещивающиеся, прокладывающие новые дороги в будущее. Бесстрашная память хранит эти следы, обороняет — где от пустодушия, равнодушия, а где от бесчинства. Но я полагаю, что и следы бесчинства необходимо беречь. (Иначе не будет понятно, что культура — не один лишь труд, но и борьба). Разговор с Поздняевым ухнул бы в вечность, а так — след насилия, — мелочной мстительности, бесчинства, запечатленный на бумаге, мое отрекающееся письмо Поздняеву — сохранится. И когда-нибудь представит собой материал для изучения литературных нравов семидесятых годов в России. Мне разрешается подготовить к печати статью Корнея Ивановича. Но пометить: "Подготовила к печати Лидия Чуковская" — нет.
Я написала: "Узнав, что подготовленная мною к печати статья моего отца "Признания старого сказочника" не печатается в вашей газете только из-за упоминания моего имени, — заявляю, что я согласна свое имя как публикатора снять".
Получив мое письмо, "Литературная Россия" немедленно напечатала последнюю статью Корнея Чуковского*.
* См. "Литературную Россию" от 23 и 30 января 1970 года.
Эти унижения не помешали мне, однако, продолжать начатые прежде работы. Наоборот, они как-то раззадоривали меня. С осени 1969 года на мои плечи легли новые дела и труды. Литератур-ный секретарь Корнея Ивановича, его многолетняя помощница, Клара Израйлевна Лозовская, вместе с нашими старинными друзьями и моей дочерью Еленой занялись разбором архива, охватывающего 1900–1969 годы; отверделый след русской культуры почти за две трети века; занялись описанием и каталогизацией библиотеки в 5 тысяч томов. Я тоже принялась разбирать письма Корнея Ивановича, прежде всего ко мне — с 1912 по 1969 год. Кроме того, я предложила другим членам семьи: не занимать, а сохранять в неприкосновенности, без малейших перемен, те комнаты на переделкинской даче, где в течение тридцати лет жил Корней Чуковский. Три комна-ты из пяти — те, в чьем обличье, убранстве запечатлены его вкусы, привычки, навыки, образ жизни. Сам он был весьма фотогеничен, выражен в каждом слове и каждом движении — голос, походка, руки, — эта выразительность присуща и его комнатам; письменному столу; книжным полкам, игрушкам, картинам, фотографиям; даже лавочкам и лесу за окнами, даже скворечнику на березе, где жили любимые им белки. Микромир, сложившийся за 30 лет, так же отчетливо выражает его личность, как каждая его статья, фотография или звукозапись. Корнею Ивановичу свойственно было трудолюбие и неутомимая общительность — в его комнатах живет дух сосредоточенного труда и веселого, разнообразного, деятельного общения с людьми. Следы не одной лишь личности хозяина — след русской культуры. Сколько поэтов — молодых и старых, сколько лингвистов, филологов, переводчиков, сколько знатоков английской и американской литератур поднимались по ступеням этой лестницы! Сколько книг и писем прочтено и написано в этом кабинете, за этим столом; на балконе или в лесу! (Писал, положив листок на дощечку.) Сколько голосов, читающих вслух великие стихи и великую прозу, звучат в этих стенах и сколько пародий и шуток!
В 1969 году, 5 октября, Корней Иванович покинул свой дом для больничной палаты — вот такими, какими комнаты его остались, когда он в последний раз спустился по ступенькам своей лестницы, я и предложила семье оставить их. Не селиться в них. Оставить — за ним.
Не сразу научаются люди отучать себя трогать, передвигать с места на место, употреблять привычные вещи. Ведь только что все это еще было в движении. Постепенно мы научились.
Но передо мною возник еще один долг: написать воспоминания о нем. Ведь не многие из живых помнят его молодым. Детей у него было четверо. В живых я одна. Я помню наше детство и его молодость. Мне и писать.
Я принялась за воспоминания. Задуманы они в трех частях, но самым спешным мне казалось написать о том времени, какого уже не помнит почти ни один человек: о жизни Корнея Чуковско-го в Финляндии, в Куоккале (ныне поселок Репине), между тысяча девятьсот двенадцатым и семнадцатым годами.
Эту первую, куоккальскую дореволюционную часть я и написала в 1970–1971 годах. Предназначалась она для сборника памяти Корнея Чуковского в Детгизе. Так и называлась моя работа: "Памяти моего отца".
Составители сборника передали мне, что редакция Детгиза встретила мои мемуары радушно. Цензурных преткновений я не опасалась: речь в первой части идет о годах дореволюционных, и главным образом об играх Корнея Ивановича с маленькими детьми. Как он учил нас грести на неуклюжей рыбачьей лодке; как учил английскому языку; как мы вместе с ним носили воду из репинского колодца; как он читал нам в море стихи Баратынского, Некрасова, Тютчева. Действие происходит до семнадцатого года; я — маленькая, мне между пятью и десятью; возраст полити-чески безответственный и вполне безопасный; и рассказать есть о ком (и все такие общепризнан-ные имена!): несмышлеными своими глазами вижу я Репина, Короленко, Леонида Андреева, Маяковского, Шаляпина…
(А куоккальская дача хоть и пуста, но жива еще; не рухнула еще, еще стоит; она тоже помнит их шаги и их голоса; этот узелок русской культуры, сплетенной из множества разнообразных нитей, еще можно спасти*… Кроме лиц, перечисленных мною выше, бывали там и Н.Гумилев, и Анна Ахматова, и Н.Евреинов, и Н.Кульбин, и Борис Григорьев, и Борис Садовской, и Тэффи, и Шкловский, и Иван Пуни.)
* Уже нельзя; куоккальская дача сгорела дотла 1 сентября 1986 года Примеч. 1988 года.
После истории с "Литературной Россией" я, разумеется, никакой своей работы газетной или журнальной редакции более не предлагала. Уж очень популярно т. Поздняев, можно сказать, по складам, мне все растолковал. Получив требуемое от меня письмо — снимите, мол, слова "подготовила к печати Лидия Чуковская", я сама об этом прошу вас, — он произнес нечто еще более вразумительное: "Совесть коммуниста не позволяет мне употреблять в газете имя Лидии Чуков-ской. Никто мне ничего сверху не указывает, но я сам не считаю возможным". Так сказать, действует не общепартийная, а персональная коммунистическая совесть т. Поздняева.
Однако вскоре сделалось ясно, в какой степени то, что двигало товарищем Поздняевым (не знаю, можно ли это назвать совестью), было лишено индивидуальности и самобытности.
Сначала произошло нечто волшебное, неправдоподобное, неслыханное. Редакция журнала "Семья и школа" пожелала ознакомиться с моими воспоминаниями о Корнее Чуковском.
Решительно ни на что не надеясь (после немой гибели лениздатской ахматовской книги и красноречивых разъяснений т. Поздняева), ознакомиться редакции "Семьи и школы" с моими воспоминаниями я все-таки разрешила. Развернувшаяся далее феерия ослепила меня. В моих воспоминаниях 15 глав. Мне позвонила Любовь Михайловна Иванова*, тогдашний редактор "Семьи и школы", и произнесла слова о художественной силе моих мемуаров столь лестные, что приво-дить их неловко. Любовь Михайловна Иванова предложила опубликовать в слегка сокращенном виде все 15 глав. Она находила их полезными для родителей, для учителей, для детей. Я, изверив-шаяся, тупо предлагала напечатать не 15, а всего одну главу, самую для меня дорогую: о том, как Корней Иванович читал нам в море стихи. Нет, лучше все 15. Нет, мне бы одну-единственную! Нет, лучше 15. Так мы торговались и торговались и наконец сошлись на семи главах. Они должны были пройти в трех номерах "Семьи и школы" — № 9, 10 и 11 за 1972 год.
* Ныне покойная. — Примеч. 1975 года.
И вот я, не веря глазам, держу в руках № 9 журнала — и там действительно напечатан первый отрывок из моих воспоминаний под заглавием "На морском берегу". Фееричность доведена до беспредельности: не только большими буквами набрано мое крамольное имя, которое т. Поздняеву запретила употреблять в печати его чуткая совесть, не только так прямо и написано "Лидия Чуков-ская. На морском берегу", а в конце отрывка — "Продолжение следует", но даже помещен мой портрет! 1915 год, рисунок Маяковского*.
* Ср. «Маяковский-художник». М.: Советский художник, 1963, с. 30.
А совесть-то у т. Поздняева оказалась отнюдь не персональной! И вообще не совестью, а циркуляром свыше.
В № 9 отрывок оканчивался словами: "Продолжение следует".
В № 10 несколько абзацев из следующей главы открывались словом «окончание».
Мне от души было жалко ответственного редактора Любовь Михайловну: она говорит автору ответственные слова, предлагает печатать мемуары в трех номерах, а потом открывает редактиру-емый ею журнал и вместо «продолжения» внезапно читает: «окончание». Подмена совершилась без ее ведома. И Корнея Чуковского тоже было мне жаль: рассказано, как он учил нас, детей, становиться на четвереньки и лаять на собак, а вот, как он учил нас понимать стихи, об этом умолчено. Известный писатель, критик, мемуарист, историк литературы, филолог, знаток русской поэзии, человек, всю жизнь радевший о "стиховом воспитании детей"; поэт, автор многочислен-ных стихотворных сказок; автор работ по теории перевода, мастер перевода; словом — Корней Чуковский, известный писатель и стихолюб, превращен в какого-то лихого затейника.
Я так до сих пор и не знаю: случился этот обрыв потому, что в 1968 году решено было кем-то «наверху» ничего моего не печатать, или потому, что как раз летом 1972 года за границей изда-тельство имени Чехова напечатало мою старую повесть "Спуск под воду" (1949-57). И "Голос Америки", сообщив об этой книге по радио, разбудил во всех редакторах всех газет и журналов Советского Союза одну и ту же персональную совесть.
"Памяти моего отца"… Он не был замучен в лагере, не был расстрелян. Последнее десятилетие его жизни прошло в достатке и славе. Однако была у него в жизни своя трагедия и своя борьба. Он был наделен редкостным даром: даром литературного критика, повышенной восприимчивостью к искусству слова. В десятые годы и в начале двадцатых не было в России ни одного сколько-нибудь значительного явления литературы, на которое не отозвался бы особенный, всегда узнавае-мый голос Корнея Чуковского. Лучшие его статьи того времени — полемические, а иногда и парадоксальные — сквозь внешний анализ стиля ведут читателя внутрь, вглубь, к постижению духовной личности изучаемого автора. Статьи эти сами по себе — произведения искусства, главным образом — портретного. Однако к концу двадцатых годов литературным критиком Чуковский быть перестал. Время исключало самобытность в восприятии чего бы то ни было — в том числе и литературы, а тем самым и своеобразие критического жанра. Задача литературного критика сведена была правительствующей бюрократией преимущественно к популяризации очередных "партийных постановлений в области литературы". Корней Чуковский продолжал работать по другим своим специальностям, но до конца жизни остро и болезненно ощущал неосуществленность своего основного призвания… Десятилетиями участвовал он в борьбе за право детей на сказку литературную и народную — и вышел из этой борьбы победителем. Сказка вообще сказка — взята была властями под подозрение: руководящие неучи полагали, будто сказка мешает детям понимать реальную жизнь. Каждая из собственных сказок Чуковского, ныне рождающаяся заново вместе с каждым новым поколением детей, превратившаяся в фольк-лор, рассыпавшаяся на прибаутки, пословицы и поговорки, каждая из сказок Корнея Чуковского — от «Крокодила», «Мухи-Цокотухи» и до «Бибигона» — подвергалась в свое время гонениям и цензурным запретам.
Однако ни о его беде, ни о его борьбе я и не покушалась в своих воспоминаниях писать. О борьбе за сказку потому, что он сам написал о ней в книге "От двух до пяти", а о Чуковском-критике потому, что, я уверена, о нем вспомнят и напишут другие, чуть только и это "утаенное наследство" будет читателю возвращено.
Я же в своих воспоминаниях собиралась припомнить то, что помню во всем мире я одна: свое детство и его молодую дружбу с детьми.
Но хозяйство-то у нас плановое: кому о ком вспоминать, что следует в памяти укоренить, а что из памяти выкорчевать, кто будет назначен в близкие Корнею Чуковскому, а кто в дальние, об этом не нам судить. Начальству виднее. Мне о нем вспоминать — не положено.
6
Но ведь я не только мемуарист. Иногда меня тянет заговорить не только о прошлом, но и о настоящем.
Начиная с последних чисел августа 1973 года и на протяжении первой декады сентября в наших газетах велась систематическая травля Сахарова и Солженицына.
Она была давно ожиданной и по набору стереотипов совершенно заурядной. Кого только у нас не травили! Чьи только идеи не выворачивали наизнанку!.. Сахаров и Солженицын взяли на себя труд: самостоятельно осмыслить прошлое и современность, задуматься о будущем, да еще при этом, вместе с друзьями, взвалили себе на плечи защиту незаконно гонимых. Открытую, громкую. Ну как же было их не загрызть? Подвергают они сомнению законность, соответствие Советской Конституции того или другого приговора — стало быть, они антисоветчики. По-иному, чем газета «Правда», предлагают они вести борьбу за мир? стало быть, они жаждут войны… В каждом из них бьется своя, собственная, выработанная жизнью, а не из газеты вычитанная мысль, работает взыскательная, жестокая к себе, непримиримая, ищущая истины совесть — не циркулярная, своя — это подвижничество духовной работы ни в коем случае не может быть прощено. Если к совести присоединяется гениальность, а к гениальности мужество, то слово обретает огромную власть над людьми. Правящая власть не любит, чтобы над людьми являлась еще чья-то органически возни-кающая, безмундирная. И до тех пор, пока почему-либо не считает возможным прибегнуть к прямому физическому насилию, — прибегает к отравлению людского сознания ядовитыми газами лжи.
Средства массовой информации, сосредоточенные в одних руках, дают для этой газовой атаки небывалые возможности. Ну как же людям, вдыхающим из каждого номера каждой газеты яд, не отравиться ложью и не возненавидеть Сахарова?
(Я считаю академика А.Д.Сахарова человеком, одаренным нравственной гениальностью. Физик, достигший огромного профессионального успеха, один из главных участников в создании водородной бомбы, — он ужаснулся возможным результатам своей удачи и кинулся спасать от них мир. Испытание новой бомбы людям во вред! Дело не в отказе от колоссальных денег и карьеры; нравственная гениальность Сахарова, даже если впоследствии он не создал бы Комитет Прав Человека, проявилась прежде всего вот в этом: одержав профессиональную победу, он понял не только пользу ее, но и вред. Между тем людям искусства и людям науки обычно ничто так плотно не застилает глаза, как профессиональная удача)
В газетах осени 1973 года подвиг Сахарова был искажен и оболган. Человечнейшего из людей, безусловно достойного премии мира*, выставили на позор перед многомиллионным читателем как поборника войны.
* Которой он и был удостоен через год после написания этих строк, то есть в 1975 году. — Примеч. 1977 года.
Но, признаюсь, не это поразило меня, не это заставило схватиться за перо. Кого только и за кого только у нас не выдавала, в случае нужды, наша пресса!
Осенняя кампания семьдесят третьего года (не тридцать пятого, не тридцать седьмого-тридцать восьмого, не сорок шестого, не шестьдесят восьмого, а семьдесят третьего) против Сахарова и Солженицына поразила меня именами соучастников в преступлении.
Колмогоров. Шостакович. Айтматов. Быков.
Ведь это не какая-нибудь шпана, по первому свистку осуждающая кого угодно за что угодно. Это не какая-нибудь нелюдь. Это — людь.
Интеллигенция верит им: ведь "говорит сама наука", "говорит само искусство"! И верит не одна интеллигенция.
Знаменитыми своими именами деятели науки и искусства подтвердили клевету, соучаствовали в газовой атаке, цель которой — отравить сознание нашего народа новой ложью!
И лжесвидетельствуют они не под пыткой, не под угрозой пытки, не под угрозой тюрьмы, ссылки или какого бы то ни было вида насилия, а находясь в полной безопасности, по любезному приглашению телефонного звонка.
Вот что поразило меня. Вот почему — чтоб оказать первую помощь отравленным — я написа-ла статью "Гнев народа"*. Вот почему я срочно вручила ее американскому корреспонденту: мне необходимо было, чтобы противоядие возможно скорее любыми средствами достигло отравленных.
* Статья напечатана также в сборнике "Открытое слово" и в журнале «Горизонт», 1989, № 5. Примеч. ред. 1997.
Я понадеялась на радиостанцию "Голос Америки". Я не ошиблась. Статья моя достигла слуха многих миллионов обманутых моих соотечественников.
7
25 декабря 1973 года я получила письмо из Союза Писателей. Привожу его целиком:
"Уважаемая Лидия Корнеевна!
Мне необходимо побеседовать с Вами. Прошу Вас быть в Секретариате у меня 28 декабря, в пятницу, к 14 часам.
Ю.Стрехнин
Секретарь Правления Московской Организации СП РСФСР
24 декабря 1973 года".
В пятницу я отправилась. Со Стрехниным мне уже случалось беседовать в семьдесят втором году после опубликования в Америке моей книги "Спуск под воду". При всей учтивости моего собеседника — это был форменный допрос, ничто иное. На прощание Стрехнин сказал: "Я наде-юсь, наш разговор не сделается достоянием гласности?" — «Хорошо», — обещала я. Отчего обещала? Оттого, что, сказать по правде, тогда мне было жаль Ю.Ф.Стрехнина; мне примерещи-лось, что, хотя допрос он вел искусно и твердо, он сам немножко стеснялся принятой на себя обязанности.
Сейчас я сожалею уже не о Стрехнине, а о своем обещании. Но как бы там ни было, дала слово — держу.
Вторичный вызов к Стрехнину, в декабре 1973 года, и потом вызов на Секретариат — это уже дело иное. Тут уж никакие обещания меня не связывают, и записи я вела, не скрываясь.
Мне хочется, чтобы читатель ознакомился с ними: они дают ясное представление о духовном уровне тех, кто мнит себя руководителями нашей литературы.
28 декабря 1973 года, ровно в 2 часа дня, я поднялась на второй этаж Центрального Дома Литераторов и вошла в кабинет к Стрехнину. Он встал из-за письменного стола, поздоровался и предложил мне кресло. Я примерилась: кабинет маленький, окно большое, свету много. Я вынула из портфеля дощечку с наколотой бумагой, ярко пишущий фломастер и линзу. (Я могу писать, только приблизив бумагу к глазам, а читать только сквозь линзу.) Стрехнин сказал, что 14 декабря состоялось заседание Бюро Объединения детских и юношеских писателей, на которое меня пыта-лись пригласить, но не удалось, потому что не могли дозвониться. А вопрос там стоял серьезный: товарищи ходатайствовали перед Секретариатом об исключении меня из Союза.
Телефон мой работает столь прихотливо, что, быть может, детские писатели и впрямь пыта-лись, но не могли дозвониться. Уже многие годы оба мои телефона — городской и дачный — приобрели способность самовыключаться и самовключаться. Не работает, потом начинает работать. Через два месяца после того, как детские писатели накануне 14 декабря 1973 года тщетно пытались с помощью телефона пригласить меня на свое заседание, — через два месяца, то есть 12 февраля 1974 года, между пятью и шестью часами, когда уводили в неизвестность А. Солженицы-на, — мой телефон очередной раз самовыключился. Я ни о чем не подозревала, мне надо было позвонить приятельнице, но сколько бы я ни поднимала трубку, — бездна молчания. Ни гудков, ни писка. Через час телефон самовключился; Солженицын был уже арестован на квартире жены (улица Горького, 12); военная операция: восемь человек вооруженных милиционеров, а за ними сухопутная армия, морской и воздушный флот Советского Союза — все против одного человека, вооруженного одним лишь оружием: словом… военная операция была благополучно завершена, и заголосили телефоны по всей Москве, как колокола, возвещая несчастье.
Меня по самовключившемуся телефону известил друг. Я отправилась знакомой дорогой, дворами, с улицы Горького, 6, на улицу Горького, 12.
Лагерь? Расстрел? Высылка за границу?
Но день этот был еще впереди.
А сейчас Стрехнин любезно протянул мне протокол заседания Бюро Детской секции от 14 декабря 1973 года. Я глянула — третий или даже четвертый экземпляр машинописи, недоступный моему зрению даже сквозь линзу. Стрехнин предложил огласить. Я поблагодарила. Начала конспективно записывать то, что слушала: выступления "детских писателей". Но тут вошел, представился и сел неподалеку от меня А. Медников. Стрехнин начал снова. Мне казалось, будто Медников все время крутил вокруг пальца какой-то ключ на веревочке. Может быть, мне это только казалось.
Стрехнин:
"Протокол заседания Бюро Детской секции 14 декабря 1973 года. Присутствовали тт. Юрий Яковлев, А.Аренштейн, А.Медников, Андрей Некрасов, И.Токмакова, Николай Богданов и др.
Сообщение сделал Юрий Яковлев: Лидия Чуковская пользовалась всеми благами, предоставле-нными ей государством. И в то же время порочит Советское государство. Она уже давно обязана была сама положить билет. Мы у нас в секции не видели ее лет двадцать.
Я (перебивая): Все граждане Советского Союза пользуются всеми благами государства, а не я одна. Вот вы, например, товарищи, получаете зарплату от государства, а также и гонорары. И вы, и Юрий Яковлев.
Стрехнин продолжает читать:
Воскресенская: Я много лет назад слушала выступление Лидии Чуковской. Она говорила, что надо заботиться не о пионерском знамени, а чтобы мальчики хорошо обращались с девочками.
Я: Я такого своего выступления не помню. Но я и сейчас думаю, что мальчики должны хорошо обращаться с девочками.
Стрехнин читает:
В.Медведев: У нас есть такие люди, которые любят играть на публику. Смелость на заграницу. С ними надо бороться.
Стрехнин продолжает читать:
В. Морозова: Необходимо отделить Корнея Чуковского и Николая Чуковского от Лидии Чуковской. Чтобы ее тень не падала на них. Ее выступление глупо и чудовищно.
А. Аренштейн: Эта дама для нас чужой человек. Она все получает от государства, а сама ничего не делает.
Андрей Некрасов: Член Союза Писателей обязан участвовать в строительстве коммунизма. Я читал заявление Лидии Чуковской и возмущен. Я ставлю вопрос об исключении ее из Союза.
И. Стрелкова: Еще в 1969 году покойный Аркадий Васильев ставил вопрос об исключении Лидии Чуковской из Союза. Но тогда у нее умер отец, и это заставило нас оказать ей снисхождение.
("Да, уж чем-чем, а снисходительностью Васильев не отличался", подумала я.)
Стрехнин читает:
А.Кикнадзе: Она пишет для того, чтобы привлечь внимание к себе. Но это никому не интерес-но ни у нас, ни за границей. Она хочет опорочить и советскую интеллигенцию, и советский рабочий класс.
Николай Богданов: Она пользуется именем отца и брата. А с отцом у нее были когда-то неприятности, потому что у нее тяжелый характер. Таким, как она, не место в Союзе.
Я (Стрехнину): Как же вы, Юрий Федорович, принимаете подобные протоколы и допускаете подобные собрания? Ведь это не обсуждение моей статьи, а обсуждение моих семейных дел! Как они смеют обсуждать мои отношения с отцом! У меня около трехсот писем моего отца — ими займутся историки литературы, а не Николай Богданов. Что это за уровень разговора в Союзе Писателей — об отце, брате? А если я выйду на трибуну и буду обсуждать, как относится т. Иванов к своей жене?
Стрехнин: Почему вы предъявляете свои претензии нам? Ведь я вам читаю не свои слова, а протокол заседания секции. Выступления товарищей.
Я: А почему меня не пригласили на заседание секции и все это было без меня?
Стрехнин: Это действительно нехорошо. Но они не могли вам дозвониться…
Стрехнин продолжает читать. Читает, что сказала И.Токмакова.
И.Токмакова: Выступление Лидии Чуковской предательское. Она позорит звание писателя. Ей не место в Союзе.
Н.Дурова: Со мной был такой случай: кто-то из артистического мира предложил мне подпи-саться под письмом Лидии Чуковской в защиту Солженицына. Но я отказалась, хотя было уже много подписей.
Я: Это ложь. Никаких подписей, кроме моей, под письмом в защиту Солженицына не было, и я их не собирала. Я написала статью в "Литературную Газету" сама, одна: сама подписала и сама отправила*.
* Статья "Ответственность писателя и безответственность "Литературной Газеты" (1968). См. сборник "Открытое слово", с 49. Примеч. ред. 1997.
Стрехнин: Но она и не говорит, что вы предлагали ей подписываться. Мог предлагать кто-нибудь другой.
Стрехнин продолжает читать, что говорила Н.Дурова:
Н. Дурова: Я недавно была в Лейпциге. Там министр культуры ГДР назвал Лидию Чуковскую импресарио по клевете и фальсификации. Это правильно.
Я: Какой у них интеллигентный министр культуры! Слово «импресарио» знает.
Н. Дурова: Предлагаю лишить Лидию Чуковскую наследства.
В той же семье растет великолепно подготовленная смена. На телевидении работает Дмитрий Николаевич Чуковский. На студии научно-популярных фильмов — Евгений Борисович Чуковс-кий. И не хотелось бы, чтобы тень клеветнических выступлений их родственницы падала на эти имена.
Я: Отец мой не считал, что я бросаю тень на его имя. Если же мои родные стыдятся меня — у них есть отличный выход: переменить фамилию. Я свою не отдам… И почему Дурова говорит только о Дмитрии Николаевиче и Евгении Борисовиче? У моего отца не двое, а пятеро внуков; среди них даже один доктор наук, который тоже великолепно работает. И много симпатичных правнуков. И замечательные невестки.
Но сколько бы их ни было и как бы хорошо они ни работали — «смена» тут слово неподходя-щее. Смены Корнею Чуковскому ни они, ни я представить собой не можем, потому что писатель незаменим, он единственен.
Я снова спрашиваю вас — как же вы допускаете, чтобы в руководимом вами Союзе происхо-дили обсуждения на таком уровне? 20 лет назад, худо ли, хорошо, но в Детской секции говорили о стихах и прозе, а сейчас о чужих семейных делах! И это — детские писатели, люди, призванные воспитывать детей! Это непристойно.
Медников, а с ним и Стрехнин: Им никто не давал указания сверху, они говорят от души. Почему вы воображаете, что вы одна говорите от души, а все — по подсказке? Они говорят, что думают.
Я: Они все говорят одно и то же, одно и то же, одно и то же — значит, по подсказке. И все они говорят не о моей статье "Гнев народа", а только о семейных делах. Наверное, им так велели. Ни слова по существу разбираемой статьи. Я не удивлюсь, если завтра прочту в «Литгазете» точное повторение за подписью экскаваторщика. Тоже от души.
А. Медников: Очень может быть.
Стрехнин читает выступление Лиханова:
Лиханов: Нет, дело тут не в позе, как кто-то сказал. Выступление Лидии Чуковской — не поза, а чистая антисоветчина. И не первая. Она давно работает на заграницу.
Она в своем письме называет имена лиц, которые здоровы, а их будто бы посадили в сумасше-дший дом. Это неправда. Они действительно больные. У нас здоровых не посадят.
Сейчас заграничное радио слушают все, в том числе и молодежь. Надо оградить нашу молодежь.
Как Литвинов, Якир и Красин пользовались именами своих отцов, так Чуковская пользуется именем своего отца.
Я: Неправда! Литвинов ничем не пользовался и честно отбыл свой срок. Красин просто однофамилец известного большевика, и ему нечем пользоваться. Якир и Красин — давно сломле-нные лагерями и тюрьмами люди, которые оговорили и предали многих честных людей. Никто не смеет меня с ними сравнивать.
А моего отца не уважаете — вы. Неужели вы думаете, что теперешний наш разговор — это форма уважения к моему отцу? Если бы писатели его уважали, они позаботились бы, чтобы переиздавались его критические статьи, его книги — "От двух до пяти", "Живой как жизнь", "Высокое искусство", «Чехов», «Современники», "Мой Уитмен", "Поэт и палач", "Александр Блок как человек и поэт", "Рассказы о Некрасове", — заботились бы о его, книгах, а не обсуждали бы его детей и внуков. Что бы он пережил, если бы слушал заседание секции и наш сегодняшний разговор? Как вы думаете?
Стрехнин: Вы переходите на другую тему — вопрос о переизданиях.
Я: Да, перехожу. Но не на "вопрос о переизданиях", как выражаетесь вы, а на литературу. Потому что я в Доме Литераторов, а не на склочной коммунальной кухне. Вы, Союз Писателей, лишаете читателей книг Корнея Чуковского. Вы не дорожите ни литературой, ни читателями.
Стрехнин: Я продолжаю читать протокол:
Юрий Яковлев оглашает письмо Марии Павловны Прилежаевой, которая присоединяет свой голос к требованию исключения. "Лидия Чуковская — человек чуждый".
Постановили: просить Секретариат и Правление подтвердить наше мнение об исключении Лидии Чуковской из Союза Писателей. Принято единогласно.
Затем, продолжает читать Стрехнин, уже после постановления, выступил т. Кулешов, по-видимому, опоздавший. А. Кулешов заявляет, что Лидия Чуковская как писательница — пустое место.
Стрехнин: Итак, Лидия Корнеевна, какие у вас к нам претензии? Их две, я так понял: что вас не пригласили на заседание Бюро — раз, и что якобы не говорили по существу — два.
Я: Да, это так. Нельзя осуждать человека в его отсутствие — это раз, а уровень обсуждения самый низкий — это два. Ничего никто о моей статье "Гнев народа" не сказал, а либо только брань ("антисоветчина"), либо забота о моих племянниках, которые являются достойной сменой моему отцу. Писателю родственники — смена!
А.Медников: Откуда вы берете информацию об арестованных?
Стрехнин: Вы пишете: аресты, обыски, сумасшедшие дома. Откуда у вас такие сведения?
Я: Я, как и вы, живу у себя на родине. У меня на родине творятся беззакония. Я их вижу.
Стрехнин: Почему-то вы видите только беззакония.
Я: Нет, совсем не только. Но я слишком хорошо помню погибших раньше в предыдущие десятилетия, — и потому меня остро интересуют погибающие теперь.
Стрехнин: Мы тоже хорошо помним погибших.
Медников: Откуда вы берете вашу информацию?
Я: Из жизни. От матерей, жен, сестер. Чтобы не видеть, надо заткнуть уши и зажмурить глаза. Это кругом. Одного моего знакомого, совершенно здорового, посадили в сумасшедший дом. А я — знала, что он здоровый. В печати об арестах и обысках не пишут. Или пишут, извращая факты. У меня много знакомых, которые были на суде над Синявским и Даниэлем, над Литвиновым и его товарищами. Все было совсем не так, как изображала печать. Когда я могу, я пользуюсь официаль-ными источниками — например, когда Лев Николаевич Смирнов, судья, выступал в Союзе Писателей, я задала ему вопрос, что означает — юридически — слово «антисоветский»? Ответа я не получила*.
* Вопросы, переданные Л. Н. Смирнову на собрании писателей в марте 1966 года — см. сборник "Открытое слово", с. 33. — Примеч. 1977 года.
Медников: Почему это происходит вокруг вас, а, например, возле меня не происходит ничего похожего?
Я: Не знаю… Вы живете где-то на острове и нарочно не видите… Кроме личных наблюдений я иногда узнаю что-нибудь от академика Сахарова. Он ведь тоже лицо официальное: председатель Комитета Прав Человека. Вот недавно был суд над его другом Шихановичем. Судили в отсутствие подсудимого, защищал адвокат, который подсудимого ни разу не видел. А дело Суперфина? Его матери недавно запретили с ним переписку. Родной матери. Понимаете?
Медников: Я никогда никакого Суперфина не слышал. И с Сахаровым не знаком.
Я: Жалею о вас.
Стрехнин: Итак, вернемся к делу. Мы пригласим вас на Секретариат… Может быть, вы до тех пор подумаете и напишете объяснительную записку? Я нисколько не настаиваю, я всего лишь спрашиваю.
Я: Я никакой объяснительной записки писать не стану. Я ни у кого на службе не состою. Если меня пригласят в Секретариат Правления, я приду, но только на том условии, что о моих родных говориться не будет. В литературе родства не существует. Если существует — не фамильное. И, кроме того, прошу учесть, что я живу то в городе, то на даче, — и предупредить меня надо заранее.
Если на Секретариате займутся моими семейными делами, то я немедленно уйду, громко хлопнув дверью.
Стрехнин: Скажите, пожалуйста, Лидия Корнеевна, а как ваша статья попала за границу?
Я: В прошлый раз в этой же комнате вы задали мне подобный вопрос о другой статье. Тогда я сказала: не знаю. Это правда. Теперь говорю: я сама пригласила к себе домой американского корреспондента и передала ему "Гнев народа" с просьбой опубликовать.
8
4 января я получила повестку: явиться на заседание Секретариата Московского Отделения Союза Писателей РСФСР.
От письма Стрехнина она отличалась тем, что уже вовсе не походила на письмо. Там: "Уважа-емая Лидия Корнеевна". Здесь уже просто "Лидия Корнеевна". (А если бы меня вызывали на Секретариат не РСФСР, а СССР — до какого градуса поднялась бы невежливость?) Там была подпись Ю.Стрехнин". Как-никак, автограф писателя. Здесь — "Зав. протокольным отделом А. Любецкая". Очень похоже на вызов в милицию или в суд… Впрочем, в милицейской повестке стояло бы: "гр-ке Чуковской Л.К."… Трудно себе вообразить, чтобы, например, у "Серапионовых братьев" существовал протокольный отдел, и в этом отделе — зав., и они писали бы друг другу так: Каверину В. А.
Я нахожу, так оно и лучше. По крайней мере, сразу понимаешь, куда идешь.
Явиться: 9 января, в 2 часа дня, в комнату № 8.
Я в указанное время явилась. Захватила с собою кроме фломастеров, линз и дощечки листы чистой бумаги для записи; напечатанное большими буквами прощальное выступление; а также список своих работ, сначала принятых издательствами, а потом без объяснений отвергнутых.
В вестибюле меня поджидали друзья. (Хоть и нет "Серапионовых братьев", а братство неистребимо. Не нами началось, не нами кончится.)
Поднялись все вместе на второй этаж, к дверям комнаты № 8. У дверей сторож. Друзья мои (члены Союза) просили у членов Секретариата допустить их в зал. Нет. Друзья просили допустить хотя бы кого-нибудь одного, чтобы помочь мне разбираться в бумагах. Нет. Члены Секретариата Правления МО СП это, видимо, какие-то помазанники Божий, а все остальные — серость, не им чета.
Вот когда и друзей моих будут исключать поодиночке из Союза, тогда и каждого из них по очереди допустят в святилище. А пока что — одну меня.
Я вошла. Большая комната в несколько окон. Большой стол. За стол, шумно отодвигая стулья, садятся люди. Некоторые — вдоль стен; их человек 20–25. Сели. И мне, вижу, оставлено место — неподалеку от председателя. (Председательствует поэт С.Наровчатов.) Я села, начала расклады-вать свои инструменты и бумаги и сразу поняла: беда. Комната очень большая, окна далеки от стола, я как ни устроюсь за столом — света мне не хватит. Настольных ламп нет, а верхний, если даже зажечь, недостаточен.
Я собрала все свое хозяйство, разложила на подоконнике и стала у окна.
Теперь свет падает щедро и на мою дощечку, и я могу писать и читать.
Но председательствующий не называет имен говорящих (все они тут люди свои, хорошо между собою знакомы, зачем называть), а я из своей дали не вижу лиц. Голоса узнаю, но лишь некоторые. Вынуждена то и дело бросать карандаш, подходить к председателю, спрашивать шепотом: "Это кто говорит?" Он отвечает, не поворачивая ко мне головы. (Поэтическая вольность. Поэт не обязан быть вежлив.)
Так я слушаю, читаю, говорю, спешу от окна к председателю и от председателя обратно к окну, тороплюсь записать, тороплюсь ответить; люди говорят, перебивая друг друга, иногда в два или три голоса сразу; может статься, запись моя в результате беготни и спешки не совершенно точна. (Надеюсь, велась стенограмма, она позволит обогатить и уточнить мой текст.)
Наровчатов (объяснив, что собрались все члены Секретариата, кроме тех, кто представил для своей неявки уважительную причину) открыл заседание. Огласил повестку дня.
Пункт первый — обсуждение персонального дела Л. Чуковской.
Затем прием новых членов.
Затем план работы Секретариата в первом полугодии 1974 года; утверждение разных редкол-легий (кажется, среди сборников назван был "День Поэзии") и очень много пунктов, посвященных встречам писателей с рабочими; так, например, обсуждение темы "Герой девятой пятилетки"; планирование очерков и рассказов о заводских рабочих; выдача премий за лучшие произведения "на рабочую тему".
(Записала я не все — на повестке дня пунктов было больше).
Затем Наровчатов предоставил слово для доклада т. Стрехнину.
Стрехнин поднялся и, стоя, сообщил, что 14 декабря 1973 года Бюро Детской секции едино-гласно постановило ходатайствовать перед Секретариатом об исключении из Союза Писателей Лидии Чуковской — ввиду ее недостойного поведения. Что после этого он, Стрехнин, совместно с товарищем Медниковым, беседовал с Чуковской. (Та часть беседы, которая касалась семьи, в его пересказе опущена.) Что я заявила им- "Статья "Гнев народа" передана мною, американскому корреспонденту собственноручно". Что статья "Гнев народа" напечатана за границей в русской белогвардейской газете рядом с Галичем (я не поняла, рядом ли со стихами Галича или с его интервью; газеты не видела); что статья моя широко передавалась по иностранному радио на Советский Союз. "В виду того, что все присутствующие хорошо с ней знакомы, — сказал Стрехнин, — обсуждать ее по существу нет необходимости"*.
* Мне представляется наоборот обсуждать тогда-то и возникает необходимость, когда обсуждающие знакомы с предметом.
"Вернемся к прошлому", — предложил Стрехнин и занялся перечислением моих проступков.
1966 — поддержка Синявского и Даниэля.
1967 — письмо Шолохову, передававшееся "на Советский Союз" по иностранному радио.
[Уточняю: мое письмо Шолохову написано было в мае 1966 года и послано (кроме шолохо-вского) по восьми адресам — в три отделения Союза Писателей и в пять редакций советских газет].
1968 — статья, направленная в "Литературную Газету", — ответ на статью против Солженицына.
1968 — поддержка Гинзбурга, Галанскова и других. Секретариат Союза Писателей вынес тогда Чуковский выговор.
1969 — телеграмма, в Президиум Союза Писателей с протестом против исключения Солженицына*.
* Не записала и не помню назвал ли Стрехнин среди моих преступлений также и мое письмо в защиту Рейзы Палатник, обращенное к Верховному Суду УССР (1971) (См. сборник "Открытое слово", с. 69.) Телеграмма же о Солженицыне опубликована в том же сборнике на с. 65, и текст ее таков:
"В Президиум Союза Советских Писателей СССР
Я считаю исключение Александра Солженицына из Союза Писателей национальным позором нашей родины.
Лидия Чуковская 11 ноября 1969 года"
За границей Чуковская опубликовала две повести: "Опустелый дом" ("Софья Петровна". — Л. Ч.) и "Спуск под воду".
Наша задача сейчас не в обсуждении открытых писем и повестей. Мы должны принять меры на основании нарушения двух пунктов устава Союза Писателей: п. 2 и п. 10.
(Оба они, со всеми своими а, б, в — совершенно абстрактны и в любую минуту могут быть истолкованы как угодно. Устав требует, например, участия члена Союза в общественной деятель-ности. Но почему общественной деятельностью писателя считается, например, соучастие в чьем-нибудь исключении — по приказу Секретариата, — но не в защите кого-нибудь из товарищей, которыми Секретариат недоволен?)
Чуковская сама поставила себя в положение, несовместимое с членством в Союзе Писателей.
Юрий Яковлев (захлебываясь, глотая буквы, слоги, слова): Мне трудно говорить, товарищи… Вы меня простите, но мне говорить слишком трудно… Во мне вся эта история вызывает глубокую горечь… Слишком глубокую… Вот недавно в Новосибирске наш советский подросток стрелял в нашего советского часового… Это ужасно, товарищи… В Новосибирске совершилось ужасающее преступление. (Я слушаю оратора с полным сочувствием. Тем более что один из воспитателей советского юношества — не кто иной, как сам товарищ Ю.Яковлев: это его книги каждую минуту издают и переиздают все советские издательства по всей необъятной Советской стране, на них воспитывается советское юношество. Как же ему не волноваться!) И вот, товарищи, когда по радио слышишь статьи, подобные статье Чуковской, начинаешь понимать, откуда берутся ужасные преступления. Передачи, подобные "Гневу народа", — вот их источник… Вы меня извините, я больше не могу говорить, я слишком взволнован.
Рекемчук: Название "Гнев народа" — это что же, она гневается от имени народа? Вы — представитель разгневанного народа?
Я: Напротив, я подчеркиваю в своей статье, что говорю ни от чьего имени, от одной себя, что я ничей не представитель. Ведь вы мою статью читали? Там это сказано. А название дано мною чисто иронически.
Редакции газет сначала организовывают гнев знаменитостей, тех, кому поверит читатель, а потом "гневные письма трудящихся". Имитация гнева. Опасная игра потому, что кончится она впоследствии истинным гневом. Я этого не хочу и боюсь и об этом своей статьей предупреждаю.
Рекемчук: В вашей статье — барское пренебрежение к народу, к рабочим, таксистам, хлеборобам.
О Солженицыне. Мы уже несколько лет имеем удовольствие читать его антисоветские, монархические произведения. И вы становитесь на те же классовые позиции! Под конец жизни вам льстит ваша скандальная известность!
Я: Почему же под конец? Я пока еще не собираюсь умирать.
Юрий Жуков: Я уважаю прежние статьи Лидии Чуковской. (Неувязка! По-видимому, т. Куле-шов, заявивший 14 декабря, что я в литературе пустое место, — перевыполнил задание. Сам т. Юрий Жуков уважает мои прежние статьи!) Однако логика фракционной борьбы привела вас к защите всех антисоветчиков: Гинзбурга, Галанскова, Солженицына. Вы оскорбляете тех, кого вы отбрасываете.
Я: Кого же я отбрасываю?
М. Алексеев: Любопытно отметить, что она явилась сюда с ответами, заранее заготовленными на бумаге. Посмотрите, какая груда листов! Это напоминает мне заседание с Солженицыным. Солженицын тоже пришел со стопкой. И вот сейчас мы видим то же самое.
Все это уже где-то заранее согласовывалось и репетировалось.
Я поддерживаю предложение Детской секции: Чуковскую надо исключить.
А. Медников: Я прочитал много раз "Гнев народа". Эта статья вызывает чувство возмущения. Надо дать общую оценку Солженицыну, Максимову, Чуковской.
Их деятельность — проявление ожесточенной классовой борьбы.
Они ведут классовую борьбу в идеологии.
"Гнев народа" — целая цепь клеветы и оскорблений, адресованных писателям и народу. Это оскорбление власти: как будто власть строит стену между писателями и народом. Это оскорбление интеллигенции в лице, например, Кожевникова. Она пишет, что его «спустили» на Сахарова и Солженицына… Ведь это собак спускают. Кожевников не собака, а человек.
Я: Конечно, Кожевников человек. Собаки не пишут статей — ни от души, ни со специальной целью ввести читателей в заблуждение.
А. Медников: "Гнев народа" — статья, оскорбляющая партию. Под конец это уж прямая угроза. В письме Максимова тоже содержалась угроза. После такой статьи, как "Гнев народа", нельзя быть не только членом Союза Писателей, но и гражданином Советского Союза.
Н.Грибачев: С горечью думаешь о том, что Лидия Чуковская носит фамилию Корнея Чуковского. У меня эти два имени не укладываются в сознании рядом.
Я: Если вы так почитаете Корнея Чуковского — где все вы были, когда в нашей печати обливали его грязью?
Н.Грибачев: Сахаров — уважаемый физик, но в политике он жалкий либералишка. У Солженицына скопилась злоба из-за давних обид.
А что же у вас? Вы завидуете их славе на Западе?
Что такое Солженицын в литературе? В лучшем случае беллетрист среднего пошиба. В его писаниях можно найти две-три удачные страницы.
На международном рынке он спекулирует антисоветчиной, чтобы нажить себе состояние. Он оплакивает царя-батюшку.
Я: Невозможно слушать, что вы говорите. Солженицын — и спекуляция! Где же он оплакива-ет царя? В "Августе Четырнадцатого" Николай II изображен ничтожеством, и ничтожный царь и его бездарные генералы ответственны за гибель сотен тысяч людей, за гибель целой армии.
С.Наровчатов: Прошу не перебивать. Вам будет предоставлено слово.
Н.Грибачев: Благодаря усилиям правительства Советского Союза мир пришел к разрядке международной напряженности. В связи с этим обостряется классовая борьба, а с нею растет антисоветчина. В этих условиях все антисоветское, что поступает отсюда, щедро оплачивается на Западе золотом и славой. И вы дали себя втянуть в эту грязь? Вы думаете, что Би-би-си удастся свернуть наш народ с его пути? Ошибаетесь.
Вы просто-напросто презренный поставщик материалов для антисоветской пропаганды.
Я: Импресарио, как выразился министр культуры ГДР.
Н.Грибачев: Вы ото всего далеки. Вы потеряли человеческое отношение к людям. Не только к нашим, советским, но и к тем, за рубежом, кто ведет благородную борьбу за прогресс.
Вас надо исключить и довести наше решение до широкой общественности. Вы считаете, что наш народ глуп.
Я: Напротив, у меня написано, что наш народ умен, но он не осведомлен, потому что вы намеренно лишаете его информации.
Н.Грибачев: Предложение Детской секции следует поддержать. Чуковскую необходимо исключить, и пусть "Литературная Газета" позаботится о широких читательских массах. И другие газеты. Ее нужно выставить на позор перед народом.
А. Барто (грудным голосом): Я очень волнуюсь. Мне трудно говорить. Я вижу перед собой другую Лидию Корнеевну Чуковскую. Когда-то она проявляла критический пыл, вела наступле-ние на художественно слабые вещи. В те времена я относилась к ней с уважением. Но теперь я разделяю горечь детских писателей… Чем объяснить, как может человек дойти до такой антисо-ветчины, до такой злобы? Мне хочется спросить у вас: почему вы такая злая! Откуда в вас столько злости? Я вчера прочитала "Гнев народа" впечатление удручающее. Злость, злость, злость.
Кто-то: Логика фракционной борьбы.
А.Барто: Мне очень тяжело говорить. За вашими плечами мне видится тень, дорогая для меня и для всех нас, — тень вашего отца…
Хор (общий одобрительный гул, в котором я с особенной отчетливостью различаю голос Лесючевского): Корней Иванович! да… уважаем… любим… основоположник… классик… имя окружено почетом… высокая оценка… высокие награды… любимец советского народа…
Я (Лесючевскому): Вы, Николай Васильевич, имеете полную возможность выразить свое высокое уважение к Корнею Чуковскому: в издательстве, подведомственном вам, выпустить в свет хотя бы одну из его книг. Или хотя бы включить в план. Ведь не стали книги Чуковского хуже от того, что он умер, — ни «Чехов», ни «Воспоминания», ни "Высокое искусство", ни "Живой как жизнь". А вот ни в одном плане ни одного издательства взрослых книг Корнея Чуковского — никаких, даже признанных, хвалимых — почему-то больше нет. Читатель постепенно лишается их.
Лесючевский отвечает что-то невнятное. Что-то вроде: "Это не от меня зависит", или: "Нет бумаги", или и то и другое вместе.
А.Барто: Вот у меня в руках пригласительный билет в Театр Образцова на спектакль по сказкам Чуковского. "Наша Чукоккала"… Прямое доказательство, как его любят и помнят.
Я: Представьте себе, какая странность, даже я получила пригласительный билет в Театр Обра-зцова. Там Чуковского действительно любят и помнят. Детгиз печатает его детские сказки. А вот Союз Писателей об издании его книг для взрослых не заботится. Повторяю: литература состоит из книг. Если вы ведаете литературой, то почему же не переиздаются ни "Живой как жизнь", ни «Воспоминания», ни «Чехов», ни "Высокое искусство" — книги Чуковского?
А.Барто: Мы любим и помним Корнея Ивановича. Он учил людей добру. Он своими сказками и всей своей личностью звал к добру. У меня сохранились четыре письма от него… и все четыре — такие добрые.
Я: Представьте себе, какая странность: у меня тоже сохранились: 294. Двести девяносто четыре письма от него — и все такие добрые — и даже до последнего дня.
Ю.Яковлев: Да, да, я видел письма Корнея Ивановича к Агнии Львовне собственными глазами! Они очень, очень добрые!
А.Барто: В своих письмах Корней Иванович хвалит мои стихи, благодарит меня. Он очень ценил мои стихи. Он был добрый человек. А вы — злая. Откуда в вас столько злобы? Опомнитесь, Лидия Корнеевна, подобрейте!
Я: Корней Чуковский был человек не злопамятный, это правда. Но мне, чтобы знать, как он относился к поэзии Агнии Барто, не требуются его четыре любезные письма. Между его и вашими стихами нет ровно ничего общего — его стихи растут из фольклора и классики; у ваших — другой источник. И вы, когда было приказано вести борьбу против народных стихов, помогали вытапты-вать сказку, всякую сказку, в том числе и сказку Чуковского. Тем не менее Корней Иванович способен был к объективности, ценил некоторые ваши стихотворные удачи, особенно ваше умение выступать перед детьми с эстрады, владеть школьной аудиторией. И бывал благодарен вам, когда вы выступали в построенной им детской библиотеке или на его ежегодных праздниках «Кострах».
Но вот что примечательно: вы, Агния Львовна, всю жизнь платили ему за добро злом. Ваша подпись украшает собою письмо против народных сказок и против сказок Корнея Чуковского, напечатанное в "Литературной Газете" в 1930 году. Там много подписей, и среди других — ваша*. В 1944 году против Корнея Чуковского выступила уже не "Литературная Газета", а «Правда»: в «Правде» обозвали военную сказку Чуковского "несуразным шарлатанским бредом". Он был немедленно вызван в Союз. Для защиты? Нет. Союз никогда не защищает своих членов, — для расправы. (Не в этой ли самой комнате с ним и чинили расправу тогда?) В «Правде» говорилось, между прочим, что Корней Чуковский сознательно опошляет задачи воспитания детей в духе социалистического патриотизма… То же повторялось и на Президиуме. Когда Корней Иванович вернулся домой, я спросила: кто был ниже всех? Он ответил: «Барто».
* Литературная Газета, 1930, 27 января.
А. Барто (пожимая плечами): Я не понимаю… Что же, по-вашему, Корнея Ивановича и покритиковать нельзя? Мы все его уважаем, он, конечно, основоположник, но ведь у каждого писателя бывают неудачи… Покритиковали одну сказку — что ж тут такого…
Хор: Одну сказку… Уж и покритиковать нельзя… Литература движется вперед критикой… Советская литература всегда была сильна свободой критики… «Правда» покритиковала… Президиум покритиковал… Одну сказку…
(Какое неуважение к фактам, к литературной истории, какое полное пренебрежение к памяти, к документам! Не "одну сказку покритиковали", а не было ни одной сказки Чуковского, которую не запрещали бы. "Одну сказку!" "Покритиковали!" Слушая этот общий ханжеский гул, я вспоминала: мельком не по порядку, на выбор: статью Н. Крупской против "Крокодила"*, статью К.Свердловой под заглавием "О "Чуковщине"". "Мы должны взять под обстрел Чуковского и его группу", — писала К.Свердлова, высмеивая тут же истоки «национально-народной» поэзии**. Вспоминались мне также статьи Д. Кальма, К. Флериной***; из года в год бесконечные нападки на «Мойдодыра», «Крокодила» и в особенности на «Муху-Цокотуху»… История всех этих преследований подробно изложена в главе "Борьба за сказку" в книге К.Чуковского "От двух до пяти"… Нет, вопреки истории они повторяют и будут повторять: "Одну сказку… покритиковали"… Борцы за свободную критику!.. Вспомнили бы резолюцию общего собрания родителей — не каких-нибудь там заурядных пап и мам, а кремлевских, собравшихся в детском саду при Кремле:
"Мы призываем к борьбе с чуковщиной"****… Призыв этот был, разумеется, услышан и подхвачен. "Среди моих сказок, — пишет К.Чуковский, не было ни одной, которой не осуждала бы в те давние годы та или иная инстанция…"*****
И вот я дожила: "одну сказку… покритиковали…")
* Правда, 1928, 1 февраля.
** Красная печать, 1929, № 9-10, с. 92–94.
*** Литературная Газета, 1929, 30 декабря.
**** Дошкольное воспитание, 1929, № 4, с. 74.
***** Корней Чуковский От двух до пяти. М.: Детская литература, 1968, с 270
Но все эти воспоминания, промелькнувшие у меня в уме под звуки общего гула, я опустила, а сказала только о том, о чем зашла речь, — о "критической статье" Юдина 1944 года.
Я: Есть люди, которые утверждают: критика — это лирика. Другие: критика — это наука. Но то, что было напечатано в «Правде» в 1944 году и что так горячо поддержал Президиум Союза Писателей и с особым усердием Барто, — критикой никак не назовешь. Это бюрократический циркуляр, пересыпанный бранью.
А.Барто: Я не понимаю, Лидия Корнеевна, вы вообще совершенно отказываете людям в праве иметь собственное мнение. Вы требуете, чтобы все думали так, как вы. А я за свободу мнений. Я думаю, как Шостакович и Чингиз Айтматов, а вы — как Солженицын и Сахаров. Я вас зову: опомнитесь! подобрейте! Мне тяжело думать, что на светлую память о Корнее Ивановиче, учившем нас доброте, ложится ваша тень.
Я: Представьте себе, о том же оказалось тяжело думать и членам Детской секции. Ваши свободные мнения сработаны по общей шпаргалке, слово в слово.
Лесючевский: То, что здесь происходит, — чудовищно. Она пришла сюда и ощущает себя спокойно-враждебной. Агния Львовна обратилась к ней так трогательно, с такой задушевностью, а она в ответ еще пытается нам диктовать, навязывать свою антисоветчину. Мы взволнованы, пото-му что затронуто самое заветное для нас, святое, а она словно играет в какую-то игру. Антисове-тизм в наши дни знамя реакции во всем мире, и вот в эту минуту человек выступает антисоветчиком!..
Я: Я уже давно пыталась добиться определения слов «советский» и «антисоветский». Эти понятия непрерывно меняются. Были, например, годы, очень долгие, когда писать доносы считалось «по-советски». Были годы, очень недолгие, когда, напротив, считалось «по-советски» спасать и устраивать на работу тех, кто вернулся из преисподней, куда был ввергнут доносами.
Понятия «советский» и «антисоветский» столь текучи, изменчивы и неопределенны, что даже вы, т. Лесючевский, крупнейший, можно сказать, специалист, и вы иногда ошибаетесь в определе-нии. Так, в 1962 году руководимое вами издательство приняло мою повесть "Софья Петровна", в которой рассказывается о 1937 годе; в ту пору эта повесть сочтена была вашим издательством что ни на есть «советской», она разоблачала «культ»; через несколько месяцев приказано было сокра-тить, притупить разоблачения культа, и мою повесть отвергли. В ней был срочно обнаружен "идейный перекос". Она оказалась уже не вполне советской… Сейчас в моем "персональном деле" та же повесть, некогда принятая вами, потом отвергнутая вами и напечатанная за границей, трак-туется как «антисоветская»… Значит, даже вам, знатоку в определении антисоветчины, случается иногда ошибаться. Виноваты в своих ошибках не только вы, но и растяжимость понятия: не угнаться.
Лесючевский (скороговоркой). Ваша повесть никогда не была принята и одобрена издательст-вом. У вас был всего лишь двадцатипятипроцентный, предварительный (!) договор.
(Распространено мнение: правда обезоруживает. Видно, не всегда это так. Наглая, открытая, себя не стыдящаяся ложь — публичная ложь под стенограмму лишила меня дара речи, обезоружи-ла. Я, располагающая всем материалом, необходимым для опровержения лжи, я ответила нечто беспомощное: "Как вам не стыдно" и "Сохранились ведь документы". У меня кончился голос, это были не возражения, а лепет.
Интересно, какие шаги предпримет Лесючевский, если ему на глаза попадутся эти строчки? Найдет в архиве издательства и уничтожит положительные рецензии? И договор, где в соответст-вующей графе стоит слово «одобрена»? Прикажет суду уничтожить протокол заседания? Выгонит из редакции своего издательства всех знакомых знакомых тогдашних редакторов? Отравит всех присутствовавших на суде? Объявит решение суда антисоветчиной? Всего можно ждать, кроме одного: прочитав эти строки, Лесючевский открыто заявит: да, в 1962 году повесть Лидии Чуковс-кой "Софья Петровна" в издательстве "Советский писатель" была принята и одобрена, к ней были сделаны рисунки, автору выплачены 60 %, дающие право на 100, а позднее, весною 1963-го, когда приказано было всем издательствам умерить разоблачения Сталина, — отвергнута.)
Лесючевский: Сахаров и Солженицын — для Чуковской всего лишь повод. Она ненавидит советский народ. Народ для нее быдло.
(Я слышу, как он громко перелистывает бумаги — под его пальцами щелкают листы. Догадываюсь: это корчится моя статья.)
Лесючевский: Что здесь написано?.. Народ у нас, оказывается, управляется кнопками: нажмите кнопку, и он исполнит приказ. Власть управляет народом с помощью кнопок. (Листы щелкают все громче. Из груди оратора вырываются вопли, стоны.) Перед нами открытая антисоветчина. Мы должны дать ей отпор… Статья Чуковской оканчивается прямым призывом к бунту… Она угрожа-ет нам: народ взбунтуется и сметет нас. И мы еще это осуждаем… Чудовищно…
(Листки шуршат и щелкают. Лица Лесючевского из своей дали я не вижу, но вижу, что он хватается рукой за грудь.)
Хор (главноуспокаивающие — Грибачев и Жуков): Николай Васильевич! Коля! Ты не волнуй-ся… Не стоит она того… Вспомни: у тебя больное сердце… был инфаркт… надо щадить себя… тебе вредно волноваться… Да и о чем? Ведь это все фантастика… Выдумки… Бред… Никакого бунта…
(Видя, как они хлопочут, утешая Лесючевского, я испытываю желание предложить ему антиспазматические лекарства, которыми набиты мои карманы. Но не отваживаюсь.)
Голоса: Николай Васильевич! Дружище! Не волнуйся! Вспомни, дорогой, ведь мы страна победителей! Мы взяли Берлин! И ты расстраиваешься! Из-за чего? Из-за какой-то несчастной статейки. Стоит ли переживать? Ведь всем все ясно. Ее антисоветская позиция ясна. И не только ее. Кое-кто сочувствует. Но мы и в сочувствующих вглядимся.
Я: Не расстраивайтесь, Николай Васильевич, в моей статье никакого призыва к бунту нет. Вся моя статья призыв не к бунту, а к прекращению злостной умышленной дезинформации читателей. (Обращаюсь к Стрехнину): Юрий Федорович, прошу вас, огласите концовку моей статьи. Там никакого призыва к бунту, там говорится о том, чего я изо всех сил не хочу.
Стрехнин: читает последний абзац моей статьи, опустив заключительную фразу.
"А вы, Кожевников и те, кто нажимает кнопки, вы, намеренно задувающие сияние лучших умов, которыми нас дарит родная земля; вы, возводящие газетную — железобетонную — стену между лучшими умами и "простыми людьми"; вы, пытающиеся повернуть историю вспять; вы, искусственно, механическим нажатием кнопки, вызывающие волны "народного гнева", предпочи-тая немоту любому слову, — смотрите, чтобы из-под земли не вырвался подлинный гнев, и тогда он, как лава, затопит не только вашу убогую стену, но — ничем не просветленный, не очищенный ничьей одухотворяющей, умиротворяющей мыслью академика Сахарова например, — он утопит в крови, без разбора, и виноватых и правых".
Я (кричу): Вы не дочитали до конца! Дочитайте до конца!
Стрехнин: "Хочу ли я этого? Нет. Этого я никому не желаю".
Последняя фраза, Лидия Корнеевна, ничего не меняет.
Я: Да ведь вся моя статья написана в предостережение насилию! Вся для последней фразы! Перестаньте лгать! Это приведет вас же к беде!
Катаев: Я хочу поставить один вопрос: о порядочности. Вот уже года два она вступила в борьбу с Советским Союзом и с Союзом Писателей. Почему она сама не вышла из Союза? Этого требует элементарная порядочность, которая ей, как видно, несвойственна.
Я: Никакой борьбы против своей родины я не веду и никогда не вела. А отчислить меня — не от Союза Писателей, а от интеллигенции, опозорившей себя травлей Сахарова и Солженицына, — я попросила сама. В той же статье "Гнев народа". Прочитав имена интеллигентов под письмами в газету.
Кто-то: А вы, прежде чем передать свою статью за границу, предлагали ее какой-нибудь редакции здесь?
Я: Здесь? Где даже проредактированная мною рукопись моего отца не была принята к печати т. Поздняевым потому, что под статьей стояла пометка: "Подготовила к печати Лидия Чуковская"? Здесь, где не было напечатано ни одно мое "открытое письмо"? Где мне вернули мою ахматовс-кую работу вернули после принятия, без объяснения причин? Для чего же, кому и что я буду предлагать? Для новых издевательств? В журнале "Семья и школа" мои воспоминания о Корнее Ивановиче оборваны были на полуслове за то, что они мои. После передачи по иностранному радио статьи "Гнев народа" те же воспоминания вышвырнули из детгизовского сборника. Без всяких объяснений. "Об этом не может быть и речи", — объявлено было составителям. Для чего ж я буду предлагать что-нибудь кому-нибудь? Для новых унижений?
А.Самсония: Я хорошо понимаю тех, кто подобно товарищам Лесючевскому, Яковлеву, Барто волнуется, прочитав статью Чуковской; понимаю я и тех, кто, прочитав, остается непоколебимо спокоен.
Наивно с нашей стороны было бы думать, что вы, Лидия Корнеевна, не понимаете, что делаете. Вас поддерживает оголтелая антисоветчина.
Войну Отечественную зачеркнуть не может ни Солженицын, ни Сахаров, ни вы. Мы великая страна, и ваши попытки жалки.
Вы воображаете, что вы герой? Вы возомнили себя фигурой? У вас жалкий вид! Вы жалкая личность! Вы порочите имя своего отца.
С.Наровчатов (предоставляет слово мне):
Я (читаю приготовленный заранее текст): Через несколько минут вы единогласно исключите меня из Союза. И я из числа членов Союза Писателей перейду в другой разряд — в разряд исклю-ченных из Союза. Это горько, потому что в Союзе Писателей много людей талантливых, честных и чистых. И это лестно, если вспомнить, что к разряду исключенных принадлежали в свое время Зощенко и Ахматова, что исключенным умер Пастернак, что недавно вы исключили Солженицы-на, Галича, Максимова. Я не равняю себя с такими великанами, как Ахматова или Солженицын, но горжусь тем, что вы вынуждены применить ко мне ту же меру, что и к ним.
Сегодня вы приговариваете меня к высшей для писателя мере наказания несуществованию в литературе. Начали вы разлучать меня с читателями, то есть не переиздавать мои старые и не печатать новые книги, уже давно. Сделать любого писателя вовсе не существующим и даже никогда не существовавшим вполне в вашей власти. Пресса в ваших руках — в руках Президиу-мов, Секретариатов и Правлений. Вы перестали переиздавать мои работы о Миклухо-Маклае, о Герцене, о декабристах, о Борисе Житкове, мои критические статьи и книгу "В лаборатории редактора" — и вот в сознании читателей меня почти нет. Но ссылаться на мои книги до сих пор еще было кое-где, в малотиражных изданиях, разрешено. Теперь вы запретите и это. Хвалебные статьи о моих работах, печатавшиеся в советской прессе, будут отправлены в спецхран, то есть от читателя скрыты. После выхода в Америке моей старой книги "Спуск под воду" вы оборвали печатанье в журнале "Семья и школа" моих воспоминаний о Корнее Чуковском. После опублико-вания за границей моей статьи "Гнев народа" вы изъяли мои воспоминания о Корнее Чуковском из сборника Детгиза.
Исключением из Союза завершается приговор к несуществованию. Меня не было и меня нет. (На заседании Бюро Детской секции т. Кулешов уже заявил, что меня не было, а читатель возра-зить возможности не имеет — негде).
Но буду ли я? Всегда, совершая подобные акты, вы забывали и забываете и сейчас, что в ваших руках только настоящее и отчасти прошедшее. Существует еще одна инстанция, ведающая прош-лым и будущим: история литературы. Вспомните: ваши предшественники травили годами и не печатали десятилетиями Михаила Булгакова, а теперь вы похваляетесь им на весь мир. Вспомните годы, когда был пущен в ход вами или вам подобными бранный термин «чуковщина». Вспомните: в 44-м году некто Юдин в газете «Правда» опубликовал статью: "Пошлая и вредная стряпня Корнея Чуковского". Тогда вы за Чуковского не заступились — напротив, усугубили травлю. А высшая инстанция через два десятилетия вынесла иной приговор. Юдин же, если войдет в историю литературы, то только как автор этой постыдной статьи. Других оснований у него нет.
Вам бы тогда защитить от Юдина — Корнея Чуковского, а вы вместо этого теперь охраняете Чуковского от меня.
История литературы, а не вы и на этот раз решит — кто литератор, а кто узурпатор.
В 1885 году Толстой писал Урусову: "Да, начало всего слово: Слово святыня души… И слово это есть одно божество, которое мы знаем, и оно одно делает и претворяет мир".
Слово — дух! — от вас, отлетело.
Таким словом руководить нельзя, даже имея очень сильные и очень длинные руки. Положение слова в нашей стране истинно отчаянное: если человек говорит что-то, не совпадающее с вашим сиюминутным мнением, его объявляют антисоветчиком; если за границей критикует кто-нибудь нечто дурное, совершающееся в нашей стране, — это объявляется вмешательством в наши внут-ренние дела. Так вы руководите. А словом, святыней души, руководить нельзя; таким словом можно увлекать, излечивать, счастливить, разоблачать, тревожить, но не руководить. Руководить можно только помехами слову, препонами слову, плотинами слову: изъять книгу из плана, изъять из библиотеки, рассыпать набор, не напечатать, исключить автора из Союза, перенести книгу из плана 74-го на 76-й, а бумагу присвоить себе или напечатать миллионным тиражом прозу Филева. Вот такой деятельностью вы и руководите. Мешать. Тормозить. Запрещать.
"Слово — святыня души. Оно одно претворяет мир". Ему помешать бессильны даже вы.
Несмотря на все чинимые вами помехи, на тридцать седьмои-тридцать восьмой год и на предыдущие, на сорок шестой, на сорок восьмой, на сорок девятый-пятьдесят первый, на пятьдесят восьмой, шестьдесят шестой, на шестьдесят восьмой и шестьдесят девятый, русская литература жива и будет жить.
…А Муза и глохла и слепла,
В земле истлевала зерном.
Чтоб после, как Феникс из пепла,
В эфире восстать голубом
Чем будут заниматься исключенные? Писать книги. Ведь даже заключенные писали и пишут книги. Что будете делать вы? Писать резолюции. Пишите.
Я начала читать заготовленное мною дальше — перешла к Сахарову и Солженицыну:
— Сахаровым наша страна и каждый из нас должен гордиться. Он первый заговорил о спасении Человечества не войною, а единением народов; первый сочетал глобальные заботы с заботами о судьбе каждого отдельного Человека. Каждая человеческая судьба для Сахарова — родная ему судьба. То, что сейчас именуется "борьбой за разрядку международной напряжен-ности" — это идея Сахарова, из которой совершено горестное вычитание: борьба за отдельного человека.
Тут поднялся такой неистовый крик, что я уронила бумаги на пол. Нагнулась, чтобы подобрать, и уронила очки.
Собрала бумаги в охапку, но разбирать, где какая страница, уже не могла.
А между тем, заговорив о Сахарове и Солженицыне, я хотела опять вернуться к основной теме своего выступления: "слово есть поступок", как утверждал Джон Рескин, слово — это и есть дело (отчего у нас и карают за слово более жестоко, чем за "дело"), как утверждал Герцен; я хотела напомнить своим собеседникам: слово истины непобедимо, а если победимо, то лишь временно. Я хотела огласить пророчество Чаадаева:
"Главный рычаг образования души есть без сомнения слово… Иногда случается, что проявлен-ная мысль как будто не производит никакого действия на окружающее; а между тем — движение передалось, толчок произошел; в свое время мысль найдет другую, родственную, которую она потрясет, прикоснувшись к ней, и тогда вы увидите ее возрождение и поразительное действие в мире сознаний"*.
Я хотела напомнить утверждения Льва Толстого:
"Истина, выраженная словами, есть могущественнейшая сила в жизни людей. Мы не сознаем эту силу только потому, что последствия ее не тотчас обнаруживаются"**.
И — запись в толстовском Дневнике:
"Нынче думал… о том, какая ужасная вещь то что люди с низшей духовной силой могут влиять, даже руководить высшей. Но это только до тех пор, пока сила духовная, которой они руководят, находится в процессе возвышения и не достигла высшей ступени, на которой она могущественнее всего"***.
* П. Чаадаев. Пять неизданных "Философических писем". Письмо пятое. Литературное наследство. М.: Жургаз, 1935, т. 22–24, с. 49.
** Л.Н.Толстой. Полн. собр. соч. М.; Л., 1932, т. 44, с. 374.
*** Там же. М., 1937, т. 55, с. 27.
Наизусть я, естественно, этих цитат не помнила, листы, поднятые с пола, перепутались, рев стоял страшный, и силы мои, и время мое истекли, и вместо всех заготовленных выписок о неизбежной победе слова я проговорила напоследок:
— С легкостью могу предсказать вам, что в столице нашей общей родины, Москве, неизбеж-ны: площадь имени Александра Солженицына и проспект имени академика Сахарова.
Молчание.
Кто-то: И переулок имени Максимова.
Громкий хохот.
Я (потерявшись, замедленно): И тупик Юрия Яковлева.
Кто-то: Все это мы завтра утром услышим по Би-би-си…
Кто-то: Зачем завтра утром? Сегодня вечером.
Я: А почему вы так боитесь Би-би-си? Мы — страна победителей.
Молчание.
Я, вообразив, что разговор окончен, что более ни читать, ни писать мне не придется, сунула бумаги, дощечку, линзу, фломастеры в портфель и, наконец, села. Села за стол, ожидая последнего акта — голосования. Но я ошиблась.
Снова поднялся Стрехнин.
Стрехнин: Скажите, Лидия Корнеевна, известна ли вам эта бумажка?
Я: Какая? Не вижу отсюда, что у вас в руках.
Стрехнин: У меня в руках ваша доверенность, отобранная в таможне советскими таможенни-ками при обыске у одного интуриста. Доверенность на имя лишенного гражданства бывшего советского гражданина Жореса Медведева. Это ваша рука?
Я: Да, моя. В своей доверенности я поручаю Жоресу Александровичу Медведеву получать в заграничных издательствах причитающиеся мне гонорары. И хранить их на Западе.
Кто-то: А зачем вам деньги на Западе?
Я: Не понимаю вопроса. Собственными гонорарами я, как каждый литератор, имею право распоряжаться по собственному усмотрению. Но это не секрет. Деньги на Западе нужны мне для того, чтобы Жорес Александрович посылал мне оптические приборы и глазные капли, которые в Советском Союзе не производятся.
При ваших, т. Стрехнин, тесных связях с таможней и другими подобными же, близкими литературе организациями вы можете навести справку и удостовериться: ни одного доллара, франка или фунта стерлингов я из-за границы до сих пор не получила. Если сочту нужным — получу, но пока — нет. На мои западные деньги Жорес Александрович покупает в Париже и посылает мне сюда глазные капли. И вот это. (Я повертела в руках большую линзу.)
Кто-то (кажется, Рекемчук): А мы-то думали, вы там копите доллары на бла-го-тво-ри-тельность.
Я: Нет, я не так великодушна, как Александр Исаевич. Это он откладывает свои гонорары на общественные дела. А я всего лишь себе на лекарства.
Кто-то: Медведев за рубежом здорово, говорят, разжился. Уж глазные капельки мог бы вам и на свои деньги прислать.
Я: Неприличное занятие — считать деньги в чужом кармане. Мне неизвестно, беден или богат Жорес Медведев. Скажу только, что в тот период времени, когда он еще не располагал моими гонорарами, он посылал мне линзы и лекарства на свои… И я ему за это глубоко признательна.
Стрехнин: Скажите, Лидия Корнеевна, вот вы упомянули в своих высказываниях имя Максимова. А вы читали его книгу "Семь дней творения"?
Я: Нет, к сожалению, нет. К сожалению, в последние годы я вообще очень мало читаю — только то, что непосредственно относится к моей работе… Но впечатление силы и правды произвело на меня письмо Максимова в Союз Писателей. То, в котором он прощается с Союзом.
Кто-то: Это где он надеется на мальчиков с сократовскими лбами? Наморщив лбы, они пишут, пишут, пишут?
Я: Да. Я разделяю надежду Максимова на наших мальчиков. В сущности, только на них*.
* Письмо Владимира Максимова в Союз Писателей от 15 мая 73-го года, письмо, в котором он спрашивал: "Почему в стране победившего социализма пьянство становится общенародной трагедией? Почему за порогом полувекового существования страны ее начинает раздирать патоло-гический национализм? Почему равнодушие, коррупция и воровство грозят сделаться повседнев-ной нормой нашей жизни?" — это письмо кончалось так:
"Я прекрасно осознаю, что меня ждет после исключения из Союза. Но в конце пути меня согревает уверенность, — что на необъятных просторах страны, у новейших электросветильников, керосиновых ламп и коптилок сидят мальчики, идущие следом за нами. Сидят и, наморща сокра-товские лбы, пишут. Пишут! Может быть, им еще не дано будет изменить скорбный лик действительности (да литература и не задается подобной целью), но единственное, в чем я не сомневаюсь: они не позволят похоронить свое Государство втихомолку, сколько бы ни старались преуспеть в этом духовные гробовщики всех мастей и оттенков.
Со всей ответственностью — В. Максимов".
С.Наровчатов: Приступим к голосованию, товарищи! Есть предложение: исключить с широким освещением в печати.
Других предложений нет? Голосуем.
(Все, кого я вижу, голосуют, сгибая правую руку в локте и чуть приподнимая вверх — словно прикладывая к козырьку.)
С.Наровчатов: Принято единогласно. (Мне, впервые повернув ко мне голову): Вы — свободны!
9
Свободна!
В самом деле, — я стала много свободнее за эти два часа. Мне не предстоит более — хотя бы номинально — участвовать в исключении из Союза лучших наших мастеров.
Не придется участвовать в грубо подтасованных выборах. Устраиваемых с единственной целью: "Вы там как хотите — все равно будет по нашему"… Присутствовать на собраниях, где объясняет нам, что такое гражданская доблесть, — т. Карпова.
А главное: я никогда больше, до конца дней своих, не увижу в одной комнате такого множест-ва, один к одному подобранных, падших людей. Большинству из них неоткуда было и падать. Но некоторые упали, скатились в эту бюрократическую трясину с высоты таланта. Ведь не откажешь в таланте ни Катаеву, ни Наровчатову. Ведь и Агния Барто человек несомненно способный к сожалению, на всё*.
* Даже на то, чтобы дать "литературную рецензию" по поручению КГБ. Даже в том случае, если эта «экспертиза» способствует каторжному приговору. По предложению следственного отдела КГБ А. Барто накануне суда над Даниэлем и Синявским дала в качестве специалиста-эксперта, отзыв на книги Ю.Даниэля. (Не в печати, разумеется.) В своей «экспертизе» она подчеркивала антисоветскую направленность творчества Ю.Даниэля, сетуя при этом о несомненной одаренности автора.
"Опомнитесь, Агния Львовна, подобрейте!"
"Вы свободны!"
Отныне я свободна от всякого общения с писательскими Президиумами и Секретариатами. Писать без общения нельзя, читателей у меня отняли, но братья, среди пишущих и непишущих, остались.
Богата я братьями, есть мне на чье ухо и на чье сердце проверить новую страницу, строку, строфу.
Богата наша страна мастерами и экспертами повыше литературным классом, чем Яковлев, Рекемчук и даже сама Агния Барто. Жаловаться грех.
…Воздух братства охватил меня, чуть только я, свободная, шагнула за порог комнаты № 8. Все два с половиной часа меня у дверей ожидали друзья. Теперь они усадили меня за столик, напоили горячим чаем и холодной минеральной водой. Человеческие лица после специально отобранных, волчьих. Я вглядывалась в эти светлые лица с тревогой и болью: полицейская фраза, произнесен-ная кем-то полчаса назад — кем-то, кто имеет наивность считать себя литератором, — фраза "да и в сочувствующих надо вглядеться" застряла у меня в мозгу.
Я вглядывалась. Со счастьем.
Вообще, если бы не эта фраза, — что, кроме счастья, могла бы я испытать в первые недели после исключения?
Пачки писем от незнакомых людей, услыхавших эту весть по иностранному радио. Каждое письмо — высокая мне награда и пронизывающий меня страх: перлюстрировали? скопировали? лишат моего корреспондента работы? (Такие случаи бывали после многочисленных откликов на мое открытое письмо Шолохову.)
Их — незнакомцев — я благодарю молча, в душе, но на их дорогие письма не отвечаю: боюсь. За них. Сказано ведь было:
"Да и в сочувствующих надо вглядеться"…
Но есть сочувствующие, чьи имена я могу назвать не только с гордостью, но и без страха: они сами открыто назвали себя, прислали письма в мою защиту на Секретариат.
Ни одно из имен (и писем) не было, разумеется, оглашено ни на заседании Секретариата, ни в печати. Ведь они были мне в поддержку, в защиту, поперек начальственной воле — зачем же доводить их до сведения читателей? Но выступили мои защитники открыто, их письма были посланы в Союз, распространились в Самиздате, многие были переданы по иностранному радио — это дает мне моральное право открыто назвать имена и процитировать письма.
Вот кто за меня заступился:
И.Варламова, Д.Дар, Л. Копелев, В.Корнилов, В.Максимов, Л.Пантелеев. А.Сахаров, А.Солженицын. Мало? Для счастья достаточно*.
* Цитирую отрывки из писем, поступивших в Секретариат: Варламова: "Я глубоко уважаю Л.К.Чуковскую за ее прекрасные книги о Герцене и Маршаке, за ее плодотворную, многолетнюю редакторскую деятельность…" Дар: "Я много лет знаю Л.К. Чуковскую как писателя выдающего-ся дарования, написавшую блестящие книги о Герцене, о редакторском труде, а также художест-венные и публицистические произведения, проникнутые высокой гражданской ответственностью, напряженным чувством нравственности и правды…" Копелев: "Книги Лидии Чуковской о Бесту-жеве, Герцене, Шевченко, Житкове, "В лаборатории редактора" и другие; ее статьи, очерки; ее новые, пока лишь частично известные работы — ("Записки об Анне Ахматовой" и "Книга о моем отце") — и повести "Софья Петровна", "Спуск под воду" — это произведения… значение которых со временем только возрастает". Корнилов: Мне стало известно, что Московский Секретариат собирается исключить из Союза Писателей Лидию Корнеевну Чуковскую, женщину, которую всегда отличали честность, талант, мужество. Л. К. Чуковский тяжело больна опасной болезнью сердца. Она почти не видит. И вы, мужчины, преследуете женщину, защищенную лишь одним личным бесстрашием. По-человечески ли это? По-мужски?" Максимов: "Очередной идеологичес-кий шабаш убогих бездарностей в Московской писательской организации завершился исключени-ем из ее состава замечательной представительницы современной русской литературы Лидии Чуковской… Мир слышал голос Чуковской всякий раз, когда на наших глазах попиралась справедливость, и чутко на него откликался. Каждый из нас (я имею в виду писателей своего поколения) испытал на себе благотворное влияние ее бескомпромиссной и открытой борьбы за чистоту и обязывающую ответственность нашей профессии". Пантелеев: "Не слишком ли мы спешим? Вспомним Зощенко, Пастернака, Ахматову, Заболоцкого и многих-многих других, чья судьба на нашей совести". Сахаров и Солженицын — каждый по-своему! подчеркнули, что мое открытое, демонстративное сочувствие к их деятельности явилось одной из причин обрушившихся на меня гонений. Сахаров: "Повод для исключения Чуковской — ее статья "Гнев народа". Статья написана в те дни, когда страницы всех советских газет клеймили меня как противника разрядки и клевет-ника. Среди тех, кто выступил в мою защиту, прозвучал сильный и чистый голос Лидии Чуковс-кой. Ее публицистика — это продолжение лучших русских гуманистических традиций от Герцена до Короленки. Это — никогда не обвинение, всегда защита ("Не казнь, но мысль. Но слово"). Как ее учителя, она умеет и смеет разъяснять то, о чем предпочитают молчать многие, защищенные званиями и почестями". Солженицын: "…не сомневаюсь, что побудительным толчком к нынешне-му исключению писательницы Лидии Чуковской из Союза, этому издевательскому спектаклю, когда дюжина упитанных преуспевающих мужчин разыгрывали свои роли перед больной слепой сердечницей, не видящей даже лиц их, в запертой комнате, куда не допущен был никто из сопро-вождавших Чуковскую, — истинным толчком и целью была месть за то, что она в своей передел-кинской даче предоставила мне возможность работать. И напугать других, кто решился бы после-довать ее примеру. Известно, как три года непрерывно и жестоко преследовали Ростроповича. В ходе травли не остановятся и разорить Музей Корнея Чуковского, постоянно посещаемый толпами экскурсантов. Но пока есть такие честные бесстрашные люди, как Лидия Чуковская, мой давний друг, без боязни перед волчьей стаей и свистом газет, — русская культура не погаснет и без казенного признания".
10
Братство своим чередом, а циркулярные повеления — своим.
Едва исключили меня из Союза, как получил соответствующие распоряжения Детгиз. Редакция срочно вызвала составителей и потребовала, чтобы они вычеркнули: что вычеркнули? ведь мои воспоминания о Корнее Чуковском изъяты были из сборника уже давно, сразу после «Гнева»?
А вот что: изъять имя Лидии Чуковском из всех воспоминаний о Корнее Чуковском.
Вот еще чем можно заняться: задним числом устранить меня из семьи. Если мемуарист пишет: "дверь открыла Лидия Корнеевна", или "за столом сидела Лидия Корнеевна" — зачеркнуть. Я не открывала и не сидела. Меня не было.
Теперь осталась только одна еще мера: назначить в дочери Корнею Ивановичу кого-нибудь другого. Какую-нибудь другую особу, более подходящую для этой роли, по мнению Секретариата.
Шаг этот был бы тем более разумен, что, ведать не ведая о Секретариатах, Президиумах, редакторских, издательских и литфондовских намерениях и планах, рядовые и не рядовые советские граждане, взрослые и дети, постоянно, то поодиночке, то по двое, по трое, то целыми классами школ, то группами из институтов, повадились посещать дачу Корнея Чуковского в Переделкине, где я иногда живу. И хотя не я принимаю гостей, хотя двери нашего самодельного музея открыты как раз в те дни, которые я обычно провожу в городе, — я ненароком могу все-таки попасться им на глаза. Конфуз! Ведь меня нет и не было.
Затея моя — сохранить в неприкосновенности комнаты Корнея Ивановича повернулась так, как мне и во сне не снилось: говоря по правде, сохранила я их, чтобы иногда приходить туда одной, как прихожу на могилу, — и снова видеть его стол, его халат, его радио, его книги… Так же тикают часы у него на столе, тем же строем стоит на полке Собрание сочинений Некрасова, в которое вложено им столько труда. Вот-вот и сам он войдет… И вдруг оказалось, что хотя Корней Иванович никогда не войдет в свою комнату, но людей, любящих его книги, желающих углубить-ся в историю русской культуры, людей этих гораздо более, чем мы помышляли. Нам пришло на ум записывать своих гостей, посетителей дачи Чуковского, только в 1972 году — и вот теперь, к концу 1974-го, оказалось, что с 1972 по 1974-й прошли через его комнаты около шести тысяч человек! Это не точно мною сказано: "записываем мы". Записывают свои впечатления сами гости. Ни единого объявления в газете или где бы то ни было — но идут, и идут, и идут, приходят пешком, приезжают на поездах, на санаторных автобусах, в частных автомобилях. Идут взглянуть на акварели Репина, рисунки Маяковского и Бориса Григорьева, на карикатуры Анненкова; на собрание книг по Некрасову; на фотографии деятелей "Всемирной Литературы", на экземпляры книг Чуковского, исчирканные его ненасытной к труду рукой. Учителя, литераторы, дачники, библиотекари, академики, слесари, рабочие автозавода, пенсионеры, иностранные туристы, москвичи и приезжие граждане из разных городов, отдыхающие в местных санаториях — тут и интеллигенты, тут и рабочие — десятки, сотни, тысячи посетителей*. Дети, разглядывающие игрушки у него на столе. Тула, Владивосток, Воронеж, Ленинград, Япония, Англия, Америка, Москва, Дмитров, Тольятти, Рязань, Серпухов, Омск. Разные приходят в эти комнаты люди. Одни читали все книги Чуковского, все его статьи и исследования; другие — ровно ничего, кроме «Мойдодыра»; одни хотят увидеть книги на полках, письменный стол, другие заводной парово-зик и говорящего льва; третьи просто поглазеть, "как живут писатели", хороши ли обои, и, — когда секретарь Корнея Ивановича Клара Израйлевна Лозовская показывает им ящик, где годами хранились рукописи Некрасова, спрашивают: "а где хранятся фамильные бриллианты?" Разные к нему в гости приходят люди, но большинство с осознанным или бессознательным желанием подышать воздухом литературы, заполняющим до сих пор эти комнаты.
* В настоящее время через наш самочинный музей прошло уже более девяноста тысяч чело-век, вопреки попыткам руководящих деятелей Союза Писателей выселить меня и мою дочь из Дома Чуковского (судебным порядком), музей закрыть, а дачу, с помощью бульдозера, снести с лица земли… В конце концов нас перестали активно преследовать, ожидая, пока дача развалится сама, но иска выселении до сих пор обратно не взят, а даче статус музея не предоставлен. — Примеч. 1988 года.
Примеч. ред. 1997 к сноске на пред. стр. — 3 июня 1996 года, через четыре месяца после кончины Лидии Корнеевны, Дом Чуковского в Переделкине вновь открыл для посетителей — теперь уже как филиал Государственного Литературного музея.
Воздух литературы — ведь он сродни воздуху братства (как и лесу, окружающему дом).
Разные в наших тетрадях живут записи. По большей части признательность тем, кто сохранил дом, благодарность за доставленную радость узнавания. Но радость сочетается с тревогой, с грустью.
"…Грустно только, что, несмотря на самоотверженные усилия близких Корнея Ивановича, которые помогают людям, любившим его и его книги, узнать побольше о его жизни и труде, — время оказывает разрушительное действие на дом, где он работал.
Семья NN г. Москва 28/1Х-74"
Одно ли время?
Грустно — отнюдь не Литературному фонду, хозяину дома. Я, арендатор, вношу не одни лишь деньга за аренду. Я посылаю заявления. Литфонд, хозяин, обязанный в обмен на деньги заботиться о целости и благоустройстве дома, посылает комиссии. Комиссии признают, что просьбы мои основательны. Хозяин из года в год откладывает ремонт еще на год.
А братство — рядом. То придут специалисты-цветоводы и предложат посадить на могиле особые растения, не боящиеся тени, — своими руками посадят их. То школьники предложат расчистить лес, то солдаты воинской части распилят и сложат сосны, поваленные бурей в лесу.
Но гниют балконы, осел фундамент, крылечко отошло от стены; двери и окна перекошены… Хозяину это нипочем. Он ведь только называется "Литературный фонд", а вовсе не литературой он занят. Хозяин занят ремонтированием дачи хозяина: председателя Литературного фонда.
По степени заброшенности, в Городке писателей с дачей Корнея Чуковского может соперни-чать — и сильно превосходит ее! — только одна. Это дача Бориса Пастернака.
Здесь все тебе принадлежит по праву,
Стеной стоят дремучие дожди,
писала Анна Ахматова о Переделкине, обращаясь к Пастернаку.
В самом деле, все весны, и зимы, и осени, и лета Переделкина, все здешние сугробы, сосны, рощи и дожди присвоил русской поэзии Пастернак. Вот из этих окон он глядел, вот эти рощи видели его порывистую походку, слышали его голос.
Но у Литфонда другая шкала ценностей. На могиле Пастернака люди постоянно читают стихи. Дом его стал местом паломничества для всей страны, для всего мира, дом, где четверть века жил и писал Пастернак. Где он умер. Откуда гроб его вынесли на руках. На восстановление этого дома у Литературного фонда средств нет*.
* Эти строки были написаны в 1974 году. Через десять лет, 16 октября 1984 года родные Бориса Леонидовича по требованию Литфонда были выселены, а вещи, не без повреждений, развезены по разным местам. К настоящему времени дача передана в аренду Литературному музею, вещи поставлены на места, и 10 февраля 1990 года, к столетию со дня рождения Пастернака, музей начал работать. — Примеч. 1990 года.
11
Но меня снова отнесло в сторону от моего незатейливого рассказа. Ведь хотела я рассказать только о себе. Об исключении. Но ничего не поделаешь: понятие «я» вбирает в себя не одну лишь собственную биографию. А история моего исключения? Разве это только моя история? Не одну меня исключили из Союза Писателей, лишая возможности печататься. Многих, глубоко предан-ных своей стране, довели до отъезда. В жизнь их разнообразно и мощно ворвалось — ворвался? — КГБ: обыски, изъятие рукописей и книг, угрозы арестовать; или — лишение научной степени, шантаж, слежка по пятам, проработки, открытые и закрытые. Да и не одним только литераторам ломают жизни, лишая любимого труда! Да и так ли еще ломают!
Так или не так, но если человек что-то любит, то всенепременно. Не люби, не люби, не люби. "Промолчи, промолчи, промолчи".
Способов заставить человека умолкнуть, если у него за любимое дело сердце болит, таких способов, кроме лагерей, тюрем и психиатрических больниц, достаточно. Лишить работы, сначала любимой, а потом вообще какой бы то ни было, — а потом осудить за тунеядство; не дать ученому защитить диссертацию, хотя она содержит существенное в его области открытие (на открытие плевать — вел бы себя смирно!); старого рабочего, высокой квалификации, пенсионера, обучавше-го молодых, отвезти на машине из постели в милицию, из милиции в КГБ, и там четыре часа орать на него: "Ты зачем вчера в столовой сказал: ребята, вы ругаете Солженицына, а сами его не чита-ли?" — "Да ведь они не читали, товарищ полковник, а ругаются". — "Вот дадим тебе срок за хулиганство, тогда будешь знать!" — "Какое же хулиганство? Я же только сказал: не читали". — "А ты Яковлева в «Литгазете» читал? Там все написано. Изменников родины советским людям читать нечего…" (И нет ведь иностранных корреспондентов при этом интимном разговоре, как были на открытии художественной выставки в Москве, и делай с человеком, что хочешь… Некому теперь будет с любовью обучать железнодорожную молодежь — машинистов — эка беда! Другой найдется, благонадежный…) Раньше времени перевести видного математика на пенсию, хотя он еще полон сил и окружен учениками, вытолкнуть из Института за то, что он защищал своего талантливого ученика, которому не давали дороги ("промолчи, промолчи, промолчи!"); изгнать филолога из Института за то, что в 1973 году он отказывается взять назад подпись под письмом 1968 года; а советская филология? ха-ха! начальству нет дела до филологии. Шахтер настаивает, что техника безопасности в его родной шахте требует срочного усовершенствования, не то могут погибнуть люди. Он предлагает разумный способ, но переоборудование назначено по плану не на этот год. Шахтер пишет заявление, подтверждает свою тревогу цифрами, фактами — нет. Он пишет заявление из инстанции в инстанцию, он любит своих товарищей и боится за них — вот-вот обвал или отравление. Никакого Солженицына он не читал, но он неугоден. Гнать его с работы, а упрется — ну разве не псих? Человек инженер ли, садовод ли — обивает пороги годами, втол-ковывает, объясняет и, если молод, убедившись, что пути ему нет, что осуществить любимый замысел, то, для чего он рожден, не удастся, — начинает мечтать об отъезде. Всякий отъезд — это утрата, потеря. Разорение русской культуры. Бескровное кровопускание.
И если поглубже изучить причины, по которым подверглись у нас на родине преследованиям и лишились работы десятки, сотни, тысячи людей шахтеров, литераторов, физиков, педагогов, инженеров, геологов, рабочих, причиной причин всякий раз окажется слово.
Человек, будь он инженер, литератор или физик, любящий свое дело и своих братьев по любви, не соглашающийся предать людей или память, — у такого человека более всего шансов завтра попасть в «диссиденты». До «диссидентства» доводит любовь. Рискнув открыть рот в защиту тайги, или истребляемой в этой тайге редкой породы зверей, или в защиту отвергнутой книги, или удушаемой литературы — он завтра неминуемо окажется во вражде с начальством.
"Страшные последствия человеческой речи в России по необходимости придают ей особен-ную силу, — писал Герцен. — С любовью и благоговением прислушиваются к вольному слову, потому что у нас его произносят только те, у которых есть что сказать. Не вдруг решаешься передавать свои мысли печати (или Самиздату. — Л.Ч.), когда в конце каждой страницы мерещит-ся жандарм, тройка, кибитка и в перспективе Тобольск или Иркутск"*. (Или Потьма.)
* А. И. Герцен. Собр. соч. в 30 т. М., 1956, т. 7, с. 329–330.
Битва любви с равнодушием наступает неизбежно и ведется незримо, а чаще всего и неслыш-но. "Не вдруг решаешься передавать свои мысли печати" (или собранию. — Л. Ч.), открывать рот, если слово числится главным проступком, какой может совершить человек. В обязанности руково-дящего товарища любовь не входит, наоборот, входит равнодушие к той области культуры, кото-рой он ведает. Любит ли директор "Издательства Художественной Литературы" — литературу? Да он о ней и представления не имеет! От равнодушия до ненависти — один шаг. От Самиздата до Потьмы рукой подать. Возненавидеть тех, кто любит, кто говорит, повинуясь своей любви, а не чиновничьим циркулярам — ничего нет беззаконнее и закономернее.
Список деятелей, утраченных русской культурой, бесконечно растет. Те, кто вытеснили из страны Мстислава Ростроповича и Галину Вишневскую, — любят ли они музыку? Любят ли балет люди, вытеснившие из страны Рудольфа Нуриева, Михаила Барышникова и Наталию Макарову? Беспокоятся ли о расцвете физики те, кто сначала лишил работы, а потом заставил уехать В. Турчина? Привержены ли к лингвистике те, кто ответственен за отъезд И. Мильчука? Кого и когда судить будем за отъезд историка А. Некрича? О литературе уж и не говорю: ненавидят литературу те, кто изгнал Солженицына, вытеснил из страны Бродского, Некрасова, Коржавина, преследуют Корнилова и Войновича. И это еще "сказка с хорошим концом": отъезд или исключение из Союза Писателей. А биологи, физики, врачи, писатели — за решеткой? А — просто люди, не таланты выдающиеся, а просто честные труженики, дорожащие не личным своим успехом, а успехом дела, поперечившие начальству и за это страдающие? А — тысячи верующих?
Щедрой рукой разбрасывает созидателей нашей культуры по сибирским лагерям или раздари-вает Западу и Востоку безумное наше государство. Сталин некогда распродавал Эрмитаж. В этой растрате поражает кроме равнодушия к искусству, к истории человечества и России наивная уверенность, будто Эрмитаж со всеми своими Тицианами, Леонардо да Винчи и Рубенсами принадлежит ему, лично ему, т. Сталину, хочу распродам, хочу с кашей съем. Уморив в тундре миллионы ни в чем не повинных безымянных крестьян, Сталин подверг уничтожению и цвет интеллигенции: сотни талантливых людей — тех, кто уже успел проявить себя в науке или искусстве, — и тысячи неуспевших погибли в лагерях. Современные наши хозяева массовых облав на людей не ведут, но от Сталина, вместе со многими другими чертами, унаследовали наивную уверенность, будто люди искусства и науки принадлежат не народу, не земле, вспоившей их своими соками, а лично им, хозяевам страны.
У нас существуют законы, строго (хотя и тщетно) оберегающие государственную собствен-ность. Каким законом защитить от уничтожения и разбазаривания нечто гораздо более ценное: духовные ресурсы России?
12
9 января 74 года Секретариат постановил исключить меня из Союза Писателей "с широким, освещением, в печати".
Но "широкое освещение" нынче не в моде. Предпочтительнее расправляться втихую. Громкая расправа — как с Сахаровым, с Солженицыным — редкость. Она невыгодна: она пробуждает в людях не только организованный свыше «гнев», но и невидимое — неорганизованное — братство.
Какое последовало «освещение». А никакого.
18 января 74 года "Литературная Россия" поместила заметку под заглавием: "В Секретариате Правления Московской Писательской Организации". Перечислены оказались все вопросы, какие стояли на повестке 9 января, когда меня исключили. Один только вопрос в отчете пропущен: мое исключение.
Если бы я сама, собственной своею персоной, не присутствовала 9 января 74 года при своем исключении, я узнала бы об этом январском происшествии только в марте — через три месяца.
Читатель же не знает и по сию пору.
В марте 1974 года я получила по почте "Информационный бюллетень" Союза Писателей, ныне редактируемый т. Верченко. Присылкой этого бюллетеня, рассылаемого по особому списку, т. Верченко известил меня, что я исключена. На странице 24 сообщается, будто "в ходе обсужде-ния было установлено, что Л.К.Чуковская на протяжении ряда лет… занималась фабрикацией и пересылкой за рубеж клеветнических статей и других материалов…"
Вранье. Хорошо, что «Бюллетень» распространяется по списку, а читатель в списках не значится. А вдруг поверил бы кто-нибудь. Ни "на протяжении ряда лет", ни "в ходе обсуждения" никто и нигде не установил — да и не пытался устанавливать, — содержится ли в моих статьях и открытых письмах клевета, то есть заведомая ложь. Никто не установил — да и не пытался установить — ложности хотя бы единого из приводимых мною фактов. Верченко пишет, будто в ходе обсуждения (то есть 9 января 1974 года) выяснилось, что я переправляла свои «материалы» за границу. Опять вранье. Как уже видел читатель, о том, что прежние мои "открытые письма" переходили рубежи самостийно, через Самиздат, а в отличие от них статью "Гнев народа" я пере-дала американскому корреспонденту сама — я и заявила сама, и не в ходе заседания 9 января, а еще на предварительном допросе у Стрехнина и Медникова 28 декабря 73 года. Таким образом, 9 января 74 года ровно ничего нового о передаче этой статьи за границу не выяснили, а о других не выясняли. Новинка на заседании Секретариата блеснула одна: оглашением моего частного письма к Жоресу Медведеву выяснилось, что руководители Союза Писателей работают плечом к плечу с таможней и другими соприкосновенными литературе организациями. Но ведь и это не ново. Я лично не сомневалась в тесном сотрудничестве дружественных организаций и до 9 января 74 года.
Однако "широкое освещение в печати" действительно последовало. И очень быстро: 12 января, в газете с многомиллионным тиражом "Советская Россия".
"Осветили" — но что?
Секретариат при мне постановил широко осветить мое исключение, а т. И.Юрченко, автор статьи в "Советской России", широко осветил некоторые ценные бытовые подробности из жизни моей и моих друзей: кому сколько лет, у кого квартира в центре, кто в каком магазине покупает колбасу, но именно о моем исключении из Союза не обмолвился ни единым словом.
Верченко об исключении сообщил, но не в печати. Юрченко сообщил в печати, но не об исключении.
Мою статью "Гнев народа" Секретариат МО СП по существу обсуждать не пожелал. Статейку Юрченко, в которой он обливает грязью одного иностранного туриста, общавшегося в Москве не с теми гражданами, которых ему порекомендовал бы Юрченко, я тоже по существу обсуждать не желаю. Причины нежелания у нас разные: Секретариату ответить мне нечего, он не отвечает, он исключает. Мне — есть что ответить, но я вовремя вспомнила одно признание Герцена по поводу подобной статейки: "я не могу нагнуться до ответа". В самом деле, ведь я как-никак литератор, и до колбасной перебранки унижать литературу не подобает. Меня Юрченко преподносит читателю как некую даму, имеющую квартиру в центре Москвы (преступление) и дачу под Москвой (преступление), но в литературе малоизвестную. Что ж, это почти правда. Квартира — действи-тельно в центре; сознаюсь. Дача у меня не собственная — арендованная; занимаю я в ней одну комнату — остальные обратила в музей своего отца, — но, сознаюсь, одну комнату на даче действительно иногда занимаю. В литературе, по утверждению Юрченко, я малоизвестна? Быть может, и так. Но не для известности живет литератор — на даче ли, в центре ли, на окраине ли, — если он литератор в самом деле. И не ради дачи и не ради квартиры он трудится. Применяя к литератору подобные мерки и с недоумением вопрошая: "Что еще этой даме надо?" (вообразите себе, Юрченко, кроме квартиры и дачи, мне надо, чтобы книги мои доходили до читателя!), этим недоуменным вопросом фельетонист выдает себя с головой.
Где бы ни была расположена квартира Юрченко, в центре ли или на окраине, — в дальней дали живет он от искусства. Таможенники, обыскивающие интуристов и читающие чужие частные письма, ближе ему, чем литераторы. И это естественно: Юрченко просто чиновник, которому другие чиновники предоставили газетную полосу, чтобы лишний раз напомнить читателям све-жую мысль: если в стране нет колбасы — значит, ее поедают евреи, а если у интуриста отобрали частное письмо, значит, все иностранцы — шпионы. Полученное поручение Юрченко выполнил; я надеюсь, Верченко доволен.
По части же славы я могу утешить вас, Юрченко: щедро поделюсь с вами избытком своей малоизвестности. Желаю вам, чтобы ваша статейка обо мне вас прославила. Каждый входит в литературу по-своему.
13
Процесс исключения продолжается — неслышно, незримо, неукоснительно. Скромные плоды моего труда подвергнуты уничтожению, где только возможно, ради заталкивания меня в небытие…
А вместе с моим не щадится и труд соприкосновенный, дружественный.
В 1971 году скончался академик Виктор Максимович Жирмунский. Из подготовленного им к печати тома стихотворений Анны Ахматовой, из комментариев, на создание которых отдал он последние годы жизни, — вынимают — выстригают — вычеркивают весь некогда предоставлен-ный ему мною материал. Как человек щепетильный, как ученый, для которого немыслимо привес-ти любой самомалейший факт, вариант или дату без ссылки на источник, — академик Жирмунс-кий в своих комментариях, разумеется, добросовестно ссылался на все использованные им работы, напечатанные и ненапечатанные, в том числе и на мои. Например, на мои "Записки об Анне Ахма-товой", которые он изобильно цитировал. Но я приговорена к небытию, меня не было и меня нет. И вот вырезываются фестоны из комментариев к ни в чем не повинному тому, подготовленно-му В.М.Жирмунским. Мне повезло — арифметически-этический вопрос, что лучше: снять ли комментарии Жирмунского совсем (как сняли его предисловие) или оставить хотя бы малую часть их, — нынче приходится решать не мне. Я от решения подобных вопросов, к великому моему счастью, уже освобождена… Чиновники уж сами озаботятся устранением моего имени из коммен-тариев Жирмунского, а что этим элементарным арифметическим действием искажается и обедня-ется ценная, выполненная с искусством и любовью работа, до этого им и дела нет. До дела им никогда дела нет*.
* Написано в 1974 году. Сейчас том уже вышел. (См.: Анна Ахматова. Стихотворения и поэмы / Вступительная статья А. А. Суркова. Составление, подготовка текста и примечания В. М. Жирмунского. Л.: Советский писатель, 1976). Все ссылки на мое имя из комментариев удалены.
…Гниет капуста на овощных базах — почему же не гнить под дырявой крышей потолкам на даче Пастернака? Правдивое и талантливое предисловие к тому стихотворению О.Мандельштама заменено лживым и невежественным предисловием Дымшица. Кто сейчас растит молодых линг-вистов вместо уехавшего И. Мильчука, кто заменит в биологии арестованного Сергея Ковалева?
Посторонним это все равно, на то они и посторонние. Музыке, биологии, лингвистике, физике, литературе. Любви они лишены. Они не растили капусту, гниющую на овощебазах, и не берегли ни стихов, ни поэтов.
Мелочным злопамятством и мстительностью заменены в них основы культуры: любовная творческая память, питающая своими соками ростки будущего.
…Словник Краткой Литературной Энциклопедии еще недавно содержал мое имя. Статья обо мне была уже готова и принята к печати.
После исключения из Союза меня и из Энциклопедии исключили. Меня нет и никогда не было.
Но — буду ли я?
Лидия Чуковская
Написано в ноябре 1974 г.
Исправлено и дополнено в декабре 1977 г.
ГЛАВА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
1
Сейчас этот вопрос, вызванный бурным отпором души, когда ее, еще живую, заталкивают в гроб, — представляется мне мелким и праздным. Успеть бы положить свой камень в общую кладку, только бы успеть — остальное несущественно.
Пусть камень мой останется незамеченным, неупомненным, а хотя бы и безымянным.
"Буду ли я?" — вопрос праздный: история поставила сейчас другой и гораздо круче — уцелеет ли, выживет ли русская культура, сохранится ли она, создаваемая братством работников (явных и тайных) и уничтожаемая чиновниками, иногда нарочно, со злым умыслом, а чаще и безо всякого.
Культура принадлежит тем из нас и только в той степени, в какой мы сами принадлежим ей — безотказно, безраздельно, бескорыстно и всецело. Хозяев же наших в этой одержимости не обвинишь. Если они чем и одержимы, кроме бдительной охраны самовластья, то разве что равнодушием.
В 1921 году скончался Александр Блок. Нынче у нас 1978-й. С умыслом или по равнодушию в тех комнатах, где он так страшно жил и так страшно умирал и умер, устроена — допущена — коммуналка? Жизненный и литературный путь Блока искажается с умыслом, ну а комнаты?* С умыслом или без умысла ничьей охране не подлежит, никем не оберегается комната Анны Ахма-товой в Фонтанном дворце, вся — цитата из "Поэмы без героя", вся — след ее судьбы и ее поэзии? Сейчас еще живы люди, которые помнят эту комнату во всех подробностях и в тридцать седьмом-тридцать восьмом, и во время блокады, и после войны. Сколько стихотворений помечено: "Фонтанный Дом". Быть может, и вещи еще целы, и тот же клен простирает к окну черные руки.
* К столетию со дня рождения Александра Блока в квартире организован мемориальный музей.
Летом 1977 года мне не разрешено было даже издали взглянуть на это старое дерево. Мне не разрешено было войти в этот двор, который в гораздо большей степени принадлежит мне и любому из читателей и почитателей Анны Ахматовой, чем той хамке, никогда и имени ее не слыхавшей, которая вообразила себя хозяйкой и распорядительницей Фонтанного Дома. Сколько людей готовы были бы прийти сюда — и приняться за почетную работу: восстановить, спасти, сберечь и комнату, и старое дерево. И жизнь свою положить на то, чтобы неустанно открывать для других дверь в поэзию Анны Ахматовой!*
* В настоящее время Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме открыт. Теперь уже и «Реквием», и другие ее запретные ранее стихи напечатаны, Ахматова признана великим русским поэтом, столетие со дня ее рождения праздновалось по всей стране очень широко. — Примеч. 1990 года.
Поражает это из года в год повторяющееся чудо: в каждом поколении являются новые люди, мечтающие добыть из-под земли заваленные мусором клады. Ахматова во второй половине пятидесятых годов со счастливым изумлением говорила: "Вот что значит великая страна. От них все упрятали, а они все отрыли".
Да, стихотворения Ахматовой знали наизусть в лагерях, и я сама видела книжку из коры, на чьих березовых страницах были выцарапаны ее стихи. В 1958 году, впервые после Постановления ЦК против Зощенко и Ахматовой, крошечным тиражом вышла книжка с немногими ее стихами. И сразу в ответ хлынул поток писем. От кого? От людей, которые в школах наизусть заучивали сквернословие Жданова. Но ахматовского слова они все равно не утратили и не из крошечной книжки 1958 года впервые узнали. В нашей стране противостоит лжи и фальсификации стойкая память, неизвестно кем хранимая, неизвестно на чем держащаяся, но упорная в своей кротовой работе.
И вопрос поставлен перед нами сейчас такой: продолжим ли мы эту работу? Выстоим ли мы или позволим порученному нам кладу навсегда уйти под землю? Если мы литераторы, напишет ли каждый из нас, вопреки всем препонам, те книги, писать которые нам не разрешают, но которые написать наша обязанность? Каждому его долг известен, а вот осилит ли выполнить? Исполнит ли свою обязанность, не унижаясь до арифметических расчетов, обережет ли друга, спасет ли труд — свой и братский?
2
После линчевания в Союзе, уже нисколько не рассчитывая на возможность печататься дома, я снова взялась за прерванную работу. Ведь не с самозванцев же — не с Лесючевских, Грибачевых, Жуковых, Медниковых, не с какого-то Самсония спросится на Страшном Суде, а с меня. С нас.
Но как доставлять читателю, ради которого я пишу, как доставлять ему то, что мною написано?
Самиздат? Самиздат существует и свое дело делает, но за последние года четыре он начал спадать, убывать, как вода убывает в реке. Люди уже не сидят ночами за своими машинками, перестукивая свои или чужие открытые письма, не собирают уже в складчину деньги, чтобы дать рукопись надежной машинистке и получить в собственность экземпляр объемистого труда. Читатель переменился: люди жаждут теперь не Самиздата, а Тамиздата. Чем это вызвано? Одним ли только страхом? Не думаю. Тюремные сроки за хранение и распространение положены одинаковые: что за «Сам», то и за «Там». Не берусь определить, по какой причине, но к Там'у читатель нынче проявляет больший аппетит, чем к Сам'у. Хорошо ли это? Вряд ли. У Самиздата было читателей тысячи и весьма самоотверженных, у Тамиздата — всего только сотни, и весьма осторожных. И еще одно важное между ними различие, не в пользу Там'а: Самиздатом никто не спекулировал, Тамиздат же — предмет торговли на черном рынке и еще гораздо постыднее: торговли между знакомыми.
Но, так или иначе, мои работы последних лет, недолго пробыв в Самиздате, одни самостийно, другие по моей воле пересекли границу нашей родины и вернулись домой в глянцевитом обличье Тамиздата. В 1974 году в Париже, в сборнике, выпущенном издательством YMCA-Press, "Памяти Анны Ахматовой", опубликован отрывок из моих «Записок» о ней; в 1976 году в Нью-Йорке издательство «Хроника» напечатало сборник моих статей и открытых писем под общим заглавием "Открытое слово"; а позднее, тоже в 1976 году, в издательстве YMCA-Press вышел в свет первый том моих «Записок». Из мелких работ укажу: "Полумертвая и немая" — история одного автографа Анны Ахматовой ("Континент", 1976, № 7)*.
Сейчас я готовлю к печати книгу воспоминаний о Кор-нее Чуковском; второй том "Записок об Анне Ахматовой" (десятилетие 1952–1962) и эссе "Дом Поэта" — мой ответ на "Вторую книгу" Надежды Мандельштам**.
* См. также «Горизонт», 1988, № 4.
** Воспоминания о Корнее Чуковском под заглавием "Памяти детства" опубликованы в 1983 году (Нью-Йорк) и в 1989-м (Москва).
Второй том «Записок» вышел в Париже в 1980 году; работа над книгой "Дом Поэта" не окончена. — Примеч. 1990 года.
"Записки об Анне Ахматовой" в трех томах выходят одновременно с этим «Избранным» в московском издательстве «Согласие». — Примеч. ред. 1997 года.
Я работаю — начальство тоже не сидит сложа руки. Я нахожусь под надзором — тайным или явным он значится в соответствующей графе, мне неизвестно. Я определила бы его так: заметный.
Каждого человека, который входит в подъезд нашего дома в Москве, спрашивают, куда и к кому он идет, а если он не считает себя обязанным отвечать, сопровождают до самых моих дверей. Это относится не только к иностранцам, которые у меня редки, но и к соотечественникам, в особенности молодым. Однако наиболее наглядный случай произошел с одной англичанкой. Русская по происхождению, она родилась в Германии, живет в Англии и по-русски не знает ни слова. Когда лифтер спросил у нее, куда она и к кому, она не поняла вопроса и нажала кнопку лифта. Он мгновенно загородил перед нею дверь, расставил руки, прямо-таки распял себя на двери. Не пробуя вступать с ним в борьбу, гостья отправилась по лестнице пешком. Живу я на шестом этаже. Она подымалась пешком с этажа на этаж, а он с этажа на этаж сопровождал ее в лифте. Удостоверившись, что гостья постучала именно в нашу дверь, он спустился вниз. Она же вбежала к нам перепуганная насмерть: "Я видела столько фильмов с погонями — гонятся за преступниками на автомобилях, самолетах, лошадях, подводных лодках, мотоциклах, моторках, яхтах, пароходах, вертолетах! Но чтоб гнались на лифте — вижу впервые".
9 мая 1975 года, в День Победы, была одержана полная победа над моей квартирой. Мы с дочерью были на даче. Пока мы отсутствовали, в нашей квартире милицией была взломана дверь и… что было далее, не знаю. Сколько человек, и сколько часов, и с какою целью пробыли у нас на квартире неизвестные лица, выяснить нам не удалось. Оставив замки взломанными, милиция опечатала двери и удалилась. Моя дочь заявила официальный протест против взлома. (Между прочим, наш дачный телефон известен; нас можно было вызвать и войти в квартиру при нас.) Однако начальник милиции не нашел в действиях своих подчиненных ничего, "нарушающего социалистическую законность". Я написала заявление для иностранных корреспондентов, но передавать воздержалась: вскоре арестовали физика Андрея Твердохлебова, и по сравнению с этой бедой взлом в моей квартире показался мне происшествием незначительным. Да ведь и в самом деле: никто не убит, никто не арестован, ничего не украдено: "пришли, понюхали и ушли прочь". Взломаны замки? Замки нам починили друзья.
На даче слежка за моим домом ведется не постоянно, а порывами. Порою возникают у ворот топтуны, а порою часами стоит таинственное такси, не берущее пассажиров. Гораздо хуже, что собственной машиной — старой «Волгой», доставшейся мне в наследство от отца, — пользоваться я не имею возможности. Водить ее сама я не способна, а шоферов, которых приглашаю работать, неизменно вызывают в милицию или повыше: "Ты зачем туда вяжешься? Ты знаешь, кого возишь? Смотри…" И шофер (уже третий по счету) отказывается меня возить. Идти же до станции, на вокзал, пешком мне не под силу. И живу без машины, а ведь, в сущности, она была для меня инвалидной коляской.
Мешают моей работе находчиво, обдуманно. По слабости зрения писать я могу только черны-ми фломастерами, а в московских магазинах они редкость. Мне посылали фломастеры из-за границы. Получаешь повестку, идешь на почту, платишь за бандероль 12 копеек, а в бандероли 10 штук. Так я жила целый год. Начальство сочло необходимым вмешаться в это благополучие. Трижды я получила искалеченные фломастеры — у каждого бритвой аккуратно отрезан носок. Итого 30 раз некто пустил в ход бритву. Из жалости к этому деятелю культуры я просила друзей более мне по почте фломастеры не посылать. Опять начальству морока: следи за интуристом, который входит в подъезд, поднимается в лифте или по лестнице и вручает мне фломастеры из рук в руки.
Но самые большие хлопоты доставляет властям моя переписка. Ее перлюстрируют, читают, фотографируют, обдумывая, какое письмо доставить, какое нет. Заграничная моя переписка перекрыта наглухо. Так, из 11 писем, посланных мне в 1975 году из Рима, я получила одно. Из четырех писем, посланных мне из Иерусалима, — ни одного. Письма моих соотечественников тоже получаю с отбором. И — в лохмотьях. И — спазмами. То сразу три, то неделями ни одного. Власти то сокращают переписку моей дочери, то мою. Вмешательство производится откровенно, грубо. 17 октября 1975 года моя дочь Елена получила два письма: судя по штемпелю на конверте и знакомому почерку, одно от нашего старого ленинградского друга, второе — тоже судя по штем-пелю и почерку, от приятельницы с Кавказа. Вскрыв кавказский конверт, она, к своему удивле-нию, вынула оттуда письмо нашего ленинградского друга; вскрыв ленинградский (это уже при официальных свидетелях) — извлекла письмо от кавказской приятельницы. Прокуратура, куда она обратилась с жалобой о нарушении закона, гарантирующего гражданам тайну переписки, передала дело следователю; следователь вызвал мою дочь и посоветовал ей поменьше интересоваться законами. Письма вернул, даже не потрудившись исправить ошибку перлюстратора. На ее вопрос: "Кто же будет нести ответственность за содеянное?" — ответил:
— Вам отлично известно, что у нас есть инструкция, в силу которой мы имеем право читать письма обвиняемых.
— Разве я обвиняемая?
— Не придирайтесь к словам. Вы не обвиняемая, но подозреваемая.
— Разве я подозреваемая? В чем?
— Берите ваши письма и уходите, — ответил следователь.
Оградить двери от взлома, письма от вскрытия не в моих силах. Но пока что я еще чувствую себя в силах работать. Исполнять то, для чего живу. Вопреки помехам.
А они продолжаются. Мелкие, но частые. Я — "ни дня без строчки". Мне "ни недели без пакости".
Летом 1976 года один из моих молодых друзей, уходя от меня, приметил за собою слежку. Назавтра ему предстояло отправиться в Ленинград. Слежка продолжалась и возле билетной кассы. Едва в Ленинграде он ступил на перрон, над ухом раздались два магические слова: "Гражданин, пройдемте". Он «прошел». Его обыскали. Ничего не обнаружив крамольного, отпустили на все четыре стороны.
Я этот опыт (уже долгий: не следует мне общаться с молодыми, их зачисляют в "подозревае-мые") учла. В июне 1977 года, приехав в свой родной город, в Ленинград, я общалась только со старыми. Со своими сверстниками. Мы, как и полагается пенсионерам, идиллически дышали свежим воздухом в Летнем Саду. Никакой слежки никто не заметил. Один раз, когда я сидела на скамейке, поджидая опаздывающего приятеля, ко мне пристала цыганка: "Дай погадаю". Я ее прогнала. "Женщина, за тобой враги по пятам ходят! — сказала она со злобой. — Они твой волос сожгли, твой след вынули". Пришел мой приятель, мы вместе посмеялись над вещаниями гадалки.
Не знаю, как насчет волоса. Но следом занимаются постоянно. Когда я вернулась в Москву, а из Москвы в Переделкино, мне с оказией была доставлена весть: в Ленинграде кое-кого из тех моих старых друзей, с которыми я общалась, потревожил Большой Дом. Тревога была несерьез-ная: сдать какие-то книги, которые я будто бы им привезла. Они отказались. Тогда им было возвещено: пусть помнят, что хоть сами-то они пенсионеры и их, так и быть, не тронут, но дети у них еще молодые и детей можно с работы согнать.
Родителей удобно шантажировать детьми, а детей — родителями.
В Ленинград я более не езжу. Подглядывание и подслушивание продолжается в Переделкино и в Москве. Глядят — с перерывами, слушают постоянно. Какая это, наверное, унылая скука — подслушивать старушечьи разговоры, все больше о болезнях да о лекарствах, "все рюматизм и головные боли". Но слушают, пленку меняют…
Иногда, впрочем, и развлекаются. Звонок. Беру трубку. "Это Лидия Корнеевна?" — «Да». — "Желаю вам поскорее издохнуть".
Иногда так:
— Позовите Александра Исаевича.
— Его, к сожалению, здесь нет.
— Ну, ничего, не жалейте. Скоро мы его хлопнем, и вы на том свете увидитесь.
Обшарпаны стены.
Топчун у ворот.
Опасная стерва
В том доме живет.
Это про дачу Корнея Ивановича, где я иногда живу, написала Инна Лиснянская.
3
9 января 1974 года, претерпев обряд исключения, я заехала на городскую квартиру, чтобы принять ванну, отмыться от грязного папиросного чада, и, отмывшись, отправилась в Переделки-но. В сумерках мутно тонули ворота, фонари, заборы. Но утром, если не случится ночью сердечно-го приступа, я надеялась выйти навстречу правдивости и чистоте сугробов, спуститься по шоссе к замерзшей речке, подняться, перейдя мост, на гору, на могилу Корнея Ивановича, — и оттуда, сверху, сквозь переплетение ветвей, увидать поле, уютно устланное снегом и с медленною плавностью поднимающееся вверх к даче Пастернака. Эта мягкая, добрая плавность всегда утешала меня.
Всю дорогу в машине, посасывая капли на сахаре, я усердно терзала себя неудачами своих ответов. Катаев спросил: почему, при моем неуважении к Союзу, я не вышла из него сама? Я должна была ответить: после того как исключили Солженицына, я написала в Союз: "Прошу вычеркнуть мое имя из числа членов". Но умный человек отсоветовал: "Что же! Они вас с удовольствием вычеркнут! А вы напишите такое, чтобы они вынуждены были собраться и выслушать вас". Тогда я послала телеграмму, что исключение Солженицына позор для нашей родины, и еще многое, — и вот наша беседа наконец состоялась…
Как глупо ответила я на полицейский вопрос "а зачем вам деньги на Западе?"… "А зачем вам деньги на Востоке?" — должна была я ответить допрашивающим, а я вместо этого дала им честный отчет о своих медицинских расходах. Экие, подумаешь, бессребреники! Все журналы, газеты, издательства у них в руках, все они члены редсоветов и редколлегий, все ежегодно переиздают и славят друг друга многотысячными тиражами, все получают многотысячные гонорары (а кое-кто еще и зарплату в Союзе) и не знают, видите ли, зачем деньги на свете! Ни на Западе, ни на Востоке деньги пока что не отменены, и не пахнет еще нигде их отменой… Ведь не чужие деньги получить уполномочивала я своею доверенностью, а — собственные, заработанные честным трудом… Надо было ответить: "Своими деньгами я вправе распоряжаться сама". И какой стыд, какое для меня унижение: документы, даты, факты, подтверждающие, что повесть моя была Лесючевским принята, — все у меня в руках, а я онемела перед его наглостью. И какой стыд: когда они все враз заорали, я уронила на пол бумаги, уронила очки, долго и без толку шарила по полу… Уронила — перед ними — себя.
В ту пору на даче, в одной из комнат нижнего этажа (верхний давно уже был обращен нами в неприкосновенный музей), жил Солженицын., Впервые поселился он в Переделкине по приглаше-нию Корнея Ивановича, осенью 1965 года, когда я была еще едва знакома с ним, и с тех пор мы не один раз оказывались под одной кровлей, то в городе, то на даче, и при жизни Корнея Ивановича, и после конца. Жил он у нас, случалось, несколько дней подряд, случалось — неделю, а случалось — месяц: он то исчезал надолго, то появлялся опять. Наш кров всегда поджидал его; ключи от нашей квартиры годами оставались при нем. Обстоятельства менялись, но у нас он мог поселиться в любую минуту, при любых обстоятельствах, превознесенный или гонимый — все равно. Он поселялся; мы оказывались близко, рядом, в городской квартире или на даче, — но каждый продолжал жить по-своему, следуя своему укладу, своему распорядку, своему, назначенному нам жизнью, труду. Солженицын, где бы ни селился и куда бы ни бросала его судьба, всегда и везде оставался суверенным владыкой собственного образа жизни. Однако и такого высокого умения оберегать чужой ему или даже чуждый уклад я тоже не видывала. У него был всегда и везде свой жесткий и непререкаемый, расчисленный не по часам, а по минутам распорядок дня; у меня тоже определенный, часто нарушаемый болезнью, но тоже, хоть и не расчисленный, а свой. Ложился Александр Исаевич рано, потому что рано вставал. Однажды, около полуночи, я прощалась с гостями — и вот в передней, куда выходила дверь тогдашней солженицынской комнаты, я заговорила полушепотом, опасаясь разбудить спящего. "Если вы из-за меня будете мешать себе общаться с людьми, — сказал мне на следующее утро Александр Исаевич, расслышавший мои усилия, — я лишу себя возможности ночевать у вас". Со свирепой непреклонностью — отвергал он любые наши попытки снять с него бытовые заботы. Живя у нас на даче, все для себя делал сам: стряпал, мыл посуду, убирал комнату. Последние три месяца в России Солженицын почти сплошь прожил в Переделкине, ненадолго отлучаясь в город, к семье. Жили мы в двух соседних комнатах, дверь возле двери, разделенные только стеною, но в комнаты друг к другу без чрезвычайной надобности не входили. Виделись редко, встречаясь только на "нейтральной зоне" — в столовой, в коридоре, в кухне, — и, встретившись, долгих бесед не вели. Долгая беседа (если только не о работе и не о том, что эту работу рождало) — это отдых, праздность, а Солженицын и праздность — две вещи несовместимые. Будто он в какую-то минуту — я не знаю за что и не знаю когда — сам приговорил себя к заключению в некий исправительно-трудовой лагерь строжайшего режима и неукоснительно следил, чтобы режим выполнялся. Он был сам для себя и каторжник и конвой-ный. Слежка его — за самим собою — была, пожалуй, неотступнее, чем та, какую вели за ним деятели КГБ. Урок рассчитан был на богатырские плечи, на пожизненную работу без выходных, а главным инструментом труда была полнота и защищенность одиночества. Вечная торопливость, которой на людях был обуян Солженицын (столь удивлявшая и сердившая его знакомых), была неистовой спешкой к средоточию и глубине: к выполнению урока. Поблажек он себе не давал, садился за труд ни свет ни заря. Иногда на холодильнике в кухне я находила краткую записку: "Если Вы освободитесь к девяти, послушаем вместе радио". Это означало, что сам он в этот день ранее обычного окончил урок и дает себе неожиданный отпуск минут на 20. Послушать, погово-рить, расспросить, рассказать. (Иногда, заметив, что я собираюсь на кладбище, Александр Исаевич шел на могилу вместе со мною и потом, когда мы спускались по узенькой тропке между оград, где рядом вдвоем не пройти, удивлял меня зоркой заботливостью: вглядываясь в скользкую тропку, он предугадывал место, где я могу оступиться. Не прерывая разговора, он предупреждал меня — восклицанием, рукою, иногда секунда в секунду подставленным для опоры плечом.) Но общие наши выходы были редки. Конвойный выводил каторжника на прогулку обязательно и ежедневно, часа на два, на три, в любую погоду, но, думаю я, и на прогулке не освобождал от труда. Прокла-дывая новые лыжни в нашем заваленном снегом саду, шагая из конца в конец по протоптанной от забора до забора тропинке, Солженицын и на морозе продолжал свой труд — и, полагаю, продол-жал не только в уме, но, вопреки морозу, и на бумаге. Нанизывал от края до края листа зернышки букв на туго, как тетива лука, натянутую веревку строки. По улицам писательского поселка он не ходил, разве что к поезду, а гулял на нашем участке среди великанов сосен. "Вам не надоедает ходить взад — вперед от забора к забору?" — спросила я у него один раз. "Нет, — ответил он, — я привык на шарашке".
И время завтрака, обеда, ужина он тоже не тратил зря: совмещал еду с деятельным, регуляр-ным слушаньем и записью радио. Ел вдалеке от моей комнаты, на кухне, чтобы включенный приемник не мешал мне работать. Уезжая в город, прощаться в комнату ко мне не заходил — тоже чтобы ненароком не оторвать от работы. А чтобы я не тревожилась внезапностью его исчезнове-ния (время было тревожное, и случиться с ним могло что угодно в любую минуту), оставлял записку на холодильнике: "Я уехал" — дата и час. Возвращался внезапно, без предупреждения, иногда и без звука: выйдя в переднюю, я вдруг обнаруживала на вешалке, его тулуп или куртку. И испытывала облегченье. Каждый раз я ловила себя на мысли: "Солженицын здесь, он работает, он здесь, с нами — значит, жаловаться нам на жизнь еще грех, еще все хорошо".
Иногда, встретившись со мною в коридоре или в столовой, Солженицын на бегу, на ходу задавал мне какой-нибудь внезапный вопрос, кажущийся случайным, но на деле — либо продол-жение нашего давнего разговора, либо упорно и подспудно преследующей его мысли.
Однажды, войдя со двора в дом после долгой прогулки, обдав меня сквозь распахнутую дверь сперва морозом леса, а потом морозом тулупа, рукавиц, сапог, бороды, он быстро спросил — тут же, где застал меня, в прихожей: "Скажите, а у Пастернака вы поэму "Лейтенант Шмидт" люби-те?" Снял шапку, снял и повесил тулуп. «Люблю», — ответила я. "Очень?" — не без строгости переспросил он, сдвинув брови над ярко засиневшими среди морозного румянца глазами. «Очень».
Он еще раз глянул, проверяя надежность ответа, и прошел к себе.
В другой раз Александр Исаевич внезапно появился передо мною на кухне, где я следила за кастрюлей, чтобы не упустить молоко.
— Скажите, пожалуйста, Ахматова могла уехать из России в двадцатые годы? Имела возможность? Ей не разрешили или она не пожелала сама?
— Не пожелала сама. Все ее ближайшие друзья уехали, а она не уехала.
— Вы это наверное знаете?
— Наверное. Это ведь из стихов известно:
Не с теми я, кто бросил землю
На растерзание врагам.
— Только из стихов?
— Нет, и прямо. Она сама это говорила, рассказывая мне в тридцатые о двадцатых.
И опять, получив необходимую справку, он не продолжал разговора, а сразу ушел.
Временем своим он дорожил чрезвычайно. ("Я на время лютый", — сказал он мне однажды.) Эта черта: страсть к экономии часа, минуты, секунды и ненависть к пустой растрате часов и минут — нисколько не раздражала меня, напротив — я любовалась ею и завидовала ей.
Не спи, не спи, художник,
Не предавайся сну.
Ты — вечности заложник
У времени в плену.
Суетливая жизнь — тот же сон, которому не смеет предаваться художник, осознавший свою жизнь, по слову Баратынского, как «поручение». (Хуже сна: сон все-таки укрепляет.) Ахматова, говоря о сталинских палачествах, сказала: "Покойный Алигьери сотворил бы из этого десятый круг ада". Вот какое «поручение», среди многих других, принял на себя Солженицын. В послед-ние годы жизни в России был он для меня уже не только тем писателем, который принес нам живую весть из преисподней, не только автором "Одного дня", "Матрениного двора", "Правой кисти", "Ракового корпуса", "В круге первом" — он был уже в моих глазах Алигьери, творцом "Архипелага ГУЛАГ". "Мастерская человечьих воскрешений" — вот как назвала бы я его письменный стол, его комнату, его труд. В «Архипелаге» поражает изобилие фактов, мыслей — и вместительность слова. По степени словесной емкости я могу сравнить «Архипелаг» Солженицы-на только с тремя шедеврами: с "Пиковой дамой" Пушкина, "Хаджи Муратом" Толстого и «Архиереем» Чехова. В «Архипелаге» поражает разнообразие, даже, разбросанность фактического материала и в то же время единство, строгость, точность возведенной постройки. Я хотела бы дожить до появления в литературе такого художественного критика, которому по силам оказалось бы исследовать суть этой небывалой мощи: емкости слова и упругости своевольного синтаксиса. Солженицын проводит читателя всеми кругами ада, опускает во мрак преисподней, заставляя нас, беспамятных, властью своего лирического эпоса (или эпической лирики?) пережить вместе с ним сотни и даже тысячи судеб. И — что еще важнее — осмыслить пережитое ими. И нами.
"Вечно он торопится…", "Всегда он смотрит на часы…" — говорили о нем с неудовольствием знакомые. Или даже так: "Вечно он занят своими делами, одним собою!" И это о человеке, взявшем на себя урок, от которого мы уклонились, о человеке, предоставившем голос (и какой голос, голос художника!) тысячам воскрешаемых им людей. За голосом тысяч звучал голос миллионов. Но вокруг Солженицына густой шепот: "Вечно он занят одним собой".
Собой!
А попробовали бы вы, болтающие праздно, каждый день заново спускаться в преисподнюю и со страшной своей добычей снова возвращаться на землю? И выводить из пережитого мысль за мыслью, судьбу за судьбою, лагпункт за лагпунктом — и возвести это колоссальное изваяние, этот величавый памятник на братской могиле за чертою вечной мерзлоты! Семью частями своей книги Солженицын создал литую форму — новую литературную форму, новую не только для русской литературы, но, смею думать, и для мировой. В критике она еще не нашла себе точного определе-ния, как до сих пор еще поражает новизной и не находит себе точного определения форма "Мертвых душ", "Записок из мертвого дома" или "Былого и Дум"… Нет, никогда, во все девять лет своего знакомства с Солженицыным, в ту пору, когда я еще не знала об «Архипелаге», или в ту, когда уже знала о нем, не удивлялась я солженицынской «спешке». Да как же ему не спешить? Ведь и «Архипелаг» для него — это тоже еще не конец порученного дела, а отступление пред главной, предстоящей работой. Не из пустой прихоти надел он на себя вериги, не напрасно в разговоре с приятелями или даже с величавыми, осанистыми редакторами поглядывал на часы, не попусту, сам преследуемый и гонимый гонял себя по всей стране, чтобы разыскать еще одного свидетеля, пережить еще чей-нибудь рассказ, проверить еще один факт. И, чужими — родными! — судьбами переполненный, снова спешил за стол, в мастерскую человечьих воскрешений. Приглашая Солженицына осенью 1973 года к нам в Переделкино, мы понимали, конечно, что уберечь его от недругов — не в наших силах, но мы дали себе и ему слово оберегать его труд, его «спешку», его распорядок от вторжений любопытствующих и досужих — и даже от самих себя.
Я с гордостью надеюсь — мы свое слово сдержали.
"Вечно он спешит". Однако в тот вечер, 9 января 1974 года, когда я, после исключения, приехала на дачу, Александр Исаевич никуда не спешил. Он помог мне раздеться, и мы сели в столовой за стол друг против друга. Я вынула из портфеля свою кипу бумаг. "Закроемся от Катаева, — сказал, вскочив, Солженицын, — закроемся, закроемся от Катаева" — и с силой задернул обе половинки штор на большом, во всю стену, окне. (Окно нашей столовой выходит прямо на катаевский забор, сарай, дачу.) Александр Исаевич снова сел и ожидающе посмотрел на меня. Стол наш неширок, лицо Солженицына я видела ясно. Шрам, пересекая лоб, подчеркивает прямизну черт. Прямой нос, прямые волосы, прямой лоб — лицо как будто выпрямленное изнутри единым волевым усилием. Сосредоточенность углубляла шрам, и, чем глубже врезалась в лоб эта черта, тем отчетливее проступала основа лица, оно словно обнажалось, открывая голый и точный чертеж. Ничего лишнего. Одна основа.
За несколько дней до моего исключения Солженицын, ни о чем не сказав мне, принял особые меры: обратился с письмом к своим бывшим коллегам по Союзу Писателей. Узнала я об этом много позднее. Привожу письмо целиком:
"6.1.74
Дорогая Сарра Эммануиловна!
Хочется спросить — не Вас, но, быть может, при Вашем посредстве: до каких же пор писатели будут вести себя как куры — каждая покорно ждет, когда дойдет очередь резать ее, и беспечно не мешает резать других?
Чего же стоит такая «общественность» и чему же могут научить народ такие писатели, зачем они тогда и книги пишут? Неужели предстоящее, всем известное исключение Лидии Чуковской и Владимира Войновича пройдет беспрепятственно, без сопротивления (активного противодейст-вия, а не пустых протестов вослед)? Если так, то, право же, достойная писательская обществен-ность заслуживает презрения ничуть не моющего, чем ее казенное руководство. Как-никак, а большинство-то — у нее.
Если с кем будете об этом толковать — можете ссылаться и на меня и это письмо показывать.
Жму руку
А. Солженицын".
Не зная тогда о существовании этого письма, я мельком удивилась настойчивости, с какой Александр Исаевич расспрашивал: сколько было человек в вестибюле, сколько поднялось со мною на второй этаж к комнате № 8 (все!) и какие делались ими попытки войти…
— Но как же они могли войти? — удивилась я его вопросу. — У двери стоял страж… Они требовали, они просили, они посылали записки. Наровчатов не разрешил войти вместе со мною никому — даже Сарре Эммануиловне
Бабенышевой, которая просила разрешения быть возле меня из-за моей полузрячести.
— Неужели друзья, все вместе, сколько их было, не могли силою открыть дверь?
— Да как же им было открыть? Дверь изнутри заперта на ключ, а снаружи — сторож.
— Надо было успеть прорваться — до!
— Тогда заседание просто не состоялось бы. Председатель догадался бы отложить. А в следующий раз у двери стоял бы не один сторож, а милицейский наряд.
Глубже сделался шрам. Солженицын не спрашивал более, а ожидал моего рассказа. Я попро-бовала было рассказывать подряд, роясь в своих записях. Но — не удалось. Явственно видна крупная нумерация страниц, но самая запись, сделанная стоя, трудно поддавалась расшифровке. И, отложив в сторону кипу бумаг, так сильно раздражавших и пугавших моих недавних собесед-ников, я начала рассказывать не по записям, а по памяти, по следу мучивших меня болевых точек — навстречу прочному, как обручем охватывающему мои слова, вниманию слушателя. Я пыта-лась передать фарисейство Агнии Барто, не постеснявшейся потревожить тень Корнея Ивановича в минуту расправы со мной, ее дерзость говорить от имени доброты, совершая зло; пыталась изобразить бездарно разыгранную, запланированную взволнованность Юрия Яковлева; находчи-вую ложь, ложь, ложь не маститого, а матерого Лесючевского; кощунство Жукова, в утешение страдальцу Лесючевскому помянувшего нашу победу; хамскую грубость Медникова, Самсония, Рекемчука; озверелость Грибачева; учтивое предательство Стрехнина, передернувшего мой текст к их услугам; отточенную ненависть Катаева…
Меня слушал шрам. "В чем сила этого человека? — думала я, сквозь свой рассказ невольно вглядываясь в живой чертеж напротив. — В способности сосредоточивать себя, всего себя, — не часть, а целое, все то, что мы называем «я», — собирать, сосредоточивать себя, свое отдельное «я» на «я» другого. Сейчас он весь сосредоточен на мне и на моей боли. Полностью. Целиком. Он будто рычаг какой-то в себе поворачивает — рычаг-переключатель, — включает всю полноту внимания и потом выключает, когда ему пожелается. Если бы не обрел он это умение: всей сутью, всей основой своей воспринимать чужую боль — как мог бы он создать Матрену да в придачу и все население Архипелага? — сотни и сотни судеб, волей его проницательного внимания и памяти — схваченные, усвоенные, впитанные, запомненные, возвращенные к жизни — и рады мы тому или не рады — подаренные нам?"
— Катаев — о порядочности! — перебил он меня, когда я дошла до Катаева. Даже не перебил, а произнес как-то внутрь, в себя. — Конечно! Таков уж закон. Самый непорядочный и должен был поставить вопрос о порядочности. Впрочем, кто там из них — самый…
Я рассказывала. Солженицын слушал. Когда углублялась его работающая сосредоточенность — углублялся и шрам. А лицо все прямело, подчеркивая, заостряя черты…
С высоты его сострадания я смотрела на прожитый день. Что ж, он был нелегок. И сейчас нелегко. Чувство униженности минутами покидало меня, но возвращалось опять. Я рассказывала. "Вы жалкая личность! — кричал мне, развалясь на стуле, Самсония. — Вы думаете, вы — фигура? Вы — жалкая личность!"
— И я, Александр Исаевич, в самом деле оказалась жалкою личностью. После того как Лесючевский солгал и я не нашла ответа, а потом, когда я говорила последнее слово, все заорали, я уронила бумаги на пол, долго шарила по полу и еле-еле, кое-как собрала их.
— И никто не помог вам? Он встал. Даже, пожалуй, вскочил.
— Никто. Конечно, никто.
— Ни один человек?
Шрам перерезал лоб так остро, что каждая черточка подо лбом превратилась в острие. Не лицо, а нож.
— Ни один.
Он опять сел напротив.
— Я сейчас заплачу, — сказал он. (Мне и до сих пор кажется, что я ослышалась. Но я не ослышалась. Он сказал это.)
Мы сидели друг против друга понурые.
Никто из нас, разумеется, не заплакал. Напротив: от радости, что рассказ мой окончен, напряжение разрядилось, мы даже посмеялись немного. "Коля! Дружище! Береги себя…"
— Неужели они даже до того дошли, что в утешение Лесючевскому поминали взятие Берлина?
— Дошли, Александр Исаевич, дошли!
Он весело и громко рассмеялся. Лицо из заостренного, ножевого, сделалось округлым, деревенским, даже, я сказала бы, простоватым. В России таких лиц очень много. Рассредоточен-ное, лицо Солженицына похоже на лицо монтера, механика, недавно из крестьян. Даже и шрама словно не было. Разгладился.
Я тоже смеялась.
Солженицын встал. (Внимание выключено. Если бы он не владел переключателем, откуда бы взялось время превращать усвоенное в лирически преобразованный результат, в те книги, которые все мы читаем?) Рычажок-переключатель сработал исправно. Каторжанину пора было в барак, на вечернюю поверку. Пора, а то упустишь для работы завтрашнее утро. Солженицын глянул на часы.
— Берегите листки! — скороговоркой выговорил он, подавая мне аккуратно сложенную пачку.
Это был уже другой человек — не вслушивающийся, а спешащий мимо.
Он снова быстро взглянул на часы и простился.
Пора, пора было к себе, хотя стрелки часов вряд ли указали ему, что жить и работать в России оставалось автору «Архипелага» недолго ровнехонько 1 месяц и 3 дня.
Вряд ли часы протикали Александру Солженицыну строчку:
На пороге стоит — Судьба.
4
Хорошо, думаю я теперь, что судьбою Солженицына ныне оказалось изгнание. Насильничес-кий этот, унизительный для русского общества противозаконный акт в конечном счете для нас выгоден. Ведь разлучить Солженицына с родною культурою не удалось все равно. Солженицын зачерпнул и унес с собою столько России — живи он в изгнании хоть сто лет! — России ему хватит. Пусть горько ему в разлуке с родной землей, но вся она у него с собою — я верю в это, вся, кроме помех. Он трудится — "готовит людям свой подарок", — огражденный наконец от гоните-лей. Безопасность и там относительная, но не находится он уже в прямом ведении такого опасного учреждения, как Комитет Государственной Безопасности. Уж если сверхмощная наша держава не могла без лесючевской истерики, без топтунов, без перлюстрации писем и подслушивания телефо-нов перенести мою скромную статейку, то как могла она перенести восставший на нее из гроба — из тысячи тысяч гробов! — «Архипелаг» Солженицына! Какая расправа ожидала бы автора этой великой книги, если бы его оставили здесь? Убили бы? Посадили в тюрьму? Загнали в ссылку? Вряд ли. С подобной расправой опоздали: от тюрьмы он был защищен мировой славой и Нобелевской премией. Спасибо миру и Шведской Академии.
Спасибо за то, что сейчас, когда я пишу эти строки, Солженицын спокойно сидит за письмен-ным столом и работает. И рукописи свои ему не приходится прятать. Оставили бы его здесь — ежедневно отравляли бы жизнь, как теперь ежедневно отравляют жизнь Сахарову. Шантажом, письменным и телефонным; ежедневным напоминанием о его поднадзорности: то ворвутся в квартиру, когда никого дома нет, выбросят из шкафа платье, вытрут о платье сапоги, разбросают книги и посуду и уйдут, ничего не взяв и оставив двери настежь. То искалечат стоящую у подъез-да машину; то выключат телефон — и постоянно, методически, под разными предлогами, распра-вляются с его друзьями и помощниками. Не только с друзьями, но и с теми малознакомыми людьми, которые приходят к нему рассказать о своем горе и просить о совете и помощи. И не только с ними. Мне известен такой эпизод: в одном научном Институте в Москве Сахаров произнес несколько слов над гробом своего покойного друга. Когда гражданская панихида окончилась, к Андрею Дмитриевичу подошел молодой человек — научный сотрудник Института — и заговорил с ним. Беседа длилась минуты три, не более, но была замечена. Наследующий день молодого человека вызвали к директору и потребовали письменных объяснений. Тот пожал плечами и отказался. Через несколько дней он был уволен.
Сахаров живет, окруженный минными полями. Неизвестно, когда и кто и на какой мине подорвется. Но каждая чужая рана — это рана ему. До одного инфаркта его уже довели — скоро ли доведут до второго? И скоро ли подорвется на неизбежной мине он сам?
Желаю ли я, чтобы Сахарова лишили родины? Во спасение от мины и инфаркта? Чтобы изгнали его, подобно Солженицыну, или попросту отпустили за границу на время, хоть на месяц отдохнуть от "Одного дня академика Андрея Дмитриевича"? Конечно, желаю. (О, как осиротеем все мы! да что мы, мы «вольные», а те — в лагерях, тюрьмах, психиатрических лечебницах. — Все те, для кого Сахаров — последняя надежда, "Спасите наши души", "Save our Souls" — звучащее его голосом на весь мир.)
Осиротеем. Но разве я зверь, чтобы не желать ближнему своему, да еще такому, как Андрей Дмитриевич Сахаров, покоя, лечения, отдыха, оснеженных гор, картинных галерей и венецианс-ких каналов? Не желать Андрею Дмитриевичу встречи со своим собеседником — миром — и, быть может, нового возвращения к науке, по которой он истосковался?
Осиротеем. Но сколькие уже, пренебрегая нашим сиротством, уехали, и сколькие уедут еще!
Хочу ли я, чтобы уехал и Сахаров?
…Торжественное заседание Академии Наук СССР "в честь шестидесятилетия Великой Октябрьской революции". Сахаров приглашен. Он сидит в одном из первых рядов, недалеко от прохода. У него с собою записка: предложение правительству амнистировать политических заключенных, отменить смертную казнь, смягчить тюремный режим. Зал полон академиками, действительными членами, членами-корреспондентами, директорами научных институтов. Сверкают седины и ордена. На трибуне президент Академии Наук, академик А.П. Александров и другие высокопоставленные лица. Еще бы! Ведь праздник какой — Октябрьской революции исполнилось шесть десятилетий! Докладчик, академик Б.Н.Пономарев, член ЦК (кандидат в члены Политбюро), превозносит наши достижения. Сахаров тихо поднимается во весь свой высокий рост и делает шаг к проходу. Он хочет подойти к трибуне и передать в Президиум свою записку. Но поперек его пути, между стульями внезапно возникает преграда: ноги. Сахаров со своей высоты молча разглядывает эту живую преграду. На фоне наших достижений ему все-таки удается, вопреки преграде, выйти в проход и сделать один шаг к трибуне. Тут его мгновенно окружают восемь человек. Восемь богатырей — сотрудников КГБ. Зачем они здесь? в этом храме науки? А вот затем! Академик Сахаров, даже молчащий, страшен им. А вдруг, от имени своих подзащит-ных, он скажет что-нибудь на весь зал, на весь мир! Нет, он хочет передать записку — всего лишь. Но сам. Но — прямо в Президиум. А в Президиуме — высокопоставленные лица. Разве это допустимо?! Сахаров стоит, окруженный чекистами. Один пытается вырвать у него бумагу из рук. "Не утруждайтесь, — говорит Сахаров, — у меня дома еще десять таких".
Зал принимает приветствие Политбюро ЦК. Весь зал поднялся: оркестр заиграл Государствен-ный гимн. Весь зал стоит.
Наконец, гимн окончен. Опустела трибуна. Опустел и зал. Ни орденов. Ни седин. Пусто.
Тогда чекисты расступились перед Сахаровым: "Вы свободны".
— А что же академики… член-коры… доктора наук… — спрашиваю я у Андрея Дмитриевича, холодея. — Видели, как вас окружили чекисты?
— Видели.
— И они подошли… чтоб узнать… чтоб спросить… чтоб узнать, что будет с вами дальше?
— Нет.
— Но они смотрели, по крайней мере, чем кончится?
— Нет. Они смотрели в другую сторону.
— И ни один человек не попробовал к вам подойти? Хотя бы окликнуть вас?
— Ни один.
"Товарищи! — хочется мне закричать. — Мы — сверхмощная держава! — Мы страна победителей! Мы первые создали спутник! Неужели — неужели — через 60 лет после революции, через 32 года после победы над фашизмом мы не можем допустить, — чтобы Андрей Дмитриевич Сахаров, действительный член Академии Наук и Лауреат Нобелевской премии Мира, лично подал записку своему президенту?" И что сказать об академиках, которые смотрят в другую сторону, когда их коллегу — оцепили? Один, сидевший рядом с Сахаровым, даже закрыл лицо руками, едва лишь Сахаров поднялся. "Это он от стыда?" — спрашиваю я. "Нет, чтоб не попасть в свидетели".
Да, да, я горюю, когда люди уезжают. Но разве от таких коллег не пожелаешь — не то что отвернуться, это уж само собой, а убежать на край света? Уехать, убежать, чтоб больше никогда не видеть ни их ученых лиц, ни их срама!
5
— Значит, вы хотите, чтобы Андрей Дмитриевич уехал? Значит, вы за отъезды? А нам говорили, вы против.
— Я — против тех, кто незаконно присвоил себе право распоряжаться чужими судьбами. Каждый сам знает, где ему хочется жить постоянно или куда он хочет съездить на время. Я за право каждого на временную поездку и на постоянный отъезд.
Уехать имеет право каждый — по уважительной причине (гонимости) и безо всякой причины.
Тот, кто уже произнес неугодное слово и поплатился годами тюрьмы и ссылки, и тот, кто от неминуемой расплаты желает спастись. И тот еврей, который никогда не терял ни своей религии, ни своего языка и жил мечтами о неведомом, далеком, обетованном Израиле. И тот немец, которого тянет в родную Германию.
И тот русский еврейского происхождения, который давно уже в трех-четырех поколениях русский (по языку, по культурной традиции, по всему обиходу, по строю души и складу ума и, главное, по общей с нами исторической памяти), — тот русский, которого властители наши гипнотическими сеансами антисемитизма, на горе нам, заставили отпрянуть от России.
И тот — русский ли, грузин, литовец, армянин, татарин, кто желает работать и кого сначала, в наказание за правдивое слово, лишают работы, а потом судят за тунеядство.
И тот — русский или не русский (мне все едино), кто живет здесь в полном благополучии, кого никто не преследует, а он попросту желает людей посмотреть и себя показать. "Я молод, жизнь во мне крепка" — хочу путешествовать, двигаться! Право на отъезд, на поездку туда и обратно или право на эмиграцию — природное, неотъемлемое право каждого человека. Непререкаемое.
— А… Значит, вы, оказывается, за отъезды? А нам говорили — вы против?
— Поддерживая от души право каждого поступать, как разум и честь велит, я хочу напомнить всем — уезжающим и остающимся! — еще об одном безусловном праве. Неотъемлемом. Нерушимом. Непререкаемом. Я хочу напомнить о моем праве — плакать.
Горе той земле, для чьих детей, если они желают выполнить свое назначение, существует одна лишь мечта: отъезд.
Мы радуемся, когда вновь соединяются разъединенные семьи. Не оплакать ли нам разъединение дружб?
Ветви дружбы — ведь в их-то переплетении и густоте вьет и прячет свои гнезда культура. Ведь не в чиновничьих гнездилищах, где академика или писателя даже при ярком свете люстр не отличишь от гебиста, не там рождается и растет литература и наука. Рождается она в скромности привычного труда, в тишине, без юбилейных торжеств и салютов и дышит воздухом братства. Что удивительного, что академики не повернули голов, когда Сахаров оказался в оцеплении? Кроме литературы, науки, музыки, живописи существует еще культура дружбы, товарищества.
Жива ли она?
Власть делает все, чтобы ее уничтожить. Мы должны делать все, чтобы ее сохранить. От любви между мужем и женой рождаются дети. Но не всегда дети связаны с родителями более прочной связью: духовной. О, конечно, такое тоже бывает. Но далеко не всегда.
От дружбы, от излучаемого человеком тепла, неизбежно рождается духовный плод — общая память об общей боли и зов к общей работе. Жажда, не покладая и не разнимая рук, в память общего горя, общих утрат и надежд, сообща работать. Дружба — это тоже искусство, надо возрождать и беречь его. Юбилейные залы… ничего не было и нет противоположнее культуре, чем ковровые дорожки равнодушных, безличных, бесчеловечных чиновничьих коридоров и зал.
У лукоморья дуб зеленый;
Златая цепь на дубе том:
И днем и ночью кот ученый
Все ходит по цепи кругом;
Идет направо — песнь заводит,
Налево — сказку говорит…
Крупными ли звеньями, малыми ли звенышками, но прочно связаны между собою этой золотой длящейся цепью люди, работающие под сенью родного дуба. Их хранит добрая зеленая листва, тоскливая песня, веселая сказка, и они благодарно хранят этот спасительный ствол, его корни и листья. Создают в новом веке новую песню, звено той же цепи, звенящее тоскою, утешением и новизной.
Каждый, уезжающий ныне из России, увозит с собою не только себя самого. Он увозит излучение тепла. Звенышко из золотой цепи. Он увозит пылинку будущего. Он разнимает братские руки. У остающихся руки опускаются — и между возникает пустота. Дотянуться одному до другого сквозь обступающую со всех сторон пустоту становится трудней и трудней, распадаются звенья цепи, обрывается песня, сказка, дружба. Между одним звеном и другим обрыв, дыра, которую ни чугуном не скрепишь, ни лоскутом не залатаешь. Тут нужна человечья ладонь, щека. Отъезды разрывают живую, естественно сросшуюся, плодоносящую ткань.
Каждый отъезд имеет свое обоснование, свое право (не только юридическое, но и жизненно-веское), свою причину, свой безусловный резон, а все вместе они служат распаду.
Мне возразят, что плакать, собственно, не о чем, что уехавшие могут и там и оттуда служить России: свидетельствовать истину о жизни нашего народа перед другими народами, не отступать-ся от здешних друзей и заступаться за них. Это так, это правда, и оно так и есть. Лучшие из тех, кого от нас оторвали насильно, лучшие любят и помнят. Любовь их деятельная: я знаю множество разумных и бесспорно полезных дел, совершаемых нам в помощь эмигрантами. Литература? Я верю, что и там и здесь будут созданы — и уже создаются! — книги, достойные великой русской литературы. Географически решать вопросы российской словесности столь же недопустимо, как и арифметически. Был бы труд бескорыстен и чист, а время уж само расставит и авторов, и их книги по росту и по полкам. Вне зависимости от географии. Сказал ведь Борис Пастернак:
Цель творчества — самоотдача,
А не шумиха, не успех.
Позорно, ничего не знача,
Быть притчей на устах у всех.
Позорно — как там, так и здесь. Самоотдачей — или, напротив, саморекламой можно заниматься с одинаковым успехом и там и здесь, в любой точке земного шара. И я желаю уехавшим счастья в их самоотдаче… Однако я не думаю, чтобы кому-нибудь из уехавших выпало на долю то великое — хоть и беззвучное — счастье, какое выпало мне. И это потому, что отъезды служат распаду, а не единению.
В декабре 1975 года шел и шел снег. Когда я поднялась на могилу Корнея Ивановича, она вся была засыпана снегом. Я целую подушку столкнула со скамьи, прежде чем сесть. В кустах можжевельника что-то темнело. Я взяла в руки мокрый конверт и вынула промокшую бумажку. Буквы текли по страницам, как слезы. Подпись размыта совсем, нечитаема, числа не видно, прочитывается только месяц и год: "XII, 75". Но слова хоть и текут, а ясны. Я прочитала:
"Спасибо Вам, Лидия Корнеевна, за то, что Вы, человек и писатель, одна из немногих настоящих писателей, оставшихся в России".
Напоминаю, что письмо это написано и получено мною в стране, где имя мое запрещено, где за каждую мою самиздатскую или тамиздатскую книгу человек рискует поплатиться тюрьмой, где не печатается ни одна моя новая строка; где из всех библиотек уже изъяты мои прежние книги, а из каталогов — названия. Меня нет и меня не было. Хуже — я чума. Удивительно ли, что, какую бы живую благодарность ни испытывала я к моим западным переводчикам, рецензентам, издате-лям — русским и нерусским, — ничто не сравнится с тем благоговением, с каким несла я домой этот заплаканный орден. Орден братства.
— Аа… а! Значит, вы все-таки против отъездов? — спрашивают после недолгого молчания мои собеседники.
— Нет, отчего же, я за. Я уже притерпелась. Пусть едут.
6
Но мне давно пора уже вернуться к своей теме: к исключению из Союза Писателей. Обе темы связаны одна с другою, но все же моя уже.
Памятен нам август 1946 года, речь Жданова перед писателями в Смольном. И постановление, и речь напечатаны во всех газетах. С ними в любую минуту может ознакомиться каждый. Это наша «Илиада» и «Одиссея», классический образец бюрократических постановлений об искусстве, — можно сказать, вершина жанра. Недаром оба документа годами и даже десятилетиями препода-вались во всех школах России вместо российской словесности.
Постановление не отменено по сию пору, хотя оба ошельмованных писателя печатаются, Ахматова даже и многотиражно*.
Беспомощность официальной власти перед властью поэта стихами Ахматовой была не единожды провозглашена. Судьбою — подтверждена. Однако в 1961 году уже победившая Ахматова снова растолковала своим гонителям эту истину — на этот раз, можно сказать, по складам, прозой, в "Слове о Пушкине".
"После… океана грязи, измен, лжи, равнодушия друзей и просто глупости… как торжественно и прекрасно увидеть, как этот чопорный, бессердечный… и уж, конечно, безграмотный Петербург стал свидетелем того, что, услышав роковую весть, тысячи людей бросились к дому поэта и навсегда вместе со всей Россией там остались.
…Он победил и время и пространство…
…И это уже к литературе прямого отношения не имеет, это что-то совсем другое"**.
* Постановление ЦК ВКП(б) "О журналах «Звезда» и "Ленинград"" от 14 августа 1946 года отменено на заседании Политбюро ЦК КПСС 20 октября 1988 года как ошибочное. — Примеч. 1988 года.
** См. в сб. — О Пушкине. Л.: Советский писатель, 1977, с. 5–6.
Борис Пастернак подвергался разгромам в печати много лет, еще до своего исключения из Союза, в особенности бурно после того же исторического Постановления ЦК 1946 года. Сразу после Нобелевской премии, в 1958 году, его едва не лишили гражданства. Коллеги Пастернака обратились к правительству с просьбой выслать его за пределы страны.
Чтобы остаться дома. Пастернак отказался от премии. Сохранилась ли стенограмма исключе-ния из Союза Писателей Зощенко и Ахматовой, я не знаю. Стенографический же отчет о расправе с Пастернаком сохранился. Подробная стенограмма опубликована за границей*. Я привожу ее краткий конспект. Документ интересен и сам по себе — "как люди в страхе гадки", интересен и тем, что реплики действующих лиц — это как бы шпаргалка для всех участников — соучастников! — подобных расправ в будущем.
* См.: Новый журнал, № 83, Нью-Йорк, 1966, с. 185–227. В наше время, в 1988 году, стено-грамма позорного этого собрания опубликована в № 9 журнала «Горизонт». — Примеч. 1988 года.
"В ходе обсуждения" было установлено, что: Борис Пастернак
1) чужд советскому народу — и не только с той поры сделался чуждым, когда написал эту дурно пахнущую мерзость, этот поганый роман, "Доктор Живаго" (где оплевано все святое для нас, в том числе и Октябрьская революция), а вообще всегда был чужд — в своей эстетствующей, декадентской, индивидуалистической, камерной, комнатной поэзии. Был и остался чужд народу.
2) Пастернак не только чужд народу, но ненавидит народ и считает его быдлом.
3) Пастернак — враг народа.
4) Он скрывал свою враждебность под прикрытием извилистых эстетических ценностей. Между тем вся его поэзия — это 80 тысяч верст вокруг собственного пупа. (Одно время, правда, некоторым отдельным товарищам виделось в поэзии Пастернака нечто даже революционное, когда он находился в окружении Маяковского. Но они проявили излишнюю снисходительность и близорукость.)
5) У Пастернака нож за пазухой — нож против народа.
6) Пастернак поставил большую пушку — обстреливать из этой пушки народ.
7) Недаром он всегда водился с иностранцами.
8) Роман "Доктор Живаго" — предательский акт, проповедь предательства и апология предательства.
9) Пастернак не с наших позиций отнесся к событиям в Венгрии.
10) Пастернак — литературный Власов.
11) Пастернак — соучастник преступления против мира и покоя на планете.
12) Пастернак — это война.
Каков же моральный облик этого предателя, поставившего большую пушку?
Моральный облик у него такой, какой и выясняется из всего вышесказанного:
1) Пастернак — опытный иезуит, лишенный чести, совести, порядочности. Под прикрытием юродства он ловко обстряпывал свои дела. Он ел наш советский хлеб, кормился в наших издатель-ствах, получал все блага от нашего Советского государства, а сам предательствовал. Надеяться на его исправление нечего. "Собачьего права не переделаешь". Прав т. Семичастный, назвавший Пастернака свиньей. Виноваты мы, Союз Писателей: мы были слишком добры к Пастернаку, слишком берегли его мнимый талант и слишком долготерпеливы.
2) Пастернак — жалкая фигура.
3) Пастернак — подлая фигура.
4) Пастернак — подлец.
5) Предательство свое (которое состояло из целой цепи предательств) он совершил за деньги.
6) Однако его новые хозяева вышвырнут его, и весьма быстро, как выеденное яйцо, как выжатый лимон.
7) Нобелевская премия по литературе, которую он получил, есть в действительности не премия, а оплата предательства. Эти 40 или 50 тысяч долларов — это те самые знаменитые 3 °Cеребреников.
Главные задачи Союза Писателей после того, как Пастернак будет изгнан из нашей страны, сводятся к следующему:
Задача первая: развеять легенду о необычайной порядочности и моральной чистоте Пастернака.
Задача вторая: развеять легенду о его необычайной талантливости.
Задача третья: вглядеться в его друзей и знакомых и во всех тех, кто курил ему фимиам. Спасти молодежь от его влияния.
Трудно определить, кто из производивших эту экзекуцию проявил наибольшую лютость. Каждый был хорош в своем роде. Софронов, Зелинский, Перцов, Ошанин, Солоухин, Полевой, Безыменский, Баруздин. Мягкое, женственное начало представлено было Валерией Герасимовой, Галиной Николаевой, Тамарой Трифоновой, Верой Инбер и Раисой Азарх. Дамы либо выступали с трибуны не добрее мужчин, либо из зала выкрикивали свирепые реплики. Они придирались к отдельным формулировкам резолюции: оскорбительность представлялась им недостаточной. Главным составителем резолюции был Н.ВЛесючевский; казалось бы, это имя — порука жесткос-ти. Нет! Слово «изгнанник» — ах! для предателя это слишком мягко; "давно оторванный от народа" — ах! какая неточность! всегда оторванный. Вера Инбер: ах! эстет и декадент — это слабо; эстетствующий декадент определение всего лишь литературное, а к Пастернаку следует применять иные определения…
Борис Леонидович по болезни на собрании не присутствовал. Он прислал письмо. Оно не дошло до нас. Председательствующий С.С.Смирнов письмо огласил, но стенографистки текст не записали. Дошли до нас всего две фразы, процитированные в выступлениях:
"Я не ожидаю, чтобы правда восторжествовала и чтобы была соблюдена справедливость".
Мне понятно, что вы действуете "под давлением обстоятельств", и "я вас прощаю".
Пастернак своих гонителей простил. Святое право — прощать за себя. Но мы — имеем ли мы право прощать им его гибель? И простить его гибель — себе! Менее чем через два года, 30 мая 1960 года, Борис Пастернак скончался.
Союз Писателей пожелал унизить Пастернака и в гробу. В обеих литературных газетах объявления о смерти помещены в издевательской форме: "Скончался Борис Леонидович Пастернак, член Литфонда".
Глядите, люди, какое милосердие! Мы разоблачили врага, но оставили его хоть и не членом Союза, но членом Литфонда! Литфонд оказывал ему при жизни медицинскую помощь, а после смерти известил читателей о его кончине. И даже выразил соболезнование семье.
А люди всё поняли и всё рассудили иначе.
"Граждане! 30 мая сего года скончался великий русский поэт Борис Пастернак. Похороны 2 июня в Переделкино, в 2 часа дня…" — такое объявление, написанное от руки, возникло тогда же возле дачной билетной кассы Киевского вокзала. Его сорвали. Оно самозародилось снова. Его снова сорвали. Оно возникло опять.
"Граждане! 30 мая скончался великий русский поэт — Борис Пастернак…"
Вот вам и член Литфонда!
…"После этого океана грязи… лжи, равнодушия друзей и просто глупости… как торжественно и прекрасно увидеть… что, услышав роковую весть", сотни людей бросились на похороны поэта и через два дня его могила и его дом стали "святыней для его Родины".
Те стихи, над которыми столь лихо потешались высокоумные коллеги Пастернака, те самые стихи, эстетские, декадентские, камерные, комнатные, чуждые, чуждые, чуждые народу, — те самые стихи ежедневно произносятся вслух на могиле Пастернака — читаются по страницам книг, по листкам машинописи, а чаще всего по памяти. Ощущение такое, будто они просто растут там, на ветвях столетних сосен или на нежных лепестках шиповника, а зимою невидимыми буквами начертаны на снегу. Редко когда могила свободна от посетителей. Кто они? Разные люди приходят сюда. Темные, пьяные, шатающиеся по кладбищу от нечего делать, а чаще — те, кто знает наизусть каждую пастернаковскую строчку.
Разные люди посещают могилу Пастернака: молодые, старые, студенты, рабочие, профессора, писатели, врачи, учителя — из разных мест, ближних и дальних. Национальное их происхождение разное, но их общий язык Пастернак. И потому общее их имя: Россия… Коварное это понятие «камерность», «комнатность». Вот она как оборачивается, эта загадочная комнатность, — целой Россией! И более того, земным шаром. На могиле Пастернака часто бывают люди чужих земель. Индивидуалист — камерные, комнатные стихи, а глядишь — проложили себе дорогу к сердцам тысяч. Значит, в этом одном сердце умещались боли и радости тысяч. Связь между поэтом и читателем — таинственная связь, не менее таинственная, чем между деревьями и словами. Случается, громогласно не достигает ничьего сердца, а слово, произнесенное тихо и как бы про себя, из себя, совершает "назначение поэзии": "кует сердца поэзией", как говорил Александр Блок. Вслушивается поэт в свою мысль, в свою душу, он одинок, он самобытен, он что-то там бормочет невнятное, вдалеке от всех, вдали от многотысячных стадионов, свое — а оборачивается оно не своим — а всеобщим, братским. Образующим между людьми то невидимое единение, которое именуется культурой.
Похороны Пастернака стали событием в жизни России: они объединили любящих. Сквернос-ловие, устное и письменное, многотиражное и громогласное, не замутило любви.
ПОХОРОНЫ
Мы хоронили старика;
А было все не просто.
Была дорога далека
От дома до погоста.
Наехал из Москвы народ,
В поселке стало тесно,
А впереди сосновый гроб
Желтел на полотенцах.
Там, в подмосковной вышине,
Над скопищем народа,
Покачиваясь, как в челне,
Открыт для небосвода,
В простом гробу,
В цветах по грудь,
Без знамени, без меди
Плыл человек в последний путь,
В соседнее бессмертье.
И я, тот погребальный холст
Перехватив, как перевязь,
Щекою мокрою прирос
К неструганому дереву.
И падал полуденный зной,
И день склонялся низко
Перед высокой простотой
Тех похорон российских*.
* Владимир Корнилов. Похороны. — см. сб. «Возраст». М.: Советский писатель, 1967, с. 73.
"День склонялся низко" перед этими похоронами, имя которых было: Россия… "И более полной, более лучезарной победы свет не видел".
Что же делали в часы лучезарной победы чиновники из Союза Писателей? "Склонялись низко"? Каялись в своем преступлении? Нет. Составляли список литераторов, принявших участие в антисоветском мероприятии. "Вглядывались в окружение".
Нельзя сказать, чтобы руководство Союза Писателей никаких уроков из случившегося не извлекло. За истекшие после гибели Пастернака двадцать лет продолжали истреблять литераторов, не стесняясь: расправились с Бродским, расправились с Даниэлем и Синявским, изгнали Солжени-цына, вынудили уехать десятки писателей и ученых. Беззакония — и раззор — совершались беспрепятственно. Однако — не безгласно. Кроме казенных газетных статеек появилась им в ответ — новая литература. Записи судебных бессудных расправ в шестидесятые годы стали доступны обществу благодаря совместным усилиям Самиздата, западных радиостанций и Тамиздата. Тем, кто в 1958 году называл Пастернака свиньей, подлецом и собакой, пришлось в 1966-м прочитать свои непристойные речи в нью-йоркском "Новом журнале". Да, подлец, и собака, и свинья, и продавшийся — все воспроизведено с помощью типографской машины и выставлено на обозрение и поучение миру, и все имена говоривших обозначены полностью. Конечно, беда не такая уж большая — сюда "Новый журнал" не доходит, а дойдет в одном или в двух экземплярах — можно объявить стенограмму антисоветской фальшивкой, а владельца крамольных экземпляров предать суду за хранение антисоветчины. И все. Память о собрании, на котором топтали Пастернака, приговорена к уничтожению; "на новом этапе", в 1965 году, автор постыдной резолюции, приня-той на собрании 1958 года, он же — глава издательства "Советский писатель" Н.В.Лесючевский, уже выпустил в Большой серии "Библиотеки Поэта" целый том стихотворений — кого бы вы думали? того самого предателя, подлеца, власовца, ненавидевшего наш народ и поставившего большую пушку. Каково-то Николаю Васильевичу, бедняге, издавать эти собачьи стихи? Подписывать договор с составителями? Схватился ли он, увидев сигнальный экземпляр изданного Большой серией тома, за свое больное сердце? Не думаю; "на прежнем этапе" приказано было клеймить Пастернака, он его и клеймил; "на данном" Пастернака издавать, а клеймить других.
А все-таки в шестидесятые годы, когда воскресло русское слово и, не помещаясь в рамках лесючевской цензуры (ни даже в рамках Твардовского "Нового мира"), — выплеснулось наружу тысячами машинописных копий, невзлюбил Союз Писателей исключать своих членов на многолюдных открытых общих собраниях. Осознали все-таки, что время другое, что у каждого исключенного непременно нашлись бы защитники. Вот почему "на новом этапе" стали исключать без общих собраний. Секретариат, Президиум, комната № 8 чем закрытее, тем надежнее, тем меньше шансов для стенограммы или записи вырваться на Запад, оказаться напечатанными или произнесенными по радио.
Солженицына — в тысяча девятьсот шестьдесят девятом — исключили в Рязанском отделении Союза Писателей. Число собравшихся — 6 (шесть!) человек. Виднейшие прозаики Москвы явились тогда к секретарю Московского отделения Воронкову требовать общемосковского собра-ния. Куда там! К чему многолюдство? Решение шестерых рязанцев, молниеносно вынесенное ими по команде сверху, столь же молниеносно утвердил Секретариат.
"Бесстыдно попирая свой собственный устав, вы исключили меня заочно, пожарным поряд-ком, даже не послав мне вызывной телеграммы, даже не дав нужных четырех часов — добраться из Рязани и присутствовать", — писал Александр Солженицын в своем заявлении Секретариату Союза Писателей РСФСР 12 ноября 1969 года.
Он сразу понял нехитрую суть происшедшей перемены: на общем-то собрании уж наверное раздались бы голоса в его защичу (шестидесятые годы не пятидесятые; более девяноста человек своими именами поддержали обращение Солженицына к IV Съезду!). А главное, главное — на общем собрании непременно найдутся такие, которые запишут все происходящее. А почему исключали без него? Да потому, что он-то уж непременно записал бы. И тогда? Что ж тогда? Самиздат, корреспонденты Би-би-си…
""Враги услышат", — продолжал в своем письме Солженицын, — вот ваша отговорка, вечные и постоянные «враги» — удобная основа ваших должностей и вашего существования… Да что б вы делали без «врагов»? Да вы бы и жить уже не могли без «врагов», вашей бесплодной атмосферой стала ненависть, ненависть, не уступающая расовой. Но так теряется ощущение цельного и единого человечества — и ускоряется его гибель"…
"Все-таки вспомнить пора, что первое, кому мы принадлежим, — это человечество. А челове-чество отделилось от животного мира — мыслью и речью. И они естественно должны быть свободными. А если их сковать — мы возвращаемся в животных.
Гласность, честная и полная гласность, — вот первое условие здоровья всякого общества — и нашего тоже. И кто не хочет нашей стране гласности, тот равнодушен к отечеству, тот думает лишь о своей корысти".
Так писал Солженицын в своем письме к Секретариату.
(Странная все-таки логика у этого Солженицына — странная и, безусловно, предательская. Недаром вскоре, когда в 1970 году ему присуждена была Нобелевская премия по литературе, выяснилось, что он (подобно Пастернаку — весь джентльменский набор тот же, установленный раз и навсегда) — 1) предатель, 2) литературный власовец, 3) ест наш хлеб, но ненавидит советс-кий народ, 4) жаждет войны, 5) премия, которой его удостоили, — это вовсе не литературная премия, а плата за предательство те самые знаменитые 3 °Cеребреников… Он продался нашим врагам — своим заокеанским хозяевам. Дышать с ним одним воздухом мы не в состоянии — пусть отправляется туда, где его купили; он вообразил себя фигурой, а между тем он ничтожество; его выжмут, как лимон, и выбросят. Пока он был в окружении Твардовского, некоторым казалось, будто от него чего-то можно ждать, но… те, кто ожидали и курили ему фимиам… и создавали ему ореол… в них надо вглядеться).
Странный все-таки человек этот Солженицын! Требовать от руководителей Союза Писателей заботы о гласности! Честной и полной! В то время как для руководителей Союза нет ничего ненавистнее открытого слова. А он вдруг возьми да и потребуй: "гласность, честная и полная гласность".
В ответ на призыв об открытости все закрытое и закрытое стали Секретариаты и Президиумы. Чем закрытое, тем меньше шансов попасться на зубок гласности. Закрыто исключали и Галича, и Максимова, и Корнилова, и Войновича, и Копелева, и меня — в Москве; в Ленинграде же — Эткинда. Забегая вперед, скажу: 25 апреля 1974 года профессор Е.Г.Эткинд был уволен из Инсти-тута имени Герцена, лишен научного звания и в тот же день исключен из Союза Писателей. История его исключения и вынужденного отъезда из СССР подробно изложена им в книге "Записки незаговорщика"*. Об этом исключении я считаю должным сказать потому, что тут в общепринятом сценарии блеснула новинка. Отсутствие исключаемого? Нет, это случалось и прежде, и даже не раз. Единогласная трусость собравшихся? Этим тоже не удивишь: ведь состоят Секретариаты и Президиумы не из выбранных, а из подобранных людей. Новинкой при исключе-нии Эткинда было, на мой взгляд, открытое участие в деятельности Союза Писателей сотрудников КГБ: на заседании Секретариата присутствовали молодые люди из Большого Дома, и главной мотивировкой для исключения была справка оттуда же. Да здравствует гласность! Эту справку открыто огласил секретарь Ленинградского отделения Союза Писателей Г.К.Холопов.
* Книга вышла в Лондоне в 1977 году, в изд-ве "Overseas Publications Interchange Ltd".
Конечно, Секретариат Союза Писателей и Большой Дом — организации родственные, но обычно родство это стыдливо прикрывалось и уж во всяком случае не демонстрировалось. "Творческий Союз" творил будто бы не только свои книги, но и суды и расправы — самостоятельно, в припадке творческого вдохновения. В случае же с Эткиндом никакой скрытности — все наглядно, открыто, все настежь! — и я от души приветствую этот новый этап.
Начинается откровенный документ, оглашенный на заседании Секретариата первым секретарем творческого Союза, так:
"В поле зрения КГБ Эткинд попал в 1969 году в связи с…"
Вот она наконец долгожданная, полная и честная гласность! Никаких тебе литературных игр: эстетство, декадентство, камерность, не отразил победное шествие и т. д. Сразу быка за рога: "В поле зрения КГБ Эткинд попал в 1969 году в связи с тем, что встречался с Солженицыным…"
Я полагаю, и этого вполне достаточно, чтобы исключить Эткинда из Союза и, лишив степеней и званий, вытолкать за границу. Но нет.
"В ходе проверки этих данных оказалось…" Оказалось: Эткинд был знаком с Солженицыным и даже, по всей вероятности, хранил одно время "Архипелаг ГУЛАГ". Куда уж дальше? Но нет. Оказалось, что этот закоренелый преступник помогал молодым литераторам, поклонникам поэзии Иосифа Бродского, собирать и комментировать его стихи. Но и этого мало. "В ходе проверки" оказалось, что Эткинд отговаривал молодых людей еврейского происхождения уезжать в Израиль.
Вот какие зверские поступки успел совершить профессор Е.Г.Эткинд к апрелю 1974 гада, попав в поле зрения КГБ в 1969 году. Трудно даже вообразить, до каких неистовств дошел бы этот рецидивист, если бы сотрудники КГБ его не разоблачили.
И никто из присутствующих — ни один из писателей, членов Секретариата, не встал, не перебил читающего и не спросил: да не ошиблись ли вы дверью, т. Холопов? Зачем вы предъявля-ете нам, писателям, малограмотную кагебешную справку, основанную на донесениях ваших филеров, на протоколах допросов, на отобранных при обысках частных письмах и дневниках? Читать чужие дневники и письма или слушать выдержки из них мы не желаем: среди порядочных людей это не принято. Да и о чем, собственно, свидетельствуют ваши "следственные материалы", преподносимые вами с такою торжественной важностью? О вздоре. Или, точнее, о естественных, общепринятых, обыденных литературных связях. Для литературы они не вздор, на них-то литера-тура и держится, а мы не виноваты, что в ваших глазах все свободно образующиеся общественные связи, в том числе и литературные, есть уголовщина. Двое молодых литераторов собирали стихо-творения Иосифа Бродского, комментировали их и приходили советоваться о своих комментариях к старшему — Е.Г.Эткинду. Ну и что же? Это уж так в литературе спокон века заведено: собирать стихи и прозу, которые власть почему-либо не желает печатать, — собирать, хранить их и совето-ваться об их качестве и комментировании с кем кому пожелается. Слыхали вы такие слова: "куль-турная преемственность", "литературная школа"? Усвойте. Запомните… Далее в вашей справке написано: "В начале апреля сего года по одному из уголовных дел, возбужденных по фактам размножения и распространения документов…"
Нет, извините, пожалуйста, уголовное дело — это убийство, грабеж, изнасилование, вымога-тельство, карманничество, воровство, кража со взломом, а размножение и распространение документов не может рассматриваться как дело уголовное… Впрочем, я согласна: смотря о каких документах речь? О фальшивых финансовых отчетах? О фальшивых векселях? О подложных доверенностях? Об анонимных письмах с угрозами? Из дальнейшего текста вашей справки выясняется, что в ходе расследования этого уголовного дела были произведены обыски, а в ходе обысков "изъят подготовленный для распространения так называемый пятитомник стихов Бродского". А-а-а! Так вот что — на вашем языке — уголовщина! Вот почему вы гордо заявляете на международных конгрессах, что в Советском Союзе "политических преступников нет, в тюрьмах сидят одни уголовники!" Потому, что собирать стихи неугодного вам поэта вы смеете именовать действием уголовным, собирателей и комментаторов — уголовниками! А почему пятитомник "так называемый"? На самом деле томов было три? Или шесть? Собиратели не точно назвали его пятитомником? "Так называемость" на самом деле вот в чем: создать пятитомник стихотворений поэта есть дело литературное, а вы смеете его называть «уголовным». Уголовщина здесь "так называемая", а собирание стихов, которые тебе полюбились, хотя чем-то и прогневав-ших власть, есть дело литературное. Не смейте вносить путаницу в эти понятия. Собирать, хранить, размножать, распространять произведения искусства — дело братства, дело любви, к уголовщине оно отношения не имеет. Эткинд, видите ли, оставил какие-то пометки на предисло-вии к стихам Бродского! Карманник, форточник, грабитель! Да почитайте вы переписку между писателями девятнадцатого или двадцатого века в России, почитайте воспоминания о писателях — в России и не в России — и вы убедитесь: все они без конца совершали это преступление: делали пометки на чужих рукописях. Все — от Державина и Капниста до Максима Горького и Александра Блока. По собственному желанию выбирали себе, на разных стадиях работы, критиков и редакторов. Устное и письменное общение мастеров и подмастерьев между собой — это и есть воздух литературы. Для того чтобы литература цвела, ей не требуется роскошных гостиных и вестибюлей ЦДЛ; требуется только, чтобы посторонние лапы не лазили в письменные столы. Нету людей, в большей степени нуждающихся в ненарушимой уединенности, чем мы, литераторы, и нету людей, более нуждающихся в общении и в критике, чем мы. Когда книга издана, в свои права вступает читатель, но во время работы литератор сам отбирает себе критиков, наиболее беспощад-ных и честных. В те периоды, когда цензура в России свирепела — как свирепеет она в наши дни, — писатели, кроме ежедневных устных и письменных «пометок», еще и хранили запрещенные рукописи. Хранить помогали читатели. Эта связь писатель, его друзья-писатели, взаимно критикующие друг друга, и читатель, вместе с писателями читающий, критикующий и хранящий литературу от бюрократического бесчинства, — эта волшебная плодоносящая связь никогда и ни на минуту не прерывалась в России. Если бы не этот, выработанный десятилетиями гнета обычай: хранить стихи и прозу, вопреки преследованиям, до нас не дошло бы множество произведений Пушкина, многие стихи Лермонтова (например, "Смерть поэта"), не дошла бы четвертая часть стихотворений Некрасова, треть стихотворений Ахматовой и т. д. и т. п. Этим своим уголовным обычаем — хранить "так называемые" стихи и "так называемую" прозу — русская литература взаправду сохранилась, выжила и жива до сих пор. Даже знаменитый подлец, агент III отделения Фаддей Булгарин — и у того хватило ума сохранить для веков рукопись "Горя от ума" Грибоедо-ва. А уж в двадцатом веке читателей научились так жестоко преследовать и читатели в ответ так искусно научились хранить, как никогда. Хранили, случалось, не в сейфе, не под землей, не на чердаке или в подвале, а в самом надежном укрытии: в памяти. Даже прозу.
"Непризнание произведений Бродского в СССР якобы свидетельствует об отсутствии свободы творчества в нашей стране", — гласит справка из Большого Дома. А о чем, по-вашему, не «якобы», а на самом деле, свидетельствуют арест, постыдный процесс и ссылка Бродского? И преследование его друзей и его стихов до сих пор? О свободе чего бы то ни было или кого бы то ни было в нашей стране?
Ваши рассуждения по поводу документа, именуемого вами "письмом к молодым евреям" и вменяемого Эткинду в вину, носят уж совсем смехотворный характер. Да, уговаривал не уезжать. Ну и что? Сами же вы, КГБ, по 5, по 6 лет не разрешаете уезжать, мучаете граждан, желающих уехать отсюда в Израиль, в Париж или в Америку, не давая им виз и на целые годы лишая работы. "Эткинд призывал их защищать справедливость дома". А чему же, по-вашему, надо обучать молодых людей? Дома или не дома? Защищать не справедливость? Защитников несправедливости и без нас хватает. Вот если бы вы поменьше вмешивались в частную и общественную жизнь наших граждан, в религию, в литературу, в искусство, в науку — вот тогда лиц любого национа-льного происхождения и любой профессии, жаждущих возможно скорее оказаться подальше от вас и навсегда покинуть нашу родину, стало бы гораздо меньше. От чего наша страна сильно выиграла бы… Займитесь-ка, уважаемые гости, своим прямым, делом — охраной государственной безопасности, — а нас оставьте в покое.
Вот что, по-моему, обязаны были бы ответить члены Секретариата представителям Большого Дома, если бы они были не "так называемые", не «якобы», а в самом деле писатели. Но ничего этого члены Секретариата не сказали — и поодиночке, ни хором. А так как никто из членов Секретариата этого не сказал, то все, что было ими сказано, интереса не представляет… Кончались их пустопорожние речи одинаково: "Эткинд своим поведением поставил себя вне Союза Писате-лей". Что ж. Это еще не худшее из возможного. Оказаться за пределами Союза Писателей или даже Советского Союза — участь все-таки более счастливая, чем целой организацией Секретариатом — хотя бы на одну минуту оказаться органом «органов». Органом, созданным «органами» для расправы с литературой.
Эткинда исключали в Ленинграде в апреле. В Москве же, следующим после меня, 20 февраля 1974 года, как и предполагал Солженицын, подвергся исключению Владимир Войнович. Он по вызову Секретариата в комнату № 8 явиться не пожелал. Вместо себя прислал письмо, мгновенно распространившееся в литературном кругу. Письма его — не менее виртуозные произведения искусства, чем повесть о солдате Чонкине или чинодрале Иванько. В будущее собрание сочинений Владимира Войновича они войдут наравне с его другою прозой, особым томом.
Я приведу отрывки из письма Войновича Секретариату: начало, середину и конец.
"Я не приду на ваше заседание, потому что оно будет происходить при закрытых дверях, втайне от общественности, то есть нелегально, а я ни в какой нелегальной деятельности прини-мать участия не желаю.
Нам не о чем говорить, не о чем спорить, потому что я выражаю свое мнение, а вы — какое прикажут".
"…Вы — союз единомышленников… Один ограбил партийную кассу, другой продал казенную дачу, третий положил кооперативные деньги на личную сберкнижку… За двенадцать лет своего пребывания в Союзе я не помню, чтобы хоть один такой был исключен.
Но стоит сказать честное слово (а иной раз просто промолчать, когда все орут), и тут же следует наказание по всем линиям: набор книги, над которой ты работал несколько лет, раскида-ют; пьесу запретят; фильм по твоему сценарию положат на полку. А за этим настанет вполне прозаическое безденежье. И вот ты год не получаешь ни копейки, два де получаешь ни копейки, залез в долги, все, что мог, с себя продал, и, когда дойдет до самого края, и если ты за эти два года слова неосторожного не сказал, к тебе, может быть, снизойдут и подарят двести — триста рублей из Литфонда, чтобы потом всю жизнь попрекать…"
"…Я работаю не меньше вас и не хуже вас. У меня есть читатели и зрители. Не стойте между ними и мной, и я в вашей помощи нуждаться не буду".
"..Ложь — ваше оружие. Вы оболгали и помогли вытолкать из страны величайшего ее гражданина. Вы думаете, что теперь вам скопом удастся занять его место. Ошибаетесь! Места в великой русской литературе распределяются пока что не вами. И ни одному из вас не удастся пристроиться хотя бы в самом последнем ряду".
Я сомневаюсь, чтобы это письмо на Секретариате было прочитано вслух. Но не сомневаюсь, что Владимир Войнович из Союза единомышленников был исключен единогласно.
18 марта 1977 года, следующим после Владимира Войновича, исключили Владимира Корнило-ва. В ответ на вызов он точно к назначенному времени явился в комнату № 8, видевшую уже столько расправ… И, вероятно, процедура эта и на сей раз прошла бы в том же прекрасно отработа-нном и давно окостенелом порядке (двурушник, жалкая фигура, вредитель, продался), Корнилова закидали бы так же гладко обкатанной бранью, если бы… если бы в промежутке между исключе-ниями Владимира Николаевича Войновича и Владимира Николаевича Корнилова не произошло событие, потребовавшее свежих слов. Убили Богатырева.
7
До сих пор я говорила о духовных убийствах. Теперь расскажу об убийстве прямом: о физическом уничтожении.
25 апреля 1976 года, в половине девятого вечера, Константин Петрович Богатырев, знаток русской и германской поэзии, талантливый поэт-переводчик, отдавший последнее десятилетие жизни переводам Райнера Мария Рильке, друг и горячий почитатель Бориса Пастернака и Генриха Бёлля, поэт-переводчик, удостоенный рекомендации в Союз Анной Ахматовой, — ранним апрельским вечером 1976 года Константин Петрович Богатырев возвращался из ближайшего магазина к себе домой, в один из многоэтажных корпусов писательского дома на Красноармейс-кой. В руках у него была сумка с бутылкой сухого вина и каким-то печеньем. Не успел он сделать и двух шагов от двери лифта к дверям своей квартиры, как упал на пол, обливаясь кровью, с проломленной головой. Услышав крик, соседи внесли Константина Петровича в квартиру и вызвали "скорую помощь". «Скорая» доставила Богатырева в больницу. После пятидесяти двух суток тяжелых страданий Константин Петрович скончался.
В газетах ни о нападении на Богатырева, ни о смерти известий не последовало: у нас не принято сообщать об убийствах, если они случаются в Советском Союзе, а не в Штатах. Сообщать о смерти писателя и выражать соболезнование семье и друзьям покойного — принято. "Секрета-риат Московского Отделения Союза Писателей с глубоким прискорбием сообщает о смерти…" В эпитете перед словом «смерть» возможны варианты: безвременной, скоропостижной; возможно также: "после продолжительной и тяжелой болезни имярек — скончался", и уж непременно: Секретариат "выражает глубокое соболезнование семье и друзьям покойного". Вот обычная формула в тех случаях, когда умирает писатель, член Союза. (Или даже, как мы видели, не Союза, а Литфонда — всего лишь.)
О смерти Богатырева, в нарушение обычая, "Литературная Газета" нас не известила и никако-го соболезнования никому — ни матери, ни жене, ни сыну, ни многочисленным друзьям — не выразила.
Эка беда! Не все ли равно? Ведь извещением убитого не воскресишь, а соболезнованием родных и друзей не утешишь. Но невольно задумываешься о причине молчания. Думается, причина та, что трудно составить подходящий к случаю текст. В самом деле, как быть? Секретари-ат "извещает о смерти… имярек… последовавшей после тяжелой болезни"? Не годится: два удара по черепу — это как-никак не болезнь. Написать: "последовавшей после удара по черепу", — нельзя, это значит — известить об убийстве. У нас убийств не бывает. (Конечно, случаются уголовные преступления: например, тот, кто собирает неугодные властям стихи, да еще комменти-рует их, тот — уголовник) Как же, спрашивается, быть? Любимый выход — загнать случившееся в небытие, в немоту. И "Литературная Газета" промолчала.
Однако замалчивание злодейства, как показывает опыт, никогда до добра не доводит. Оно доводит до самозародившихся или нарочно посеянных слухов. С того апрельского дня 1976 года, когда Константин Петрович, выйдя из лифта, упал в двух шагах от своей двери, мы нигде не прочли:
"В поле зрения КГБ (милиции? прокуратуры? уголовного розыска?) убийца писателя Богаты-рева, гражданин такой-то, попал в 1975 году, когда он…"
Выследить преступника, обнаружить и задержать его, доказать его вину и осудить за содеян-ное преступление — это, видимо, гораздо труднее, чем отправить в тюрьму молодого литератора, написавшего к каким бы то ни было стихам какое бы то ни было предисловие.
Розыски начались сразу. Работники следственных органов беседовали с родными, друзьями, знакомыми, соседями Константина Богатырева, с его первой и второй женой, с его сыном, с его матерью, стараясь выяснить, какова была подоплека убийства, основа для нападения. (Ограблен он не был, да и грабить у него было нечего; пьян тоже не был.) Допрашивали в больнице и пострадавшего, в те короткие минуты, когда сознание — или полусознание возвращалось к нему. Убийц (или убийцу) он не видел, удары по голове были нанесены сзади.
К какому заключению пришло или на чем споткнулось и остановилось следствие?
"Гласность, честная и полная гласность"! А мы до сих пор, вплоть до февраля 1978 года, когда я пишу эти строки, не прочли ни в одной газете, не услыхали ни на одном собрании протокол, который начинался бы знаменательными словами:
"В ходе следствия установлено…" Ведется ли следствие или прекращено? Что удалось установить "в ходе"? Неизвестно. Ни бывшим, ни теперешним членам Союза.
Когда гласности нет — люди питаются слухами. Самозарождающимися или распространяемы-ми злонамеренно. Например, такими.
Лето 1976-го. Выйдя однажды за ворота своего сада, встречаю на главной аллее в Переделкине пожилую даму, переводчицу. Я ее не помню. Она говорит, что бывала когда-то по переводческим делам у Корнея Ивановича. Возможно. Кто только у него не бывал! Идем вместе. Теперь она приехала навестить кого-то из своих друзей в Доме Творчества. Не зная, с кем говорю, — говорю о погоде. Лето нынче позднее, вишни еще не расцвели, а обычно в эту пору они уже отцветают…
Внезапно моя спутница делает большие глаза и понижает голос:
— Вы слышали… Богатырев безнадежен… Сначала ему стало лучше… Откуда-то из Германии достали лекарство… Знаете, ведь он всегда был окружен иностранцами… Они и позаботились… Сначала ему сделалось лучше, а теперь — хуже… Вы слышали?
— Да, — говорю, — слыхала. Костя при смерти. Когда случилось несчастье, Лев Зиновьевич Копелев срочно дал знать Генриху Бёллю, а тот срочно, самолетом, прислал сюда лекарство. Они ведь были друзьями: Бёлль и Богатырев. И Копелев… Ведь Богатырев германист. Бёлль с ним дружил, бывал у него, они переписывались.
— Да… Богатырев вечно был окружен иностранцами… Но, говорят, лекарство не помогло, он безнадежен… А вы слышали ли… (взгляд вокруг и полушепотом), вы слышали, теперь уже известно, кто его убил. Вы слыхали?
Я останавливаюсь. Она тоже.
— Нет, — говорю, — не слыхала. Значит, милиция напала-таки на след? Наконец-то?
— Его убили… сахаровцы.
— Кто-о?
— Сахаровцы… ну, знаете, те, кто поддерживает этого… академика.
— Да что вы за чушь порете! — говорю я, скорее удивленная, чем рассерженная. — Какая чушь! Академик Сахаров — и убийство. (В эту минуту я вижу ясно лицо Андрея Дмитриевича, глаза и крупный рот, слышу медленный голос, и мое первое желание — не прикрикнуть на свою собеседницу, а рассмеяться.) Вы что же, никогда не слыхали, что Сахаров — убежденный враг насилия? Как Мартин Лютер Кинг, как Ганди?.. Да и зачем ему убивать Богатырева? Они были в прекрасных отношениях… Что за чушь!
— А затем, — назидательно разъясняет мне дама, — затем убили, чтобы свалить на КГБ.
"Вы дура! — хочется мне закричать. — Вы несчастная, темная, оболваненная дура". Чтоб не сорвались эти грубые слова с моих губ, я поворачиваюсь и, не простившись, иду по аллее обратно. О, какое это любимое и несчастное место — это Переделкино! Ни поле, ни река, ни благоухание сирени, ни сосны — ничто не спасает здесь от злобы и глупости. Стоит только выйти из сада на дорогу — и уж непременно встретишься со зловонною ложью. "Иль в Булгарина наступишь…"
Чтобы унять сердцебиение, я начинаю думать о Сахарове. Не о его подвиге, не о судьбе, не о сути. А — «так». О его покое. Почему от него всегда исходит покой? Потому ли, что он всегда, даже на людях — один?
В речи Сахарова есть сдержанность, некая суховатость, сродни академической. И при этом нечто чуть старинное, народное, старомосковское. Он произносит: «удивилися», «испугалися», «раздевайтеся»… Говорит он замедленно, чуть сбиваясь в поисках точного слова. Перебивать Сахарова легко: каждый из нас говорит быстрее, чем он; но, пожалуй, не следует: перебивая, остаешься в проигрыше. Сахаров легко уступает нить беседы тебе, а сам, затихнув, углубляется в молчание. В мысль. Ахматова, и участвуя в общей беседе, случалось, слагала стихи. О чем бы ни велась беседа вокруг, Сахаров, кажется мне, думает что-то свое. Решает ли он в уме в это время задачи? математические, нравственные, философские? Не знаю. Но он и в шуме наедине со своей спокойной работой.
Я уже почти подошла к калитке.
Каждый раз, взглянув на Андрея Дмитриевича, удивляешься заново, что одна из главных профессий этого молчаливого человека: во весь голос говорить с целым миром. Свойственнее же ему — молчать и думать. Иногда кажется, что он, и присутствуя, отсутствует.
И вдруг, уже подойдя к своей калитке, я поняла, что я-то оборвала разговор, который обязана была продолжить. Имя! Имя сочинителя клеветы!
Я спешу обратно. Я должна нагнать эту клеветоносительницу раньше, чем она успеет скрыться за воротами Дома Творчества!
(С того дня, как меня исключили из Союза, нога моя туда не ступает.)
Я успела.
— Кто вам это сказал? — кричу я, хватая даму за руку. — Сию минуту назовите мне имя!
Она не теряется.
— Я не обязана вам отвечать. Вы не следователь, а я, слава Богу, не какая-нибудь арестантка. Уберите руку. Сказало одно лицо… мне передал муж… одно оч-чень, оч-чень осведомленное лицо из руководства Союза Писателей.
18 июня 1976 года, через несколько дней после этого памятного мне разговора, Константин Богатырев скончался.
18 июня 1976 года два ближайших друга Богатырева, два Владимира Николаевича, Корнилов и Войнович, взявшись за руки, идут по двору писательского дома. Навстречу им Яков Абрамович Козловский, сосед по дому, не с лучшей стороны обрисованный Войновичем в «Иванькиаде».
— Яша, Костя умер, — говорит Корнилов.
— Ах, умер? — кричит Козловский. — Радуйтесь — умер! Вы же его и убили!
Войнович ответил не словами. Корнилов растащил их. (Козловский еще попомнит эту встречу им обоим — и Корнилову и Войновичу, когда настанет день исключения Корнилова из Союза).
Но пока что настает день похорон Константина Богатырева.
Переделкино. Опять Переделкино! Та же кладбищенская гора, увенчанная соснами над могилой Пастернака. Но как с тех пор — с 1960 года! — она горестно обогатилась могилами. На этом кладбище я знаю наизусть все надписи на крестах и надгробьях, все тропы, по которым спускаюсь зимою и летом. Иногда мне кажется, что я знаю даже тропы, проложенные над этим кладбищем вершинами сосен на небе.
Могилы спустились на горе вниз уже почти до самой Сетуни. Кладбище переполнено и считается закрытым. Но любимейшим русским поэтом Кости Богатырева, любимейшим из любимейших был Борис Пастернак. Где же и покоиться Богатыреву, как не на пастернаковском кладбище?
Друзья и родные выпросили, вымолили разрешение похоронить его там, у подножия горы.
Яма, как новая черная рана, чернеет у спуска к Сетуни.
Сколько народу собралось. Костю отпевают в переделкинской церкви и гроб несут на руках вниз, вниз, к черной яме неподалеку от реки.
Мне кажется, за гробом идет все население писательских московских домов и все население переделкинского Дома Творчества и писательских дач. Богатырева любили. Вот-вот должна выйти книга его переводов: стихи Рильке, которого учителем своим почитал Пастернак…* В толпе провожающих узнаю также академика Андрея Дмитриевича Сахарова. А вот из начальства что-то никого не видать. Оно и лучше: нет официальных речей, все говорят по-домашнему, ласково, просто. Я стою у самого гроба. Костино черное, изнутри запекшееся кровью лицо; в тяжело сложенных руках — молитва; венчик на исстрадавшемся лбу. Вслушиваюсь в голоса говорящих. Все говорят с любовью, даже с нежностью. В особенности Айги, чувашский поэт, чью поэзию проповедовал Костя. Ни в одной речи не проскользнуло ни одной риторической, пустой, равно-душной или казенной фразы, ни одного пышного слова. Каждое слово — от сердца. Да, Богаты-рева любили. Говорят о его преданности литературе: русской и германской. Говорят о Костиной независимости, о его таланте, уме. И такой конец! Скоро будет опубликована книга, в которую им вложено было столько труда и таланта, но он уже не возьмет ее в руки.
* Райнер Мария Рильке. Новые стихотворения / Издание подготовили К.П.Богатырев, Г.И.Ратгауз, Н.И.Балашов. М.: Наука, 1977.
Один Войнович печаль одолел гневом и, скорбя об утрате, гневом ответил на оскорбление, нанесенное ему и друзьям.
Говорил он решительно, энергически, твердо, даже вызывающе:
— Убийство Богатырева, — сказал он, — это еще одна попытка запугать интеллигенцию. При Сталине Богатырев был приговорен к смертной казни. Высшую меру наказания заменили ему двадцатью пятью годами. Сталин умер — и Богатырев просидел только пять. Недавно мы, друзья его, праздновали вместе с ним окончание того, предполагаемого двадцатипятилетнего срока. Но приведенным в исполнение оказался первый приговор: к смерти. Костю убили. Мы узнаем эту руку, этот почерк знаком нам…
…Речи кончились. Началось прощание. Родные и друзья по очереди склоняются над черным лицом.
Крошечная девяностолетняя Костина мать. (Зачем дожила она до этого часа?) Высокий юноша — тоже, как и отец, Костя, — в отличие от отца именуемый "маленький Костя", хотя редко встречаются юноши такого непомерно высокого роста.
Сегодня "маленький Костя" хоронит отца, завтра у него экзамен на аттестат зрелости.
Прощание. Вереница прощающихся. Яма. Поблескиванье, позваниванье лопат. Комья земли. Нет более Костиного лица. Округлый холм живых цветов. Здесь, на этом месте, когда-нибудь поднимется плита со стихами великого германского поэта, звучащими по-русски.
Я благодарна Войновичу за слово «мы». "Мы узнаем"… "Мы помним"… Верно или нет высказанное им предположение, но слова «мы», «нам» — дорогие слова. Может быть, и правда — интеллигенция еще существует? Не вся вымерла, не вся посажена, не вся в отъезде? Я оглянулась кругом. «Нас» много. Костя был рожденный литератор, он литературой дышал, и сколько литера-торов с любовью пришли проводить его. Но когда толпа, истомленная жарой, редея, разбиваясь на ручейки, медленно потекла от могилы к шоссе (кто искать машину, кто к себе на дачу, кто на станцию) — стало видно, что "не нас" тоже много.
Мы медленно идем по освещенному солнцем краю косогора к шоссе. Справа, внизу, река Сетунь. Слева — кладбищенская гора, увенчанная соснами над могилой Пастернака. Между горой и рекой почти уже нету места: ограды, ограды, кресты, надгробья, плиты, памятники. Привалясь жирными спинами к оградам, руки в карманы, в цветных рубахах стоят пустоглазые парни. Им скучно. У них сонные лица. Все, что надо, они уже выслушали, высмотрели, они готовы к докладу, и до смерти охота в пивную, они, позевывая, привалились к оградам. Не было бы оград — без стеснения привалились бы к крестам, к надгробиям. Жара. Стоять тяжело; они полежат на оградах.
Медленно, поределой толпой идем мы к шоссе. И вдруг позади меня ясный женский голос:
— Вот — поглядите на них! Они и убили.
У, как быстро распрямились и отклеились от оград жирные спины, как лихо завертелись шеи, как выбросились из карманов кулаки!
"Кто сказал?"
— А кто сказал?
Я не знаю, кто сказал. Я не знаю, кто убил. Но я знаю: до тех пор, пока убийство Богатырева не будет расследовано, раскрыто и предано гласности, — каждый день будут возникать новые версии. Сделать так, чтоб люди не думали, не размышляли, не высказывали свои предположения — на ухо друг другу или вслух перед толпой, — невозможно. И я тоже хочу поделиться с читате-лем открыто, вслух, вот какой небогатой идеей. Михаил Хейфец, написавший предисловие к «ущербным» стихам Иосифа Бродского (даже КГБ не называет их антисоветскими), — Михаил Хейфец был обнаружен, схвачен и приговорен к четырем годам лагеря и двум годам ссылки с необычайным проворством. Соответствующие органы предупредили страшное преступление: подумать только, если бы они вовремя не выследили преступника — ущербные стихи, чего доброго, дошли бы до читателя. Но благодаря их бдительности и проворству Михаил Хейфец на основании соответствующей статьи Уголовного кодекса четвертый год сидит в тюрьме. Почему же проявлена такая медлительность, когда дело идет о настоящей уголовщине, об убийстве? Почему третий год мы ждем, ждем и ни единого звука не слышим о ходе следствия? Не наносит ли такое положение вещей настоящий ущерб нашему обществу: литератор за решеткой, а неведомый убийца — на воле? Не лучше ли наоборот?
Кто убил Богатырева?
Недавно выяснилось, что его вообще не убивал никто. Как это — никто? Значит — Костя жив? Кого же мы хоронили? Может быть, приснились мне эти похороны?
Со дня похорон Богатырева (20 июня 1976) и ко дню исключения из Союза Писателей Влади-мира Корнилова (18 марта 1977) возникла новая версия: Богатырева никто не убивал. Это и была та новость, которая овеяла свежестью очередное мероприятие в комнате № 8. Что ж! Через несколько лет мы, быть может, узнаем, что никакого Константина Петровича Богатырева никогда и на свете не было, а те, кто осмелится утверждать, что он все-таки был, продались заокеанским хозяевам и занимаются фабрикацией антисоветских фальшивок.
8
Действующие лица: председатель — Ф. Кузнецов, члены Секретариата Алексеев, Амлинс-кий, Грибачев, Кобенко, Козлов, Козловский, Колесников, Куняев, Львов, Медников, Михайлов, Наровчатов, Прилежаева, Проскурин, Разумневич, Рекемчук, Самсония. Исключаемый: Владимир Корнилов. Место действия: Центральный Дом Литераторов, комната № 8. Время действия: 18 марта 1977 года.
Исключают Корнилова за то же, за что исключали всех, начиная с Пастернака: придя в отчаянье от невозможности вслух выговаривать свои мысли и чувства на родине, у себя дома, он начал публиковать повести, романы, стихи за границей. Это раз, это первая, главная, никому не прощаемая вина. Главная мука, на которую обрекают писателя. Задавись, умри, но не печатайся на Западе!.. Но укажите нам другую дорогу к родному читателю — не через Запад, а прямо! — и мы пойдем по ней! В 1974 году на Западе была опубликована повесть Корнилова "Девочки и дамоч-ки". Она была когда-то, еще при Твардовском, принята к печати в "Новом мире", набрана, но прирезана цензурой. Это повесть о женщинах, рывших противотанковые рвы под Москвой в 41-м году. О неказистой и беспомощной гибели, в которой победа. Затем, снова не у нас, а на Западе, Корнилов опубликовал роман «Демобилизация»; техник-лейтенант, уже отслуживший немало, хочет вырваться из казармы куда-то — он еще и сам не знает куда! но к живой человеческой жизни. Роман этот, на мой взгляд, следовало бы озаглавить «Мобилизация»; люди, падая, валясь на четыре ноги, снова поднимаются на две, и снова падают, и снова встают, и даже, случается, заставляют себя распрямляться. Это роман о духовной мобилизации.
На первый, поверхностный взгляд, проза Корнилова завалена — даже захламлена! — бытом. А глянешь глубже, поймешь: сквозь быт он ведет своих героев к бытию. От приниженности и даже скотства — к человеческому достоинству и чистоте. К человеческой любви — от той, что лишена человечности.
Роман появился за рубежом. А затем — в 1975 году, в № 5 журнала «Континент», появились и новые стихи Корнилова. Уж такие, уж такие «ущербнье»: о расстреле Гумилева, например*.
* Теперь стихотворение В.Корнилова о расстреле Гумилева напечатано дома. См.: Новый мир, 1988, N 8, с. 161. — Примеч. 1988 года.
Напечатаны также и названные Лидией Чуковской повесть Владимира Корнилова "Девочки и дамочки" (в журнале "Дружба народов", 1990, № 5) и его роман «Демобиизация» (в журнале «Звезда», 1990, № 7-10, и в том же году отдельным изданием — в изд-ве "Московский рабочий"). — Примеч ред. 1997 года.
Кроме печатания на Западе вторая провинность Корнилова: заступничество. Он открыто, вслух не раз и не два заступался за преследуемых литераторов и не литераторов.
Самосуд начался. Разумеется, выявилось быстро, что Корнилов предатель, двурушник, продался заграничным хозяевам за деньги и не соображает, глупец, что по миновании надобности хозяева выжмут его как лимон, и выбросят. Главный двигатель всех его поступков — не трагедия писателя, которого насильно разлучают с читателем, а тщеславие.
Впрочем, пересказывать все перипетии самосуда я не стану: изобретательности никакой. Приведу немногое.
Наровчатов и Михайлов признаются, что когда-то находили стихи Корнилова свежими. Они не предвидели, как низко он впоследствии падет, и, грешным делом, хвалили его в печати.
Но уж при исключении — не до похвал.
Кунаев: Я знаю Корнилова давно. Уже в его ранней поэме проявлялись сионистские тенден-ции. В нем самом я всегда замечал непомерное тщеславие. Ему хотелось прославиться. Он поднял руку на Советскую власть.
Грибачев, Наровчатов и Амлинский отметили, что Корнилов явно жаждет исключения из Союза и что сегодня происходит не исключение, а самоисключение.
Корнилов этого не опровергает.
Грибачев пророчествует, что близок день, когда Корнилов так же продаст своих нынешних заокеанских хозяев, как сейчас продал Советскую власть за тамошние заокеанские миллионы.
Рекемчук возмущен романом «Демобилизация».
— Это ужасный роман. Корнилов оскорбляет Советскую Армию. Я знаю, по чьему заданию написан роман. По заданию Солженицына!
(Солженицын, со дня своего отсутствия, неизменно присутствует при любом исключении.)
Медников: Мы все говорим об антисоветчине. Это неверно. Говоря о Корнилове, следует говорить об антикоммунизме.
Козлов: Мы слишком добры и долготерпеливы.
(Читатель! При исключении Пастернака чуть не хором раскаивались все в своей излишней долготерпеливости. При моем исключении тоже скорбели о своем затянувшемся милосердии. Исключают писателей разных, а мелют одно.)
…Женственное начало на этот раз представлено Марией Павловной Прилежаевой. Она сразу заявляет, что никогда не читала ни единой строчки Корнилова и вообще, идя на Секретариат, ведать не ведала, кого будут исключать.
Прилежаева: Сколько вам лет, чем занимаются ваши родители, есть ли у вас дети, женаты ли вы, на какие средства живете?
Корнилов: На эти вопросы я отвечать не стану. Эта вопросы следственные, полицейские… Я-то ведь не спрашиваю вас, сколько вам лет.
Кузнецов: Вы, Владимир Николаевич, когда мы исключили Чуковскую, в своем письме в Секретариат обвиняли нас в грубости. А теперь сами грубы.
Корнилов: Ладно, скажу. Родился в Днепропетровске в 1928 году, женат, у меня есть дети, а родители мои пенсионеры.
Прилежаева: На какие деньги вы живете?
Корнилов: На заработанные.
Тут М.П.Прилежаева смолкла. Но изредка на заседании среди мужских речей раздавались ее женственные возгласы:
— Ах, это ужасно, ужасно! Ведь у него есть дети! Они ходят в школу, они несут туда антисо-ветскую заразу. Что же будет с его детьми. Мы обязаны подумать о его детях! Если дети не верят ему — они проклянут своего отца! Это трагедия! Если же они воспримут его антисоветскую пропаганду — это тоже ужасно! Они будут ее распространять. Товарищи, мы обязаны подумать о детях.
Прерываемое материнскими воплями, заседание, однако, продолжалось.
Мих. Алексеев: Я хочу вас спросить, где вы были в 41-м году? Где был ваш отец?
Корнилов: Мне в 41-м году было тринадцать лет. Я был в эвакуации, в Сибири. А мой отец на фронте.
Мих. Алексеев: А я в это время был комроты… Я кровь свою проливал под Сталинградом! И вот какого поганца и мерзавца мы вырастили.
Разумневич: К нам давно ходят писатели и спрашивают, почему до сих пор не исключен Корнилов.
Корнилов: Назовите, кто к вам приходил и требовал моего исключения. Назовите имена.
Разумневич: Многие…
Корнилов: Назовите хоть одно имя!
Разумневич: Многие требуют. Например, вот тут сидит один мой друг… До чего эти диссиден-ты дошли! Они дерутся между собою, оспаривая первенство: кто первый начал порочить Советс-кую власть. А сами избивают детей. Вот до чего дошло!
Корнилов: Кто — избивает детей? Кто бьет детей? Назовите имя!..
Молчание.
— Вы лжете. Никто детей не избивает. А вот Богатырева убили, убили нашего товарища, писателя, члена Союза Писателей. А ваш Союз палец о палец не ударил, чтобы вступиться и требовать раскрытия убийства.
Тут поднялся вой, вопль, визг.
Хор: Опять о Богатыреве! Что они все время о Богатыреве! Корнилов намекает, что Богатырева убил КГБ или Союз Писателей. А Богатырева вообще не убивали.
(Читатель! Вот это и есть самая оглушительная новость, объявленная при исключении Корнилова. Предсказываю следующий этап: никакой Богатырев никогда и не жил на белом свете.)
Корнилов: Ваш секретарь Верченко сказал, что дело об убийстве Богатырева будет расследовано и убийцы наказаны строжайше.
А теперь вы говорите — не убивали?
Богатырева убили, а Союз Писателей ничего не сделал, чтобы побудить власти найти убийц.
Тут и встал Козловский. Самое время свести счеты с Корниловым и Войновичем.
Козловский: Он говорил, он говорил про КГБ. Корнилов что, а вот Войнович! Это Войнович, мерзавец, его вовлек. Войнович и меня в своей «Иванькиаде» грязью облил. Он там и Турганова грязью облил. Он написал, будто Турганов до войны в Киеве восемнадцать переводчиков доносами посадил, а в Киеве до войны не было восемнадцати переводчиков. Войновича надо привлечь за клевету. А Турганов замечательный человек. А Корнилов говорил про КГБ.
Грибачев (радостно): Найдется еще один свидетель — и Корнилова можно будет привлечь к ответственности! и он получит не менее пяти лет…
Корнилов, когда ему предоставили слово, сказал:
— Если Союз Писателей творческая организация, то состоять в ней я считаю возможным. Потому что я писатель. Принадлежность к Союзу не должна лишать меня права иметь свое собственное мнение и его открыто высказывать: права писать, о чем я хочу, и печатать, где хочу. Но если вы полагаете, что член Союза не имеет права на свое собственное мнение…
Хор: Советский писатель, советский писатель, не просто писатель, а советский…
Корнилов: Если вы полагаете, что член Союза не имеет права на собственное мнение, то в этом Союзе я состоять не могу.
С детского сада и до Союза Писателей я никогда не был начальником. Я никогда не брал на себя право решать судьбу других людей. Но как писатель я не мог не бороться с несправедливос-тью. Я вам должен напомнить, что в истории русской литературы существуют две традиции: традиция писательского гуманизма и традиция аппаратно-чиновничьего вмешательства в литера-туру и в конце концов удушения ее. Очевидно, мы наследовали с вами разные традиции… Я одну, вы другую.
Крики: Он говорит прямо на «Голоса»… Вы говорите прямо на враждебные радиостанции…
Корнилов (разрывая в клочки свой блокнот): Я мог сюда не прийти. Но я сюда пришел. Я знал, что вы будете нарочно себя распалять, чтобы в конце концов сказать то, что вам велено. Но все-таки я сюда пришел. Пришел потому, что писатель не имеет права отказываться ни от какого жизненного материала, тем более от того, который сам плывет к нему в руки.
Вы любите нас учить, что надо окунаться в жизнь, ездить в творческие командировки? Прекрасно.
Я никогда никаких творческих командировок не брал и считаю и вас прошу считать, что мой приход сюда, к вам, взглянуть на вас — это и есть моя первая и моя последняя творческая командировка.
…Следующим после Владимира Корнилова, 24 марта 1977 года, исключали из Союза Писателей Льва Копелева.
В отличие от Владимира Николаевича, Лев Зиновьевич не воспользовался предоставленной ему командировкой в комнату № 8. У Копелева за плечами арест во время войны, лагерь, шараш-ка; и пересмотр дела, и два суда, и гражданская реабилитация; и восстановление в партии, и новое исключение из партии… Прибавлять к накопленному опыту лицо Грибачева, голос Медникова, мысли Самсония или Разумневича он не испытал потребности. На них и на им подобных — в армии, — в тюрьме, на лагпунктах — он нагляделся вдоволь.
Лев Копелев отправил в Секретариат письмо. Приведу отрывки:
"Я не сомневаюсь в исходе вашего заседания и даже могу ясно представить себе, что именно будут говорить ораторы".
"Ритуал моего исключения призван лишь оформить фактическое отстранение от литературной работы, которому я подвергаюсь почти десять лет".
"Зачем нужны административные расправы с литераторами?"
"Неужели зачинщики этих расправ настолько оскудели памятью и воображением, что хотят заново разыгрывать старые трагедии, и не сознают, как сами при этом оказываются персонажами бездарных фарсов?"
(Не сознают. Лев Зиновьевич, не сознают. У бюрократии, как у всякого мещанства, памяти нет. Память — орудие преемственности, орудие духовной культуры. Они же вне культуры. Они посторонние. Союз Писателей давно пора переименовать в Союз Посторонних.)
Следующим после Льва Копелева исключили… Впрочем, нет.
Эту грустную книгу о попытках вгонять писателей в небытие, исключать из литературы, из читательского сознания и памяти я хочу окончить победно и радостно. Нет, не только глубоким моим убеждением, что чем упорнее заталкивают писателя в несуществование, тем громче звучит его голос, тем вернее он побеждает. Я хочу закончить эту грустную книгу радостным известием об исключении из Союза Писателей — кого бы вы думали? Кого-нибудь из нас? Нет. Об исключении Союза Писателей из литературы. Известием об исключении всех этих Секретариатов и Правлений.
Георгий Владимов, автор повести "Большая руда", некогда напечатанной в "Новом мире", и романа "Три минуты молчания", тоже впервые напечатанного в "Новом мире", автор письма IV Съезду Писателей (одного из самых сильных писем, прозвучавших в защиту Солженицына, — и в тысячах экземпляров размноженного Самиздатом), автор повести "Верный Руслан", опубликован-ной за границей, член Союза Писателей за номером 1471, - писатель Георгий Владимов сам сорвал с себя номер*.
* Повесть "Верный Руслан" опубликована в Советском Союзе в 1989 году в журнале «Знамя», № 2; письмо IV Съезду Писателей — в журнале «Смена», 1989, № 22.
Привожу два отрывка из письма Георгия Владимова в Правление Союза Писателей СССР:
"…Как заведомо отвергаются проекты вечного двигателя, так должно отбросить все попытки руководить литературным процессом. Литературой управлять нельзя. Но можно помочь писателю в его труднейшей задаче, а можно и повредить. Могучий наш союз неизменно предпочитал второе, бывши — и оставаясь — полицейским аппаратом, вознесшимся высоко над писателями и из которого раздаются хриплые понукания и угрозы — и если б только — они!
Не стану зачитывать присталинский список — кому Союз, вернейший проводник злой воли власть предержащих, да со своей еще ревностной инициативой, первоначально оформил дела, обрек на мучения и гибель, на угасание в десятилетиях несвободы, — слишком, длинен, более шестисот имен, — и вы оправдаетесь: это ошибки прежнего руководства. Но при каком руковод-стве — прежнем, нынешнем, промежуточном — «поздравляли» с премией Пастернака, ссылали — как тунеядца — Бродского, зашвыривали в лагерный барак Синявского и Даниэля, выжигали треклятого Солженицына, рвали из рук Твардовского журнал?
И вот, еще не просохли хельсинкские чернила, новые кары — изгон моих коллег по междуна-родному ПЕН-клубу. Да что нам какой-то там ПЕН, когда уж мы двух нобелевских лауреатов высвистели! И как не воскликнуть словами третьего: "Лучших сынов Тихого Дона поклали вы в эту яму!"
Ну, может быть, хватит? Опомнимся? Ужаснемся?"
Далее Георгий Владимов говорит о Фадееве, который опомнился, ужаснулся и пустил себе пулю в лоб. Но эта пуля никого не вразумила.
Он продолжает:
"Вот предел необратимости: когда судьбами писателей, чьи книги покупаются и читаются, распоряжаются писатели, чьи книги не покупаются и не читаются.
Унылая серость с хорошо разработанным инструментом словоблудия, затопляющая ваши правления, секретариаты, комиссии, лишена чувства истории, ей ведома лишь жажда немедленно-го насыщения. А эта жажда — неутолима и неукротима.
Оставаясь на этой земле, я в то же время не желаю быть с вами. Уже не за себя одного, но и за всех, вами исключенных, «оформленных», к уничтожению, к забвению, пусть не уполномочивших меня, но, думаю, не ставших бы возражать, я исключаю вас из своей жизни. Горстке прекрасных, талантливых людей, чье пребывание в вашем союзе кажется мне случайным и вынужденным, я приношу сегодня извинения за свой уход. Но завтра и они поймут, что колокол звонит по каждому из нас и каждым этот звон заслужен: каждый был гонителем, когда изгоняли товарища, — пускай мы не наносили удара, но поддерживали вас — своими именами, авторитетом, своим молчаливым присутствием.
Несите бремя серых, делайте, к чему пригодны и призваны, — давите, преследуйте, не пущай-те. Но — без меня.
Билет № 1471 возвращаю.
Георгий Владимов.
Москва, 10 октября 1977 г."
"Я исключаю вас из своей жизни", — говорит Георгий Владимов руководству Союза Писате-лей и без укора, без негодования и злобы зовет каждого литератора сделать то же. Оставаясь при этом в родном доме. На родной земле*.
* В 1983 году Георгий Владимов, после двух инфарктов, постоянной слежки и обысков, вынужден был вопреки своему прежнему призыву покинуть Советский Союз.
…Чем же должен кончиться "процесс исключения"? Исключением Союза Писателей. Здесь, на нашей земле, это воистину союз посторонних. Но произойдет это желанное исключение только тогда, когда каждый сам пожелает исключить Союз из своей жизни. Когда каждый писатель поймет, что держаться ему не за членский билет, а за братскую руку. Работать ему не для Союза Писателей и не для его органов печати — рупоров лжи, — а работать в литературе во имя спасе-ния обманутых.
Читатель найдет нас, прочтет, поймет, услышит — мы остаемся верны ему только тогда, когда остаемся верны себе.
"Совершим с твердостью наш жизненный подвиг, — писал Баратынский Плетневу в 1831 году. — Дарование есть поручение. Должно исполнить его, несмотря ни на какие препятствия, а главное из них — унылость".
Каждому его поручение известно. Для того же, чтобы исключить из своей жизни — и глубже: из своей души! — и шире: из литературы! — Союз Писателей со всей его гноящейся, смрадной ложью, нам, исключенным, не требуется, к счастью, ни сговора, ни собраний, ни резолюций. Это акт нашей личной воли. Каждого из нас поодиночке и всех нас — вместе.
Перед каждым перо и бумага. У каждого есть брат — любящий, правдивый, строгий, смелый. Он не покинул нас и, если мы окажемся того достойны, — не покинет.
Забудем о залах Центрального Дома Литераторов. Научимся видеть в темноте: братство — рядом.
Октябрь 1977 — февраль 1978
Москва — Переделкино
От автора
Эта книга писалась в разные годы. Первая ее часть, автобиографическая, написана в 1974 году, непосредственно после того, как меня исключили из Союза. Вторая часть ("Глава дополнитель-ная") писалась в 1977–1979 годах, и речь в ней идет уже не обо мне одной. Кончается книга откры-тым письмом Георгия Владимова, который сам отказался от членства в Союзе. Владимов объявил, что исключает Союз Писателей из своей жизни и зовет других, оставаясь на родной земле, последовать его примеру.
Этот призыв — будет ли он услышан или нет — я считаю весьма знаменательным. Если он найдет себе отклик, тогда и начнется истинный, естественный очистительный "процесс исключения".
Л. Ч.
12 марта 1978
P. S. Книга эта была издана в Париже в 1979 году в издательстве «YMCA-Press». Очерк литературных нравов шестидесятых — семидесятых годов. Сегодня у нас январь 1989-го. Миновало десятилетие — и какое! Изменились ли литературные нравы? И да и нет. Конечно, да: не могли они не измениться — с 1985 года во весь голос заголосила гласность, еле слышен шепоток цензуры. Однако нет: ведомство, именуемое Союзом Писателей, сохранено во всей своей антилитературной, грубой, бюрократической мощи. А потому, на мой взгляд, страницы книги сохраняют и по сей день не один лишь исторический интерес.
Пусть читатель отнесется снисходительно к изобилию новых примечаний. Рассказ остался нетронутым, а фактические перемены, продиктованные временем, пришлось указывать под строкой.
P. P. S. Еще через месяц — в феврале 1989 года — меня официально уведомили, что партком и Секретариат Московского отделения СП РСФСР единогласно — столь же единогласно, сколь исключали! — отменил свое прежнее решение от 9 января 1974 года, и, таким образом, я снова являюсь членом Союза Писателей.
Л.Ч.
Декабрь 1989


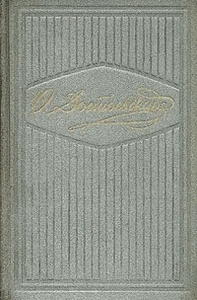
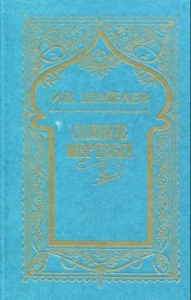
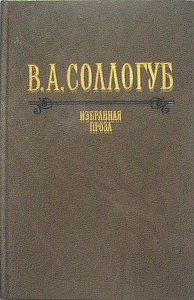
Комментарии к книге «Процесс исключения», Лидия Корнеевна Чуковская
Всего 0 комментариев