Неприятность
Земский врач Григорий Иванович Овчинников, человек лет тридцати пяти, худосочный и нервный, известный своим товарищам небольшими работами по медицинской статистике и горячею привязанностью к так называемым бытовым вопросам, как-то утром делал у себя в больнице обход палат. За ним, по обыкновению, следовал его фельдшер Михаил Захарович, пожилой человек, с жирным лицом, плоскими сальными волосами и с серьгой в ухе.
Едва доктор начал обход, как ему стало казаться очень подозрительным одно пустое обстоятельство, а именно: жилетка фельдшера топорщилась в складки и упрямо задиралась вверх, несмотря на то что фельдшер то и дело обдергивал и поправлял ее. Сорочка у фельдшера была помята и тоже топорщилась; на черном длинном сюртуке, на панталонах и даже на галстуке кое-где белел пух… Очевидно, фельдшер спал всю ночь не раздеваясь, и, судя по выражению, с каким он теперь обдергивал жилетку и поправлял галстук, одежа стесняла его.
Доктор пристально поглядел на него и понял, в чем дело. Фельдшер не шатался, отвечал на вопросы складно, но угрюмо-тупое лицо, тусклые глаза, дрожь, пробегавшая по шее и рукам, беспорядок в одежде, а главное – напряженные усилия над самим собой и желание замаскировать свое состояние, свидетельствовали, что он только что встал с постели, не выспался и был пьян, пьян тяжело, со вчерашнего… Он переживал мучительное состояние «перегара», страдал и, по-видимому, был очень недоволен собой.
Доктор, не любивший фельдшера и имевший на то свои причины, почувствовал сильное желание сказать ему: «Я вижу, вы пьяны!» Ему вдруг стали противны жилетка, длиннополый сюртук, серьга в мясистом ухе, но он сдержал свое злое чувство и сказал мягко и вежливо, как всегда:
– Давали Герасиму молока?
– Давали-с… – ответил Михаил Захарыч тоже мягко.
Разговаривая с больным Герасимом, доктор взглянул на листок, где записывалась температура, и, почувствовав новый прилив ненависти, сдержал дыхание, чтобы не говорить, но не выдержал и спросил грубо и задыхаясь:
– Отчего температура не записана?
– Нет, записана-с! – сказал мягко Михаил Захарыч, но, поглядев в листок и убедившись, что температура в самом деле не записана, он растерянно пожал плечами и пробормотал: – Не знаю-с, это, должно быть, Надежда Осиповна…
– И вчерашняя вечерняя не записана! – продолжал доктор. – Только пьянствуете, черт вас возьми! И сейчас вы пьяны, как сапожник! Где Надежда Осиповна?
Акушерки Надежды Осиповны не было в палатах, хотя она должна была каждое утро присутствовать при перевязках. Доктор поглядел вокруг себя, и ему стало казаться, что в палате не убрано, что все разбросано, ничего, что нужно, не сделано и что все так же топорщится, мнется и покрыто пухом, как противная жилетка фельдшера, и ему захотелось сорвать с себя белый фартук, накричать, бросить все, плюнуть и уйти. Но он сделал над собою усилие и продолжал обход.
За Герасимом следовал хирургический больной с воспалением клетчатки во всей правой руке. Этому нужно было сделать перевязку. Доктор сел перед ним на табурет и занялся рукой.
«Это вчера они гуляли на именинах… – думал он, медленно снимая повязку. – Погодите, я покажу вам именины! Впрочем, что я могу сделать? Ничего я не могу».
Он нащупал на вспухшей, багровой руке гнойник и сказал:
– Скальпель!
Михаил Захарыч, старавшийся показать, что он крепко стоит на ногах и годен для дела, рванулся с места и быстро подал скальпель.
– Не этот! Дайте из новых, – сказал доктор.
Фельдшер засеменил к стулу, на котором стоял ящик с перевязочным материалом, и стал торопливо рыться в нем. Он долго шептался о чем-то с сиделками, двигал ящиком по стулу, шуршал, что-то раза два уронил, а доктор сидел, ждал и чувствовал в своей спине сильное раздражение от шепота и шороха.
– Скоро же? – спросил он. – Вы, должно быть, их внизу забыли…
Фельдшер подбежал к нему и подал два скальпеля, причем не уберегся и дыхнул в его сторону.
– Это не те! – сказал раздраженно доктор. – Я говорю вам русским языком, дайте из новых. Впрочем, ступайте и проспитесь, от вас несет, как из кабака! Вы невменяемы!
– Каких же вам еще ножей нужно? – спросил раздраженно фельдшер и медленно пожал плечами.
Ему было досадно на себя и стыдно, что на него в упор глядят больные и сиделки, и, чтобы показать, что ему не стыдно, он принужденно усмехнулся и повторил:
– Каких же вам еще ножей нужно?
Доктор почувствовал на глазах слезы и дрожь в пальцах. Он сделал над собой усилие и проговорил дрожащим голосом:
– Ступайте проспитесь! Я не желаю говорить с пьяным…
– Вы можете только за дело с меня взыскивать, – продолжал фельдшер, – а ежели я, положим, выпивши, то никто не имеет права мне указывать. Ведь я служу? Что ж вам еще? Ведь служу?
Доктор вскочил и, не отдавая себе отчета в своих движениях, размахнулся и изо всей силы ударил фельдшера по лицу. Он не понимал, для чего он это делает, но почувствовал большое удовольствие оттого, что удар кулака пришелся как раз по лицу и что человек солидный, положительный, семейный, набожный и знающий себе цену покачнулся, подпрыгнул, как мячик, и сел на табурет. Ему страстно захотелось ударить еще раз, но, увидев около ненавистного лица бледные, встревоженные лица сиделок, он перестал ощущать удовольствие, махнул рукой и выбежал из палаты.
Во дворе встретилась ему шедшая в больницу Надежда Осиповна, девица лет двадцати семи, с бледно-желтым лицом и с распущенными волосами. Ее розовое ситцевое платье было сильно стянуто в подоле, и от этого шаги ее были очень мелки и часты. Она шуршала платьем, подергивала плечами в такт каждому своему шагу и покачивала головой так, как будто напевала мысленно что-то веселенькое.
«Ага, русалка!» – подумал доктор, вспомнив, что в больнице акушерку дразнят русалкой, и ему стало приятно от мысли, что он сейчас оборвет эту мелкошагающую, влюбленную в себя франтиху.
– Где это вы пропадаете? – крикнул он, поравнявшись с ней. – Отчего вы не в больнице? Температура не записана, везде беспорядок, фельдшер пьян, вы спите до двенадцати часов!.. Извольте искать себе другое место! Здесь вы больше не служите!
Придя на квартиру, доктор сорвал с себя белый фартук и полотенце, которым был подпоясан, со злобой швырнул то и другое в угол и заходил по кабинету.
– Боже, что за люди, что за люди! – проговорил он. – Это не помощники, а враги дела! Нет сил служить больше! Не могу! Я уйду!
Сердце его сильно билось, он весь дрожал и хотел плакать, и, чтобы избавиться от этих ощущений, он начал успокаивать себя мыслями о том, как он прав и как хорошо сделал, что ударил фельдшера. Прежде всего гадко то, думал доктор, что фельдшер поступил в больницу не просто, а по протекции своей тетки, служащей в нянюшках у председателя земской управы (противно бывает глядеть на эту влиятельную тетушку, когда она, приезжая лечиться, держит себя в больнице, как дома, и претендует на то, чтобы ее принимали не в очередь). Дисциплинирован фельдшер плохо, знает мало и совсем не понимает того, что знает. Он нетрезв, дерзок, нечистоплотен, берет с больных взятки и тайком продает земские лекарства. Всем также известно, что он занимается практикой и лечит у молодых мещан секретные болезни, причем употребляет какие-то собственные средства. Добро бы это был просто шарлатан, каких много, но это шарлатан убежденный и втайне протестующий. Тайком от доктора он ставит приходящим больным банки и пускает им кровь, на операциях присутствует с неумытыми руками, ковыряет в ранах всегда грязным зондом – этого достаточно, чтобы понять, как глубоко и храбро презирает он докторскую медицину с ее ученостью и педантизмом.
Дождавшись, когда пальцы перестали дрожать, доктор сел за стол и написал письмо к председателю управы: «Уважаемый Лев Трофимович! Если, по получении этого письма, ваша управа не уволит фельдшера Смирновского и не предоставит мне права самому выбирать себе помощников, то я сочту себя вынужденным (не без сожаления, конечно) просить вас не считать уже меня более врачом N-ской больницы и озаботиться приисканием мне преемника. Почтение Любовь Федоровне и Юсу. Уважающий Г. Овчинников». Прочитав это письмо, доктор нашел, что оно коротко и недостаточно холодно. К тому же почтение Любовь Федоровне и Юсу (так дразнили младшего сына председателя) в деловом, официальном письме было более чем неуместно.
«Какой тут к черту Юс?» – подумал доктор, изорвал письмо и стал придумывать другое. «Милостивый государь…» – думал он, садясь у открытого окна и глядя на уток с утятами, которые, покачиваясь и спотыкаясь, спешили по дороге, должно быть, к пруду; один утенок подобрал на дороге какую-то кишку, подавился и поднял тревожный писк; другой подбежал к нему, вытащил у него изо рта кишку и тоже подавился… Далеко около забора в кружевной тени, какую бросали на траву молодые липы, бродила кухарка Дарья и собирала щавель для зеленых щей… Слышались голоса… Кучер Зот с уздечкой в руке и больничный мужик Мануйло в грязном фартуке стояли около сарая, о чем-то разговаривали и смеялись.
«Это они о том, что я фельдшера ударил… – думал доктор. – Сегодня уже весь уезд будет знать об этом скандале… Итак: „Милостивый государь! Если ваша управа не уволит…“
Доктор отлично знал, что управа ни в каком случае не променяет его на фельдшера и скорее согласится не иметь ни одного фельдшера во всем уезде, чем лишиться такого превосходного человека, как доктор Овчинников. Наверное, тотчас же по получении письма Лев Трофимович прикатит к нему на тройке и начнет: «Да что вы это, батенька, вздумали? Голубушка, что же это такое, Христос с вами? Зачем? С какой стати? Где он? Подать его сюда, каналью! Прогнать! Обязательно прогнать! Чтоб завтра же его, подлеца, здесь не было!» Потом он пообедает с доктором, а после обеда ляжет вот на этом малиновом диване животом вверх, закроет лицо газетой и захрапит; выспавшись, напьется чаю и увезет к себе доктора ночевать. И вся история кончится тем, что и фельдшер останется в больнице, и доктор не подаст в отставку.
Доктору же в глубине души хотелось не такой развязки. Ему хотелось, чтобы фельдшерская тетушка восторжествовала и чтобы управа, невзирая на его восьмилетнюю добросовестную службу, без разговоров и даже с удовольствием приняла бы его отставку. Он мечтал о том, как он будет уезжать из больницы, к которой привык, как напишет письмо в газету «Врач», как товарищи поднесут ему сочувственный адрес…
На дороге показалась русалка. Мелко шагая и шурша платьем, она подошла к окну и спросила:
– Григорий Иваныч, сами будете принимать больных или без вас прикажете?
А глаза ее говорили: «Ты погорячился, но теперь успокоился, и тебе стыдно, но я великодушна и не замечаю этого».
– Хорошо, я сейчас, – сказал доктор.
Он опять надел фартук, подпоясался полотенцем и пошел в больницу.
«Нехорошо, что я убежал, когда ударил его… – думал он дорогой. – Вышло, как будто я сконфузился или испугался… Гимназиста разыграл… Очень нехорошо!»
Ему казалось, что когда он войдет в палату, то больным будет неловко глядеть на него и ему самому станет совестно, но, когда он вошел, больные покойно лежали на кроватях и едва обратили на него внимание. Лицо чахоточного Герасима выражало совершенное равнодушие и как бы говорило: «Он тебе не потрафил, ты его маненько поучил… Без этого, батюшка, нельзя».
Доктор вскрыл на багровой руке два гнойника и наложил повязку, потом отправился в женскую половину, где сделал одной бабе операцию в глазу, и все время за ним ходила русалка и помогала ему с таким видом, как будто ничего не случилось и все обстояло благополучно. После обхода палат началась приемка приходящих больных. В маленькой приемной доктора окно было открыто настежь. Стоило только сесть на подоконник и немножко нагнуться, чтобы увидеть на аршин от себя молодую траву. Вчера вечером был сильный ливень с грозой, а потому трава немного помята и лоснится. Тропинка, которая бежит недалеко от окна и ведет к оврагу, кажется умытой, и разбросанная по сторонам ее битая аптекарская посуда, тоже умытая, играет на солнце и испускает ослепительно яркие лучи. А дальше за тропинкой жмутся друг к другу молодые елки, одетые в пышные, зеленые платья, за ними стоят березы с белыми, как бумага, стволами, а сквозь слегка трепещущую от ветра зелень берез видно голубое, бездонное небо. Когда выглянешь в окно, то скворцы, прыгающие по тропинке, поворачивают в сторону окна свои глупые носы и решают: испугаться или нет? И, решив испугаться, они один за другим с веселым криком, точно потешаясь над доктором, не умеющим летать, несутся к верхушкам берез…
Сквозь тяжелый запах йодоформа чувствуется свежесть и аромат весеннего дня… Хорошо дышать!
– Анна Спиридонова! – вызвал доктор.
В приемную вошла молодая баба в красном платье и помолилась на образ.
– Что болит? – спросил доктор.
Баба недоверчиво покосилась на дверь, в которую вошла, и на дверцу, ведущую в аптеку, подошла поближе к доктору и шепнула:
– Детей нету!
– Кто еще не записывался? – крикнула в аптеке русалка. – Подходите записываться!
«Он уже тем скотина, – думал доктор, исследуя бабу, – что заставил меня драться первый раз в жизни. Я отродясь не дрался».
Анна Спиридонова ушла. После нее пришел старик с дурной болезнью, потом баба с тремя ребятишками в чесотке, и работа закипела. Фельдшер не показывался. За дверцей в аптеке, шурша платьем и звеня посудой, весело щебетала русалка; то и дело она входила в приемную, чтобы помочь на операции или взять рецепты, и все с таким видом, как будто все было благополучно.
«Она рада, что я ударил фельдшера, – думал доктор, прислушиваясь к голосу акушерки. – Ведь она жила с фельдшером, как кошка с собакой, и для нее праздник, если его уволят. И сиделки, кажется, рады… Как это противно!»
В самый разгар приемки ему стало казаться, что и акушерка, и сиделки, и даже больные нарочно стараются придать себе равнодушное и веселое выражение. Они как будто понимали, что ему стыдно и больно, но из деликатности делали вид, что не понимают. И он, желая показать им, что ему вовсе не стыдно, кричал сердито:
– Эй вы, там! Затворяйте дверь, а то сквозит!
А ему уж было стыдно и тяжело. Принявши сорок пять больных, он не спеша вышел из больницы. Акушерка, уже успевшая побывать у себя на квартире и надеть на плечи ярко-пунцовый платок, с папироской в зубах и с цветком в распущенных волосах, спешила куда-то со двора, вероятно, на практику или в гости. На пороге больницы сидели больные и молча грелись на солнышке. Скворцы по-прежнему шумели и гонялись за жуками. Доктор глядел по сторонам и думал, что среди всех этих ровных, безмятежных жизней, как два испорченных клавиша в фортепиано, резко выделялись и никуда не годились только две жизни: фельдшера и его. Фельдшер теперь, наверное, лег, чтобы проспаться, но никак не может уснуть от мысли, что он виноват, оскорблен и потерял место. Положение его мучительно. Доктор же, ранее никогда никого не бивший, чувствовал себя так, как будто навсегда потерял невинность. Он уже не обвинял фельдшера и не оправдывал себя, а только недоумевал: как это могло случиться, что он, порядочный человек, никогда не бивший даже собак, мог ударить? Придя к себе на квартиру, он лег в кабинете на диван, лицом к спинке, и стал думать таким образом:
«Он человек нехороший, вредный для дела; за три года, пока он служит, у меня накипело в душе, но тем не менее мой поступок ничем не может быть оправдан. Я воспользовался правом сильного. Он мой подчиненный, виноват и к тому же пьян, а я его начальник, прав и трезв… Значит, я сильнее. Во-вторых, я ударил его при людях, которые считают меня авторитетом, и таким образом я подал им отвратительный пример…»
Доктора позвали обедать… Он съел несколько ложек щей и, вставши из-за стола, опять лег на диван.
«Что же теперь делать? – продолжал он думать. – Надо возможно скорее дать ему удовлетворение… Но каким образом? Дуэли он, как практический человек, считает глупостью или не понимает их. Если в той самой палате, при сиделках и больных, попросить у него извинения, то это извинение удовлетворит только меня, а не его; он, человек дурной, поймет мое извинение как трусость и боязнь, что он пожалуется на меня начальству. К тому же это мое извинение вконец расшатает больничную дисциплину. Предложить ему денег? Нет, это безнравственно и похоже на подкуп. Если теперь, положим, обратиться за разрешением вопроса к нашему прямому начальству, то есть к управе… Она могла бы объявить мне выговор или уволить меня… Но этого она не сделает. Да и не совсем удобно вмешивать в интимные дела больницы управу, которая, кстати же, не имеет на это никакого права…»
Часа через три после обеда доктор шел к пруду купаться и думал:
«А не поступить ли мне так, как поступают все при подобных обстоятельствах? То есть пусть он подаст на меня в суд. Я безусловно виноват, оправдываться не стану, и мировой присудит меня к аресту. Таким образом оскорбленный будет удовлетворен, и те, которые считают меня авторитетом, увидят, что я был не прав».
Эта идея улыбнулась ему. Он обрадовался и стал думать, что вопрос решен благополучно и что более справедливого решения не может быть.
«Что ж, превосходно! – думал он, полезая в воду и глядя, как от него убегали стаи мелких, золотистых карасиков. – Пусть подает… Это для него тем более удобно, что наши служебные отношения уже порваны и одному из нас после этого скандала все равно уж нельзя оставаться в больнице…»
Вечером доктор приказал заложить шарабан, чтобы ехать к воинскому начальнику играть в винт. Когда он, в шляпе и в пальто, совсем уже готовый в путь, стоял у себя посреди кабинета и надевал перчатки, наружная дверь со скрипом отворилась, и кто-то бесшумно вошел в переднюю.
– Кто там? – спросил доктор.
– Это я-с… – глухо ответил вошедший.
У доктора вдруг застучало сердце, и весь он похолодел от стыда и какого-то непонятного страха. Фельдшер Михаил Захарыч (это был он) тихо кашлянул и несмело вошел в кабинет. Помолчав немного, он сказал глухим, виноватым голосом:
– Простите меня, Григорий Иваныч!
Доктор растерялся и не знал, что сказать. Он понял, что фельдшер пришел к нему унижаться и просить прощения не из христианского смирения и не ради того, чтобы своим смирением уничтожить оскорбителя, а просто из расчета: «Сделаю над собой усилие, попрошу прощения, и авось меня не прогонят и не лишат куска хлеба…» Что может быть оскорбительней для человеческого достоинства?
– Простите… – повторил фельдшер.
– Послушайте… – заговорил доктор, стараясь не глядеть на него и все еще не зная, что сказать. – Послушайте… Я вас оскорбил и… и должен понести наказание, то есть удовлетворить вас… Дуэлей вы не признаете… Впрочем, я сам не признаю дуэлей. Я вас оскорбил, и вы… вы можете подать на меня жалобу мировому судье, и я понесу наказание… А оставаться нам тут вдвоем нельзя… Кто-нибудь из нас, я или вы, должен выйти! («Боже мой! Я не то ему говорю! – ужаснулся доктор. – Как глупо, как глупо!») Одним словом, подавайте прошение! А служить вместе мы уже не можем!.. Я или вы… Завтра же подавайте!
Фельдшер поглядел исподлобья на доктора, и в его темных, мутных глазах вспыхнуло самое откровенное презрение. Он всегда считал доктора непрактическим, капризным мальчишкой, а теперь презирал его за дрожь, за непонятную суету в словах…
– И подам, – сказал он угрюмо и злобно.
– Да, и подавайте!
– А что ж вы думаете? Не подам? И подам… Вы не имеете права драться. Да и стыдились бы! Дерутся только пьяные мужики, а вы образованный…
В груди доктора неожиданно встрепенулась вся его ненависть, и он закричал не своим голосом:
– Убирайтесь вон!
Фельдшер нехотя тронулся с места (ему как будто хотелось еще что-то сказать), пошел в переднюю и остановился там в раздумье. И, что-то надумав, он решительно вышел…
– Как глупо, как глупо! – бормотал доктор по уходе его. – Как все это глупо и пошло!
Он чувствовал, что вел себя сейчас с фельдшером как мальчишка, и уж понимал, что все его мысли насчет суда не умны, не решают вопроса, а только осложняют его.
«Как глупо! – думал он, сидя в шарабане и потом играя у воинского начальника в винт. – Неужели я так мало образован и так мало знаю жизнь, что не в состоянии решить этого простого вопроса? Ну, что делать?»
На другой день утром доктор видел, как жена фельдшера садилась в повозку, чтобы куда-то ехать, и подумал: «Это она к тетушке. Пусть!»
Больница обходилась без фельдшера. Нужно было написать заявление в управу, но доктор все еще никак не мог придумать формы письма. Теперь смысл письма должен был быть таков: «Прошу уволить фельдшера, хотя виноват не он, а я». Изложить же эту мысль так, чтобы вышло не глупо и не стыдно, – для порядочного человека почти невозможно.
Дня через два или три доктору донесли, что фельдшер был с жалобой у Льва Трофимовича. Председатель не дал ему сказать ни одного слова, затопал ногами и проводил его криком: «Знаю я тебя! Вон! Не желаю слушать!» От Льва Трофимовича фельдшер поехал в управу и подал там ябеду, в которой, не упоминая о пощечине и ничего не прося для себя, доносил управе, что доктор несколько раз в его присутствии неодобрительно отзывался об управе и председателе, что лечит доктор не так, как нужно, ездит на участки неисправно и проч. Узнав об этом, доктор засмеялся и подумал: «Этакий дурак!» – и ему стало стыдно и жаль, что фельдшер делает глупости; чем больше глупостей делает человек в свою защиту, тем он, значит, беззащитнее и слабее.
Ровно через неделю после описанного утра доктор получил повестку от мирового судьи.
«Это уж совсем глупо… – думал он, расписываясь в получении. – Глупее и придумать ничего нельзя».
И когда он в пасмурное, тихое утро ехал к мировому, ему уж было не стыдно, а досадно и противно. Он злился и на себя, и на фельдшера, и на обстоятельства…
«Возьму и скажу на суде: убирайтесь вы все к черту! – злился он. – Вы все ослы, и ничего вы не понимаете!»
Подъехав к камере мирового, он увидел на пороге трех своих сиделок, вызванных в качестве свидетельниц, и русалку. При виде сиделок и жизнерадостной акушерки, которая от нетерпения переминалась с ноги на ногу и даже вспыхнула от удовольствия, когда увидела главного героя предстоящего процесса, сердитому доктору захотелось налететь на них ястребом и ошеломить: «Кто вам позволил уходить из больницы? Извольте сию минуту убираться домой!» – но он сдержал себя и, стараясь казаться покойным, пробрался сквозь толпу мужиков в камеру. Камера была пуста, и цепь мирового висела на спинке кресла. Доктор пошел в комнатку письмоводителя. Тут он увидел молодого человека с тощим лицом и в коломёнковом пиджаке с оттопыренными карманами – это был письмоводитель, и фельдшера, который сидел за столом и от нечего делать перелистывал справки о судимости. При входе доктора письмоводитель поднялся; фельдшер сконфузился и тоже поднялся.
– Александр Архипович еще не приходил? – спросил доктор конфузясь.
– Нет еще. Они дома… – ответил письмоводитель.
Камера помещалась в усадьбе мирового судьи, в одном из флигелей, а сам судья жил в большом доме. Доктор вышел из камеры и не спеша направился к дому. Александра Архиповича застал он в столовой за самоваром. Мировой без сюртука и без жилетки, с расстегнутой на груди рубахой стоял около стола и, держа в обеих руках чайник, наливал себе в стакан темного, как кофе, чаю; увидев гостя, он быстро придвинул к себе другой стакан, налил его и, не здороваясь, спросил:
– Вам с сахаром или без сахару?
Когда-то, очень давно, мировой служил в кавалерии: теперь уж он за свою долголетнюю службу по выборам состоял в чине действительного статского, но все еще не бросал ни своего военного мундира, ни военных привычек. У него были длинные, полицмейстерские усы, брюки с кантами, и все его поступки и слова были проникнуты военной грацией. Говорил он, слегка откинув назад голову и уснащая речь сочным, генеральским «мнэээ…», поводил плечами и играл глазами; здороваясь или давая закурить, шаркал подошвами и при ходьбе так осторожно и нежно звякал шпорами, как будто каждый звук шпор причинял ему невыносимую боль. Усадив доктора за чай, он погладил себя по широкой груди и по животу, глубоко вздохнул и сказал:
– Н-да-с… Может быть, желаете мнээ… водки выпить и закусить? Мнэ-э?
– Нет, спасибо, я сыт.
Оба чувствовали, что им не миновать разговора о больничном скандале, и обоим было неловко. Доктор молчал. Мировой грациозным манием руки поймал комара, укусившего его в грудь, внимательно оглядел его со всех сторон и выпустил, потом глубоко вздохнул, поднял глаза на доктора и спросил с расстановкой.
– Послушайте, отчего вы его не прогоните?
Доктор уловил в его голосе сочувственную нотку; ему вдруг стало жаль себя, и он почувствовал утомление и разбитость от передряг, пережитых в последнюю неделю. С таким выражением, как будто терпение его, наконец, лопнуло, он поднялся из-за стола и, раздраженно морщась, пожимая плечами, сказал:
– Прогнать! Как вы все рассуждаете, ей-богу… Удивительно, как вы все рассуждаете! Да разве я могу его прогнать? Вы тут сидите и думаете, что в больнице я у себя хозяин и делаю все, что хочу! Удивительно, как вы все рассуждаете! Разве я могу прогнать фельдшера, если его тетка служит в няньках у Льва Трофимыча и если Льву Трофимычу нужны такие шептуны и лакеи, как этот Захарыч? Что я могу сделать, если земство ставит нас, врачей, ни в грош, если оно на каждом шагу бросает нам под ноги поленья? Черт их подери, я не желаю служить, вот и все! Не желаю!
– Ну, ну, ну… Вы, душа моя, придаете уж слишком много значения, так сказать…
– Предводитель изо всех сил старается доказать, что все мы нигилисты, шпионит и третирует нас, как своих писарей. Какое он имеет право приезжать в мое отсутствие в больницу и допрашивать там сиделок и больных? Разве это не оскорбительно? А этот ваш юродивый Семен Алексеич, который сам пашет и не верует в медицину, потому что здоров и сыт, как бык, громогласно и в глаза обзывает нас дармоедами и попрекает куском хлеба! Да черт его возьми! Я работаю от утра до ночи, отдыха не знаю, я нужнее здесь, чем все эти вместе взятые юродивые, святоши, реформаторы и прочие клоуны! Я потерял на работе здоровье, а меня вместо благодарности попрекают куском хлеба! Покорнейше вас благодарю! И каждый считает себя вправе совать свой нос не в свое дело, учить, контролировать! Этот ваш член управы Камчатский в земском собрании делал врачам выговор за то, что у нас выходит много йодистого калия, и рекомендовал нам быть осторожными при употреблении кокаина! Что он понимает, я вас спрашиваю? Какое ему дело? Отчего он не учит вас судить?
– Но… но ведь он хам, душа моя, холуй… На него нельзя обращать внимание…
– Хам, холуй, однако же вы выбрали этого свистуна в члены и позволяете ему всюду совать свой нос! Вы вот улыбаетесь! По-вашему, все это мелочи, пустяки, но поймите же, что этих мелочей так много, что из них сложилась вся жизнь, как из песчинок гора! Я больше не могу! Сил нет, Александр Архипыч! Еще немного, и, уверяю вас, я не только бить по мордасам, но и стрелять в людей буду! Поймите, что у меня не проволоки, а нервы. Я такой же человек, как и вы…
Глаза доктора налились слезами, и голос дрогнул; он отвернулся и стал глядеть в окно. Наступило молчание.
– Н-да-с, почтеннейший… – пробормотал мировой в раздумье. – С другой же стороны, если рассудить хладнокровно, то… (мировой поймал комара и, сильно прищурив глаза, оглядел его со всех сторон, придавил и бросил в полоскательную чашку)… то, видите ли, и прогонять его нет резона. Прогоните, а на его место сядет другой такой же, да еще, пожалуй, хуже. Перемените вы сто человек, а хорошего не найдете… Все мерзавцы (мировой погладил себя под мышками и медленно закурил папиросу). С этим злом надо мириться. Я должен вам сказать, что-о в настоящее время честных и трезвых работников, на которых вы можете положиться, можно найти только среди интеллигенции и мужиков, то есть среди двух этих крайностей – и только. Вы, так сказать, можете найти честнейшего врача, превосходнейшего педагога, честнейшего пахаря или кузнеца, но средние люди, то есть, если так выразиться, люди, ушедшие от народа и не дошедшие до интеллигенции, составляют элемент ненадежный. Весьма трудно поэтому найти честного и трезвого фельдшера, писаря, приказчика и прочее. Чрезвычайно трудно! Я служу-с в юстиции со времен царя Гороха и во все время своей службы не имел еще ни разу честного и трезвого писаря, хотя и прогнал их на своем веку видимо-невидимо. Народ без всякой моральной дисциплины, не говоря уж о-о-о-о принципах, так сказать…
«Зачем он это говорит? – подумал доктор. – Не то мы с ним говорим, что нужно».
– Вот не дальше, как в прошлую пятницу, – продолжал мировой, – мой Дюжинский учинил такую, можете себе представить, штуку. Созвал он к себе вечером каких-то пьяниц, черт их знает, кто они такие, и всю ночь пропьянствовал с ними в камере. Как вам это понравится? Я ничего не имею против питья. Черт с тобой, пей, но зачем пускать в камеру неизвестных людей? Ведь, судите сами, выкрасть из дел какой-нибудь документ, вексель и прочее – минутное дело! И что ж вы думаете? После той оргии я должен был дня два проверять все дела, не пропало ли что… Ну, что ж вы поделаете со стервецом? Прогнать? Хорошо-с… А чем вы поручитесь, что другой не будет хуже?
– Да и как его прогонишь? – сказал доктор. – Прогнать человека легко только на словах… Как я прогоню и лишу его куска хлеба, если знаю, что он семейный, голодный? Куда он денется со своей семьей?
«Черт знает что, не то я говорю!» – подумал он, и ему показалось странным, что он никак не может укрепить свое сознание на какой-нибудь одной, определенной мысли или на каком-нибудь одном чувстве. «Это оттого, что я неглубок и не умею мыслить», – подумал он.
– Средний человек, как вы назвали, не надежен, – продолжал он. – Мы его гоним, браним, бьем по физиономии, но ведь надо же войти и в его положение. Он ни мужик, ни барин, ни рыба ни мясо; прошлое у него горькое, в настоящем у него только двадцать пять рублей в месяц, голодная семья и подчиненность, в будущем те же двадцать пять рублей и зависимое положение, прослужи он хоть сто лет. У него ни образования, ни собственности; читать и ходить в церковь ему некогда, нас он не слышит, потому что мы не подпускаем его к себе близко. Так и живет изо дня в день до самой смерти без надежд на лучшее, обедая впроголодь, боясь, что вот-вот его прогонят из казенной квартиры, не зная, куда приткнуть своих детей. Ну, как тут, скажите, не пьянствовать, не красть? Где тут взяться принципам!
«Мы, кажется, уж социальные вопросы решаем, – подумал он. – И как нескладно, господи! Да и к чему все это?»
Послышались звонки. Кто-то въехал во двор и подкатил сначала к камере, потом к крыльцу большого дома.
– Сам приехал, – сказал мировой, поглядев в окно. – Ну, будет вам на орехи!
– А вы, пожалуйста, отпустите меня поскорее… – попросил доктор. – Если можно, то рассмотрите мое дело не в очередь. Ей-богу, некогда.
– Хорошо, хорошо… Только я еще не знаю, батенька, подсудно ли мне это дело. Отношения ведь у вас с фельдшером, так сказать, служебные, и к тому же вы смазали его при исполнении служебных обязанностей. Впрочем, не знаю хорошенько. Спросим сейчас у Льва Трофимовича.
Послышались торопливые шаги и тяжелое дыхание, и в дверях показался Лев Трофимович, председатель, седой и лысый старик с длинной бородой и красными веками.
– Мое почтение… – сказал он, задыхаясь. – Уф, батюшки! Вели-ка, судья, подать мне квасу! Смерть моя…
Он опустился в кресло, но тотчас же быстро вскочил, подбежал к доктору и, сердито тараща на него глаза, заговорил визгливым тенором:
– Очень и чрезвычайно вам благодарен, Григорий Иваныч! Одолжили, благодарю вас! Во веки веков аминь, не забуду! Так приятели не делают! Как угодно, а это даже недобросовестно с вашей стороны! Отчего вы меня не известили? Что я вам? Кто? Враг или посторонний человек? Враг я вам? Разве я вам когда-нибудь в чем отказывал? А?
Тараща глаза и шевеля пальцами, председатель напился квасу, быстро вытер губы и продолжал:
– Очень, очень вам благодарен! Отчего вы меня не известили? Если бы вы имели ко мне чувства, приехали бы ко мне и по-дружески: «Голубушка, Лев Трофимыч, так и так, мол… Такого сорта история и прочее…» Я бы вам в один миг все устроил, и не понадобилось бы этого скандала… Тот дурак, словно белены объелся, шляется по уезду, кляузничает да сплетничает с бабами, а вы, срам сказать, извините за выражение, затеяли черт знает что, заставили этого дурака подавать в суд! Срам, чистый срам! Все меня спрашивают, в чем дело, как и что, а я председатель и ничего не знаю, что у вас там делается. Вам до меня и надобности нет! Очень, очень вам благодарен, Григорий Иваныч!
Председатель поклонился так низко, что даже побагровел весь, потом подошел к окну и крикнул:
– Жигалов, позови сюда Михаила Захарыча! Скажи, чтоб сию минуту сюда шел! Нехорошо-с! – сказал он, отходя от окна. – Даже жена моя обиделась, а уж на что, кажется, благоволит к вам. Уж очень вы, господа, умствуете! Все норовите, как бы это по-умному, да по принципам, да со всякими выкрутасами, а выходит у вас только одно: тень наводите…
– Вы норовите все не по-умному, а у вас-то что выходит? – спросил доктор.
– Что у нас выходит? А то выходит, что если бы я сейчас сюда не приехал, то вы бы и себя осрамили и нас… Счастье ваше, что я приехал!
Вошел фельдшер и остановился у порога. Председатель стоял к нему боком, засунул руки в карманы, откашлялся и сказал:
– Проси сейчас у доктора прощения!
Доктор покраснел и выбежал в другую комнату.
– Вот видишь, доктор не хочет принимать твоих извинений! – продолжал председатель. – Он желает, чтоб ты не на словах, а на деле выказал свое раскаяние. Даешь слово, что с сегодняшнего дня будешь слушаться и вести трезвую жизнь?
– Даю… – угрюмо пробасил фельдшер.
– Смотри же! Бо-оже тебя сохрани! У меня в один миг потеряешь место! Если что случится, не проси милости… Ну, ступай домой…
Для фельдшера, который уже помирился со своим несчастьем, такой поворот дела был неожиданным сюрпризом. Он даже побледнел от радости. Что-то он хотел сказать и протянул вперед руку, но ничего не сказал, а тупо улыбнулся и вышел.
– Вот и все! – сказал председатель. – И суда никакого не нужно.
Он облегченно вздохнул и с таким видом, как будто только что совершил очень трудное и важное дело, оглядел самовар и стаканы, потер руки и сказал:
– Блажени миротворцы… Налей-ка мне, Саша, стаканчик. А впрочем, вели сначала дать чего-нибудь закусить… Ну, и водочки…
– Господа, это невозможно! – сказал доктор, входя в столовую, все еще красный и ломая руки. – Это… это комедия! Это гадко! Я не могу. Лучше двадцать раз судиться, чем решать вопросы так водевильно. Нет, я не могу!
– Что же вам нужно? – огрызнулся на него председатель. – Прогнать? Извольте, я прогоню…
– Нет, не прогнать… Я не знаю, что мне нужно, но так, господа, относиться к жизни… ах, боже мой! Это мучительно!
Доктор нервно засуетился и стал искать своей шляпы и, не найдя ее, в изнеможении опустился в кресло.
– Гадко! – повторил он.
– Душа моя, – зашептал мировой, – отчасти я вас не понимаю, так сказать… Ведь вы виноваты в этом инциденте! Хлобыстать по физиономии в конце девятнадцатого века – это, некоторым образом, как хотите, не того… Он мерзавец, но-о-о согласитесь, и вы поступили неосторожно…
– Конечно! – согласился председатель.
Подали водку и закуску. На прощанье доктор машинально выпил рюмку и закусил редиской. Когда он возвращался к себе в больницу, мысли его заволакивались туманом, как трава в осеннее утро.
«Неужели, – думал он, – в последнюю неделю было так много выстрадано, передумано и сказано только для того, чтобы все кончилось так нелепо и пошло! Как глупо! Как глупо!»
Ему было стыдно, что в свой личный вопрос он впутал посторонних людей, стыдно за слова, которые он говорил этим людям, за водку, которую он выпил по привычке пить и жить зря, стыдно за свой непонимающий, неглубокий ум… Вернувшись в больницу, он тотчас же принялся за обход палат. Фельдшер ходил около него, ступая мягко, как кот, и мягко отвечая на вопросы… И фельдшер, и русалка, и сиделки делали вид, что ничего не случилось и что все было благополучно. И сам доктор изо всех сил старался казаться равнодушным. Он приказывал, сердился, шутил с больными, а в мозгу его копошилось:
«Глупо, глупо, глупо…»
1888

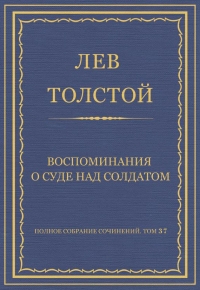

Комментарии к книге «Неприятность», Антон Павлович Чехов
Всего 0 комментариев