Николай Лесков Ракушанский меламед Рассказ на бивуаке
Глава первая
Дело было для нас неудачливо: мы отступили, но, к счастию, неприятель нас более не тревожил и давал нам время отдохнуть и оправиться. Мы расположились бивуаком в безопасном ущелье, разделясь самыми маленькими сторожевыми отрядами. Нашим отрядом командовал маиор Никанор Иванович Плескунов, очень добрый, спокойный и мужественный офицер и изрядный оригинал, из вымирающей породы лермонтовских Максим Максимовичей. Он считал за собой одно немаловажное, по его мнению, преимущество, что с тех пор как произведен в офицеры, все время служил «в серых войсках». Так он называл таможенную стражу, по которой числился, состоя начальником небольшой команды на одном из весьма известных контрабандных пунктов на австрийской границе. Война с турками его рассердила, и он бросил свой «серый пост», и перевелся в действующую армию.
Маиор Плескунов был не стар и не молод, не высок ростом, коренаст и немножко мужиковат в манерах и в движениях, но был, как я сказал, прямая душа, добрая, и во всех своих суждениях и взглядах на вещи оригинал. Он был беззаветно храбр, хотя по наружности казался изрядным рохлей: не горячился, не вскидывался, не подымался на дыбы, но не робел и не падал духом, а всегда и везде рассуждал и действовал с настоящим твердым мужеством и с «прохладкой». Похвальбы он терпеть не мог и считал ее недостойною военного человека и вредною.
– Это, – говорил он, – дело купеческое; наври, чтобы было можно из чего уступить, а потом и спускай. А наше дело солдатское, тут что Бог даст.
Понятно, что, держась такого правила, он не имел в своем обычае ни малейшей тени самохвальства и задора. Речей он никаких не говорил, ни обширных, ни кратких, кроме общего внушения:
– Делай свое дело, не стой на месте, когда шлют вперед, и не хвались вперед, чья будет горка, а работай.
Горка – это была его поговорка, то есть, чья возьмет, чей верх будет.
Солдаты Плескунова любили и называли его «настоящим командиром».
– Форсу, – говорили, – не задает, а воюет как надо и судит умно: делай, говорит, как надо, а горку кому Бог даст, на то Его воля, а не твое распоряжение.
Хорош Плескунов был и с офицерами, и с нами, юнкерами, которых у него в батальоне было немало. Между нашими офицерами водились люди довольно различного калибра: были у нас и настоящие армейцы, были и «привилегиранты», прибывшие к Балканам из дальней северной столицы. Никанор Иванович не делал между ними никакого различия и держал себя со всеми с нами на самой короткой, товарищеской ноге, хотя, впрочем, очевидно, в деле оказывал больше доверия настоящим армейцам и политиковал, говоря, что «у привилегирантов мундиры дорого стоят, их надо пожалеть». Но, поступая таким образом, он все-таки не любил, чтобы армейцы задирали привилегирантов или как-нибудь над ними подсмеивались.
О храбрости Плескунова и о его преданности делу, за которое он пришел сражаться, покинув свою таможенную стражу, не могло быть и речи; первая достаточно доказывалась многочисленными рубцами, которыми все лицо Никанора Ивановича было изборождено от контрабандистов, с которыми он вел тридцатилетнюю войну, без единого дня перемирия. А что он считал войну за славян близкою своему сердцу, в этом убеждало то, что он оставил для нее свою старуху, о которой ничего не говорил, кроме как то, что «она набожна», но которую, очевидно, любил очень сильно.
Ни главного, ни ближайшего своего начальства Плескунов никогда не критиковал и терпеть не мог слышать что-нибудь подобное от других.
– Что тебе до него за дело? – говорил он, стараясь всегда остановить критика. – Хорошо нам с тобой рас суждать, как у нас ума мало, а они, может быть, больше знают и путаются. Ты, что ли, в ответ за него пойдешь? Свой нос, смотри, в чистоте содержи.
Плескунов имел нерасположение к «политиканам», в числе которых считал всех интересующихся газетными толками и делающих по этим толкам какие бы то ни было предположения о высших соображениях и общей судьбе событий. Газеты же просто ненавидел, – и все равно без различия, какого бы они ни были направления, о чем, впрочем, он едва ли и имел надлежащее понятие. Он был о газетах того мнения, какое одно из грибоедовских лиц высказывало о календарях: «Все врут календари».
– Врут-с, – говорил Никанор Иванович.
Впрочем, Никанор Иванович и вообще с печатью не дружил, окромя как с церковною, в которой был весьма начитан, так как, по его рассказам, они с женой эти книги всегда друг другу в зимние вечера «гласно» читали. Если же у кого-нибудь в отряде появлялся листок газеты, которую тот намеревался прочесть прочим, то Плескунов сейчас звал казака и нарочно громко чем-нибудь распоряжался. Иной раз, не зная что сказать, он посылал «пошарить», нельзя ли где-нибудь достать для него бутылку чуфурляр-лафиту.
Что это за вино имело быть, этот «чуфурляр-лафит» – мы не могли себе представить, и думали, что Плескунов его просто нам на смех выдумал. Но Никанор Иванович уверял, что в Балканах непременно есть такое вино, что его отец, когда делал прошедшую турецкую кампанию, так пил чуфурляр-лафит и помнил о нем до самой смерти; а потому как Никанору Ивановичу станет что-нибудь досадительно, он сейчас и вспомнит.
– Ведь не может же быть, чтобы наши тогда его весь выпили; а если выпили, так с тех пор нового надо было намять. Ступай, братец казак, пошарь хорошенько, – непременно должен найти.
Казак отправлялся «шарить», но обыкновенно всегда шарил безуспешно: вина или совсем не было, или же казак, шаря, находил вино, но только это было не чуфурляр-лафит.
Плескунов и этим довольствовался: он пил, что ему добывал казак, и говорил, что чуфурляр-лафиту надо будет в другом месте пошарить. Впрочем, вся эта возня с чуфурляр-лафитом поднималась только тогда, когда маиору угрожало слушание газет.
Все мы знали эту слабость нашего доброго маиора и порой его щадили, а порой ему досаждали: нарочно заводили с ним спор, доказывали, что в наше время невозможно так вести дела, чтобы не читать газет, не думать и не соображать по ходу дел: чья будет горка? И в тот раз, с которого начинается мой рассказ, мы были на этот счет очень упрямы: горе каждого из нас брало, и досады много накопилось, и ничего-то путем нигде узнать не можем, а тут еще этот чудак с своими рацеями.
– Что тебе знать хочется? Себя знай хорошенько! Ума, что ли, очень много набралось, тяготить начало! Ступай за пригорок, высунь лоб. Турок сейчас лишнее выпустит.
Мы его и принялись допекать и, может быть, первый раз за всю кампанию так пропекли, что он уж не одного, а двух казаков послал шарить, как мы в ту пору думали, нигде не существующего чуфурляр-лафита, а сам даже отошел от нас в сторону. Но добрая душа его не умела долго сердиться, да верно и он не всем был доволен после несчастливого дела, выбравшись из которого мы не досчитывали и половины своих товарищей.
Нельзя было не чувствовать, что нам жутко и горько, и Плескунов, понимая это, сдал тону: он вернулся к нашему кружку, где жарился болгарский баран, и терпеливо слушал наши сетования.
Тут ему кто-то из нас и молвил:
– Что же, Никанор Иваныч, и теперь еще не станете ли ругаться, что смеем считать себя несчастливыми?
Он вздохнул и отвечает:
– Нет; что же ругаться: мы с женой у Исаии пророка читали, что «усталый и голодный на самого Бога ропщет», стало уж этому так надо быть. Поругайтесь, поругайтесь, может быть, вам от этого полегчает; а как отлежитесь да поедите, так, может, и сдобритесь.
Но мы и на это не сдавались.
– Поесть, – говорим, – мы поедим, а при своем останемся, что нехорошо идет.
– Нехорошо-то, – отвечает, – нехорошо, и говорить нечего, а все еще повременим: чья будет горка?
– Да нечего, – говорим, – и временить, когда уже видно: на чьей стороне горка, если все так будет.
– Ну, я еще этого не вижу, да и удивляюсь, в чем вы это видите?
Тут наши политиканы и пошли:
– Как в чем? – говорят: – а во что вы ставите все эти подыски всей Европы при коварном нейтралитете Беконсфильда, виляньях Андраши и…
Словом, и пошли, и пошли. Все ему высчитали, чего от кого ждать, кому не верить и чего бояться. И свели опять к тому, что нынче-де уже не те времена, когда можно было во всем полагаться на силу да на отвагу, а нужен ум и расчет, да капитал. Что капитал – душа движения, и что где будет больше дальнозоркой сообразительности, тонкого расчета и капитала, на той стороне будет и горка. А у нас, мол, и ни того-то, и ни этого-то, да и жиды одолели: и в Лондоне жид, и в Вене жиды, страсть что жидов, и у нас они в гору пошли – даже и кормит нас подрядчик, женатый на Беконсфильдовой племяннице, да и самые славяне-то, за которых воюем, в руках венских жидов. Что же этого безотраднее: жид страшный человек, – он все разочтет, всех заберет в свои лапы и всех опутает.
Никанор Иваныч и рассердился.
– Ну вот, – говорит, – еще что вздумаете: уж и жид у вас стал страшный человек.
– А, разумеется, страшный, потому что он коварный, а коварство – большая сила: она, как зубная боль, сильного в бессилие приведет.
А Никанор Иванович отвечает:
– А мы зубную боль заговорим.
– Да, да; вот это разве! Ну, так пошлите-ка казака «пошарить», где такого мастера найдете?
– А что же, казак, разумеется, найдет.
– Да; найдет он их, вот все равно как вашего чуфурляр-лафиту.
– А что же: надо веру иметь и ждать, и лафиту достанет.
И что же вы думаете. В эту самую минуту, как нарочно, к Плескунову бежит казак и подает бутылку, а на бутылке надпись: «чуфурляр-лафит». Даже сам Никанор Иванович смутился и спросил:
– Где ты это спер, благодетель?
А казак отвечает:
– Никак нет, ваше высокоблагородие: у маркитанта взял.
– Что же он прежде-то его не давал?
– Давно, – говорит, – с собой вожу, только подавать не смел, больно пакостное.
Маиор отбил горлышко, сплеснул немного в сторону, попробовал и говорит:
– Хорошо, братец, маркитант тебе правду сказал: винишко поганое, и я теперь вспомнил, что мой отец его пил совсем не в Турции, а на Кавказе; ну да не в том дело; а это, господа, вам ответ: видите, – пошарить, так все найдешь. Я политики не читаю и споров не люблю, но ничего, чем вы меня пугаете, не боюсь. Спросите: почему? Отвечу вам: «по Писанию». О Тире сказано, что там не будет горка, где «князья купцы и где сильные земли барышничают», а сила в тех, кои «не видали самоцветных камней и не завистны на золото». Оно так и бывает, как пророк говорит, и мне теперь приходит на память одна история про самого что ни на есть каверзнейшего тонкого израильского политика, который в своем месте все пружины в руках держал и во всем собаку съел, а запил таким чуфурляром, что и с ума спятил. И я, чтобы не позабыть и чтобы вас кстати немножко поразвлечь, пока баран сжарится, пожалуй, готов вам это рассказать в виде притчи…
Тут все и заговорили:
– Помилуйте, Никанор Иванович, да когда же мы не хотим вас слушать? пожалуйста, расскажите.
Никанор Иванович и начал.
Глава вторая
Старый Схария, про которого я вам буду рассказывать, был, так сказать, прирожденный политик, ученый-преученый и притом святой, которому, казалось, все было открыто и само небо с ним перешептывалось. По занятиям он был меламед, держал школу, где юные сыны Израиля получали высшее направление на весь проспект жизни. Жил Схария от меня всего в полуверсте, в торговом местечке, по тот бок австрийской границы; а славен был по обе ее стороны.
Схария был человек старый и для своих мест очень богатый. Состояние он нажил своею обширною ученостью, святостью и плутовством. Если бы вы знали еврея как следует, то не удивились бы, что все эти три вещи в нем не только совершенно совместимы, но даже одна другую требуют, а не исключают. Сколько именно было лет этому патриарху, я с точностью определить не берусь, потому что, когда я, тридцать лет тому назад, поступил на таможню, Схария уже был меламед, обучивший ряд поколений, и тогда уже был почти так же стар и ходил с такою же седою бородой, с какою ходит и нынче. Только нынче он слывет безумцем и служит поношением и посмешищем для безумцев, а до того анекдотического случая, который его таким сделал, он был у всех в почете, в ласке; он первенствовал на молениях, председал на пиршествах и везде имел решающий голос. Как наисовершеннейший знаток закона и наилучший его истолкователь, что бывало он скажет, то так и делается. Ныне же жизнь его пригодна только разве на то, чтобы показать основательность слов Псалмопевца: «не хощет Господь смерти грешника». Но некогда было совсем иное: ученая слава Схарии была так велика, что говорили, будто ей завидовал сам караим Фиркович. Святость Схарии равнялась его учености, но славилась еще более первой. Разумеется, это была та каверзная праведность и та убивающая дух ученость, которыми огорчался наш Спаситель и за которые возглашал: «горе вам, горе и горе».
Схария знал все, чрез что можно прослыть праведным между евреями, и с этой стороны был для многих, и в том числе и для меня грешного, необыкновенно интересен. Он жил весь по правилам, «почивал на законе»: каждый час дня и ночи, каждый его шаг и движение, – все это шло так, чтобы могло возвещать его преподобность. Кто знает, что значит соблюсти всю еврейскую обрядовую праведность, тот знает, как это трудно. Я же, весь свой век проведя с евреями, могу вам это показать, хотя, разумеется, только отчасти.
Наблюдая наказ рабби Елиазара, Схария просыпался до рассвета, но как бы ему ни хотелось встать, он не вставал и даже знака не подавал, что он проснулся, и так лежал до тех пор, пока его не побудит жена. Это так должна сделать каждая воспитанная в законе еврейка. И зато в ту самую секунду, как жена его будила, он сразу же вскакивал и на весь дом кричал: «Благословен Бог, одаривший петуха разумом, что он различает день от ночи», а потом читал вслух: «Восстану рано». Все это делалось так энергично, что все в доме проклинали «восставшего рано», но непременно и сами поднимались. Схария никогда не надевал рубашки сидя или стоя, а исправлял все это непременно лежа под одеялом, чтобы сатана, подсматривающий за каждым евреем, не увидал бы его чудесного тела и не вздумал бы сам смастерить что-нибудь, если не совершенно такое, то, по крайней мере, хоть подходящее к еврею. Схария никогда не позабывал спуститься с кровати непременно правою ногой. Умываясь, он аккуратно обливал каждую руку по три раза и вытирал лицо так сухо, чтобы не испарилась память.
Пергамент с написанными на нем словами из книг Моисея был у него обмотан волосами из телячьего хвоста и снабжен прикрепленным к нему репейником, который должен был колоть Схарию, если он задумает как-нибудь нарушить какую-нибудь из десяти заповедей. Колол ли его этот репейник или нет, этого не знаю; но поколоть, кажется, было за что. Свитки на дверях дома этого законника были самые полномерные; их все должны были издали видеть и понимать, что на дом Схарии снисходит беспрестанное благословение, как на браду Ааронову и на ометы его риз.
Никто никогда не видал, чтоб у Схарии хранилище висело на ремешке или оставалось не спрятанным в три коробочка, если в той комнате спали женщины; хранилище он надевал на себя, как только можно было отличать белый цвет от голубого и носил до темноты. В школу Схария не шел, а бежал, чтобы Бог видел, что он «духом гоним». Его талос или мантия была из белой шерсти, выпряденной еврейкой, и притом с известными приговорами. Молился он много и долго, оборотясь непременно на юг, откуда идет мудрость, а с нею, разумеется, и все благополучия. Люди алчные и глупые молятся на север, откуда приходит богатство, но Схария, как Соломон, знал, что все дело в премудрости. Он молился, всегда тщательно выровняв ноги в первой позиции, и качался, и трясся не щадя колен, чтобы ангелы видели, как сильно колеблет его страх пред Вездесущим. Моленья свои он сначала выкрикивал по-еврейски, а потом посылал особые молитвы по-сирски и по-халдейски, чтобы ангелы, не понимающие этих языков, не позавидовали тому, чего он просит у грядущего Мессии. Еще более тонкая осторожность нужна была против диавола, чтобы этот хитрец не проведал о прошениях Схарии и не повредил ему; но это было предусмотрено: диавол никогда не мог узнать, чего просит Схария, потому что диавол тоже по-сирски и по-халдейски не знает, а обучиться этим языкам не может, потому что учиться у человека ему не позволяет его пустая «свинячья» гордость.
Если Схарии случалось плюнуть во время молитвы, то он делал это невежество не иначе, как в левую сторону, чтобы не оплевать толпой на него любовавшихся с правой его руки ангелов. Каждый день он воссылал сто благодарений, и так на виду у людей и ангелов пребывал в моленьи почти весь день. Отдых его начинался только с той поры, когда наступающие сумерки возвещали, что Егова уже дал ангелам приказ затворить двери и окна неба. С этих пор, разумеется, оттуда на землю уже ничего не было видно и потому чиниться было нечего, да и продолжать самое моление не было никакого расчета.
Но большая ученость Схарии обнаруживалась не в одном только богомолении, – нет, она также была видна во всех его житейских поступках: он развелся с несколькими женами по одному подозрению, что они происходят не от Евы, а от первой жены Адама, строптивой Лалис, и, подобно своей матери, склонны заниматься не одним тем, чтоб угождать мужу. Сам же он никогда не смотрел в лицо никакой сторонней женщине, хотя бы даже это была недостойная внимания христианка. Все были уверены, что он ни разу не видал лица кряду десять лет служившей у него молчаливой и тупой хохлуши Оксаны, о которой я прошу помнить, потому что ей в моей повести будет своя роль.
Любя во всем ортодоксальный порядок, Схария сам подавал в нем первый пример повиновения «Закону»: он ломал хлеб не прежде, как растопырив над ним все свои десять пальцев, чтобы все видящие это воспоминали о десяти «божиих приказаниях». Заботясь о нравственности и о душе, он не забывал и гигиену, для чего всегда завтракал рано, чтобы в желчь его по пустому проходу не успели вскочить с голодом тридцать шесть болезней, а, обедая, – поспешно отделял Оксане кусок от всякого кушанья, имеющего вкусный запах, способный возбудить в человеке аппетит. Делалось это не из сострадания к нетерпеливости Оксаны, а для того, чтобы она от жадности не затряслась, как Исав, и не опрокинула другого блюда. Все знали, что Схария во всю свою жизнь никогда еще не уронил на пол ни одной крошки хлеба, и строгий ангел Набель, приставленный смотреть за этим, ни разу не мог сделать на него в этом смысле доноса по начальству. К ангелам Схария наблюдал большую осторожность и никогда не клал ножа лезвием вверх. Даже этого докучного наблюдателя, Набеля, он и того берег, чтобы он, вертясь у стола, как-нибудь не обрезался.
Схария не умствовал о том, «чи все добре на свити – чи не все дюже добре». Боже сохрани! Он благословил Бога за все, что понимал и чего не понимал, потому что все устроено премудростию, даже тупая Оксана и вообще все прочие дураки, так как они, по уверению рабби Геноха, созданы для увеселения умных, а в числе таких умных был, конечно, наш мудрый и ученый Схария, которого все давно признали в этом чине. И его действительно увеселяла сильная и глупая наймычка Оксана, когда она позволяла колотить себя не только жене Схарии, золотушной Хаве, но и всем крошечным ребятам Схариина отрождения. По огромной силе своей, с которою эта Оксана молча и без отдыха ворочала в доме все тяжкие работы, она могла бы смахнуть и Схарию, и Хаву так, что ничего бы от них не осталось, а она все сносила безропотно и много содействовала тому, что Схария мог благоугождать Богу, благословляя его, что он создал такую невежественную дуру для удовольствия всех домашних такого ученого праведника, как он, Схария. Опытом убежденный, как хорошо жить по «Закону», он даже спал по «Закону»; для этого он всегда ложился на левый бок, на котором лежал Исаак, когда Авраам хотел заколоть его в жертву Богу, и так Схария почивал всегда, как готовая жертва. А чтобы еще более уподобляться Исааку, он всегда спал нагой, без рубашки, и на кровати, обращенной непременно головами к югу, а ногами к северу.
При таком радении о житье по «Закону», семя Схарии множилось и обещало ему славу в потомстве. От нескольких браков у него были в живых и женатые сыновья, и замужние дочери, и маленькие дети, а еще немало их было и на местном кладбище. Схария любил детей, даже и тех, которые были зарыты в землю. Благочестивый отец и о них заботился; он каждый год нанимал несколько человек, чтобы те за них постились, и платил за это каждому говельщику, по крайней мере, по двадцати гульденов в неделю; а в день разорения храма он сам собственноручно клал на могилы детей соль и муку и кричал им в землю, чтобы они за то хорошенько о нем молилися и выкликали ему столько новых детей из пределов небытия, сколько он прокормить может. Словом, жизнь Схарии была образцовая и препочтенная: как настоящий местечковый патриарх, он давал решающий совет во всех трудных делах и, должно сказать правду, достоинство его советов стояло чрезвычайно высоко и каждому приносило несомненную пользу, а это делало Схарию необходимым человеком, которому всякий охотно уступал долю в гешефтах.
Таким образом, праведность была основанием прочного благосостояния Схарии, а благосостояние опять давало ему средство еще более увеличивать свою праведность. Он был уже так прославлен, что чтец синагоги, обходя собрание с предложением купить право развернуть и носить книгу закона, хотя и выкликал: «Кто хочет купить Гелиу? Кто хочет купить Ец-Хаюм? Кто хочет купить Хахбо? Кто даст более?» – но в существе чтец исполнял это только для формы. На самом же деле он знал, что священные права никто другой откупить не может, кроме Схарии, потому что никто за них более его предложить не в состоянии. А потому только один Схария всегда носил свиток закона и держал «древо жизни», а его ближайшие родственники имели привилегию, ходя за ним, прикасаться к этой святыне, в то время как их ученый родоначальник, приняв из рук кантора свиток, обносил его посреди умиленной толпы. Ему кантор давал серебряным грифелем знак, когда вскричать: «Возвеличьте Господа!». На его зов весь народ привык отвечать: «Благословен Господь Бог наш, избравший нас пред всеми иными народами», – и над ним всегда произносилось благословение: «Со всем его домом, где соблюдены все заповеди и где всякое задуманное предприятие должно быть благоуспешно». Потому все самые ловкие контрабандные предприятия задумывались в благословенном доме Схарии в те сумеречные часы, когда запиралось небо, и у него же хоронились их концы.
Вот какой был Схария поистине важный из важных человек. Сместить его с его высокого положения, казалось, никто не мог: все знали, что как ни подними цену последнего урока «Закона» в день Кущей, Схария все-таки откупит этот урок и опять на целый год останется «женихом Закона». Ну, вот и посудите, как можно было одолеть такого тонкого и дальновидного человека и какой для этого был нужен борец? А пришел час Схарии, и разбило всю его механику громом, да не из тучи, а из навозной кучи.
Глава третья
По моей дозорной, таможенной обязанности я, разумеется, знал всех окрестных евреев по обе стороны своей границы – как наших русских подданных, так и австриаков. Это нашему брату, таможенному, необходимо, потому что нас все стараются обмануть, особенно евреи. Это первые наши неприятели, и мы должны знать, сколько какая шельма из них в этом искусна. Сведения эти у нас, пограничных жителей, собираются очень просто, так как граница для нас ведь совсем не то, что она для вас и для всех других людей, которые ее видят раз либо два в жизни. Вы, когда переезжаете границу, будто из одного мира в другой переходите; а для нас это просто дело соседское. Мы смотрим на границу без впечатлений, а знаем только, что и у них, и у нас есть молодцы, которые нашего брата надувать хотят, и зато никому не верим. Пограничная жизнь этим очень скверная: она тому способствует, чтобы не верить человеку. И мы хотя с иным по виду и ведем дружбу, а все ему пальца в рот не положим. Я даже удивлялся этому и нарочно себя пробовал: к теще с женой повидаться в Воронежскую губернию ездил – и ничего: там всем верую. Иной хоть и знаю, что плут, а верю ему, и по дороге еду – все верю; а как к себе на границу приеду – сейчас и отрезало: никому не верю. Право, удивительно. Так тоже и с этим с праведным Схарией я был весьма знаком и о пророках любил с ним толковать, потому что у меня жена большая до Писания охотница, но все бывало, знаете, говоришь про Данииловы седьмины, а сам думаешь: а когда же я тебя, приятель, в ров посажу! Потому что я знал, как этот праведник по всем швам плутней сшит, и мне очень хотелось его сцапать. Разумеется, я его лично в числе контрабандистов не замечал; но нам было хорошо известно, что в благочестивом доме этого «жениха Закона» затевались самые дерзкие против нас предприятия, и я большую охоту имел наказать его.
Надо вам знать, что у одного из зятьев Схарии, по имени Нахмана, на той стороне, в Австрии, было что-то вроде трактира или кофейни, а вернее сказать, просто игорный приют, в котором страсть как любили резаться и австрийские, и наши таможенники. Чуть им свободное время, уже они и там.
Это так шло у нас много лет, и зять Схарии наживал с своего вертепа добрые гроши, из которых перепадала частица и Схарии. С развалом нашей последней польской рухавки и сбором наших войск на границу гешефты Нахмана в его игрецком притоне достигли неожиданного успеха; и австрийские, и наши офицеры, стоявшие по границе, скучали от бездействия, и все шныряли к Нахману. Да оно и простительно: взаправду ведь очень скучно!
Наш брат стражник, который и в мирное, и в военное время всегда воюет, он от всякой веселости отвык – мы как един раз насупимся, так и живем насупясь. Все удовольствие наше разве в картишки перекинуть или в церковь сходить помолиться. На беду, в церкви у нас дьякон из хохлов был, очень томителен: голос имел козелковатый и произносил, где не надо, мягко, а где не надо, грубо. Очень неприятно. Заезжий же человек с городскими привычками, разумеется, мог ли нашим простым житьем довольствоваться? А самое большее веселье, какое в нашем месте можно было получать, было за границей в этом заведении у Нахмана. Наши чиновники давно еще когда-то хотели было Австрию перещеголять, чтоб у себя что-то гораздо лучше завесть, да ничего не вышло; сначала столоначальник в казенной палате долго не разрешал, а потом все товарищи перессорились, и с тех пор уже ничего не затевали, а ходили на австрийскую сторону, потому что там как-то живее и развязнее. Ничего особенного, а как только на их сторону перевалишь, так сразу в мыслях другое ощущение и фантазии больше: издали слышите, как то кегли катают, то жидки там на платформе сидят, разные пьески наигрывают, – и недурно, канальи, нарезывают. Тут сейчас и ресторан, и кафе, или эти арфисточки, а у нас только разве и услышишь как кто-нибудь с досады крепким словом обругается. Всего четверть версты через лощинку и перекатишь, – но люди живут иначе – хоть не важно, а припеваючи. Разумеется, где веселее, туда и манит.
Как понаехали к нам по случаю польских дел военные, так и началось у них болтанье на ту сторону в Нахманов трактир. Конечно, бродяжничать этак за границу дело незаконное, но делалось все это будто под секретом, а к тому же: кому до этого и надобность, если с той стороны не претендуют? А австриаки же насчет верности хотя народ самый сомнительный, но очень обходительны со всяким: жалуй к ним сколько хочешь, они компанию делить любят. Так, бывало, наши офицеры снимут здесь с себя сабельки и идут на австрийскую половину и режутся там с австриаками в трактире, кто на бильярде, кто в кегли, а иные и в карты. Картежная игра длилась, бывало, иногда по целым суткам. Все это шло семейно – особенно как австриак в это время по случаю мятежа с нами заодно действовал, и сближение наших офицеров с австриацками, по всей вероятности, было даже желательно.
Теперь же нужно вам знать, что у австриаков, на их стороне, был один комиссар из поляков, самый невероятный картежник. Такой был страстный игрок, что я всегда удивлялся: как ему могли доверять казенные деньги и имущество. Но он, шельма, такой корень у себя имел, что казенного не трогал, а уже зато свое только и знал, что из рук в руки перепускал. Нынче его горка – он на паре лошадей взад и вперед катает и тогда добр, всех угощает, а завтра горка другому досталась – комиссар сам у других кушать просит. Не играл он только тогда, когда было или совсем некогда, или совсем не на что, или совсем не с кем. И когда это случалось, потому что против его игрецкой неутомимости никто не мог выдержать, то ходит он, бывало, как в воду опущенный и от скуки все в руках карты тасует. Я в призоры очес, по правде сказать, не верю, но говорили о нем, что он будто таким манером испорчен, и вдруг на этого-то испорченного наскочил с нашей стороны человек, должно быть, уже совсем перепорченный: наспел от нас комиссару такой компанион, что даже еще превосходил его и в постоянстве страсти, и в неутомимости. Был это наш армейского полку маиор Афанасьев, который и подал повод к Схарииной погибели.
Глава четвертая
Армейские маиоры, как известно, большею частию бывают меланхолики, все думать любят. Живет человек в молодых чинах, все фантазирует, а схватит маиорство и задумается. Может, это оттого, что им в этом чине предел положен, его же не прейдеши. Оттого они мрачны и не веселы. И маиор Афанасьев тоже был не веселого нрава и словно «отыгрывался» от какого-то червя, который неустанно глодал его душу.
И австрийский комиссар, и наш маиор духом друг друга почуяли, и чуть только их свели, как уж их и водой разлить стало невозможно. Дел боевых на ту пору не было, а в междучасие отрядом маиора у нас, по всеобщему российскому обыкновению, правил его помощник, а он, бывало, только на некоторый час домой появится, и если горка на его стороне, то поблестит своим выигрышем и опять улизнет за границу в Нахманов игорный дом, и там и режутся, пока или тот, или другой оберут друг друга дочиста и, осоловев, выходят отдохнуть, как мученики после истязания. До чего они доигрывались, про это и рассказывать нельзя: деньги их в целом составе всей наличности беспрестанно переходили от одного к другому, но все это не так заметно, потому деньги вещь миниатюрная, а главный курьез происходил с громоздкими движимостями, передвижения которых скрыть невозможно. У комиссара, например, был фортепианчик – хорошенький и большой фортепиан, настоящий рояль, на котором он не умел играть и никогда не играл, а имел его бог знает по какому-то особому случаю, вероятно за самую дешевую цену с аукциона достал, да была еще охотничья собака, легавая; а маиор приехал к нам в местечко в польской бричке на своей паре лошадей. Вот эти фортепиан и бричка и балансировали: как денежная наличность у игроков кончится, они сейчас и начинают двигать эту свою движимость. И мы уже и счет потеряли, сколько раз эти фортепиано и бричка с конями переходили у них из рук в руки. Переходила несколько раз и собака, но ей скоро наскучило менять хозяев, и она сначала обоих их искусала, а потом, когда они оба ее за это выпороли, она их обоих бросила и сбежала.
Разумеется, зверь умный, с такими пустыми людьми жить не захотела. Ну, а остальное все шло своим правилом: то наш маиор поедет в бричке, а возвращается с палочкой, то он идет, а за ним тащат фортепиано, и стоят они у него при его квартире под сараем, и только нам докучают, потому что ключ от них в этих переездах потерялся, и как они стояли разиня рот, то по ним все, бывало, жиденята пальцами тяпкают. Играть на них у нас никто не умел, кроме как один наш таможенный дьякон, да и тот только хвалился, что будто умеет, а на самом деле всей его игры было, что мог одним пальцем подбирать «аллилую», да Царю небесный. Тюкает с утра до ночи и подпевает. Бывало, страшно надоест этим, а попросить его лучше что-нибудь светское, так он еще хуже затянет:
Скука прелубэзна Серцю приполэзна.Совсем тоску наведет, и мы всегда очень радовались, когда наш маиор проигрывался и фортепиано опять в Австрию увозили. И шла такая азартная игра без отдыха и без перерыва, с постоянным переходом одних и тех же фондов из кармана в карман, а в чистых от нее прибытках были одни Нахман да Схария.
Но как и комиссар, и маиор оба были люди служащие и ни одному из них нельзя было не держаться начеку по своим обязанностям, то надо было устроить для этого благонадежную почту. Дело было не совсем удобное, однако устроили: если комиссар на нашей стороне, а дома в нем надобность – к нам бежит за ним кургузый цесарец в куртке, а наши за своим игроком казака Фомку посылали. Казак Фомка был мужик здоровый, краснощекий, находчивый и расторопный, но шельма чищеный. Маиор хорошо узнал его и говорил, что он человек очень надежный и службист. Был такой случай, что этот Фомка Ананьев или Канальев при разгроме одного опального дома увидал, что простодушные армейские солдатики присели около суповой чаши, горяченького похлебать, он сейчас это искоренил:
– Разве, – говорит, – это можно? а может быть, это отравленное! – и чтобы споров не было, сейчас же чашу разбил об угол, а серебряные ложки себе в карман спрятал.
– Это, – говорит, – от греха убрать надо, чтобы молодые некрута не баловались.
Словом, Фомка был человек, который обладал военным тактом.
Военный такт казака Ананьева я особенно рекомендую вашему вниманию, потому что мне придется в этой истории поставить его супротив тонкого, талмудического такта ученого Схарии. Служба нашего Фомки, разумеется, была гораздо труднее службы цесарца, потому что комиссар бывал у нас редко, а наш маиор сидел на той стороне постоянно. Потом, у австриаков по всем должностям мало пишут, а у нас на это больше аккуратности и всякому офицеру постоянно надо что-нибудь подписывать. А потому наш землячок Ананьев беспрестанно и шмыгал за границу к маиору, то одно подписать, то другое, – чаще всего с «рапортичками». И всегда казачок в этих поездках был исправен и благополучен: только падало кой-кому в примету, что он на возвратном пути из Австрии точно как будто выше ростом на седле делался: иногда, бывало, точно каланча движется. Ну, а приедет домой, спешится, разберется, и опять в свою меру войдет. Я его даже раз или два об этом спрашивал. Отвечает:
– Никак нет, ваше выскобродие, – это так только показывается.
– Ты, может быть, – говорю, – подбадриваешься этак, чтобы молодцеватей высматривать.
– Это точно так, – отвечает, – я хорохорюсь, чтобы чужой народ на нас дивовался, и под нашу державу желал, а впрочем… ни боже мой!
Казак был сметливый, знал, на что я намекал, ну и уверял меня крепко.
– Вот крест, – говорит, – на себя кладу, что езжу честно.
– То-то, мол, ты помни, что это земля чужая и что наш государь теперь с их цезарем в дружбе, – так и мы этою дружбой должны дорожить, а не то чтобы какую худую славу на себя класть.
– Помилуйте, – утверждает, – нешто мы деревенские мужики, что этого не понимаем, или не можем политику чувствовать.
И знаете, пожалуй, по-своему он это и чувствовал, но только, тем не менее, в его владении скоро стали обнаруживаться разные странные запасы, происхождение которых он объяснял не совсем вероятно; но ведь что же, кто не пойман, тот не вор, – это везде такое правило, – особенно на боевом положении. Но вот доходит до меня слух, что на той стороне бабы-хохлушки обижаются, будто Фомка-политик, проезжая по лугу, где стадо паслось, соскочил и стал корову в кивер доить; а пока на него дивовалися, он взял да и другую выдоил.
Я его этот грех покрыл и обещался даже маиору не рассказать, если признается. Фомка признался.
– Точно так, – говорит, – виноват, ошибся: я думал, что с нашей стороны корова; в грудях очень тяжело чувствовал. Знахарка, ведьма, научила: молочком, сказала, смягчит. Послушал ее, лукавый и попутал, коровкой ошибся.
– Ну, смотри же, – говорю, – чтобы больше тебя не путало.
– Вот вам Христос, – отвечает, – я этой знахарки не стану теперь слушать, и киверка больше не буду одевать, в фуражке стану ездить.
– И прекрасно, – говорю, – оно даже так и лучше будет: то ведь не наша земля, езди-ка в фуражке. Незачем там кивером махать и соблазну не будет.
– Убедительно благодарю, – говорит, – ваше высокоблагородие, рад стараться.
Я и оставил. Что же, казак ведь не красная девушка, – его много-то никогда не сконфузишь и не переделаешь; у него природа такая, что он не рохля, не ротозей, любит, чтобы мимо его ни птица не пролетала, ни зверь не прорыскивал, и ничто не убранное не валялось. Вот эта-то казацкая сноровка и была причиной одного казусного столкновения нашего Фомки Ананьева с казуистом Схарией.
Случай попутал нашего казака на той стороне рыжею козой, которая принадлежала какой-то еврейке. Была эта коза непокорна к доенью – брыкалась, а казак едет и увидел через забор, что коза отбрыкнула и опрокинула медную доенку, а молодая еврейка заплакала. Он и сжалостился, остановил коня и говорит:
– Постой, постой, евреечка, – не скучай, и гляди, только тятьке не сказывай, а я тебе эту козу выучу.
И с этим прыгнул через забор, свистнул брыкливую козу нагайкой, так что та и голос дать позабыла, и тут же подпихнул ее куда-то всю под седло, так что разве только ножки да рожки наружу оставались, а кстати захватил и доенку, сел и поехал.
Еврейка только после его отъезда догадалась кричать; сбежались соседи, бросились в погоню и нагнали Ананьева, потому что он по своей политике ехал не спеша, тихонечко, да и доенку-то, разбойник, наружи держал.
Нагнали его евреи и кричат:
– Ты зачем это взял? – а сами за доенку хватаются.
– А что, разве это ваше?
– Разумеется, наше.
– А ваше, братцы, так свое берите; мне бог с вами с вашим добром; мне чужого не нужно.
И он возвратил великодушно доенку, а сам ускакал, прежде чем о козе успели ему слово сказать.
Впоследствии он объяснил, будто потому не воротил козу, что ее у него не спрашивали.
– А я, – говорит, – по ее виду думал, что она дикая, а не светская, и приколол ее дома, потому что мне шкурка на потничек под седло надобилась.
Так эта коза и пропала, но зато с той поры пошли большие разговоры. Пропаж оказывалось много и у евреев, и у крестьян. Хохлы-крестьяне, впрочем, что за люди, – их можно и не очень слушать, а вот евреи, это другое дело; они как загалдят, так их надо скоро успокоить. А как успокоить?
Чтобы не ездил туда больше Ананьев? Так; но маиор говорил, что у него нет такого другого расторопного человека: не будет езды Ананьеву – не будет маиору покоя играть по целым дням в карты; не будет игры – не будет самого лучшего гешефта Нахману, будет большой убыток и ему, и Схарии. Как тут быть, как вывернуться? Нельзя же дать пропасть хорошему гешефту!
А на что это есть на свете ученый Схария: он должен найти средства, как сделать, чтоб и овцы были целы, и волки сыты!
И вот явились к Схарии и Нахман, и его поставщики и говорят:
– Ты, Схария, самый умный, думай и скажи нам, как это сделать.
Схария почесал себе затылок, много раз помотав пред носом пальцами, и стал думать. Думал он, думал и объявил, что «будет еще думать», ушел в заветную хороминку, часа три и слуху оттуда не подавал, а потом выслал к публике жену объявить, чтобы шли обедать, потому что он будет еще очень долго думать. Те сходили домой, пообедали и опять вернулись, а Схария еще думал. И наконец уже в сумерки, когда уже ни у кого более и терпения не оставалось ждать изречения Схарии, Хава выглянула в окно и дала рукой знак, чтобы все было тихо. Все и затихло, а тогда она сообщила им шепотом и под большим секретом, что Схария так сильно задумался, что ничего не слышит. Она ему уже и кричала, и пантофлю с него сняла, но он ничего не слышит.
Призадумались евреи и разошлись.
Глава пятая
Во всяком деле, господа, не исключая и нашего теперешнего боевого поля, если откуда ждут известий, а их долго нет, это не хорошо. Хотя худое известие, да поданное вовремя и с искренностью, все лучше, – истома хуже смерти. Так и тут, когда Схария позамешкался изнесть глагол, это не хорошо повеяло.
Зачем он медлит? Не заколодило ли ему?
А Схарии, действительно, заколодило, и притом по всем правилам, с чем-то таинственным, с какою-то кабалой.
Я не смею допытываться, кто из вас верующий, кто неверующий. Разумеется, я говорю про веру в те вещи, которые еще мудрецам не снились, а если и снились, то не объяснились. Смейтесь надо мною, если вам угодно, я человек малообразованный и обижаться не стану, ну а только по-моему этакие вещи не только существуют, а вот одна из них – это сны. Что вы мне ни говорите, а я снам верю и не перестану верить, и основание к тому имею.
Схария, вероятно, прозяб и устал, а потому как сел обдумывать, что сделать с казаком, чтобы он по-прежнему ездил, но никого не трогал, так и сам не заметил, как заснул. Но что он за тяжкие претерпевал при этом мучения. Видит он пред собою книгу Закона и уже быстро разогнул ее и хочет читать заветное место у Даниила, как вдруг откуда ни возьмись кто-то рыжий закрыл книгу рукой и говорит: «Я ее запечатлеваю». Сказать такое слово благочестивому еврею, это дело ужасное. После этого он не может молиться до тех пор, пока признает себя нарушившим заповедь против ближнего и выпросит себе у него прощения. Схария остолбенел от такой наглости! Кто мог быть этот дерзкий, который удрал ему такую штуку? Никто иной, как Коган Шлиома, которому давно хочется быть святее Схарии и перекупить у него Гелиу. Схария видит его дерзкую руку, обернулся, но Шлиома уже исчез. Схария в синагоге; поднял книгу Закона вверх обеими руками, так высоко, чтобы все ее видели, и, прохаживаясь с нею при общем одобрении, громко выкрикает: «Вот закон, который Моисей дал детям Израилевым!», но вдруг ко всеобщему ужасу зашатался и уронил книгу Закона на пол, – это второй знак почти уже неотвратимого несчастия.
Не обошлось и без третьего. Схария дома; собрал на школьный двор множество мальчишек, дал каждому из них по грошу и по деревянной пике и заставил их как можно громче кричать и махать пиками, чтобы прогнать дьявола, явно строящего ему каверзы. А сам пошел в комнату, горя желанием узнать: хорошего или худого должен он, после такого крайнего употребленного им средства, ожидать себе в будущем, и стал с этою целью рассматривать над свечой свои руки. Но у них пропала тень! Испуганный Схария бросил свечу и поспешно выбежал нагой на крыльцо, чтобы при луне вернуть себе тень от Авеля, но луна вдруг вся потемнела и как будто упала с неба.
Хуже этого ничего не может быть на свете, так как самые знаменитые раввины в одно говорят, что исчезновение тени знаменует неизбежную погибель, и это верно, потому что основано на Моисеевом слове «и тени своей не узрите».
Столь быстро, кажется, никто не падал в своих собственных глазах и в глазах всего общества, как падал Схария. Осталось последнее средство: до зари исповедывал Схария свои грехи, стоя не на земле, по которой ползал райский змей, а в тазу с водой, и потом взял белого петуха, а Хаве дал наседку, и оба они долго вертели этих птиц около своей головы. Петух и курица громко кричали, а Схария выкрикал:
– Пусть этот петух будет жертвой за мой грех: пусть он заслужит мне хорошую награду! Пусть как машет этот петух крыльями, так машут крыльями и перелетают вокруг меня с места на место ангелы. Пусть улетают злые и садятся вокруг моей головы на их место добрые! И пусть этот петух умрет за меня на этот год, а я буду жить, и Хава будет жива и будет меня слушать с одного раза и будет у нас с нею всякую неделю гут-шабаш…
И он протянул руку и дернул Хаву за руку, велел ей сварить и петуха, и наседку; внутренности жертвенных птиц завязал в узелок и положил на крышу дома, чтобы вороны унесли их с глаз. Так Схарией было сделано все, что можно было сделать для отвращения грозной судьбы, и он слышал уже, как, прежде чем началась вечерняя молитва, два раввина разом в один голос начали восклицать ему публичное прощение. Но в это самое время досадительная Хава разбудила мужа.
Небесный свод уже алел; занималась заря, свежая мартовская заря, пред днем Пурима, торжественного празднества в память победы Мардохея над Аманом. Это день, когда каждому благочестивому еврею не только разрешается, но даже вменяется в обязанность пить до тех пор, пока он будет не в состоянии отличить Амана от Мардохея.
Это не только день радости, но и день чудес, когда еврею сходит с рук все, что бы он ни сделал. Писано, что когда два знаменитых раввина, Рабба и Сиро, сошлись в этот день, чтобы вместе упиться до неспособности различить Амана от Мардохея, то раввин Рабба принял за Амана раввина Сиро и убил его, и уложил под лавку, но и это нимало раввину Сиро не повредило, потому что когда раввин Рабба о нем помолился, то Сиро сию же минуту ожил и так шибко убежал из-под лавки, что Рабба не мог его догнать и даже совсем его не видел.
В этот день еврей безопасен от всех бед, а потому Схария не боялся даже своего вещего сна, который до зари пугал его целым рядом последовательно развивающихся злых предзнаменований.
Схария встал бодро, мастерски выпотрошил рыбу, которую должен был сам приготовить, и пошел в синагогу, где должен был объявить, как поступить с казаком, чтобы он ездил, но никого не тревожил.
Ответ этот по своей простоте и краткости отдавал чем-то библейским; он весь состоял в том, что пусть казак ездит, но пусть он оставляет лошадь где-нибудь со въезда и ходит через местечко пешком; а главное, чтобы он не смел ни к кому обращаться ни с каким словом. Тогда ему нельзя будет никому грозить, никого пугать, и ничего он не уложит себе под седло; а между тем комиссар с маиором будут играть, и дела в трактире Нахмана не остановятся, и всем будут идти добрые гешефты.
План был очень хорош, и его одобрили все евреи, и комиссар, и наш маиор, который немедленно же отдал в этом смысле точный приказ Ананьеву и затем закатил сам на ту сторону отыгрываться.
Кажется, даже сам Ананьев, которого это всех прямее касалось, и тот был этим доволен, и с великою клятвой присягал маиору, что все то исполнит.
– Ей-богу, – сказал он: – я, ваше благородие, даже рад, что этак уже по крайности с меня вся напраслина снимется. А мне что с ними говорить? Бог с ними совсем; нешто мне, кроме их, не с кем поговорить? Я и на своей стороне поговорю.
Так большим и тонким дипломатическим умом Схарии был улажен, ко всеобщему удовольствию, этот казусный вопрос, и Схария, прекрасно проведя канун веселого праздника, пошел держать с своей Хавой опочив, который должен был дать ему силу и крепость потрудиться завтра в честь победительного Амана и за столом, и за молитвой.
Но как в старенькой песенке поется: «что на счастье прочно всяк надежду кинь», то этою ночью, когда Схария улегся по всем правилам талмудической науки и спал нагишом и на левом боку, изображая собой Исаака, положенного на жертвенник, ему опять привиделся тот же зловещий сон вчерашней ночи и повторился во всех мельчайших своих подробностях.
Это Схарию смутило тем более, что как ни точны на все случаи жизни указания раввинов, но такое буквальное повторение сна ими, вероятно, не было предвидено и во всей обширной науке Схарии не было рецепта, как поправить это дело, да и не было уже времени его поправлять; заря Пурима восходила, и Хава, соблюдая свой супружеский долг, возвещала об этом толчком в бок своему супругу.
Глава шестая
Начался веселый Пурим; как подобает по написанному и по переданному дедами, все пришли утром в синагогу, мужчины и женщины, причем почти каждый захватил с собою ножичек, гвоздь и молоток или колотушку. Каждый тотчас с прихода спешил нацарапать где-нибудь на видном месте, на стене или на чем другом, имя Амана для того, чтобы потом во время чтения книги Эсфирь «бить Амана», – то есть колотить по его выцарапанному имени, пока оно изгладится. Кантор пропел громко исповедь, прочитав урок из книги Закона; Схария, который старался скрыть свое смущение, откупил право обносить посреди синагоги Закон, и все сыны Израиля целовали на руках его священный свиток. После этого чтец зачитал книгу Эсфири, и при первом же звуке «Аман» по синагоге раздался оглушительный стук молотков и колотушек, которыми благочестивый народ усердно изглаживал ненавистное ему имя. Схария, как известный законник, действовал всех ретивее. Он выгравировал пред собою имя Амана крупнее и глубже, чем все другие, и с первого же раза ударил по нем так ожесточенно, что случилось самое ужаснейшее из ужасных происшествий: большая, надежная колотушка Схарии сломалась в самой рукоятке, и ненавистное имя Амана оставалось во всем своем очевидном значении неизглаженным. Рыжий-таки запечатал его книгу…
Это был скандал невероятный и примета самая скверная; порядок моленья нарушился; неизглаженного Схарией Амана должны были добить другие, что они и исполнили с ожесточением общими силами, но, тем не менее, Схария был страшно унижен и сконфужен. Все обаяние его сразу пало в прах во мнении мятежного народа, который легко бунтовался даже против самого Моисея. И Схария видел это и не удивлялся; предзнаменование было слишком зловещее, чтобы строго религиозный человек не отшатнулся от того, над кем так видимо тяготеет какое-то ужасное указание. Все сказали себе, что Схария верно чем-нибудь без меры тяжко согрешил и что он непременно должен погибнуть. Все от него отшатнулись, и кучки гуляющих в праздничном уборе удалялись от его дома, как от зачумленного.
Положение было псаломское: господь удалил от Схарии и друга, и искреннего, и приуготовлял его быть в мерзость себе самому и в поношение людям.
Если из вас кто-нибудь так счастлив, что уже переходил в жизни полосу, когда человек весь видит себя в руке какой-то неодолимой власти, которая его мнет и тяготит, то вы можете понять это положение, а если вы еще сыры и не научены доброму смыслу и ведению, то вы и не поймете, как в подобных случаях человек удивительно одуревает и начинает сам лезть на свою погибель. Все это и проделал над собою в совершенстве Схария.
Мучительное сознание отвержения терзало его, но он отправлял праздник по установлению и усердно старался привести себя в такое состояние, когда благочестивый еврей перестает отличать Амана от Мардохея. Доспевая к этому, Схария частенько подходил к укрепленному в угле поставцу и после каждого стаканчика отходил к окну, растопыривал пред собою обе руки и считал пальцы; но хмель был не разымчив и число пальцев все оставалось одно и то же: на двух руках и теперь, в Пурим, все было десять пальцев, как будто в самый простой день.
С коих пор Схария себя помнил, с ним этого еще никогда не случалось. Не худо ли было винцо в баклажке, но каждый Пурим он припасал себе одно и то же винцо, которое черт его знает почему называется «розенвейн», хотя состоит просто из смеси коньяку и воды. Проще сказать, по-нашему это ополоски, которыми ополаскивают бочки из-под красных французских вин, подправляют коньяком и продают жидам, а те пьют и дуреют. В былые годы Схария от этого розенвейна видел у себя на двух руках пальцев по двадцати, и теперь чем туже это давалось, тем он сильнее этого добивался. Он выпивал и, выпивая, расхаживал по комнате и размышлял: за что так разгневался на него Всесильный и в самый Пурим отдал его в посмеяние невеждам? Если он, Схария, чем-нибудь и со грешил более или менее тяжко, если он даже когда-нибудь, садясь за стол, позабыл вымыть руки, то ведь и это может быть изглажено в такой праздник. Но сколько же у него, Схарии, есть зато заслуг и святых дел? Не он ли, Схария, всю свою жизнь подстерегал все грехи христиан, выставлял их на вид своим старцам и детям и лучше всех успокоивал их совесть в разрешении всяких присяг, клятв и обещаний, данных христианину? Не он ли вредил христианам неупустительно всегда и чем только мог? Не он ли доказывал, как бедна и ничтожна христианская вера, как она ничего не дает своим на земле, где они до сих пор еще не научились, чтобы друга поддерживать, а в будущем даже и не обещает им ничего такого, что бы могло согреть внутренность? Как осязательно он умел представить награды, которые ждут верных евреев. Он умел научать всех вот именно в этот веселый праздник Пурим забывать все притеснения и бедствия, которые они несут от ненавистных христиан. Самого несчастного и бедного он приводил в расположение мечтать теперь о хорошем пиве, о крепком вине, о рыбе Левиафане и о большом быке, которого пасут ангелы и дают ему в день траву с тысячи гор.
Сердце Схарии сохло, и внутренность его требовала розенвейна: он подошел к поставцу и сразу налил два заповедные сосуда: узкодонный бокал, из которого он пил, когда женился на первой жене, бывшей девушкой, и стакан, из которого поила его Хава, выходившая за него замуж вдовой.
– Жены мои, развеселите меня хмелем винограда и воспоминанием того, что было, когда мы в первый раз пили вместе из этих стаканов!
Проговорив это, Схария духом проглотил узкодонный бокал и стакан и, отойдя к окну, опять растопырил и пересчитал все свои пальцы.
Дело не подвигалось: на руках у Схарии продолжало оставаться десять пальцев. Было очевидно, чтобы выбиться из этого гнусного положения, надо было прибегнуть к последним, самым действительным средствам и уже ничего не жалеть.
Схария так и сделал.
– Нет, – сказал он, – пусть это не будет так! Нет; если уж на то пошло, то я уже ничего не пожалею и так и быть я обновлю Закон в синагоге.
У этих суеверов «обновить», то есть пожертвовать в синагогу новый свиток, все равно, что у игроков смарать старые записи. Но это стоит дорого, потому что «обновить» иначе нельзя, как чтобы новый свиток был параднее того, который уже находится в употреблении.
Но Схария решил «обновить», и притом «без обмана», и объявил это Хаве.
– Жена моя, встань и слушай, слушай, что будет говорить твой муж, потому что я буду давать обет Богу и без всякой хитрости, и что я ему обещаю, ты, Хава, будешь тому свидетельница.
– Только не надо обещать грошей, – отозвалась Хава.
– Нет, ты молчи и слушай. Это не твое дело: я обещаю, Хава, что если над нами не будет ничего худого и если я и ты, Хава, и все дети мои, и весь дом мой проживем этот год здорово до другого Пурима, то я, Хава, буду делать большие жертвы: я выпишу, Хава, из Вильны самого лучшего писаря и прикажу ему списать весь Закон на телячьем пергамене большими, ровными, как одна, литерами. И это будут, Хава, такие книги, каких у нас еще не было: все они будут списаны без одной ошибки и кусок пергамена будет пришит к другому куску воловьими жилами из быка, которого я сам заколю на это. И приколочу я пергамен к крашеным палкам с золотыми цвяшками… И это будет мой Закон … О-о-о-й, не мешай, не мешай мне обещаться, Хава: я знаю, что ты хочешь говорить, а ты только слушай. Тебе, Хава, не надо говорить, потому что я все знаю и даю обет Богу за то, чтобы он меня хорошо охранил до другого Пурима… Да; и тебе зато со мною хорошо будет, Хава. И когда все будет готово, Хава, ты приготовишь тогда гугель и перцу с медом и всяких пряников, только таких, чтобы от них не болел крепко живот и никто, их поевши, не умер. Я куплю намоченных яблоков и всяких хороших плодов, и состроим балдахин… О-о-о-й, не мешай, Хава, не мешай, мне это надо все громче кричать, чтобы все ангелы слышали, что я обещаю! Построим балдахин с золотом, Хава, и с серебром… да, Хава, – с настоящим ясным золотом, как Соломон делал, и будет балдахин на двадцати четырех высоких крашеных палках, и все будут за те палки цепляться, а возьмут их мои сыны и друзья, и мы одни понесем его посередине всей улицы и впереди всех войдем в синагогу, а книги будут нести раввины. Каждый раввин все будет нести всего по пяти шагов и переменяться, – да… по пяти…
– И за то им всем надо платить? – решительно перебила Хава.
– Да, Хава, да; всем надо будет платить, – отвечал Схария: – и мы всем заплатим, Хава. Что же такое: мы заплатим, но потом Бог отдаст нам всемеро… Ты, верно, забываешь, Хава, что Бог должен отдать нам все весемеро, и даже больше как всемеро.
– Еще отдаст ли, и когда он отдаст!
– Хава, разве так можно говорить? Разве я не ученый человек, разве я не весь Закон знаю; разве это не я тебе говорю? И как ты можешь мне не верить с одного слова, когда я могу тебя за это отпустить.
– А если ты умрешь прежде, чем получишь от Бога всемеро, какой тогда будет нам гешефт?
– Ага! вот ты опять не хорошо говоришь, Хава: право, ты не хорошо говоришь, для чего же я умру: я за то обет делаю, чтобы я не умер и был цел до другого Пурима, а ты говоришь, что я умру. Знаешь, я опять теперь боюсь, Хава, что твоя бабка была не Ева, а глупая Лалис, которая докучала Адаму тем, что все спорила. Смотри, Хава, чтобы я за это не дал тебе развод.
Но Хава, относительно еще молодая жена Схарии, которая была маловерна и довольно скупа, а к тому же знала себе цену, решительно восстала против ценных обетов и, указывая на преклонные годы Схарии и на свою относительную молодость и на кучу здесь же шнырявших и валявшихся по перинам детей, с совершенно несвойственною еврейке самостоятельностью, решительно протестовала против так торжественно произнесенного ее мужем обета.
Схария, как ни был преисполнен самой основательной ученой солидности, не мог снести этой дерзости: он стал сердиться, кричать, а наконец, видя, что не может победить строптивой жены, сказал ей:
– Штиль! я завтра же напишу тебе разводное письмо, да непременно! и велю писарю написать его ровными, одна к одной буквами и без всякой ошибки, и ты его возьми и ступай вон, и пусть имя твое изгладится в потомстве.
И Схария в гневе подошел опять к шкапу и налил себе розенвейна, а Хава, которая не очень боялась изглаждения своего имени, но очень боялась остаться без денег, спокойно отвернулась к окну, но вдруг пронзительно вскрикнула.
– Что там? – спросил Схария.
– Казак, – прошептала Хава и указала на свои ворота, в которые Ананьев тянул за повод свою длинноногую поджарую лошадь.
Схария уронил стакан и, взглянув торопливо на свои пальцы, увидал, что их ни одного нет… Да, совсем ни одного не было, а пред глазами только какой-то огромный трясущийся паук косил во все стороны кривыми ногами.
Глава седьмая
Схария наладил свое дело! Его обет уже несомненно принес свои плоды: исчезновение пальцев возвещало приближение того вожделенного состояния, когда он не станет отличать Амана от Мардохея, а тогда по его молитве будут твориться чудеса, какие творились по молитве Рабба, убившего и воскресившего раввина Сиро. Меламед сообразил это и быстро поправился: казак ему перестал быть страшен.
– Не смей кричать! – сказал он жене: – ты увидишь, что я с ним сделаю.
– Нет, ты смотри, что он делает, – и Хава указала на Ананьева, который в это время щелкнул нагайкой по боку хозяйскую корову, что меланхолически жевала сено у обреза, и, отогнав ее, поставил к сену свою донскую клячу.
– Это ничего, – отвечал Схария.
– А корове больно: она не даст молока, и когда у нее заболит печенка, она будет треф.
– Если у нее заболит печенка, мы ее продадим христианам и нам не будет никакого убытка.
– А когда он придет и будет просить есть.
– Он не может, Хава, просить, он ничего с нами говорить не смеет.
– А когда он станет пугать?
– Он не будет пугать!
– Почему не будет?
– Молчи: я знаю: он с нами ничего делать не смеет.
– А как он украдет мою серебряную ложку?
– Ты сядь, Хава, на ложку; сядь на нее хорошенько, как Рахиль, и он ее не украдет, а мне скорее подай из шкапа лист бумаги и чернила, и смотри, и понимай, что умно-преумно буду делать. Теперь смирно: он входит.
– И он с кем-то говорит, Схария, – робко прошептала Хава.
– Молчи; пусть с кем хочет говорит, а с нами он говорить не будет. Тут я буду говорить; ты замечай, Хава, что я буду говорить. Я буду очень умно говорить.
В это время сильный толчок из сеней отворил дверь, и на пороге показался во весь свой огромный рост казак Ананьев. По дипломатическим условиям своей поездки он был безо всякого оружия, но с нагайкой, увесистость которой уже испытала на себе Схариина корова.
Дети, видя казака, сначала было все сразу заплакали, но когда Хава загребла их кучкой в угол и покрыла своею ватною юбкой, они сейчас же стихли. В покое водворилось мертвое молчание.
Казак немножко покачивался: он, очевидно, был пьян. Это так и следовало. Пурим справлялся не на одной австрийской стороне, а и на нашей, где благочестивых евреев еще более, чем в Австрии, и все они не менее австрийских крепки в отеческих преданиях.
Момент был тягостный и острый, который, по-видимому, ни одна, ни другая сторона не знали, как прервать; но это длилось не долго, и меламед первый дал почин к оживлению сцены.
Схария, как будто не обращая на казака внимания, взял в руку перо и, глядя на него, заговорил по-русски:
– Ой, перо мое, перо! ой, кабы ты могло знать, мое перо, что я с тобою буду делать? А я с тобою сейчас буду писать все, что здесь будет говорить чужой человек, которому ничего по сей бок ни с каким цезарским человеком говорить не велено. И как, что он скажет, я все сейчас запишу и пошлю то к комиссару, а комиссар отошлет московскому маиору, а московский маиор выбьет те слова кому надо по-московски на спину, и будет тогда от этого чужому человеку совсем очень прескверно. Теперь слушай, мое перо, и пиши хорошенько.
Проговорив это, Схария обмакнул перо, положил руку на бумагу и приготовился писать; но писать было нечего. Ананьев не обращался ни с одним словом ни к Схарии, ни к его Хаве, ни к их детям, а, выслушав политичную речь меламеда, повел против него свою политику.
Стоя посреди горницы, казак прежде всего вынул из шаровар трубку и начал ее молча набивать. Потом закурил трубку собственною спичкой, спрятал в шаровары кисет и, усевшись на скамье за столом, вытащил из кармана маленький белый миткалевый платочек и преосторожно-осторожно начал его разворачивать.
Казак раскрывал свой платок, точно в нем был завернут какой-то драгоценный перстень, но, разумеется, ни перстня, ни какой другой драгоценности в платке не было. Это досконально видел и Схария, и его жена, и их дети, и баба Оксана. Похоже было, что это какая-то хитрость, и эта хитрость начинала всех занимать. Казак же продолжал свое дело необыкновенно серьезно: он развернул платочек, сравнял все уголки вдвое, вчетверо, потом крест-накрест и будто рассердился, что не так вышло, и опять стал его встряхивать и наново складывать. Опять долго и много он его встряхивал, переворачивал, смотрел на свет и, заметив где-то пылинку на столе, сдул ее и начал расстилать и разглаживать лапами на этом месте свой платок, а потом, положив на него свою нагайку, поласкал ее рукой, как будто какого любимого кота, и повел с нею такое слово:
– Ой, нагайка моя, нагайка! Распреумная ты, моя дружина, казачья кормилица. Много ты мне, государыня, сослужила всяких служб и еще сослужи, что я тебе буду теперь сказывать. Не сердись, что я строго с тобой сейчас обошелся, что должен был тебя об жидовскую корову хлопнуть; в этом ты сама виновата: зачем службу забываешь: не припасла коню на дворе гарчик овса и корову раньше не отогнала. Вот за то тебе и досталось, что ты свою донскую присягу забыла, за это я тебя и вперед не помилую. Не хочешь бита быть – сама себя оберегай, – неси службу верную: я сейчас теперь пойду к командиру и самою короткою дорогой, шибко побегу, а тебе приказываю, чтобы мне здесь к моему приходу, вот на самом этом платочке, стояла целая бутылка водки и тарелка перцу с жидовской рыбой, и ты это непременно достань, а если не достанешь, то я тебя схвачу тогда за ухо, да начну обо всех жидов хлопать, пока у тебя ухо оторвется. Вот тебе в том и задаток, чтобы знала, как тебе достанется!
При этом он взял нагайку в руки и, встав с места, так ударил ею по скамейке, что та сразу же развалилась надвое, а сам опять положил нагайку на платок и вышел, не сказав хозяевам ни одного слова.
Впечатление было полное. Казак успел уже обогнуть угол дома, а семья достопочтенного Схарии еще пристально смотрела на мастерски разрезанную плетью скамью, которая служила прообразованием того, что в самом недалеком будущем должно случиться с ними самими, если только ум и ученость Схарии не найдут средства отклонить жестокого наказания, угрожавшего несчастной нагайке.
Первая обнаружила признаки этой заботливости Хава: она выпустила из-под юбки детей и сказала мужу:
– Что ты себе думаешь, что он говорил с этой ногавкой?
– Я думаю, что он совсем глупый.
– А что из этого, что он глупый, когда ей от этого ничего, а нам очень больно будет.
– Это правда.
– Видишь, что он сделал с нашей скамейкой.
– Он ее совсем испортил, Хава.
– Я не хочу, чтобы с нами так было, Схария.
– Да, лучше я буду думать, чтоб этого не было, – отвечал он.
– Ты станешь думать и опять уснешь.
– Нет, Хава, я теперь не усну, теперь нельзя спать, Хава.
– Нельзя спать, надо скорее послать Оксану за Шмилем и Шлиомой, чтоб они шли с этим москалем биться.
– Нет, Хава, нет. Что такое биться? Из-за чего биться? И они не придут, Хава, биться… Нет!.. Я сейчас выдумаю; я сейчас выдумаю такое, что ты никогда не слыхала, да; я не пошлю Оксану ни за Шмилем, ни за Шлиомой, потому что они будут потом на нас смеяться, а я пошлю Оксану совсем в другое место, Оксана! что ты стоишь? Ты ходи смело, совсем смело ходи. Ты иди в кладовую и возьми все, что он говорил, – ты возьми рыбу, и ты водку возьми, и ты поставь все это сейчас на столе. Да, да, да, нечего тебе так на меня смотреть: я умный человек, я знаю, что я говорю, потому что я не хочу, чтобы он бил о меня и о моих детей свою знагайку. А он дурак. Если он может думать, что эта знагайка может ему водки и рыбу поставить – он дурак, и Коган Шлиома дурак. Мы поставим водку и рыбу, и этот казак завтра заедет до Шлиома и опять все этак сделает, а Шлиом глупый человек, он рассердится и не поставит всего на стол и они оба будут один с другим биться и оба друг друга убьют, и их за это обоих повесят на высоком столбе, и поганая птица с большим носом сядет на них и будет их есть. А мы дадим этому дураку водки и рыбы и больше ничего, потому что у меня есть настоящий ум, который все злое может переделать. Пусть он думает, что ему все это принесла сюда его знагайка, и пусть сделает этак же завтра с Шлиомою. Вот что я выдумал!
И Схария от нетерпения сам помогал скорее выставлять на указанное казаком место бутылку вина и полмисок с рыбой и был очень рад, что в эту же самую минуту в окне мелькнула фигура Ананьева и чрез секунду находчивый плут сам появился.
Одно, что не было приготовлено Ананьеву, это не поставили ему другой скамейки, но походный человек за этим не гонится; наш же казак теперь был особенно скор и решителен: он даже выпил всего одну рюмку водки, а всю остальную бутылку спустил за голенище; а кушанье только попробовал и заметил, что жиды очень мало рыбы в перец кладут. А затем собрал все в платок и прочел казачью молитву:
– Бог напитал – черт не видал, а если видел – не обидел. И тебе, нагайка, спасибо: хорошо спроворила, за то и не будешь о жидов бита; а теперь хочешь здесь оставайся, хочешь вели бабе, чтоб она несла тебя за мной с почестью.
– Неси ее! – шепнул грозно Оксане Схария.
И та понесла нагайку за Ананьевым, который, войдя на двор, отвязал от обреза свою клячу и стал подтягивать подпруги, но вдруг слышит – баба говорит ему:
– Господа Москалю, а господа Москалю!
Казак посмотрел на нее и отвечает:
– Молчи, тетка, мне в вашем царстве с вами говорить нельзя.
– Да мени от вас только одно слово треба.
– Какое одно слово: худое или доброе?
– Скажите мени, чи вы чего у нас не вкралы?
– Что ты, что ты, дура! Разве мы не крещеные?
– Да що с того, что вы хрещены, да крадете, а меня потом хозяева бить будут.
– Бить будут! Вот видишь, жизнь-то у вас какая горькая!
– Отдайте же що вы вкралы?
– Да отвяжись ты от меня, сделай милость, с такими пустяками. Ты лучше молись Царице Небесной, чтобы мы вас поскорей победили и за себя взяли, тогда тебя жид не посмеет бить.
– Да що молиться, я и так молюсь, щоб и вы побидыли и щоб вас побидыли, а яки не побидятся, тих щобы сила Божа побидыла, тылько скажите, що вы у меня вкралы?
Казак и рассердился.
– Тьфу ты дура, – говорит: – с тобой и слов тратить нечего!
Вскочил на коня и говорит:
– Подай мою нагайку.
Но Оксана, что бы вы думали:
– Эге, – говорит, – нет, вы мени отдайте, що вы вкралы.
Тут Фомка Ананьев уже совсем взбесился, да к ней, а она от него, да в сени заперлась, а нагайка у нее в руках осталась. А казак туда-сюда, ломиться не смеет – и был таков – ускакал на свою сторону. И вышла всех дальновиднее баба Оксана, а всех глупее мудрый Схария, который тут только и понял, как он просто мог отделаться. С этой поры мой Схария и стал у всех в посмешище и доживает век в дураках, ожидая, пока придет час обмазать ему голову сырым яйцом и зарыть его в землю. Вот вам и «страшный жид» с расчетом. Конечно, может быть, это к другим в пример не идет, ну да я ведь это так рассказал, к тому, что и рассчетливый просчитывается. Не взыщите. А теперь спать бы! да если ночью тревога, пожалуйста вставать – не копаться.
Впервые опубликовано – «Русский вестник», 1878.

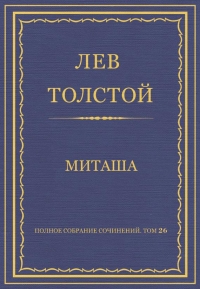
Комментарии к книге «Ракушанский меламед», Николай Семенович Лесков
Всего 0 комментариев