Николай Лесков Детские годы (Из воспоминаний Меркула Праотцева)
I
Я думаю, что я должен непременно написать свою повесть, или, лучше сказать, – свою исповедь. Мне это кажется вовсе не потому, чтобы я находил свою жизнь особенно интересною и назидательною. Совсем нет: истории, подобные моей, по частям встречаются во множестве современных романов – и я, может быть, в значении интереса новизны не расскажу ничего такого нового, чего бы не знал или даже не видал читатель, но я буду рассказывать все это не так, как рассказывается в романах, – и это, мне кажется, может составить некоторый интерес, и даже, пожалуй, новость, и даже назидание.
Я не стану усекать одних и раздувать значение других событий: меня к этому не вынуждает искусственная и неестественная форма романа, требующая закругления фабулы и сосредоточения всего около главного центра. В жизни так не бывает. Жизнь человека идет как развивающаяся со скалки хартия, и я ее так просто и буду развивать лентою в предлагаемых мною записках. Кроме того, здесь, может быть, представит некоторый интерес, что эти записки писаны человеком, который не будет жить в то время, когда его записки могут быть доступны для чтения. Автор уже теперь стоит выше всех предрассудков или предвзятых задач всяких партий и направлений и ни с кем не хочет заигрывать; а это, надеюсь, встречается не часто. Я начну свою повесть с детства, с самых первых своих воспоминаний: иначе нельзя. Англичане это прекрасно поняли и давно для осязательного изображения характеров и духа человека начинают свои романы с детства героев и героинь. Ребенок есть тот же человек в миниатюре, которая все увеличивается.
«Дитя – это отец будущего человека», – говорят любящие эффект французы, а здравый смысл наших предков еще глубже и проще выразил это поговоркою: «каков в колыбельку, таков и в могилку».
Итак, прежде чем вы наступите на мою отшельническую могилу, не откажитесь подойти к моей детской колыбели, – иначе, я боюсь, вы, как и другие, будете недоумевать: зачем я очутился в монастырской ограде?
Поэт Бенедиктов, произведениями которого я вдохновлялся в дни моей юности (я был юн тогда, когда еще юноши любили поэзию), однажды напугал меня. Вычитав у него, что «счастье наше» не что иное, как «перл, опущенный на дно», и что «кто лениво влагу тянет и боится, что хмельна», то, «слабый смертный, не достанет он жемчужного зерна», я пленился другим образцом, образцом человека, который, «согрев в душе отвагу, вдруг из чаши дочиста гонит жизненную брагу в распаленные уста». Я с детства уже приспособлялся припасть – и без передышки, без удержа, выпить мою чашу, достать со дна ее заветный перл, и я ее выпил и – слышу над собою:
Вот счастливец! дотянулся; Чашу разом о земь хлоп… Браво, браво! оглянулся, А за ним отверзтый гроб.Да, это так: за мной отверзтый гроб – и в виду его я обращуся к моей колыбели и попробую расставить легкие вехи для обозначения моих скитальчеств между двумя крайними точками бытия.
Я был странный путник: бодрый, но неудержимо стремящийся вперед, я беспрестанно терял тропу, путался, и когда я хотел поправиться, то выходило, что я не знал, куда повернуть, и еще хуже запутывался. Единственный поворот, сделав который я немножко ориентировался, это – тропа в скит. Только усевшись здесь, в этой старой вышке, где догорает моя лампада, после дум во тьме одиноких ночей, я приучил себя глядеть на все мое прошлое как на те блудящие огоньки, мерцающие порою над кладбищем и болотом, которые видны из моей кельи. Поздно вижу я, что искал света и тепла там, где только был один заводящий в трясину блеск, и что вместо полной чаши, которую я хотел выпить, я «вкушая вкусил мало меду и се аз умираю».
Но начнем ab ovo,[1] если не с самой колыбели, то хоть с той поры, как я себя помню. Это тоже в своем роде момент довольно оригинальный и, вероятно, не совсем такой, какой сберегся у каждого для первого воспоминания.
Я в первый раз сознал свою индивидуальность с довольно возвышенной точки: я держался обеими руками за нижнюю планку рамы и висел над тротуаром за окном пятого этажа.
Случай этот был некогда предметом больших толков одного густонаселенного польского города, где тогда стоял кавалерийский полк, которым командовал мой отец; руки мои ослабели и готовы были выпустить раму, вдруг меня за них кто-то схватил и втянул в комнату.
Для моих родных и домашних навсегда осталось тайною: как я очутился за окном. Прислуга, смотрению которой я был поручен, уверяла, что меня сманул и вытянул за окно бес; отец мой уверял, что виною всему мое фантазерство и распущенность, за которые моя мать терпела вечные гонения; а мать… она ничего не говорила и только плакала надо мною и шептала:
– Что такое делается в твоем маленьком сердчишке и в твоей головенке?
Но все это уже было, разумеется, после, а я буду последователен в этом рассказе.
Я вылез за окно и повис на подоконнике, когда родителей моих не было дома, – и оттого доставленный мною им сюрприз имел сугубый эффект: возвращаясь домой в открытой коляске, они при повороте в свою улицу увидали массу народа, с ужасом глядевшую на дом, в котором мы жили, – и, взглянув сами по направлению, куда смотрели другие, увидали меня висящего на высоте восьми сажен и готового ежеминутно оборваться и упасть на тротуарные плиты.
С матушкой сделался тяжкий и глубокий обморок, из которого ее едва могли вывесть, меж тем как отец в это время успел взбежать наверх в свою квартиру и, схватив меня за руки, спасти от неминуемого, падения.
Я лучше и яснее всего в жизни помню вечер этого дня: я лежал в детской, в своей кроватке, задернутой голубым ситцевым пологом. После своих эквилибристических упражнений я уже соснул крепким сном – и, проснувшись, слышал, как в столовой, смежной с моею детскою комнатой, отец мой и несколько гостей вели касающуюся меня оживленную беседу, меж тем как сквозь ткань полога мне был виден силуэт матери, поникшей головой у моей кроватки.
– Этот мальчишка – какое-то замечательное явление в природе, – говорил мой отец и при том высказал опасение, что из меня со временем непременно выйдет какой-нибудь совершенно неспособный к жизни фантазер. – Всмотритесь вы в его глаза, – продолжал отец, – он все как будто что-то ловит взором и к чему-то стремится… И не забудьте, что этот взгляд у него таков с самой минуты его рождения. Я помню, когда меня привели к пеленальному столику, на котором его управляла бабка, – он не плакал, а превнимательно рассматривал ее лицо – и потом, переведя глаза еще выше, он начал еще внимательнее разглядывать пестрый трафарет комнатного карниза. Я тогда же сказал: «Э, да это, кажется, в свет пришел новый верхолет, которых и без него довольно».
– Однако вы могли в этом ошибиться, – отвечал ему один из гостей и друг нашего дома.
– Да, – отвечал отец, – но у меня верный глаз, и я не ошибся. Моя жена – даром, что она лютеранка, она верит в русского бога и привечает разных бродячих монахов и странников, которых я, между нами сказать, терпеть не могу; но представьте вы себе, что один из таких господ, какой-то Павлин, до сих пор иногда пишущий нам непостижимые письма, смысл которых становится ясен после какого-нибудь непредвиденного события, недели три тому назад прислал нам письмо, в котором между всяким вздором было сказано; «а плод, богу предназначенный он ангелом заповест сохранить во всех путях, и на руках его возьмут, и не разбиется». Поверьте, я далек от суеверия и сам недавно проучил одного ксендза, который показывал фальшивое чудо, – но я уверен, что моему мальчишке, когда он остался один, здесь, в комнате, непременно что-нибудь померещилось – и он потянулся за этим видением и очутился за окном, где его могло сберечь только чудо.
Услыхав этот разговор, я начал припоминать, как это было, – и действительно вспомнил, что передо мною неслось что-то легкое, тонкое и прекрасное: оно тянуло меня за собою, или мне только казалось, что оно меня тянет, но я бросился к нему и… очутился в описанном положении, между небом и землею, откуда и начинался ряд моих воспоминаний.
II
Отцу, вероятно, очень не нравились и мой характер и моя наружность, по крайней мере я привык так умозаключать, судя по немногим моим столкновениям с виновником моего бытия. Если батюшке приходилось видеть меня, когда он был в духе, он обыкновенно брал меня за ухо и говорил:
– Учись, братец, всему полезному, а то, если будешь такой пустозвон, как отец, так я тебя в уланы отдам.
Я этого ужасно боялся и ревностно учился всему, чему меня учили.
Если батюшка был не в духе, – что с ним в последние годы его жизни случалось довольно часто, – то тогда он просто был страшен: он краснел в лице, метал ужасные взгляды, топотал ногами и рвал все, что ему попадалось под руку. Когда поднималась такая буря, все в доме проникались трепетом и старались, как птицы перед грозою, спрятаться куда попало, пока эта буря пронесется. С отцом на это время оставались только матушка да старый его денщик Окулов. Я не знаю, как они ладили с безмерною раздражительностию и вспыльчивостию моего отца, но помню, что при всей моей тогдашней младенческой малосмысленности я постигал их величие – и с благоговением смотрел в исполненные небесной кротости глаза моей прекрасной матери и в маленькое сморщенное лицо денщика, худенького солдата Окулова.
Я не знаю, как мать и Окулов управлялись со вопыльчивостию моего отца, но только он или повиновался и успокоивался.
Но, наконец, выдался случай, который и их влияние сделал бесполезным; это было таким образом: отец мой получил полк, в котором прежде служил и с которым был во множестве сражений. Полк этот тогда только что возвратился из похода и находился в сильном беспорядке: люди были дурно одеты, лошади искалечены; а между тем ему через месяц назначен был осмотр от высокого лица, от которого всецело зависела вся отцова карьера. Матушку это ужасно встревожило. По обычаю полковых дам тогдашнего времени, она достаточно понимала требования и условия военной службы и знала анекдотически вспыльчивый характер лица, которому отец мой должен был вывесть на смотр свой расстроенный полк. Это был человек не злой и даже, пожалуй, по-своему добрый, но, к сожалению, чрезвычайно схожий по характеру с отцом моим: он был безумно горяч и в своем неистовстве весьма часто несправедлив. Матушка ждала больших неприятностей от встречи этих двух характеров в лице подчиненного и начальника. Плохой, богадельный вид полка должен был произвесть самое дурное впечатление, а никаких надежд нельзя было возлагать на то, что осматривающее лицо войдет в разбор причин, поставивших полк в такое положение. Отцу оставалось: или отказаться от полка, или же обмундировать и ремонтировать его на свой счет. Считая первое знаком недостойной трусости, отец решился на второе; но это требовало больших денег, которых у моего отца не было и которых он ни у кого не мог занять в стране, где к нам относились враждебно. Тогда мать, всегда бывшая утешителем ангелом всех скорбящих и сетующих, поехала со мною и с Окуловым в Лифляндию к бабушке, вдове барона, некогда служившего в русской службе. Об этой поездке и о самой Лифляндии я не сохранил много воспоминаний: помню только одно, что бабушка моя, баронесса, была чрезвычайно большая, полная женщина и что она очень любила всех мыть. У них была баня, в которой бабушка проводила целый субботний вечер: здесь она мыла головы не только двум своим незамужним дочерям, а моим теткам, но и самому барону – своему мужу, а моему деду, которого я по этому случаю считал большим бесстыдником. После я, однако, узнал, что дед совсем не по своей охоте ходил в баню, где его бабушка мыла, а делал это, только уступая настоятельным требованиям баронессы, «для сохранения домашнего спокойствия».
Впрочем, я и сам тоже был в мытье у бабушки, разумеется совершенно против моей воли: помню, что мне это стоило много горючих слез, потому что я был от природы чрезвычайно стыдлив, и как меня ни уговаривали и ни упрашивали «утешить грос мутерхен»,[2] – я не мог раздеться при женщинах. Возмутительная операция эта была совершена надо мною с самым грубым насилием и при таком численном превосходстве со стороны моих врагов, что я никак не мог не сдаться, хотя и бился до потери сознания. Бабушка и сама была еще необыкновенно сильна, но, не надеясь на себя, она призвала к себе на помощь троих здоровых белобрысых латышских девок, с длинными плоскими торсами на коротеньких ногах. Увидав этих моих мучительниц, я застонал и, зажмурив глаза, начал их брыкать ногами и плеваться, но их это нимало не испугало, и я был раздет ими донага, причем заявлял мой протест только плачем и стенаниями, на которые эти бесчувственные грации с рубенсовским колоритом тела не обращали никакого внимания и повлекли меня в баню, где меня ожидали сугубые муки. Обставленная тазами и лоханками, бабушка сидела на широкой скамье на самой середине бани, а по сторонам ее стояли еще две латышки с такими же, как первые, плоскими торсами и короткими ногами. Меня вели за обе руки и подпихивали сзади, так что я решительно ничем не мог защитить свою скромность и притом скоро перестал о ней заботиться, потому что подвергся мукам иного свойства. Теперь я страдал уже от того, что бабушка, принимаясь за мытье, действовала руками с каким-то невообразимым ожесточением, а в то же самое время, чтобы я не шевелился, она зажимала меня, как в тиски, между своими крепкими коленями, покрытыми на сей случай только одним мокрым холщовым фартуком. Этот мыльный фартук своим прикосновением производил на меня такое отвратительное впечатление, что я бился и визжал как сумасшедший и, наконец, однажды ущипнул бабушку так больно, что она, выхватив меня из своих колен, зажала в них снова по другому образцу и отхлопала ладонью так больно, что я помню это о сю пору почти так же живо, как сочный, рубенсовский колорит латышских дев, на которых я нехотя смотрел, удивляясь занимательности некоторых их форм. Однако, хотя я тут я пострадал, но в общем ходе дел поездка в Лифляндию была удачна: бабушка была очень добра и ко мне, и к maman, и даже к отцову денщику Окулову, который пленил ее своею способностию к мытью и глаженью. Бабушка его за это так полюбила, что однажды велела ему прийти в кухню и там собственноручно вымыла ему голову, а на дорогу подарила фунт мыла. Но что всего важнее, это то, что отсюда мы возвратились к отцу с значительною суммою, которой было достаточно на то, чтобы привести наш полк в сколько-нибудь приличный вид. Деньги эти были выручены залогом довольно богатого имения, составлявшего собственность моей бабушки. Спешный залог был сделан на самых невыгодных и тяжких условиях, но тягость эта значительно уменьшилась несомненною надеждою скорой и легкой расплаты. Полк тогда давал командиру хорошие средства, которыми гнушаться было не в духе времени, а к тому же вскоре после смотра предстояло получение ремонтных денег, которые могли с излишком погасить всю сумму займа. Одним словом, во всем этом не предвиделось ни малейшего затруднения – и отец мой принялся за дело с свойственною ему неутомимою энергиею. В полковых швальнях и мастерских кипела горячая и безустанная работа, в которой, кроме своих людей, участвовали наемные мастера, каких только где-нибудь могли отыскать в окружной черте. Подручные люди отца оказывали ему самую ревностную помощь: одни закупали коней, другие занимались их выездкою и обучением, третьи – пригонкою вещей и амуниции и т. п. Времени до смотра оставалось очень немного, и потому многое делалось наспех, неаккуратно; на одно затрачивалось более, чем следовало, другое делалось кое-как. Будучи сам человеком очень честным, отец мой страдал излишнею доверчивостью и терпеть не мог никакой подозрительности; это благородное свойство его души послужило ему немножко во вред: занятых сумм недостало, и матушка нашлась вынужденною взять еще несколько тысяч под вексель на покупку инструментов для полковой музыки. Но зато теперь уже все было произведено на славу и притом поспело в срок к своему времени. Я помню, как, перед самым смотровым днем, музыканты принесли к нам на двор старые, измятые и изломанные инструменты и вместо них взяли из высокой каменной кладовой блестящие новые трубы, на которых тут же и сыграли перед окнами матери «Коль славен наш господь в Сионе».
В прелестных глазах матери сияла беспредельная радость и благодарность небу, которое помогло ей все это устроить для спокойствия мужа. Она заплакала – и, выслав музыкантам вина и ассигнацию, бросилась на колени и, прижав меня к своей груди, стала молиться…
В эту минуту в ее комнату взошел отец: он был, по-видимому, чем-то очень озабочен и хотел было тотчас же выйти назад, – но, увидав молящуюся мать, сам стал возле нее на колени, положил молча земной поклон и, восклонясь, обнял матушку и меня и, поцеловав нас обоих, сказал:
– Каролина! это не может быть, чтобы ты была обыкновенная женщина.
– Кто же я? – спросила maman.
– Ты ангел, и даже, мне кажется, самый добрый ангел во всей вселенной. О, зачем на земле не все женщины подобны тебе, чтобы сделать землю раем для человека.
– Не говори этого, Павел, – отвечала матушка, – это лесть или заблуждение, но… – добавила она с такими особенными слезами, каких я никогда прежде не видывал, – но об одном тебя прошу: как бы ты ни увлекался всем тем, что тебе покажется прекрасным, не отнимай ни одной капли твоей любви от сына.
С этим матушка пододвинула меня рукою к отцу, а сама села в кресла и закрыла глаза своими нежными белыми руками.
Отец мой показался мне очень смущенным: он как будто застыдился чего-то по поводу приведенных мною кратких слов матери – и, небрежно обняв меня, поцеловал в голову и проговорил:
– Да, да; что же ты… я ведь его люблю… право, люблю! я, брат Меркул, тебя очень люблю, но только ты, пожалуйста, смотри не будь фантазер и учись всему полезному, а то я тебя в гусары отдам.
Эта небольшая семейная сцена имела важное влияние в моем развитии, как потому, что я из нее смутно уразумел тщательно скрываемую от меня драму моих родителей, так и потому, что это единственная и последняя сцена, в которой я видел моих родителей в таких задушевных отношениях.
Я во всю жизнь мою не переставал грустить о том, что детство мое не было обставлено иначе, – и думаю, что безудержная погоня за семейным счастием, которой я впоследствии часто предавался с таким безрассудным азартом, имела первою своею причиною сожаление о том, что мать моя не была счастливее, – что в семье моей не было того, что зовут «совет и любовь». Я не знал, что слово «увлечение» есть имя какого-то нашего врага.
Увлечения! Боже мой, как печальны ваши следствия и как поздно человек начинает понимать, что, поддаваясь вам без удержа, он оскорбляет не ту узкую мораль, которая в разные времена послушна разным велениям, а рушит вековечный завет, в разладе с которым нет места для счастья! Но об этом речь впереди; я могу себя утешить, что, занимаясь историей моей жизни, я еще не раз встречу удобный случай обратиться к этим мыслям, – а теперь буду непрерывно продолжать мое повествование, дошедшее до события, которое я должен назвать первою моею катастрофою.
III
Я не имел более ни времени, ни случая наблюдать отношения моих родителей, потому что отец мой скоропостижно умер на другой день после описанной мною сцены. С этого и началась та катастрофа, о которой я сказал в конце предыдущей главы.
На первый раз самое ужаснее в этом несчастии была его неожиданность. Люди, которые всякий случай находят безразлично удобным для острот и насмешек, говорили, что «полковник Праотцев зарезан на славу живой ниткой», но этот скверный каламбур имеет очень точный смысл.
Дело было так: полк отца вышел к смотру в таком блестящем состоянии, что осматривающему его лицу не оставалось ничего, кроме как хвалить и благодарить. Все шло как нельзя лучше, но вдруг… О ужас! вдруг высокая особа заметила, что на мундире одного из солдат ослабела пуговица. Были ли тому виною поспешность работы или прелая нитка, но только когда особа с безмерною радостью сделанного открытия дернула эту пуговицу, то злополучная оловяшка сию же минуту отвалилась. Особа вскипела и пошла дергать все ниже и ниже, шибче и шибче… За одною пуговицею последовала другая, третья: особа их рвала, рвала с солдат и, наконец, в неистовейшем бешенстве бросилась на самого моего отца с криком:
– Может быть, у вас и у самих все на живую нитку? – причем особа схватила отца за пуговицу; но отец быстро дал шпоры коню – и, отскочив в сторону, весь побагровел и ответил:
– Не троньте меня, ваше-ство: я щекотлив.
Особа повернула лошадь назад и понеслась, крича, по рядам:
– Скверно, мерзко: в сапожники вас; в сапожники!
Мать все это видела и слышала, стоя у открытого окна в зале, где был приготовлен обеденный стол для офицеров полка и для самой особы. Теперь этот стол был как насмешка над нашей семейной бедой. Но это еще было полгоря в сравнении с тем, что ждало нас впереди. Беды ревнивы и дружны – и не идут в одиночку, а бродят толпами. Прежде чем матушка могла сообразить и обдумать, как встретить отца, который должен был возвратиться в гневе, – двери залы растворились, и в них появился мой отец, поддерживаемый двумя денщиками. Он молча указал глазами на кресло – и, когда его посадили, сорвал с себя галстук и прохрипел:
– Попа!
Матушка кинулась к нему, а он схватил ее руку, прижал ее к лицу – и тотчас же умер под шепот отходной, которую начал читать над ним прибежавший полковой священник.
Так погиб от прелой нитки мой храбрый и честный, изрубленный в боях отец, которого я мало знал и черты которого в настоящее время едва могу воскресить в моей памяти. Едва помню его бравую военную фигуру, коротко остриженную голову, усы и бакенбарды с седыми концами, горячий цвет лица и синие глаза: вот и все.
Совсем не то с лицом матери. Мне даже становится совестно, что я не умел поровну разделить моих привязанностей между моими родителями, – но это уже так сложилось. Я беззаветно предал всю мою душу моей матери, небесный образ которой безвыходно живет в моей душе. Два раза в жизни, когда я терял его, я был на краю пропасти, и… тут снова являлся мне он, этот священный лик с светлыми кудрями Скиавонэ и с глубокими очами познавшего свет провидца. Отец мой был прав: матушка была бы красавица, если бы она не была ангелом. Впоследствии, встретив у Оригена предположения, что ангелы могут жить и в нашем обыкновенном человеческом теле, я всегда чувствовал, что я одного такого видел и еще его увижу: он меня не позабудет; он меня встретит, потому что… он моя мать!
Приводя себе на память впечатление, какое производила моя мать на людей, которые ее видели в первый раз, я всегда припоминаю мнение Сократа, что «познание есть только воспоминание того, что мы некогда знали». Впервые встречая мою мать, всякий чувствовал, что он ее будто когда-то уже встречал, и притом встречал в необыкновенную для себя минуту; каждому мнилось, что она ему или уже когда-то сделала, или еще сделает что-то доброе и хорошее. Одним словом, это было доброе, чудное лицо, о котором я не буду говорить более – как потому, что рискую никогда не кончить с этим описанием, так и потому, что вижу теперь перед собою этот священный для меня лик, с застенчивой скромностью запрещающий мне слагать ему мои ничтожные хвалы.
После смерти отца мы с матушкой остались не только нищими, но на нас лежала вина разорения моей престарелой бабки и теток, имение которых, заложенное для моего отца, было продано с молотка вместе с тою банею, где я так мученически страдал от бабушки и ее здоровых латышек, голые тела которых так жестоко смущали мою скромность. Беды повисли над нами тучей: энергическая старуха бабка не вынесла своего горя – и когда ее стали выводить из ее родового баронского дома, она умерла на пороге. Мы этого не видали: мы с матерью тогда еще оставались в том самом городке, где скончался мой отец и откуда мою мать теперь не выпускали за ее долг по векселю, за деньги, взятые ею на покупку новых инструментов для полкового оркестра. Платить нам было не из чего, так как все наше имущество заключалось в небольших пожитках да тех старых трубах, которые были свалены в амбаре взамен взятых на место их новых. Кредиторы должны были убедиться в несостоятельности матушки и рассрочить ей долг на мелкие платежи, какие она надеялась производить из имевшегося в виду пенсиона за отцову службу.
Я, впрочем, не помню, как шли все эти переговоры и сделки, потому что едва ли не первым делом моей матери после того, как она овдовела, было отвезти меня в Петербург, где, при содействии некоторых доброжелателей, ей удалось приютить меня в существовавшее тогда отделение малолетних, откуда детей по достижении ими известного возраста переводили в кадетские корпуса. Зачисление в кадеты в те времена считалось вожделеннейшим устройством судьбы мальчика – и матушка, стало быть, могла за меня не беспокоиться: я непременно должен был выйти в офицеры, а это тогда было почти то же самое, что выйти в люди. По крайней мере это так принимали в тогдашней замундированной России. Пребывание мое в отделении малолетних и потом в одном из столичных кадетских корпусов преисполнено для меня самых разнообразных воспоминаний, между которыми грустных, конечно, гораздо более, чем веселых, но я не стану заносить их в свои записки. Мне противно положить своею рукою лишний камень в прибавку ко всей тягости, в таком изобилии набросанной на эти школы. Да к к чему бы это послужило? Масса описаний темных сторон нашей школьной жизни так велика, что я не вижу нужды увеличивать ее своими рассказами, тем более что я не могу сказать ничего нового и… должен сознаться, что я все-таки чувствую благодарность к этому заведению, которое призрело и воспитало меня так, как оно могло и как умело. Оставленный самому себе, на руки беспомощной матери моей, я бы, конечно, был еще несчастливее – и потому мир тебе, мой детский приют, так часто видевший мои детские слезы!
Изо всей школьной жизни упомяну только об одном событии, вследствие которого я неожиданно расстался с стенами заведения и вылетел в жизнь ранее положенного срока, да притом совсем и не в том направлении, к которому специально готовился.
IV
Не знаю, как бы надлежало правильнее назвать происшествие, которое около двадцати пяти лет тому назад случилось в одном из петербургских корпусов, именно в том, где я воспитывался, но тогда это происшествие все, не обинуясь, называли «кадетским бунтом». Как могли бунтовать безоружные дети, это довольно интересно, и я очень удивляюсь, что в нынешних журналах, специально занятых оглашением нашей недалекой старины, до сих пор не встречается ни одного сказания об этом «кадетском бунте». Дело началось с того, что, попавшись в руки одному начальнику, чрезвычайному охотнику употреблять розги, мы вышли из терпения, и когда одного из наших товарищей секли перед фронтом, мы долго просили о пощаде ему, и когда в ответ на эту просьбу последовала угроза «всех перепороть», кто-то вдруг бросил в экзекуторов камень. За одним камнем, как водится, полетели другие, и так дружно, что некоторые начальствующие лица обратились в бегство, и экзекуция была временно приостановлена.
Началось следствие: приехало разное высокое начальство и допрашивало нас и в массе и поодиночке, но мы и не винились сами и не выдавали виновных.
При необыкновенно развитом тогда товариществе между кадетами дети давали собою образцы геройства для взрослых, и вот в награду за эту неустрашимость и благородство наше последовало распоряжение, во исполнение которого «все особенно упорные», в пример прочим, жестоко пострадали, то есть они были немилосердно перепороны, а потом исключены из корпуса и выпущены «для определения к статским делам».
В числе подвергшихся всем этим карам очутился и я.
Я должен сказать, что все мы встретили эту немилость не только бодро, но даже обрадовались ей.
Блаженный возраст, в котором мы находились, душевная чистота и беззаботная, светлая вера в грядущее делали нам легким наш героизм, да притом же мы и не ясно понимали, чтό с нами делают. Нам необыкновенно отрадно было чувствовать себя «пострадавшими за благородное товарищеское дело», а к тому же и в положении, в которое мы попали, было столько разнообразия! Сначала нас, «как заразу», долго держали в карцере, где нам было превесело и куда к нам являлось разное самое высокое начальство и внушало нам необъятность наших вин и бездну, в которую мы низвергаем себя своею нераскаянностию. Все эти внушения нам казались смешными, и мы по выходе начальства осмеивали его речи в стихах, упражняясь в которых от безделья достигли в этом значительной ловкости. Потом, убедясь в нашей неисправимости, начальство призвало нас в залу и в сборе всех наших товарищей прочло нам приговор, которым мы исключались из заведения и выпускались с правом поступить на гражданскую службу, с весьма удлиненным сроком на получение первого классного чина.
Взрослым людям трудно себе представить то восторженное настроение, которое последовало за этой минутой.
– Теперь весь корпус смотрит на вас как на недостойных своих товарищей, – объявил нам директор, окончив чтение приговора.
Последнее слово нас было на минуту смутило, но, взглянув в глаза стоявших против нас развернутым фронтом кадет, мы увидели, что слова эти несправедливы, что «весь корпус» на нас действительно «смотрит», но смотрит совсем не как на недостойных товарищей, а, напротив, «как на героев», и когда нам дозволено было проститься с остающимися камрадами, то мы с таким жаром бросились в объятия друг другу, что нас нелегко было разнять.
– Вы герои! вы наши благородные рыцари! – кричали нам, осужденным, помилованные, между которыми большинство состояло из детей младшего возраста.
Их волею-неволею должны были простить, потому что между ними много было бесприютных сирот, находившихся в таких летах, когда «определение к статским делам» еще невозможно. Поэтому их считали «повинившимися», несмотря на то, что они тоже, как и мы, не приносили повинной.
Но как бы там ни было, плотное слитие обеих сторон в объятиях, поцелуях, слезах показали начальству, что «оправданные» не презирали осужденных, и… начальство этим, кажется, было тронуто. Нам довольно долго не мешали изливать на прощании свои чувства, и когда, наконец, настало время это прекратить, «оправданным» опять скомандовали выстроиться во фронт, а нас, осужденных, построили колонною и скомандовали нам марш за двери.
Это было последнее командное слово, которое я слышал в воинском звании, но и оно было заглушено для всех нас массою детских голосов. Стоявшие в строю кадеты не удержались и дружным хором крикнули нам вслед:
– Прощайте, честные герои!
О, какая это была прекрасная минута! Мое сердце и теперь усиленно бьется и трепещет при воспоминании о ней; но что мы чувствовали тогда, когда перед нами распахнулись двери, выпускавшие нас в бесприютность? Я отказываюсь передать это…
Само начальство было, кажется, тронуто воодушевлявшим нас духом и, в ознаменование своего к нам благоволения, не вменило в вину нашим товарищам нарушения субординации, выразившееся их прощальным криком из строя.
Впрочем, может быть, начальство не хотело этого замечать и потому, что ему уже надоело возиться с нашими «бунтами», да и не в этом дело. Мир и покой всем им, устроившим такую нашу карьеру, а ты иди вперед, моя история.
Замыкая этим период моей жизни, протекший под попечительной опекой, перехожу к началу моего житья на воле, которою я умел пользоваться не благоразумнее, как та птичка, которую выпустил из клетки ребенок и которая на первой же кровле попала в лапы хищной кошки.
Впрочем, изгнав нас из залы, где мы были лишены кадетского звания, начальство еще не сразу покинуло нас на произвол судьбы. До этого еще должен был пройти один небольшой интервальный акт, в продолжение которого мы чувствовали над собою руку пекшегося о нас правительства.
Нас не прогнали из корпусного здания, вероятно приняв во внимание, что нам решительно некуда было бы деться и все мы в первую же ночь непременно попали бы под опеку ночного полицейского дозора. Но как мы уже были не кадеты, то корпус находил невозможным предоставить в наше пользование ни одного из помещений, отведенных кадетам. Самое оставление нас в карцере было признано неудобным – и нас отвели в один из дальних корпусных, флигелей, где в наше временное пользование были представлены три большие комнаты нижнего этажа.
Мебели здесь решительно никакой не было, но к ночи солдаты притащили сюда несколько старых, отслуживших срок матрасов и старый же, черный, изрезанный ножичками, небольшой стол.
Оглядевшись в своем новом жилье, мы тотчас же сделали дальнейшую рекогносцировку и открыли, что находимся в помещении совершенно изолированном, и притом без всякого контроля.
Это открытие необыкновенно нас обрадовало. Мы почувствовали себя на свободе и запели: «Цыгане вольною толпой по Бессарабии кочуют», потом собственными руками разложили матрасы рядом по полу и, улегшись на них впокатку, как попало, уснули крепким, сладчайшим и безмятежнейшим сном. Утром, когда мы еще спали, пришел к нам офицер с известием, что мы будем пользоваться здешним приютом до тех пор, пока начальство справит нам штатское платье и устроит нашу рассылку к родителям. Для последнего распоряжения от нас были потребованы сведения о том, куда кто может ехать, – и мы были расписаны группами по трактам.
Тут я впервые задумался над тем: куда я приеду? Матушка, которой я очень давно не видал, жила в Лифляндии на маленькой мызе, оставшейся ей и теткам после продажи их имения за отцов долг. Я начал размышлять: какова может быть жизнь моей матери в этом положении и как ее должно поразить мое появление? Рассуждая обо всем этом, я тихонько сплакнул и написал матушке всю горькую правду о постигшей меня участи. Я утешал ее, что стану для нее жить и без устали работать, но овладевавшее мною при этом смущение еще более усиливалось; я вспомнил, что я ровно ничего не умею делать и в шестнадцать лет еду к матери не для облегчения ее участи, а скорее для усиления ее забот.
«Я ничему полезному не выучился – и даже в гусары не гожусь», – размышлял я, с ужасом припоминая себе отцовы слова. Я видел, что роковое предчувствие его надо мною уже начинает сбываться, что я действительно того и гляди буду фантазером и ничего путного в моей жизни не сделаю.
Но, к значительному облегчению или по крайней мере к отсрочке моих скорбен, я не мог долго держать нити моих печальных размышлений: жизнь, которую вели мы в нашем карантине, тому не благоприятствовала.
Нас, изгнанников, было около сорока человек, из которых кое у кого нашлись маленькие деньжонки, маленькие, разумеется, по теперешним нашим понятиям, но по-тогдашнему весьма достаточные для того, чтобы ходить в верхние места театров и покупать сообща другие недорогие удовольствия. В числе последних было вино, которое солдаты беспрепятственно приносили нам в нашу казарму. Многим вино было еще не по вкусу, и нашлось между нами немало таких, которые и вовсе не могли его пить, но положение дел было таково, что стало нужно приучаться. Непитущих, в числе которых был и я, прозвали «девчонками», – и зато те, которые не хотели быть девчонками, отличались, напиваясь до того, что мы нередко должны были отливать их водою.
Меж тем штатское обмундированье для нас было готово, и на завтра был назначен разъезд буйной компании (она стала теперь достойна этого названия). Интересуясь способом нашей рассылки, мы узнали, что начальство подрядило несколько «протяжных троечников», распределив их по трактам на большие города, куда лежал путь рассортированным на трактовые пункты пассажирам. Пользуясь полною свободою ходить куда хотим, мы, разумеется, сейчас же отправились на указанный нам постоялый двор, который был где-то в Гончарной улице, – и там, под темными навесами сараев этого двора, мы дружески познакомились с извозчиками, с которыми должны были ехать.
Тут я должен сказать, что я, к величайшему моему удовольствию, освободился от лифляндской группы, в которую был сначала записан, – и переписался в группу киевскую, потому что матушка, в ответ на мое письмо об исключении меня из корпуса, уведомила меня, что мне в Лифляндию ехать незачем, потому что там она не надеется найти для меня никакого дела, а что она немедленно же пользуется удобным случаем переехать в Киев, где один родственник моего отца занимал тогда довольно видную штатскую должность, – и мать надеялась, что он не откажется дать мне какое-нибудь место по гражданской службе.
Это было для меня чрезвычайно радостное известие; во-первых, я перестал завидовать нашим товарищам, которые ехали в славянском собратстве, между тем как я должен был тянуться с немцами; потом, вместо мызной мазанки в серой Лифляндии, я стремился к «червонной Украйне», под тень ее тополей и черешен, к ее барвинкам, к Днепру, к святыням Киева, под свод пещер, где опочили Антоний, Нестор и Никола-князь, сбросивший венец и в рубище стоявший у ворот Печерской лавры…
О боже, каким неописанным восторгом была полна душа моя при одной мысли, что я все это увижу! Я потерял всякое самообладание – и, точно опьянев от восторга, почти не обращал внимания на все, что вокруг меня происходило. Помню только, как мы с участливостью осматривали большие, крытые троечные телеги, в которых нам надлежало ехать; садились в них, вылезали и снова садились; делили между собою места; осматривали лошадей, ценили их, определяли их достоинство, силу и характер; потом отправились с своими будущими возницами в какой-то грязненький трактир, где пили чай и водку. На этот раз нас угощали мужики, и мы все пили, – даже те, кто никогда не брал в рот капли вина, должны были выпить по две или по три полурюмки сладкой водки.
Через час мы все были пьяны, и не знавшие что с нами делать мужики запрягли парою одну из своих крытых телег, упаковали нас туда как умели и отвезли в корпус.
Мы этому нимало не противились; мы уже освоились с своим безначальным положением и привыкли считать себя вольными казаками, над которыми нет старшего. А потому нас нимало не пугала мысль, что мы явимся в корпус в таком развращенном и омерзительном виде. Мы ехали, распевая с присвистом военные песни и дрянные романсы, обнимались, барахтались, кривлялись, делали ручки проезжавшим дамам и вообще вели себя как настоящие пьяницы. Дома солдаты нас едва уложили, а утром едва добудились. На дворе уже стояли, погромыхивая тяжелыми бубенцами, толстоногие тройки с расписными дугами, и в комнату к нам полоз едкий дымок тютюну, который курили ожидавшие нас у дверей извозчики.
Сердце ёкнуло: наше пришло до нас.
– Господи, что-то будет?
Солдаты начали выносить наши пожитки и размещать их по телегам, кто к которой был расписан. Шум, говор, беготня, движение – все это при моей больной с похмелья голове представлялось мне как волны хаоса.
Пришел корпусный батюшка, покропил нас водой; потом казначей дал нам по двадцати семи рублей пятидесяти копеек денег на дорогу, и нагруженные нами повозки, съехав с казенного двора, тяжело застучали по мостовой, медлительно подвигаясь к пестрым бревнам заставы.
Впереди был длинный, очень длинный путь, о котором не могут составить себе даже приблизительно верного понятия люди, доезжающие нынче от Петербурга до Киева в трое суток, и вдобавок без всяких приключений. Тогда было не то, особенно с такими солидными путешественниками, каковы были мы.
V
Нам, по нашим расчетам, на этот переезд требовалось не менее месяца, а наш извозчик утешал, что, может быть, потребуется еще и поболее.
Извозчик для едущих на протяжных – это совсем не то, что кондуктор для нынешнего путешественника, несущегося по железной дороге. С извозчиком седоки непременно сближались и даже сживались, потому что протяжная путина – это часть жизни, в которой люди делили вместе и горе, и радость, и опасности, и все его досады. «Вместе мокли и вместе сохли», как выражается извозный люд. Наш извозчик, отправленный везти молодых господчиков по киевскому тракту, был небольшой, но очень крепкий, коренастый мужик из Новгородской губернии. Звали его Кирилл. Он был раскольник, но, вероятно, очень плохой, потому что и пил, и курил, и сам себя называл «попорченным»; но он был очень веселый и, казалось, добрый малый, от сообщества которого мы пророчили себе дорогой немало удовольствий. Они тотчас и начались. Выехав с нами из Петербурга за Московскую рогатку, Кирилл остановил у какого-то домика лошадей и объявил, что здесь живет его приятель Иван Иванович Елкин, к которому если не заехать и ему как следует не поклониться, то нам в дороге не будет никакой спорыньи.
Мы не прекословили и зашли: это был кабак, в котором, разумеется, никакого Ивана Ивановича не было, а сидел простой целовальник. Здесь мы, по настоянию Кириллы, все выпили: кто мог – водки, а кто не мог пить водки, тот пил пиво или мед.
Совершив такое возлияние путевому божеству, все мы охмелели и, едучи, сначала пели свои военные песни и романсы, а потом заснули.
Нас в повозке помещалось восемь человек, но как мы были все люди небольшие и покладливые, а к тому же и пожитками не обремененные, то особого стеснения не чувствовали. Но, несмотря на то, что мы соблюли обычай, указанный нам Кириллою, и, войдя к Ивану Ивановичу Елкину, совершили в честь его возлияние, путь наш не спорился: мы ехали, разумеется, шагом, делая не более пятидесяти верст в день, с передневками через два дня в третий. Это всякому должно бы показаться чрезвычайно утомительным и скучным, но нас все занимало: и новые люди и новые места, – и мы не погоняли нашего возницу, а добивались только одного, чтобы передневки приходились в городах или по крайней мере в хороших местах, которые мы осматривали, купались и спали. – К Иванам Ивановичам Елкиным, которых по дороге было чрезвычайно много и которые все оказывались добрыми приятелями Кирилла, мы уже более не заходили – потому ли, что многим из нас пришлось дорогою порядочно переболеть после петербургских оргий, или потому, что на нас очень хорошо действовала природа и новость места и людей, которых мы «изучали» с отменною охотою и внимательностию.
Кирилл, который любил выпить, но считал неуместным делать это на свои деньги, покрепившись дня два и видя, что из нас ему нет сотоварищей и хлебосолов, поднялся на штуку: он отделил у себя на козлах так называемую «беседочку», в которую постоянно присаживал кого-нибудь из прохожих, и выручаемые этим путем деньги считал позволительным вручать Ивану Ивановичу Елкину. Пассажиров этих он набирал везде: по дороге и на ночлегах по постоялым дворам, откуда мы обыкновенно съезжали чрезвычайно рано. Чтобы не тревожиться утром, а также чтобы не платить особых денег за ночлег, мы все спали в повозке, – и Кирилл, съезжая со двора, не будил нас; а обеденный покорм, длившийся часа четыре, мы нередко держали у дороги на лесных опушках или где-нибудь над рекою, в которой непременно купались и иногда по нескольку раз в самое короткое время.
Сколько-нибудь замечательных происшествий с нами никаких не происходило, но только во всех в нас в течение немногих дней, проведенных в пути, как-то смелее и резче начала обозначаться наша индивидуальная разность. В корпусе мы все в общих чертах характера и взглядов походили друг на друга, – все мы были кадеты, а теперь, хотя мы оставались в своей же однокашнической компании, в нас обозначались будущие фаты, щеголи, которые будут пускать пыль в глаза, и задумчивые философы с зародышем червя в беспокойном, вдаль засматривающем воображении. Вскоре эта разновидность обнаружилась в весьма осязательной для нас форме.
В Твери штат наш должен был уменьшиться. Здесь нам надлежало высадить одного товарища по фамилии Волосатина, отец которого служил председателем какой-то из тверских палат.
По этому случаю мы сделали в Твери дневку – и высаженный здесь товарищ наш приехал к нам на постоялый двор в дрожках, запряженных парою лошадей, и пригласил нас всех от имени своего отца на вечер.
Этот товарищ был из тех, которые подавали надежду сделаться щеголями и франтами, – и два часа времени, проведенные им в разлуке с нами в доме своего отца, безмерно подвинули в нем вперед эту наклонность. Он звал нас приветливо, но с заметною небрежностью, и говорил с нами не слезая с дрожек, на которых сидел в щеголеватом новом платье, с тросточкою в руках, – тогда как мы толпились вокруг него все запыленные и в истасканных дорожных куртках.
Он наслаждался своим превосходством и без церемонии сказал нам:
– Только, приглашая вас к себе в дом, я надеюсь, что вы понимаете, что вам надо будет привести себя в порядок и хорошенько приодеться, а не валить толпою как попало; у нас будут гости и будут танцевать: вот я для этого даже сейчас и еду купить себе и сестре перчатки. Советую всем вам, кто хочет танцевать, тоже запастись хорошими перчатками, – иначе нельзя.
– Боже мой! как это хорошо: будут танцевать!
– И у него есть сестра!
– Да одна ли сестра – верно, будет и еще много дам! – воскликнули разом несколько голов после того, как товарищ покатил, обдав нас целым облаком пыли, – и все мы кинулись к своим узелкам, в которых был увязан наш штатский гардероб, построенный военным портным.
Восторг был всеобщий, но непродолжительный, потому что один из товарищей, имевший в задатке червя самолюбия, объявил, что он не пойдет, потому что Волосатин приглашал нас очень обидным тоном.
Тон! мы, недавние бесцеремонные товарищи, вырывавшие недавно из рук друг у друга кусок пирога или булки и не стыдившиеся выпрашивать один у другого самых ничтожных мелочей, – уж теперь разбирали тон! Да и как еще разбирали? хоть бы какому записному дипломату или светскому критику.
Вот свет! вот его первое наитие, неизвестно откуда забравшееся в нашу телегу, и тут же рядом несостоятельность его законов перед шепотом жгучих сил доброй молодости.
– Да, – заговорили мы, – мы все согласны, Волосатин скотинка: он очень форсит, обидел нас, но все-таки он наш товарищ, и мы дурно сделаем, если пренебрежем его приглашением. Он один виноват; а мы, если не пойдем, – мы покажем, что и мы сами невежи и не знаем, как должно, светских приличий. Приняв приглашение, надо идти.
– Мы оскорбим его отца, который нас звал и который, может быть, очень заслуженный человек.
– Какой черт «заслуженный»! просто какой-нибудь приказный.
– Но мы теперь и сами пр… То есть мы все теперь статские, – отвечали мы со вздохом.
– И, наконец, он говорил, там есть у него сестра, а разве можно оказать невежливость женщине.
Эта «сестра», мне кажется, очень много значила для всех нас: всем нам было приятно называть молодое женское лицо… стόики не устояли. Мы решили перчаток не покупать, потому что такой экстренный расход был нам не по карману, – но, принарядясь в свои сюртуки, отправились в качестве нетанцующих на вечер, который для меня имел очень серьезное значение с довольно неприятными последствиями.
VI
К немалой нашей досаде выходило, что все мы довольно поотвыкли от женского общества, которое видели еще детьми и в которое совсем не умели вступить теперь, находясь в своей странной неопределенной поре и в своем неопределенном положении «нетанцующих кавалеров».
Самый первый шаг вступления в освещенный зал путал и сбивал все наши светские соображения, а к тому же мы никого не знали в том доме, куда нам предстояло предстать, и вдобавок нас некому было отрекомендовать и представить.
Положение было трудное, и оно еще усложнялось тем, что когда мы явились в дом – до нашего слуха долетели звуки вальса, и сквозь неплотно притворенные двери передней, где мы стояли, ожидая Волосатина, видны были мелькающие пары.
Волосатин, за которым мы послали человека, не выходил к нам, и его невозможно было ждать, потому что, по словам лакея, он танцевал, – невозможно было и стоять без толку и движенья в передней, тем более что какой-то пожилой господин, которого мы все приняли за хозяина, проходя через переднюю в зал, пригласил нас войти и, взойдя сам впереди нас, поцеловал руки двух дам, сидевших ближе ко входу.
Мы длинною вереницею вступили за ним и, следуя во всем его примеру, начали по очереди подходить к ручкам всех дам. Неуместный прием этот, которым мы по неопытности своей подражали взошедшему перед нами другу дома, обратил на нас всеобщее внимание, – и я, шедший впереди лобызающей руки шеренги, видя смущение девиц и насмешки мужчин, не знал, как мне остановиться и куда вести за собой свой гусек. Я желал бы быть лучше поглощенным землею, как вдруг, приклонясь к руке одной молодой бледной блондинки с добрыми голубыми глазами, я почувствовал, что рука ее, ускользнув от моих губ, легла на мое плечо, и сама она добрым, дружеским шепотом проговорила мне:
– Давайте лучше вальсировать!
Я подхватил ее – и сначала неловко, а потом с достаточною смелостию сделал с ней тур и посадил ее на место.
В этой умеренности мною, по счастию, руководило правило, по которому нам на балах запрещалось делать с дамами более одного тура вальса, – и то изо всей нашей компании знал это правило один я, так как на кадетских балах для танцев с дамами отбирались лучшие танцоры, в числе которых я всегда был первым. А не знай я этого, я, вероятно, закружился бы до нового неприличия, или по крайней мере до тех пор, пока моя дама сама бы меня оставила.
Но, по счастию, опытность спасла меня, а моему примеру последовали и другие мои товарищи, которых я увидел вальсирующими, когда опустил свою даму.
– Сядьте возле меня, – пригласила меня моя дама.
Я млел: она мне казалась прекрасною и такою доброю, что я ее уже бесповоротно полюбил.
– Мой брат говорил мне, что вам далеко еще ехать… – начала она.
Ее брат! Великий боже! это она и есть, она, сама она, его сестра! О, вы, души моей предчувствия, сбылись: недаром меня влекло сюда; недаром… нет, недаром: я был влюблен, и притом не только бесповоротно, но и смертельно влюблен!
Я только хотел бы знать ее имя и… хотя приблизительно: на сколько лет она меня старше?
Желания мои сбылись: ко мне подошел наш блестящий товарищ Виктор Волосатин – и, отведя меня в угол, где были сбиты в кучу все прочие товарищи моего бедствия, сказал:
– Надо же быть таким пошлым дураком, как ты, чтобы, войдя в зал, начать прикладываться к ручкам всех дам, и потом еще вальсировать в три па и без перчаток… Это можно в корпусе, но в свете так не поступают.
Я было привел в свое оправдание пример взошедшего передо мною старичка, но Волосатин еще раз назвал меня дураком и растолковал, что тот старичок – его дядя, который держит себя здесь по-родственному, между тем как я…
Ну да, я сам знал, что сделал ужасный и непростительный поступок и достоин за то всякой кары, а потому и не возражал и не обижался дружеским выговором, тем более что все это была такая мелочь в сравнении с любовью, которою я пламенел к его прекрасной и доброй сестре, которая (это очень большой секрет) сама ангажировала меня на мазурку.
От этой радости я просто был как в чаду и целый вечер ни с кем не танцевал ни одного танца, а все смотрел из-за мужчин на нее. И что же вы думаете? – она меня понимала: она тоже не танцевала и отказывала всем, кто к ней подходил. Это было мне очень приятно, и верное сердце мое слало ей тысячу благословений. Не сводя с нее глаз, я все находил ее прекраснее и прекраснее, и она в самом деле была недурна: у нее были прелестные белокурые волосы, очень-очень доброе лицо и большие, тоже добрые, ласковые серые глаза, чудная шея и высокая, стройная фигура, а я с детства моего страстно любил женщин высокого роста, чему, вероятно, немало обязан стройной фигуре А. Паулы Монти, изображение которой висело на стене в моей детской комнате и действовало на развитие моего эстетического вкуса. – К тому же сестра Волосатина мне нравилась своим поведением; она не вертелась, как все девицы, а все более сидела со старушками и добродушно сносила тормошения беспрестанно подбегавшей к ней кучерявой брюнетки, к которой несколько из моих товарищей относились с ангажементами и получали отказ. Эта кичливая и ветреная особа все танцевала с франтами, которые, по моему мнению, не имели ровно никаких достоинств.
Вечер прошел – и моя блондинка сама отыскала меня глазами и сама выбрала для нас скромное место, устроив предварительно несколько пар для моих товарищей, у которых все-таки не оказалось ни одной такой красивой дамы, как моя, а что всего важнее: я не думаю, чтобы чья-нибудь другая дама умела вести такой оживленный разговор. Она все время мазурки проговорила со мною про корпус, интересовалась нашею историею, нашею прошлою жизнью и наконец, заговорив о моих планах на будущее, сказала, что мне еще необходимо много учиться.
Это меня немножечко обидело, но у меня был готов ответ, что условием исключения нас из корпуса было воспрещение нам поступать в какие бы то ни было учебные заведения и обязательство вступить немедленно в статскую службу. Но у нее тоже не стояло дело за ответом.
– Учиться везде можно, – отвечала она, – даже и в тюрьме и на службе – и учиться непременно должно не для прав и не для чинов, а для самого себя, для своего собственного развития. Без образования тяжело жить.
Мне помнится, что я под конец мазурки дал ей слово, что буду учиться, и именно так, как она мне внушала, то есть не для получения привилегий и прав, а для себя, для своего собственного усовершенствования и развития.
Странная, прекрасная и непонятная женщина, мелькнувшая в моей жизни как мимолетное видение, а между тем мимоходом бросившая в душу мне светлые семена: как много я тебе обязан, и как часто я вспоминал тебя – предтечу всех моих грядущих увлечений, – тебя, единственную из женщин, которую я любил, и не страдал и не каялся за эту любовь! О, если бы ты знала, как ты была мне дорога не тогда, когда я был в тебя влюблен моей мальчишеской любовью, а когда я зрелым мужем глядел на женщин хваленого позднейшего времени и… с болезненною грустью видел полное исчезновение в новой женщине высоких воспитывающих молодого мужчину инстинктов и влечений – исчезновение, которое восполнят разве новейшие женщины, выступающие после отошедших новых.
Возвратясь с вечера, который нам показался прекрасным балом, я во всю остальную ночь не мог заснуть от любви, и утро застало меня сидящим у окна и мечтающим о ней. Я обдумывал план, как я стану учиться без помощи учителей, сделаюсь очень образованным человеком и явлюсь к ней вполне достойный ее внимания. А пока… пока я хотел ей написать об этом, так как я был твердо уверен, что одна подобная решимость с моей стороны непременно должна быть ей очень приятна.
Но Кирилл уже запрягал своих лошадей, – и товарищи встали и начали пить чай и собираться в путь. Письмо надлежало отложить.
Мы сели – и я уезжал без малейшей надежды узнать даже имя своей дамы, как вдруг недалеко около заставы нас обогнал Волосатин. Он ехал с мальчиком купаться, и вез перед собою на беговых дрожках закрытую салфеткою корзину.
– Эй вы, путешественники! – крикнул он нам, – вот моя старшая сестра шлет вам пирогов, ватрушек и фруктов. Поделитесь, да не подеритесь, потому что она любит мир и любовь. А тебе, Праотцев, она, кроме того, посылает вот эту какую-то книжицу: это, вероятно, за твою добродетель, что ты вчера с нею от души отплясывал.
Я взял с благоговением поданную мне им запечатанную в бумагу книжечку, но был оскорблен тоном, каким он говорил о сестре.
Я даже не удержался и поставил ему это на вид, но он нагло расхохотался и отвечал:
– Да ты уж не влюблен ли в Аню? а? Сознавайся-ка, брат, сознавайся! Ведь это с вами, философами, бывает, но только жаль, что сестре скоро тридцать лет, а тебе шестнадцать.
«Тридцать! – подумал я, – это немножко неприятно».
А Волосатин продолжал хвастать своею другою сестрою, Юленькой, той самой кучерявой брюнеточкой, которая вчера беспрестанно подлетала к старшей сестре и тормошила ее, – и затем он уехал, рассказав предварительно, что эта хваленая его сестра выходит замуж за адъютанта и что он сам, вероятно, когда-нибудь женится на красавице.
Кто-то из нас, шутя, назвался к нему на свадьбу.
– Позови, мол, нас, когда будешь жениться.
Но Волосатин в ответ на это с оскорбительною практичностью заметил, что это будет видно, смотря по тому, кто из нас как сумеет себя устроить в обществе.
Ему казалось, что он себя уже отлично устроил, и товарищи вслед ему назвали его «отвратительным фатишкою», – но мне до этого не было никакого дела, потому что я был влюблен и желал обращаться в сферах по преимуществу близких к предмету моей любви. Я быстро распаковал привезенную Волосатиным корзину, стараясь как можно более съесть присланных его сестрою пирогов, чтобы они не доставались другим, а между этим занятием распечатал подаренную ею мне книгу: это был роман Гольдсмита «Векфильдский священник».
Я в первый раз имел в руках это сочинение и прочел его с величайшим удовольствием, сократившим для меня время путешествия до Москвы.
В Москве нас ждал маленький сюрприз.
С тех пор, как мы отказались заходить за своим Кириллом к Ивану Ивановичу Елкину, возница наш значительно к нам охладел и даже сделался несколько сух и суров, из чего мы дерзнули заключить, что этот добрый человек не столько добр, сколько лукав и лицемерен. Но ему самому мы ничем не обнаруживали нашего открытия, потому что все мы, несмотря на военное воспитание, кажется, его порядком побаивались. В Москве же он нас напугал, и довольно сильно.
VII
Так как мы сами себе мест для остановок не выбирали, а подчинялись в этом опытности и произволу Кирилла, то и в Москве нам пришлось пристать там, где он хотел. Здесь нам послужил пристанищем простой постоялый двор где-то у Рогожской заставы. Нам, впрочем, это было все равно, потому что помещением для нас, как я выше сказал, во всю дорогу служила повозка, а расстояния для нас тогда не существовали, да и притом для нас в Москве всякое место было свято и интересно. При одной мысли, что мы «в Москве», ни у одного из нас не было другого намеренья, как бежать, смотреть, восторгаться и падать ниц (без всякого преувеличения, мы непременно хотели хоть несколько раз упасть ниц, но нам удалось сделать это только в соборах, потому что на площадях и на улицах такое желание оказывалось совершенно неудобоисполнимым). Путешествовали мы по Москве по образу пешего хождения и вообще очень экономничали, так как видели впереди еще очень большой путь, а денег у нас было мало; какова же была наша досада, когда в Москве нам пришлось прожить вместо одного дня целые четыре, потому что наш Кирилл с первого же вечера пропал, и пропадал ровным-ровнехонько четверо суток! Мы сами поили и кормили его лошадей и нетерпеливо поджидали его по целым дням, сидя за воротами на опрокинутой колоде, но Кирилл как в воду канул. В отчаянии от того, что с нами будет, так как деньги казна отдала Кирилле и никто другой нас до Киева не повезет, мы жестоко приуныли. Самая Москва потеряла для нас свою цену: все наши обозрения ограничились побегушками первого дня, и затем мы не осмотрели великого множества мест, к которым влекли нас прочитанные в корпусе романы Лажечникова, Масальского и Загоскина. Все мы страшно упали духом, а некоторые из нас даже малодушно плакали и тем наводили на других еще большее уныние, дошедшее, наконец, до всеобщего отчаяния и страха. К кому мы ни обращались за сведениями о своем вознице, все это было напрасно: никто не давал нам никакого определительного ответа; но, наконец, какой-то извозчик сжалился и, стребовав с нас рубль за открытие томившей нас тайны, сообщил нам, что Кирилл «водит по Москве медведя».
Эта невероятная новость нас в одно и то же время и обрадовала, и встревожила, и огорчила: как-де это не стыдно Кириллу, человеку столь обстоятельному и староверу, позабыть свое дело и предаться такому пустому, шарлатанскому занятию, как вождение медведя?
– Он может погибнуть, – предполагали мы и с минуты на минуту ожидали, что кто-нибудь привезет на двор и бросит его несчастный труп, растерзанный медведем.
Но, наконец, к ночи четвертого дня Кирилл явился – мрачный и тяжелый, но живой, хотя, впрочем, с несомненными знаками только что перенесенной тягостной борьбы с медведем: армяк и рубашка на одном плече у него были прорваны насквозь, и сквозь прореху виднелось голое тело с страшным синяком, лицо возле носа было расцарапано и покрыто черными струпьями, а на шее под левым ухом в складках кожи чернела засохшая кровь.
Взглянув на него, мы не стали его укорять и только полюбопытствовали: правда ли, что он все это время водил медведя?
– Водил, чтоб его, проклятого, черт ободрал! – отвечал Кирилла и, уткнувшись лицом в сено, захрапел.
Мы тоже не стали его ни о чем более расспрашивать и поскорее улеглись спать в своей повозке, а утром были пробуждены зычным криком, который раздавался из хозяйских комнат. В этом крике среди многих других голосов мы могли различать и голос нашего Кириллы.
– Не водить было тебе, подлец, медведя! не молоденький ты, чтобы баловствами заниматься! – выкрикал хозяин.
– Что делать: господь попустил! – отвечал Кирилла.
– Так вот за то теперь и оставь нам на прокормление пристяжную.
– Помилуй! – просил Кирилл, – мне без третьей лошади все равно что пропасть!
– Ничего; пусть тебя палач плетью помилует, а ты оставляй пристяжную, да и все тут: я уж два года на тебе сорок рублей жду, а ты всякий раз как приедешь – опять за свою привычку: по Москве медведя водить! Нет; иди, иди, запрягай пару, а левую оставь; не велики твои господчики – парой их довезешь.
Кирилл жалостно просил пощады и клялся, что ему парой нас не довезть, потому что ближе к Киеву пойдут большие пески, и парой ни за что телегу не выволочь; но дворник был неумолим и настаивал на том, чтобы третью лошадь оставить ему: мы-де ею тут твоего медведя покормим.
Все это нас ужасно смутило: нам представлялось и жалостное наше путешествие на несчастной паре вместо тройки, и потом нам чрезвычайно жалко было обреченной на съедение медведю лошади, так как мы уже успели сильно сдружиться с Кириллиными конями – и особенно с левым буланым мерином, у которого был превеселый нрав, дозволявший ему со всех, кто к нему подходил, срывать шапки, и толстая широкая спина, на которой мы по очереди сиживали в то время, когда буланый ел на покорме под сараями свой овес.
Меж тем как мы волновались подобными чувствами – до нашего слуха долетели другие голоса, касавшиеся уже непосредственно нас самих: кто-то давал Кирилле мысль прижать нас и потребовать от нас доплаты к сумме, следовавшей ему за наш провоз; но Кирилл энергически против этого протестовал и наотрез отказался нас беспокоить, объявив, что он всю плату получил сполна и что это дело казенное – и он «мошенства» ни за что сделать не хочет, а скорее пойдет куда-то к начальству и скажет: так и так, и т. д.
Мы далее не вслушивались – и, тронутые благородством Кириллы, решились скорее выручить его необходимою суммою, для чего с каждого из нас семерых нужно было около шести рублей ассигнациями. Мы уже развязали свои мешки и складывали эту значительную по нашим средствам сумму, как вдруг она оказалась вовсе не нужною, потому что утихший на мгновение крик снова раздался с удвоенной силой, и Кирилл слетел с шумом и грохотом с крыльца, проворно схватил под уздцы свою уже запряженную тройку и свел ее со двора, а потом вскочил на облучок и поехал рысью.
Считая такую скорую езду делом совершенно необыкновенным, мы выглянули из-под рогож нашей повозки на своего возницу – и, увидав его в какой-то ажитации, снова попрятались.
Я, может быть, дурно делаю, вдаваясь во все мелочи нашего первого путешествия, но, во-первых, все это мне чрезвычайно мило, как одно из самых светлых моих юношеских воспоминаний, а во-вторых, пока я делал это путешествие, оно, кажется, не знаю почему, делало грунт для образования моего характера, развитие которого связано с историею бедствий и злоключений моей последующей жизни.
Московский медведь, оставшийся для нас мудреною загадкой, по-видимому произвел весьма сильное впечатление и на самого Кириллу, который совершенно утратил на время свою веселость и, сделавшись чрезвычайно молчаливым, все выбирал пальцами подлинявшие у него в бороде волосы. На прорехи своего платья и раны своего лица он не обращал никакого внимания, несмотря на то, что количество повреждений на его лике, кажется, несколько усилилось после его объяснений с московским дворником, от которого он спасся какою-то неизвестною нам находчивостью.
Три дня после выезда нашего из Москвы он все спал: спал на стоянках, спал и дорогою – и с этою целию, для доставления большего удобства себе, никого не подсаживал в беседку, а лежал, растянувшись вдоль обоих мест на передке. Лошадьми же правил кто-нибудь из нас, но, впрочем, мы это делали более для своего удовольствия, так как привычные к своему делу кони сами знали, что им было нужно делать, и шли своею мерною ходою.
В Туле мы высадили еще одного товарища, а в Орле двух – и остались вчетвером, из которых одному надлежало остаться в Глухове, другому в Нежине, а мне и некоему поляку Краснопольскому вдвоем ехать до Киева. Но, однако же, не все мы доехали до мест своего назначения: нам суждено было погубить дорогою своего нежинского товарища, маленького Кнышенко. Это – небольшое, но очень трагическое происшествие, которое чрезвычайно меня поразило, особенно своею краткою простотою и неожиданностью.
Я, конечно, знал, что все люди смертны, но я… все-таки думал, что такое солидное дело, как умирание, должно происходить с некоторою подготовкою, вроде того как было с отцом, апоплексическому удару которого предшествовал нравственный удар.
VIII
В Туле и Орле мы были беспокойны, как бы наш Кирилл опять не повел медведя, так как он нам уже рассказывал, что это такое значило, – и мы из слов его узнали, что в вождении медведя, никакой настоящий зверь этой породы не участвовал, а что это было не что иное, как то, что Кирилл, встретясь в Москве с своими земляками, так сильно запил, что впал в потемнение рассудка и не помнит, где ходил и что делал, пока его кто-то из тех же земляков отколотил и бросил у ворот постоялого двора, где мы его ждали в таком ужасном перепуге и тоске.
Однако и в Туле и в Орле Кирилл показал характер и удержался, да и вперед обещал быть воздержен и даже выражал твердое намерение, довезя нас до Киева, оставить навсегда свой извозчичий промысел и ехать домой, где у него была жена, которая всегда могла его от всяких глупостей воздержать. Теперь он жил в некотором умиленном состоянии и, воздыхая, повторял прекрасную пословицу, что «земляной рубль тонок, да долог, а торговый широк, да короток».
Пословицу эту мы хвалили, но все-таки нас пугала мысль: не пропил ли Кирилл в Москве все деньги, данные ему за наш провоз, – и мы хотели узнать: будет ли ему с чем доставить нас до Киева? Много церемониться было не из чего – и мы откровенно выразили ему наши опасения; но Кирилл нас тотчас же благородно успокоил, и притом сделал самому себе некоторый комплимент, сказав, что он водил медведя, держа рассудок в сумке, и пил только на чужой счет своих земляков, а все деньги забил в сапоги под стельку, – и потому когда товарищи захотели снять с него и пропить те сапоги, то он тут сейчас очувствовался и вскричал караул, но сапог снять не дал, а лучше согласился претерпеть неудовольствие на самом себе, что и последовало.
Мы проехали всю Орловскую губернию, встретили в Упорое у сада графа Гейдена первые тополи – и, налюбовавшись ими, вскоре перевалили за широкую балку, посредине которой тек маленький ручеек, служивший живым урочищем, составляющим границу Великой России с Малороссиею.
Теперь переезд этот ничего не значит для путешественника, да и он совершается совсем не в том месте, где мы перебирались из страны «неба, елей и песку» в страну украинских черешен. Железная дорога оставила далеко в бок характерную местность тогдашней переправы и получившую очень характерное название «Пьяная балка». Здесь на одном пологом скате была великорусская, совершенно разоренная, деревушка с раскрытыми крышами и покосившимися избами, а на другом немножко более крутом и возвышенном берегу чистенький, как колпик, малороссийский хуторок. Их разделяла только одна «Пьяная балка» и соединял мост; затем у них все условия жизни были одни и те же: один климат, одна почва, одни перемены погоды; но на орловской, то есть на великорусской, стороне были поражающие нищета и голод, а на малорусской, или черниговской, веяло иным. Малороссийский хутор процветал, великорусская деревня извелась вконец – и невозможно было решить: чего еще она здесь держится? В этой деревне ни один проезжий или прохожий не останавливались – как потому, что здесь буквально не было житья в человеческом смысле, так и потому, что все население этих разоренных дворов пользовалось ужаснейшею репутациею.
По одну сторону «Пьяной балки» была дорогая и скверная откупная водка, по другую дешевая и хорошая. На самом мосту стоял кордон, бдительно наблюдавший, чтобы великоруссы не проносили к себе капли малороссийской водки; но проносить ее в желудке кордон не мог возбранить – и вот почему балочники Орловской губернии были так отчаянно бедны: они постоянно все, что могли, тащили к жидам на малороссийскую сторону и там пропивали все дочиста.
В самой балке всегда стояли караваны телег: все извозчики и не извозчики, всякая христианская душа считала необходимостью, сделав шаг за малороссийский рубеж, сейчас же здесь намертво напиться дешевою водкой, – и оттого здесь постоянно бывали ссоры, драки и даже нередко убийства, о которых мы много наслышались от Кириллы, говорившего о «Пьяной балочке» с восторгом, по меньшей мере приличествовавшим разве, например, приближению верующего к Палестине.
– Ax! – восклицал он, осклабляясь и простирая руки в том направлении, где была «Пьяная балка». Восхваляя это место, он в восторге своем называл его не местом, а местилищем, и говорил, что «там идет постоянно шум, грохот, и что там кто ни проезжает – сейчас начинает пить, и стоят под горой мужики и купцы и всё водку носят, а потом часто бьются, так что даже за версту бывает слышен стон, точно в сражении. А когда между собою надоест драться, то кордонщиков бьют и даже нередко убивают».
Эта картина, по-видимому, совершенно пленила нашего Кирилла, у которого на лице уже проходили следы московского вождения медведя, и мы опасались, не разрешил бы он в «Пьяной балке» снова; но он категорически отвечал, что хотя бы и желал, так не может, потому что он дал самому богу зарок водки не пить, а разве только попробует наливки, что и исполнил тотчас же, как мы перетащились за логовину на черниговскую сторону.
Всего безобразия этой «Пьяной балки» я решительно, не могу описать: это одно бы составило ужаснейшую картину отвратительнейшего жанра. Везде стояли и бродили омерзительно пьяные мужики, торчали опрокинутые возы, раздавались хриплые голоса; довелось нам даже слышать и те стоны, которые в восторге описывал Кирилл, учинившийся здесь пьяным как стелька.
Мы были этим несказанно удивлены, но он нам самым обстоятельным образом разъяснил, как случилось, что данный богу зарок не помешал ему натянуться. Выходило, что, давая зарок, он умышленно разумел одну лишь водку настоящего белого цвета, а ни о каких иных напитках не упоминал и потому всяким иным напитком с чистою совестью мог напиваться.
Путешествуя далее до ночлега, он останавливался уже у всякой корчмы и все пил «чвертку красненькой», причем несколько раз снова начинал нам объяснять, как он умен и предусмотрителен в том отношении, что дал зарок богу не пить простой белой водки, а насчет «цветной или красненькой ничего касающего не обещал». Это его так утешило и придавало ему такую отвагу, что он даже утверждал, что бог с него «никакой правы не имеет взыскивать насчет того, о чем у них договора не было».
Пропив один день, он продолжал то же самое и на другой и все более и более входил в стих – и, досадуя, что его никто не потчует, возымел намерение «хорошо проучить чертовых хохлов», которые, по его мнению, были до жалости глупы.
Скоро к тому представился случай: мы проезжали какое-то село в большой праздник. В корчме была масса народа. Кирилл остановил лошадей, зашел в корчму и пропал там.
Подождав его около четверти часа, двое из наших пошли его вызвать, но возвратились с известием, что наш возница затеял какую-то штуку с хохлами и ни за что не хотел выходить из корчмы.
Штука эта состояла в том, что Кирилл спросил у шинкарки чвертку водки – и, не выпив сам ни одной капли, распотчевал ее на трех ближайших малороссийских мужиков. Те, ничего не подозревая, выпили, а теперь Кирилл объявил им, что и они в свою очередь каждый должен его попотчевать. Мужики, почесавшись, затребовали каждый по чвертке, а наш Кирилл, слив все это в одну посуду, поблагодарил и выпил, уже на сей раз совсем позабыв свой зарок не пить белой.
При безобразном пьянстве нашего провожатого мы кое-как добрались до Королевца, маленького грязного городишки, где тогда шла ярмарка и где Кирилл снова «надул проклятых хохлов», но уже на этот раз его находчивость избрала орудием для обмана нас самих. Он устроил все это так обдуманно, смело и тонко, что мы ничего не могли понять до тех пор, пока он выполнил весь свой коварный умысел, чрезвычайно нас тогда обидевший и опечаливший, а нынче, когда я пишу эти строки, заставляющий меня невольно улыбаться.
Надо сказать, что между нами тремя, которых вез теперь Кирилл, был некто, которого я назову Станиславом Пенькновским. Этот молодой поляк был годами двумя нас постарше, высок ростом, довольно мужественен, красив собою, при этом большой франт – и, по польскому обычаю, франт довольно безвкусный.
Подчиняясь своей страсти к щегольству, он в Москве купил у какого-то своего земляка венгерку с шнурами и кутасами, яркоцветные широкие шаровары и красную турецкую ермолку с синею шелковою кистью; в этом странном наряде он и ехал, постоянно высовываясь из повозки.
Кирилл, как только его голова немножко поправилась после московского пьянства, обратил внимание на этот наряд и многократно его одобрял, а потом, вероятно вследствие долгих соображений, нашел случай его утилизировать. Началось это с того, что чуть где-нибудь на мосту, случалась беспорядица и давка – Кирилл просил Пенькновского высунуться и покричать, что тот с удовольствием и исполнял, делая нередко и даже несколько более того, о чем просил его Кирилл. Так, Пенькновский зачастую, не ограничиваясь криком из телеги, выскакивал вон – и, выхватив у Кирилла его длинный троечнический кнут, хлестал им встречных мужиков и их лошадей, отчего последние метались в стороны и нередко валили и опрокидывали возы, мимо которых мы потом с торжеством проезжали среди мужиков, снимавших в страхе свои шапки и, вероятно, славших нам тысячи проклятий. Но как бы там ни было, а Пенькновский везде по дороге производил очень большой эффект – и Кирилл, находя в этом немалую для себя выгоду, очень часто его хвалил и даже угощал пивом и водкою.
Так было во все время путешествия по Великой России.
Въехав в Малороссию, Кирилл начал еще более льстить пану Пенькновскому и уверял, что ему стоит показаться, так дураки хохлы для него все с себя поскидают.
Пенькновскому необыкновенно нравилось, что он играет такую заметную роль, и он по приглашению Кириллы начал с ним заходить во всякую корчму. И что же выходило? Действительно, чуть, бывало, Пенькновский взойдет и сядет, а Кирилл шепнет одно слово шинкарю или шинкарке, как те тотчас подают им обоим наливки, сколько они хотят, а также давали и закусок и ни за что не требовали ни гроша, а только, выпроваживая их, – тихонько вслед им плевали.
Я и мой другой товарищ понять не могли: за кого это нас принимают? Пенькновский же уверял нас, что все это, вероятно, происходит оттого, что он будто бы похож на казацкого атамана, в чем его в свою очередь уверил льстивый и коварный Кирилл. Так мы доехали до Королевца, где суждено было произойти развязке этого пошлого и смешного анекдота.
IX
Ярмарка в Королевце стояла на единственной немощеной и чрезвычайно грязной городской площади. Я уже теперь не помню, около каких это было чисел, но знаю, что время было осеннее.
Постоялые дворы вокруг площади все были заняты – и Кирилл, не въезжая никуда на двор, остановился за углом одного дома у самой площади, выпряг здесь своих коней и, растянув хрептуг, поставил их к корму, а сам приступил к Пенькновскому с просьбою пройтись по базару. Кирилл сказал, что ему надо купить для себя пару бубенчиков и что будто бы ему гораздо сподручнее сделать это приобретение вместе с Пенькновским.
Пенькновский не отказался, и они пошли; а я и другой мой товарищ, маленький Кнышенко, заинтересованные тем, неужели им и бубенчики достанутся даром, – следили за ними издали.
Пенькновский в своем пестром, в глаза кидающемся наряде шел впереди, – а Кирилл, обыкновенно обращавшийся с нами запанибрата, здесь вдруг как будто проникся к Пенькновскому крайним и самым подобострастным почтением. Он шел сзади и тщательно оберегал, чтобы его кто не толкнул, а между тем постоянно шептал что-то на стороны встречным людям, которые тотчас же со страхом расступались и, крестясь, совали Кирилле кто грош, кто бублик, и потом, собираясь толпою, издали тянулись за ними со страхом, смешанным с неодолимым любопытством.
До нашего слуха долетало какое-то чуждое слово, значенья которого мы не понимали, но видели, что вереница, следовавшая за Пенькновским, все увеличивалась. Посреди торга толпа сгустилась до невозможности, и сидевшие тут на земле торговки с яблоками, булками и плоскою королевецкою колбасою начали подавать сопровождавшему Пенькновского Кирилле – каждая от своих щедрот: кто булку, кто пару яиц, кто еще что было под рукою; притом опять каждая, подав эту жертву, набожно крестилась и с отвращением плевала в сторону.
На площади внятнее прогудело опять то же слово, чуждое и незнакомое нам; слово это было «кат».
– Ката везут, московского ката в Киев везут: жертвуйте кату, щобы милостивейше бил! – шептали со всех сторон – и жертвы до того увеличились, что Кирилл уже был значительно ими обременен и, заметив нас, передал нам долю своего сбора, после чего и от нас тоже все отшатнулись, и пронеслось:
– А се его ученики. Они еще бити не можут, а тильки привязуют.
И нам пошла особая, добавочная жертва!
Положение выходило престранное и, как мы понимали – не совсем ладное; но Пенькновский, обаянный своим великолепием, идучи впереди, ничего этого не слыхал.
Он зашел в балаган и купил или даром взял бубенчики, положил их в карман и, погромыхивая ими, пошел еще с большим эффектом; зашел в палатку, где продавали вино и где были разные пьяные люди. Однако, несмотря на то, что все эти люди были пьяны, чуть только они взошли и Кирилл кивнул им головою на Пенькновского – они перестали шуметь и потребовали для него непокупного вина. Кирилл оставил здесь Пенькновского, а сам, изрядно пьяный, вернулся к телеге с целым ворохом разных закупок и гостинцев. Он живой рукой заложил лошадей – и мы подъехали к куреню, где оставался великолепный Пенькновский.
Услышав звон наших новых бубенчиков, он вылез из-под грязной палатки – и мы поехали.
У нас был целый сбор пирогов, рыбы, колбас, яиц, вина, репы, табаку и моркови, которую немилосердно хрястал подгулявший Кирилл; но тут вдруг случилось неожиданнейшее и казуснейшее происшествие: не успели мы отъехать и трех верст от города, как нас обогнал тарантас, запряженный тройкою лошадей: в нем сидел какой-то краснолицый господин, а на козлах, рядом с кучером, солдатик с нагайкою через плечо. Нам было велено остановиться – и краснолицый господин с военною осанкою потребовал от нас наши паспорта.
Мы развязали сумочки и предъявили наши бумаги. Военный господин просмотрел их – и непосредственно за тем, сбив с Кириллы шапку, начал таскать его за вихры и бить по щекам, а потом бросил его на землю и крикнул:
– Откройся!
Кирилл открылся, и солдатик снял с плеча нагайку и начал его бить, меж тем как чиновник приговаривал:
– Вот тебе, подлецу, за московского ката! – Кирилле за это досталось по нашему счету около ста нагаек. Затем краснолицый господин сел в тарантас, а солдатик вскочил на козла, и они уехали, а мы в страхе подняли Кириллу и начали приводить в порядок его туалет.
Кто был этот быстрый на руку королевецкий начальник – это так и осталось нам неизвестно, но мы ему были очень благодарны, что он проучил Кириллу, а главное – открыл нам, что коварный мужичонко выдавал нашего великолепного товарища за московского палача, которого он будто бы везет в Киев польскую графиню наказывать, а нас двух выдавал за его учеников.
Все мы этим очень обиделись, а Пенькновский потребовал от Кирилла объяснений: неужто он смел называть его палачом? Но жестоко выпоронный Кирилл, хрустя во рту оставшеюся у него морковью, отвечал:
– Ну так что же тебе из того за беда?
– Как что за беда? Я не хочу быть палачом.
– Ну, не хочешь, так и не будешь.
– А как же ты смел меня называть палачом?
– Эко важность какая: как смел? Антиресуются: что такого за пестрого черта везешь? Я и сказал, что везу палача в Киев; за то же тебе ничего, – только через это везде одно почтенье получал, а меня за тебя понапрасно отодрали.
Пенькновский пожал плечами – и, быстро сбросив с себя свои яркие шаровары, сказал нам:
– Господа, мы одурачены.
Мы согласились; но нашли, что все-таки Кирилле досталось хуже всех, потому что у нас пострадала репутация, а у него спина, от которой он жестоко кряхтел и несколько дней не мог разогнуться. Мы же с своей стороны дали друг другу слово, что эта история останется между нами. Ныне я впервые нарушаю это слово, но делаю это, впрочем, с совершенно покойной совестью, потому что оба лица, которым я обязался молчанием, уже давно погибли от двух случайностей: Кнышенко утонул в реке Сейме, а погибель последнего, то есть Пенькновского, дело позднейшей эпохи; но маленький Кнышенко утонул на третий же день после описанного королевецкого события – и утонул этот бедный ребенок неожиданно, весело и грациозно, как жил, но, однако, его смерть была для меня ужасным, потрясающим событием. Она дала мне первый повод к несколько рановременным размышлениям о непрочности всего земного и о тщете и несбывчивости самых ближайших надежд. Это сделалось потом моей болезнью, которая мне во многом вредила и во многом была полезна.
Кнышенко был добрый и очень нежный мальчик: он пламенно любил свою мать, говорил о ней с восторгом и стремился к ней с какою-то болезненною страстностью. У него была тетрадка, в которой он ежедневно зачеркивал дни разлуки, – и, не зачеркнув только трех дней, расстался с нею навеки. Я видел в этом злую насмешку рока.
Кнышенко умер таким образом: мы приехали в красивое местечко Батурин, бывшую столицу Мазепы, где есть развалины гетманского дома и опустелый дворец Разумовского. Обежав все достопримечательности этого местечка, мы, несмотря на позднее время года, вздумали сами половить в реке Сейме здешних знаменитых раков. Раздевшись, мы спустились в воду и стали шарить под корчами и береговыми уступами. Кнышенко при этом трунил над «катом» Пенькновским, который оказывался чрезвычайно неловким в ловле, между тем как Кнышенко оказывался очень ловок в труненье, – и так допек Пенькновского своими насмешками, что тот бросился на него с поднятым кулаком. Кнышенко начал отбивать его, поднимая в лицо его тучу брызг и… вдруг исчез в облаке этих брызг и более не показался. Он, вероятно, оступился и попал в один из глубоких тинистых омутков, которых в этой реке чрезвычайно много; а может быть, с ним случился удар, так как все мы после королевецкой оргии все-таки были еще немножко пьяны.
История эта наделала нам множество тяжелых и самых неприятных хлопот и продержала нас в Батурине около четырех суток, пока утопленника достали, вскрыли и похоронили.
В эти дни мы, разумеется, совсем протрезвились, и бедная душа моя, открыв всю бездну своего глубокого падения, терзалась немилосердно. В погибели Кнышенко я видел несчастие, которое ниспослано нам в наказание за наше бесчинное поведение: за питье сладкой водки и наливок, и в особенности за оскорбление нравственности вольным обхождением с королевецкими ярмарочными красавицами. Расстроенные кутежами, нервы мои помогли моему страданию, а вдобавок Кирилл в это время, вероятно, вспомнил советы, данные ему в Москве, чтобы он поприжал нас, – и вот он вздумал теперь воспользоваться сделанною нам задержкою и, придравшись к ней, потребовал с нас возмещения его убытков в размере целых ста рублей (разумеется, ассигнациями).
Не знаю, как бы я отнесся к такому нечестному и наглому требованию при других обстоятельствах, но в эту пору я был рад всякой новой каре – и с удовольствием отдал все свои деньги до последней копейки, так что «кату» уже пришлось дополнить очень немного.
Ехали мы после этого скучно: в повозке для нас двух открылся простор, пользуясь которым Пенькновский все спал врастяжку, а я вздыхал и размышлял о том, как поразит весть о смерти Кнышенко его родителей, которые, вероятно, нас встретят в Нежине. Я часто плакал и молился, чтобы бог дал мне благодать слова, способного хотя немного облегчить скорбь бедных родителей моего товарища. Я все подыскивал удобных изречений для выражения той моей мысли, что их сыну, может быть, совсем не худо, потому что мы не знаем, что такое смерть: может быть, она вовсе не несчастие, а счастие.
Впоследствии, встретив эту самую мысль у Сократа в его ответной речи судьям, приговорившим его к смерти, я был поражен: откуда мог взять эту мысль я, будучи мальчиком и невеждою. Но тем не менее, как бы там ни было, а мы сошлись с Сократом в то время, когда я знал о «великом старце» только то, что, судя по виденным некогда бюстам этого мудреца, он был очень некрасив и, очевидно, не имел военной выправки, без которой человеку трудно держать себя с достоинством в хорошем обществе.
Со мной происходил ужасно тяжелый нравственный переворот, достигший, наконец, до такого экстаза, что я не видел средств оставаться в живых – никому не открыв всей мрачной бездны моего падения. Я хотел бы написать об этом матушке, но мне показалось, что она, как близкое лицо, не перенесет всего ужаса, каким должна была объять ее чистую душу моя исповедь. Я решил подождать, пока приеду, и тогда лично открыть матери снедающую меня скорбь, не иначе как с немедленным же обетом посвятить всю мою остальную жизнь исправлению моих недостоинств и загладить их подвигами добра и самопожертвования.
Подвиги — это была моя всегдашняя мечта; самоотречение и самопожертвование – это идея, в которую более или менее ясно отформировалось это упоительное и нетерпеливое мечтание.
Смешно; но тот сделает мне большое одолжение, кто не станет смеяться над этими смешными порывами, так как я не знаю ничего лучше их, – и горе тому, кто не вкушал сладостного желания страдания за других! Он не знал лучшего и чистейшего удовольствия, какое возможно человеку испытать на земле.
Но возвращаюсь к тогдашним моим затруднениям в потребности исповеди и в обретении благодатных слов, которые могли бы облегчить скорбь родителей, потерявших сына.
Я этим был так занят, что, молясь о помощи свыше, начал ощущать вблизи себя в повозке чье-то присутствие – присутствие многих, очень многих существ, которые ехали со мною и понимали мои думы, в глубочайшей тайне хранимые от моего возницы и оскверненного товарища.
Мы приехали в городок Борзну, на который теперь более тоже не лежит главный путь к Киеву. Эта Борзна – до жалости ничтожный и маленький городок, при первом взгляде на который становится понятен крайний предел того, до чего может быть мелка жизнь и глубока отчаянная скука. Не тоска – чувство тяжелое, но живое, сочное и неподвижное, имеющее свои фазы и переходы, – а сухая скука, раздражающая человека и побуждающая его делать то, чего бы он ни за что не хотел сделать.
Мне казалось, что эта скука точно здесь висит в воздухе, и не успел я стать на ноги, как она уже охватила меня, точно спрут или пиевра, и неодолимо начала присасываться к моему сердцу. Я вышел за ворота постоялого двора – и, взглянув на пустую площадь и на украшавшую ее тюрьму, ощутил неодолимую потребность бежать и скрыться. Мой извозчик, мой товарищ, самая телега, в которой я путешествовал, – были мне противны, они служили мне напоминанием тягостных и отвратительных событий. У меня уже была испорченная жизнь — и мне хотелось оплакать и сбросить ее. Я увидал где-то за соломенными крышами стройные конусы зеленых, в ряд вытянутых тополей – и бросился к ним, надеясь найти тут отдых от сжимавшей мое сердце тоски, и я бежал не напрасно. Виденные мною деревья стояли в ряд, окаймляя забор, за которым ютился довольно чистенький домик с надписью, возвещавшею, что здесь помещается городская больница.
Это было претихое место, как раз идущее под стать моему настроению. Между тополями и темным забором была довольно глубокая заросшая травою канава, в которую я юркнул, как хорь, – и, упав на ее дно, лег лицом ниц к земле и заплакал.
Я оплакивал свою погибшую жизнь, свое глубокое нравственное падение, страшно расстроившее мое воображение и нервы и доведшее меня до отчаяния, что я, сопричастясь бездне грязных пороков, уже недостоин и не могу взглянуть в светлые глаза моей матери, – что я лишил себя права обнять ее и принять ее поцелуй на мое скверное лицо, которое действительно осунулось и жестоко изменилось. Это произошло от большого нравственного страдания и мук, которые я испытывал, казня себя за всю развращенность, столь быстро усвоенную мною с тех пор, как я очутился на воле. Оплакивая в канаве свое падение, я проникался духом смирения: я порицал свободу (и это так рано!), и жаждал какой-то сладкой неволи, и тосковал о каком-то рабстве – рабстве сладком, добром, смирном, покорном и покойном, – словом, о рабстве приязни и попечительности дружбы, которая бы потребовала от меня отчета и нанесла бы мне заслуженные мною укоры, нанесла бы тоном глубоким и сильным, но таким, который бы неизбежно смягчался и открывал мне будущее в спокойном свете. Но где же такой друг, перед которым бы я мог подвергнуть себя такому сладостному самобичеванию? – Где? Великий боже! меня словно осыпало горячим песком: как же я смею роптать, что у меня нет друга! Как мог я в эти минуты позабыть о ней, о той доброй сестре моего тверского товарища, которая умела так ловко поправить мою ошибку на вечере у их отца и так великодушно меня обласкала и прислала мне на дорогу книгу и пирогов? Разве это еще не дружба, и притом не более чем обыкновенная дружба – дружба с женщиной!
О, какое это было сладостное воспоминание! я почувствовал в сердце болезненно-сладкий укол, который, подыскивая сравнение, могу приравнивать к прикосновению гальванического тока; свежая, я лучше бы хотел сказать: глупая молодая кровь ртутью пробежала по моим жилам, я почувствовал, что я люблю и, по всей вероятности, сам взаимно любим… Иначе это не могло быть! Я вскочил на ноги, схватился руками за грудь и зашатался. Мне показалось, что в этой сорной канаве я как будто снова нашел мою потерянную чистоту, – и вот я, упершись руками в края канавы, выскочил и бросился бежать со всех ног в город. Здесь я купил в лавке бумаги и конверт и сел за столом в кухне писать письмо к моей пафосской богине, в которой женщина для меня нимало не затмевала божественный, мною созданный образ; я любил ее, но не иначе, как смертный может любить богиню, – и не предполагал, чтобы несомненная ее любовь ко мне имела другой характер, не соответствующий разнице наших отношений.
Я хотел бы слушать ее, но слушать как внушение; я хотел бы даже прикоснуться к ней, но не иначе, как прикоснуться устами к краю ее одежды.
То, что я танцевал с нею, представлялось мне ужасным оскорблением ее величия – и я с этого начал мое весьма почтительное, но безмерно глупое письмо.
Совершая этот безумный поступок, я находил его прекрасным и не видал никакой неловкости в том, что пишу в неизвестный мне дом, к совершенно почти незнакомой мне девушке.
Но тем хуже было для меня – по всем ужасным последствиям этого, в любовном бреду совершенного, поступка.
X
Письмо выходило чрезвычайно пространное и, как мне тогда казалось, необыкновенно трогательное и задушевное. В последнем, я думаю, я нимало не ошибался, потому что искреннее меня тогда не могла быть и сама отвлеченная искренность. Начав, как я сказал выше, с того, что возвел Nathalie Волосатину в сан богини, я просил у нее прощения в том, что огорчил ее моею невоспитанностью, – и далее пространно описывал ей мое душевное состояние и объяснял причины, от которых оно произошло, то есть я выисповедался, что пил вино и вообще пал; но однако, по счастию, я еще как-то удержался – и, скорбя о своем падении, ничего не открыл насчет королевецких ярмарочных дам под шатрами, а объяснил ужас и низость своего падения экивоками. Я просил сестру Волосатина обдумать мое ужасное положение и применить ее нежность – если не ко мне, то по крайней мере к ее брату, моему товарищу, который по его летам и неопытности мог подвергнуться тем же искушениям, какими был искушен и я, и потом мог подпасть под те же муки раскаяния, какими я страдаю. Все, чего я хотел от нее для себя, я выпрашивал у нее для ее брата и потому считал его в это время моим лучшим другом и так к нему и относился в письме, которое перед выездом своим из Борзны сдал на почту.
Но зачем я все это сделал? Этот поздний вопрос возник во мне почти немедленно же после того, как соломенные борзенские кровли утонули в туманной черте горизонта и я остался сам со своими думами. Мало-помалу мною начали овладевать сомнения: позволительно ли было с моей стороны такое письменное обращение к девушке, которую я видел всего один вечер? После некоторых соображений мне начало казаться, что это не совсем позволительно, – и чем я более размышлял, тем эта непозволительность становилась все яснее и возмутительнее. К тому же я теперь не мог отвечать за каждое выражение моего письма, потому что хотя у меня и было черновое, но я, переписывая его набело, кое-что изменил и – как мне теперь казалось – во многих местах весьма прозрачно обнаруживал свою возвышеннейшую любовь к моей корреспондентке. А что, если это письмо попадется кому-нибудь из ее семейных, или она сама покажет его своему брату? О, какой стыд и ужас! Как они будут надо мной смеяться? Или вдруг ее отец напишет об этом моей матери и, пожалуй, приложит в подлиннике мое письмо?.. Великий господи! мне показалось, что я этого не вынесу, – и для спасения своей чести мне тогда по меньшей мере должно будет застрелиться.
Я умолял Кирилла вернуться назад в Борзну с тою целию, чтобы выпросить у почтмейстера назад мое письмо, но Кирилл, сделавшийся после постигшей его под Королевцем неприятности чрезвычайно мрачным, не хотел меня слушать. Вообще теперь при выезде из городов он обнаруживал большую торопливость и беспокойство и ни за что не хотел остановиться; да к тому же я и сам скоро понял, что возвращение было бы теперь бесполезно, потому что я подал письмо перед самым отправлением почты, которая теперь мчит мое письмо на север, – меж тем как я, злополучный, сам неуклонно тянусь на юг, где, однако, меня найдет и постигнет какое-то роковое и неотразимое последствие посланной корреспонденции.
Никакая помощь, никакая поправка были невозможны, – и я, упав на дно телеги, сгорал со стыда и не видел никакого спасения от неминуемого позора, в неотразимости которого меня совершенно уверило мое беспокойное воображение.
Но, впрочем, как застрелиться мне очень не хотелось, то я скоро занялся подыскиванием другого подходящего средства, обратясь к которому я только умер бы для людей, а для самого себя был бы жив.
Передо мной мелькнул монастырь – и я счел эту мысль за благодетельное наитие свыше.
«Что же, – думал я, – мне действительно остается одно: скрыться навсегда в стенах какого-нибудь монастыря и посвятить всю будущую мою жизнь искуплению безрассудств моей глупой молодости».
В святой простоте ума и сердца, я, находясь в преддверии лабиринта, думал, что я уже прошел его и что мне пора в тот затон, куда я, как сказочный ерш, попал, исходив все океаны и реки и обив все свои крылья и перья в борьбе с волнами моря житейского. Я думал, что я дошел до края моих безрассудств, когда только еще начинал к ним получать смутное влечение. Но как бы там ни было, а желание мое удалиться от мира было непреложно – и я решил немедленно же приводить его в действие.
«Постригусь, – думал я, – и тогда извещу матушку, что я уже не от мира сего, а причина этого навсегда останется моею глубокою тайною».
В Нежине я убежал в какой-то городской монастырь и потребовал, чтобы меня проводили к настоятелю, но настоятель был в отлучке, и в его отсутствии монастырем правил монах, которого мне назвали отцом Диодором.
Мне было некогда ждать – и я потребовал, чтобы обо мне доложили отцу Диодору; а сам остался в монастырском дворике. Я хотел избежать встречи с родными покойного Кнышенки, для которых не выдумал никакого утешительного слова, потому что мою сократовскую мысль о том, что смерть, может быть, есть благо, всякий раз перебивали слова переведенной на русский язык греческой песенки, которую мне певала матушка. В этой песне поется, как один маленький мальчик осведомляется у матери: зачем она грустит об умершей его сестрице, маленькой Зое, которая, по собственным же словам матери, теперь «уже в лучшем мире, где божьи ангелы живут и ходят розовые зори». И что же? бедная мать, зная такие хорошие слова утешения для других, сама не утешается ни светом зорь, ни миром ангелов и грустит, что
У бедной нет там мамы, Кто смотрел бы из окна, Как с цветком и мотыльками Забавляется она.Я чувствовал, что на такую грусть решительно ничего не ответишь, и бежал от разрывающей душу печали. Потом, во-вторых, я был уверен в живой для себя потребности беседы с духовным лицом насчет своего намерения поступить в монастырь.
Но представьте же себе, что случилось здесь с этим моим намерением! Холодный осенний ветер, юлою вертевшийся на небольшом монастырском дворе, привел меня в отвратительнейшее, беспокойное состояние. Невольно наблюдая мятущееся беспокойство вне келий, я проникал моим воображением внутрь их и убеждался, что здесь везде не покой и смятенье, – что за всякою этой стеною, перед каждой трепещущею лампадой трепещет, мятется и ноет человеческий дух, подражая смятению, вою и досаждающему шуму этого ветра.
Отцу Диодору было лучше бы не принимать меня, но обстоятельства так благоприятствовали моему ходатайству, что я был допущен в очень большую и довольно хорошо убранную келью, где во второй – следовавшей за залой – комнате увидал на диване свежего, здорового и очень полного грека в черной полубархатной рясе с желтым фуляровым подбоем и с глазами яркими, как вспрыснутые прованским маслом маслины. Перед почтенным иноком стояла старинная бронзовая чернильница и такой же бронзовый колокольчик, а сбоку его в кресле сидела розовая дама, перед которою на столе были расставлены четыре тарелки, из коих на одной были фиги, на другой фундуки, на третьей розовый рахат-лукум, а на четвертой какое-то миндальное печенье и рюмка с санторинским вином, распространявшим по комнате свой неприятный аптечный запах.
Эта обстановка немножко не совсем шла под стать моему аскетическому настроению, для собеседования о котором я сюда явился.
Отец Диодор (это был он), встретя меня, показал на кресло vis-а-vis с угощавшейся у него дамой и спросил меня с сильным греческим акцентом, чтό мне от него нужно.
Я весьма несмело объяснил с замешательством, зачем пришел. Инок слушал меня, как мне показалось с первых же моих слов, без всякого внимания, и во все время – пока я разъяснял мрачное настроение души моей, требующей уединения и покоя, – молча подвигал то одну, то другую тарелку к своей гостье, которая была гораздо внимательнее к моему горю: она не сводила с меня глаз, преглупо улыбаясь и чавкая крахмалистый рахат-лукум, который лип к ее розовым деснам.
Когда речь моя была кончена, великолепный отец Диодор позвонил в колокольчик и велел вошедшему служке «цаскум на кофе».
– С молёком или без молёком? – вопросил молодой вертлявый греческий служка.
– Без никому, – отвечал инок Диодор и опять начал угощать свою гостью, не обращая никакого внимания ни на самого меня, ни на мои остающиеся без разрешения вопросы, о которых я и сам в эти минуты перестал думать и рассуждал: зачем эти два грека говорят между собою по-русски, когда им, очевидно, гораздо удобнее было бы объясняться по-гречески?
Меж тем служка подал чашку кофе и графинчик рому, выражавший собою, как видно, то «без никому», о котором сказал ему монах.
Я кофе выпил, но от рому отказался, несмотря на то, что меня им сильно потчевали и сам отец Диодор и его гостья, говорившая очень мягким, добрым голоском на чистом малороссийском наречии, которое мне очень нравилось всегда и нрасится поныне. Но мне нужно было не угощение, а ответ на мои скорбные запросы, – а его-то и не было. Монах и дама молчали, я ждал ответа – и ждал его втуне. Тогда я решился повторить свой вопрос и предложил его в прямой форме, требующей прямого же ответа.
– Это вы надо презде спросить с папиньком, с мамикьком.
Я сказал, что мой отец умер.
– Спросить с маминьком, – отвечал отец Диодор и сейчас же вышел в другую комнату, откуда, впрочем, через минуту снова появился и пригласил туда и меня и свою даму.
Здесь нам открылся довольно хорошо сервированный стол, уставленный разными вкусными блюдами, между которыми я обратил особенное внимание на жареную курицу, начиненную густой манной кашей, яйцами и изюмом. Она мне очень понравилась – и я непритворно оказал ей усердную честь, запивая по настоянию хозяина каждый кусок то сладким люнелем, то санторинским, которое мало-помалу все теряло свой вначале столь неприятный для меня запах, а под конец даже начало мне очень нравиться.
Я приходил в прекрасное настроение духа, совсем не похожее на то, в каком я явился в греческую обитель, – и замечал, что то же самое происходило и с моим хозяином, который сначала молчал и как будто тяготился мною, а теперь сделался очень приветлив и даже очень говорлив.
XI
Достопочтенный отец Диодор вообще очень плохо выражался по-русски, но говорил охотно. Подыскивая слова, он в интервал причмокивал и присасывал, сластил глазами, помогал себе мимическими движениями лица и изображал руками все то, что, по его мнению, было недостаточно ясно выражено его словом.
– Пцю, пцю, пцю, – зачмокал он вдруг, сам начиная говорить о моем желании поступить в монастырь, – желание, которое он ни одобрял, ни порицал, но проводил ту мысль, что мне в монастырь собираться рано: что прежде надо «всего испитать». «Всего, пцю, пцю, пцю, всего, всего», – смаковал он, показывая руками во все стороны: на вино, на курицу и на даму.
Присутствовавшая при этом гостья однако, улыбаясь, заметила, что если все испытать, то тогда, пожалуй, в монастырь «и не захочется»; но отец Диодор утверждал, что человеку есть определение, которого он никак не избегнет, и при этом ставил себя в пример. Он рассказал следующее:
– Нас было цетыре братьи, – начал он, – и ми все, все как есть, посли на царский слузба и били воины. Старсий брат, Костаки, посол митос пехотос ццццю… вот так! (монах, сжав кулак, выпустил средний и указательный пальцы, промаршировал ими по столу и опять произнес: «Вот так». Этим он наглядно изобразил, что такое пехота, и потом продолжал:) Другой брат, Дмитраки, посол в кавалерия (причем отец Диодор посадил два пальца своей правой руки на указательный левой – и, сделав на них маленький объезд вокруг тарелки, пояснил: «Вот так, кавалерия». Затем снова рассказ:) третий, Мануэлес, посол митос артилериос (при этом правый кулак отца Диодора быстро вскочил на левый и поехал на нем по столу, как на лафете, а третий палец он выставил вперед и очень наглядно изобразил им сидящую на лафете пушку). Пуски, пуски! – заговорил, указывая на этот палец, отец Диодор, – вот так: пуски! – И вслед за сим он, весь сугубо оживившись, воскликнул: – А я, самый маленький, самый мизинцик, посол митос флётос, – вот так.
Тут рассказчик эффектно положил кисть одной руки на другую, так что большие пальцы приходились с двух противоположных сторон – и, подвигая ладонями по воздуху, греб большими пальцами, точно веслами, и приговаривал:
– Флёт, вот так: флёт! И, – продолжал Диодор, – когда я просол насквозь весь целый свет, то у меня били все разные ордены и кресты, дазе с этой сторона (он указал рукою от одного своего плеча на другое), и одна самая больсая крест не уместился и тут повис, – заключил он, показав, что орденский крест, для которого уже не было места у него на груди, кое-как должен был поместиться на шее.
Но несмотря на всю эту массу почестей, отец Диодор, однако, попал в монахи, и указывал мне на это, как на знак воли промысла, а потом пошел еще храбрее и храбрее: он рассказывал нам о храбрости давних и недавних греческих греков вроде Колокотрони, Ботцариса и Бобелины, а от них непосредственно переносился к нашему балаклавскому баталиону, героизм которого выходит еще грандиознее.
– О, наса балаклавской баталион, великая баталион, она никому не спигался, – восторженно говорил Диодор и при этом рассказал, что будто бы этот славный баталион греческих героев когда-то однажды на смотру одному очень, очень великому лицу показал, что такое значит греки. Это было так, что будто бы очень, очень великое лицо, осматривая разные войска, приветствовало всех словами: «Здорово, ребята!», и все русские войска на это приветствие, конечно, отвечали радостным криком: «Здравия желаем, вашество». Но когда великая особа крикнула тоже «здорово, ребята» баталиону, то греки будто только посмотрели один на другого, почмокали и, покачав головами, перешепнулись: «Что мы за ребята? мы греки, а не ребята», и промолчали. Видя это, очень великий начальник снова повторил: «Здорово, ребята», но мудрые греки снова переглянулись и снова нашли, что они не ребята, и потому опять не откликнулись. Тогда будто бы очень великий человек «бил не глупый в своя голова» и, догадавшись, сказал «зласковым» голосом:
«Калисперос,[3] греки!»
А те вдруг, как один полозили:
«Калякалитрум,[4] ваше-ство!» так вот что значит грецеский целовек! Грецеский целовек самая умный целовек! – похваливал мне своих соотчичей подгулявший отец Диодор – и я не знаю, про какие бы еще греческие чудеса он мне не рассказал, если бы служка не доложил, что к монастырю подъехала наша повозка и мои спутники зовут меня ехать.
В самом деле, на дворе уже вечерело, и я простился с хлебосольным Диодором и уехал, напутствованный его благословением, просфорою, бутылкою санторинского вина и уверением, что всякому человеку положен свой предел, которого он не обежит.
– Если будет предел, то и зенисся, и будет у тебя орден с энта сторона до энта сторона, а одна не поместится и тут на шее повиснет, а все церный клобук попадес, – уверял он меня напоследях, и уверял, как я теперь вижу, чрезвычайно прозорливо и обстоятельно; но тогда я его словам не поверил и самого его счел не за что иное, как за гуляку, попавшего не на свое место.
Полагаю, что причина подобного легкомыслия с моей стороны должна была заключаться в крайней сжатости и небрежности преподавания священной истории в нашем корпусе.
Но в те юные годы и при тогдашней моей невежественности и неопытности я ничего этого не понимал и пророчества отца Диодора пустил по ветру вместе со всеми его нескладными рассказами о его братьях, отличавшихся в пехоте, при пушках, и во флоте, и о всей греческой храбрости и о находчивой политичности знаменитого, но уже более не существующего в России греческого балаклавского баталиона.
Но, как бы то ни было, внутренний голос внутреннего чувства обманул меня уже два раза: раз в канаве, когда я почувствовал возрождение к новой жизни и тотчас же сделал новую глупость, написав письмо в Тверь, – второй раз теперь в монастыре, где я мечтал встретить успокоение и нашел рахат-лукум и прочее, что мною описано.
«Где же, где же покой?» – допрашивал я себя, доканчивая свое путешествие грустный и унылый. Я был в отчаянии, что только лишь едучи к месту своего назначения я уже перепортил всю свою жизнь: я находил, что эта жизнь жестоко меня обманула; что я не нашел в ней и уж конечно не найду той правды и того добра, для которых считал себя призванным. Я боялся, как бы после всего этого мне не довелось еще открыть, что и мать моя, может быть, не совсем такое глубокое и возвышенно-благородное создание, каким я себе ее воображал. По мере своего собственного падения я все более и более раздражался и делался мизантропом. В этом лежал задаток моего спасения.
Природа моя требовала реакции, но возбуждение ее должно было прийти откуда-то извне.
В таком именно состоянии был я, когда увидел блестящий крест Киевской печерской лавры и вслед за тем передо мною открылись киевские высоты со всею чудною нагорною панорамою этого живописного города. Я с жадностию обозревал это местоположение и находил, что братья Кий, Щек и Хорев обладали гораздо более совершенным вкусом, чем основатель Москвы боярин Кучка и закладчики многих других великорусских городов. При самом первом взгляде на Киев делается понятно, почему святые отшельники нашей земли избирали именно это место для перехода с него в высшие обители. Киево-печерская вершина – это русская ступень на небо. Здесь, у подножия этих гор, изрытых древлерусскими христианскими подвижниками, всякий человек, как у подножья Сиона, становится хоть на минуту верующим; необходимость глядеть вдаль и вверх на эти уносящиеся под небо красоты будит душу – и у нее, как у отогревающегося на подъеме орла, обновляются крылья.
Сухменная философия моя развеялась под свежим ветром, которым нас охватило на днепровском пароме, и я вступил на киевский берег Днепра юношею и сыном моей родины и моей доброй матери, которую так долго не видал, о которой некогда столь сильно тосковал и грустил и к ногам которой горел нетерпением теперь броситься и, обняв их, хоть умереть под ее покровом и при ее благословении.
Я не замечал, в каком состоянии находились мой Кирилл и мой товарищ в то время, когда мы проезжали низкие арки крепостных ворот, и сам себя не помню, как благодаря Кириллиной расторопности и толковитости мы остановились у одного низенького домика, на окнах которого я увидал в тамбур вязаные белые шторы, какие любила по вечерам делать моя матушка, а за ними вдали, на противоположной стене, в скромной черной раме давно знакомую мне гравюру, изображавшую Фридриха Великого с его штабом.
Не было никакого сомнения, что здесь, именно здесь, живет моя прелестная мать.
Я взвизгнул, затрясся и, свалившись с телеги, бросился к низеньким желтым дверям, но они были заперты. Еле держась на дрожавших ногах, я стал отчаянно стучать в них, и… мне сначала показалось в ближайшем окне бледное, как бы испуганное лицо: затем послышался шум, за дверью пронеслись быстрые легкие шаги, задвижка щелкнула – и я упал на грудь высокой доброй старушки, черты которой только могли напомнить мою мать.
XII
Я не помню, как исчезли с моих глаз Кирилл и мой Пенькновский, – но они во всяком случае сделали это как-то так хорошо и деликатно, что ни одной минуты не помешали мне любоваться священными чертами лица моей неимоверно постаревшей матери.
Тому, кто не знал ее шесть лет назад, в ее нынешнем благородном, полном возвышеннейшего выражения лице все-таки было бы трудно угадать ту очаровательную, неземную красавицу, какою она была в роковой год смерти отца. Нежно-прозрачное лицо ее теперь было желто – и его робко оживлял лихорадочный румянец, вызванный тревогою чувств, возбужденных моим прибытием; златокудрые ее волосы, каких я не видал ни у кого, кроме путеводного ангела Товии на картине Ари Шефера, – волосы легкие, нежные и в то же время какие-то смиренномудрые, подернулись сединою, которая покрыла их точно прозрачною дымкой; они были по-старому зачесаны в локоны, но этих локонов было уже немного – они уже не волновались вокруг всей головы, как это было встарь, а только напоминали прежнюю прическу спереди, вокруг висков и лба, меж тем как всю остальную часть головы покрывала черная кружевная косынка, красиво завязанная двумя широкими лопастями у подбородка. Рост и фигура, превосходной формы руки и строгий постав головы на античной, слегка лишь пожелтевшей шее – были все те же; но губы побледнели, и в голубых, полных ласки и привета глазах блуждал какой-то тревожный огонь.
Не сводя глаз с матушкиного лица, я созерцал ее в безмолвном благоговении, стоя перед нею на коленях и держа в своих руках ее руки. Матушка сидела в кресле и также молча смотрела то на меня, то на небольшой акварельный портрет, который стоял возле нее на крышке ее открытой рабочей шкатулки.
Это был портрет моего покойного отца, на которого я теперь был поразительно похож – и хотя в этом обстоятельстве не было ничего удивительного, но матушка была этим, видимо, сильно занята. Высвободив из моих рук свои руки, она в одну из них взяла этот портрет, а другою приподняла волоса с моего лба – и, еще пристальнее взглянув мне в лицо, отодвинулась и прошептала:
– Какое полное повторение во всем!
В этом восклицании мне послышалось что-то болезненное, что-то такое, чему мать моя как будто в одно и то же время и радовалась и ужасалась. Она, должно быть, и сама это заметила и, вероятно сочтя неуместным обнаружение передо мною подобного чувства, тотчас же подавила его в себе – и, придав своему лицу простое выражение, договорила с улыбкою:
– Если заменить этот пушок на твоей губе густыми усами, бросить несколько седых волос в голову и немножко поставить лицо, ты был бы настоящий двойник твоего отца. Это обещает, что ты будешь иметь недурную наружность.
Желая блеснуть умом и серьезностью, я кашлянул и хотел сказать, что наружность не много значит; но матушка точно прочла мою мысль и ответила на нее, продолжая речь свою:
– Хорошая форма имеет много привлекательного, – сказала она, – в хорошей форме надо стараться иметь и хорошее содержание, – иначе она красивая надпись на дурном товаре. Ты, впрочем, очень счастлив – рано испытав несчастие; я уверена, что оно дало тебе хороший урок.
Это меня ужасно тронуло – и я еще жарче припал к матушкиным рукам, и на них из глаз моих полились обильные слезы.
– Ты не плачь, – продолжала матушка нежным и ласковым, но как будто несколько деловым тоном, – тебе теперь нужны не слезы, а душевная бодрость. Ты лишен самого величайшего блага – правильного образования; но бог милосерд, может быть мы не только ничего не потеряем, а даже выиграем. А о том, что ты потерял несколько прав или служебных привилегий, – не стоит и думать. Все дело в облагорожении чувств и просвещении ума и сердца, чего мы с тобою и станем достигать, сын мой, и в чем, надеюсь, нам никто не помешает.
Я вздрогнул: это были почти те же самые слова, какие я слышал в Твери от сестры Волосатина, которой я написал и послал свое глупое письмо. Ненавистное воспоминание об этом письме снова бросило меня в краску, и я, продолжая стоять с поникшею головою перед моей матерью, должен был делать над собою усилие, чтобы понимать ее до глубины души моей проникавшие речи.
А матушка все продолжала ласкать меня своею рукою по лицу и по голове – и в то же время излагала мне, чтό ею уже предпринято для того, чтобы прерванное образование мое не остановилось на этом перерыве, и чтό она еще намерена сделать в этих же целях. Передо мною открывался обширный и обстоятельно обдуманный план, который показывал мне, что я жестоко ошибался, почитая себя уже совсем вырвавшимся на волю, – и в то же самое время этот план знакомил меня с такою стороною ума и характера моей матери, каких я не видал до сих пор ни в одном человеке и уже никак не подозревал в моей maman, при мечтах и размышлениях о которой передо мною до сих пор обыкновенно стояли только нежная заботливость и доброта. Едучи к ней из корпуса, я хотя и не был намерен отвергать ее материнского авторитета, но все-таки в сокровеннейших своих мечтах я лелеял мысль, что мы с нею встретимся и станем жить на равной ноге, даже, пожалуй, с некоторым перевесом на мою сторону, так как я мужчина. Теперь на деле на первых же порах выходило совсем другое: я видел, что я еще мальчик, судьбою которого намерена властно распоряжаться хотя очень добрая и попечительная, но в то же время неуклонно твердая воля.
Матушка сообщила мне, что, приехав месяц тому назад в Киев, она уже устроила, что дядя даст мне место в своей канцелярии, но что это место будет, разумеется, самое незначительное и по моим обязанностям и по вознаграждению, которое я буду получать за мою службу.
– Но это и справедливо и прекрасно, – говорила она, подняв меня с полу и занявшись приготовлением для меня чая из чистенького томпакового походного самовара моего отца – самовара, который подала очень опрятно одетая пожилая женщина в темном платье и в белом чепце. – Это справедливо, – продолжала maman, – потому что ты, не будучи подготовлен ни к какой полезной деятельности, не можешь претендовать на лучшие места, которые должны принадлежать достойнейшим; и это прекрасно, потому что при незначительных обязанностях по службе у тебя будет оставаться много времени на полезные занятия для обогащения сведениями твоего ума и развития твоего сердца.
В способах достижения этого развития и обогащения матушка явилась такою же основательною, как и во всем том, что я от нее уже слышал. Усадив меня сбоку от себя за стол, к корзинке с булками и стакану чая, она сообщила мне, что, уладив мое поступление на службу (к чему я был обязан при моем исключении из корпуса), она обратилась к сведущим людям, с помощию которых так же тихо и благонадежно устроила для меня возможность заниматься науками. Она сказала мне, что и самый город Киев она выбрала для нашего житья, во-первых, потому, что не хотела, чтобы я проводил юность между чужеземным населением в Лифляндии, которая хотя и была ее родиной, но для меня не годится. Maman высказала, что, будучи сыном русского человека, я должен взрасти и воспитаться в преданиях и симпатиях русского края, а потом она указала вторую причину выбора Киева; эта причина заключалась в том, что здесь есть университет, который она назвала источником света, проливающим свои лучи на все, что становится в возможной к нему близости.
Я все это слушал с напряженным вниманием, хотя и не совсем ясно понимал, какое просветительное влияние может иметь университет чрез одно пребывание с ним в более или менее близком соседстве… Но матушка и это точно сейчас же прозрела, и как бы в скобках разъяснила мне распространение в обществе добрых и высоких идей просредством обращения с просвещенными людьми, руководящими образованием университетского юношества.
Меня поражала и эта простота и ясность ее взгляда и ее спокойное savoir faire,[5] с которым она все располагала, как будто играла по нотам. Особенно же меня удивила ее прозорливость, с какою она словно читала в уме моем и тотчас спешила разъяснить все, что мне было неясно. Но что всего более на меня действовало – и действовало благотворнейшим образом – это определенность ее суждений, полных, точных, основательных, так что к ним не нужно было просить у нее никаких прибавлений, точно так же как от них ничего нельзя было бы отнять без ущерба их полноте и положительности.
Самые мельчайшие детали составленного ею для меня плана уложены были в такой незыблемый кодекс, что совершеннее его в этом роде уже, кажется, ничего нельзя было придумать.
Да простит мне читатель (если таковой будет у моих записок), да простит он мне, что я ниже этих строк сейчас приведу в дословном изложении разговор, последовавший между мною и моей матерью.
Нет нужды, что в нем не будет эффектных crescendo[6] и forte,[7] а все просто и плавно, как бесстрастный диалог. Я его упомнил весь, от слова до слова, в течение очень многих лет, а это несомненное ручательство, что в нем есть нечто, способное врезаться в память.
XIII
– Ты будешь спать вот там, – сказала матушка, указав мне на небольшую комнату влево от гостиной, где мы пили чай, – а вот здесь направо – точно такая же моя комната. Тут все наше помещение, каким мы можем располагать, и нам большего не нужно, – миллионы людей, гораздо более нас имеющие права на большие удобства, лишены и таких. Это очень жалко, но пособить этому не в наших силах, а притом же это, верно, так нужно и так угодно богу.
Она при этом слегка наморщила свой античный лоб и подавила вздох, который свидетельствовал, что она искренне смущается тем, что у нее с сыном есть для двоих три комнатки, между тем как у других, более нас достойных, – этого нет.
Затем она продолжала:
– Сегодня ты отдохнешь от дороги, и мы кое-куда сходим: не в люди, а в церковь, где ты должен помолиться за своего отца и попросить себе благословения на твои начинания; потом я тебе покажу город, который имеет очень много интересных мест и прекрасных видов. Позже, перед вечером, к нам придет один новый друг, профессор духовной академии Иван Иванович Альтанский; это очень умный, скромный и честный человек, при котором я прошу тебя держать себя в разговорах скромно и рассудительно. Лучше всего говори меньше и больше слушай его: это самое умное правило, сохраняющий которое никогда не кается. В десять часов Иван Иванович от нас уйдет: он очень аккуратен, и это его час, а он так благоразумен, что не отступает без нужды от своих правил. Нынче мы ради дня твоего приезда позволим себе полениться, а с завтрашнего дня и мы будем подражать доброму примеру Ивана Ивановича и начнем блюсти свое правило. Мы будем вставать не очень рано – не ранее семи часов. Это вовсе не обременительно, а, напротив, даже здорово, да и ты, я думаю, точно так же вставал и в корпусе?
– Да-с, maman, – отвечал я, кашлянув, и эти почти первые слова, произнесенные мною в доме моей матери, прозвучали так младенчески робко, что я даже сконфузился детской интонации, с которою их выговорил, и снова откашлялся, стараясь показать, что ребячливость моего голоса произошла от случайности, а вместе с тем и освежить гортань на случай уместного произнесения нового слова.
– Вот и прекрасно, – продолжала мать, – значит, вставанье в семь часов не будет для тебя обременительно?
– Нисколько, maman.
– В полчаса ты окончишь свой туалет…
– О, maman, даже гораздо скорее.
– В излишней поспешности нет нужды, да и в ней мало толку. Нужно делать все в свое время, тогда у человека достанет времени все сделать чинно и спокойно; в половине восьмого мы, стоя вместе, прочтем главу из немецкой библии. Это моя всегдашняя лютеранская привычка с детства, которую я удержала и приняв православие. К тому же это будет тебе некоторою практикою в немецком языке, который ты должен знать как из уважения к национальности твоей матери, так и потому, что он имеет обширную и едва ли не лучшую литературу…
– Но, maman, – перебил я, покраснев от своей смелости, – разве вы православная? (Я знал, что мать моя при жизни отца была лютеранкой – и действительно очень изумился, когда она упомянула вскользь о своем православии.)
– Да, – отвечала матушка, – бог один, и христианство полно и совершенно в учении всех церквей, – по крайней мере я имею такое мнение об этом предмете, – но я нашла, что матери все-таки гораздо удобнее исповедовать ту веру, в учении которой она должна воспитать своих детей. Я православная потому, что таким должен быть ты. Но это мое дело, а мы будем знакомиться с нашим уставом, которому я положила следовать. Окончив чтение библии, мы будем пить наш чай; потом девятый час пройдет в занятиях греческим языком, который очень интересен и изучение которого тебя, конечно, чрезвычайно займет. От девяти до десяти мы будем заниматься историей, – я хочу проверить твои знания, и за этим же легким предметом ты немножко отдохнешь от первого урока. Затем одиннадцатый час отдадим латинскому языку и потом будем завтракать, после чего ты будешь ходить на службу. Что ты там будешь делать в канцелярии – я этого, конечно, не знаю, но старайся, разумеется, все, что тебе поручат, делать усердно и аккуратно. Я думаю, что ты будешь просто переписывать какие-нибудь бумаги. Ничего, не пренебрегай и этим; все, что человек себе усвоил, ему на что-нибудь пригодится, особенно же тебе практика в письме может быть очень полезна. Сколько я могла заметить по твоим письмам, у тебя довольно неразборчивый почерк, а это очень дурно и невежливо: благовоспитанный человек всегда должен писать так, чтобы чтение его письма не затрудняло читающего. Или ты, может быть, только ко мне так небрежно писал?
– Матап, как вы это можете думать?
– Нет, я этого и не думаю, а я только проверяю тебя. Извини меня: ведь мы давно не видались. Но я продолжаю: в три часа ты будешь возвращаться – и это будет час нашего обеда; потом ты имеешь целый час в твое собственное распоряжение. В пять часов будет приходить Иван Иваныч, и у вас с ним начнется урок по математике и по всем другим наукам, в которых я не могу быть тебе полезна. По его словам, тебе не тяжело будет заниматься два часа, а он такой знаток в этом деле, что его во всем надо слушаться. Притом же он так талантливо преподает, что мне будет большим удовольствием присутствовать при вашем уроке.
– О, maman, вы так милостивы! – пролепетал я, чувствуя, что у меня горят уши и заплетается язык от страха перед этой строгой программой, ожидающей меня размеренной и развешенной жизни.
Но матушка отклонила от себя мою благодарность и сказала, что она намерена это делать для себя самой, потому что не знает лучшего удовольствия, как учиться.
Впоследствии я узнал, что в этом случае она говорила мне правду только отчасти; то есть она действительно любила учиться, но главная ее цель присутствовать при всех моих занятиях заключалась в поощрении меня к тем довольно утомительным трудам, на которые она меня обрекала.
А труды эти были еще не все исчислены: у нее еще был supplément[8] моего дня, который она оставляла pour la bonne bouche.[9] Supplément этот заключался в том, что в восьмом часу к нам будет ежедневно заходить дочь моего профессора Ивана Ивановича, молодая девушка Хариточка, о которой maman отозвалась с необыкновенною теплотою, как о прелестнейшем во всех отношениях создании.
– Она здесь по соседству берет от семи до восьми часов уроки музыки и пения, – объяснила maman, – а потом заходит ко мне – и мы с нею час занимаемся английским языком, что мне доставляет большое удовольствие, потому что мой маленький друг Харита – очаровательнейшее дитя, и притом занятие с нею мне доставляет практику в английском языке, который я, ни с кем не говоря на нем, могла бы рисковать позабыть. Теперь, – добавила матушка, – я надеюсь, этот риск немножко уменьшится, потому что ты за компанию с Харитой, конечно, захочешь быть моим вторым учеником, и потом мы, вероятно, скоро найдем возможность сделать этот язык нашим домашним разговорным языком вперемежку с французским, на котором будем объясняться до обеда. Если бог нам поможет, все это пойдет стройно и превесело, а в то же время это сблизит тебя с достойнейшим семейством Альтанского, который вызвался давать тебе почти даровые уроки, потому что он не хочет брать деньги, а будет заниматься с тобой за мои уроки его дочери. Видишь ли, как твоя мать с божиею помощью успела все это устроить ко всеобщей выгоде и удовольствию.
– О, превосходно, maman, превосходно!
– Да; и у нас еще от половины девятого часа до полуночи всякий день будет оставаться целая бездна свободного времени для удовольствий. В это время Харита нам всегда что-нибудь сыграет на фортепиано… Ты узнаешь его или нет, наш старый фортепиано? он довольно пожил и поездил по свету, но еще служит – и мы на нем себе недурно аккомпанируем и поем сообща маленькие трио и романсы. У Ивана Ивановича очень недурной баритон, а у тебя, вероятно, тоже найдется какой-нибудь голосок, потому что… у твоего отца был прекрасный голос, а ты во всем на него похож. Но если бы и не так, для домашнего пения в своем кружке можно петь и с незначительным голосом, – тут все дело в некотором уменье, а я в этом кое-что смыслю и помогу тебе. В десять часов наши гости обыкновенно уходят к себе: Иван Иванович приготовляется к лекциям, а Харита распоряжается хозяйством, так как она, бедняжка, имела несчастие год тому назад осиротеть после смерти матери. Мы же с тобой с этих пор вольные казаки: ты мне часок почитаешь какую-нибудь русскую повесть или роман, а в одиннадцать мы разойдемся по своим комнатам, чтобы час перед сном иметь время обдумать проведенный день и написать, если нужно, какие-нибудь письма нашим далеким друзьям, которых не можем видеть. Ведь у тебя, надеюсь, завязаны какие-нибудь связи с лицами, переписка с которыми может доставить тебе удовольствие?
Это был ужасный вопрос, при котором я, разумеется сию же минуту вспомнил мое борзенское послание к тверской барышне и хотел бы провалиться сквозь землю.
– Mais oui, mais comment donc, mais sans doute, maman…[10] то есть нет, maman… я никому не обещал, – пролепетал я, краснея и тупя в стол глаза, со страхом, что моя мать прочтет в них беспощадный мой позор и бесчестие.
Но, увы, – весь этот маневр был совершенно напрасен: чем я тщательнее старался быть скрытным, тем легче и яснее читала мать сокровенную тайну души моей.
XIV
Матушка, разумеется, не могла точно отгадать сущности моих корреспондентных чудотворений любовного характера, но ясно видела, что простой вопрос ее смутил меня, – и я чувствовал, как ее умный, проницательный взгляд упал на мое лицо и пронзил меня до самого сердца, занывшего и затрепетавшего от страха, что, если моя пошлая выходка как-нибудь откроется… Что, если матушка узнает, что я влюблен… или был влюблен, потому что теперь уже во мне не оставалось и следа моей любви к тридцатилетней тверской барышне, а все существо мое было поглощено и проникнуто страхом и благоговением к другой женщине, которая шестнадцать лет тому назад дала мне бытие и теперь давала мне жизнь.
Однако безмерное материнское милосердие смилостивилось надо мною, – и матушка, не предлагая мне никакого нового вопроса о корреспонденциях, заметила только, что переписка – очень важная вещь, и притом вещь очень полезная, ибо ею поддерживаются отношения с людьми и, кроме того, она лучше всего способствует к приобретению навыка к хорошему изложению своих мыслей.
С этим maman встала из-за стола, за которым поила меня чаем; а я, чтобы оторвать разговор от тягостной для меня темы о переписке, поспешил вильнуть в сторону и осведомиться: чего же будут стоить мои уроки латинского и греческого языка?
– А ничего, кроме одного нашего доброго желания, – отвечала мать, покрывая полотенцем чайную шкатулку, в которую замкнула ложечки.
– Как ничего, maman? кто же будет меня даром учить по-латыни и по-гречески?
– Пока ты не выучишься этим языкам больше меня, я сама буду с тобою ими заниматься.
– Вы, chère maman![11]
– Mais oui, moi-même, mon fils.[12] Что же это тебя так удивляет?
– Maman… простите меня… но разве дамы знают по-латыни и по-гречески?
– Да, которые учились – те, я думаю, знают.
– А вы разве учились, maman?
– Наверно.
– Я этого не думал… я не помню, чтобы вы знали по-латыни и по-гречески.
– Ты и не можешь этого помнить, потому что я училась им в самые последние годы в Лифляндии. У меня там почти не было никакого дела, – и я, чтобы не скучать, нашла удовольствие заниматься двумя этими языками, которые теперь, кроме удовольствия знать их, доставляют мне и пользу: я могу им выучить тебя, а это не шутка – так как без них перед тобою никогда бы не открылся во всей полноте прелестный классический мир с его нерушимыми образами и величавым характером его жизни.
– Но, maman, ведь это такая ученость!
– Совсем нет: знание языков отнюдь еще не ученость, а только средство к достижению учености, которую, если мне поможет бог и твое усердие, я хочу дать тебе в неизменное утешение твоей жизни.
И с этими словами матушка удалилась в свою комнату, чтобы надеть шляпу, а я подошел к окну и стал, отуманенный и оглушенный всем тем, что видел, слышал, понимал и предчувствовал.
Где этот корпус, его казарма, Кирилл, моя тверская любовь, Пьяная балочка, утопленник Кнышенко, и палач Пенькновский, и отец Диодор с его дамою и рахат-лукумом? – Все это точно было уже бог знает как давно, да даже всего этого как будто бы и совсем не было. Трезвая речь моей доброй матери, каждое слово которой дышало такою возвышенною и разумною обо мне попечительностию и заботою, была силоамскою купелью, в которой я окунулся и стал здоров, и бодр, и чист, как будто только слетел в этот мир из горних миров, где не водят медведей и не говорят ни о хлебе, ни о вине, ни о палачах, ни о дамах, для счастья которых нужен рахат-лукум, или «рогатый кум», как мы его называли в своем корпусе. На меня отовсюду веяло здоровым стремлением к неутомимой, энергической деятельности и любовью к созерцательной мудрости, – и чистый источник всего этого было столь близкое мне существо, как моя мать. Боже мой, как я ею гордился! О, как я ее буду любить и лелеять! Она была несчастлива: я это помню; но зато теперь… Душа моя вскипела высочайшим восторгом, в горле, как клубок, шевельнулись спазмы, – и я, не удержавшись, громко зарыдал и, услыхав за собою шаги моей матери, бросился перед нею на пол – и, обняв ее колени, облил ноги ее моими чистыми покаянными слезами, каких не мог добыть ни в борзенской канаве, ни в нежинском монастыре.
Матушка подняла меня с полу, заставила выпить стакан воды, потом нежно прижала меня к груди и, поцеловав в лоб, сказала:
– У тебя есть сердце: это меня радует; но этого еще мало, чтобы не делать зла.
– Что же нужно, maman? Дайте мне все то, что нужно, чтобы не сделать никому никакого зла.
– Проси об этом его! – отвечала мать и, указав на небо, велела подать себе руку.
Мы вышли под руку, как пара совершенно равных друг другу людей. Мой рост уже совершенно позволил мне вести ее под руку: я был кавалер, она моя дама, – и, вспоминая теперь всю прошедшую жизнь мою, я уверен, что рука моя, на которую впоследствии опиралось немало дам, никогда уже не вела женщины столь возвышенной и прекрасной, несмотря на тогдашние тридцать шесть лет, которые имела моя превосходная мать.
Начав мое целение на коленях перед нею, с глазами, опущенными вниз, я теперь шел с нею успокоенный и твердый, устремляя очищенный слезами взгляд на небо с непоколебимою верою, что для меня будут отверзты сферы наивысшего и наичистейшего счастья, потому что со мною, как с Товием, идет мой Рафаил, который научит меня достать желчь, нужную для просветления мысленных глаз моих.
Но было уже одно проклятое, ненавистное обстоятельство, которое и в эти минуты смущало, томило и даже просто угнетало меня: это обстоятельство опять-таки заключалось в том же роковом борзенском письме, которого неотвязное предчувствие заставляло меня страшно бояться, и, как ниже увидим, совершенно справедливо.
XV
Когда мы с матушкой вышли для первой прогулки моей по Киеву, день был пасмурный, но очень тихий и приятный. На зданиях и на всех предметах лежал мягкий и теплый серо-желтоватый колорит. Все имело свой цвет, но, как говорят живописцы, все по колерам было точно слегка протерто умброю.
Мы зашли в Софийский собор, где я впервые увидел мощи и приложился к ним вместе с матерью. Тут же мы осмотрели гроб Ярослава и древние фрески, которые только тогда очищали от слоя штукатурки и реставрировали. Из Софийского собора мы прошли на террасу Андреевской церкви. Я пришел в большой восторг от легкого фасада этого грациозного храма и особенно от вида, который отсюда открывается на Подол и пологую часть заднепровья. Отсюда мы зашли в Трехсвятительскую церковь, по преданиям строенную еще до принятия Владимиром христианской веры, и потом перешли в Михайловский монастырь.
Здесь матушка направилась в очень темный уединенный уголок под арками и, став на колени, сказала мне:
– Помолись о твоем отце.
Мы помолились тихо, но, мне кажется, очень усердно, хотя нам никто не пел ни панихиды, ни молебнов.
Я заметил это, но не подал матери никакого знака – и хорошо сделал: впоследствии я скоро убедился, что, приняв православие, она удержала в себе очень много лютеранского духа и верила в доступность неба для адвокатуры. Но о верованиях матушки еще придется говорить гораздо пространнее, а потому на этом остановимся.
Окончив свое паломничество, мы отправились к католической горе, откуда открылся новый превосходный вид на другую часть города и Днепра.
Матушка беспрестанно рассказывала мне значение каждой местности и каждого предмета, причем я мог убедиться в большом и весьма приятном, живом знании ею истории, что меня, впрочем, уже не удивляло, потому что я, проведя с нею два часа, получил непоколебимое убеждение, что она говорит только о том, что основательно знает.
Поворачивая с площадки к небольшому спуску, который вел к стоявшему тогда на Крещатике театру, мы на полугоре повстречали молодую девушку в сером платье, завернутую в большой мягкий, пушистый платок. На темно-русой головке ее была скромная шляпочка, а в руке длинный черный шелковый зонтик, на который она опиралась и шла тихо и как будто с усталостью.
Не знаю, почему она обратила на себя мое большое внимание, но это внимание еще более увеличивалось, когда я заметил, что она нам улыбается и что на ее улыбку такою же улыбкою отвечает моя мать.
Наконец мы встретились – и девушка, не кланяясь матери и не говоря ей никакого приветствия, прямо спросила:
– Дождались?
– Как видишь, мой друг, – отвечала, кивнув на меня головою, матушка, и они обе подали друг другу руки, причем девушка поднесла руку матери к своим губам и поцеловала ее, а потом протянула свою ручку мне и с прелестной ласковой улыбкой молвила:
– Мы с вами непременно должны подружиться: я люблю вашу maman, как родная дочь, и хочу, чтобы вы любили меня как сестру.
Я очень неловко поклонился и еще неловче пожал поданную мне ручку в темной перчатке.
– Это мой молодой друг, дочь профессора Ивана Ивановича Альтанского, о которой я тебе говорила, – сказала мать.
– А вы уже успели обо мне говорить? – подхватила, улыбаясь, девушка и тотчас же, оборотясь ко мне, добавила: – Катерина Васильевна так меня избаловала, что я боюсь забыться и начать думать, что я в самом деле достойна ее внимания; но вы, как мой непременный друг и нареченный брат, пожалуйста, спасайте меня от самообольщения и щуняйте за мои пороки, которых во мне ужасная бездна.
– Например? – спросила, нежно и с наслаждением на нее глядя, мать.
Девушка рассмеялась и, сдвинув почти прямолинейно лежавшие густые темные брови, проговорила:
– За примером ли дело? вот первый пример: моя невоздержность: я хожу сегодня по воздуху, когда мне позволено выходить только в солнечные дни. Это гадко.
– А зачем ты это делаешь, Харита?
– Ужасно скучно, – отвечала она, и по молодому лицу ее точно пробежало облако, но сейчас же развеялось, и девушка, улыбаясь, отнеслась ко мне с словами: – видите, какая я пустая: жалуюсь на скуку и сама смеюсь. Вы, однако, не торопитесь делать заключения, что я сумасшедшая. Когда вы познакомитесь с нашей прекрасной малороссийской поэзией, на чем я по праву дружбы буду непременно настаивать, то вы увидите, что тут нет необходимости: у нас воспевают такое «лихо», которое «смеется». А впрочем, я не задерживаю вас, – прощайте до вечера.
Она пожала нам руки и пошла в гору, к монастырю, а мы вниз, к Крещатику, но матушка, сделав несколько шагов, остановилась и оборотилась назад.
Альтанская была от нас в нескольких шагах и тоже, словно по какому-то предчувствию, оборотилась – и они перемолвились с моею матерью молчаливыми взглядами, из которых я тогда не понял ничего.
Лицо матери выразило неудовольствие и даже гневливость.
– Неужто ничего? – спросила с негодованием мать.
– Ни-ч-е-г-о, – отвечала, растягивая слово, девушка и, улыбнувшись, добавила: – Ничего, Катерина Васильевна, ничего, да и не будет ничего.
Последние слова она проговорила скоро и, кивнув нам головкой, быстро завернулась и пошла торопливой походкой дальше.
По мере того, как она поднималась на гору, легкий, едва заметный ветерок обхватывал ее крепче и, приминая покрывавшую ее серую пушистую шаль к ее молодому, стройному телу, обрисовывал ее фигуру мягкими плавкими линиями, благодаря которым контур точно сливался с воздухом и исчезал в этом слиянии.
– Это она, maman? – спросил я, когда мы пошли своей дорогой.
– Да, она, – отвечала с некоторой сухостью мать.
– Харит… то есть, однако, как же это, maman, ее настоящее имя?
– Харитина… Харитина Ивановна.
– Харитина?
– Да.
– Возможно ли это, maman?
– А почему же нет?
– Такая прекрасная девушка…
– Ну – и что далее?
– И между тем… такое имя!
– Какое же? чем оно тебе не нравится?
– Оно тривиально.
– Тривиально? Нимало, ты, верно, не то хотел сказать.
– Нет, maman, я именно хотел сказать это самое.
– Ну, тогда мне должно будет пожалеть, что ты употребляешь слова, не понимая их значения. Объясни мне, что выражается словом «тривиально».
Я не мог этого объяснить и молчал. «Нехорошо, гадко, простонародно, неблагозвучно», – думал я, но все это было не то, что я разумел под словом «тривиально», значения которого действительно не понимал.
– Вот видишь ли, как опасно говорить о том, чего обстоятельно не знаешь, – сказала матушка и, объяснив мне происхождение латинского слова «trivialis» в смысле чего-то пошлого и беспрестанно встречающегося, добавила, что имя Харитина в этом смысле гораздо менее тривиально, чем множество других беспрестанно нам встречающихся имен.
Тогда я, желая поправиться и точнее выразить свою мысль, сказал, что имя Харитина, по моему мнению, неблагозвучно, но матушка доказала мне, что это имя хорошо и по смыслу, который в себе заключает, и приятно по звучности.
– Х-а-р-и-т-и-н-а! – произнесла она эллинским произношением, так что буква и после р слилась в устах в гортанный эй, – прекрасный звук, а значение еще лучше; Харитина значит – полна благодати. Для такой неоцененной девушки, как та, которую мы встретили, я бы затруднилась выбрать лучшее имя, способное полнее выражать ее свойства. В уменьшительной же и в ласкательной форме здесь в Малороссии из этого имени делают Христя, – это уж просто прелестно…
– Да, это в самом деле хорошо, – отвечал я, начиная чувствовать, что имя Харитина в самом деле получило для меня с материных слов совсем другой вкус и аромат.
– Эге! да ты уступчив; это прекрасно, спорливость – черта, удаляющая человека от истины. Но сознавшись, спеши же брать назад слово, а то это сознание будет мало полезно.
– Беру, maman, и даже охотно беру, но только позвольте мне еще предложить вам один вопрос – опять об именах же. Она… эта девушка назвала вас два раза Катериной Васильевной? Что это значит, maman?
– Не все ли равно, что Катерина Васильевна или Каролина-Вильгельмина? – перебила матушка, – для тебя мое имя просто мать.
И после этих слов она заговорила со мною опять о городе. Ориентируя меня по отношению к более интересным местам, она показала мне, где сад, где лежит мой путь в канцелярию, где почта, – и при последнем указании добавила:
– Идучи на службу, ты будешь заходить на почту отдавать мои письма – это немножко облегчит нашу Бригиту, у которой с твоим приездом прибавляется дела.
Я, разумеется, изъявил радостное согласие править эту почтовую службу – и мы, завершив большую прогулку, возвратились домой, где нас ждал в средней комнате накрытый на два прибора стол. Обед состоял из двух скромных, но вкусных блюд, и яблока вместо десерта. За столом нам служила та же Бригита, то есть та же женщина в темном платье и белом чепце, которая принесла самовар в минуту моего приезда и которая была нашей кухаркой и горничной.
После обеда матушка удалилась в свою комнату и, сев в старое глубокое кресло, закрыла пальцами рук глаза, – я не мог понять, погрузилась ли она в тихий сон или в глубокую думу; но поспешил воспользоваться минутою свободы, чтобы удовлетворить образовавшейся за дорогу страстишке покурить. Я тихонько зажег папироску и долго простоял с нею у открытой форточки, а потом почувствовал неодолимый позыв ко сну и, прислонясь к подушке, мгновенно уснул. Я спал глубоко и крепко, но, казалось, сквозь сон слышал, как мать входила в мою комнату и, притворив форточку, разгоняла что-то по воздуху носовым платком. От этого представления ко мне привязалось какое-то беспокойное сновидение, под наитием которого я проснулся. На дворе было уже темно, но в мою комнату по полу ползло откуда-то густое, желто-пунцовое освещение. Сначала я не мог понять, что это за свет, но потом отгадал, что это, вероятно, где-нибудь топится печка.
Тишина была мертвая: ни шелеста, ни звука – так что мне даже стало страшно – и я, осторожно спустившись с постели, начал осматриваться.
В простом кирпичном камине, который был устроен в матушкиной комнате, ярко горели дрова – и от них-то и шло то пунцовое пламя, которое, пробегая через всю нашу зальцу, тушевалось концом света по полу моей комнаты. На этот счет я не ошибся, но что касается самого характера окружающего меня безмолвия, то я не разгадал его: это не была мертвая тишина, а, напротив, это было безмолвие глубокого чувства и живой грусти, которых я, однако, не мог понять, хотя и видел их в образе очень грациозной и одухотворенной группы.
Матушка сидела перед огнем в своем кресле и, опустив книзу глаза, грустно смотрела на ярко освещенную огнем голову Хариты, которая полулежала на разостланной у ног матери на полу козьей шкуре и, обхватив руками матушкины колена, прислонилась к ним головою. Мне было как нельзя лучше видно все ее лицо, обращенное в ту сторону, откуда я наблюдал ее. Свет падал на обе эти фигуры неровно: опущенное книзу лицо матушки было в мягком спокойном полутоне, меж тем как голова и вся фигура Альтанской точно горели в огне. Одни ее ноги, уходя к рампе камина, терялись и точно будто исчезали в тени.
Не было ли это освещение преобразованием того, что происходило тогда в сердцах этих двух существ, одного уже полуотстрадавшего и гаснущего, а другого полного жизненного разгара, но уже во всю мочь сердца вкушающего священную сладость страдания.
Они ничего между собой не говорили; но, как мне показалось, обе они вместе думали об одном и том же. Стоя в молчании у своей двери, я хорошо видел их лица – и был поражен тем, что при первой встрече с Альтанскою не заметил ее прекрасной, характерной красоты. Изо всего ее лица я тогда рассмотрел только большие серые глаза с длинными черными ресницами и черные же прямолинейные брови. Теперь я видел весь овал ее немножко продолговатого лица и поражен был строгою гармоничностью его линий и горячо-бледным матовым цветом щек, по которым, как бриллиант, искрились и играли перед огнем две слезинки.
«Как она прекрасна, и о чем она может так грустить и плакать? Матушка непременно должна все это знать», – думал я и тоже во что бы то ни стало хотел это узнать, с тем чтобы, если можно, сделаться другом этой девушки. Ведь она сама же просила меня об этом. А я хотел умереть за нее, лишь бы она так не грустила и не плакала.
«Но кто же мог быть виновником этих ее страданий? О, с каким бы удовольствием я сделал ему теперь самую невозможную дерзость! Но что он и где он?»
Среди этих мечтаний, в продолжение которых я был как бы в легком бреду под обаянием темных бровей Хариты, входная дверь в залу из передней отворилась – и на пороге ее показалась высокая, немножко сгорбленная мягкая фигура в длиннополом сюртуке и огромном высоком галстуке, высоко подпиравшем продолговатую седую голову с такими же прямолинейными бровями, как у Хариты.
«Это ее отец!» – воскликнул я в себе, пораженный большим сходством лица взошедшего старика с лицом только что рассмотренной мною девушки. Не с ним ли мне и придется за нее сражаться? Досадно! это будет не совсем удобно, потому что матушка при мне наговорила этому старику бездну самых лестных похвал и избрала его быть моим просветителем. Однако посмотрим. Чтобы быть благородным – не надо ничем дорожить, кроме чести. Семья с ранних лет зародила во мне эту склонность, корпусное сотоварищество ее воспитало; раннее изгнание закрепило, а что сделали из него последующие обстоятельства – о том речь впереди.
XVI
Я жестоко ошибся насчет старика Альтанского, которого узнал с первого на него взгляда. Этот человек никого не обижал и не мог ни для кого быть причиною ни малейших несчастий.
Матушка зажгла одну из стоявших у нее на камине свеч, а Харита, воскликнув: «Вот и мой старенький тату пришел», кинулась к нему на шею – и, нагнув к себе его голову за затылок, поцеловала его два раза в лоб и в высокую светлую лысину.
Профессор был человек рослый и широкий, но не полный, а скорее худой и костистый. При своей несколько высокой и продолговатой голове он имел длинный прямой нос, немного отвисшую нижнюю губу и очень большие серые глаза, сильно напоминавшие глаза дочери. Но что всего более делало их похожими друг на друга – это та же прямолинейная бровь. Я говорю не брови, а именно бровь, потому что обе брови у профессора соединялись над глазами в одну непрерывную линию. Обыкновенно такие брови придают лицу выражение твердое, энергическое и решительное, – и такое выражение было у отца и у дочери Альтанских, но только у обоих у них оно смягчалось бесконечною добротою, которая в лице отца дышала совершенным младенчеством. В его глазах были даже те светлые блики, которые бывают в глазах у младенцев и которые в глазах его дочери перешли в проницающую лучистость. Ей словно дано было читать в глубине души других людей, тогда как сам профессор смотрел только внутрь самого себя, где у него был богатый склад наблюдений, опыта и знаний.
В обхождении старик Альтанский был прост и удивительно открыт и приветлив. Не успела матушка меня ему представить, как он сию же минуту заговорил со мною точно со старинным другом, и притом с таким, который во всем был ему по всему равен. В разговоре, начатом непосредственно за его приходом и продолжавшемся около полутора часа, я не ощутил никакой разницы между его многоученостию и моим круглым невежеством. Он никого не оспаривал и не проводил никаких идей, но все, что при нем говорилось, – невольно как-то выравнивалось и округлялось по превосходной и совершеннейшей форме. О предстоящих моих с ним занятиях он не сказал ни слова – и даже когда матушка отрекомендовала меня, сказав:
– Вот ваш ученик.
Он, ласково пожав мне руку, тихо ответил:
– Друг, а не ученик.
Затем весь остальной разговор, сверх всякого моего ожидания, шел о предметах, о которых я не имел тогда никакого понятия; но это Альтанского, по-видимому, нисколько не смущало. Он говорил с матушкою о правительстве, к чему начальный повод дало мое исключение. В словах матушки я успел уловить в этом разговоре немало желчной иронии, с которой она отзывалась о правительственной системе того времени, а Иван Иванович, точно Тацит, облегчал ее суждения.
Много лет прошло с тех пор, как я полуребенком слышал эту первую политическую беседу, и я бы, кажется, легко мог про нее позабыть, – но вещее пророчество ее, так поразительно сбывшееся на моем веку, не обмануло и мою голову – и тогда-то, при тягостнейших обстоятельствах моей жизни, я вспомнил слова Альтанского, и как еще вспомнил!
Уходя домой, Альтанские упросили матушку дать мне два дня льготы от учения, а с меня взяли слово завтра утром прийти к ним. Матушка согласилась и, проводив их, спросила меня:
– Мой сын! Ты, кажется, куришь?
Я сконфузился и потупил глаза.
– К чему это так рано? – продолжала матушка, – я не думаю, чтобы эта бездельная привычка портить воздух, необходимый для нашего дыхания, могла приносить очень много удовольствия; но если уже ты хочешь курить, то, пожалуйста, не скрывайся и кури при мне. Это по крайней мере не будет тебя приучать иметь от матери тайны.
«Ужасная вещь! – думал я, – бедная матушка и в помышлении не содержит, какие я имею от нее тайности».
Я чувствовал порядочную усталость, но, улегшись в постель, не мог уснуть и все обдумывал какой-нибудь план, как бы загарантировать себя от получения ответа на мое послание в Тверь. Я придумал идти завтра на почту и подкупить почталиона, чтобы, в случае получения письма на мое имя, он не приносил его мне домой, а оставил у себя, пока я не приду за ним. Это меня очень успокоило – и я уже хотел повернуться к стене и заснуть, как вдруг в это время заметил, что свет в матушкиной комнате еще не погас. Сначала мне показалось, что это горит лампада, но, привстав и поглядев в дверь, я увидал, что то горела под абажуром свеча, перед которою матушка сидела за столиком, как была одетая днем, и писала. Прошел час, огонь не гас, и писание матери не прекращалось. Теперь, насторожив ухо, я даже слышал, как быстро скрипело в ее руке перо, – и, по непонятному предчувствию, это позднее писание получило в моих глазах какое-то особенное, важное значение. Я был убежден, что она пишет что-нибудь касающееся до меня; но что это могло быть такое и к кому она могла писать? Размышляя об этом и не придя ни к какому выводу, я заснул все при том же свете, а утром, когда матушка, напившись чаю, посоветовала мне сходить засвидетельствовать свое почтение Альтанскому, я получил от нее довольно тяжелый запечатанный конверт, с тем чтобы я зашел и отдал его на почту.
Поручение это было мне очень кстати, потому что я, как выше сказано, намерен был обделать на почте свое собственное дело; но мне, однако, это не удалось, потому что, зайдя по дороге к Альтанским на почту, я на самом крыльце почтового дома столкнулся с Харитиною Альтанской. Она тоже пришла сюда отправить письмо, которое мне очень хотелось видеть, для того чтобы узнать, кому оно посылается. По тем же предчувствиям мне казалось, что письмо, которое было теперь в руках Альтанской, содержало развязку ее тайны, как письмо матери хранило другие тайны, – и я, вынув из кармана матушкино письмо, прежде чем отдать его приемщику, прочел: «Филиппу Кольбергу в Петербург».
Что необыкновенного можно найти в таком простом имени, как «Филиппу Кольбергу в Петербург», где такое множество всяких бергов?!– но вы не можете себе представить, как меня поразило это имя и как оно мне понравилось. Читая впоследствии письмо Гейне к автору Лалла Рук, где поэт говорит, что, не зная самого сочинения, готов признать его превосходным, потому что у него такое прекрасное название, – я вспомнил, что то же самое было со мною, когда я в первый раз узнал сладостное имя Филиппа Кольберга. Кто мог быть этот человек, которому не ставят на письме никакого титула, а просто пишут одно его короткое имя: «Филипп Кольберг», тогда как всякому человеку прибавляется хоть «благородие» или хоть «милостивое государство»? Неужто он не имеет никакого права даже на самый скромнейший из них? Неужто он просто какой-нибудь ремесленник? Но не может быть, чтобы мать моя писала такие большие письма какому-то простому ремесленнику, и притом… и притом я был уверен, что имя «Филипп Кольберг» не может принадлежать человеку малообразованному. Я получил неодолимую и притом чуждую всяких сомнений веру, что человек, носящий это имя, должен быть какой-то превосходнейший человек, которому нет никого подобного на свете.
Но зато эти размышления над письмом, а частию и присутствие здесь девицы Альтанской было причиною, что я не успел не только переговорить с почтальоном насчет ожидаемого мною ответа на мое послание в Тверь, а даже совсем позабыл об этом неприятном обстоятельстве и не тревожился им, пока оно дало мне себя почувствовать.
XVII
Всего более в эту пору меня занимало, что я по глубокому и, как после оказалось, совершенно безошибочному предчувствию попал в самый центр сокровеннейших тайн двух милых мне женщин, из которых притом одна была моя мать.
Правда, что вместе с этим открытием (предчувствия мои я могу считать и не предчувствиями, а проницательностию, и потому выводы этой проницательности принимать за открытия) – и этим именно открытием я наносил своему сердцу небольшую рану, потому что после вчерашнего вечернего созерцания Харитины Альтанской я уже снова начинал чувствовать, что во мне зашевелилось нечто подобное тем возвышенным, конечно любовным, тревогам, какие я испытал в Твери. Теперь, когда обнаружилось, что на свете несомненно существует кто-то, которому она пишет и притом сама собственноручно отправляет на почту свои письма, – я видел необходимость переменить позицию и уж строго держаться роли друга, чего мне, признаться сказать, не особенно хотелось, так как Харита была не то что тверская барышня: той было тридцать лет, и она приходилась наполовину меня старше, между тем как этой шел девятнадцатый год, и, стало быть, я был моложе ее только тремя годами. Но, однако, я утешался тем, что буду хранить ее тайну.
Что же относится до тайны матери, то тут я предчувствовал одно, что тут пылает какая-то купина, пламень которой должен быть для меня свят, и сказал своему пытливому уму: «Не касайся семо».
Все это я обдумал, идучи рядом с Альтанской, которая, овладев мною, вела к отцу. Мы шли с нею в полном молчании и не мешали друг другу. Это был для меня первый опыт приятного молчания, и он мне чрезвычайно удался и полюбился.
Они жили в небольшом сереньком домике с стеклянною галереею, в конце которой была дверь с небольшою медною дощечкою, на которой вместо имени профессора значилась следующая странная латинская надпись: «Nisi ter pulsata aperietur tibi porta, honestus abeas», то есть: «Если по троекратном стуке дверь тебе не отворится, то знай честь и отходи прочь».
Харитина постучала трижды в эту дверь, она нам отворилась, и мы вошли в очень скромное помещение.
Старый профессор собирался на лекцию, но встретил меня очень ласково, наскоро закусил с нами и ушел, поручив меня попечениям дочери; но бедной девушке было, кажется, совсем не до забот обо мне. Она, видимо, перемогалась и старалась улыбаться отцу и мне, но от меня не скрылось, что у нее подергивало губы – и лицо ее то покрывалось смертною бледностию, то по нем выступали вымученные сине-розовые пятна.
Простодушный младенческий взгляд старика, кажется, ничего этого не замечал в то время, когда он навязывал меня на руки дочери, но я был гораздо прозорливее и практичнее и поспешил как можно скорее оставить ее в покое.
Не помню, какой я именно выбрал предлог для того, чтобы ей откланяться, – но она сделала эту выдумку совершенно излишнею. Вместо ответа на мое прощанье она взглянула на меня полными слез глазами и, крепко стиснув мою руку, произнесла по-малороссийски:
– Спасибо вам, сердце! Маму вашу поцелуйте.
Я понял, что Харитина уразумела мою деликатность и, оценив ее, платит мне трогательнейшею откровенностью, – и с гордым спокойствием держал мою роль, сказав ей прежним спокойным тоном:
– Прощайте, Харитина Ивановна.
– Ивановна! – отвечала она, удерживая мою руку в своей руке. – Не зовите меня Харитиной Ивановной: нехай я буду для вас просто ваша Христя.
– Извольте.
– Ну так скажите мне: «Помилуй тебя боже, моя милая Христя».
Я повторил ее задушевные слова и поцеловал ее руку.
– Вот это так – по-нашему, – отвечала она и, выпустив мою руку, сама дала мне знак скорее уходить, что я немедленно и исполнил, но сейчас же снова очутился в большом затруднении. Проходя по стеклянной галерее, я по какому-то невольному побуждению взглянул в окно комнаты, в которой оставил Христю, – и увидел, что бедная девушка лежала ниц на полу и, вытянув крепко схваченные руки, с таким усилием удерживала свои рыдания, что ее спину и плечи судорожно вело и коробило, меж тем как тонкие белые пальцы нежных рук посинели и корчились.
Первая мысль моя была вернуться к ней и помочь ей встать и перейти на постель; потом я это отменил и хотел послать ей из кухни их прислугу; но еще через минуту нашел, что и это, вероятно, было бы ей неприятно. Мне показалось, что ее, неведомое мне, гордое, молчаливое горе должно ожесточаться от всякого непрошенного и – увы – всегда бессильного участия. Я готов был сам зарыдать и, надвинув шапку, опрометью выбежал на улицу, по которой не успел сделать и десяти шагов, как меня нагнал мой приятель Пенькновский.
XVIII
Мой грандиозный коллега был теперь в новой, слишком для него просторной, поношенной венгерке с шнурами, в четырехугольной польской шапочке и с хлыстом в руках.
Полный своей скорби за Христю, я хотел от него убежать, но это было невозможно.
– Здравствуй, Праотцев! – вскричал он, хватая меня за руку. – Вот я думал, что мы с тобой уже совсем расстались, а между тем опять привелось…
– Отчего же совсем расстаться? – отвечал я, стараясь скрыть свое волнение.
– А так, брат… знаешь, у нас того… Э, да ты, кажется, чего-то плакал? Ты – вечная плакса.
– Вовсе я не плакал и не плакса, – отвечал я и начал расспрашивать его, что такое у них «того»…
– Тссс! говори тише! у нас в доме говорят про страшные дела: в Австрии революция.
– Ну, а вам что за дело до Австрии?
– Да это тебе нет дела, потому что ты русский, а там, братец, венгерцы воюют.
– Так что же такое?
– Как что? – это старые наши польские союзники: polak z wegrem dwa bratanki, jak do szabli, tak do szklanki.[13] Они нам свои.
Я этому несколько удивился, потому что венгерцы, в моем тогдашнем понимании, были те люди, которые носят по селам лекарственные снадобья да янтарные четки и крестики; но Пенькновский разъяснил мне, что есть еще и другие венгерцы – очень храбрые, и что вот с теми-то он как нельзя более заинтересован в их революции.
– Неужто же ты, мол, пойдешь в их революцию?
– Нет, честное слово – пойду: если все пойдут, так и я пойду. Но помни, брат Меркул, – заключил он, остановясь и схватив обе мои руки, – помни, что мы все-таки товарищи, и если мы встретимся друг с другом с оружием в руках в бою, я закричу: «Скачи мимо!» и тебя не ударю.
– И я тоже, и я тебя ни за что не ударю, – отвечал я.
– Щадить друг друга, щадить, как должно благородным людям и однокашникам. Слышишь?
– Хорошо, непременно пощажу, – отвечал я.
– Махни саблей – и мимо.
– Махну – и мимо.
– Честное слово?
– Честное слово.
– Руку от сердца!
Я подал руку.
Заключив этот союз взаимной пощады, мы крепко стиснули друг другу руки и поцеловались, что, впрочем, не обратило на нас особенное внимание прохожих – вероятно потому, что в тогдашнем ополяченном киевском обществе поцелуи при уличных встречах знакомых мужчин были делом весьма обыкновенным.
Затем Пенькновский открыл мне, что он на войне не будет никого бить из товарищей и только возьмет в плен нашего военачальника, а потом полюбопытствовал, куда лежит мой путь, – и, узнав, что я иду домой, вызвался меня проводить и дорогою спросил: «Что говорят у вас про венгерскую революцию?»
– У нас об этом ничего не говорят, – отвечал я.
– Это нехорошо; это нехорошо, Праотцев!
– Что такое?
– Зачем ты скрываешь?
– Уверяю тебя.
– Так о чем же вы разговариваете?
– Ну вот! Будто только и разговора, что про революцию?.. У матери бывают разные ученые люди и профессора, и она сама знает по-латыни и по-гречески…
– Фуй, какая скука!
– Нимало; напротив, мы вчера обсуждали правительство и очень приятно провели время. Я люблю такие разговоры.
– Ну, уж я думаю! Не притворяйся, брат, умником-то! Что там может быть приятного с профессорами? А к нам к отцу вчера пришли гости, молодые чиновники из дворянского собрания и из гражданской палаты, и все говорили, как устроить республику.
Я удивился и спросил, про какую он говорит республику.
– Известно, какая бывает республика! всем вместе будет править и король и публика, – отвечал весело Пенькновский, и так как в это время мы не только дошли до нашей квартиры, но вступили в самые сени, то он снова потребовал мою руку и, прощаясь, сказал:
– Ты приходи как-нибудь ко мне: я тебя познакомлю с моим отцом, у меня отличный отец; он титулярный советник, и у него есть седло, и две винтовки, и сабля, – и, представь себе, что он служит в гражданской палате и как две капли воды похож на Кошута. Когда начнется революция, он непременно хочет быть нашим полководцем, и все чиновники на это согласны, но ты, сделай милость, пока никому своим об этом не говори.
Я дал слово держать это дело в большом секрете – и мы благополучно расстались бы на этом, если бы матушка, встретив меня у порога залы, не спросила, с кем я говорил, – и, узнав, что это был мой корпусный товарищ, не послала меня немедленно воротить его и привести к ней.
Исполняя это приказание без особенной радости, я, однако, ведучи под руку Пенькновского, успел ему шепнуть, чтобы он не открывался при матушке, что он революционер.
XIX
Пенькновский обещал мне быть скромным насчет Венгрии и прекрасно исполнил свое обещание, но зато во всем другом обличил перед maman такую игривую развязность, какой я от него никак не ожидал: он пустился в рассказы о нашем прошлом и представлял ей не только корпусное начальство, но и директоршу и офицерских жен; делая при этом для большей наглядности выходы из открытых дверей маминой спальни, он вдруг появился оттуда в матушкином спальном чепце и ночном пеньюаре.
Серьезная мать моя чрезвычайно оживилась и много смеялась; но лукавый дернул Пенькновского вспомнить про извозчика Кириллу и рассказать, как он заезжал к Ивану Ивановичу Елкину и как королевецкое «начальство» отпороло его на большой дороге нагайкою.
Матушка встревожилась, что я был свидетелем такой грубой сцены.
– За что же это с ним так поступили? – спросила maman.
– А-а, не беспокойтесь, сударыня, он этого слишком стоил! – воскликнул мой Пенькновский. Я так и замер от страха, что он, увлекшись, сам не заметит, как расскажет, что Кирилл предательски выдавал его за палача, который будет в Киеве наказывать жестоко обращавшуюся с крестьянами польскую графиню; но мой речистый товарищ быстро спохватился и рассказал, что Кирилл будто бы, напившись пьян, зацепил колесом за полицеймейстерскую коляску.
Я был необыкновенно удивлен этой смелою и находчивою ложью Пенькновского, а матушка, наморщив брови, проговорила, что она просто представить себе не может, как это можно было отправить нас, детей, с одним пьяным мужиком.
– Как же, это просто ужасно! – поддерживал Пенькновский. – Этот мужик был совершенно ужасный пьяница, и притом… и притом… он постоянно пил водку и говорил всякий вздор.
– Вы могли бог весть чего наслушаться!
– Помилуйте, да он нас водку учил пить…
– И неужто же из вас кто-нибудь его в этом слушался? – воскликнула в сдержанном ужасе мать, но Пенькновский пресмело ее на этот счет успокоил.
– Нет, – отвечал он, – нет; то есть я и ваш сын – мы его не слушались, потому что я сам не пил и удерживал вашего сына, но другие… Положим, что это не совсем хорошо выдавать товарищей, но, презирая ложь, я не могу отрицать, что другие, которые меня не слушались, те пили.
При этом он подмигнул мне – и так неловко подмигнул, что матушка это заметила. Впрочем, научась в один день наблюдать ее страшную проницательность, я видел, что она еще во время самого рассказа Пенькновского ему уже не верила и читала истину в моих потупленных глазах; но она, разумеется, прекрасно совладала собою – и с спокойствием, которое могло бы ввести в заблуждение и не такого дипломата, как Пенькновский, сказала:
– Я вам очень благодарна за ваш прекрасный пример и совет, которыми вы сберегли моего сына от порока, одна мысль о котором должна быть противна честному человеку.
– Как же: я его всегда оберегал, – отвечал Пенькновский; а матушка сказала, что она будто бы очень рада, что я имел себе такого благоразумного и строгого товарища.
Пенькновскому эти слова были все равно, что обольстительный фимиам, в сладком дыму которого он ошалел до того, что вдруг, приняв, вероятно, свою ложь за истину, возмнил себя в самом деле моим нравственным руководителем, – начал рассказывать, будто бы он всегда за мною наблюдал и в дороге и в корпусе и тогда-то говорил мне то-то, а в другой раз это-то и т. п. Самая хвастливая и наглая ложь лилась у него рекою и приводила меня в такое смущение, что я молчал и не перебил его ни одним словом даже тогда, когда он, истощив поток своего красноречия насчет своих превосходств, вдруг перешел к исчислению моих пороков, которые, по его словам, парализировали его влияние и часто мешали мне усвоить ту безмерную пользу, какую могли мне преподать его советы.
– Хорошо его зная, я могу сказать, что он еще не совсем дурной мальчик, – говорил он, указывая на меня искоса глазами, – но у него есть этакое, как бы вам сказать… упрямство. Да, именно упрямство! Я ему всегда говорил: «Слушай меня во всем, потому что ты должен меня слушать!» Но он один раз послушается, а другой раз нет. – Что, брат? – отнесся он непосредственно ко мне, – я тебе говорил, что я ничего не скрою и все это со временем расскажу твоей maman! Да; родители о нас должны всё знать – и уж ты сердись или не сердись на меня, а я теперь это делаю для твоей же пользы.
– Вы знаете, – продолжал он, снова обращаясь к maman, – в Твери один наш товарищ…
– Послушай! – вскричал я, не вытерпев и сквозь слезы.
– Что, брат? Нет, уж извини: расскажу. В Твери один наш товарищ, Волосатин, пригласил нас к себе на вечер, который давал его отец, и ваш сын там так неприлично повел себя… просто так неприлично, что будь это в другом месте – я не знаю, что бы могло выйти!
Maman вся вспыхнула и кинула на меня молниеносный взгляд, но, вероятно, встретив мой взгляд, потерянный, перепуганный и умоляющий, сейчас же успокоилась. А беспощадный Пенькновский продолжал и благополучно окончил свой рассказ о том, как я, войдя впереди всех товарищей в большую залу, «как сумасшедший бросился целовать руки у всех женщин».
– Это очень просто, maman, – отвечал я, – я никогда не бывал на балах и думал, что это так принято.
– Ну да, – тихо уронила матушка совсем успокоенным голосом – и, как я был несомненно убежден, в знак своего неосуждения меня за рассказанную неловкость подала мне ключик от своего туалета и велела подать ей оттуда батистовый носовой платок.
В этом незначительном поручении я увидал знак снисходительного ее ко мне благоволения (так умела она выражать все одним тоном своего прекрасного голоса, что слова ее, кроме своего банального, прямого выражения, имели еще иное, тайное, иносказательное – и именно такое, какое она хотела передать ими тому, кто должен был уразуметь в них смысл, непонятный для других). Я именно внял этому смыслу и, выйдя в ее комнату за ее платком, вздохнул от радости, что дело мое поправлено и что матушка на моей стороне, а не на стороне доносившего на меня Пенькновского.
Между тем сей последний, пока я возился у матушкиного комода, вспомнил, что ему пора домой. К неописанному моему удовольствию он начал прощаться с матушкой и опять оттенил меня особенным образом, попросив матушку отпускать меня изредка к нему, на его ответственность, на что матушка и согласилась, – а Пенькновский принял это согласие за чистую монету и, поблагодарив матушку за доверие, закончил обещанием приводить меня назад домой под его собственным надзором.
Тут я уже просто сробел перед этою его выходкой и мысленно дал себе слово никогда к нему не ходить, хоть мать моя выразила мысль совершенно противную, сказав, что она будет очень рада этому, потому что эти проводы, конечно, доставят ей удовольствие часто видеть Пенькновского и ближе с ним познакомиться.
Это я счел уже со стороны maman за непонятную для меня искренность, которая меня очень покоробила, между тем как Пенькновский был в восторге – и, надевая в передней свое пальто, весело прошептал мне:
– А что же ты мне не показал: где ваши ученые? Нет их, что ли?
– Нет, – отвечал я сухо.
– А когда они приходят?
– Вечером.
– Вечером. Ну, пускай их ходят вечером! а ты теперь, кажется, ясно можешь видеть, что все дело заключается не в учености, а в практике.
«Провалился бы ты куда-нибудь со всей твоей практикой!» – подумал я и едва удержался от желания сказать ему, что требую назад свое слово не сражаться с ним, когда встретимся на войне, и махать саблей мимо. Энергически захлопнув за ним двери, я вернулся в комнаты и почувствовал, что я даже совсем нездоров: меня знобило, и в левом ухе стоял болезненно отзывавшийся в мозгу звон.
Лицо мое, вероятно, так ясно передавало мое состояние, что матушка, взглянув на меня, оказала:
– Ты, кажется, не совсем здоров, дитя мое?
– Да, maman, – отвечал я, – мне что-то холодно, и я чувствую звон в ушах.
– Это тебе надуло в голову, когда ты вчера курил у форточки. Поди ляг в свою постель и постарайся успокоиться: сегодня вечером ты должен идти к твоему дяде, а завтра подашь ему просьбу о принятии тебя на службу в его канцелярию.
– Как, maman, я должен идти к нему без вас?! – воскликнул я, почувствовав некоторый страх при мысли о свидании с статским генералом, занимавшим, по тогдашним моим понятиям, чрезвычайно важную должность.
– Да; ты должен идти один, – отвечала матушка и рассказала мне, что когда я утром ходил к Альтанским, мой двоюродный дядя, этот важный статский генерал, был у нее и передал свое желание немедленно со мною познакомиться. – А знакомиться с ним, – добавила maman, – тебе гораздо лучше один на один, чем бы ты выглядывал, как цыпленок, из-под крыла матери. Притом же тебе надо привыкать к обхождению с людьми и уметь самому ставить себя на настоящую ногу; а это приобретается только навыком и практикой.
«Опять практика!» – подумал я, упав в постель с тревожною мыслию, что вокруг меня что-то тяжело и совсем не так, как бы мне хотелось. А отчего мне было тяжело и как бы я хотел учредить по-иному – этого я не знал; но только воображение несмело и робко, словно откуда-то издалека, нашептывало мне, что моя maman, без сомнения, строгая, нравственная и в высшей степени благородная, но сухая женщина, – и я вдруг вспомнил об отце и, кусая концы носового платка, который держал у лица, тихо заплакал о покойном. Мне показалось, что мы с отцом «терпим одинакую участь» от тяжести живо нами сознаваемого высокого, но уж слишком авторитетного превосходства матери, между тем как есть же на свете кто-нибудь, к кому она мягче и снисходительнее. Письмо к Филиппу Кольбергу, которое я отдал утром на почту, мелькнуло перед моими глазами, – и сам Филипп Кольберг, которого я никогда не видел, вдруг нарисовался в моих мысленных очах так ярко и отчетливо, что я склонен был принять это за видение – и затем начался сон, который во всяком случае был приятнее описанного бдения. Мне снилось, будто Филипп Кольберг, высокий, чрезвычайно стройный и сильный человек с длинными темно-русыми кудрями, огромными густыми усами и густой же длинной эспаньолеткой, смотрел на меня умными, энергическими, как небо голубыми глазами – и, сжимая мою руку, говорил:
– Да; ты отгадал: я люблю твою мать, я люблю ее, люблю, люблю как херувим любит бога, потому что видеть его благость и величие и не любить его невозможно, и мы с тобою сольемся в этой любви и полетим за нею в ее сфере. Гляди!
Он указал мне на плывущую в эфире яркую, светлым теплым пламенем горящую звезду, в сфере которой мы неслись неведомо куда, и вокруг нас не было ничего ни над нами, ни под нами – только тихая лазурь и тихое чувство в сердцах, стремящихся за нашею звездою.
XX
Проснувшись, я услыхал, что матушка была не одна: с нею был профессор Альтанский, и они вели между собою тихую, спокойную беседу.
Я был несколько удивлен этому спокойствию и подумал: неужто профессор ничего не знает о том, как страдает его дочь и в каком она нынче была положении. Да и прошло ли это еще? Или, может быть, это им ничего?
И затем у меня пошел ряд самых пустых мыслей, с которыми я делал свой туалет, вовсе не думая о том, куда я собираюсь и как буду себя там держать.
Когда я был совсем готов, матушка позвала меня к себе – и, не трогаясь с места, сказала мне:
– Ну-ка, покажись, как ты одет…
Я стал.
– Повернись.
Я повернулся спиной.
– Молодец! – заметил, глядя на меня, Альтанский.
– Молодец-то он молодец, – ответила, как мне показалось, не без гордости maman, – но я вижу, что у этого молодца скверно сшито платье.
И с этим она, вздохнув, встала и своими руками перевязала на моей шее галстук иначе, чем он был завязан, поправила воротнички моей рубашки и, перекрестив меня, велела идти.
– Не сиди долго, – сказала она в напутствие.
– Нет, maman.
– Однако и не спеши: это надо соображать по приему – как держат себя хозяева. Да говори почаще Льву Яковлевичу «ваше превосходительство».
При этом губы матушки сложились в несколько презрительную улыбку, а профессор громко откашлялся и плюнул.
Я никак не могу утверждать, что этот плевок относился непосредственно к «его превосходительству», но maman, вероятно, в виду этой случайности сейчас же нашла нужным добавить, что Лев Яковлевич очень не злой человек и имеет свои заслуги и достоинства, а жена его Ольга Фоминишна положительно очень добрая женщина, и дети их тоже очень добрые, особенно старшая дочь Агата, которую maman назвала даже натурою превосходною, благородною и любящею.
Путь мой был невелик – и я через десять минут очутился на большом дворе, по которому бродили молча какие-то необыкновенно смирные, или привычные к незнакомым посетителям, собаки. Их что-то было много, и все они откуда-то вставали, переходили через светлую полосу, которая падала от одного из освещенных окон, и исчезали во тьме. В дворе стоял большой одноэтажный дом и множество флигелей, построенных углами и зигзагами. Все это, несмотря на сумрак, представляло очень оживленную массу: во флигелевых окнах светились огни, а за углами во всех темных впадинах шевелились какие-то тени – и их было так много, что они становились для меня страшнее, чем собаки, на добродушие которых я начал доверчиво полагаться. Все эти тени, населяющие двор моего родственника и покровителя, были жиды, которые каждый день под сению сумерек в обилии стекались сюда, неся с собой разновидные дары для приобретения себе дядиной благосклонности. Они-то – эти всеведущие потомки Израиля – и указали мне путь, каким я должен был проникнуть в святилище, куда их по очереди и лишь за деньги впускал дядин камердинер.
Хотя генерала Льва Яковлевича мне никто не рекомендовал с особенно дурной стороны, но я не был расположен составлять о нем хорошее мнение: его дом с каким-то огненным трясением во всех окнах, его псы, сумрачные жиды, а особенно его низенький камердинер Иван с узким лисьим лицом и широким алчным затылком – все это производило во мне отталкивающее впечатление. Несмотря на свою тогдашнюю молодость и неопытность, я во всем этом обонял какой-то противный букет взятки, смешанной с кичливой заносчивостью и внутренним ничтожеством. Лев Яковлевич с виду не похож был на человека, а напоминал запеченный свиной окорок: что-то такое огромное, жирное, кожистое, мелко-щетинистое, в светлых местах коричневое, а в темных подпаленное в виде жженой пробки. Вся эта жирная, массивная глыба мяса и жиру была кичлива, надменна, раздражительна и непроходимо глупа. Лев Яковлевич был до того самообольщен, что он даже не говорил по-человечески, а только как-то отпырхивался и отдувался, напоминая то свинью, то лошадь.
При моем вступлении в его кабинет он сидел в глубоком кресле за столом и, продув что-то себе в нос, запырхал:
– А?.. как?.. что такое?..
Я ничего не понимал, но заметил, что у этого окорока засверкали под бровями его гаденькие глазки, а камердинер, подскочив ко мне, строго проговорил:
– Отвечайте же, сударь. Разве вы не видите, что генерал сердятся?
– Я ничего не понял… вы мне расскажите, – начал было я, но этот гордый холоп, махнув презрительно рукой и пробурчав: «Да уж молчите, когда не умеете», подошел ко Льву Яковлевичу.
Став за его креслом, Иван фамильярно поправил сзади гребешочком его прическу и молвил с улыбкой:
– Они боятся перед вашим превосходительством.
– А… как?.. что?.. мм… да… чем?.. зачем мне?.. затем?.. чем… ем… м?..
– К генеральше проводить прикажете?
– А?.. да… м… мм… к Ольге Фоминишне… да.
– Идите! – скомандовал мне лакей и, выведя меня через две застланные коврами комнаты, ткнул в третью, где за круглым чайным столом сидело несколько меньших окорочков, которые отличались от старшего окорока тем, что они не столько не умели говорить, сколько не смели говорить.
Из всех этих отрождений Льва Яковлевича я не мог никого отличить одного от другого: все они были точно семья боровых грибов, наплодившихся вокруг дрябнувшего матерого боровика. Все они были одной масти и одного рисунка – все одинаковы и ростом, дородством, лицом, красотою; все были живые друг друга подобия: одни и те же окорочные фигуры, и у каждого та же самая на светлых местах коричневая сальнистая закопченность.
При виде этой многочисленной, мирно и молчаливо сидящей за чайным столом семьи я здесь оказался столь же бестолковым со стороны моего зрения, как за минуту перед сим был бестолков на слух: у Льва Яковлевича я не мог разобрать, что такое он гнусит, а тут никак не мог произвести самого поверхностного полового отличия. Без всяких шуток, все представлявшиеся мне существа были до такой степени однородны и одновидны, что я никак не мог отличить среди них мужчин от женщин. Мать, дочери, сыновья, свояченица и невестка – все это были на подбор лица и фигуры одной конструкции и как будто даже одного возраста: вся разница между ними виделась в том, что младшие были поподкопченнее, а старшие позасаленнее. Но вот одно из этих тяжелых существ встало из-за стола, – и я, увидав на нем длинное платье, догадался, что это должна быть особа женского пола. Это так и было: благодетельная особа эта, встретившая и приветствовавшая меня в моем затруднительном положении посреди комнаты, была та самая Агата, о доброте которой говорила maman. Эта девушка представила меня и другим лицам своего семейства, из которых одно, именно: свояченица генерала, Меланья Фоминишна, имела очевидное над прочими преобладание; я заметил это из того, что она содержала ключи от сахарной шкатулки и говорила вполголоса в то время, как все другие едва шептали. Меланья Фоминишна дала мне возле себя место и налила чашку чая – что я, будучи очень неловок и застенчив, считал для себя в эту минуту величайшим божеским наказанием. Но, к моему благополучию, чай оказался совсем холоден, так что я без особых затруднений проглотил всю чашку одним духом – и на предложенный мне затем вопрос о моей maman отвечал, что она, слава богу, здорова. Но, вероятно, как я ни тихо дал этот ответ, он по обычаям дома все-таки показался неуместно громким, потому что Меланья Фоминишна тот-час же притворила дверь в кабинет и потом торопливо выпроводила меня со всеми прочими в комнату девиц, как выпроваживают детей «поиграть». Здесь мне показывали какие-то рисунки, рассматривая которые я мимоходом заметил, что у второй дочери генерала на одной руке было вместо пяти пальцев целых шесть.
Но внимание мое от этого шестого пальца вскоре было отвлечено появлением в комнате молодого, очень стройного и приятного молодого человека, которому все подавали руки с каким-то худо скрываемым страхом.
– Ах, Серж! здравствуйте, Серж! – приветствовали его дамы и девицы и тотчас же искали случая от него отвернуться, чем он, по-видимому, нимало не стеснялся и обращался с ними с каким-то добродушным и снисходительным презрением.
Он мне очень понравился – и я, продолжая рассматривать картинки, с удовольствием поглядывал на этого нового посетителя, совсем не похожего ни на кого из серых членов генеральской семьи. В его милом лице и приятной фигуре было что-то избалованное и женственное.
Серж сел в уголок дивана – и, красиво сложив на груди руки, закрыл глаза или притворился спящим.
Во все это время мы и здесь всё продолжали шептать, но тут вдруг вошел камердинер Иван и объявил, что генерал велел мне завтра явиться в палату.
Это известие подействовало на всех самым ободряющим образом, и обе дочери генерала сразу спросили:
– Папа уехал?
– Уехали, – небрежно отвечал камердинер и, добавив, что лошадей велено присылать только в двенадцатом часу, хотел уже уходить, как вдруг Серж возвысил голос и громко велел подать себе стакан воды.
Повелительное обращение Сержа произвело самое радостное впечатление: все лица оживились; голоса стали громче и смелее – и шестипалая девица села за рояль и начала играть, а другая запела. Сыновья ходили вдоль по комнате, а сама генеральша, усадив меня в угол большого дивана, начала расспрашивать: как мы с матушкою устроились и что думаем делать? Я со всею откровенностью рассказал ей известные уже мне матушкины соображения – и генеральша, а вслед за ней и все другие члены ее семьи находили все это необыкновенно умным и прекрасным и в один голос твердили, что моя maman – необыкновенно умная и практичная женщина. Я заметил, что ничего не говоривший и, по-видимому, безучастный Серж при первых словах о моей maman точно встрепенулся и потом начал внимательно слушать все, что о ней говорили, а при последних похвалах ее практичности – встал порывисто с места и, взглянув на часы, пошел к двери.
– Серж, вы будете закусывать? – спросила его вслед Меланья Фоминишна.
– Нет, – отвечал он голосом, который мне тоже очень понравился.
– Оставить вам?
– Нет, ma tante, нет, – не оставлять.
– Но вы придете ночевать?
Серж остановился, улыбнулся и, низко поклонясь Меланье Фоминишне, произнес:
– Приду, ma tante, на сон грядущий получить ваше святое благословение.
С этим он вышел.
– Шут, – молвила ему вослед Меланья.
– А зачем вы его расспрашиваете? – прошептала одна из девиц.
– Отчего же?
– Разве вы не знаете, какой он?
– Что мне за дело, как он отвечает: я исполняю свой долг.
– А я – что вы хотите – я очень люблю Сережу, – протянула генеральша, – когда он приедет из своей Рипатовки на один денек, у нас немножко жизнью пахнет, а то точно заиндевели.
Генеральша мне показалась очень жалкою и добродушною, и я в глубине души очень расположился к ней за ее сочувствие к Сержу, насчет которого она тотчас же объясняла мне, что он ее племянник по сестре Вере Фоминишне и фамилия его Крутович, что он учился в университете, но, к сожалению, не хочет служить и живет в имении, в двадцати верстах от Киева. Хозяйничает и покоит мать.
Меланья Фоминишна, очевидно, иначе была настроена к Сержу и по поводу последних слов сестры заметила:
– Да; не дай только бог, чтобы все сыновья так покоили своих матерей!
– Отчего же, Melanie?
– Так; будто вы не знаете?
Meianie говорила генеральше «вы», хотя, видимо, и ставила ее ни во что.
– Я, право, не знаю, – отвечала генеральша, – по-моему, он – добрый сын, очень добрый и почтительный, а уж как он в субординации держит этого дерзкого негодяя нашего Ваньку, так никто так не умеет. Видели: не смел ему прислать воды с Василькою, а небось сам подал и не расплескал по подносу, как мне плещет. Я всегда так рада, что он у нас останавливается. А что касается до Сережиных увлечений… кто же молодой не увлекался? Ему всего двадцать пять лет.
– Пора жениться.
– И не беспокойтесь так много, он, бог даст, на ней и не женится!
– Почему вы это знаете?
– Не женится, Melanie, не женится. Серж упрям, как все нынешние университетские молодые люди, и потому он вас с сестрой Верой не слушался. Что же в самом деле: как вы с ним обращались? – сестра Вера хотела его проклинать и наследство лишить, но ведь молодые люди богу не верят, да и батюшка отец Илья говорит, что на зло молящему бог не внемлет, а наследство у Сережи – отцовское, – он и так получит.
– Какие вы мысли проповедуете, Ольга, и еще при детях!
– Что же я такое проповедую, Melanie: я говорю правду, что вы не так действовали, чтобы их разъединить, – и Серж упрямился; а Каролина Васильевна практическая, и уж если сестра Вера поручила ей устроить это дело, так она устроит. Каролина Васильевна действует на нее, а не на него: это и умно и практично.
Практичность матушки сделалась предметом таких горячих похвал, что я, слушая их, получил самое невыгодное понятие о собственной практичности говоривших и ошибся: я тогда еще не читал сказаний летописца, что «суть бо кияне льстиви даже до сего дне», и принимал слышанные мною слова за чистую монету. Я думал, что эти бедные маленькие люди лишены всякой практичности и с завистью смотрят на матушку, а это было далеко не так; но об этом после.
В десять часов на стол была подана нарезанная ломтями холодная отварная говядина с горчицей, которую все ели с неимоверным и далеко ее не достойным аппетитом, так что на мою долю едва достался самый крошечный кусочек. Затем, тотчас же после этого ужина, я откланялся и ушел домой, получив на прощанье приглашение приходить к ним вместе с maman по воскресеньям обедать.
Очутясь на тихих, озаренных луною улицах, я вздохнул полною грудью – и, глядя на открытую моим глазам с полугоры грандиозную местность Старого Киева, почувствовал, что все это добро зело… но не в том положении, в котором я был и к которому готовился.
Прославляемая «практичность» матушки приводила меня в некоторое смущение и начала казаться мне чем-то тягостным и даже прямо враждебным. Рассуждая о ней, я начинал чувствовать, что как будто этот бедный Серж тоже страдает от этой хваленой практичности. Боже мой, как мне это было досадно! Да и один ли Серж? А отец, а я, а. Христя?.. мне показалось, что мы все страдаем и будем страдать, потому что мы благородны, горячи, доверчивы и искренни, меж тем как она так практична!
Я был очень огорчен всем этим и шел опустив голову, как вдруг из-за угла одного дома, мимо которого пролегала моя дорога, передо мною словно выросли две тени:
они шли в том же направлении, в котором надлежало идти мне, и вели оживленный разговор.
Из этих двух теней одна принадлежала мужчине, а другая женщине – ив этой последней я заподозрил Христю, а через минуту убедился, что я нимало не ошибся: это действительно была она. Но кто же был мужчина? О! одного пристального взгляда было довольно:
это был Серж.
Убедясь в этом, я чувствовал, что у меня екнуло сердце, и уменьшил шаг. Я сделал это вовсе не с целью их подслушивать, а для того, чтобы не сконфузить их своим появлением; но вышло все-таки, что я мнмовольно учинился ближайшим свидетелем их сокровеннейшей тайны – тайны, в которой я подозревал суровое, жесткое, неумолимое участие моей матери и… желал ей неуспеха… Нет; этого мало: я желал ей более, чем неуспеха, и почувствовал в душе злое стремление стать к ней в оппозицию и соединиться с партиею, которая должна расстроить и низвергнуть все систематические планы, сочиненные ее угнетающею практичностью.
XXI
Первые звуки разговора, которые долетели до меня от этой пары, были какие-то неясные слова, перемешанные не то с насмешкою, не то с укоризной. Слова эти принадлежали Сержу, который в чем-то укорял Христю и в то же время сам над нею смеялся. Он, как мне показалось, держал по отношению к ней тон несколько покровительственный, но в то же время не совсем уверенный и смелый: он укорял ее как будто для того, чтобы не вспылить и не выдать своей душевной тревоги.
Христя отвечала совсем иначе: в голосе ее звучала тревога, но речь ее шла с полным самообладанием и уверенностию, которые делали всякое ее слово отчетливым, несмотря на то, что она произносила их гораздо тише. Начав вслушиваться, я хорошо разобрал, что она уверяла своего собеседника, будто не имеет ни на кого ни в чем никакой претензии; что она довольна всеми и сама собой, потому что поступила так, как ей должно было поступить.
Серж опять искусственно рассмеялся.
– Что же? я радуюсь, что ты так весел, – молвила в ответ на это Христя, но мне показалось, что эта неуместная веселость ее обидела, и она тихо сняла руку с его локтя.
– Зачем же ты отнимаешь у меня свою руку? – спросил Серж.
Христя промолчала.
– Слышите ли вы, Харитина Ивановна? – повторил он шутливо, – я вас спрашиваю: зачем вы отнимаете у меня свою руку?
– Так нам обоим удобнее идти, чтобы не сбить друг друга в грязь.
– Это острота или каламбур?
– Право, ни то, ни другое, Серж, и вы бы мне, кажется, могли поверить, что мне едва ли до острот.
– Но кто же, кто всему этому виноват? – вскричал нетерпеливо Серж.
– Никто не виноват! все это идет само собою так, как ему должно быть.
– Мать моя, наконец, ведь согласна на нашу свадьбу. Что же еще тебе нужно?
Христя молчала.
– Неужто тебя могут останавливать или стеснять глупые толки этого кабана, моего дяди, или моих дур-тетушек? Где же твои уверения, что тебя не может стеснять ничье постороннее мнение? Ты, значит, солгала, когда говорила, что любишь меня и тебе все равно, хоть бы весь мир тебя за это возненавидел…
Христя снова промолчала и ступала тихо и потерянно глядя себе под ноги.
– Между тем, мне кажется, я сделал все, – продолжал Серж, – ты желала, чтобы я помирился с тетками, и я для тебя помирился с этими сплетницами… И даже более: ты хотела, чтобы в течение года, как мы любим друг друга, с моей стороны не было никакой речи о нашей свадьбе. Я знал, что это фантазия; вам угодно было меня испытать, удостовериться: люблю ли я вас с такою прочностию, какой вы требуете?
– Да, Серж.
– И что же? как это мне ни казалось вздорным…
– Нет, это не вздор, – перебила тихо Христя.
– Ну, и прекрасно, что не вздор, – и я все это исполнил: целый год я не говорил тебе об этом ни одного слова (Христя вздрогнула). Наконец, – продолжал Серж, – когда, по прошествии этого года моего испытания, мать моя по своим барским предрассудкам косо смотрела на мою любовь и не соглашалась на нашу свадьбу, ты сказала, что ни за что не пойдешь за меня против ее воли; я и это устроил по-твоему: мать моя согласна. Ты теперь не можешь сказать, что это неверно, потому что она сама тебе об этом писала, даже более: она лично говорила об этом твоему отцу; и, наконец, еще более: я настоял, чтобы она сама была у вас, и она одолела свою гордость и была у вас, и была с тобою как нельзя более ласкова…
Христя перебила его – и, протянув ему руку, произнесла:
– Да; благодарю тебя, Серж, это все правда: ты очень добр ко мне, и я не заслужила того, что ты для меня делал.
– Нечего про то говорить: заслуживаешь ли ты или не заслуживаешь; когда люди любят друг друга, тогда нет места никаким счетам; но речь о том, что всему же на свете должна быть мера и свой конец.
– Ах да, и они для нас уже исполнились.
– Ну, я этого не вижу, ты не идешь к концу, а, напротив, все только осложняешь.
– Нет, Серж.
– Как же нет? когда я уезжал отсюда неделю тому назад, ты просила меня верить, что теперь уже все кончено и решено, что я должен быть покоен, а тебе нужно только несколько дней, чтобы выбрать день для нашей свадьбы; но прошел один день – и я получаю от тебя письмо с просьбою не приезжать неделю сюда. Привыкнув к твоим капризам, я смеялся над этим требованием, но, однако, и его исполнил. В эти восемь дней ты что-то писала maman… Что ты такое ей писала?
– Оставь это, Серж.
– Нет: я хотел бы это знать, что у тебя за тайны от меня с моей матерью?
– Я ей кое в чем открылась.
– Открылась? в чем?
– Это моя тайна, Серж!
– «Открылась»… «тайна»… Господи, что за таинственность!
– Оставь это, бога ради; я открыла ей мои душевные пороки.
– Изволь. Я не знаю, что заключалось в твоем письме; ты лжешь, что ты открыла какие-то пороки, потому что твое письмо привело мать в совершенный восторг. Я думал, как бы она с ума не сошла; она целовала твое письмо, прятала его у себя на груди; потом обнимала меня, плакала от радости и называла тебя благороднейшею девушкой и своим ангелом-хранителем. Неужто это все от открытия тобою твоих пороков?
Христя молча пошатнулась и схватилась рукою за стену.
– Что с тобою? – спросил Серж.
– Ничего; я поскользнулась. Не обращай на это внимания, продолжай, – меня очень интересует, что говорила обо мне твоя мать?
– Ничего более, как она от тебя в восторге и ни за что не хотела показать мне твоего письма.
– Вот видишь ли, как хорошо я умею утешить!
– Да оно и должно бы быть все хорошо; но что же значит твое вчерашнее письмо, чтобы я не приезжал еще две недели, и твоя записка, которую я нашел у тетушки Ольги Фоминишны: что еще за каприз или тайна, что не хочешь пускать меня к себе в дом?
– Да, это тайна, Серж.
– Опять тайна! – новая или все та же самая, что сообщалась матери?
– Почти та же самая.
– И ты ее, вероятно, решилась мне открыть?
– Да; я решилась. Я хотела сделать это, но не так скоро. Я хотела собраться с силами, – но ты не послушал меня, приехал – и мне ничего не остается, как сказать тебе все. Я знала, что ты пойдешь к нам, и решилась ждать тебя здесь… на дороге.
Он пожал плечами и с неудовольствием произнес:
– Тайна с открытием на уличном тротуаре… Это оригинально!
– Да, Серж, да: оригинально, глупо, все что ты хочешь, – но здесь я открою ее, здесь или где попало, но не там, не в нашем доме, где меня оставляют силы, когда я подумаю о том, чтό я должна тебе сказать.
Серж остановился и выпустил ее руку.
– Нет, будем идти, – настояла Христя и, потянув его за руку, заговорила часто и скороговоркой: – между нами, Серж, все должно быть кончено… все… все… все… надежды, свидания… любовь… Все и навсегда.
– Так ты это серьезно говоришь?
– Серьезно, Серж, серьезно; я не могу быть твоею женою… я не могу поступить против твоей совести… Да; против совести, Серж, потому что я… люблю другого, Serge.
И она вдруг схватила обе его руки, жарко их поцеловала – и, подняв к небу лицо, на котором луна осветила полные слез глаза, воскликнула: «Прости! прости меня!» и бросилась бегом к своему дому.
Молодой человек кинулся за нею – и, нагнав ее, остановил на калитке.
Я не слыхал первых слов их объяснения на этом пункте, а когда я подошел, они уже снова расставались.
– И вы запрещаете мне встречаться с вами? – спрашивал Серж.
– Да; я прошу… я не могу этого запретить, но я прошу об этом, – отвечала Христя голосом, в котором уже не было слышно недавнего волнения.
Он несколько патетически произнес: «Прощайте!» и, встряхнув ее руку, пошел назад.
Я прислонился за темный выступ забора – и, пропустив его мимо себя, видел, как он остановился и, вздохнув, словно свалил гору, пошел бодрым шагом.
Христя еще стояла на пороге и все смотрела ему вслед. Мне казалось, что она тихо и неутешно плакала, и я все хотел к ней подойти, и не решался; а в это время невдалеке за углом послышались голоса какой-то большой шумной компании, и на улице показалось несколько молодых людей, в числе которых я с первого же раза узнал Пенькновского. Он был очень весел – и, заметив в калитке женское платье Христи, кинулся к ней с словами:
– Позвольте вас один раз поцеловать!
Калитка в ту же минуту захлопнулась, и опомнившаяся Христя исчезла как раз в тот момент, когда я подскочил, чтобы защищать ее от наглости Пенькновского, который, увидя меня, весело схватил меня за руку и вскричал:
– Ага! а ты это, брат, что тут по ночам делаешь?
– Я провожал мою мать, – отвечал я, боясь, чтобы самое имя Христи не стало ему известно.
– А-а! мать… Так это здесь была твоя мать?
– Да, моя мать.
– Да куда же это она шла? Разве это ваш дом?
– Нет, не наш, а тут одна наша знакомая больна.
– Фу, черт возьми, какая глупость! И чего же это, однако, твоя мать стояла на калитке?
– Она меня крестила.
– Крестила тебя! Это какие пустяки! Ну зачем… зачем она тебя крестила?
– На ночь. Она всегда меня крестит.
– Ах, черт возьми! Но ты ради бога же не говори ей, что это я к ней подлетел.
Я дал слово не говорить.
– А ты как думаешь: узнала она меня или нет? – беспокойно запытал Пенькновский.
– Нет, – отвечал я, – я думаю, что она не узнала.
– И мне кажется, не узнала… довольно темно, да и я немножко пьян, а ведь я ей наговорил, что в рот ничего не беру. Ты, однако, смотри, это поддерживай.
– Как же: непременно!
– Да, а то это выйдет не по-товарищески. А у нас, брат, сейчас были какие ужасные вещи! – и Пенькновский, поотстав со мною еще на несколько шагов от своих товарищей, сказал о них, что это всё чиновники гражданской палаты и что у них сейчас был военный совет, на котором открылась измена.
– Как измена? кто же вам изменил?
– Один подлец дворянский заседатель. Он подписал на революцию сто рублей и на этом основании захотел всеми командовать. Мы его высвистали, и отец час тому назад выгнал его, каналью. Даже деньги его выбросили из кассы, и мы их сейчас спустим. Хочешь, пойдем с нами в цукерню: я угощу тебя сладким тестом и глинтвейном.
Я поблагодарил его и отказался.
– Ну как хочешь! – сказал Пенькновский, – а то бы пошел, и отлично бы накатились. Но все равно, иди домой и непременно разведай завтра, узнала ли меня твоя мать – и если узнала, ты побожись, что это не я.
– Пожалуй.
XXII
Так, в такой обстановке и среди таких элементов я ориентировался в живописном городе, который почитается колыбелью просвещения для всего русского народа, – и, по стечению обстоятельств и по избранию моей матери, в течение десяти лет кряду был моею житейскою школою.
Это десять многознаменательных для меня лет, окончательно сформировавшие мой характер.
После того, что я описал, я непосредственно заболел; поводом к этому недугу, как матушка отгадала, действительно была простуда, полученная мною во время курения у форточки.
У меня сделалась лихорадка и колотье в ушах – болезнь, конечно, не важная, но, однако, она мешала моим и служебным и учебным занятиям. Первый блин шел комом; я только начал уроки, только подал просьбу об определении меня на службу, и сейчас же слег.
В это время, помимо болезни, со мною случилось еще две неприятности: во-первых, Кирилл явился ко мне прощаться, а как я тотчас не встал с постели, то его приняла матушка и дала ему рубль, и этим бы все могло благополучно и кончиться; но, тронутый этою благодатью, Кирилл захотел блеснуть умом и, возмнив себя чем-то вроде Улисса, пустился в повествование о том, как мы дорогой страждовали и как он после многих мелких злоключений был, наконец, под Королевцем крупно выпорон.
Услыхав из своей комнаты, что дело дошло до королевецких происшествий, я чрезвычайно оробел, а когда матушка вдобавок к этому еще спросила: за что же именно его так обидели, страх мой уже не знал пределов, – но коварный мужичонка отлично нашелся. Немножко помямлив и почесавшись, он с достоинством отвечал:
– Эх, государыня-матушка, если всю правду говорить, как перед богом, то, вздохнув ко всевышнему, ничего я больше за собою не знаю, как это господь наказал меня за мое лакомство.
– За какое лакомство? – сказала maman.
– А что я о ту пору, лба не перекрестя, морковь ел. После такого объяснения Кирилл был отпущен, и эта беда сплыла, но зато на место ее близилась другая: через несколько дней, во время самого жестокого пароксизма лихорадки, в доме получилось на мое имя письмо. Находясь в нестерпимом жару болезни, я ничего не понял: ни адреса на конверте, ни того, что стояло на вынутом мною листке; бумага трепетала в моей руке, и строки тряслись и путались, а глаза ничего не видали. Тогда матушка, вынув из моих дрожащих рук это письмо, взглянула на первые его строки и вся изменилась в лице, воскликнув:
– Боже мой! кто это смеет тебе писать такое письмо?
– Что там такое, maman? – осведомился я, едва шевеля своими смягнущими губами.
– Письмо начинается со слов: «Праотцев, ты дурак!»
«Плохо!» – подумал я, заключая по слогу, что это, верно, энергическая Тверь сносится с вежливым Киевом!
– Тебя бранят, – продолжала матушка, показывая мне листок, на котором я теперь при новом толчке, данном всем моим нервам, прочел несколько более того, что было сказано: «Праотцев! ты дурак и подлец…» Дальше нечего было и читать: я узнал руку Виктора Волосатина и понял, что это отклик на мою борзенскую корреспонденцию к его сестре, потому что вслед за приведенным приветствием стояли слова: «Как смел ты, мерзавец, писать к моей сестре». Читая эти слова, я вспомнил, что их точно так же читает теперь и моя мать, и потому быстро разорвал письмо и, отвернувшись к стене, проспал целые сутки.
Когда я проснулся опять, был день в той же передобеденной поре, около которой вчера было получено тверское бранное послание. К этой поре у меня обыкновенно начинался лихорадочный пароксизм; но, однако, проснувшись теперь, я этого не ощущал. Тверская встрепка меня вылечила: я с горя переспал болезнь.
Осмотревшись, я увидал, что со мною в комнате никого нет, но невдалеке в матушкиной комнате шел тихий разговор. Этот разговор, который, впрочем, гораздо удобнее назвать медицинским рассуждением, происходил между maman и одним – в то время очень молодым – университетским профессором и касался меня.
Матушка жаловалась, что я, на ее взгляд, очень нервен и впечатлителен и что она этого боится, а медик отвечал:
– Да нет, он довольно хорошо построен, но он на длинных ножках, а уж этакие, разумеется, всегда немножко валки.
– То-то, мне кажется, он слаб, – шептала maman.
– Да я вам и говорю: люди на длинных ножках всегда несколько кволы. Коротконожки гораздо прочнее, но уж этого не переделаешь: кто на каких ножках заведен и пущен, тот на таких и ходит. Впрочем, будьте покойны: все хорошо, а я спешу заехать к Льву Яковлевичу.
Maman спросила: кто у них болен?
– Кажется, все вдруг, – отвечал доктор и добавил, что он был у них ночью и теперь снова спешит, потому что там весь дом в тревоге.
– Боже мой! что же это такое? а я не могу за болезнию сына их навестить.
– Да и не спешите: тревога пустая, и ничего опасного нет; вчера к ним приехал их племянник Серж и разругал их за что-то по правам родства.
– Ах, какая досада! они и так его не жалуют.
– Да, даже самого Льва Яковлевича назвал дикой свиньей, а с тем от этого сделался обморок, но то не важно: он на коротеньких ножках и скоро поправится.
С этим доктор взошел на прощанье взглянуть на меня – и как я притворился спящим; то он только указал матери на мои закрытые одеялом ноги – и, прошептав, что лучше было бы, если бы они были покороче уехал.
Между тем я во все это время с напряженным вниманием рассматривал из-под своих ресниц собственные ноги врача и нашел, что они у него чрезвычайно пропорциональны.
Освободясь от этого визита, я снова открыл глаза и стал размышлять: действительно ли большая или меньшая длина ног может иметь такое важное влияние на судьбу человека, или же господин доктор напирает на это только потому, что у самого у него прекрасные ноги и ему выгодно обращать на них косвенным образом всеобщее внимание.
В эту самую минуту к моему изголовью присела с вязаньем в руках матушка и, взглянув на мое задумчивое лицо; спросила:
– О чем ты размышляешь, дитя мое?
Я сконфузился и покраснел.
– Если это секрет, то не говори.
– Нет, maman, какой же секрет!..
И я рассказал ей, что мне пришло в голову по поводу докторского рассуждения о ногах.
– Зачем же так думать? – отвечала maman, – наш доктор очень хороший и умный человек.
– Да; он мне кажется слишком практичный, maman.
– «Слишком практичный»… что ты под этим разумеешь?
– Он… он из тех людей, которые делают только то, что им приятно или выгодно.
– Значит, по-твоему, быть практичным – все равно, что быть эгоистом?
– Да, maman… То есть позвольте, я это хорошенько не обдумал.
– Так обдумай.
Матушка, не переставая работать длинными деревянными спицами своего филейного вязанья, сосчитала ряд петель – и потом, не ожидая моего ответа, заговорила, что я сужу чрезвычайно односторонне и неправильно: что быть практичным – это еще отнюдь не значит быть себялюбивым эгоистом; но что, кроме того, в свете часто без разбора называют практическими людей, которые просто разумны и поступают умно не вследствие большой практики, а вследствие хорошей обдуманности и ясного понимания дела. Она мне, как профессор, разъяснила, что практически можно знать определенное число тех вещей, в которых человеку прежде уже довелось иметь опыт, а разумно постигать можно все доступное разумению всесторонних свойств предмета, среди действия и условий времени и места. И вслед за тем maman, как будто пожелав еще более пояснить сказанное мне живым примеров, улыбнулась и добавила:
– Вот, например, когда ты шел в голове целовавших дамам ручки кадет или писал письмо о своем душевном состоянии, ты был непрактичен, – ты это сделал потому, что не знал, что это не принято и не делается.
– Да, maman, да, – уверяю вас, что потому.
– Ну да, и вот потому-то это, не заключая в себе ничего особенно дурного и глупого, только непрактично; а твой тверской товарищ, который прислал тебе обидное письмо за твою ласковость, сделал гораздо худший поступок – уже не практический, а неблагоразумный: он тебя обижает за то, что ты ласкаешься… Это обозначает плохую голову и нехорошее сердце…
– Он светский, maman.
– Не думаю: светские люди стараются быть сдержанными; а люди практические – если хотят кого обидеть, то не бранятся с первых строк, потому что тогда благоразумные люди далее не читают. Кстати, извини меня: я бросила это глупое письмо в печку.
Я обнял матушку и припал головою к ее плечу.
Меня обуревали самые смешанные чувства: я был рад, что ненавистное письмо, которого я так долго ждал и опасался, – теперь мне уже более не страшно; я чувствовал прилив самых теплых и благодарных чувств к матери за деликатность, с которою она освободила меня от тяжких самобичеваний за это письмо, представив все дело совсем не в том свете, как оно мне представлялось, – а главное: я ощущал неодолимые укоры совести за те недостойные мысли, какие я было начал питать насчет материного характера. Я видел, что она добрая и благоразумная, а совсем не практическая, как о ней толкуют, – и мне ее стало бесконечно жалко. Я прижался к ней еще теснее и прошептал:
– Простите меня, maman!
Она взяла мое лицо в обе свои руки и спросила:
– В чем, дитя мое?
– Maman, мне это страшно сказать вам.
Матушка, видимо, встревожилась, а когда я к этому прибавил, что вина моя заключается в моем легкомыслии, с которым я позволил себе осуждать ее в своем уме, – она даже побледнела и не могла произнесть ни одного слова.
В моих мыслях мелькнул Филипп Кольберг, и я увидал, что начал пренеловкую речь, и поспешил поправиться.
– Maman, я роптал на вас: вы мне казались очень практичными, – проговорил я, потупив глаза.
– Вот что!
И матушка приподняла мою голову, посмотрела мне в глаза – и, спокойно улыбнувшись, обняла меня и прижала к сердцу.
Я слышал, как это сердце билось, и чувствовал, что оно бьется для меня, меж тем как если бы оно было практичнее – ему никто не смел бы помешать воспользоваться своим правом биться еще для кого-нибудь другого, и при этой мысли я опять почувствовал Филиппа Кольберга – он вдруг из какого-то далека насторожил на меня свои смелые, открытые глаза, которых я не мог ничем прогнать, – и только в ревнивом страхе сжал матушку и в ответ на ее ласки шептал ей:
– Maman, друг мой! вы моя самая умная, самая добрая мать. Скажите же мне, что вы меня простили.
– Ото всего сердца прощаю и извиняю.
«Прощаю и извиняю, – подумал я… – Отчего не просто прощаю?»
– О чем ты задумался? – спросила maman.
Я не вытерпел и отвечал:
– Я думаю о том, maman, зачем вы прибавили, что не только прощаете, но и извиняете меня. Разве это не все равно?
Она опять улыбнулась и сказала:
– Нет, это не все равно: прощение дается даром, по снисходительности того, кто прощает; а извинение вызывается причинами, которые заставляют не считать вину виною. Но ты, однако, очень пытлив – это хорошее качество, оно может вести к широкому разумению; но надо, чтобы при этом не было беспокойного воображения, которое всегда ведет к напрасным тревогам и ошибкам.
Все это для меня было чрезвычайно ново – и я с восторгом чувствовал, что матушка вводит меня в сознание простых, но важных житейских истин, и гордился ею самою и ее умом. В самом деле, каждое из ее слов раскрывало передо мною в самой малой вещи весьма сложные идеи, объяснение которых было мне чрезвычайно приятно: я вкушал в эти минуты священную сладость просвещения ума и сердца. Относясь еще вчера весьма пассивно к матушкиному проекту моих усиленных научных занятий, я теперь уже осуждал себя за это равнодушие – и теперь сам страстно желал учиться, и учиться не для чего-нибудь корыстного, не для чинов, не для званий или денежных выгод, а именно для самих знаний, для постигания всего того, что при незнании и необразованности проходит у человека незамеченным и ничтожным, меж тем как при глубоком разумении жизни в ней все так осмысленно, так последовательно, причинно и условно, что можно властвовать жизнью, а не подчиняться ей. Одним словом: задушевный, хотя, как всегда, сдержанный разговор, который я имел с матушкою в этот вечер, оставил своим следствием то, что во мне вспыхнула жажда знаний, – и я с этих пор без перерыва много лет сряду рыскал и шарил везде, где надеялся найти какое-нибудь новое знание.
Я не дожидался полного моего выздоровления – и прежде, чем недовольный моими ногами доктор разрешил мне выходить из моей комнаты, я доставил maman и Ивану Ивановичу Альтанскому случай не раз повторить мне, что оба они мною очень довольны. Мое прилежание и быстрота, с которою я одолевал самим мною выпрашиваемые и удвоиваемые себе уроки, приводили и maman и профессора в удивление. О напоминаниях учиться не бывало и речи, и я уже слышал только одни удерживанья.
– Не спеши, мой друг, не спеши, – говорил мне, самодовольно улыбаясь, Альтанский. – Не опережай времени. Успеем: ты еще молод для серьезных занятий.
– У тебя ноги длинны, всего вдруг не поднимешь, – шутила на ту же тему maman.
Но я ничему этому не внимал и погрузился в книги и ученье, как мышь в кадку с мукою, откуда выглядывал на свет божий робко, изредка, с застенчивою дикостью и большою неохотою. Притом же, удерживая сравнение себя с утонувшею в муке мышью, я должен сказать, что, найдя вкус и удовольствие в занятиях науками, я и наружу выглядывал, как бы обсыпанная мукою мышь, и уже в столь ранние мои годы начал казаться изрядным чудаком. Но буду по возможности держаться в своем повествовании порядка.
XXIII
Выздоровев, я немедленно определился на службу, но о службе моей я не стану распространяться: это была канцелярская служба, как большинство служб этого рода, то есть служба весьма необременительная – и для меня, как для «генеральского родственника», даже совсем легкая. Сам генерал не обращал на меня ни малейшего внимания, а ближайшее мое начальство (купно до столоначальника) всячески мне вольготило, конечно не потому, чтобы тем хотели сберечь мне мое время для других, более приятных и полезных занятий, а с другою целию, которой я тогда не понимал. Чиновники, меряя меня на свой аршин, предполагали во мне опасного конкурента на должности и потому заботились не допускать меня до ближайшего изучения тайн канцелярской науки. Я обыкновенно переписывал каждый день набело две-три бумаги и затем всегда с большим удовольствием уходил домой, где меня ожидали добрые друзья и научные занятия, которым я, как выше сказано, неустанно предавался с страстным увлечением и, разумеется, содержал это в полнейшем секрете от моих служебных товарищей, с которыми, впрочем, вообще я не имел ничего общего, кроме встреч в канцелярии.
Генерал Лев Яковлевич в начале моего служебного поприща раза два осведомлялся обо мне, что я делаю; но потом такая внимательность ему, вероятно, надоела – и он уже более никогда не интересовался моими служебными успехами. Матушка это видела, но, зная, что мне еще рано служить и что я служу, только подчиняясь моей суровой доле, она даже радовалась, что я пребывал вне всяких надежд на повышение по службе, но зато ничего и не заимствовал и не усвоивал себе из той чиновничьей среды, в которую меня довольно надолго забросила житейская волна.
Знакомств мы никаких не делали, как потому, что жили на весьма ограниченные средства, так и потому, что не чувствовали в них ни малейшей надобности. Из дома мы выходили чрезвычайно редко – и то только разве к генералу Льву Яковлевичу, который, имея некоторые фамусовские черты, требовал, чтобы я у него по праздникам обедал, что мне, впрочем, всегда было сущим наказанием. Матушку же туда довольно часто вызывали, но это тоже делалось не по любви и расположенности к ней, а в целях весьма практических, так как воинственный статский генерал, зная, что матушка была дружественно знакома с домом барона К., у которого Лев Яковлевич служил в гладеньком чине, конфузился ее и при ней не позволял себе дебошировать в той степени, до которой он порой доходил в своей семье, находясь на свободе без посторонних свидетелей. При этом я хочу заметить, что он, однако, никогда не дрался, а только шумел, гремел, стучал кулаками, источая потоки самой находчивой брани, называя больную жену «мокробиотикой», старшую дочь «уродом», а свояченицу «чертовой перечницей» и другими сему подобными лестными кличками. При maman он так не ругался.
Матушка очень тяготилась необходимостью посещать этот дом, но, однако, не отказывалась – сколько по своей доброте и миролюбию, столько же и потому, что считала нужным удерживать эти отношения для моей пользы. Другой дом, где мы бывали, был дом Альтанских: сюда мы ходили с удовольствием, но гораздо реже, потому что и профессор и его дочь (роман которой до сих пор остается неразъясненным в моих записках) были ежедневно у нас. Совместные занятия науками, совместная задушевная, умная и приятная беседа у камина и совместный чай, а потом легкий ужин ломтем холодного мяса – были нашим режимом, в котором мы сблизились и слились до неразрывного душевного согласия, взаимной привязанности и единства.
В этом тесном кружке нам не нужно было никакого более просторного мира, хотя мы отсюда часто обозревали весь мир и передвигали перед собою его картины при различных освещениях. В характере наших собеседований было замечательно то, что лица в наших разговорах играли относительно очень небольшую роль; мы почти никогда не говорили о ком – нибудь, а всегда о чем – нибудь – и потому разговор наш получал форму не осуждения, а рассуждения, и через это беседе сообщался спокойный, философский характер, незаметно, но быстро давший моему уму склонность к исследованию и анализу.
Отправление в каждой беседе от живых и часто, по-видимому, ничтожных явлений частной жизни к вопросам общего значения – делало эту беседу столь легкою и доступною, что я, самый младший и невоспитанный член нашего кружка, сам не заметил, как начал свободно понимать все, что мне доводилось слышать, и чувствовал себя в силах ставить иногда более или менее уместно свое слово. Если мнение мое не служило к разъяснению вопроса, то оно нередко было поводом к указанию не бывшего до тех пор на виду возражения со стороны непросвещенного разума.
Голос мой, в своем роде, был нечто вроде голоса из толпы, на который всегда давался терпеливый и разумный ответ, всегда шедший мне – представителю толпы – на добрую потребу.
XXIV
Первое, что мне припоминается, – это беседа в тот самый вечер, когда между мною и матушкою произошло сердечное примирение после моих мысленных против нее раздражений.
Мы сидели в полном сборе все вчетвером, то есть я, еще немножко больной и помещавшийся в глубоком кресле, моя maman, профессор и его дочь, которая появилась к вечеру с несколько бледным, но твердым лицом.
Матушка, налив всем нам чаю, молвила, что у нее сегодня очень радостный день, – что она сегодня сделала дорогую находку или приобретение.
– Разве вы выходили сегодня? – спросила ее Христя.
– Нет, не выходила: я нашла мою находку у себя дома.
– Что же это такое?
Матушка отвечала, что она нашла сердце своего сына и приобрела его доверие.
Я покраснел.
– Но разве его сердце не всегда вам принадлежало? – продолжала Христя.
– Да; он меня любит, и он был уверен в моей любви, но с сегодняшнего дня все, что мне принадлежало от него по вере, он отдал мне по убеждению. Это мне очень дорого – и я высоко буду ценить этот день. Это мой праздник.
Я покраснел еще более.
– Не стыдись, пожалуйста, моей благодарности, – продолжала maman, – я знаю, что присутствовать на своей собственной цензуре очень неприятно, особенно когда нас в глаза хвалят; но я все это говорю не в похвалу тебе, а просто открываю тебе мою высшую радость. Приобрести твою откровенность – это все, чего я могла желать и молить у бога, и он все это дал мне.
Я смутился: на душе моей лежала целая тьма тайн, которых я не открыл и не решился бы открыть моей матери; но эти ее слова, послужив мне укором, возбудили во мне такой азарт покаяния, что я заговорил:
– Нет, maman, я вам еще не все открыл! – и затем я начал порывисто и страстно при всех приносить подробное покаяние во всех моих путевых проступках, не умолчав даже о том, что встретил под ярмарочными шатрами в Королевце женщин и после того не мог помыслить: как я предстану матери и обниму ее.
Это сделалось так внезапно, что не приготовленные к тому Альтанские скромно потупили глаза, а Христя даже хотела выйти; но maman остановила ее за руку и, склонив голову, внимательно и, казалось, покойно слушала мою исповедь.
Когда я кончил и заключил словами:
– Maman, прошу вас, перемените обо мне ваше доброе мнение, – я его не стою…
Матушка помолчала минуту, а потом начала спокойным и ровным голосом:
– Нет, если ты открыл все это с тем, чтобы не возвращаться к тому, в чем ты осудил себя, то ты стоишь доброго мнения.
– О да, maman, я гнушаюсь моим прошлым!
– Поди же и обними меня.
Это был такой красноречивый ответ на мое сомнение о праве обнять ее, что я кинулся ей на шею и, обняв ее, зарыдал.
– Перестаньте: вам еще вредно так сильно волноваться! – прозвучал в это время надо мною нежный голос Христи, и когда я, услыхав этот голос, поднял свое лицо, добрая девушка и мать обняли меня и обе поочередно поцеловали.
Эти чистые поцелуи были целением от моей королевецкой проказы – и притом каким святым и плодотворным целением! Ими один порок был навсегда опозорен передо мною и вырван из моего сердца.
– Еще, maman, – продолжал я в своем покаянном азарте, – я должен вас предостеречь: я скрыл от вас, что мой товарищ Пенькновский совсем не такой, каким он себя вам представил: он меня ни от чего не удерживал.
Но матушка остановила меня знаком и не позволила более рассказывать.
– Я все это считала возможным, – сказала она, – но твоего товарища осуждать нельзя – этот бедный молодой человек живет без доброго руководства.
– Колеблемая ветром трость, – тихо поддержал Альтанский и, вынув из кармана круглую табакерку, отошел с нею к окну, добавив: – панское сердечко – шляхетска кровь.
– Да; к тому же он имеет несчастие быть поляком и потому заслуживает извинения, – подсказала maman.
Помня недавний разговор о значении слов прощать и извинять, я тотчас же поспешил вдуматься: почему польское происхождение может заставить не только прощать пороки по милости, но даже извинять их по какому-то праву на снисхождение, и я решительно недоумевал, но матушка мне это тотчас разъяснила.
– Поляки потеряли свою самостоятельность, – продолжала она, – а выше этого несчастия нет; все народы, теряя свою государственную самостоятельность, обыкновенно теряют доблести духа и свойства к его возвышению. Так было с великими греками, римлянами и евреями, и теперь то же самое в наших глазах происходит с поляками. Это ужасный урок.
– Да; сей урок учит любить свой народ, дабы не видать его в униженном уделе побежденных, – вмешался Альтанский.
– Вы прекрасно сказали, – отозвалась мать и добавила: – но мне кажется, что этот урок тоже учит и снисхождению, какое вызывает участь побежденных?
– Да, да; тоже и этому. Fortuna belli artem victas quoque docet.[14]
– Но позвольте, maman, – заговорил я, – я, право, не знаю, как мне быть; но мне кажется, что я не должен от вас скрывать, что Пенькновский сказал мне, будто они хотят делать революцию.
Maman сдвинула брови и переспросила меня, так ли я ей выразился; а когда я повторил ей мои слова, она сухо ответила, что это непременно вздор.
– И на что им революция?
– Не знаю, – говорю, – maman; они, кажется, хотят сделать республику.
– Республика!.. Какая может быть республика у пустых и глупых людей?
– Не знаю, maman, но он мне говорил, что будет такая республика, где король и публика.
Мать промолчала, но профессор, сильно зарядив нос табаком, проговорил с легкою насмешкою:
– Республика – где король и публика, а республиканция – где нет королю ваканции.
Мне показалось, что профессор слегка шутил не над одним Пенькновским, но и над словами матери, которая тоже сделалась с ним на несколько минут суше, чем обыкновенно, и сказала, что, обращая все в шутку, можно довести до того, будто польская республика была не что иное, как котлета с горошком, которую скушали, и ее как не бывало.
– Нет, доказать, что ее как не бывало, невозможно, – отвечал профессор, – потому что кто ее скушал, те от этого располнели; но можно доказать, что пустые люди, принимаясь за хорошую идею, всегда ее роняют и портят.
С этим профессор простился, оставив матушку примиренною с его мнением, а меня с открытием, что и он и мать моя в душе республиканцы, и притом гораздо большие, чем Пенькновский, но совсем не такие, как он и его заговорщики.
Я не понимал, чтό бы такое моя мать и Альтанский могли сделать для великой идеи, но был уверен, что они бы ее ни за что «не уронили и не испортили».
Впоследствии я убедился, что соображения мои верны, и притом, изучая характеры и взгляды этих лиц, я открыл, что у матушки были перед профессором значительные преимущества возвышенного, но пылкого духа, тогда как профессор относился ко всему с спокойным величием мудреца. Эта разность в характерах порождала между ними легкие столкновения, разрешавшиеся чрезвычайно своеобычно. Когда матушка высказывала мысли, подобные тем, какие мною приведены выше по поводу разговора о Пенькновском, профессор обыкновенно отходил с своею табакеркою к окну и, казалось, думал совсем о другом, но уловив какое-нибудь одно слово, вдруг подбирал к нему более или менее удачную рифму и отзывался шутливо в стихотворной форме, вроде:
«В республиканции нет королю ваканции».
Так как он употреблял этот прием, очевидно, с добродушною иронией над всем слышанным, то матушке это не очень нравилось – и она, при всем своем самообладании, в подобных случаях обнаруживала легкое раздражение. Вообще же, хотя maman отзывалась об Альтанском не иначе как с величайшею похвалою, я чувствовал, что все ее похвалы относятся только к его светлому уму, непререкаемой честности и большим сведениям, но что в нем было нечто такое, что ей не совсем нравилось, и что если бы от нее зависело отлить человека в идеальную форму, то этой формой не во всем послужил бы избранный ею мне наставник.
Альтанскнй был ученый бурсак, матушка – просвещенная баронесса; эта разница лежала между ними всегда при всем видимом сходстве их убеждений и при несомненном друг к другу уважении. Старый ученый считал мою мать женщиною, выходящею далеко вон из ряда, но… все-таки иногда давал ей свои рифмованные ответы, смысл которых обозначал, что он считает то или другое ее положение не достойным ответа более серьезного.
Между тем они были друзьями – и это меня чрезвычайно удивляло, так как я имел совсем иное понятие о взаимном отношении дружественных между собою людей.
Совсем не то установилось в отношениях Альтанского ко мне и в отношениях моей матери к Христе. Профессор, окончив со мною урок, часто и подолгу еще оставался за тем же столом и беседовал со мною. Окончив занятия в форме строго научной, он давал мне сладчайшую умственную пищу, продолжая разговор о том же предмете в форме легкой и приятной, всегда вызывающей на размышления и дающей для них обильную пищу. И здесь уже не было никакого места рифмоплетению, если только maman не вмешивалась в дело; но всякое более или менее продолжительное вмешательство с ее стороны тотчас же вызывало у профессора наружу и его стихи и его табакерку.
Maman это заметила – и, в противность своему обещанию, перестала присутствовать при наших уроках, а потом предложила, чтобы я для большего удобства Альтанского сам ходил к нему на дом, что и мне самому было чрезвычайно приятно, так как дома у себя старик был еще дружественнее и сообщительнее. Уроки шли долго, но мне казалось, что время за ними летело на крыльях; а беседы, которыми Альтанский заключал эти уроки, портили все расписание часов, сделанное для меня матушкою. Французскому и английскому языку оставалось очень немного часов, потому что почти все вечернее время, после занятий с Альтанским классиками, я проводил у него, уносясь восторженными мечтаниями во времена давно минувшие, в мир великих мудрецов и доблестных героев. Христя в эти самые часы обыкновенно брала свои музыкальные уроки и потом занималась с maman по-английски, а мы с стариком оставались двое в его оригинальном большом кабинете, куда не допускался никто из непосвященных, хотя бы даже для того, чтобы обместь пыль, которая лежала на всем густыми слоями или висела космами. Альтанский никому не дозволял нарушать тот беспорядок, в котором он один, к неописанному моему удивлению, всегда быстро умел находить все, что ему было нужно.
Я позволю себе, в виду сверкающих седин, еще на минуту завернуть в этот задумчивый и пыльный кабинет, куда я прятался от людей, чтобы лучше их видеть и понимать.
Мы садились здесь за свои занятия час спустя после обеда и выходили отсюда, когда бог полагал на сердце.
Заходило солнце, спускались сумерки, восходила луна, и серебристый свет ее тихо ложился на пыльный, до полу покрытый толстым фризом и заваленный фолиантами стол, а мы всё беседовали. Я где-нибудь сидел в углу, а сухой старик ходил – и ровною, благородною ораторскою речью повествовал мне о деяниях великих людей Греции, Рима и Карфагена. И я все это слушал – и слушал, часто весь дрожа и замирая от страстного волнения.
Однажды, весь взволнованный рассказом Альтанского о суде над Сократом и весь преисполненный гнева и досады, я сорвался с места и схватил Альтанского за руку, как бы желая его остановить, но он спокойно обнял меня своею другою рукою и увлек вперед. Мы ходили обнявшись – и беседа, не прекращаясь, лилась и лилась своей чередою.
– Ты дрожишь, – сказал он в заключение, обратясь ко мне и впервые заговорив со мною на ты. – Ты дрожишь от негодования на людскую несправедливость: слагай это в своем сердце.
– Я этого не позабуду, – отвечал я, сжимая до крови ногтями грудь под сорочкой.
Старик остановился и, посмотрев на меня, спросил:
– Какого духа ты теперь исполнен?
– Я умереть хочу за справедливость, – прошептал я.
– О добрый юноша! – воскликнул старик, – справедливость покуда лишь хорошая идея, осуществления которой в толпе нет, точно так же, как не может ее быть у тирана. Смирись перед этим – и поди в кухню и поставь самовар.
И когда я пошел буквально исполнить то, что мне сказано, старик уснул – и я застал его спящим на диване, всего озаренного янтарными лучами заходящего солнца.
«Так-то мирен закат твой, – подумал я, – каков-то задастся он мне?» – и при этом мне вдруг чудилось, что мне еще куда-то надо сбежать отсюда до заката; в открытую форточку врывалась свежая струя и куда-то манила… Куда?.. Но я отвращался от этой взманы и учился, учился все больше и служил моему учителю все покорнее и смиренней. Я с каким-то сладким раболепством исполнял при нем разные послуги: ходил покупать ему нюхательного табаку, бегал на Подол за особыми булками, которые в вечеру выносили на базар две известные в то время киевские пекарки, Поднебесная и Керасовна, и аккуратно чистил клетку его седого бердичевского соловья.
Зато и сам Альтанский не чинился со мною – и в то время, как употреблял меня вместо отдыха на побегушки и ставленья самовара, он сам садился к окну и при свете сумерек или при слабом блеске луны царапал в моей тетради мысли, которые хотел водворить в душе моей, чтобы поставить меня «господином, а не рабом жизни».
Успехи я делал невероятно быстрые, но влияние их на меня было несколько странно; я чувствовал себя очень слабым на моих длинных ножках.
Однако об этом невдалеке речь впереди.
XXV
Отношения maman и Христи являли другую картину; по моим замечаниям, maman не без некоторой горечи видела мое исключительное пристрастие к Альтанскому, но нежно любила его дочь. Однако, как они ни были друг к другу нежны, казалось, что между ними нет той тесноты духовного единения, какая образовалась у нас с Иваном Ивановичем. Чтобы характеризовать их отношения, я могу сказать, что матушка любила Христю, а та ее… тоже любила, но гораздо менее, чем уважала.
Я это замечал и очень сожалел мою бедную maman, у которой была какая-то несчастная привилегия, при всех правах на всеобщую любовь, внушать людям всевозможные возвышенные чувства, кроме одной любви. Ей безусловно верили, на нее полагались, ее уважали, и все от нее ждали поступков самых благородных и прекрасных, но я никогда не знал тех, кто бы ее беззаветно любил настоящею любовью, туне приемлемою и туне даваемою, – единою, как мне кажется, истинною любовью… Мне сдавалось, что матушка это знает, – да и могло ли это быть иначе при той проницательности, с которою она читала в сердцах людей? Я уверен, что это было так, – и этому более всего приписываю ее постоянную тихую грусть, отражавшуюся в ее взгляде.
Прекрасный и в то же время мучительный взгляд этот стал мне особенно чувствителен в то время, когда между мною и Альтанским началось дружеское, сердечное слияние, – и я начал до такой степени страдать от этого взгляда, что однажды, когда мы сидели с maman вдвоем, я вдруг кинулся к ней, схватил ее за руки – и, покрывая их поцелуями, воскликнул:
– Maman, друг мой, отчего вы так грустно смотрите?
Но описанного мною взгляда уже как бы не было: матушка смотрела на меня прямыми, добрыми и спокойными глазами и, поправив мои волосы, поцеловала меня в лоб и сказала:
– О, дитя мое, я совсем не грущу, я знаю, что ты меня много любишь, и я очень счастлива; но ты сам очень много трудишься – и я прошу тебя, оставь книгу и пройдись к Альтанским: посиди с Иваном Ивановичем – это тебя успокоит.
– Нет; я ни за что на свете не пойду от вас, maman, я хочу быть с вами.
– Но, друг мой, мне нужно сходить посидеть вечерок у твоего дяди, а как тебе там нечего делать, то ты можешь с большим удовольствием провести это время у Альтанских, а потом, если хочешь, можешь попозже зайти за мною.
Я хотел возражать, но матушка, закрыв мне с улыбкою рот своею ладонью, поцеловала меня в голову и вышла в свою комнату, чтобы надеть шляпу. Потом я проводил ее до дому дяди, а сам, отправясь к Альтанскому, и не заметил, как время ушло за полночь, и я не поспел проводить maman.
Матушка не сделала мне ни малейшего упрека за это; напротив, спросив: весело ли мне было? и получив от меня утвердительный ответ, она сказала, что очень рада, что я умею находить удовольствие в беседах с таким рассудительным человеком, как старик Альтанский.
Все это у нее выходило так невозмутимо ровно, но во всем этом я чувствовал жгучие мучения ревности и святые, беззаветные уступки любви. Обо всем этом я скорбел и влекся силою неодолимого тяготения по усвоенному направлению – и не мог восполнить потребности любви в благородном и великодушнейшем сердце моей матери.
Мучась тем, что я не могу полюбить ее более, чем умею, я чувствовал безмерную радость, когда брал из рук почталиона и подавал ей в неделю раз письмо из Петербурга, надписанное по-русски, но высоко-немецким почерком: я по предчувствию и по наведению знал, что эти письма приходят от Филиппа Кольберга, – и мудрено было, чтобы я в этом ошибался, потому что при появлении каждого такого письма, приходившего с немецкою аккуратностию в воскресный день, раз в неделю, maman теряла свою внешнюю спокойность – и, перечитывая написанное по нескольку раз, погружалась в тихое, но восторженное созерцание или воспоминание чего-то чудно-прекрасного и… была счастлива.
Я выводил, что когда maman чувствовала себя счастливою— это значит, что она чувствовала себя любимою, и непременно любимою возвышенно, искренно, прекрасно, одним словом, любимою гораздо более, чем любили ее все мы, здесь ее окружающие, и я за это безмерно любил тогда неизвестного мне Филиппа Кольберга.
Но тем не менее я жил все-таки тем же порядком и не умел стать в лучшие отношения к maman. Впрочем, мне ничего иного и не оставалось, потому что матушка сама утверждала этот порядок, столь далеко отступающий от порядка, продиктованного для меня ею в первый день моего прибытия. Я делал усилия изменить это, но безуспешно – ибо хотя я просил ее восстановить именно тот порядок, который она сочинила и который не практиковался, а с самых же первых дней уступил место другому, но матушка решительно отвергла мои представления и отвечала, что это невозможно и не должно быть, потому что нынешний, органически возникший порядок жизни ей кажется гораздо лучше и целесообразнее.
– К тому же, – добавила она, – если бы ты теперь был более со мною, а менее с Иваном Ивановичем, то помимо того, что я не могу принести для твоего развития той пользы; какую приносит он, но мы с тобою поступили бы неблагодарно по отношению к такому достойному старику, как Альтанский, и огорчили бы его.
– Какое же огорчение, maman! – я у него только отнимаю время.
– Нет, мое дитя, это не совсем так, – отвечала матушка, – ты Ивана Ивановича не обременяешь. Поверь мне, что я в этом кое-что понимаю: Иван Иваныч – это то, что в какой-то басне представлено под видом лани, которая, лишась своих детей и имея полное вымя молока, искала какого-нибудь звереныша, чтобы он отдоил это отягощающее ее молоко, – ты для него этот звереныш, и притом очень добрый, а со временем будешь и благодарный.
– Maman, друг мой, но я боюсь, что вы ошибаетесь: у него и без меня такая бездна слушателей в его духовкой академии.
– Это ничего не значит. Там у него слушатели, которым он говорит только то, что обязан говорить по требованиям службы; а тебя он учит, как внушает ему его любовь к просвещению и истине. Ты – счастливец, сын мой: ты имеешь редкого образователя, трудов которого нельзя оплатить никакими деньгами. Дорожи им и уважай его, потому что это такой честный и свободномыслящий человек, значение которого ты поймешь только со временем.
Что мне оставалось делать, как не продолжать катить мою жизнь по тем колеям, на которые она стала, само собою сорвавшись с колей, намеченных для меня матушкой.
Я так и делал: я, если так можно выразиться, все больше и больше прилеплялся к моему наставнику, учился у него с чрезвычайно быстрыми и прочными успехами и заправлялся в беседах с ним на особый лад, который впоследствии привел меня к большому разладью.
XXVI
Слова матушки были справедливы: любя Альтанского, я в ту пору все-таки еще не понимал, коего духа он был человек, – это пришло ко мне гораздо позже, когда его уже не стало. В те же юные мои годы, к которым относится эта часть моих воспоминаний, я ощущал одно, что он был для меня какой-то сосуд, заключающий целебную смесь, которую, однако, надо было пить умеючи, потому что малейшее усиление приема вместо пользы, покоя, здоровья развивало во мне мучительный душевный недуг.
Легкая форма его бесед, с тонкою критикою истории культуры, зароняла во мне мысль, что жизнь современного общества, которая делалась доступною моему ведению, идет не по тому течению, которое может вывесть человечество к идеалу. Идеал этот представляло мне христианство, которое все будто бы уважают, но к которому, однако, никто сильно и искренно не стремится. Что это за ложь? как повернуть, чтобы это пошло иначе?
Альтанский мне об этом пока еще ничего не говорил, но я из наведений заключал, что выплыть к этому идеалу можно только гребя против уносистого течения себялюбивых, низменных страстей.
Это – образец тревоги от бесед; но злополучная натура моя разыгрывалась так, что ее преисполняли тревогой даже самые строгие занятия точными науками. Что бы я ни постигал, в голове моей вдруг мгновенно зарождалась беспокойная мысль: а что, если к этим уже известным мне положениям возникнет такое или иное неизвестное? И я начинал об этом думать и наяву и в сновидениях. Иные из этих беспокойств занимали меня так сильно, что задумчивый вид мой, который я принимал под их неотступным давлением, обращал на себя внимание матушки – и она, вся бледная и встревоженная, говорила:
– Боже мой! что такое делается с тобою, дитя мое?
– Ничего, maman, – отвечал я, – я не могу себе кое-чего решить.
– Чего? скажи мне, что ты хочешь себе решить?
Я конфузился, но большею частию открывал, что меня тревожит.
Это всегда был более или менее вздор, но порою довольно оригинальный.
Так, я помню, что вскоре же после начала моих занятий с Альтанским, когда он поправлял мои познания в географии, я впал в задумчивость оттого, что никак не мог себе представить: как привести в соотношение с действительным временем часы в кармане путешественника, если этот путешественник поедет вокруг света по дороге, которую проложить прямо вдоль по равноденственной линии? Как: тогда сколько ни уходи время, а всё должен быть полдень… всё двенадцать часов…
Мой череп ломило от этого целый день – и я едва мог успокоиться и позабыть эту головоломную по тогдашнему моему состоянию дилемму.
Позже, когда мы начали заниматься историею и все опять шло как нельзя лучше, мне опять пришло в голову:
«Ну, прекрасно, – думал я, – теперь, когда свет простоял вот такое-то количество лет, человек в течение своей жизни может изучить историю человечества и передавать ее другому. Но ежели же сегодняшний момент жизни есть только утро существования нашего рода и впереди стоят миллионы миллионов лет… Какая же голова в конце этого долгого века будет в силах выучить и удержать в памяти все, что случилось от доисторических времен? К чему тогда весь летописный труд, архивы, к чему сама история и жажда знаний, когда всего этого позднейший человек не в состоянии будет усвоивать? а что он будет не в состоянии – это верно», – и… – опять головная боль, досада и беспокойное томление до полного упадка духа.
Наконец, однажды я окончательно испугал мать: это случилось тотчас, чуть я только коснулся логики и философии. Я опять зафантазировался – и когда матушка умоляла меня рассеяться, я, после продолжительной потери аппетита и глубочайшей сосредоточенности в себе, открылся ей, что терзаюсь неотвязною мыслию: отчего все умные люди не соберутся в одно место и не устроят такого государства, где бы или государь философствовал, или же бы где философ царствовал.
Выслушав эти слова, maman посмотрела мне в глаза и сказала, что мне решительно надо отдохнуть от наук.
Я выразил недоумение и заметил ей, что я не устал.
– Не устал, но у тебя слишком беспокойно разыгрывается воображение.
– Чего же вы боитесь, maman, моего воображения?
– Я боюсь… Да, я кое-чего боюсь.
– Но бога ради: чего именно? скажите мне, изъясните мне вред моего беспокойного воображения, – может быть, мне это поможет.
– Вред беспокойного воображения заключается в том, что оно создает призраки, и с ним ничего нельзя знать основательно.
– О, вы правы, maman!
И я схватил обеими руками свою голову – и, облокотясь на стол, залился горькими слезами. Матушка встревожилась.
– Какая причина твоего отчаяния? – запытала она, отнимая руки мои от лица.
– Матап, вы верно сказали: я никогда не буду ничего знать основательно – я это чувствую, и это меня убивает.
Она старалась меня успокоить тем, что знания не даются вдруг, а на приобретения их нужно продолжительное время; но я не внял сим утешениям: я чуял правду.
– Нет, нет, – отвечал я, давяся слезами, – не утешайте меня, maman: я никогда этого не достигну… Вы сами сказали, что у меня беспокойное воображение, и я никогда… никогда… не буду ничего понимать ясно.
И тут уже я так разрыдался, что матушка бросилась поить и брызгать меня водою, меня раздели и положили в постель, в которой я опомнился через полтора месяца, изнеможденный, бледный, худой, с обритым теменем и растравленными ранами на спине и на затылке.
У меня было воспаление мозга, и я несколько дней находился на краю гроба; молодая натура моя вынесла эту опасную болезнь – и я после кризиса очнулся, но неблагонадежные тонкие ноги не в силах были держать моего исхудалого тела, и распаленная страстною жаждою знаний голова моя была не в силах работать.
Я лежал в постели, пользуясь безотходным вниманием матери и Христи, которые поочередно не оставляли меня ни на минуту, – и в это-то время, освобожденный от всяких сторонних дум и забот, я имел полную возможность анализировать взаимные отношения этих двух женщин и уяснить себе Христин роман, на который натолкнулся в первое время моего приезда и о котором позабыл в жару рассказа о своих ученых успехах.
Теперь время это поправить и рассказать кстати о деятельности моего интересного приятеля, пана Пенькновского, с которым тоже этой порою стряслись немалые беды.
XXVII
Я начну не по порядку, то есть с Пенькновского.
Напоминаю читателю, что мы в последний раз видели этого находчивого юношу на улице, тотчас после того, как известный ему дворянский заседатель, пожертвовав сто рублей, хотел быть королем публики и, потрясенный этим открытием, Пенькновский возымел намерение поцеловать Христю Альтанскую, а потом напиться глинтвейну.
С тех пор Пенькновский бывал у нас нередко; но я, при своих постоянных увлечениях то романами, то ученостию, решительно не могу дать отчета, как он появился в нашем доме, несмотря на то, что оставался при убеждении, будто он предлагал поцелуй maman. Кажется мне однако, что maman сама облегчила ему его затруднительное положение: делая однажды свою послеобеденную прогулку вблизи дома, она встретила Пенькновского, и, попеняв ему, что он нас позабыл, зазвала его напиться чаю. Мне помнится, будто он рассказывал что-то в этом роде, но наверное помню только то, что однажды мы с Иваном Ивановичем, окончив свои занятия, пришли вместе к нам и, снимая в сенях калоши, услыхали чей-то громкий голос. Альтанский, который терпеть не мог встречи с новыми людьми, хотел было сейчас же уйти, но, к счастию, я, прислушавшись, узнал голос Пенькновского, и мы вошли.
Когда я отворил дверь, Пенькновский стоял посреди комнаты и старался в одном лице изображать несколько лиц, соединенных в одной общей сцене.
Он помещался спиною к двери, в которую взошли мы, и, обращаясь к сидевшим на диване матушке и Христе, говорил:
– Вот так, смотрите: отец шел вот так по той дорожке, а Б… вот так по этой… Тут они встретились, поговорили, и Б… его взял за усы и повел… Вот по аллее, вот точно таким образом.
При этом Пенькновский взял себя левою рукою за губу – и, подвигая перед собою вперед эту руку, тянулся за нею, как бы нехотя, по комнате.
– Вот, – картавил он по причине зажатой в руке губы, – вот как он вел: но тут мой отец вдруг вот так…
Пенькновский освободил губу, поцеловал свою руку и весело расхохотался.
Христя тоже смеялась, но maman казалась смущенною и, ничего не ответив, заговорила о чем-то с Альтанским. Ей, кажется, очень не хотелось, чтобы Пенькновский продолжал свой рассказ, и тем более, чтобы он повторял его при Альтанском; но мой друг был не из таковских, чтобы его удержать, – и чуть только я успел ему заметить, что давно его не видал, как он сейчас же захохотал и понес:
– Когда тут, любезный друг, видеться! Я вот сейчас только рассказывал, что с нами было…
Maman встала и вышла в свою спальню, а Пенькновский весело продолжал:
– Ты ведь помнишь, о чем я тебя просил никому не сказывать?
– Помню.
– Ну так это теперь более не секрет, потому что с такими негодяями, как дворянский заседатель, ничего нельзя делать. Ты помнишь, что он за свои сто рублей хотел быть королем?
– Помню.
– Вообрази же, что он, мерзавец, выдумал: пользуясь тем, что он имеет деревню, он составил против нас аристократическую партию, чтобы осмеять отца, – и когда мой отец выходил из костела, их несколько человек подскочили к жандарму, который зовет экипажи, и говорят: «Зови Войцицкого кочь!» – это заседателя. Тот позвал; а они опять: «Зови пана Кошута калоши!» – Тот, разумеется, и пошел во всю глотку орать: «Пана Кошута калоши под-д-да-а-ва-а-ай», а отец соскочил с крыльца да хлоп заседателя в морду. А тот к полицеймейстеру, и рассказал, что мой отец похож на Кошута, а полицеймейстер Б…, а Б… встретил отца на гулянье в саду, взял рукой вот так за усы: «Пане Кошут, говорит, что это у вас такое?», а отец мой – он ужасно какой находчивый – он нимало не смешался и говорит: «Это вата», а тот его прямо за усы и повел перед всей публикой по аллее.
– Будто так прямо за усы и повел? – переспросил удивленный Альтанский.
– Честное слово вам даю, совершенно взял вот так за усы, но отец его в руку…
– Укусил или плюнул?
– Поцеловал! – с гордостью воскликнул Пенькновский.
Альтанский отошел к окну и громко щелкнул по табакерке.
– О, он ужасно находчив: он поставил Б… в самое мудреное положение – тот его сейчас и выпустил.
– Ваш отец молодец, – протянул Альтанский и забурчал: «Наш отец, молодец, сел в конец, взял ларец», и, вдруг повернувшись лицом, добавил: «Прощайте».
С этим он всем нам подал руку и торопливо и наскоро, кроме одного Пенькновского, руку которого он пожал теплее и с видимым участием. И странное дело: это участие, которое, разумеется, не скрылось от взошедшей в минуту прощания maman, было как бы поводом к тому, что она вдруг сделалась гораздо суше в обращении с Пенькновским и во все остальное время, пока он тут вертелся, даже избегала вести с ним разговор.
Таковы были эти два лица: моя мать и Альтанский, на которых я смотрел как на образцы. Имея одни и те же симпатии и антипатии, они, однако, ни в чем не могли сойтись, как скоро доходило до дела, и при горячей любви друг к другу и взаимном уважении к одним и тем же принципам и идеям они отвращались от всякого взаимодействия в духе этих идей.
Мать моя была не одна возмущена тем, что Б. провел за усы киевского Кошута, – Альтанскому это было еще более противно; но как матушка этим возмущалась, то Альтанский старался скрыть свое негодование и рифмовал «отец, молодец, наконец и ларец». С другой стороны, матушка, презирая ничтожный польский характер, отразившийся между прочим в поступках старого Пенькновского, всегда считала обязанностью относиться к полякам с бесконечною снисходительностию, «как к жалкому народу, потерявшему национальную самостоятельность», что, по ее мнению, влекло за собою и потерю лучших духовных доблестей; но чуть только Альтанский, питавший те же самые чувства, но скрывавший их, дал волю своему великодушию и с состраданием пожал руку молодому Пенькновскому, который кичился позором своего отца, – матери это стало противно, и она не могла скрывать своего презрения к молодому Кошуту.
Христя, когда мы с нею были одни, часто смеялась над этою страстью наших стариков противоречить друг другу.
Впрочем, и мы с Христею были в некотором смысле то же самое, что ее отец с моею матерью: я дружески полюбил ее с первой же встречи с нею и очень высоко чтил ее, но мы не сходились теснее, чем мною описано. Эта малороссийская девушка с характером глубоким, сильным и сосредоточенным была со мною очень ласкова, и, как, вероятно, читатели помнят, она даже сама предложила мне свою дружбу; но я пользовался ее дружелюбием, а никакими правами дружбы от нее не пользовался – и это незаметно, но скоро меня от нее отодвинуло. Мы с нею встречались всегда искренно и даже с радостью – и говорили обо всем, кроме того, о чем мне сначала очень бы хотелось с нею поговорить, то есть о ней самой и о ее любви к Сержу. Но этого никогда не случалось, – сначала я не смел к этому приблизиться, а потом у меня явилось опытное заключение, что Христя, при всех своих достоинствах, о которых говорила моя мать и которые я сам признавал в ней, была страшно горда и ни под каким видом никому не позволила бы прикоснуться к ее горю. В этом заключалась разъединявшая нас разница: я любил высказаться и искал сочувствия; она любила молчать и ничьего сочувствия не требовала. Та откровенность, которую я мог заметить у нее в отношении к maman в первые дни моего приезда, была коротким, временным явлением, вызванным роковым значением тогдашней критической минуты, – но и то это была не откровенность, а совсем другое. Решась по особым, достойным внимания причинам разорвать свою условленную свадьбу с Сержем, Христя искала в maman даже не поверки своих мыслей, а орудия; но раз что она, терзаясь и мучась, как я описал, все это исполнила, в обхождении ее с maman произошла быстрая перемена: Христя бесцеремонно замкнулась в самой себе. Было время, было несколько таких дней, когда мне казалось, что Христя даже избегала свиданий с матушкой и переносила их с большим для себя принуждением; maman, несомненно, это замечала и казалась огорченною. Однако же это прошло – и у моей постели обе они снова между собою сблизились. Не знаю, было ли у них какое-нибудь объяснение, но я застал между ними полнейшую bonne intelligence,[15] хотя мой глаз, или, вернее сказать, мое чувство, приученное уже во всем видеть недостаток гармонии, открывало мне и здесь что-то не то, что бы мне хотелось видеть в их взаимных отношениях. Мне сдавалось, что Христя позволяла себя ласкать maman не по потребности сердца, а только как бы из снисхождения к обычаю и потому что это ей ничему не мешало.
Скоро явилась возможность убедиться, что я не ошибаюсь на этот счет, – и я запишу здесь открытия, какие являл мне сложный характер этой девушки, втихомолку разыгравшей свой страстный роман в то время, когда все мы считали его безвозвратно поконченным и даже позабытым ею самою.
XXVIII
Много ли, мало ли времени прошло с тех пор, как я был свидетелем разлуки Христи с Сержем, но у нас в доме никогда не говорили об этом человеке, и я ни разу не слыхал, чтобы сама Христя произносила его имя. Прошел год и половина другого, как вдруг я однажды неожиданно услыхал в канцелярии, что племянник моего генерала женится на одной очень богатой девушке из довольно знатной фамилии.
Меня это заинтересовало, и я, пустясь в расспросы, узнал, что предполагаемая невеста Сержа считается очень высокою и даже лестною для него партиею, которой этот молодец ни за что бы не сделал, если бы в устройстве этого брака не принимало участие самое высшее лицо в городе, имевшее особое попечение о матери Сержа. Все это я не преминул, возвратясь домой, сообщить моей матушке и был немало удивлен, что она выслушала мое донесение как весть неприятную, но давно ей известную; она сдвинула с неудовольствием брови и сказала:
– Только будь, сделай милость, осторожен и не говори об этом ни одного слова при Христе.
Maman, однако, сделалась очень озабочена: вечером этого дня она куда-то ходила и не возвращалась довольно долго, так что пришедшая без нее Христя не дождалась ее. Мы пили с Христей чай двое и напрасно искали нашего серебряного сливочника и сухарницы, которые стояли на горке, но которых теперь там не было. Затем Христя так и ушла, не дождавшись maman, a maman, возвратясь около одиннадцати, показалась мне еще более взволнованною и сказала:
– Знаешь, сын мой, мне необходимо съездить по нашим делам в Одессу.
– Надолго, maman?
– Нет, недели на две или на три; но мне немножко нездоровится, и я боюсь ехать одна, а тебя мне жаль отрывать от твоих занятий; я хочу просить Христю: верно, она не откажется со мною прокатиться.
– Да, я думаю, что она не откажется, – отвечал я, – она вас здесь ждала, и мы с нею пили чай.
– Ах, вы уже пили чай!..
– Да, пили; но только никак не могли найти сливочника и сухарницы. Где вы там их поставили?
Maman как будто немножко смешалась и, ответив скороговоркою:
– Все равно: они отыщутся, – поцеловала меня в лоб и ушла в свою комнату.
Я не сомневался, что она пишет письмо к Филиппу Кольбергу – и, по обыкновению, заснул прежде, чем у ней погас огонь. Утром я получил для отправления письмо, надписанное тому, кому я догадывался.
Все время, проведенное мною в этот день на службе, я продумал об этом моем знакомом незнакомце, об этом Филиппе Кольберге, без отчета которому моя maman не проводила ни одного дня и регулярно получаемые письма которого всегда брала трепещущей рукою и читала по нескольку раз с глубоким и страстным вниманием, а иногда даже и со слезами на своих прекрасных глазах. Характер этих отношений никогда не переставал интересовать меня, а в этот день я был почему-то особенно ими занят и в таком настроении прямо со службы зашел к Альтанским. Христя была дома одна и шила.
Мне она с первого взгляда показалась очень спокойною и даже веселою, но чуть я полюбопытствовал: знает ли она, что maman хочет просить ее съездить с нею в Одессу, в ней произошла самая неприятная перемена: она двинула своими прямыми бровями и резко ответила:
– Да, я это знаю: Катерина Васильевна уже приходила ко мне с этим великодушным предложением.
– Что же: вы, конечно, едете?
Но Христя вдруг вся вспыхнула от этого невинного вопроса и проговорила:
– С какой же это стати?.. Напротив, я вовсе не еду: на мне еще не лежит крепостной обязанности исполнять все, что нравится вашей maman.
Этот тон и грубая форма ответа до того смутили меня, что я начал извиняться за мой вопрос и потом нетвердо проговорил:
– Поверьте, Христя, maman, вероятно, никак не думала вас огорчить этим предложением: я думаю, что ей только хотелось соединить свое удовольствие с удовольствием, которое эта поездка могла принести вам… Вы ее извините: она добрая.
– Очень добрая, только обо всем у Филиппа Кольберга спрашивается, – перебила Христя с тем же худо сдерживаемым азартом.
Это имя прозвучало для моего слуха каким-то страшным глаголом и мучительно отозвалось в моем сердце: я хотел броситься на Христю… и не знаю, что сделать с нею, но потом сдержал себя и только взглянул на нее с укоризною. Христя, конечно, поняла мое состояние и поспешила поправиться.
– У Катерины Васильевны самое главное дело во всем этом поступить великодушно и написать об этом Филиппу Кольбергу.
Я молчал и нетерпеливо мял в руках мою фуражку. Христя продолжала тоном, который зазвучал еще мягче:
– Вы разве не знаете, что все, что делается с людьми, которые имеют счастие пользоваться каким-нибудь вниманием вашей maman, должно быть во всех подробностях известно какому-то господину Филиппу Кольбергу? Вы его знаете?
– Не знаю.
– И я не знаю; а между тем он есть, он существует – и правит и вами и мною.
– Я знаю только то, что моя мать в переписке с человеком, носящим имя, которое вы сейчас назвали… но что мне за дело до того, о чем эта переписка? Я моей матери не судья.
– О боже! Да ее не в чем и судить!.. Успокойтесь, друг мой, я понимаю, что я говорю с сыном о матери! И потому-то я так и говорю, что я знаю, что Катерина Васильевна не может быть судима: она превыше всякого человеческого суда, но…
Христя развела руками и, вздохнув, добавила:
– Но не слушайте меня, пожалуйста, я говорю вздор, потому что мне тяжело.
– Что же вас тяготит?
Христя пожала плечами и, вновь схватив свою на минуту отброшенную работу, тихо уронила:
– Так… сама не знаю… Людям, пока они живы, тяжко с ангелами.
И она, прилегши лицом к шитью, начала откусывать нитку, а сама плакала и горела.
Я глядел на нее и перестал сердиться.
«Что же, – думалось мне, – она говорит то самое, что не раз против воли вертелось в моей собственной голове: моя maman превосходная женщина, но она так высока и благородна, что с ней именно тяжело стоять рядом».
– Ее превосходство как-то давит меня, – проговорила в это время, словно подслушав мою мысль, Христя.
Я встрепенулся.
– Меня, меня, одну меня! – повторила с ударением, стянув узелок, Христя. – Это не может касаться никого другого, кроме меня, потому что я… презлая и прескверная.
Она вздрогнула и замолчала.
– Maman вовсе вас не считает такою и очень вас любит, Христя.
– Знаю.
– И потому она к вам участлива, может быть, более, чем вы хотите.
– Знаю, все знаю, и я совсем не участием тягощусь: оно мне дорого, и я люблю ее… но…
– В чем же дело?
Христя вся вспыхнула и, быстро сбросив на пол работу, вскочила с места – и, став посреди комнаты, закрыла глаза, не ладонями, а пульсами рук, как это делают, плача, простонародные малороссийские девушки.
– Все дело в том, – воскликнула она, – что я люблю, люблю без разума, без памяти люблю!..
Эти слова были вместе вопль, стон и негодование души, не одолевающей силы своей страсти.
– Меня надо не жалеть, а… проклясть меня! – заключила она, дернув себя за волосы, и упала головою в угол кресла.
XXIX
Я, разумеется, поняв, что речь, сделав такой рикошет против воли автора, касается не любви Христи к моей maman, а чувств ее к другому лицу, сказал:
– Христя! милая Христя!.. прошу вас – успокойтесь! Может быть, все устроится.
С этим я подал ей воды, которой она выпила несколько глотков и, возвратив мне стакан, поникла головою на руку и, крепко почесав лоб, проговорила:
– Ничто не может устроиться: я сама все расстроила.
– Зачем же вы расстроили?
– Так было надо: ваша maman все знает. Так было надо… и я о том не жалею; но когда мне по нотам расписывают: как это надо терпеть, – в меня входит бес, и я ненавижу всех, кто может то, чего я не могу… Это низко, но что с этим делать, когда я не могу! Я им завидую, что они дошли до того, что один пишет: «Gnaedige Frau»,[16] а другая, утешаясь, отвечает: «Ich sehe, Sie haben sich in Allem sehr vervollkommnet».[17]
Христя произнесла обе эти немецкие фразы с напыщенною декламацпею, с какою говорят немецкие пасторы и актеры, и, нетерпеливо топнув ногой, докончила:
– А я родом не така! Да, я не такая, я этого не могу: я оторвала от сердца все, что могла оторвать; а что не могу, так не могу. Отказаться можно, а перестать любить нельзя, когда любится.
– Это правда.
– Ага! вот то-то и есть, что правда! А любишь, так никак себя и не усмиришь.
– Да и не усмиряйте.
– Да я и не стану. О, вы мне поверьте! – добавила Христя, неожиданно улыбнувшись и протягивая мне руку: – вы непременно будете несчастный человек, да что же! – это и прекрасно.
Я рассмеялся.
– Да, так, – продолжала Христя. – Да и о чем хлопотать: все равно и они несчастны. Они прекрасные люди, только немножко трусы: им все Erwägung[18] снится, а все это вздор; мы будем смелее, и пусть нас не уважают. Не правда ли? Если мы никому не делаем зла, – пусть нас не уважают, а мы всё будем любить то, что любили. Так или нет?
– Право, Христя, не знаю.
– Вздор; убей меня бог, знает! – отнеслась она безлично с веселыми, вверх устремленными глазами, которые вслед за тем быстро вперила в мой взгляд и с комическою настойчивостью произнесла:
– Dites moi tout се que vous aimez.[19]
– Tout le monde,[20] – отвечал я.
– Ну а я этот tout le monde терпеть не могу: лживый, гнусный, лицемерный – ни во что не верит и все притворяется… Фуй, гадость! Я люблю знаешь кого?
Я кивнул головой.
– Да, – отвечала на этот знак Христя, – я его люблю – очень, очень люблю; а он скверный человек, нехороший, чепурной, ему деньги нужны, он за деньги и женится, но со мною бы никогда не был счастлив, потому что я простая, бедная… Да, да, да… он только не знал, как от меня отвязаться… Что же, я ему помогла!
– Я это знаю, как вы сделали.
– Знаешь?!
– Да.
Я рассказал ей, как подсмотрел и подслушал ее разговор с Сержем.
– Ну да, – отвечала она спокойно, – я все ему соврала на себя. Никого я, кроме его, не люблю, но это так нужно, пусть его совести полегчает. Ему нужно… Он не может не жить паном – и пусть живет; пусть его все родные за это хвалят, что он меня бросил. А они врут, бо он меня не бросит; бо я хороша, я честная женщина, а его невеста поганая, дрянная, злая… тпфу! Он не ее, а меня любит; да, меня, меня, и я это знаю, и хоть он какой ни будь, а я все-таки его люблю, и не могу не любить, и буду любить. И что мне до всякого Erwägung? Тпфу!.. я над собой вольна и что хочу, то и сделаю.
Я несмело спросил: что такое она хочет сделать? Но Христя молча улыбнулась и, сделав гримаску, сказала:
– Вот я яка!..
Она обращалась со мною странно: вполовину как с ребенком, лепету которого не придают большого значения; вполовину как с другом, от которого ждала сочувствия и отзыва.
Эта откровенность после пасмурной речи, которою начался наш разговор, увлекала меня за Христею в ее внутренний мир, где она жила теперь вольная, свободная и чем-то так полно счастливая, что я не мог понять этого счастья.
– Полно же; слышите вы: годи нам журитися – пусть лихо смеется!.. Он женится… он женится, – повторила она как бы с угрозою и, стукнув рукою, добавила: – а ко мне вернется.
Этот вечно памятный мне разговор с Христей, который она вела со мною под тягостнейшими впечатлениями своей неласковой доли и притом незадолго до катастрофы, которую пророчески назнаменовала себе, произвел на меня такое сильное впечатление, что когда я пришел домой, матушка, сидевшая за писанием, взглянув на меня, спросила:
– Ты видел Христю?
– Да, maman.
– Что с нею?
– Кажется, ничего.
Maman вздохнула, хрустнула тонкими пальцами своих рук и приказала подавать мне обедать, сама не села за стол, но продолжала писать.
«Конечно, к Филиппу Кольбергу, – подумал я, впервые сидя один за обеденным столом. – Верно, Христя с матушкою говорила еще откровеннее, чем со мной, – и вот эта теперь все описывает. Что это, в самом деле, за странная переписка?»
Я уже в глубине души словно смеялся над этою перепискою – и, получив на другой день конверт со знакомою надписью, подумал, что если в самом деле матушка заботится о том, чтобы всех, кого она любит, воспитывать и укреплять в своем духе, то она едва ли в этом успевает. По крайней мере Христя серьезно шла бунтом против ее морали, да и я чувствовал, что я… тоже склонен взбунтоваться.
XXX
Так как Христя решительно отказалась ехать в Одессу, то и матушка туда не поехала – и наш серебряный молочник с сухарницею, отправлявшиеся гостить к занимавшемуся ростом помощнику письмоводителя рекрутского присутствия, через месяц возвратились назад, а к этому времени подоспела и свадьба Сержа, которой maman, кажется, совершенно напрасно опасалась для Христи. Эта мудреная девушка более уже не впадала в такую раздражительность, какую я описал в предшествовавшей главе. Напротив, Христя вела себя чрезвычайно ровно и даже казалась очень спокойною, но только она как будто бежала из своего дома и все старалась оставаться как можно более у нас.
Maman, разумеется, была с ней в крайней степени предупредительна и ласкова – и в это время сделала шаг к иным отношениям со мною. Однажды, когда Христя ушла с отцом домой, maman сказала мне:
– Ты уже в таких летах, дитя мое, что я могу тебе рассказать историю нашей бедной Христи. Она превосходная, благороднейшая и очень гордая девушка.
– Я это знаю, maman.
– Да; она когда-то, до твоего приезда, часто бывала у твоего дяди и там встречалась с Сержем. Ты видишь, что она почти красавица, – и Серж не мог ее не заметить…
– Еще бы, maman!
– Да, он оценил ее достоинства и полюбил ее.
– Я все это знаю, maman.
– Знаешь? Ну, прекрасно! Но этот брак не мог состояться, потому что и мать Сержа и твой дядя желали ему другой партии, которую он теперь и делает. Это так выходило нужно по их соображению.
– Да, – отвечал я, – им нужно взять богатую невесту и породниться с большими домами.
– Может быть; но я должна сказать, что Серж был довольно благороден и он не хотел этого брака, а уступил только настояниям и обстоятельствам…
– То есть это так, maman, что Христя сама его обманула.
Maman взглянула на меня с удивлением и после маленькой паузы отвечала:
– Да; но ты, однако, знаешь более, чем я предполагала. Христя поступила возвышенно, великодушно и благоразумно, потому что мать Сержа считала бы брак сына с нею семейным несчастием… У них запутаны дела, и его мать… она через это лишилась бы возможности поправить их расстроенные дела.
– Но позвольте, maman, ведь это низко?
– Да, мое дитя, это не высоко; но зато Христя поступила очень благоразумно и великодушно, что отказалась от Сержа.
– Почему, maman? он ее любит.
– Потому, что у него натура похожа на придорожную землю в притче: он ее любит, и теперь он ее может любить как недосягаемое и прекрасное; но если бы она была его, он начал бы сожалеть о выгодах, приобретаемых его нынешней женитьбой.
– Так он пустой человек?
– Да; он ее не стоил.
– Но она не перестает и не перестанет его любить.
Maman опять приостановилась и, еще более удивляясь, сказала:
– Мой сын! но откуда тебе это все известно?
– От самой Христи, maman.
– От самой Христи? Я думала, что ты так проницателен, – и хотела сказать, что ты, может быть, ошибаешься, но если Христя тебе сама сказала…
– Да; она мне это сказала.
– Ну, в таком случае ты знаешь гораздо более, чем я, – отозвалась maman – и она мне показалась в эту минуту чрезвычайно жалкою, как будто для нее в жизни все кончено и она отрешена от нее. Так она была чутка и так немного надо было, чтобы причинять ей чувствительнейшие раны.
Тут вскоре была Сержева свадьба, на которой maman не была по причине ее весьма основательной болезни; но, однако, мы об этой свадьбе имели самые подробные сведения от друга моего Пенькновского: он попал туда как-то в качестве ловкого танцора и оказался большим наблюдателем, а также талантливым, и притом весьма правдивым, рассказчиком. Принесенный им к нам отчет был так полон, что мы знали всё, начиная от мелочей столового меню до путешествия Пенькновского под стол, что случилось с ним будто бы в жару танцев и не по его, конечно, воле, а потому что он разлетелся, и у него лопнула штрипка, и он упал. О женихе и невесте он не говорил ни слова – и это было очень удобно: Христя, слушавшая рассказ Пенькновского о его падении под стол, помирала со смеха, точно все это было не на Сержевой свадьбе. Так все это прекрасно разыгрывалось, что лучше и желать было невозможно. Молодые уехали в деревню, потом переехали в город, и снова откочевали на лето в деревню, и опять появились на зиму в город. Ушли два года, в течение которых утекло немало воды: Христя постарела, пожелтела и поблекла; у меня вокруг всего лица засел мягкий, но густой пушок, довольно красиво оттенявший мои смуглые щеки; а кто более всех и выгоднее всех изменился в эти года, так это Пенькновский; он стал атлет и красавец, приобрел себе массу знакомств и усвоил большую обходительность. Меня он считал самым жалким ничтожеством и, обращаясь со мною свысока, обыкновенно подавал мне два пальца. Христю не только не тревожили, но даже, по-видимому, вовсе не занимали странные известия, которые начал доставлять нам из дома Сержа Пенькновский, имевший счастие обратить на себя внимание Сержевой матери и учинившийся у нее каким-то секретарем фактотумом. Пенькновский доносил, что дела у молодых пошли неладно, что супруга Сержа своевольна, зла, капризна и самовластна.
– A do tego wsczystkiego trzeba wam dodać, ze ona jest i bardzo glupa,[21] – говорил Пенькновский, привыкший уже считать себя поляком.
Это были общие характеристики, но вслед за тем Пенькновский появлялся к нам от времени до времени, никем не прошенный, сообщал нам скандалы и частного свойства, между которыми иные были весьма возмутительны и представляли положение Сержа очень жалким; но сам Серж, кажется, никому ни на что не жаловался и тщательно скрывал от всех свое горе.
Со временем он, вероятно, несколько попривык к своему положению, а чужие люди перестали им интересоваться. Так ушли еще два года, как опять внезапно к нам появился Пенькновский и сообщил при Христе, что жена Сержа, заплатив какой-то значительный долг за него или за его мать, сделала ему столь сильную неприятность, что он схватил шапку, выбежал вон из дома и не возвращался до утра.
– И это у них теперь часто будет повторяться, – заключил Пенькновский, и заключил не опрометчиво, потому что один раз вскоре после того, идучи вместе с Христей, мы заметили впереди себя одинокую фигуру, в которой Христя не замедлила узнать Сержа и, сжав мою руку, дала знак идти тише.
Мы прошли за ним в небольшом от него расстоянии несколько улиц. На дворе был поздний серый вечер, покрапывал дождь, и улицы были почти пусты. Серж шел тихо, понурив голову и часто останавливался; – мы всё издали за ним следовали – и я не заметил, как очутились в улице, где была квартира Альтанских.
И что же? Серж, взойдя в эту улицу, тихо пошел по противоположной стороне и, наконец, остановился под темным забором.
Христя вздрогнула – и через минуту, схватив меня за руку, тихо скользнула в свою калитку, вбежала в комнату и, схватив карандаш и бумагу, написала дрожащею рукою несколько строк и подала их мне с словами:
– Идите и отдайте это ему.
– То есть Сержу? – переспросил я.
– Да; то есть ему, – повторила она, снова меня передразнивая, – подите и отдайте! Или нет, стойте: вы не слуга мой, а друг, и потому вы должны знать, чтό вы несете.
Она вырвала из моих рук записку, развернула ее и сказала:
– Прочтите.
Я прочел следующее:
«Если вы несчастливы и я могу что-нибудь для вас сделать, то я ни перед чем не остановлюсь. Я хочу вас видеть».
– Да, пусть он ко мне придет. Что вы на меня так смотрите?
– Я ничего…
– А ничего, так идите и скажите, чтобы он к нам пришел… по-старому… завтра… я его ждать буду.
И с этим она повернула меня и почти насильно выпроводила за двери.
Серж по-прежнему стоял на улице, но когда я стал приближаться, он тронулся с места и хотел уйти. Я ускорил шаг и, нагнав его, слегка тронул его за руку и подал письмо, которое он взял молча и нетерпеливо бросился с ним к фонарю.
Меня душили слезы: я чувствовал, что сейчас, сию минуту, совершится какое-то великое и тяжкое горе, и, тихо зарыдав в рукав, побежал домой, чтобы ничего более не знать и не видеть.
XXXI
Описанное мною событие имело свои большие последствия, которые не могли долго скрываться: Серж сделался ежедневным гостем дома Альтанских, он у них обедал, у них сидел вечера и вообще проводил у них почти все свое время.
Я очень скоро узнал об этом, но молчал и ничего не говорил maman, от которой это также не скрылось и заставило ее сильно страдать. Она была так сконфужена, что даже перестала писать Филиппу Кольбергу, а только стала очень часто нюхать спирт и проливать на сахар гофманские капли. К этому подоспела простуда, и maman заболела. Тут Христя меня удивила: она была до того к нам невнимательна, что даже не приходила навестить maman. С того вечера, как я отдал Сержу ее записку, она почти совсем не появлялась в нашем доме, но старик Альтанский ходил к нам по-прежнему, и в нем вообще не было заметно ни малейшей перемены ни в каком отношении: он был так же спокоен, так же, как и прежде, шутил и так же занимался со мною классиками и математикой.
Частые визиты женатого Сержа к Христе, по-видимому, не смущали старика и даже, может быть, совсем не останавливали на себе его внимания, как некогда не останавливало внимания исчезновение этого молодого человека. Христя теперь, как и всегда, пользовалась неограниченнейшею свободою – и я страшился, что покровительствуемая этою свободою страстная ее любовь, вероятно, сделала в это время большие и бесповоротные шаги. Наблюдая мою мать, я подозревал, что и она опасается точно того же. Мне даже казалось, что это, собственно, было и причиною ее болезни.
Я и не ошибался.
Однажды Альтанский присел после занятий со мною к изголовью maman, сказав:
– Ах, я и позабыл: у меня есть к вам записочка от дочери.
И он подал maman распечатанную записку, которую та взяла дрожащими руками и, пробежав ее, потребовала у меня свой бювар, сунула туда полученную записку и, написав ответ, велела мне его запечатать.
Я взял бювар в свою комнату и имел нескромность прочесть и Христину записку и материн ответ. Христя писала следующее:
«Катерина Васильевна! Вы должны иметь обо мне самое дурное мнение, и мне хочется сказать вам, что я его вполне стою: я пропала! Мое последнее поведение всякому дает право думать обо мне как о самой недостойной женщине – и я сама прежде всего считаю себя недостойною доброго расположения и сообщества такой почтенной и горячо мною любимой женщины, как вы. Вот почему я не иду к вам – и, зная, что вы больны по причине, которую боюсь отгадать, решилась просить вас об одном: не считайте меня холодною и неблагодарною, не умеющею понимать и ценить вашей расположенности».
Maman на это отвечала коротким словом: «Приди ко мне, друг мой, моя милая Христя, я люблю тебя, я жду тебя со всем нетерпением и встречу тебя с верным тебе сердцем».
Я запечатал это письмо и отдал его Альтанскому, а не более как спустя один час в сенях наших дверей послышался стук щеколды, и в дверях залы появилась Христя.
Она была одета очень небрежно, в каком-то старом черном изношенном платье, и покрыта с головы таким же черным платком; но лицо ее, хотя и было бледнее обыкновенного, казалось спокойным и даже счастливым.
Застав меня одного в зале, она, ни слова не говоря, подала мне руку, улыбнулась и поцеловала меня в лоб; я ей хотел что-то сказать, но она закрыла мне рот и пошла скорыми шагами к матушкиной комнате, но вдруг на самом пороге двери остановилась, закрыла ладонями глаза и опустилась на колени.
– Боже мой! друг мой! Христя! Ты ли это? – воскликнула, быстро вскочив и севши в кровати, maman.
– Да; это я… посмотрите на меня, бога ради! – отвечала, не поднимаясь и не открывая глаз, девушка.
– Зачем же ты там стала? О господи! Иди, иди ко мне, или я не выдержу…
– Вы меня не презираете?
– Нет, нет: я жалею тебя, я люблю тебя, я хочу плакать с тобой!
Христя вскочила и, бросившись к maman, обняла ее, а я поспешил уйти в свою комнату и запер за собою двери.
Я долго сидел у себя, тяжело облокотясь головою на руки, и думал, что это за свет, что его за законы, ради которых лучшее гибнет, принося себя в жертву худшему, – и в душе моей восставало смутное недовольство жизнью, которой я не понимал, но уже был во вражде с нею за эту Христю. Я понимал, что она сделала, и она мне казалась героинею – и притом такою искреннею, такою прекрасною, что я готов был за нее умереть; а когда я перестал философствовать и сделался снова свидетелем разговора, который она вела с матушкою, добрые чувства мои к ней еще более усилились.
Христя не приводила никаких аргументов в свое оправдание: она все брала на себя и говорила только одно, что она «не могла» совладеть с собою.
– Как же ты думаешь теперь жить?
– Никак. Зачем думать: ничего не выдумаешь.
– Но твой отец?
– Отец мой меня любит.
– Но его годы, его взгляды…
– Не смущайте меня: я теперь счастлива, я любима, и вы меня не отвергаете – а более мне ни до кого нет дела.
– А общество, а свет?
– А что они мне дали? чем я им обязана? Не говорите мне о них: их суд мне не нужен; я чувствую наслаждение презирать его.
– Мой друг, это не так легко.
– Легко ли, трудно ли, мне об этом теперь уже поздно думать.
– А собственная совесть?
– Совесть? она чиста. Я никого не погубила и не погублю: я отреклась от прав на почет и уважение и взяла себе бесславие – и я снесу его.
– Зачем?
– Чтобы сделать хоть немного счастливее того, кого я люблю и кто свыше меры несчастлив.
– А бог! а бог! ты забыла о нем, мое бедное дитя?
– Чей бог?
– Мой, твой, бог твоего отца.
– Бог ваш меня простит, потому что вы, будучи его творением, меня простили.
– Словом, ты не чувствуешь в своем сердце на себя никакой грозы?
– Никакой.
– И ничего не боишься?
– Ничего ровно. Я счастлива.
– О боже! – воскликнула maman. – Как прав, как прав мой друг, который предрекал мне все это!
– О ком вы говорите?
– Ты его не знаешь: его здесь нет.
– Его здесь нет; но я все равно его знаю: это тот, кого зовут Филипп Кольберг?
– Да; это он.
– Что он вам предрекал на мой счет?
– Когда мы познакомились с тобой и я писала ему об этом и описывала твое положение и твой характер, он отвечал мне: «Остерегайтесь поддерживать гордость этой девушки: такие характеры способны к неудержимым жертвам – и в этой жертве все их оправдание». Я его не послушалась, я укрепляла в тебе твою решимость отказать Сержу, потому что я предвидела твое положение в этой напыщенной семье…
– И не жалейте об этом, – перебила Христя, – вы укрепили меня в самую важную минуту и спасли меня от положения тяжкого, которого я бы не снесла – и умерла бы ненавистною себе и ему; меж тем как теперь я счастлива и умру счастливою.
– К чему же речь о смерти?
– О! я скоро, очень скоро умру!
– Зачем такая мысль?
– Она меня радует: я хочу умереть скорей, скорей…
– Зачем?
– Зачем? О, вы ли об этом спрашиваете? затем, чтобы не надоесть и… умереть любимою! Неужто вы не чувствуете, какое это блаженство?
Maman промолчала.
– О, я жалею вас, если вы этого не знаете, – продолжала девушка.
– Нет, я это знаю, – ответила тихо maman, – но…
– Но, я знаю, что вы скажете, – перебила Христя, – вы скажете, что можно умереть любимою, сохранив себе уважение, то есть не сделавшись любовницею?
– Да.
– Отвечу вам: пускай это вместит, кто может; я же не могла, и спросите этого доброго Кольберга… Я думаю, что он добрый?
– Как ангел.
– И он, конечно, умен?
– О, очень умен.
– Ну так спросите его: осудит ли он меня или нет, что я пожертвовала собою, зная все… зная даже то, что меня долго любить не будут. Но я вам говорю: я предупрежду это несчастие и умру любимая.
– Какая ты славная и какая несчастная, Христя!
Она засмеялась и проговорила:
– Славная? да, я прославилась; молчите обо мне: прячьте мою славу, пока ее не выдаст всем мое открытое бесславие.
Вышла пауза – и я понимал, что они в это время должны были молча глядеть друг на друга: мать моя с ужасом, а Христя со спокойствием, которое вызывало этот ужас.
Я стал тихонько на колени перед висевшим в моей комнате изображением Христа и, горько рыдая, просил его:
– Омой, омой грех ее твоею кровию.
Более я ничего об этом дне не помню.
XXXII
Роман Христи скоро получил огласку. Это и не могло быть иначе, потому что поведение страстно влюбленного в нее Сержа обличало его ежеминутно – и в глазах его домашних и в глазах посторонних, которым была охота что-нибудь видеть. Я не знаю, было ли Христе что-нибудь известно о том, что о ней толковали, но полагаю, что нет, потому что она решительно умерла и погреблась для всего мира. Кроме ее собственного дома, ее нигде нельзя было видеть: к нам она приходила, вся закутанная, поздно вечером и уходила ночью, да и то это продолжалось только до тех пор, пока maman, была больна; но как только maman, начала выходить, Христя с тех пор к нам уже не показывалась. Еще оставалась у нее церковь, так как Христя, несмотря на свое своеволие, была очень набожна, но она избрала для своего моления самую уединенную церковь и там пряталась от всех взоров. Вообще прятанье сделалось у Христи какою-то страстью и наводило на меня лично очень неприятное впечатление: укрывающаяся Христя была точно олицетворение нечистой совести, что вовсе не шло к ней, тем более что она, судя по ее недавнему объяснению с maman, считала свою совесть совершенно чистою.
А время все шло своим чередом, дни уходили за днями; Христя все так же старалась быть невидимой, и мы виделись с нею очень редко, а с Сержем никогда; но укрепившийся в фаворе женской половины этого дома Пенькновский ретиво доносил нам, что там идут ужасные сцены и что жена и мать Сержа задумали какой-то план мщения. План этот, как вскоре обнаружилось, состоял в том, что высокий покровитель семьи Сержа, при котором сей последний был записан на службе, дал ему поручение в Петербург. Серж было восстал против этого и подавал просьбу в отставку, но просьбы этой от него не приняли, а Христя убедила его не поднимать спора и ехать. Он ее послушался и уехал, кажется, точно так же легко, как прежде послушался ее и женился на другой. И в том и в другом случае, слушая ее, он слушался собственных своих задушевных и тайных желаний, которые Христя только умела отгадывать и предлагать в виде своих просьб.
Итак, он уехал в Петербург, а мы придвинулись к Христе, которая была очень спокойна и даже как бы довольна, что осталась одна, – обстоятельство, которое меня еще сильнее навело на мысль, что Христя только бодрится, а в существе очень страдает от невыносимой тяжести положения, которое себе устроила, очертя ум и волю. Она внутренне подобрала себя к рукам, – стала гораздо порядочнее и спокойнее в поступках, и в мыслях, и даже по внешности: ее костюм и ее комнаты – все это приняло прежний стройный характер, который было совершенно утратился и исчез во дни ее безумных увлечений.
Так прошло более месяца, как вдруг случились у нас два происшествия: первое заключалось в том, что к родным Сержа пришла будто бы весть, что он в Петербурге имел неприятную историю с братом своей жены и опасно занемог. При рассказах об этом чего-то, очевидно, умышленно не договаривали, и в городе от этих недомолвок пошли толки, что у Сержа была дуэль и что он опасно ранен. Жена его немедленно поскакала в Петербург.
Христя, до которой дошла эта новость, сначала было очень испугалась, но потом подумала, успокоилась и сказала, что все это неправда.
Еще месяц спустя получилось известие, что Серж уехал для пользования за границу.
Христя, услыхав об этом, сказала:
– Ну вот это правда!
И вслед за тем она получила от Сержа письмо, в котором тот каялся, что роковая судьба заставляет его подчиниться тяжелым обстоятельствам; что он два года должен прожить с женою за границею, потому что иначе теща лишит его значительной доли наследства, но что он за всем тем останется верен своему чувству к Христе и будет любить ее до гроба.
Христя все это приняла с улыбкою и перенесла с таким спокойствием, что казалось, будто она вовсе даже нимало и не страдала. А вслед за тем вскоре произошло событие в другом роде, которое ее даже заставило хохотать и долго было у нас причиною немалого смеха.
Виновником этого веселого события был мой добрый друг Пенькновский.
Я уже сказал, что он пользовался большим фавором на женской половине Сержева дома. Как началось их знакомство и дружество – я не знаю; но когда мы стали обращать на это внимание, то дела уже стояли так, что Пенькновский был в их доме своим человеком, и притом человеком самым необходимым. Теща, мать и жена Сержа, до самого отъезда к мужу, без церемонии употребляли моего друга на разные посылки и послуги и удостоивали при этом своей особой доверенности, которою он и умел пользоваться с делающим ему честь тактом. Посещая нас и принося нам разные непрошенные вести из дома Сержа, он выуживал, где мог, разные сплетнишки о Христе – и, снабжая их своими комментариями, сносил туда. Он же оказывал самое ревностное и в то же время самое осторожное содействие в устройстве спасительной высылки Сержа за границу и потом остался утешать двух старух: родную мать Сержа – здоровую, толстую и чернобровую старуху Веру Фоминишну – и его тещу Марью Ильинишну, старуху менее старую, высокую, стройную и сохранившую следы некогда весьма замечательной красоты.
Эта последняя была женщина светская, – по-своему очень неглупая, щедрая, даже расточительная; она занялась Пенькновским с знанием дела: экипировала его со вкусом и так выдержала в отношении всей его внешности, что в одно прекрасное утро все мы, невзначай взглянув на моего друга, почувствовали, что он имеет неоспоримое право называться замечательным красавцем.
В самом деле, его высокий рост, крупная, но стройная и представительная фигура, прекрасные светло-русые, слегка вьющиеся волосы, открытое высокое чело, полное яблоко голубых, завешенных густыми ресницами глаз и удивительнейшей, античной формы большая белая рука, при мягкости и в то же время развязности манер, быстро им усвоенных под руководством изящной и любившей изящество тещи Сержа, обратили его в какого-то Ганимеда, затмевавшего своей весенней красотой все, что могло сколько-нибудь спорить о красоте.
Он это чувствовал и сознавал – и необыкновенно легко обучился держать себя с большой важностью. Состоя на одних со мною правах и потому будучи обязан служить приказным, он, однако, бросил свою гражданскую палату – и, переместись в аристократическую канцелярию к начальнику, ведшему за усы его отца, взирал свысока на всех заседателей и надсмотрщиков, которых мог обогнать одним шагом. Ему теперь все улыбалось – и он полнел, добрел и ликовал, и отнюдь не подозревал, что в это самое время ему готовился урок непрочности земного счастия. Среди самых цветущих дел он получил смертельный удар, заключавшийся в том, что убогонькая жена моего дяди внезапно подавилась куриною косточкою и умерла, – а дядя мой, от которого, по выражению лица, у которого служил Пенькновский, «взятками пахло», чтобы отбить от себя этот дурной запах, сделал предложение Марье Ильинишне и получил ее руку быстро и бесповоротно. Этим политическим фортелем дядюшка, сблизясь с главным начальником края, укрепил себя на своем кресле, так как оно под ним довольно шаталось, – а бедный Пенькновский очутился без шпаги. В дом дяди его не пускали, а тайно благодетельствовать Марья Ильинишна или не хотела, или он сам считал неудобным участвовать в этой тройной игре. Словом, дела его приняли вдруг самый дурной оборот: аристократическая канцелярия не давала ему ничего, кроме каких-то весьма отдаленных видов; но как было их дождаться, когда скупой отец не давал ему ни гроша, а сам он не умел добыть трудом ни копейки.
Всякий бы на месте Пенькновского стал в тупик, и с ним случилось то же самое, но только с тою разницею, что он скоро нашелся, как поправить свои обстоятельства, и притом способом самым прочным и капитальным.
Раз, в праздничный день, он приходит к нам, по обыкновению, развязным щеголем и франтом, и, предложив maman руку, просил ее его выслушать. Они вдвоем вышли в зал, а я остался в матушкиной комнате, где грелся перед камином; но не прошло и десяти минут, как матушка вдруг вошла торопливой походкой назад. Она имела вид встревоженный и смущенный и, плотно затворив за собою дверь, сказала мне:
– Выйди, сделай милость, к нему и скажи, что я почувствовала себя дурно и легла в постель.
Я смотрел на maman молча, изумленными глазами, но она еще настойчивее повторила мне свое поручение и закопалась в мелких вещицах на своем туалете, что у нее всегда выражало большое волнение.
Я вышел в зал и увидел перед собою представительного Пенькновского, ощутил всю трудность возложенного на меня поручения, тем более что не знал, чем оно вызвано. Одну минуту мне пришло в голову, уж не сделал ли он предложения моей maman, но, вспомнив, что он в последнее время усвоил себе привычку говорить с женщинами с особенной тихой развязностью, я счел свою догадку преждевременной и просто попросил его в свою комнату.
– В твою комнату? зачем это? – спросил он меня с легкою гримаской; но, услыхав от меня то, что я должен был ему передать по поручению maman, он вдруг смялся, и на выхоленном лице его мелькнули черты, которые я видел на нем, когда обнаружилось, что Кирилл водил его под видом палача по королевецкой ярмарке.
– Послушай, – сказал он мне в одно и то же время и рассеянно и строго, – я вправе от тебя, однако, потребовать одного, чтобы ты сказал: понимаешь ли ты, что это обида…
– Ей-богу, ничего я не понимаю, – отвечал я по истине.
– Я объявляю твоей матери, что я женюсь на ее знакомой, – и так или иначе делаю ей все-таки честь: прошу ее быть моею посаженою матерью; а она вдруг, представь себе: молча смотрит на меня целые пять минут… заметь, все молча! Потом извиняется, быстро уходит и высылает ко мне тебя с этим глупым ответом, что она нездорова… Знаешь, милый друг, что если бы я не уважал ее и если бы это не в такое время, что я женюсь…
– На ком же, на ком ты женишься? – перебил я.
– А я, любезный друг, женюсь на Вере Фоминишне.
– На какой Вере Фоминишне?
– На Крутович.
– На вдове?!
– Ну да, на вдове.
– На матери Сержа?
– Ну да; на его матери.
– И Серж должен будет называть тебя mon père?[22]
У меня задергало щеки, и я не выдержал и расхохотался.
– Вот сейчас и видно, что ты еще дурак! – сказал Пенькновский, которому и самому было и смешно и конфузно; но он, однако, на меня не рассердился и ушел, удостоив меня чести приглашением в шаферы.
Когда мы вечером пришли к Христе и я рассказал ей эту историю, она смеялась до упаду и до истерики, сколько над chère papa,[23] как стали мы называть Пенькновского, столько же и над maman, которая сама шутила над замешательством, в которое поставил ее Пенькновский этою, по ее словам, «противною свадьбою».
Мы по этому случаю так много смеялись и были так веселы, что и не думали ни о положении Христи, ни о том, что над самими над нами, может быть, тоже висит какая-нибудь внезапность, способная переконфузнть нас более, чем замужество одной старухи сконфузило Пенькновского и в то же время дало ему счастливую мысль самому скорее жениться на другой.
XXXIII
Ночью от этого усиленного смеха Христе сделалось внезапно так худо, что она присылала за maman, – и я не слыхал, как maman к ней ходила и возвратилась, – да, собственно, я не знал даже, что такое и было с Христею, и не видал ее после того в течение довольно продолжительного времени. Это случилось главным образом оттого, что я ездил по службе в один довольно далекий великороссийский город за принятием медной монеты. Поручение это было пустое и весьма нелестное, так как его мог бы исполнить всякий солдат; но maman оно очень нравилось – и даже я уверен, что она сама и схлопотала мне эту посылку.
Впрочем, выехав из Киева после продолжительного здесь сидения, я и сам был очень доволен случаю проветриться. Новые места и новые люди всегда меня интересовали – и на этот раз я ими очень занялся и провел несколько времени в дороге и при приеме денег очень приятно. Поневоле освободясь от книг, я сопричащался к жизни чужих мне людей и нашел это очень приятным, тем более что куда я ни появлялся и с кем ни сходился, мне казалось, что все меня очень ласкали и любили. Словом, я был очень счастлив – и этим счастьем дышали все письма, которые я писал матушке, описывая в них в подробности все мои думы и впечатления. Отпуском меня отсюда не торопились: денег, за которыми я приехал, не было в сборе, – их свозили в губернский город из разных уездов; все это шло довольно медленно, и я этим временем свел здесь несколько очень приятных знакомств; во главе их было семейство хозяина, у которого я пристал с моими двумя присяжными солдатами, и потом чрезвычайно живой и веселый живописец Лаптев, который занимался в это время роспискою стен и купола местного собора и жил тут же, рядом со мною, в комнате у того же самого небогатого дворянина Нестерова. Живописец Лаптев был человек маленького роста, с веселыми карими глазками, широкой чистой лысиной, через которую лежала одна длинная прядь черных волос, с открытым лицом и курносым носом, несколько вздернутым и как бы смеющимся. Одним словом: физиономия презамечательная и очень располагающая. Он имел от роду лет тридцать пять, происходил откуда-то из мещан; провел всю свою жизнь в занятиях церковною живописью, был очень умен и наблюдателен; любил кутнуть и считал себя знатоком церковного пения, постоянно распевал разные херувимские и концерты, но пел их не сплошь, а только одни басовые партии, отчего, если его слушать из-за стены, выходило похоже на пение сумасшедшего. Он то вырабатывал свою ноту, то вдруг останавливался, воображая мысленно, как поют в это время другие голоса, считал в уме такт – и, дождавшись времени, вдруг опять хватал свою ноту и орал часто весьма немилосердно.
На этом мы с ним и познакомились; он, встретив меня, однажды спросил: не мешает ли он мне заниматься? на что я ему и отвечал, что он мне не мешает, но что я удивляюсь, как ему не мешает сумасшедший, который у нас где-то кричит.
– А-а! этот сумасшедший? Ну, я к нему уже привык, – отвечал, добродушно смеясь, Лаптев.
– Разве вы давно здесь живете?
– Нет, я-то здесь недавно, но он-то со мною уже давно; одним словом: этот сумасшедший я сам. Хе-хе-хе-хе! – засмеялся он, как засыпал мелким горошком, и, обняв меня с искренней дружбой, добавил: – не конфузьтесь, приятель дорогой, не конфузьтесь! вы не первый сочли меня за сумасшедшего; почитайте меня таким, ибо я и в самом деле таков: пою и пью, священные лики изображаю и ежечасно грешу: чем не сумасшедший…
Вечером этот веселый человек, придя с работы из церкви, взманил меня идти с ним в театр, где очень плохая провинциальная труппа разыгрывала Каменного гостя. И представление и обстановка были крайне незамысловаты, но меня они, однако, удовлетворяли или по крайней мере приводили в некоторый трепет; а Лаптев, который оказался большим театралом, по возвращении домой необыкновенно заинтересовал меня рассказами о столичных театрах и актерах, из которых он очень многих близко знал. От актеров он перескочил к певцам, от певцов к живописцам и скульпторам – и, рисуя одну за другою картины артистических нравов, увлек меня этим бытом до восхищения и восторга, выразившегося тем, что я вскочил с места и расцеловал его.
Он мне казался умен и прекрасен: чуя в нем биение пульса, присущее художественной натуре, я ощутил в своей душе ближайшее родство с ним – родство и согласие, каких не ощущал до сих пор ни с кем, не исключая maman, Христи и профессора Альтанского.
«Гармония – вот жизнь; постижение прекрасного душою и сердцем – вот что лучше всего на свете!» – повторял я его последние слова, с которыми он вышел из моей комнаты, – и с этим заснул, и спал, видя себя во сне чуть не Апеллесом или Праксителем, перед которым все девы и юные жены стыдливо снимали покрывала, обнажая красы своего тела; они были обвиты плющом и гирляндами свежих цветов и держали кто на голове, кто на упругих плечах храмовые амфоры, чтобы под тяжестью их отчетливее обозначалися линии стройного стана – и все это затем, чтобы я, величайший художник, увенчанный миртом и розой, лучше бы мог передать полотну их чаровничью прелесть.
О юность! о юность благая! зачем твои сны уходят вместе с тобою? Зачем не повторяются они, такие чистые и прекрасные, вдохновляющие, как этот сон, после которого я уже не мог уснуть в эту ночь, встал рано и, выйдя на коридор, увидал моего Лаптева. Он стоял и умывался перед глиняным умывальником и, кивнув мне головою, спросил:
– Или не поспалось?
– Да, не поспалось, – отвечал я, – мне приснился хороший сон, и заспать его не хочется.
– А что за сон такой снился? Пойдемте-ка ко мне чай пить, да расскажите про него, протобестию.
Мы взошли в комнату, и я рассказал мой сон.
– Важно! – отвечал, выслушав меня, Лаптев, – сон хоть куда: хоть заправскому Рафаэлю. А знаете ли, что сей сон обозначает?
– Нет, не знаю.
– А я знаю и сейчас расскажу: он значит, что, во-первых, у вас художественная жилка есть, и ей надо дать пожить: пусть она, каналья, немножечко побьется, а во-вторых… который вам год?
– Девятнадцать.
– Гм! возраст бедовый: тоже своих прав требует. Мне в эти годы тоже, черт возьми, вдохновенные штучки снились, и я таких-то Лурлей у отца в лавке на стенах углем производил, что ай-люли! Только меня за это батька потягом по спине катал!
– За что же?
– Чтобы стен, говорили, не портил. Эх, да, сударь, да: искусство – это такая вещь, что не дается, пока за него не пострадаешь. Музы ревнивы, проклятые: пока ото всего не отвернешься да не кинешься им в ноги, дескать «примите к себе в неволю», до тех пор всё отворачиваются.
– И с вами так было?
– Да, и со мною так было: отец мой в городе лавчонку имел и меня к этому же промыслу приучал, а я всё рожи по стенам чертил, – он меня, покойник, за это и драл, дай ему бог царствие небесное. А потом он умер, матушка меня к чужому лавочнику в такую же науку отдала: я опять рожи чертить да к звукам прислушиваться. Хозяин уйдет из лавки пообедать, а я стаканы на полке расставлю, подберу их под тон, да и валяю на них палочкой «Всемирную славу». Да раз, эту «Всемирную славу» исполняя, в такой азарт пришел, что забирал, забирал всё forte fortissimo, да все эти стаканы и поколотил. Бросил их в корзинку, а они, дьяволы, так сладостно зазвенели, что я сгреб один пятифунтовик да еще в корзинку… Ах, хорошо!.. Я еще десятифунтовик – еще лучше дребезг: точно из оратории какой-нибудь на разрушение мира… Я и ну катать, – да потом как опомнился, что такое натворил, – шапку в охапку, да марш большою дорогою через забор в Москву, разгонять тоску.
– Ну-с?
– Ну-с, и поступил к живописцу, да лучше его писать стал – он меня выгнал; я в Петербург, чуть в Академию не попал.
– И отчего же вы не попали? – воскликнул я с глубоким сожалением.
– Дурак был, – отвечал Лаптев, – слюбился да женился – муза сейчас и взревновала и наплевала мне в голову, а баба ребят нарожала – и вот я, лысый, нынче лажу по лесам да куполы расписываю и тем свой гарем питаю.
Лаптев замолчал и стал собираться на работу.
Я ушел от него, и мне сделалось невыносимо скучно – точно я расстался с каким-то ближайшим и драгоценнейшим мне существом. Повторяю опять, что хотя я в этом влечении и узнавал знакомые черты пылкости и восторженности моей натуры, но это было совсем не то, что я чувствовал некогда к матери или Альтанскому. Все то было сухо, строго и подчинялось разуму, меж тем как тут меня охватывало что-то неодолимое и неодолимою же тайною властью влекло к Лаптеву. В нем я видел, или, лучше сказать, чувствовал, посланца по мою душу из того чудного, заветного мира искусства, который вдруг стал мне своим – и манил и звал меня к себе, привечая и ластя… и я стремился к нему, дрожа, и млея, и замирая от сладостной мысли быть в нем известным, знаменитым… славным…
Бедный Лаптев уже представлялся мне чем-то жалким, добрым, но мизерным: крохотною козявочкой, которую я опережу одним взмахом крыла, крыла молодого, невыщипанного, бодрого и самонадеянного.
Я от природы имел способность к музыке, как и к живописи. Еще в корпусе, находясь в числе певчих, я выучил вокальные ноты под руководством регента и самоучкою приспособился к пониманию музыкальных нот, но не умел играть ни на одном инструменте, кроме сигнального рожка, на котором при удобных случаях вырабатывал кусочки, едва удобные на этом бедном инструменте. Рисовал же я хорошо и карандашом и красками, то есть, разумеется, хорошо для кадета, а не для живописца, но я надеялся быстро усовершенствоваться. При достаточной скромности я все-таки был так самонадеян, что считал себя способным сразу сделать громадные успехи, на которые позволяли мне рассчитывать мое относительно уж не узкое развитие, вкус и знания, каких не было у Лаптева.
Долговременное неупражнение себя в искусствах стало передо мною живым и нестерпимым укором, и я страстно рванулся наверстать все это – и, ни минуты более не размышляя, бросился бегом в церковь, где работал с своими подмастерьями Лаптев.
Живописец сидел высоко в люльке и писал в парусе купола евангелиста.
Увидев меня, он захохотал опять тем же своим, как горох дробным смехом и крикнул:
– А что: не сидится, кортит?
– Скучно, – отвечал я, – пришел посмотреть.
– Чего же даром смотреть: полезайте, работу дадим. – Ей, Архип! – крикнул он живописцу, писавшему драпировки другого евангелиста, – дай-ка этому барину горшок с брамротом, – пусть его фон затирает.
– Испортит, – отвечал из-под паруса угрюмым басом Архип, большой человек, чрезвычайно похожий на отставного солдата.
– Нет, не испорчу, – отвечал я.
– Кусков наваляете – после сбивай их мастихином.
– Ничего, ничего: дай ему краски, – отозвался Лаптев и снова захохотал.
Я взлез, взял кисть и пошел затирать фон вокруг подмалеванного контура евангелиста Иоанна, и исполнил это немудреное дело прекрасно.
Лаптев, очевидно давший мне эту работу для шутки, взглянув на нее, улыбнулся и не без удивления сказал:
– Хорошо.
На другой день я сделал ту же работу в другом парусе и украдкою позволил себе положить небольшие блики на спускающейся вниз руке евангелиста, которая казалась мне неестественно освещенною.
Лаптев это заметил и, еще более удивляясь, сказал:
– Вон оно, Архип, барин-то как может. Ему можно дать в твоем парусе драпировки подмалевать.
В этом парусе был изображен евангелист Иоанн, как он обыкновенно пишется – с орлом у плеча, но с перстом, уставленным в лоб.
Я не видал ровно никакого смысла в этом упертом в лоб пальце у евангелиста, который писал вдохновением, для выражения которого здесь и представлен орел. Такое сложное и натянутое сочетание мне очень не нравилось – и я не преминул сообщить Лаптеву мою мысль.
Он задумался – и потом, согласясь со мною, крикнул:
– Архип! слышь, барин-то дело говорит: зачем евангелист палец в лоб упер?
– А куда же прикажете ему его упереть? – сердясь, отвечал Архип.
Лаптев рассмеялся и проговорил:
– Вам нас уже не переучить.
И с этим мы с ним ушли, а когда я на другой день пришел в церковь, то он, предупредительно встретив меня, сказал:
– Садитесь-ко вот тут со мною, а то они сердятся.
Я помогал Лаптеву недели две, и во все это время он, как назло, не говорил со мною ни одного слова об искусстве, а между тем я видел, что он считает меня далеко не чуждым этому призванию.
Меня это немножко досадовало, тем более что я, со свойственною мне страстностью, весь предался работе и не заметил, как, словно тать в нощи, подкрался день моего отъезда назад, в великолепно скучающий Киев, к моей чинной и страдающей матери, невозмутимому и тоже, кажется, страдающему профессору Альтанскому и несомненно страдающей, хотя и смеющейся Христе.
У меня сжалось сердце: мне стало необыкновенно жалко всех их, и в то же самое время мне было страшно возвращаться в этот кружок, который мне казался теперь таким унылым и скучным… Я представил себе en détail[24] свой дом, дом Альтанских, все эти милые мне, но как бы не моего письма лица, и потом… служба… канцелярия с ее стертыми, как старые пятиалтынные, лицами и запахом спертого воздуха и папирос… и мне хотелось куда-то бежать. Куда? Да не все ли равно: хоть под паруса церкви на люльку Архипа, хоть на подмостки театра в тоге командора, словом, куда бы ни было, но только туда, где бы встретить жизнь, ошибки и тревоги, а не мораль, вечную мораль добродетели и забот о своем совершенстве… Это все мне ужасно надоело, и… я, к стыду моему, понял, что это значит: я не мог лукавить с самим собою, я должен был сознаться себе, что мне наскучило быть с матерью, что мне не хочется уже к ней возвращаться, и я заплакал… от стыда своей неблагодарности и от досады, что я беден, ничтожен, что я не могу обеспечить мою мать всем нужным и сам броситься в какую-то иную жизнь… Я не знал какую именно, но знал, что она должна быть совсем не похожа на ту, которую я проводил до сих пор и которую уважал… Я хотел попробовать жизни – уважения не достойной: я чувствовал, что это влечение во мне становится неодолимо.
Лаптев был человек очень умный, и при всей своей малообразованности он был настоящий «художник в душе» (что я считаю гораздо понятнее, чем, например, «гусар в душе»). Он понял, какой червяк забрался в мою душу, и порешил помочь мне его выкурить; но ошибся в расчете и вместо одного горя отпустил со мною на дорогу два, из коих одно было злее другого, хотя оба они выводили меня на одну торную дорогу, к глубочайшему раздору с собою и с миром, от которого скрыла меня черная мантия и воскрылия клобука – моего духовного шлема.
XXXIV
Вскоре же после описанной мною сцены и незадолго до моего отправления Лаптев зашел ко мне утром в субботу и говорит:
– Вот что-с, мой милостивый государь, не вам одним плохо спится, а и мне тоже стало не спаться – и в этом виноваты вы.
Я удивился.
– Да так-с, – продолжал Лаптев, – глядя на вашу страсть, я чувствую, что у меня старые пульсы заколотились. Что проку скрывать и молчать: я вам должен сказать, что вы мне напомнили мои юные годы, когда я на стенах углем рисовал и стаканы бил. Это, знаете, штука не бесстрашная – потому я с вами несколько дней и не говорил об искусстве.
– Я вас не понимаю, – отвечал я, – чего же вы испугались?
– И не удивляюсь-с, и не удивляюсь, что вы меня не поняли! Искусство… искусство, ух, какая мудреная штука! Это ведь то же, что монашество: оставь, человек, отца своего и матерь, и бери этот крест служения, да иди на жертву – а то ничего не будет или будет вот такой богомаз, как я, или самодовольный маляришка, который что ни сделает – всем доволен. Художнику надо вечно хранить в себе святое недовольство собою, а это мука, это страдание, и я вижу, что вы уже к нему немножко сопричастились… Хе, хе, хе! – я все вижу!
– Отчего же, – говорю, – вы это видите? я ведь вам, кажется, ничего такого не говорил, да и, по правде сказать, никаких особенных намерений не имею. Я поучился у вас и очень вам благодарен – это даст мне возможность доставлять себе в свободные часы очень приятное занятие.
Лаптев замотал головой.
– Нет, – закричал он, – нет, атанде-с; не говорить-то вы мне о своих намерениях не говорили, это точно – и, может быть, их у вас пока еще и нет; но уж я искушен – и вы мне поверьте, что они будут, и будут совсем не такие, как вы думаете. Где вам в свободные часы заниматься! На этом никак не может кончиться.
Меня очень заняла эта заботливость обо мне веселого живописца – и я, испытуя его пророческий дух, спросил:
– А как же это кончится?
– А так кончится, что либо вы должны сейчас дать себе слово не брать в руки кистей и палитры, либо вас такой черт укусит, что вы скажете «прощай» всему миру и департаменту, – а это пресладостно, и прегадостно, и превредно.
Я рассмеялся.
– Tcc! тсс! – остановил меня серьезно Лаптев, – я с вами дружески говорю… потому что я вас полюбил и считаю обязанностью спасти вас от опасности. Вы не смейтесь над этим: я ведь рукомеслом богомаз, а у меня внутри художественный чертенок все-таки жив… Я полюбливаю людей… так, ни за что. Взгляну в харицу – и если замечу, что на ней зрак божественный отсиявает… я и пропал: пристращусь, полюблю, и иногда черт знает до чего люблю. Вот так и с вами: ишь у вас мордоплясия-то какая. Ах ты, каналья, какой он прекрасный!
И находившийся в своем удивительном художественном восторге Лаптев вдруг вскочил с места, пребольно ущипнул меня с обеих сторон под челюстями и, нежно поцеловав в лоб, договорил:
– Как же ты не художник, когда душа у тебя – вся душа наружи – и ты все это понимаешь, что со мною делается? Нет; тебя непременно надо спасти и поставить на настоящую дорогу.
– Сделайте милость, – отвечал я, – я не прочь, только дорога-то для меня уже выбрана: я должен служить и сидеть в канцелярии.
И при этом я рассказал ему о тех привилегиях, которые я получил в напутственное благословение при исключении меня из корпуса с обязательством служить восемь лет до первого чина.
Лаптев изрыгнул целый поток самой злой брани, но потом успокоился и сказал, что и это ничего; что восемь лет пройдут, как уже часть их прошла – и тогда только настанет для меня пора настоящего выбора.
– Вам будет двадцать пять лет, – заговорил он, – и вы будете чином коллежский регистратор, это еще чуть-чуть не китайский император: с этакими началами черт бы ее побрал, госпожу службу! Вот тогда-то вы и шатнетесь, а куда шатнуться – это надо знать. Надо делать славу или деньги: это большой расчет. Мой вам совет: делайте деньги.
– Покорно вас благодарю.
– Нет, кроме всяких шуток. Тогда и поэзия и искусство, все в мире мило будет, а иначе беда. Я об этом и хлопочу: вас надо отучить от искусства.
– Как же вы это сделаете?
– А уже я сделаю! Не беспокойтесь: я муж искушенный; у меня есть на это верное средство. Я затем к вам и пришел. Вы скоро уезжаете, я не хочу, чтобы вы уехали с тем, как теперь заправились. Вы ведь, небось, думаете, что вы видели искусство и искусника. Э, нет, отец родной, вы видели не искусника, а черта в стуле! А вот я вам покажу настоящее искусство и настоящего искусника, так вы и поймете, что до него ух как далеко ехать! Да-с, всякая охотишка отпадет, как посмотришь, сколько нужно грабаться на верхушку, с которой все видно станет. Мне счастливая мысль пришла: сегодня суббота, завтра воскресенье, а послезавтра праздник, а потом именинница Борисоглебская гостиница: мои молодцы попируют, а потом станут зубы располаскивать и работать дня четыре не будут. Здесь в городе и мне и вам страшно скучно – и я хочу вам предложить небольшую прогулочку за город, но только ручаюсь вам, что прогулка будет первый сорт, с сопряжением пользы и удовольствий.
Я пожелал что-нибудь подробнее знать об этой прогулке, на которую звал меня Лаптев.
– Видите, – отвечал он, – тут в восемнадцати верстах от города есть село Кротово. Кличка у него ничего особенного не обещает, но само оно чрезвычайно красиво: раскинуто на берегу Оки и все в садах и парках, а что самое главное – так там такая господская усадьба, что перед нею куда твой Петергоф! Да, именно Петергоф, потому что там, в Кротове, даже есть такие собрания произведений искусства, что все пальчики оближешь: вот их-то я вам и хочу показать. Сам Павел Дмитрич Кротов – антик, который надо продавать на золотники: он рассорился со всем Петербургом, уехал к себе в Кротово и никого видеть не хочет, да нам до него и дела нет; а у него есть галерея – дивная галерея, картины всех школ и едва ли не в наилучших образцах, и вдобавок в куполе над библиотекою теперь у него пишет что-то al fresco[25] один известнейший немецкий художник: мне страсть хочется это видеть, да и вам советую: во-первых, огромное наслаждение, и притом несметная польза.
– Какая же?
– А вот там увидите. Так, значит, едем?
– Извольте.
Лаптев выбежал и через несколько минут забарабанил пальцами по стеклам моего окна и закричал:
– Подвода готова!
Я бросился к окну и увидел у ворот настланную соломою крестьянскую тележонку, в которой были запряжены худой рослый караковый мерин и толстоногая буланая кобылочка, под выменем которой сосал пегий жеребенок.
«Так вот экипаж, на котором мы поедем в кротовский храм искусства! – неважно!» – подумал я, находя эту телегу и сбрую, а особенно пристяжную кобылку с жеребенком, не особенно изящными; но делать было нечего: «важнее» нам не на чем было ехать, да и к тому же я скоро сообразил, что по-деревенски это ничего не значит. И с этим я, не только радостный, но даже торжествующий, вскочил в тележку рядом с моим Лаптевым, и мы поехали, конвоируемые сзади жеребенком, который, чувствуя впереди вольный воздух полей, заливался тонким и веселым жеребячьим ржанием.
Минуты этого отъезда, равно как и всего этого путешествия, я никогда не позабуду. По самым странным стечениям обстоятельств этот выезд был моим исходом из отрочества в иной период жизни, который я опишу когда-нибудь, более собравшись с силами, а теперь, подходя к этому рубежу, намечу только ту странную встречу в Кротове, которая была для меня вехою, указавшею мне новый путь и новые страдания.
XXXV
Село Кротово действительно было, что называется, «прелестный уголок»: оно очаровало меня еще издали его далеко открывшимися видами – и я находил, что мой Лаптев не только ничего не преувеличил, подмалевывая мне картины Кротова, но даже был немножко излишне скромен в своих похвалах. Село лежало в удолье вдоль быстрого ручья, вливавшегося в русло Оки под прямым углом, а барская усадьба была в стороне, над самыми берегами реки, по которой ползли струга с своими разноцветными значками. Издали виднелся большой каменный дом с куполом и флагштоком, на котором, впрочем, флага не было, хотя владелец жил тут. Половина дома была не отделана и, по-видимому, заброшена, что придавало в моих глазах всему зданию свою особенную поэзию. Дом в самом деле похож был на збмок, вокруг которого веяло чем-то мрачным, таинственным.
Река подходила под самый парк и так терялась в темной тени отражавшихся в ней деревьев, что казалось, будто деревья эти ссунулись в воду. Я не знал, как мы переберемся через эту реку: моста нигде не было видно, и ни живой души нигде не шевелилось; но пока я размышлял об этом затруднении, наш извозчик сложил у рта трубкой свои ладоши и протрубил какой-то гулкий звук, в ответ на который на том берегу что-то щелкнуло, и из темени густых теней пополоз на шестах небольшой паром, сколоченный из двух плоскодонных лодок.
Мы переехали и, очутясь под самым парком, хотели подниматься на гору, как один из наших перевозчиков остановил нас и велел подвязать колокольчик.
– Зачем это?
– Барин не любит: у нас для того больше и моста нет, и с того конца тоже человек приставлен… наблюдает.
Мы сняли колокольчик и стали подыматься по довольно крутому взвозу, который шел в огиб парка и постоянно держал нас в каком-то секрете от збмка и других строений, так что мы чем ближе к ним приближались, тем меньше их видели. Все это на меня действовало каким-то подготовляющим образом; мне неведомо почему начало казаться, что я потерял в моем сознании меру времени и связь событий: я никак не мог себя уверить, что мое имя есть точно мое, что я имею мать, которой имя и лицо такое, какое оно есть, и что я ее покинул в том, а не в другом месте, и что этому прошло уже несколько времени, а все это случилось не сейчас, не сию минуту… Меня это даже испугало: мне показалось, что нечто подобное должен чувствовать человек, когда он начинает терять рассудок, и между тем я не мог искать на все это ответа у моего Лаптева, потому что я не мог бы рассказать ему моего состояния, – и я с прозорливостью провидца сознавал, что он меня не поймет и ничего мне не в силах будет ответить.
Я взглянул на него и увидел, что он сидел в своем камлотовом плаще и, высоко задрав голову, что-то в себя тянул носом.
– Что вы делаете? – спросил я.
– А воздухец кушаю: вы разве не чувствуете, какой воздух? ведь это, батенька, почкой пахнет, а в почке весь эликсир жизни: мне, знаете, даже спать захотелось.
– Вот как!
– Да что же: я всегда возобновляюсь этим, и вам тоже советую, а вот мы и въезжаем на двор.
Я взглянул вперед и удивился: обогнув парк и взъехав на террасу, мы вдруг очутились у двух каменных столбов, заменявших ворота, и затем нам открывался двор не двор – скорее целая плошадь, размеры которой в моих глазах показались чудовищными, вероятно от странного фокусного освещения. Солнце совсем уже село, и запад, облитый багровым светом, гас, но, угасая, он еще освещал неотделанную половину дома и светил через незарамленные окна этой части на двор, тогда как во всех других окнах было темнешенько… Престранный это имело вид: точно дом этот словно многоглавое чудовище, у которого когда одни глаза спят, то другие смотрят. Я был тогда очень молод, очень мечтателен и склонен к фантастическому, а к тому же в этот день легко чувствовал себя в особенном настроении и очень предался мечтам, которые осетили меня, чуть только я коснулся головою подушки, которую подкинула мне вместе с простынею и одеялом какая-то женщина.
Мы, кажется, приехали не вовремя: в доме что-то такое происходило, что приятелю Лаптева было недосужно принять нас, а вдобавок ко всему для нас не оказалось и особого помещения, и мы должны были довольствоваться комнатою в неоконченной части дома. Здесь нам сделали на сене постель, на которую я и бросился, меж тем как Лаптев пошел любоваться какими-то видами, представлявшими, по его словам, большой эффект при лунном освещении. Я за ним не последовал, тем охотнее, что никакой луны не было – и я считал затею Лаптева о прогулке пустою фантазиею, а потому, проводив его, я уснул глубоким и сладким сном, но… вдруг совершенно неожиданно проснулся – точно меня кто в бок толкнул; я открыл глаза: луна светила в окно, обливая длинную анфиладу огромных опустелых палат бледным дрожащим светом. Сон мой был так крепок, что и проснувшись, я еще никак не мог прийти в себя и понять, где я и что перед собою вижу? Я только оглянулся на постели и, увидав, что Лаптева нет возле меня, подумал, что его со мною и не было: все действительное мне представлялось сном, и один сон был как будто действительностию. Бессилие разобрать что-нибудь в этом действовало на меня самым угнетающим образом – и я лежал точно в какой летаргии, тяжело устремив свой усталый, пристальный взгляд в одно место перед собою. Какое это было место – спросите меня, я не знаю; надо полагать, что эта была стена под высокою аркою, куда свет луны попадал каким-то рефлексом и печально обливал изображение… Какое это было изображение? Это были какие-то фигуры, из которых я не узнавал ни одной, кроме той, которой не мог не узнать, потому что это… была моя мать. Чем я пристальнее в нее вглядывался, тем она становилась яснее: это была она, я теперь ясно видел ее стройную фигуру, ее небесные черты и эти ее превосходные золотистые волосы, в которых только не было нынешних белых нитей. Что это такое было: сон, видение или картина? Кто мог изобразить эту картину, для которой моя мать послужила идеалом, и, наконец, что представляет вся эта сцена, в которой все казалось живым и движется, опять кроме ее, кроме этой святой для меня фигуры, которая стояла неподвижно, склонив под чем-то свою головку – знакомое, прелестное движение, к которому я так привык, наблюдая ее в те минуты, когда она слушала о чьем-нибудь горе и соображала: как ему помочь и не остаться к нему безучастным…
Я боялся не только встать, но даже пошевельнуться, а меж тем лунный свет все становился слабее, и видение темнело и меркло и словно переносилось со стены внутрь души моей: я стал припоминать, как я был неправ против матери; как я тяготился даже ее чистотою и неотступным ко мне вниманием, – словом, как мне хотелось выйти из-под ее опеки, и… мне вдруг показалось, что я из-под нее вышел, что матери моей более нет во всем ее существе, а она остается только в моей памяти, в моем сознании и в моем сердце.
Я повернулся к стене и заплакал: спал или не спал я после этого – не знаю, но только я слышал, как пришел Лаптев, как он долго зажигал свечу отсыревшими спичками, и все шепотом на что-то ворчал, и очень долго укладывался, и потом опять встал, скрипел что-то дверями, вероятно запирал их, и снова ложился. Все это мне ужасно надоело. Утром я встал очень рано: часов с нами не было, они остались с прочими нашими вещами внизу, в жилых покоях управителя, – но по солнцу я видел, что еще очень рано, и, вскочив, тотчас же наскоро оделся и вышел на цыпочках, чтобы найти мое ночное видение.
Приотворив с усилием двери, с которыми так долго возился ночью Лаптев, я пролез в них и остановился; передо мною был огромный круглый зал, недостроенный, но скорее заброшенный и теперь, по-видимому, вновь реставрируемый, – по крайней мере я так заключил по загромождавшим его подмосткам, из-за которых выглядывали на меня побледневшие головы фреск. Я повел глазами вокруг, боясь найти и боясь потерять облик, которого искал, – и вот он: я увидел его там же, вверху ниши стрельчатой арки, и, не помня себя, побежал вверх по зыбким подмосткам. Я был уже почти наверху, почти у самого изображения моей матери, как вдруг вздумал взглянуть вниз… земля подо мною вертелась, прямые доски косили и выгибались под моими ногами, – я как-то повернулся субочь на одной ноге и почувствовал, что меня как будто что-то приятно щелкнуло по темени и затем вдруг встряхнуло и вытянуло… Это было так неприятно, что я открыл глаза – и увидал какого-то высокого брюнета с прекрасным чужеземным лицом, и сейчас же позабыл и себя, и его, и в пределах земных все земное. Когда я пришел в себя, была теплая синяя ночь; комната, в которой я лежал, была не высока, но воздух в ней был необыкновенно легок и пропитан каким-то тонким, живительным ароматом. Я по всей строгой истине решительно не мог сказать, где я нахожусь. Все мои чувства были в совершенном разброде, но я ощущал какую-то невыразимо приятную тишину и разлитый в воздухе запах сирени – и, тихо приподнявшись, сел на постели. В открытое окно глядел месяц и мерцали с синего неба яркие звезды, а внизу на подоконнике лежали сиреневые грозди. Что же это: где я, наконец?.. Я никак ничего не мог вспомнить, но в это время за ковром, которым была завешена стена у моей постели, послышался вздох, глубокий, теплый, куда-то рвущийся вздох, и раздались щиплющие за сердце металлические звуки цитры. Опытная и искусная рука играла хорошо знакомый мне мотив псалма из старой гугенотской библии, которая не сходила со стола моей матери.
«Все она, и все она! Кто же это здесь ею занят?» – мне показалось необходимостью узнать это теперь же, сейчас, сию минуту, и я тронулся и пошел нетвердыми шагами, держась рукою стены. Мне что-то попадалось под руку – я что-то обходил, за что-то зацеплялся и снова освобождался и, наконец, очутился в совершенно тесном пространстве, которое, вероятно, должно было быть коридором. Но что это за коридор? Я чувствовал под ногами обитый ковром пол и обтянутые какою-то материею стены, и ничего более. Куда ни двинешься – все то же самое. Но вот снова щипнула цитра, и еще, и еще, и свежий, крепкий, мужественный баритон запел: «Eternel, aie pitié de moi, car je suis sans aucune force! Eternel, retourne-toi, garantie mon âme».[26] Это было опять ее пение, ее манера; я не выдержал и куда-то подвинул вперед руки и остановился; тяжелый ковер, преграждавший мне путь, поднялся и открыл обширную комнату, меблированную в старинном французском вкусе. Все окна ее также выходили в сад и были растворены; свет и аромат в нее лил еще раздражительнее, и тут на длинной софе с золоченым загибом сидел у небольшого легкого столика… тот, кого я видел в последний раз, когда потерял сознание: высокий мужчина с полуседою головою – и он пел этот чудный псалом.
Ковер, которым я двинул, заставил его оглянуться, и глаза наши встретились.
– Богу хвала: вы живы! – воскликнул он по-французски и, вскочив с места, заключил меня в свои объятия и, посадив в кресло, подал мне стакан воды с каплей какого-то вина.
– Жив? – спросил я, – разве я был болен?
– Да; вы лежали долго.
– Долго?
– Да; об этом после…
– Что же было со мною?
– Вы оступились с высокого места.
– Помню. Что же, я расшибся?
– Нет; вы только получили большое сотрясение.
– Кто спас мне жизнь?
– Конечно, тот, кто вам дал ее.
– Но я помню ваше лицо…
– Я был там.
– Кто же вы?.. Как ваше имя?
– Мое имя Филипп.
– О, вы Кольберг!
– Я Кольберг, я тот, которого мать ваша считает своим другом, но теперь пока это все: пока более ни слова. Слушайте меня: мы здесь одни, во всем имении нет ни хозяина, ни управителя, ни Лаптева, который привел вас; все они разъехались кто куда: я один ждал вас и дождался. За все это я попрошу у вас повиновения.
– Я должен повиноваться.
– Да; и она так хочет… она этого даже просила.
– Вы получили письмо от матушки?
– Да.
– Нельзя ли его видеть?
– Нет; его нельзя видеть, – отвечал Кольберг, – и вы должны не повторять этой просьбы до тех пор, когда я сам найду нужным это исполнить.
XXXVI
Он не скоро это исполнил – и зачем он исполнил это? О, сколько было бы лучше, если бы я никогда не узнал того, что сделалось с теми, кого любил я, в мое отсутствие.
С этой поры я видел Кольберга всякий день – и, глядя на его вдохновенное лицо, думал:
«Что за тайна связывает этого человека с моею матерью: может быть, она его любила, когда еще не была женою моего отца; может быть, он о сю пору ее любит».
– Господин Кольберг! – спросил я его однажды, когда мы сидели вдвоем: я читал книгу, а он рисовал карандашом эскиз будущей картины.
Он обернулся.
– Знаете, что я хочу вас спросить?
– Нет, не знаю.
– Не будет ли на этой картине, которую вы сочиняете, лицо моей матери?
– Будет.
– Зачем вы его так часто рисуете?
– Потому, что оно прекрасно.
И он положил карандаш и закрыл руками глаза.
– Господин Кольберг! – продолжал я.
– Спрашивайте.
– Как это было?
– Что?
– Maman и вы…
Он рассказал мне странную историю, в которой сам играл роль жалкую, а моя мать, по обыкновению, святую и миссионерскую: он был дерптский студент, бурш, кутила и демократ; мать – христианка. Он был происхождения ничтожного; она – баронесса. Он за нее сватался – ему отказали, – он не переставал ее любить, искал забвения в искусстве, искал смерти на баррикадах, и остался жив для того, чтобы встретить ее вдовою. Он снова предложил ей руку и снова получил отказ, но на этот раз уже не от ее родителей, а от нее самой.
– И вы знаете, кто этому был виноват? – заключил он, – виновник всего этого вы.
– Я!
– Да; она отвечала мне: «И половина сердца не может отвечать целому, а мое целое принадлежит все моему сыну». Взамен любви она предложила мне свою дружбу, и я жил ею, но когда ее не стало, я буду жить любовью к вам!
– Кого не стало? – вскрикнул я.
– Кого!.. дружбы, – отвечал Кольберг, по-видимому, совершенно спокойно, но я видел, что он лжет, и спросил:
– Разве вы поссорились с maman?
– Да, мы разладили.
– На чем?
– Я вам это скажу завтра.
Я с нетерпением ждал этого завтра и не знал, как начать, но Кольберг предупредил меня сам и довольно грубо; он сказал мне:
– Вы теперь достаточно сильны, чтобы узнать о том, что случилось…
– С maman!
– Нет; с девушкою, которую зовут…
– Христя!
– Да.
– Что с нею?
– Ровно ничего.
– Как это?
– Ее больше нет.
– Она умерла?
– Умерла. Хотите прочесть об этом?
– Очень хочу.
И я взял из его рук письмо maman от довольно давней уже даты и прочел весть, которая меня ошеломила. Maman, после кратких выражений согласия с Кольбергом, что «не все в жизни можно подчинить себе», справедливость этого вывода применяет к Христе, которая просто захотела погибнуть, и погибла. Суть дела была в том, что у Христи явилось дитя, рождение его было неблагополучно – и мать и ребенок отдали богу свои чистые души.
«Я укоряю себя за эту девушку, – писала maman, – я слишком высоко подняла в ней тон – и это ее сгубило. Принимая вещи обыденнее, она была бы счастливее, и…»
Тут что-то было далее, но Кольберг, следивший за моим чтением, вынул на этом месте из моих рук письмо и сказал:
– Остальное к делу не идет.
Я совсем оправился и стал собираться домой. Кольберг возвращался в Петербург. Мы расстались в городе очень дружно – и на прощание он взял с меня слово, что если мне когда-нибудь понадобится друг, то я не стану искать никого другого, кроме его. Я дал ему это слово.
– А на дорогу совет, – добавил он, – не поднимайте очень высоко тона…
– Не поднимаю, – говорю.
– Берите жизнь попроще, а то спутаетесь и других спутаете. Я пострадал от этого, – смотрите вы не пострадайте, – зато и выработал себе консерв.
– Какой консерв?
– Морали: я согласен, что не делать того другому, чего себе не желаешь – мало; слова нет, что мало, потому что это одно отрицание зла, но не добро, – а вот как: faites се que vous voulez qu’on vous fasse[27] – и больше этого ничего не нужно. Прощайте.
Я ехал благополучно до самого Киева и уже переменял лошадей на последней станции, как вдруг смотритель мне подал пакет. Я взглянул на адрес и узнал руку Кольберга, а распечатав, нашел то же материно письмо, которое уже было в моих руках и не дочитано на букве «и».
«Дочитайте!» – подписал на нем Кольберг.
«Принимая вещи обыденнее, она могла бы быть счастливее, и это приложимо ко многим. Я часто думаю, что в христианском мире установился несколько неправильный взгляд на нашу собственную жизнь: отчего, изводя себя по мелочам ради той или другой идеи, мы не вправе делать того же самого en gros?[28] Я этого решительно не понимаю: те, которые клали под топор свою голову за какую-нибудь высокую идею, разве в сущности не те же самоубийцы? Если сохранение жизни важнее всего, то они должны были ее сохранить, и тогда у нас не было бы тех идеалистов, которыми хвалится и ими живет, не доходя до крайней низости, весь род человеческий. Не укоряйте меня, мой друг, что все эти мысли приходят мне, когда я думаю о моем сыне: он теперь прожил уже срок своего наказания, получает чин и был бы свободен: он бы уехал к вам, вы бы открыли дорогу его художественному развитию, между тем как со мною он погибнет здесь среди удушливой атмосферы канцелярской, но почем знать – может быть, со временем сживется с нею и позабудет все, что я старалась в него вдохнуть… Эта мысль не дает мне покоя, и я чувствую, что я с нею не справлюсь: мое счастье развязать ему крылья и благословить его полет, искупив свое самовластие над собою карою, какой буду заслуживать».
Внизу этого рукою Кольберга было отмечено: «С тех пор писем не было».
Вы можете вообразить, в какое состояние пришел я, прочитав это письмо! Вообразите же другое мое состояние, когда я, входя в свою квартиру, не встретил моей матери… Я не спросил никакого объяснения у нашей служанки и бросился к Альтанскому.
Это был вечер: старик сидел дома, все в том же кресле, и в том же халате, и за теми же классиками.
– А, друг мой! это ты! Ну что же: ты приехал все-таки не поздно, чтобы узнать свое горе.
– Моя мать… – мог я только проговорить.
– Твоя мать кончила с собою (он не сказал мне, как она отравилась). Она увлеклась своим самоотвержением…
– О, я знаю это! знаю! и это я во всем виноват.
– Чем же?
– Я не умел скрыть, что мне скучно, что меня манит что-то иное, – и я потерял ее, а с ней все, что было мне мило.
– Что же, она, значит, своего достигла: теперь она для тебя никогда не умрет.
Он более не утешал меня, да я и не требовал утешения: я провел несколько дней, молясь на могиле матери, и уехал отсюда навсегда, к Кольбергу. Более мне ничего не оставалось делать: я был выбит из старой колеи и должен был искать новой.
– Я не могу быть ученым, как вы, – сказал я Альтанскому, – в душе моей горит другой огонь: огонь жизни; я хочу служить искусству.
– И служи ему, – отвечал он в час нашей разлуки, когда я в последний раз поцеловал его в бледные уста.
Он остался на берегу Днепра, а я уехал к Кольбергу. С тех пор я уже не видал старика, он умер – не от грусти, не от печали одиночества, а просто от смерти, и прислал мне в наследие своих классиков; а я… я вступил в новую жизнь – в новую колею ошибок, которые запишу когда-нибудь; конечно, уже не в эту тетрадь, заключающую дни моего детства и юношества, проведенные между людьми, которым да будет мирный сон и вечная память.
1874Примечания
1
С начала (лат.).
(обратно)2
Бабушку (нем.).
(обратно)3
Добрый вечер (новогреч.).
(обратно)4
Желаем здравствовать (дословно: всего наилучшего – новогреч.)
(обратно)5
Знание дела (франц.).
(обратно)6
Усиление звучности (итал.; муз. термин).
(обратно)7
Громко, в полную силу звука (итал.; муз. термин).
(обратно)8
Дополнение (франц.).
(обратно)9
На закуску (франц.).
(обратно)10
Ну, конечно, ну как же можно, ну без сомнения, мама… (франц.)
(обратно)11
Дорогая мама (франц.).
(обратно)12
Ну конечно, я сама, мой сын (франц.).
(обратно)13
Поляк с венгром – братья, как по оружию, так и за бутылкой (перев. Н. С. Лескова.).
(обратно)14
Судьба учит военному искусству даже побежденных (лат.).
(обратно)15
Хорошее взаимопонимание (франц.).
(обратно)16
Милостивая государыня (нем.).
(обратно)17
Я вижу, что вы во всем очень усовершенствовались (нем.).
(обратно)18
Здесь: осторожность, благопристойность, общественное уважение (нем.).
(обратно)19
Скажите мне, что вы любите (франц.).
(обратно)20
Весь мир (франц.).
(обратно)21
А ко всему этому следует вам добавить и то, что она очень глупа (польск.).
(обратно)22
Мой отец (франц.).
(обратно)23
Дорогой папа (франц.).
(обратно)24
Детально (франц.).
(обратно)25
В виде фрески (итал.).
(обратно)26
Предвечный, смилуйся надо мною, ибо я совсем без сил! Предвечный, обрати ко мне свой лик, спаси мою душу! (франц.)
(обратно)27
Поступайте так, как бы вы хотели, чтобы с вами поступали (франц.).
(обратно)28
В большом, в крупном (франц.).
(обратно)


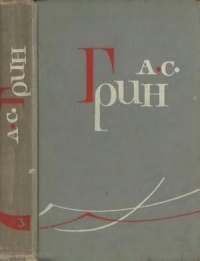
Комментарии к книге «Детские годы», Николай Семенович Лесков
Всего 0 комментариев