Антон Павлович Чехов Гусев
I
Уже потемнело, скоро ночь.
Гусев, бессрочноотпускной рядовой, приподнимается на койке и говорит вполголоса:
– Слышишь, Павел Иваныч? Мне один солдат в Сучане сказывал: ихнее судно, когда они шли, на рыбину наехало и днище себе проломило.
Человек неизвестного звания, к которому он обращается и которого все в судовом лазарете зовут Павлом Иванычем, молчит, как будто не слышит.
И опять наступает тишина... Ветер гуляет по снастям, стучит винт, хлещут волны, скрипят койки, но ко всему этому давно уже привыкло ухо, и кажется, что все кругом спит и безмолвствует. Скучно. Те трое больных – два солдата и один матрос, – которые весь день играли в карты, уже спят и бредят.
Кажется, начинает покачивать. Койка под Гусевым медленно поднимается и опускается, точно вздыхает, – и этак раз, другой, третий... Что-то ударилось о пол и зазвенело: должно быть, кружка упала.
– Ветер с цепи сорвался... – говорит Гусев, прислушиваясь.
На этот раз Павел Иваныч кашляет и отвечает раздраженно:
– То у тебя судно на рыбу наехало, то ветер с цепи сорвался... Ветер зверь, что ли, что с цепи срывается?
– Так крещеные говорят.
– И крещеные такие же невежды, как ты... Мало ли чего они не говорят? Надо свою голову иметь на плечах и рассуждать. Бессмысленный человек.
Павел Иваныч подвержен морской болезни. Когда качает, он обыкновенно сердится и приходит в раздражение от малейшего пустяка. А сердиться, по мнению Гусева, положительно не на что. Что странного или мудреного, например, хоть в рыбе или в ветре, который срывается с цепи? Положим, что рыба величиной с гору и что спина у нее твердая, как у осетра; также положим, что там, где конец света, стоят толстые каменные стены, а к стенам прикованы злые ветры... Если они не сорвались с цепи, то почему же они мечутся по всему морю, как угорелые, и рвутся, словно собаки? Если их не приковывают, то куда же они деваются, когда бывает тихо?
Гусев долго думает о рыбах величиною с гору и о толстых, заржавленных цепях, потом ему становится скучно, и он начинает думать о родной стороне, куда теперь возвращается он после пятилетней службы на Дальнем Востоке. Рисуется ему громадный пруд, занесенный снегом... На одной стороне пруда фарфоровый завод кирпичного цвета, с высокой трубой и с облаками черного дыма; на другой стороне – деревня... Из двора, пятого с краю, едет в санях брат Алексей; позади него сидят сынишка Ванька, в больших валенках, и девчонка Акулька, тоже в валенках. Алексей выпивши. Ванька смеется, а Акулькина лица не видать – закуталась.
«Не ровен час, детей поморозит...» – думает Гусев.
– Пошли им, господи, – шепчет он, – ума-разума, чтоб родителей почитали и умней отца-матери не были...
– Тут нужны новые подметки, – бредит басом больной матрос. – Да, да!
Мысли у Гусева обрываются, и вместо пруда вдруг ни к селу ни к городу показывается большая бычья голова без глаз, а лошадь и сани уж не едут, а кружатся в черном дыму. Но он все-таки рад, что повидал родных. Радость захватывает у него дыхание, бегает мурашками по телу, дрожит в пальцах.
– Привел господь повидаться! – бредит он, но тотчас же открывает глаза и ищет в потемках воду.
Он пьет и ложится, и опять едут сани, потом опять бычья голова без глаз, дым, облака... И так до рассвета.
II
Сначала в потемках обозначается синий кружок – это круглое окошечко; потом Гусев мало-помалу начинает различать своего соседа по койке, Павла Иваныча. Этот человек спит сидя, так как в лежачем положении он задыхается. Лицо у него серое, нос длинный, острый, глаза, оттого что он страшно исхудал, громадные; виски впали, борода жиденькая, волосы на голове длинные... Глядя на лицо, никак не поймешь, какого он звания: барин ли, купец, или мужицкого звания? Судя по выражению и длинным волосам, он как будто бы постник, монастырский послушник, а прислушаешься к его словам – выходит как будто бы и не монах. От кашля, духоты и от своей болезни он изнемог, тяжело дышит и шевелит высохшими губами. Заметив, что Гусев глядит на него, он поворачивается к нему лицом и говорит:
– Я начинаю догадываться... Да... Я теперь отлично все понимаю.
– Что вы понимаете, Павел Иваныч?
– А вот что... Мне все казалось странным, как это вы, тяжело больные, вместо того чтобы находиться в покое, очутились на пароходе, где и духота, и жар, и качка, все, одним словом, угрожает вам смертью, теперь же для меня все ясно... Да... Ваши доктора сдали вас на пароход, чтобы отвязаться от вас. Надоело с вами возиться, со скотами... Денег вы им не платите, возня с вами, да и отчетность своими смертями портите – стало быть, скоты! А отделаться от вас не трудно... Для этого нужно только, во-первых, не иметь совести и человеколюбия и, во-вторых, обмануть пароходное начальство. Первое условие можно хоть и не считать, в этом отношении мы артисты, а второе всегда удается при некотором навыке. В толпе четырехсот здоровых солдат и матросов пять больных не бросаются в глаза; ну, согнали вас на пароход, смешали со здоровыми, наскоро сосчитали, и в суматохе ничего дурного не заметили, а когда пароход отошел, то и увидели: на палубе валяются параличные да чахоточные в последнем градусе...
Гусев не понимает Павла Иваныча; думая, что ему делают выговор, он говорит в свое оправдание:
– Я лежал на палубе потому, что сил не было; когда нас из баржи на пароход выгружали, я шибко озяб.
– Возмутительно! – продолжает Павел Иваныч. – Главное, отлично ведь знают, что вы не перенесете этого далекого перехода, а все-таки сажают вас сюда! Ну, положим, до Индейского океана вы дойдете, а потом что? Страшно подумать... И это благодарность за верную, беспорочную службу!
Павел Иваныч делает злые глаза, брезгливо морщится и говорит, задыхаясь:
– Вот бы кого в газетах расщелкать, так, чтобы перья посыпались!
Больные два солдата и матрос проснулись и уже играют в карты. Матрос полулежит на койке, солдаты сидят возле на полу и в самых неудобных позах. У одного солдата правая рука в повязке и на кисти наворочена целая шапка, так что карты держит он в правой подмышке или в локтевом сгибе, а ходит левой рукой. Сильно качает. Нельзя ни встать, ни чаю напиться, ни лекарства принять.
– Ты в денщиках служил? – спрашивает Павел Иваныч у Гусева.
– Точно так, в денщиках.
– Боже мой, боже мой! – говорит Павел Иваныч и печально покачивает головой. – Вырвать человека из родного гнезда, тащить пятнадцать тысяч верст, потом вогнать в чахотку и... и для чего все это, спрашивается? Для того, чтоб сделать из него денщика для какого-нибудь капитана Копейкина или мичмана Дырки. Как много логики!
– Дело не трудное, Павел Иваныч. Встанешь утром, сапоги почистишь, самовар поставишь, комнаты уберешь, а потом и делать нечего. Поручик целый день планты чертит, а ты хочешь – богу молись, хочешь – книжки читай, хочешь – на улицу ступай. Дай бог всякому такой жизни.
– Да, очень хорошо! Поручик планты чертит, а ты весь день на кухне сидишь и по родине тоскуешь... Планты... Не в плантах дело, а в жизни человеческой! Жизнь не повторяется, щадить ее нужно.
– Оно конечно, Павел Иваныч, дурному человеку нигде пощады нет, ни дома, ни на службе, но ежели ты живешь правильно, слушаешься, то какая кому надобность тебя обижать? Господа образованные, понимают... За пять лет я ни разу в карцере не сидел, а бит был, дай бог память, не больше одного раза...
– За что?
– За драку! У меня рука тяжелая, Павел Иваныч. Вошли к нам во двор четыре манзы: дрова носили, что ли, – не помню. Ну, мне скучно стало, я им того, бока помял, у одного проклятого из носа кровь пошла... Поручик увидел в окошко, осерчал и дал мне по уху.
– Глупый, жалкий ты человек... – шепчет Павел Иваныч. – Ничего ты не понимаешь.
Он совсем изнемог от качки и закрыл глаза; голова у него то откидывается назад, то опускается на грудь. Несколько раз пробует он лечь, но ничего у него не выходит: мешает удушье.
– А за что ты четырех манз побил? – спрашивает он, немного погодя.
– Так. Во двор вошли, я и побил.
И наступает тишина... Картежники играют часа два, с азартом и с руганью, но качка утомляет и их; они бросают карты и ложатся. Опять рисуется Гусеву большой пруд, завод, деревня... Опять едут сани, опять Ванька смеется, а Акулька-дура распахнула шубу и выставила ноги: глядите, мол, люди добрые, у меня не такие валенки, как у Ваньки, а новые.
– Шестой годочек пошел, а все еще разума нет! – бредит Гусев. – Заместо того, чтобы ноги задирать, подикась дядьке служивому напиться принеси. Гостинца дам.
Вот Андрон с кремневым ружьем на плече несет убитого зайца, а за ним идет дряхлый жид Исайчик и предлагает ему променять зайца на кусок мыла; вот черная телочка в сенях, вот Домна рубаху шьет и о чем-то плачет, а вот опять бычья голова без глаз, черный дым...
Наверху кто-то громко крикнул, пробежало несколько матросов; кажется, протащили по палубе что-то громоздкое или что-то треснуло. Опять пробежали... Уж не случилось ли несчастья? Гусев поднимает голову, прислушивается и видит: два солдата и матрос опять играют в карты; Павел Иваныч сидит и шевелит губами. Душно, нет сил дышать, пить хочется, а вода теплая, противная... Качка не унимается.
Вдруг с солдатом-картежником делается что-то странное. Он называет черви бубнами, путается в счете и роняет карты, потом испуганно и глупо улыбается и обводит всех глазами.
– Я сейчас, братцы... – говорит он и ложится на пол.
Все в недоумении. Его окликают, он не отзывается.
– Степан, может, тебе нехорошо? а? – спрашивает другой солдат с повязкой на руке. – Может, попа призвать? а?
– Ты, Степан, воды выпей... – говорит матрос. – На, братишка, пей.
– Ну, что ты его по зубам кружкой колотишь? – сердится Гусев. – Нешто не видишь, голова садовая?
– Что?
– Что! – передразнивает Гусев. – В нем дыхания нет, помер! Вот тебе – и что! Экий народ неразумный, господи ты боже мой!..
III
Качки нет, и Павел Иваныч повеселел. Он уже не сердится. Выражение лица у него хвастливое, задорное и насмешливое. Он как будто хочет сказать: «Да, сейчас я скажу вам такую штуку, что вы все от смеха животы себе порвете». Круглое окошечко открыто, и на Павла Иваныча дует мягкий ветерок. Слышны голоса, шлепанье весел о воду... Под самым окошечком кто-то завывает тоненьким, противным голоском: должно быть, китаец поет.
– Да, вот мы и на рейде, – говорит Павел Иваныч, насмешливо улыбаясь. – Еще какой-нибудь один месяц, и мы в России. Нда-с, многоуважаемые господа солдафоны. Приеду в Одессу, а оттуда прямо в Харьков. В Харькове у меня литератор приятель. Приду к нему и скажу: ну, брат, оставь на время свои гнусные сюжеты насчет бабьих амуров и красот природы и обличай двуногую мразь... Вот тебе темы...
Минуту он думает о чем-то, потом говорит:
– Гусев, а ты знаешь, как я надул их?
– Кого, Павел Иваныч?
– Да этих самых... Понимаешь ли, тут на пароходе существуют только первый и третий классы, причем в третьем классе дозволяется ехать одним только мужикам, то есть хамам. Если же ты в пиджаке и хоть издали похож на барина или на буржуа, то изволь ехать в первом классе. Хоть тресни, а выкладывай пятьсот рублей. К чему, спрашиваю, завели вы такой порядок? Уж не хотите ли поднять этим престиж российской интеллигенции? «Нисколько. Не пускаем вас просто потому, что в третьем классе нельзя ехать порядочному человеку: уж очень там скверно и безобразно». Да-с? Благодарю, что так заботитесь о порядочных людях. Но во всяком случае, скверно там или хорошо, а пятисот рублей у меня нет. Казны я не грабил, инородцев не эксплуатировал, контрабандой не занимался, никого не запорол до смерти, а потому судите: имею ли я право восседать в первом классе, а тем паче причислять себя к российской интеллигенции? Но их логикой не проймешь... Пришлось прибегнуть к надувательству. Надел я чуйку и большие сапоги, состроил пьяную хамскую рожу и иду к агенту: «Давай, говорю, ваше высокоблагородие, билетишко...»
– А вы сами какого звания? – спрашивает матрос.
– Духовного. Мой отец был честный поп. Всегда говорил великим мира сего правду в глаза и за это много страдал.
Павел Иваныч утомился говорить и задыхается, но все-таки продолжает:
– Да, я всегда говорю в лицо правду... Я никого и ничего не боюсь. В этом отношении между мной и вами – разница громадная. Вы люди темные, слепые, забитые, ничего вы не видите, а что видите, того не понимаете... Вам говорят, что ветер с цепи срывается, что вы скоты, печенеги, вы и верите; по шее вас бьют, вы ручку целуете; ограбит вас какое-нибудь животное в енотовой шубе и потом швырнет вам пятиалтынный на чай, а вы: «Пожалуйте, барин, ручку». Парии вы, жалкие люди... Я же другое дело. Я живу сознательно, я все вижу, как видит орел или ястреб, когда летает над землей, и все понимаю. Я воплощенный протест. Вижу произвол – протестую, вижу ханжу и лицемера – протестую, вижу торжествующую свинью – протестую. И я непобедим, никакая испанская инквизиция не может заставить меня замолчать. Да... Отрежь мне язык – буду протестовать мимикой, замуравь меня в погреб – буду кричать оттуда так, что за версту будет слышно, или уморю себя голодом, чтоб на их черной совести одним пудом было больше, убей меня – буду являться тенью. Все знакомые говорят мне: «Невыносимейший вы человек, Павел Иваныч!» Горжусь такой репутацией. Прослужил на Дальнем Востоке три года, а оставил после себя память на сто лет: со всеми разругался. Приятели пишут из России: «Не приезжай». А я вот возьму, да назло и приеду... Да... Вот это жизнь, я понимаю. Это можно назвать жизнью.
Гусев не слушает и смотрит в окошечко. На прозрачной, нежно-бирюзовой воде, вся залитая ослепительным, горячим солнцем, качается лодка. В ней стоят голые китайцы, протягивают вверх клетки с канарейками и кричат:
– Поет! Поет!
О лодку стукнулась другая лодка, пробежал паровой катер. А вот еще лодка: сидит в ней толстый китаец и ест палочками рис. Лениво колышется вода, лениво носятся над нею белые чайки.
«Вот этого жирного по шее бы смазать...» – думает Гусев, глядя на толстого китайца и зевая.
Он дремлет, и кажется ему, что вся природа находится в дремоте. Время бежит быстро. Незаметно проходит день, незаметно наступают потемки... Пароход не стоит уж на месте, а идет куда-то дальше.
IV
Проходит два дня. Павел Иваныч уже не сидит, а лежит; глаза у него закрыты, нос стал как будто острее.
– Павел Иваныч! – окликает его Гусев. – А, Павел Иваныч!
Павел Иваныч открывает глаза и шевелит губами.
– Вам нездорово?
– Ничего... – отвечает Павел Иваныч, задыхаясь. – Ничего, даже напротив... лучше... Видишь, я уже и лежать могу... Полегчало...
– Ну, и слава богу, Павел Иваныч.
– Как сравнишь себя с вами, жалко мне вас... бедняг. Легкие у меня здоровые, а кашель это желудочный... Я могу перенести ад, не то что Красное море! К тому же я отношусь критически и к болезни своей, и к лекарствам. А вы... вы темные... Тяжело вам, очень, очень тяжело!
Качки нет, тихо, но зато душно и жарко, как в бане; не только говорить, но даже слушать трудно. Гусев обнял колени, положил на них голову и думает о родной стороне. Боже мой, в такую духоту какое наслаждение думать о снеге и холоде! Едешь на санях; вдруг лошади испугались чего-то и понесли... Не разбирая ни дорог, ни канав, ни оврагов, несутся они, как бешеные, по всей деревне, через пруд, мимо завода, потом по полю... «Держи! – кричат во все горло заводские и встречные. – Держи!» Но зачем держать! Пусть резкий, холодный ветер бьет в лицо и кусает руки, пусть комья снега, подброшенные копытами, падают в шапку, за воротник, на шею, на грудь, пусть визжат полозья и обрываются постромки и вальки, черт с ними совсем! А какое наслаждение, когда опрокидываются сани и летишь со всего размаху в сугроб, прямо лицом в снег, а потом встанешь весь белый, с сосульками на усах; ни шапки, ни рукавиц, пояс развязался... Люди хохочут, собаки лают...
Павел Иваныч открывает наполовину один глаз, глядит им на Гусева и спрашивает тихо:
– Гусев, твой командир крал?
– А кто же его знает, Павел Иваныч! Мы не знаем, – до нас не доходит.
И затем много времени проходит в молчании. Гусев думает, бредит и то и дело пьет воду; ему трудно говорить, трудно слушать, и боится он, чтоб с ним не заговорили. Проходит час, другой, третий; наступает вечер, потом ночь, но он не замечает этого, а все сидит и думает о морозе.
Слышно, как будто кто вошел в лазарет, раздаются голоса, но проходит минут пять, и все смолкает.
– Царство небесное, вечный покой, – говорит солдат с повязкой на руке. – Неспокойный был человек!
– Что? – спрашивает Гусев. – Кого?
– Помер. Сейчас наверх унесли.
– Ну, что ж, – бормочет Гусев, зевая. – Царство небесное.
– Как, по-твоему, Гусев? – спрашивает после некоторого молчания солдат с повязкой. – Будет он в царстве небесном или нет?
– Про кого ты?
– Про Павла Иваныча.
– Будет... мучился долго. И то взять, из духовного звания, а у попов родни много. Замолят.
Солдат с повязкой садится на койку к Гусеву и говорит вполголоса:
– И ты, Гусев, не жилец на этом свете. Не доедешь ты до России.
– Нешто доктор или фельдшер сказывал? – спрашивает Гусев.
– Не то чтобы кто сказывал, а видать... Человека, который скоро помрет, сразу видно. Не ешь ты, не пьешь, исхудал – глядеть страшно. Чахотка, одним словом. Я говорю не для того, чтобы тебя тревожить, а к тому, может, ты захочешь причаститься и собороваться. А ежели у тебя деньги есть, то сдал бы ты их старшему офицеру.
– Я домой не написал... – вздыхает Гусев. – Помру, и не узнают.
– Узнают, – говорит басом больной матрос. – Когда помрешь, здесь запишут в вахтенный журнал, в Одессе дадут воинскому начальнику выписку, а тот пошлет в волость или куда там...
Гусеву становится жутко от такого разговора, и начинает его томить какое-то желание. Пьет он воду – не то; тянется к круглому окошечку и вдыхает горячий, влажный воздух – не то; старается думать о родной стороне, о морозе – не то... Наконец, ему кажется, что если он еще хоть минуту пробудет в лазарете, то непременно задохнется.
– Тяжко, братцы... – говорит он. – Я пойду наверх. Сведите меня, ради Христа, наверх!
– Ладно, – соглашается солдат с повязкой. – Ты не дойдешь, я тебя снесу. Держись за шею.
Гусев обнимает солдата за шею, тот обхватывает его здоровою рукою и несет наверх. На палубе вповалку спят бессрочноотпускные солдаты и матросы; их так много, что трудно пройти.
– Становись наземь, – говорит тихо солдат с повязкой. – Иди за мной потихоньку, держись за рубаху...
Темно. Нет огней ни на палубе, ни на мачтах, ни кругом на море. На самом носу стоит неподвижно, как статуя, часовой, но похоже на то, как будто и он спит. Кажется, что пароход предоставлен собственной воле и идет, куда хочет.
– В море теперь Павла Иваныча бросят... – говорит солдат с повязкой. – В мешок да в воду.
– Да. Порядок такой.
– А дома в земле лучше лежать. Все хоть мать придет на могилку да поплачет.
– Известно.
Запахло навозом и сеном. Понурив головы, стоят у борта быки. Раз, два, три... восемь штук! А вот и маленькая лошадка. Гусев протягивает руку, чтобы приласкать ее, но она мотнула головой, оскалила зубы и хочет укусить его за рукав.
– Прроклятая... – сердится Гусев.
Оба, он и солдат, тихо пробираются к носу, потом становятся у борта и молча глядят то вверх, то вниз. Наверху глубокое небо, ясные звезды, покой и тишина – точь-в-точь как дома в деревне, внизу же – темнота и беспорядок. Неизвестно для чего, шумят высокие волны. На какую волну ни посмотришь, всякая старается подняться выше всех, и давит, и гонит другую; на нее с шумом, отсвечивая своей белой гривой, налетает третья, такая же свирепая и безобразная.
У моря нет ни смысла, ни жалости. Будь пароход поменьше и сделан не из толстого железа, волны разбили бы его без всякого сожаления и сожрали бы всех людей, не разбирая святых и грешных. У парохода тоже бессмысленное и жестокое выражение. Это носатое чудовище прет вперед и режет на своем пути миллионы волн; оно не боится ни потемок, ни ветра, ни пространства, ни одиночества, ему все нипочем, и если бы у океана были свои люди, то оно, чудовище, давило бы их, не разбирая тоже святых и грешных.
– Где мы теперь? – спрашивает Гусев.
– Не знаю. Должно, в океане.
– Не видать земли...
– Где ж! Говорят, только через семь дней увидим.
Оба солдата смотрят на белую пену, отсвечивающую фосфором, молчат и думают. Первый нарушает молчание Гусев.
– А ничего нету страшного, – говорит он. – Только жутко, словно в темном лесу сидишь, а ежели б, положим, спустили сейчас на воду шлюпку и офицер приказал ехать за сто верст в море рыбу ловить – поехал бы. Или, скажем, крещеный упал бы сейчас в воду – упал бы и я за им. Немца или манзу не стал бы спасать, а за крещеным полез бы.
– А помирать страшно?
– Страшно. Мне хозяйства жалко. Брат у меня дома, знаешь, не степенный: пьяница, бабу зря бьет, родителей не почитает. Без меня все пропадет, а отец со старухой, гляди, по миру пойдут. Одначе, брат, ноги у меня не стоят, да и душно тут... Пойдем спать.
V
Гусев возвращается в лазарет и ложится на койку. По-прежнему томит его неопределенное желание, и он никак не может понять, что ему нужно. В груди давит, в голове стучит, во рту так сухо, что трудно пошевельнуть языком. Он дремлет и бредит, и, замученный кошмарами, кашлем и духотой, к утру крепко засыпает. Снится ему, что в казарме только что вынули хлеб из печи, а он залез в печь и парится в ней березовым веником. Спит он два дня, а на третий в полдень приходят сверху два матроса и выносят его из лазарета.
Его зашивают в парусину и, чтобы он стал тяжелее, кладут вместе с ним два железных колосника. Зашитый в парусину, он становится похожим на морковь или редьку: у головы широко, к ногам узко... Перед заходом солнца выносят его на палубу и кладут на доску; один конец доски лежит на борте, другой на ящике, поставленном на табурете. Вокруг стоят бессрочноотпускные и команда без шапок.
– Благословен бог наш, – начинает священник, – всегда, ныне и присно, и во веки веков!
– Аминь! – поют три матроса.
Бессрочноотпускные и команда крестятся и поглядывают в сторону на волны. Странно, что человек зашит в парусину и что он полетит сейчас в волны. Неужели это может случиться со всяким?
Священник посыпает Гусева землей и кланяется. Поют «вечную память».
Вахтенный приподнимает конец доски, Гусев сползает с нее, летит вниз головой, потом перевертывается в воздухе и – бултых! Пена покрывает его, и мгновение кажется он окутанным в кружева, но прошло это мгновение – и он исчезает в волнах.
Он быстро идет ко дну. Дойдет ли? До дна, говорят, четыре версты. Пройдя сажен восемь-десять, он начинает идти тише и тише, мерно покачивается, точно раздумывает, и, увлекаемый течением, уже несется в сторону быстрее, чем вниз.
Но вот встречает он на пути стаю рыбок, которых называют лоцманами. Увидев темное тело, рыбки останавливаются, как вкопанные, и вдруг все разом поворачивают назад и исчезают. Меньше чем через минуту они быстро, как стрелы, опять налетают на Гусева и начинают зигзагами пронизывать вокруг него воду...
После этого показывается другое темное тело. Это акула. Она важно и нехотя, точно не замечая Гусева, подплывает под него, и он опускается к ней на спину, затем она поворачивается вверх брюхом, нежится в теплой, прозрачной воде и лениво открывает пасть с двумя рядами зубов. Лоцмана в восторге; они остановились и смотрят, что будет дальше. Поигравши телом, акула нехотя подставляет под него пасть, осторожно касается зубами, и парусина разрывается во всю длину тела, от головы до ног; один колосник выпадает и, испугавши лоцманов, ударивши акулу по боку, быстро идет ко дну.
А наверху в это время, в той стороне, где заходит солнце, скручиваются облака; одно облако похоже на триумфальную арку, другое на льва, третье на ножницы... Из-за облаков выходит широкий зеленый луч и протягивается до самой средины неба; немного погодя рядом с этим ложится фиолетовый, рядом с ним золотой, потом розовый... Небо становится нежно-сиреневым. Глядя на это великолепное, очаровательное небо, океан сначала хмурится, но скоро сам приобретает цвета ласковые, радостные, страстные, какие на человеческом языке и назвать трудно.
1890


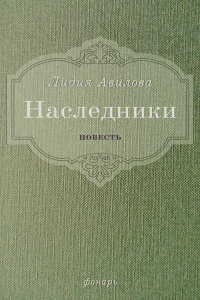
Комментарии к книге «Гусев», Антон Павлович Чехов
Всего 0 комментариев