Письмо к ученому соседу
Село Блины-Съедены
Дорогой Соседушка.
Максим… (забыл как по батюшке, извените великодушно!) Извените и простите меня старого старикашку и нелепую душу человеческую за то, что осмеливаюсь Вас беспокоить своим жалким письменным лепетом. Вот уж целый год прошел как Вы изволили поселиться в нашей части света по соседству со мной мелким человечиком, а я все еще не знаю Вас, а Вы меня стрекозу жалкую не знаете. Позвольте ж драгоценный соседушка хотя посредством сих старческих гиероглифоф познакомиться с Вами, пожать мысленно Вашу ученую руку и поздравить Вас с приездом из Санкт-Петербурга в наш недостойный материк, населенный мужиками и крестьянским народом т. е. плебейским элементом. Давно искал я случая познакомиться с Вами, жаждал, потому что наука в некотором роде мать наша родная, все одно как и цивилизация и потому что сердечно уважаю тех людей, знаменитое имя и звание которых, увенчанное ореолом популярной славы, лаврами, кимвалами, орденами, лентами и аттестатами гремит как гром и молния по всем частям вселенного мира сего видимого и невидимого т. е. подлунного. Я пламенно люблю астрономов, поэтов, метафизиков, приват-доцентов, химиков и других жрецов науки, к которым Вы себя причисляете чрез свои умные факты и отрасли наук, т. е. продукты и плоды. Говорят, что вы много книг напечатали во время умственного сидения с трубами, градусниками и кучей заграничных книг с заманчивыми рисунками. Недавно заезжал в мои жалкие владения, в мои руины и развалины местный максимус понтифекс[1] отец Герасим и со свойственным ему фанатизмом бранил и порицал Ваши мысли и идеи касательно человеческого происхождения и других явлений мира видимого и восставал и горячился против Вашей умственной сферы и мыслительного горизонта покрытого светилами и аэроглитами. Я не согласен с о. Герасимом касательно Ваших умственных идей, потому что живу и питаюсь одной только наукой, которую Провидение дало роду человеческому для вырытия из недр мира видимого и невидимого драгоценных металов, металоидов и бриллиантов, но все-таки простите меня, батюшка, насекомого еле видимого, если я осмелюсь опровергнуть по-стариковски некоторые Ваши идеи касательно естества природы. О. Герасим сообщил мне, что будто Вы сочинили сочинение в котором изволили изложить не весьма существенные идеи на щот людей и их первородного состояния и допотопного бытия. Вы изволили сочинить что человек произошел от обезьянских племен мартышек орангуташек и т. п. Простите меня старичка, но я с Вами касательно этого важного пункта не согласен и могу Вам запятую поставить. Ибо, если бы человек, властитель мира, умнейшее из дыхательных существ, происходил от глупой и невежественной обезьяны то у него был бы хвост и дикий голос. Если бы мы происходили от обезьян, то нас теперь водили бы по городам Цыганы на показ и мы платили бы деньги за показ друг друга, танцуя по приказу Цыгана или сидя за решеткой в зверинце. Разве мы покрыты кругом шерстью? Разве мы не носим одеяний, коих лишены обезьяны? Разве мы любили бы и не презирали бы женщину, если бы от нее хоть немножко пахло бы обезьяной, которую мы каждый вторник видим у Предводителя Дворянства? Если бы наши прародители происходили от обезьян, то их не похоронили бы на христианском кладбище; мой прапрадед например Амвросий, живший во время оно в царстве Польском был погребен не как обезьяна, а рядом с абатом католическим Иоакимом Шостаком, записки коего об умеренном климате и неумеренном употреблении горячих напитков хранятся еще доселе у брата моего Ивана (Маиора). Абат значит католический поп. Извените меня неука за то, что мешаюсь в Ваши ученые дела и толкую по-своему по старчески и навязываю вам свои дикообразные и какие-то аляповатые идеи, которые у ученых и цивилизованных людей скорей помещаются в животе чем в голове. Не могу умолчать и не терплю когда ученые неправильно мыслят в уме своем и не могу не возразить Вам. О. Герасим сообщил мне, что вы неправильно мыслите об луне, т. е. об месяце, который заменяет нам солнце в часы мрака и темноты, когда люди спят, а Вы проводите электричество с места на место и фантазируете. Не смейтесь над стариком за то что так глупо пишу. Вы пишете, что на луне, т. е. на месяце, живут и обитают люди и племена. Этого не может быть никогда, потому что если бы люди жили на луне то заслоняли бы для нас магический и волшебный свет ее своими домами и тучными пастбищами. Без дождика люди не могут жить, а дождь идет вниз на землю, а не вверх на луну. Люди живя на луне падали бы вниз на землю, а этого не бывает. Нечистоты и помои сыпались бы на наш материк с населенной луны. Могут ли люди жить на луне, если она существует только ночью, а днем исчезает? И правительства не могут дозволить жить на луне, потому что на ней по причине далекого расстояния и недосягаемости ее можно укрываться от повинностей очень легко. Вы немножко ошиблись. Вы сочинили и напечатали в своем умном соченении, как сказал мне о. Герасим, что будто бы на самом величайшем светиле, на солнце, есть черные пятнушки. Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Как Вы могли видеть на солнце пятны, если на солнце нельзя глядеть простыми человеческими глазами, и для чего на нем пятны, если и без них можно обойтиться? Из какого мокрого тела сделаны эти самые пятны, если они не сгорают? Может быть, по-вашему и рыбы живут на солнце? Извените меня дурмана ядовитого, что так глупо съострил! Ужасно я предан науке! Рубль сей парус девятнадцатого столетия для меня не имеет никакой цены, наука его затемнила у моих глаз своими дальнейшими крылами. Всякое открытие терзает меня как гвоздик в спине. Хотя я невежда и старосветский помещик, а все же таки негодник старый занимаюсь наукой и открытиями, которые собственными руками произвожу и наполняю свою нелепую головешку, свой дикий череп мыслями и комплектом величайших знаний. Матушка природа есть книга, которую надо читать и видеть. Я много произвел открытий своим собственным умом, таких открытий, каких еще ни один реформатор не изобретал. Скажу без хвастовства, что я не из последних касательно образованности, добытой мозолями, а не богатством родителей т. е. отца и матери или опекунов, которые часто губят детей своих посредством богатства, роскоши и шестиэтажных жилищ с невольниками и электрическими позвонками. Вот что мой грошовый ум открыл. Я открыл, что наша великая огненная лучистая хламида солнце в день Св. Пасхи рано утром занимательно и живописно играет разноцветными цветами и производит своим чудным мерцанием игривое впечатление. Другое открытие. Отчего зимою день короткий, а ночь длинная, а летом наоборот? День зимою оттого короткий, что подобно всем прочим предметам видимым и невидимым от холода сжимается и оттого, что солнце рано заходит, а ночь от возжения светильников и фонарей расширяется, ибо согревается. Потом я открыл еще, что собаки весной траву кушают подобно овцам и что кофей для полнокровных людей вреден, потому что производит в голове головокружение, а в глазах мутный вид и тому подобное прочее. Много я сделал открытий и кроме этого хотя и не имею аттестатов и свидетельств. Приежжайте ко мне дорогой соседушко, ей-богу. Откроем что-нибудь вместе, литературой займемся и Вы меня поганенького вычислениям различным поучите.
Я недавно читал у одного Французского ученого, что львиная морда совсем не похожа на человеческий лик, как думают ученыи. И насщот этого мы поговорим. Приежжайте, сделайте милость. Приежжайте хоть завтра например. Мы теперь постное едим, но для Вас будим готовить скоромное. Дочь моя Наташенька просила Вас, чтоб Вы с собой какие нибудь умные книги привезли. Она у меня эманципе все у ней дураки только она одна умная. Молодеж теперь я Вам скажу дает себя знать. Дай им бог! Через неделю ко мне прибудет брат мой Иван (Маиор), человек хороший но между нами сказать, Бурбон и наук не любит. Это письмо должен Вам доставить мой ключник Трофим ровно в 8 часов вечера. Если же привезет его пожже, то побейте его по щекам, по профессорски, нечего с этим племенем церемониться. Если доставит пожже то значит в кабак анафема заходил. Обычай ездить к соседям не нами выдуман не нами и окончится, а потому непременно приежжайте с машинками и книгами. Я бы сам к Вам поехал, да конфузлив очень и смелости не хватает. Извените меня негодника за беспокойство.
Остаюсь уважающий Вас Войска Донского отставной урядник из дворян, ваш сосед
Василий Семи-Булатов.1880Радость
Было двенадцать часов ночи.
Митя Кулдаров, возбужденный, взъерошенный, влетел в квартиру своих родителей и быстро заходил по всем комнатам. Родители уже ложились спать. Сестра лежала в постели и дочитывала последнюю страничку романа. Братья-гимназисты спали.
– Откуда ты? – удивились родители. – Что с тобой?
– Ох, не спрашивайте! Я никак не ожидал! Нет, я никак не ожидал! Это… это даже невероятно!
Митя захохотал и сел в кресло, будучи не в силах держаться на ногах от счастья.
– Это невероятно! Вы не можете себе представить! Вы поглядите!
Сестра спрыгнула с постели и, накинув на себя одеяло, подошла к брату. Гимназисты проснулись.
– Что с тобой? На тебе лица нет!
– Это я от радости, мамаша! Ведь теперь меня знает вся Россия! Вся! Раньше только вы одни знали, что на этом свете существует коллежский регистратор Дмитрий Кулдаров, а теперь вся Россия знает об этом! Мамаша! О, господи!
Митя вскочил, побегал по всем комнатам и опять сел.
– Да что такое случилось? Говори толком!
– Вы живете, как дикие звери, газет не читаете, не обращаете никакого внимания на гласность, а в газетах так много замечательного! Ежели что случится, сейчас все известно, ничего не укроется! Как я счастлив! О, господи! Ведь только про знаменитых людей в газетах печатают, а тут взяли да про меня напечатали!
– Что ты? Где?
Папаша побледнел. Мамаша взглянула на образ и перекрестилась. Гимназисты вскочили и, как были, в одних коротких ночных сорочках, подошли к своему старшему брату.
– Да-с! Про меня напечатали! Теперь обо мне вся Россия знает! Вы, мамаша, спрячьте этот нумер на память! Будем читать иногда. Поглядите!
Митя вытащил из кармана номер газеты, подал отцу и ткнул пальцем в место, обведенное синим карандашом.
– Читайте!
Отец надел очки.
– Читайте же!
Мамаша взглянула на образ и перекрестилась. Папаша кашлянул и начал читать:
– «29 декабря, в 11 часов вечера, коллежский регистратор Дмитрий Кулдаров…
– Видите, видите? Дальше!
– …коллежский регистратор Дмитрий Кулдаров, выходя из портерной, что на Малой Бронной, в доме Козихина, и находясь в нетрезвом состоянии…
– Это я с Семеном Петровичем… Все до тонкостей описано! Продолжайте! Дальше! Слушайте!
– …и находясь в нетрезвом состоянии, поскользнулся и упал под лошадь стоявшего здесь извозчика, крестьянина деревни Дурыкиной, Юхновского уезда, Ивана Дротова. Испуганная лошадь, перешагнув через Кулдарова и протащив через него сани с находившимся в них второй гильдии московским купцом Степаном Луковым, помчалась по улице и была задержана дворниками. Кулдаров, вначале находясь в бесчувственном состоянии, был отведен в полицейский участок и освидетельствован врачом. Удар, который он получил по затылку…
– Это я об оглоблю, папаша. Дальше! Вы дальше читайте!
– …который он получил по затылку, отнесен к легким. О случившемся составлен протокол. Потерпевшему подана медицинская помощь…»
– Велели затылок холодной водой примачивать. Читали теперь? А? То-то вот! Теперь по всей России пошло! Дайте сюда!
Митя схватил газету, сложил ее и сунул в карман.
– Побегу к Макаровым, им покажу… Надо еще Иваницким показать, Наталии Ивановне, Анисиму Васильичу… Побегу! Прощайте!
Митя надел фуражку с кокардой и, торжествующий, радостный, выбежал на улицу.
1883Загадочная натура
Купе первого класса.
На диване, обитом малиновым бархатом, полулежит хорошенькая дамочка. Дорогой бахромчатый веер трещит в ее судорожно сжатой руке, pince-nez то и дело спадает с ее хорошенького носика, брошка на груди то поднимается, то опускается, точно ладья среди волн. Она взволнована… Против нее на диванчике сидит губернаторский чиновник особых поручений, молодой начинающий писатель, помещающий в губернских ведомостях небольшие рассказы или, как сам он называет, «новэллы» – из великосветской жизни… Он глядит ей в лицо, глядит в упор, с видом знатока. Он наблюдает, изучает, улавливает эту эксцентрическую, загадочную натуру, понимает ее, постигает… Душа ее, вся ее психология у него как на ладони.
– О, я постигаю вас! – говорит чиновник особых поручений, целуя ее руку около браслета. – Ваша чуткая, отзывчивая душа ищет выхода из лабиринта… Да! Борьба страшная, чудовищная, но… не унывайте! Вы будете победительницей! Да!
– Опишите меня, Вольдемар! – говорит дамочка, грустно улыбаясь. – Жизнь моя так полна, так разнообразна, так пестра… Но главное – я несчастна! Я страдалица во вкусе Достоевского… Покажите миру мою душу, Вольдемар, покажите эту бедную душу! Вы – психолог. Не прошло и часа, как мы сидим в купе и говорим, а вы уже постигли меня всю, всю!
– Говорите! Умоляю вас, говорите!
– Слушайте! Родилась я в бедной чиновничьей семье. Отец добрый малый, умный, но… дух времени и среды… vous comprenez,[2] я не виню моего бедного отца. Он пил, играл в карты… брал взятки… Мать же… Да что говорить! Нужда, борьба за кусок хлеба, сознание ничтожества… Ах, не заставляйте меня вспоминать! Мне нужно было самой пробивать себе путь… Уродливое институтское воспитание, чтение глупых романов, ошибки молодости, первая робкая любовь… А борьба со средой? Ужасно! А сомнения? А муки зарождающегося неверия в жизнь, в себя?.. Ах! Вы писатель и знаете нас, женщин. Вы поймете… К несчастью, я наделена широкой натурой… Я ждала счастья, и какого! Я жаждала быть человеком! Да! Быть человеком – в этом я видела свое счастье!
– Чудная! – лепечет писатель, целуя руку около браслета. – Не вас целую, дивная, а страдание человеческое! Помните Раскольникова? Он так целовал.
– О, Вольдемар! Мне нужна была слава… шум, блеск, как для всякой – к чему скромничать? – недюжинной натуры. Я жаждала чего-то необыкновенного… не женского! И вот… И вот… подвернулся на моем пути богатый старик-генерал… Поймите меня, Вольдемар! Ведь это было самопожертвование, самоотречение, поймите вы! Я не могла поступить иначе. Я обогатила семью, стала путешествовать, делать добро… А как я страдала, как невыносимы, низменно-пошлы были для меня объятия этого генерала, хотя, надо отдать ему справедливость, в свое время он храбро сражался. Бывали минуты… ужасные минуты! Но меня подкрепляла мысль, что старик не сегодня-завтра умрет, что я стану жить, как хотела, отдамся любимому человеку, буду счастлива… А у меня есть такой человек, Вольдемар! Видит бог, есть!
Дамочка усиленно машет веером. Лицо ее принимает плачущее выражение.
– Но вот старик умер… Мне он оставил кое-что, я свободна, как птица. Теперь-то и жить мне счастливо… Не правда ли, Вольдемар? Счастье стучится ко мне в окно. Стоит только впустить его, но… нет! Вольдемар, слушайте, заклинаю вас! Теперь-то и отдаться любимому человеку, сделаться его подругой, помощницей, носительницей его идеалов, быть счастливой… отдохнуть… Но как все пошло, гадко и глупо на этом свете! Как все подло, Вольдемар! Я несчастна, несчастна, несчастна! На моем пути опять стоит препятствие! Опять я чувствую, что счастье мое далеко, далеко! Ах, сколько мук, если б вы знали! Сколько мук!
– Но что же? Что стало на вашем пути? Умоляю вас, говорите! Что же?
– Другой богатый старик…
Изломанный веер закрывает хорошенькое личико. Писатель подпирает кулаком свою многодумную голову, вздыхает и с видом знатока-психолога задумывается. Локомотив свищет и шикает, краснеют от заходящего солнца оконные занавесочки…
1883Смерть чиновника
В один прекрасный вечер не менее прекрасный экзекутор, Иван Дмитрич Червяков, сидел во втором ряду кресел и глядел в бинокль на «Корневильские колокола». Он глядел и чувствовал себя наверху блаженства. Но вдруг… В рассказах часто встречается это «но вдруг». Авторы правы: жизнь так полна внезапностей! Но вдруг лицо его поморщилось, глаза подкатились, дыхание остановилось… он отвел от глаз бинокль, нагнулся и… апчхи!!! Чихнул, как видите. Чихать никому и нигде не возбраняется. Чихают и мужики, и полицеймейстеры, и иногда даже и тайные советники. Все чихают. Червяков нисколько не сконфузился, утерся платочком и, как вежливый человек, поглядел вокруг себя: не обеспокоил ли он кого-нибудь своим чиханьем? Но тут уж пришлось сконфузиться. Он увидел, что старичок, сидевший впереди него, в первом ряду кресел, старательно вытирал свою лысину и шею перчаткой и бормотал что-то. В старичке Червяков узнал статского генерала Бризжалова, служащего по ведомству путей сообщения.
«Я его обрызгал! – подумал Червяков. – Не мой начальник, чужой, но все-таки неловко. Извиниться надо».
Червяков кашлянул, подался туловищем вперед и зашептал генералу на ухо:
– Извините, ваше-ство, я вас обрызгал… я нечаянно…
– Ничего, ничего…
– Ради бога, извините. Я ведь… я не желал!
– Ах, сидите, пожалуйста! Дайте слушать!
Червяков сконфузился, глупо улыбнулся и начал глядеть на сцену. Глядел он, но уж блаженства больше не чувствовал. Его начало помучивать беспокойство. В антракте он подошел к Бризжалову, походил возле него и, поборовши робость, пробормотал.
– Я вас обрызгал, ваше-ство… Простите… Я ведь… не то чтобы…
– Ах, полноте… Я уж забыл, а вы всё о том же! – сказал генерал и нетерпеливо шевельнул нижней губой.
«Забыл, а у самого ехидство в глазах, – подумал Червяков, подозрительно поглядывая на генерала. – И говорить не хочет. Надо бы ему объяснить, что я вовсе не желал… что это закон природы, а то подумает, что я плюнуть хотел. Теперь не подумает, так после подумает!..»
Придя домой, Червяков рассказал жене о своем невежестве. Жена, как показалось ему, слишком легкомысленно отнеслась к происшедшему; она только испугалась, а потом, когда узнала, что Бризжалов «чужой», успокоилась.
– А все-таки ты сходи, извинись, – сказала она. – Подумает, что ты себя в публике держать не умеешь!
– То-то вот и есть! Я извинялся, да он как-то странно… Ни одного слова путного не сказал. Да и некогда было разговаривать.
На другой день Червяков надел новый мундир, подстригся и пошел к Бризжалову объяснить… Войдя в приемную генерала, он увидел там много просителей, а между просителями и самого генерала, который уже начал прием прошений. Опросив несколько просителей, генерал поднял глаза и на Червякова.
– Вчера в «Аркадии», ежели припомните, ваше-ство, – начал докладывать экзекутор, – я чихнул-с и… нечаянно обрызгал… Изв…
– Какие пустяки… Бог знает что! Вам что угодно? – обратился генерал к следующему просителю.
«Говорить не хочет! – подумал Червяков, бледнея. – Сердится, значит… Нет, этого нельзя так оставить… Я ему объясню…»
Когда генерал кончил беседу с последним просителем и направился во внутренние апартаменты, Червяков шагнул за ним и забормотал:
– Ваше-ство! Ежели я осмеливаюсь беспокоить ваше-ство, то именно из чувства, могу сказать, раскаяния!.. Не нарочно, сами изволите знать-с!
Генерал состроил плаксивое лицо и махнул рукой.
– Да вы просто смеетесь, милостисдарь! – сказал он, скрываясь за дверью.
«Какие же тут насмешки? – подумал Червяков. – Вовсе тут нет никаких насмешек! Генерал, а не может понять! Когда так, не стану же я больше извиняться перед этим фанфароном! Черт с ним! Напишу ему письмо, а ходить не стану! Ей-богу, не стану!»
Так думал Червяков, идя домой. Письма генералу он не написал. Думал, думал и никак не выдумал этого письма. Пришлось на другой день идти самому объяснять.
– Я вчера приходил беспокоить ваше-ство, – забормотал он, когда генерал поднял на него вопрошающие глаза, – не для того, чтобы смеяться, как вы изволили сказать. Я извинялся за то, что, чихая, брызнул-с… а смеяться я и не думал. Смею ли я смеяться? Ежели мы будем смеяться, так никакого тогда, значит, и уважения к персонам… не будет…
– Пошел вон!!! – гаркнул вдруг посипевший и затрясшийся генерал.
– Что-с? – спросил шепотом Червяков, млея от ужаса.
– Пошел вон!!! – повторил генерал, затопав ногами.
В животе у Червякова что-то оторвалось. Ничего не видя, ничего не слыша, он попятился к двери, вышел на улицу и поплелся… Придя машинально домой, не снимая вицмундира, он лег на диван и… помер.
1883Толстый и тонкий
На вокзале Николаевской железной дороги встретились два приятеля: один толстый, другой тонкий. Толстый только что пообедал на вокзале, и губы его, подернутые маслом, лоснились, как спелые вишни. Пахло от него хересом и флердоранжем. Тонкий же только что вышел из вагона и был навьючен чемоданами, узлами и картонками. Пахло от него ветчиной и кофейной гущей. Из-за его спины выглядывала худенькая женщина с длинным подбородком – его жена, и высокий гимназист с прищуренным глазом – его сын.
– Порфирий! – воскликнул толстый, увидев тонкого. – Ты ли это? Голубчик мой! Сколько зим, сколько лет!
– Батюшки! – изумился тонкий. – Миша! Друг детства! Откуда ты взялся?
Приятели троекратно облобызались и устремили друг на друга глаза, полные слез. Оба были приятно ошеломлены.
– Милый мой! – начал тонкий после лобызания. – Вот не ожидал! Вот сюрприз! Ну да погляди же на меня хорошенько! Такой же красавец, как и был! Такой же душонок и щеголь! Ах ты, господи! Ну, что же ты? Богат? Женат? Я уже женат, как видишь… Это вот моя жена, Луиза, урожденная Ванценбах… лютеранка… А это сын мой, Нафанаил, ученик третьего класса. Это, Нафаня, друг моего детства! В гимназии вместе учились!
Нафанаил немного подумал и снял шапку.
– В гимназии вместе учились! – продолжал тонкий. – Помнишь, как тебя дразнили? Тебя дразнили Геростратом за то, что ты казенную книжку папироской прожег, а меня Эфиальтом за то, что я ябедничать любил. Хо-хо… Детьми были! Не бойся, Нафаня! Подойди к нему поближе… А это моя жена, урожденная Ванценбах… лютеранка.
Нафанаил немного подумал и спрятался за спину отца.
– Ну, как живешь, друг? – спросил толстый, восторженно глядя на друга. – Служишь где? Дослужился?
– Служу, милый мой! Коллежским асессором уже второй год и Станислава имею. Жалованье плохое… ну, да бог с ним! Жена уроки музыки дает, я портсигары приватно из дерева делаю. Отличные портсигары! По рублю за штуку продаю. Если кто берет десять штук и более, тому, понимаешь, уступка. Пробавляемся кое-как. Служил, знаешь, в департаменте, а теперь сюда переведен столоначальником по тому же ведомству… Здесь буду служить. Ну, а ты как? Небось уже статский? А?
– Нет, милый мой, поднимай повыше, – сказал толстый. – Я уже до тайного дослужился… Две звезды имею.
Тонкий вдруг побледнел, окаменел, но скоро лицо его искривилось во все стороны широчайшей улыбкой; казалось, что от лица и глаз его посыпались искры. Сам он съежился, сгорбился, сузился… Его чемоданы, узлы и картонки съежились, поморщились… Длинный подбородок жены стал еще длиннее; Нафанаил вытянулся во фрунт и застегнул все пуговки своего мундира…
– Я, ваше превосходительство… Очень приятно-с! Друг, можно сказать, детства и вдруг вышли в такие вельможи-с! Хи-хи-с.
– Ну, полно! – поморщился толстый. – Для чего этот тон? Мы с тобой друзья детства – и к чему тут это чинопочитание!
– Помилуйте… Что вы-с… – захихикал тонкий, еще более съеживаясь. – Милостивое внимание вашего превосходительства… вроде как бы живительной влаги… Это вот, ваше превосходительство, сын мой Нафанаил… жена Луиза, лютеранка, некоторым образом…
Толстый хотел было возразить что-то, но на лице у тонкого было написано столько благоговения, сладости и почтительной кислоты, что тайного советника стошнило. Он отвернулся от тонкого и подал ему на прощанье руку.
Тонкий пожал три пальца, поклонился всем туловищем и захихикал, как китаец: «Хи-хи-хи». Жена улыбнулась. Нафанаил шаркнул ногой и уронил фуражку. Все трое были приятно ошеломлены.
1883Экзамен на чин
– Учитель географии Галкин на меня злобу имеет, и, верьте-с, я у него не выдержу сегодня экзамента, – говорил, нервно потирая руки и потея, приемщик X-го почтового отделения Ефим Захарыч Фендриков, седой, бородатый человек с почтенной лысиной и солидным животом. – Не выдержу… Это как бог свят… А злится он на меня совсем из-за пустяков-с. Приходит ко мне однажды с заказным письмом и сквозь всю публику лезет, чтоб я, видите ли, принял сперва его письмо, а потом уж прочие. Это не годится… Хоть он и образованного класса, а все-таки соблюдай порядок и жди. Я ему сделал приличное замечание. «Дожидайтесь, говорю, очереди, милостивый государь». Он вспыхнул и с той поры восстает на меня, аки Саул. Сынишке моему Егорушке единицы выводит, а про меня разные названия по городу распускает. Иду я однажды-с мимо трактира Кухтина, а он высунулся с бильярдным кием из окна и кричит в пьяном виде на всю площадь: «Господа, поглядите: марка, бывшая в употреблении, идет!»
Учитель русского языка Пивомедов, стоявший в передней Х-го уездного училища вместе с Фендриковым и снисходительно куривший его папиросу, пожал плечами и успокоил:
– Не волнуйтесь. У нас и примера не было, чтоб вашего брата на экзаменах резали. Проформа!
Фендриков успокоился, но ненадолго. Через переднюю прошел Галкин, молодой человек с жидкой, словно оборванной, бородкой, в парусинковых брюках и новом синем фраке. Он строго посмотрел на Фендрикова и прошел дальше.
Затем разнесся слух, что инспектор едет. Фендриков похолодел и стал ждать с тем страхом, который так хорошо известен всем подсудимым и экзаменующимся впервые. Через переднюю пробежал на улицу штатный смотритель уездного училища Хамов. За ним спешил навстречу к инспектору законоучитель Змиежалов в камилавке и с наперсным крестом. Туда же стремились и прочие учителя. Инспектор народных училищ Ахахов громко поздоровался, выразил свое неудовольствие на пыль и вошел в училище. Через пять минут приступили к экзаменам.
Проэкзаменовали двух поповичей на сельского учителя. Один выдержал, другой же не выдержал. Провалившийся высморкался в красный платок, постоял немного, подумал и ушел. Проэкзаменовали двух вольноопределяющихся третьего разряда. После этого пробил час Фендрикова…
– Вы где служите? – обратился к нему инспектор.
– Приемщиком в здешнем почтовом отделении, ваше высокородие, – проговорил он, выпрямляясь и стараясь скрыть от публики дрожание своих рук. – Прослужил двадцать один год, ваше высокородие, а ныне потребованы сведения для представления меня к чину коллежского регистратора, для чего и осмеливаюсь подвергнуться испытанию на первый классный чин.
– Так-с… Напишите диктант.
Пивомедов поднялся, кашлянул и начал диктовать густым, пронзительным басом, стараясь уловить экзаменующегося на словах, которые пишутся не так, как выговариваются: «Хараша халодная вада, кагда хочица пить» и проч.
Но как ни изощрялся хитроумный Пивомедов, диктант удался. Будущий коллежский регистратор сделал немного ошибок, хотя и напирал больше на красоту букв, чем на грамматику. В слове «чрезвычайно» он написал два «н», слово «лучше» написал «лутше», а словами «новое поприще» вызвал на лице инспектора улыбку, так как написал «новое подприще», но ведь все это не грубые ошибки.
– Диктант удовлетворителен, – сказал инспектор.
– Осмелюсь довести до сведения вашего высокородия, – сказал подбодренный Фендриков, искоса поглядывая на врага своего Галкина, – осмелюсь доложить, что геометрию я учил из книги Давыдова, отчасти же обучался ей у племянника Варсонофия, приезжавшего на каникулах из Троице-Сергиевской, Вифанской тож, семинарии. И планиметрию учил, и стереометрию… всё как есть…
– Стереометрии по программе не полагается.
– Не полагается? А я месяц над ней сидел… Этакая жалость! – вздохнул Фендриков.
– Но оставим пока геометрию. Обратимся к науке, которую вы, как чиновник почтового ведомства, вероятно, любите. География – наука почтальонов.
Все учителя почтительно улыбнулись. Фендриков был не согласен с тем, что география есть наука почтальонов (об этом нигде не было написано ни в почтовых правилах, ни в приказах по округу), но из почтительности сказал: «Точно так». Он нервно кашлянул и с ужасом стал ждать вопросов. Его враг Галкин откинулся на спинку стула и, не глядя на него, спросил протяжно:
– Э… скажите мне, какое правление в Турции?
– Известно какое… Турецкое…
– Гм!.. турецкое… Это понятие растяжимое. Там правление конституционное. А какие вы знаете притоки Ганга?
– Я географию Смирнова учил и, извините, не отчетливо выучил… Ганг, это которая река в Индии текет… река эта текет в океан.
– Я вас не про это спрашиваю. Какие притоки имеет Ганг? Не знаете? А где течет Аракс? И этого не знаете? Странно… Какой губернии Житомир?
– Тракт восемнадцать, место сто двадцать один.
На лбу у Фендрикова выступил холодный пот. Он замигал глазами и сделал такое глотательное движение, что показалось, будто он проглотил свой язык.
– Как перед истинным Богом, ваше высокородие, – забормотал он. – Даже отец протоиерей могут подтвердить… Двадцать один год прослужил, и теперь это самое, которое… Век буду Бога молить…
– Хорошо, оставим географию. Что вы из арифметики приготовили?
– И арифметику не отчетливо… Даже отец протоиерей могут подтвердить… Век буду Бога молить… С самого Покрова учусь, учусь и… ничего толку… Постарел для умственности… Будьте столь милостивы, ваше высокородие, заставьте вечно бога молить.
На ресницах у Фендрикова повисли слезы.
– Прослужил честно и беспорочно… Говею ежегодно… Даже отец протоиерей могут подтвердить… Будьте великодушны, ваше высокородие.
– Ничего не приготовили?
– Все приготовил-с, но ничего не помню-с… Скоро шестьдесят стукнет, ваше высокородие, где уж тут за науками угоняться? Сделайте милость!
– Уж и шапку с кокардой себе заказал… – сказал протоиерей Змиежалов и усмехнулся.
– Хорошо, ступайте!.. – сказал инспектор.
Через полчаса Фендриков шел с учителями в трактир Кухтина пить чай и торжествовал. Лицо у него сияло, в глазах светилось счастье, но ежеминутное почесывание затылка показывало, что его терзала какая-то мысль.
– Экая жалость! – бормотал он. – Ведь этакая, скажи на милость, глупость с моей стороны!
– Да что такое? – спросил Пивомедов.
– Зачем я стереометрию учил, ежели ее в программе нет? Ведь целый месяц над ней, подлой, сидел. Этакая жалость!
1884Хирургия
Земская больница. За отсутствием доктора, уехавшего жениться, больных принимает фельдшер Курятин, толстый человек лет сорока, в поношенной чечунчовой жакетке и в истрепанных триковых брюках. На лице выражение чувства долга и приятности. Между указательным и средним пальцами левой руки – сигара, распространяющая зловоние.
В приемную входит дьячок Вонмигласов, высокий, коренастый старик в коричневой рясе и с широким кожаным поясом. Правый глаз с бельмом и полузакрыт, на носу бородавка, похожая издали на большую муху. Секунду дьячок ищет глазами икону и, не найдя таковой, крестится на бутыль с карболовым раствором, потом вынимает из красного платочка просфору и с поклоном кладет ее перед фельдшером.
– Ааа… мое вам! – зевает фельдшер. – С чем пожаловали?
– С воскресным днем вас, Сергей Кузьмич… К вашей милости… Истинно и правдиво в псалтыри сказано, извините: «Питие мое с плачем растворях». Сел намедни со старухой чай пить и – ни боже мой, ни капельки, ни синь-порох, хоть ложись да помирай… Хлебнешь чуточку – и силы моей нету! А кроме того, что в самом зубе, но и всю эту сторону… Так и ломит, так и ломит! В ухо отдает, извините, словно в нем гвоздик или другой какой предмет: так и стреляет, так и стреляет! Согрешихом и беззаконновахом… Студными бо окалях душу грехми и в лености житие мое иждих… За грехи, Сергей Кузьмич, за грехи! Отец иерей после литургии упрекает: «Косноязычен ты, Ефим, и гугнив стал. Поёшь, и ничего у тебя не разберешь». А какое, судите, тут пение, ежели рта раскрыть нельзя, все распухши, извините, и ночь не спавши…
– Мда… Садитесь… Раскройте рот!
Вонмигласов садится и раскрывает рот.
Курятин хмурится, глядит в рот и среди пожелтевших от времени и табаку зубов усматривает один зуб, украшенный зияющим дуплом.
– Отец диакон велели водку с хреном прикладывать – не помогло. Гликерия Анисимовна, дай бог им здоровья, дали на руку ниточку носить с Афонской горы да велели теплым молоком зуб полоскать, а я, признаться, ниточку-то надел, а в отношении молока не соблюл: Бога боюсь, пост…
– Предрассудок… (Пауза.) Вырвать его нужно, Ефим Михеич!
– Вам лучше знать, Сергей Кузьмич, на то вы и обучены, чтоб это дело понимать как оно есть, что вырвать, а что каплями или прочим чем… На то вы, благодетели, и поставлены, дай бог вам здоровья, чтоб мы за вас денно и нощно, отцы родные… по гроб жизни…
– Пустяки… – скромничает фельдшер, подходя к шкапу и роясь в инструментах. – Хирургия – пустяки… Тут во всем привычка, твердость руки… Раз плюнуть… Намедни тоже, вот как и вы, приезжает в больницу помещик Александр Иваныч Египетский… Тоже с зубом… Человек образованный, обо всем расспрашивает, во все входит, как и что. Руку пожимает, по имени и отчеству… В Петербурге семь лет жил, всех профессоров перенюхал… Долго мы с ним тут… Христом-богом молит: вырвите вы мне его, Сергей Кузьмич! Отчего же не вырвать? Вырвать можно. Только тут понимать надо, без понятия нельзя… Зубы разные бывают. Один рвешь щипцами, другой козьей ножкой, третий ключом… Кому как.
Фельдшер берет козью ножку, минуту смотрит на нее вопросительно, потом кладет и берет щипцы.
– Ну-с, раскройте рот пошире… – говорит он, подходя с щипцами к дьячку. – Сейчас мы его… тово… Раз плюнуть… Десну подрезать только… тракцию сделать по вертикальной оси… и все… (подрезывает десну) и все…
– Благодетели вы наши… Нам, дуракам, и невдомек, а вас Господь просветил…
– Не рассуждайте, ежели у вас рот раскрыт… Этот легко рвать, а бывает так, что одни только корешки… Этот – раз плюнуть… (Накладывает щипцы.) Постойте, не дергайтесь… Сидите неподвижно… В мгновение ока… (Делает тракцию.) Главное, чтоб поглубже взять (тянет)… чтоб коронка не сломалась…
– Отцы наши… Мать пресвятая… Ввв…
– Не тово… не тово… как его? Не хватайте руками! Пустите руки! (Тянет.) Сейчас… Вот, вот… Дело-то ведь нелегкое…
– Отцы… радетели… (Кричит.) Ангелы! Ого-го… Да дергай же, дергай! Чего пять лет тянешь!
– Дело-то ведь… хирургия… Сразу нельзя… Вот, вот…
Вонмигласов поднимает колени до локтей, шевелит пальцами, выпучивает глаза, прерывисто дышит… На багровом лице его выступает пот, на глазах слезы. Курятин сопит, топчется перед дьячком и тянет. Проходят мучительнейшие полминуты – и щипцы срываются с зуба. Дьячок вскакивает и лезет пальцами в рот. Во рту нащупывает он зуб на старом месте.
– Тянул! – говорит он плачущим и в то же время насмешливым голосом. – Чтоб тебя так на том свете потянуло! Благодарим покорно! Коли не умеешь рвать, так не берись! Света божьего не вижу…
– А ты зачем руками хватаешь? – сердится фельдшер. – Я тяну, а ты мне под руку толкаешь и разные глупые слова… Дура!
– Сам ты дура!
– Ты думаешь, мужик, легко зуб-то рвать? Возьмись-ка! Это не то, что на колокольню полез да в колокола отбарабанил! (Дразнит.) «Не умеешь, не умеешь!» Скажи, какой указчик нашелся! Ишь ты… Господину Египетскому, Александру Иванычу, рвал, да и тот ничего, никаких слов… Человек почище тебя, а не хватал руками… Садись! Садись, тебе говорю!
– Света не вижу… Дай дух перевести… Ох! (Садится.) Не тяни только долго, а дергай. Ты не тяни, а дергай… Сразу!
– Учи ученого! Экий, господи, народ необразованный! Живи вот с этакими… очумеешь! Раскрой рот… (Накладывает щипцы.) Хирургия, брат, не шутка… Это не на клиросе читать… (Делает тракцию.) Не дергайся… Зуб, выходит, застарелый, глубоко корни пустил… (Тянет.) Не шевелись… Так… так… Не шевелись… Ну, ну… (Слышен хрустящий звук.) Так и знал!
Вонмигласов сидит минуту неподвижно, словно без чувств. Он ошеломлен… Глаза его тупо глядят в пространство, на бледном лице пот.
– Было б мне козьей ножкой… – бормочет фельдшер. – Этакая оказия!
Придя в себя, дьячок сует в рот пальцы и на месте больного зуба находит два торчащих выступа.
– Парршивый черт… – выговаривает он. – Насажали вас здесь, иродов, на нашу погибель!
– Поругайся мне еще тут… – бормочет фельдшер, кладя в шкаф щипцы. – Невежа… Мало тебя в бурсе березой потчевали… Господин Египетский, Александр Иваныч, в Петербурге лет семь жил… образованность… один костюм рублей сто стоит… да и то не ругался…
А ты что за пава такая? Ништо тебе, не околеешь!
Дьячок берет со стола свою просфору и, придерживая щеку рукой, уходит восвояси…
1884Хамелеон
Через базарную площадь идет полицейский надзиратель Очумелов в новой шинели и с узелком в руке. За ним шагает рыжий городовой с решетом, доверху наполненным конфискованным крыжовником. Кругом тишина… На площади ни души… Открытые двери лавок и кабаков глядят на свет божий уныло, как голодные пасти; около них нет даже нищих.
– Так ты кусаться, окаянная? – слышит вдруг Очумелов. – Ребята, не пущай ее! Нынче не велено кусаться! Держи! А… а!
Слышен собачий визг. Очумелов глядит в сторону и видит: из дровяного склада купца Пичугина, прыгая на трех ногах и оглядываясь, бежит собака. За ней гонится человек в ситцевой крахмальной рубахе и расстегнутой жилетке. Он бежит за ней и, подавшись туловищем вперед, падает на землю и хватает собаку за задние лапы. Слышен вторично собачий визг и крик: «Не пущай!» Из лавок высовываются сонные физиономии, и скоро около дровяного склада, словно из земли выросши, собирается толпа.
– Никак беспорядок, ваше благородие!.. – говорит городовой.
Очумелов делает полуоборот налево и шагает к сборищу. Около самых ворот склада, видит он, стоит вышеписанный человек в расстегнутой жилетке и, подняв вверх правую руку, показывает толпе окровавленный палец. На полупьяном лице его как бы написано: «Ужо я сорву с тебя, шельма!», да и самый палец имеет вид знамения победы. В этом человеке Очумелов узнает золотых дел мастера Хрюкина. В центре толпы, растопырив передние ноги и дрожа всем телом, сидит на земле сам виновник скандала – белый борзой щенок с острой мордой и желтым пятном на спине. В слезящихся глазах его выражение тоски и ужаса.
– По какому это случаю тут? – спрашивает Очумелов, врезываясь в толпу. – Почему тут? Это ты зачем палец?.. Кто кричал?
– Иду я, ваше благородие, никого не трогаю… – начинает Хрюкин, кашляя в кулак. – Насчет дров с Митрий Митричем, – и вдруг эта подлая ни с того ни с сего за палец… Вы меня извините, я человек, который работающий… Работа у меня мелкая. Пущай мне заплатят, потому – я этим пальцем, может, неделю не пошевельну… Этого, ваше благородие, и в законе нет, чтоб от твари терпеть… Ежели каждый будет кусаться, то лучше и не жить на свете…
– Гм!.. Хорошо… – говорит Очумелов строго, кашляя и шевеля бровями. – Хорошо… Чья собака? Я этого так не оставлю. Я покажу вам, как собак распускать! Пора обратить внимание на подобных господ, не желающих подчиняться постановлениям! Как оштрафуют его, мерзавца, так он узнает у меня, что значит собака и прочий бродячий скот! Я ему покажу кузькину мать!.. Елдырин, – обращается надзиратель к городовому, – узнай, чья это собака, и составляй протокол! А собаку истребить надо. Немедля! Она, наверное, бешеная… Чья это собака, спрашиваю?
– Это, кажись, генерала Жигалова! – говорит кто-то из толпы.
– Генерала Жигалова? Гм!.. Сними-ка, Елдырин, с меня пальто… Ужас как жарко! Должно полагать, перед дождем… Одного только я не понимаю: как она могла тебя укусить? – обращается Очумелов к Хрюкину. – Нешто она достанет до пальца? Она маленькая, а ты ведь вон какой здоровила! Ты, должно быть, расковырял палец гвоздиком, а потом и пришла в твою голову идея, чтоб соврать. Ты ведь… известный народ! Знаю вас, чертей!
– Он, ваше благородие, цигаркой ей в харю для смеха, а она – не будь дура и тяпни… Вздорный человек, ваше благородие!
– Врешь, кривой! Не видал, так, стало быть, зачем врать? Их благородие умный господин и понимают, ежели кто врет, а кто по совести, как перед Богом… А ежели я вру, так пущай мировой рассудит. У него в законе сказано… Нынче все равны… У меня у самого брат в жандармах… ежели хотите знать…
– Не рассуждать!
– Нет, это не генеральская… – глубокомысленно замечает городовой. – У генерала таких нет. У него всё больше легавые…
– Ты это верно знаешь?
– Верно, ваше благородие…
– Я и сам знаю. У генерала собаки дорогие, породистые, а эта – черт знает что! Ни шерсти, ни вида… подлость одна только… И этакую собаку держать?!.. Где же у вас ум? Попадись этакая собака в Петербурге или Москве, то знаете, что было бы? Там не посмотрели бы в закон, а моментально – не дыши! Ты, Хрюкин, пострадал и дела этого так не оставляй… Нужно проучить! Пора…
– А может быть, и генеральская… – думает вслух городовой. – На морде у ней не написано… Намедни во дворе у него такую видел.
– Вестимо, генеральская! – говорит голос из толпы.
– Гм!.. Надень-ка, брат Елдырин, на меня пальто… Что-то ветром подуло… Знобит… Ты отведешь ее к генералу и спросишь там. Скажешь, что я нашел и прислал… И скажи, чтобы ее не выпускали на улицу… Она, может быть, дорогая, а ежели каждый свинья будет ей в нос сигаркой тыкать, то долго ли испортить. Собака – нежная тварь… А ты, болван, опусти руку! Нечего свой дурацкий палец выставлять! Сам виноват!..
– Повар генеральский идет, его спросим… Эй, Прохор! Поди-ка, милый, сюда! Погляди на собаку… Ваша?
– Выдумал! Этаких у нас отродясь не бывало!
– И спрашивать тут долго нечего, – говорит Очумелов. – Оно бродячая! Нечего тут долго разговаривать… Ежели сказал, что бродячая, стало быть, и бродячая… Истребить, вот и все.
– Это не наша, – продолжает Прохор. – Это генералова брата, что намеднись приехал. Наш не охотник до борзых. Брат ихний охоч…
– Да разве братец ихний приехали? Владимир Иваныч? – спрашивает Очумелов, и все лицо его заливается улыбкой умиления. – Ишь ты, господи! А я и не знал! Погостить приехали?
– В гости…
– Ишь ты, господи… Соскучились по братце… А я ведь и не знал! Так это ихняя собачка? Очень рад… Возьми ее… Собачонка ничего себе… Шустрая такая… Цап этого за палец! Ха-ха-ха… Ну, чего дрожишь? Ррр… Рр… Сердится, шельма, цуцик этакий…
Прохор зовет собаку и идет с ней от дровяного склада… Толпа хохочет над Хрюкиным.
– Я еще доберусь до тебя! – грозит ему Очумелов и, запахиваясь в шинель, продолжает свой путь по базарной площади.
1884Надлежащие меры
Маленький заштатный городок, которого, по выражению местного тюремного смотрителя, на географической карте даже под телескопом не увидишь, освещен полуденным солнцем. Тишина и спокойствие. По направлению от думы к торговым рядам медленно подвигается санитарная комиссия, состоящая из городового врача, полицейского надзирателя, двух уполномоченных от думы и одного торгового депутата. Сзади почтительно шагают городовые… Путь комиссии, как путь в ад, усыпан благими намерениями. Санитары идут и, размахивая руками, толкуют о нечистоте, вони, надлежащих мерах и прочих холерных материях. Разговоры до того умные, что идущий впереди всех полицейский надзиратель вдруг приходит в восторг и, обернувшись, заявляет:
– Вот так бы нам, господа, почаще собираться да рассуждать! И приятно, и в обществе себя чувствуешь, а то только и знаем, что ссоримся. Да ей-богу!
– С кого бы нам начать? – обращается торговый депутат к врачу тоном палача, выбирающего жертву. – Не начать ли нам, Аникита Николаич, с лавки Ошейникова? Мошенник, во-первых, и… во-вторых, пора уж до него добраться. Намедни приносят мне от него гречневую крупу, а в ней, извините, крысиный помет… Жена так и не ела!
– Ну что ж? С Ошейникова начинать, так с Ошейникова, – говорит безучастно врач.
Санитары входят в «Магазин чаю, сахару и кофию и прочих колоннеальных товаров А. М. Ошейникова» и тотчас же, без длинных предисловий, приступают к ревизии.
– М-да-с… – говорит врач, рассматривая красиво сложенные пирамиды из казанского мыла. – Каких ты у себя здесь из мыла вавилонов настроил! Изобретательность, подумаешь! Э… э… э! Это что же такое? Поглядите, господа! Демьян Гаврилыч изволит мыло и хлеб одним и тем же ножом резать!
– От этого холеры не выйдет-с, Аникита Николаич! – резонно замечает хозяин.
– Оно-то так, но ведь противно! Ведь и я у тебя хлеб покупаю.
– Для кого поблагородней мы особый нож держим. Будьте покойны-с… Что вы-с…
Полицейский надзиратель щурит свои близорукие глаза на окорок, долго царапает его ногтем, громко нюхает, затем, пощелкав по окороку пальцем, спрашивает:
– А он у тебя, бывает, не с стрихнинами?
– Что вы-с… Помилуйте-с… Нешто можно-с!
Надзиратель конфузится, отходит от окорока и щурит глаза на прейскурант Асмолова и K°. Торговый депутат запускает руку в бочонок с гречневой крупой и ощущает там что-то мягкое, бархатистое… Он глядит туда, и по лицу его разливается нежность.
– Кисаньки… кисаньки! Манюнечки мои! – лепечет он. – Лежат в крупе и мордочки подняли… нежатся… Ты бы, Демьян Гаврилыч, прислал мне одного котеночка!
– Это можно-с… А вот, господа, закуски, ежели желаете осмотреть… Селедки вот, сыр… балык, изволите видеть… Балык в четверг получил, самый лучший… Мишка, дай-ка сюда ножик!
Санитары отрезывают по куску балыка и, понюхав, пробуют.
– Закушу уж и я кстати… – говорит как бы про себя хозяин лавки Демьян Гаврилыч. – Там где-то у меня бутылочка валялась. Пойти перед балыком выпить… Другой вкус тогда… Мишка, дай-ка сюда бутылочку.
Мишка, надув щеки и выпучив глаза, раскупоривает бутылку и со звоном ставит ее на прилавок.
– Пить натощак… – говорит полицейский надзиратель, в нерешимости почесывая затылок. – Впрочем, ежели по одной… Только ты поскорей, Демьян Гаврилыч, нам некогда с твоей водкой!
Через четверть часа санитары, вытирая губы и ковыряя спичками в зубах, идут к лавке Голорыбенко. Тут, как назло, пройти негде… Человек пять молодцов, с красными, вспотевшими физиономиями, катят из лавки бочонок с маслом.
– Держи вправо!.. Тяни за край… тяни, тяни! Брусок подложи… а, черт! Отойдите, ваше благородие, ноги отдавим!
Бочонок застревает в дверях и – ни с места… Молодцы налегают на него и прут изо всех сил, испуская громкое сопенье и бранясь на всю площадь. После таких усилий, когда от долгих сопений воздух значительно изменяет свою чистоту, бочонок, наконец, выкатывается и почему-то, вопреки законам природы, катится назад и опять застревает в дверях. Сопенье начинается снова.
– Тьфу! – плюет надзиратель. – Пойдемте к Шибукину. Эти черти до вечера будут пыхтеть.
Шибукинскую лавку санитары находят запертой.
– Да ведь она же была отперта! – удивляются санитары переглядываясь. – Когда мы к Ошейникову входили, Шибукин стоял на пороге и медный чайник полоскал. Где он? – обращаются они к нищему, стоявшему около запертой лавки.
– Подайте милостыньку, Христа ради, – сипит нищий, – убогому калеке, что милость ваша, господа благодетели… родителям вашим…
Санитары машут руками и идут дальше, за исключением одного только уполномоченного от думы, Плюнина. Этот подает нищему копейку и, словно чего-то испугавшись, быстро крестится и бежит вдогонку за компанией.
Часа через два комиссия идет обратно. Вид у санитаров утомленный, замученный. Ходили они недаром: один из городовых, торжественно шагая, несет лоток, наполненный гнилыми яблоками.
– Теперь, после трудов праведных, недурно бы дрызнуть, – говорит надзиратель, косясь на вывеску «Ренсковый погреб вин и водок». – Подкрепиться бы.
– М-да, не мешает. Зайдемте, если хотите!
Санитары спускаются в погреб и садятся вокруг круглого стола с погнувшимися ножками. Надзиратель кивает сидельцу, и на столе появляется бутылка.
– Жаль, что закусить нечем, – говорит торговый депутат, выпивая и морщась. – Огурчика дал бы, что ли… Впрочем…
Депутат поворачивается к городовому с лотком, выбирает наиболее сохранившееся яблоко и закусывает.
– Ах… тут есть и не очень гнилые! – как бы удивляется надзиратель. – Дай-ка и я себе выберу! Да ты поставь здесь лоток… Какие лучше – мы выберем, почистим, а остальные можешь уничтожить. Аникита Николаич, наливайте! Вот так почаще бы нам собираться да рассуждать. А то живешь-живешь в этой глуши, никакого образования, ни клуба, ни общества – Австралия, да и только! Наливайте, господа! Доктор, яблочек! Самолично для вас очистил!
. . .
– Ваше благородие, куда лоток девать прикажете? – спрашивает городовой надзирателя, выходящего с компанией из погреба.
– Ло… лоток? Который лоток? П-понимаю! Уничтожь вместе с яблоками… потому – зараза!
– Яблоки вы изволили скушать!
– А-а… очень приятно! Послушш… поди ко мне домой и скажи Марье Власьевне, чтоб не сердилась… Я только на часок… к Плюнину спать… Понимаешь? Спать… объятия Морфея… Шпрехен зи деич, Иван Андреич.
И, подняв к небу глаза, надзиратель горько качает головой, растопыривает руки и говорит:
– Так и вся жизнь наша!
1884Маска
В Х-ом общественном клубе с благотворительной целью давали бал-маскарад, или, как его называли местные барышни, бал-парей.[3]
Было двенадцать часов ночи. Не танцующие интеллигенты без масок – их было пять душ – сидели в читальне за большим столом и, уткнув носы и бороды в газеты, читали, дремали и, по выражению местного корреспондента столичных газет, очень либерального господина, – «мыслили».
Из общей залы доносились звуки кадрили «Вьюшки». Мимо двери, сильно стуча ногами и звеня посудой, то и дело пробегали лакеи. В самой же читальне царила глубокая тишина.
– Здесь, кажется, удобнее будет! – вдруг послышался низкий, придушенный голос, который, как казалось, выходил из печки. – Валяйте сюда! Сюда, ребята!
Дверь отворилась, и в читальню вошел широкий, приземистый мужчина, одетый в кучерской костюм и шляпу с павлиньими перьями, в маске. За ним следом вошли две дамы в масках и лакей с подносом. На подносе была пузатая бутыль с ликером, бутылки три красного и несколько стаканов.
– Сюда! Здесь и прохладнее будет, – сказал мужчина. – Становь поднос на стол… Садитесь, мамзели! Же ву при а-ля три-монтран! А вы, господа, подвиньтесь… нечего тут!
Мужчина покачнулся и смахнул рукой со стола несколько журналов.
– Становь сюда! А вы, господа читатели, подвиньтесь; некогда тут с газетами да с политикой… Бросайте!
– Я просил бы вас потише, – сказал один из интеллигентов, поглядев на маску через очки. – Здесь читальня, а не буфет… Здесь не место пить.
– Почему не место? Нешто стол качается или потолок обвалиться может? Чудно! Но… некогда разговаривать! Бросайте газеты… Почитали малость и будет с вас; и так уж умны очень, да и глаза попортишь, а главнее всего – я не желаю и все тут.
Лакей поставил поднос на стол и, перекинув салфетку через локоть, стал у двери. Дамы тотчас же принялись за красное.
– И как это есть такие умные люди, что для них газеты лучше этих напитков, – начал мужчина с павлиньими перьями, наливая себе ликеру. – А по моему мнению, вы, господа почтенные, любите газеты оттого, что вам выпить не на что. Так ли я говорю? Ха-ха!.. Читают! Ну а о чем там написано? Господин в очках! Про какие факты вы читаете? Ха-ха! Ну да брось! Будет тебе кочевряжиться! Выпей лучше!
Мужчина с павлиньими перьями приподнялся и вырвал газету из рук у господина в очках. Тот побледнел, потом покраснел и с удивлением поглядел на прочих интеллигентов, те – на него.
– Вы забываетесь, милостивый государь! – вспыхнул он. – Вы обращаете читальню в кабак, вы позволяете себе бесчинствовать, вырывать из рук газеты! Я не позволю! Вы не знаете, с кем имеете дело, милостивый государь! Я директор банка Жестяков!..
– А плевать мне, что ты – Жестяков! А газете твоей вот какая честь…
Мужчина поднял газету и изорвал ее в клочки.
– Господа, что же это такое? – пробормотал Жестяков, обомлев. – Это странно, это… это даже сверхъестественно…
– Они рассердившись, – засмеялся мужчина. – Фу-ты, ну-ты, испугался! Даже поджилки трясутся. Вот что, господа почтенные! Шутки в сторону, разговаривать с вами мне не охотно… Потому как я желаю остаться тут с мамзелями один и желаю себе тут удовольствие доставить, то прошу не претикословить и выйти… Пожалуйте-с! Господин Белебухин, выходи к свиньям собачьим! Что рыло наморщил? Говорю, выходи, стало быть, и выходи! Живо у меня, а то, гляди, не ровен час, как бы в шею не влетело!
– То есть как же это? – спросил казначей сиротского суда Белебухин, краснея и пожимая плечами. – Я даже не понимаю… Какой-то нахал врывается сюда и… вдруг этакие вещи!
– Какое это такое слово нахал? – крикнул мужчина с павлиньими перьями, рассердившись, и стукнул кулаком по столу, так что на подносе запрыгали стаканы. – Кому ты говоришь? Ты думаешь, как я в маске, так ты можешь мне разные слова говорить? Перец ты этакий! Выходи, коли говорю! Директор банка, проваливай подобру-поздорову! Все уходите, чтоб ни одной шельмы тут не оставалось! Айда, к свиньям собачьим!
– А вот мы сейчас увидим! – сказал Жестяков, у которого даже очки вспотели от волнения. – Я покажу вам! Эй, позови-ка сюда дежурного старшину!
Через минуту вошел маленький рыженький старшина с голубой ленточкой на лацкане, запыхавшийся от танцев.
– Прошу вас выйти! – начал он. – Здесь не место пить! Пожалуйте в буфет!
– Ты откуда это выскочил? – спросил мужчина в маске. – Нешто я тебя звал?
– Прошу не тыкать, а извольте выйти!
– Вот что, милый человек: даю тебе минуту сроку… Потому, как ты старшина и главное лицо, то вот выведи этих артистов под ручки. Мамзелям моим не ндравится, ежели здесь есть кто посторонний… Они стесняются, а я за свои деньги желаю, чтобы они были в натуральном виде.
– Очевидно, этот самодур не понимает, что он не в хлеву! – крикнул Жестяков. – Позвать сюда Евстрата Спиридоныча!
– Евстрат Спиридоныч! – понеслось по клубу. – Где Евстрат Спиридоныч?
Евстрат Спиридоныч, старик в полицейском мундире, не замедлил явиться.
– Прошу вас выйти отсюда! – прохрипел он, выпучивая свои страшные глаза и шевеля нафабренными усами.
– А ведь испугал! – проговорил мужчина и захохотал от удовольствия. – Ей-ей, испугал! Бывают же такие страсти, побей меня бог! Усы, как у кота, глаза вытаращил… Хе-хе-хе!
– Прошу не рассуждать! – крикнул изо всей силы Евстрат Спиридоныч и задрожал. – Выйди вон! Я прикажу тебя вывести!
В читальне поднялся невообразимый шум. Евстрат Спиридоныч, красный как рак, кричал, стуча ногами. Жестяков кричал. Белебухин кричал. Кричали все интеллигенты, но голоса всех их покрывал низкий, густой, придушенный бас мужчины в маске. Танцы благодаря всеобщей сумятице прекратились, и публика повалила из залы к читальне.
Евстрат Спиридоныч для внушительности позвал всех полицейских, бывших в клубе, и сел писать протокол.
– Пиши, пиши, – говорила маска, тыча пальцем ему под перо. – Теперь что же со мной, с бедным, будет? Бедная моя головушка! За что же губите вы меня, сиротинушку? Ха-ха! Ну что же? Готов протокол? Все расписавшись? Ну, теперь глядите!.. Раз… два… три!!.
Мужчина поднялся, вытянулся во весь рост и сорвал с себя маску. Открыв свое пьяное лицо и поглядев на всех, любуясь произведенным эффектом, он упал в кресло и радостно захохотал. А впечатление действительно произвел он необыкновенное. Все интеллигенты растерянно переглянулись и побледнели, некоторые почесали затылки. Евстрат Спиридоныч крякнул, как человек, сделавший нечаянно большую глупость.
В буяне все узнали местного миллионера, фабриканта, потомственного почетного гражданина Пятигорова, известного своими скандалами, благотворительностью и, как не раз говорилось в местном вестнике, любовью к просвещению.
– Что ж, уйдете или нет? – спросил Пятигоров после минутного молчания.
Интеллигенты молча, не говоря ни слова, вышли на цыпочках из читальни, и Пятигоров запер за ними двери.
– Ты же ведь знал, что это Пятигоров! – хрипел через минуту Евстрат Спиридоныч вполголоса, тряся за плечо лакея, вносившего в читальню вино. – Отчего ты молчал?
– Не велели сказывать-с!
– Не велели сказывать… Как засажу я тебя, анафему, на месяц, так тогда будешь знать «не велели сказывать». Вон!!! А вы-то хороши, господа, – обратился он к интеллигентам. – Бунт подняли! Не могли выйти из читальни на десять минуток! Вот теперь и расхлебывайте кашу. Эх, господа, господа… Не люблю, ей-богу!
Интеллигенты заходили по клубу унылые, потерянные, виноватые, шепчась и точно предчувствуя что-то недоброе… Жены и дочери их, узнав, что Пятигоров «обижен» и сердится, притихли и стали расходиться по домам. Танцы прекратились.
В два часа из читальни вышел Пятигоров; он был пьян и пошатывался. Войдя в залу, он сел около оркестра и задремал под музыку, потом печально склонил голову и захрапел.
– Не играйте! – замахали старшины музыкантам. – Тсс!.. Егор Нилыч спит…
– Не прикажете ли вас домой проводить, Егор Нилыч? – спросил Белебухин, нагнувшись к уху миллионера.
Пятигоров сделал губами так, точно хотел сдунуть со щеки муху.
– Не прикажете ли вас домой проводить, – повторил Белебухин, – или сказать, чтоб экипажик подали?
– А? Ково? Ты… чево тебе?
– Проводить домой-с… Баиньки пора…
– До-домой желаю… Прроводи!
Белебухин просиял от удовольствия и начал поднимать Пятигорова. К нему подскочили другие интеллигенты и, приятно улыбаясь, подняли потомственного почетного гражданина и осторожно повели к экипажу.
– Ведь этак одурачить целую компанию может только артист, талант, – весело говорил Жестяков, подсаживая его. – Я буквально поражен, Егор Нилыч! До сих пор хохочу… Ха-ха… А мы-то кипятимся, хлопочем! Ха-ха! Верите? и в театрах никогда так не смеялся… Бездна комизма! Всю жизнь буду помнить этот незапамятный вечер!
Проводив Пятигорова, интеллигенты повеселели и успокоились.
– Мне руку подал на прощанье, – проговорил Жестяков, очень довольный. – Значит, ничего, не сердится…
– Дай-то бог! – вздохнул Евстрат Спиридоныч. – Негодяй, подлый человек, но ведь – благодетель!.. Нельзя!..
1884Дачники
По дачной платформе взад и вперед прогуливалась парочка недавно поженившихся супругов. Он держал ее за талию, а она жалась к нему, и оба были счастливы. Из-за облачных обрывков глядела на них луна и хмурилась: вероятно, ей было завидно и досадно на свое скучное, никому не нужное девство. Неподвижный воздух был густо насыщен запахом сирени и черемухи. Где-то, по ту сторону рельсов, кричал коростель…
– Как хорошо, Саша, как хорошо! – говорила же-на. – Право, можно подумать, что все это снится. Ты посмотри, как уютно и ласково глядит этот лесок! Как милы эти солидные, молчаливые телеграфные столбы! Они, Саша, оживляют ландшафт и говорят, что там, где-то, есть люди… цивилизация… А разве тебе не нравится, когда до твоего слуха ветер слабо доносит шум идущего поезда?
– Да… Какие, однако, у тебя руки горячие! Это оттого, что ты волнуешься, Варя… Что у нас сегодня к ужину готовили?
– Окрошку и цыпленка… Цыпленка нам на двоих довольно. Тебе из города привезли сардины и балык.
Луна, точно табаку понюхала, спряталась за облако. Людское счастье напомнило ей об ее одиночестве, одинокой постели за лесами и долами…
– Поезд идет! – сказала Варя. – Как хорошо!
Вдали показались три огненных глаза. На платформу вышел начальник полустанка. На рельсах там и сям замелькали сигнальные огни.
– Проводим поезд и пойдем домой, – сказал Саша и зевнул. – Хорошо нам с тобой живется, Варя, так хорошо, что даже невероятно!
Темное страшилище бесшумно подползло к платформе и остановилось. В полуосвещенных вагонных окнах замелькали сонные лица, шляпки, плечи…
– Ах! Ах! – послышалось из одного вагона. – Варя с мужем вышла нас встретить! Вот они! Варенька!.. Варечка! Ах!
Из вагона выскочили две девочки и повисли на шее у Вари. За ними показались полная, пожилая дама и высокий тощий господин с седыми бачками, потом два гимназиста, навьюченные багажом, за гимназистами гувернантка, за гувернанткой бабушка.
– А вот и мы, а вот и мы, дружок! – начал господин с бачками, пожимая Сашину руку. – Чай, заждался! Небось бранил дядю за то, что не едет! Коля, Костя, Нина, Фифа… дети! Целуйте кузена Сашу! Все к тебе, всем выводком, и денька на три, на четыре. Надеюсь, не стесним? Ты, пожалуйста, без церемонии.
Увидев дядю с семейством, супруги пришли в ужас. Пока дядя говорил и целовался, в воображении Саши промелькнула картина: он и жена отдают гостям свои три комнаты, подушки, одеяла; балык, сардины и окрошка съедаются в одну секунду, кузены рвут цветы, проливают чернила, галдят, тетушка целые дни толкует о своей болезни (солитер и боль под ложечкой) и о том, что она урожденная баронесса фон Финтих…
И Саша уже с ненавистью смотрел на свою молодую жену и шептал ей:
– Это они к тебе приехали… черт бы их побрал!
– Нет, к тебе! – отвечала она, бледная, тоже с ненавистью и со злобой. – Это не мои, а твои родственники!
И, обернувшись к гостям, она сказала с приветливой улыбкой:
– Милости просим!
Из-за облака опять выплыла луна. Казалось, она улыбалась; казалось, ей было приятно, что у нее нет родственников. А Саша отвернулся, чтобы скрыть от гостей свое сердитое, отчаянное лицо, и сказал, придавая голосу радостное, благодушное выражение:
– Милости просим! Милости просим, дорогие гости!
1885Лошадиная фамилия
У отставного генерал-майора Булдеева разболелись зубы. Он полоскал рот водкой, коньяком, прикладывал к больному зубу табачную копоть, опий, скипидар, керосин, мазал щеку йодом, в ушах у него была вата, смоченная в спирту, но все это или не помогало, или вызывало тошноту. Приезжал доктор. Он поковырял в зубе, прописал хину, но и это не помогло. На предложение вырвать больной зуб генерал ответил отказом. Все домашние – жена, дети, прислуга, даже поваренок Петька предлагали каждый свое средство. Между прочим, и приказчик Булдеева Иван Евсеич пришел к нему и посоветовал полечиться заговором.
– Тут, в нашем уезде, ваше превосходительство, – сказал он, – лет десять назад служил акцизный Яков Васильич. Заговаривал зубы – первый сорт. Бывало, отвернется к окошку, пошепчет, поплюет – и как рукой! Сила ему такая дадена…
– Где же он теперь?
– А после того, как его из акцизных увольнили, в Саратове у тещи живет. Теперь только зубами и кормится. Ежели у которого человека заболит зуб, то и идут к нему, помогает… Тамошних саратовских на дому у себя пользует, а ежели которые из других городов, то по телеграфу. Пошлите ему, ваше превосходительство, депешу, что так, мол, вот и так… у раба божьего Алексия зубы болят, прошу выпользовать. А деньги за лечение почтой пошлете.
– Ерунда! Шарлатанство!
– А вы попытайте, ваше превосходительство. До водки очень охотник, живет не с женой, а с немкой, ругатель, но, можно сказать, чудодейственный господин!
– Пошли, Алеша! – взмолилась генеральша. – Ты вот не веришь в заговоры, а я на себе испытала. Хотя ты и не веришь, но отчего не послать? Руки ведь не отвалятся от этого.
– Ну, ладно, – согласился Булдеев. – Тут не только что к акцизному, но и к черту депешу пошлешь… Ох! Мочи нет! Ну, где твой акцизный живет? Как к нему писать?
Генерал сел за стол и взял перо в руки.
– Его в Саратове каждая собака знает, – сказал приказчик. – Извольте писать, ваше превосходительство, в город Саратов, стало быть… Его благородию господину Якову Васильичу… Васильичу…
– Ну?
– Васильичу… Якову Васильичу… а по фамилии… А фамилию вот и забыл!.. Васильичу… Черт… Как же его фамилия? Давеча, как сюда шел, помнил… Позвольте-с…
Иван Евсеич поднял глаза к потолку и зашевелил губами. Булдеев и генеральша ожидали нетерпеливо.
– Ну, что же? Скорей думай!
– Сейчас… Васильичу… Якову Васильичу… Забыл! Такая еще простая фамилия… словно как бы лошадиная… Кобылий? Нет, не Кобылий. Постойте… Жеребцов нешто? Нет, и не Жеребцов. Помню, фамилия лошадиная, а какая – из головы вышибло…
– Жеребятников?
– Никак нет. Постойте… Кобылицын… Кобылятников… Кобелев…
– Это уж собачья, а не лошадиная. Жеребчиков?
– Нет, и не Жеребчиков… Лошадинин… Лошаков… Жеребкин… Всё не то!
– Ну, так как же я буду ему писать? Ты подумай!
– Сейчас. Лошадкин… Кобылкин… Коренной…
– Коренников? – спросила генеральша.
– Никак нет. Пристяжкин… Нет, не то! Забыл!
– Так зачем же, черт тебя возьми, с советами лезешь, ежели забыл? – рассердился генерал. – Ступай отсюда вон!
Иван Евсеич медленно вышел, а генерал схватил себя за щеку и заходил по комнатам.
– Ой, батюшки! – вопил он. – Ой, матушки! Ох, света белого не вижу!
Приказчик вышел в сад и, подняв к небу глаза, стал припоминать фамилию акцизного:
– Жеребчиков… Жеребковский… Жеребенко… Нет, не то! Лошадинский… Лошадевич… Жеребкович… Кобылянский…
Немного погодя его позвали к господам.
– Вспомнил? – спросил генерал.
– Никак нет, ваше превосходительство.
– Может быть, Конявский? Лошадников? Нет?
И в доме все наперерыв стали изобретать фамилии. Перебрали все возрасты, полы и породы лошадей, вспомнили гриву, копыта, сбрую… В доме, в саду, в людской и кухне люди ходили из угла в угол и, почесывая лбы, искали фамилию.
Приказчика то и дело требовали в дом.
– Табунов? – спрашивали у него. – Копытин? Жеребовский?
– Никак нет, – отвечал Иван Евсеич и, подняв вверх глаза, продолжал думать вслух: – Коненко… Конченко… Жеребеев… Кобылеев…
– Папа! – кричали из детской. – Тройкин! Уздечкин!
Взбудоражилась вся усадьба. Нетерпеливый, замученный генерал пообещал дать пять рублей тому, кто вспомнит настоящую фамилию, и за Иваном Евсеичем стали ходить целыми толпами…
– Гнедов! – говорили ему. – Рысистый! Лошадицкий!
Но наступил вечер, а фамилия все еще не была найдена. Так и спать легли, не послав телеграммы.
Генерал не спал всю ночь, ходил из угла в угол и стонал… В третьем часу утра он вышел из дому и постучался в окно к приказчику.
– Не Меринов ли? – спросил он плачущим голосом.
– Нет, не Меринов, ваше превосходительство, – ответил Иван Евсеич и виновато вздохнул.
– Да может быть, фамилия не лошадиная, а какая-нибудь другая!
– Истинно слово, ваше превосходительство, лошадиная… Это очень даже отлично помню.
– Экий ты какой, братец, беспамятный… Для меня теперь эта фамилия дороже, кажется, всего на свете. Замучился!
Утром генерал опять послал за доктором.
– Пускай рвет! – решил он. – Нет больше сил терпеть…
Приехал доктор и вырвал больной зуб. Боль утихла тотчас же, и генерал успокоился. Сделав свое дело и получив, что следует, за труд, доктор сел в свою бричку и поехал домой. За воротами в поле он встретил Ивана Евсеича… Приказчик стоял на краю дороги и, глядя сосредоточенно себе под ноги, о чем-то думал. Судя по морщинам, бороздившим его лоб, и по выражению глаз, думы его были напряженны, мучительны…
– Буланов… Чересседельников… – бормотал он. – Засупонин… Лошадский…
– Иван Евсеич! – обратился к нему доктор. – Не могу ли я, голубчик, купить у вас четвертей пять овса? Мне продают наши мужички овес, да уж больно плохой…
Иван Евсеич тупо поглядел на доктора, как-то дико улыбнулся и, не сказав в ответ ни одного слова, всплеснув руками, побежал к усадьбе с такой быстротой, точно за ним гналась бешеная собака.
– Надумал, ваше превосходительство! – закричал он радостно, не своим голосом, влетая в кабинет к генералу. – Надумал, дай бог здоровья доктору! Овсов! Овсов фамилия акцизного! Овсов, ваше превосходительство! Посылайте депешу Овсову!
– На-кося! – сказал генерал с презрением и поднес к лицу его два кукиша. – Не нужно мне теперь твоей лошадиной фамилии! На-кося!
1885Унтер Пришибеев
– Унтер-офицер Пришибеев! Вы обвиняетесь в том, что третьего сего сентября оскорбили словами и действием урядника Жигина, волостного старшину Аляпова, сотского Ефимова, понятых Иванова и Гаврилова и еще шестерых крестьян, причем первым трем было нанесено вами оскорбление при исполнении ими служебных обязанностей. Признаете вы себя виновным?
Пришибеев, сморщенный унтер с колючим лицом, делает руки по швам и отвечает хриплым, придушенным голосом, отчеканивая каждое слово, точно командуя:
– Ваше высокородие, господин мировой судья! Стало быть, по всем статьям закона выходит причина аттестовать всякое обстоятельство во взаимности. Виновен не я, а все прочие. Все это дело вышло из-за, царствие ему небесное, мертвого трупа. Иду это я третьего числа с женой Анфисой тихо, благородно, смотрю – стоит на берегу куча разного народа людей. По какому полному праву тут народ собрался? – спрашиваю. Зачем? Нешто в законе сказано, чтоб народ табуном ходил? Кричу: разойдись! Стал расталкивать народ, чтоб расходились по домам, приказал сотскому гнать взашей…
– Позвольте, вы ведь не урядник, не староста, – разве это ваше дело народ разгонять?
– Не его! Не его! – слышатся голоса из разных углов камеры. – Житья от него нету, вашескородие! Пятнадцать лет от него терпим! Как пришел со службы, так с той поры хоть из села беги. Замучил всех!
– Именно так, вашескородие! – говорит свидетель староста. – Всем миром жалимся. Жить с ним никак невозможно! С образами ли ходим, свадьба ли, или, положим, случай какой, везде он кричит, шумит, всё порядки вводит. Ребятам уши дерет, за бабами подглядывает, чтоб чего не вышло, словно свекор какой… Намеднись по избам ходил, приказывал, чтоб песней не пели и чтоб огней не жгли. Закона, говорит, такого нет, чтоб песни петь.
– Погодите, вы еще успеете дать показание, – говорит мировой, – а теперь пусть Пришибеев продолжает. Продолжайте, Пришибеев!
– Слушаю-с! – хрипит унтер. – Вы, ваше высокородие, изволите говорить, не мое это дело народ разгонять… Хорошо-с… А ежели беспорядки? Нешто можно дозволять, чтобы народ безобразил? Где это в законе написано, чтоб народу волю давать? Я не могу дозволять-с. Ежели я не стану их разгонять да взыскивать, то кто же станет? Никто порядков настоящих не знает, во всем селе только я один, можно сказать, ваше высокородие, знаю, как обходиться с людьми простого звания, и, ваше высокородие, я могу все понимать. Я не мужик, я унтер-офицер, отставной каптенармус, в Варшаве служил, в штабе-с, а после того, изволите знать, как вчистую вышел, был в пожарных-с, а после того по слабости болезни ушел из пожарных и два года в мужской классической прогимназии в швейцарах служил… Все порядки знаю-с. А мужик простой человек, он ничего не понимает и должен меня слушать, потому – для его же пользы. Взять хоть это дело, к примеру… Разгоняю я народ, а на берегу на песочке утоплый труп мертвого человека. По какому такому основанию, спрашиваю, он тут лежит? Нешто это порядок? Что урядник глядит? Отчего ты, говорю, урядник, начальству знать не даешь? Может, этот утоплый покойник сам утоп, а может, тут дело Сибирью пахнет. Может, тут уголовное смертоубийство… А урядник Жигин никакого внимания, только папироску курит. «Что это, говорит, у вас за указчик такой? Откуда, говорит, он у вас такой взялся? Нешто мы без него, говорит, не знаем нашего поведения?» Стало быть, говорю, ты не знаешь, дурак этакой, коли тут стоишь и без внимания. «Я, говорит, еще вчера дал знать становому приставу». Зачем же, спрашиваю, становому приставу? По какой статье свода законов? Нешто в таких делах, когда утопшие или удавившие и прочее тому подобное, – нешто в таких делах становой может? Тут, говорю, дело уголовное, гражданское… Тут, говорю, скорей посылать эстафет господину следователю и судьям-с. И перво-наперво ты должен, говорю, составить акт и послать господину мировому судье. А он, урядник, все слушает и смеется. И мужики тоже. Все смеялись, ваше высокородие. Под присягой могу показать. И этот смеялся, и вот этот, и Жигин смеялся. Что, говорю, зубья скалите? А урядник и говорит: «Мировому, говорит, судье такие дела не подсудны». От этих самых слов меня даже в жар бросило. Урядник, ведь ты это сказывал? – обращается унтер к уряднику Жигину.
– Сказывал.
– Все слыхали, как ты это самое при всем простом народе: «Мировому судье такие дела не подсудны». Все слыхали, как ты это самое… Меня, ваше высокородие, в жар бросило, я даже сробел весь. Повтори, говорю, повтори, такой-сякой, что ты сказал! Он опять эти самые слова… Я к нему… Как же, говорю, ты можешь так объяснять про господина мирового судью? Ты, полицейский урядник, да против власти? А? Да ты, говорю, знаешь, что господин мировой судья, ежели пожелают, могут тебя за такие слова в губернское жандармское управление по причине твоего неблагонадежного поведения? Да ты знаешь, говорю, куда за такие политические слова тебя угнать может господин мировой судья? А старшина говорит: «Мировой, говорит, дальше своих пределов ничего обозначить не может. Только малые дела ему подсудны». Так и сказал, все слышали… Как же, говорю, ты смеешь власть уничижать? Ну, говорю, со мной не шути шуток, а то дело, брат, плохо. Бывало, в Варшаве или когда в швейцарах был в мужской классической прогимназии, то как заслышу какие неподходящие слова, то гляжу на улицу, не видать ли жандарма: «Поди, говорю, сюда, кавалер», – и все ему докладываю. А тут в деревне кому скажешь?.. Взяло меня зло. Обидно стало, что нынешний народ забылся в своеволии и неповиновении, я размахнулся и… конечно, не то чтобы сильно, а так, правильно, полегоньку, чтоб не смел про ваше высокородие такие слова говорить… За старшину урядник вступился. Я, стало быть, и урядника… И пошло… Погорячился, ваше высокородие, ну да ведь без того нельзя, чтоб не побить. Ежели глупого человека не побьешь, то на твоей же душе грех. Особливо ежели за дело… ежели беспорядок…
– Позвольте! За непорядком есть кому глядеть. На это есть урядник, староста, сотский…
– Уряднику за всем не углядеть, да урядник и не понимает того, что я понимаю…
– Но поймите, что это не ваше дело!
– Чего-с? Как же это не мое? Чудно-с… Люди безобразят, и не мое дело! Что ж мне хвалить их, что ли? Они вот жалятся вам, что я песни петь запрещаю… Да что хорошего в песнях-то? Вместо того, чтоб делом каким заниматься, они песни… А еще тоже моду взяли вечера с огнем сидеть. Нужно спать ложиться, а у них разговоры да смехи. У меня записано-с!
– Что у вас записано?
– Кто с огнем сидит.
Пришибеев вынимает из кармана засаленную бумажку, надевает очки и читает:
– «Которые крестьяне сидят с огнем: Иван Прохоров, Савва Микифоров, Петр Петров. Солдатка Шустрова, вдова, живет в развратном беззаконии с Семеном Кисловым. Игнат Сверчок занимается волшебством, и жена его Мавра есть ведьма, по ночам ходит доить чужих коров».
– Довольно! – говорит судья и начинает допрашивать свидетелей.
Унтер Пришибеев поднимает очки на лоб и с удивлением глядит на мирового, который, очевидно, не на его стороне. Его выпученные глаза блестят, нос становится ярко-красным. Глядит он на мирового, на свидетелей и никак не может понять, отчего это мировой так взволнован и отчего из всех углов камеры слышится то ропот, то сдержанный смех. Непонятен ему и приговор: на месяц под арест!
– За что?! – говорит он, разводя в недоумении руками. – По какому закону?
И для него ясно, что мир изменился и что жить на свете уже никак невозможно. Мрачные, унылые мысли овладевают им. Но выйдя из камеры и увидев мужиков, которые толпятся и говорят о чем-то, он по привычке, с которой уже совладать не может, вытягивает руки по швам и кричит хриплым, сердитым голосом:
– Наррод, расходись! Не толпись! По домам!
1885Тапер
Второй час ночи. Я сижу у себя в номере и пишу заказанный мне фельетон в стихах. Вдруг отворяется дверь, и в номер совсем неожиданно входит мой сожитель, бывший ученик М-ой консерватории, Петр Рублев. В цилиндре, в шубе нараспашку, он напоминает мне на первых порах Репетилова; потом же, когда я всматриваюсь в его бледное лицо и необыкновенно острые, словно воспаленные глаза, сходство с Репетиловым исчезает.
– Отчего ты так рано? – спрашиваю я. – Ведь еще только два часа! Разве свадьба уже кончилась?
Сожитель не отвечает. Он молча уходит за перегородку, быстро раздевается и с сопением ложится на свою кровать.
– Спи же, с-скотина! – слышу я через десять минут его шепот. – Лег, ну и спи! А не хочешь спать, так… ну тебя к черту!
– Не спится, Петя? – спрашиваю я.
– Да, черт его знает… не спится что-то… Смех разбирает… Не дает смех уснуть! Ха-ха!
– Что же тебе смешно?
– История смешная случилась. Нужно же было случиться этой анафемской истории!
Рублев выходит из-за перегородки и со смехом садится около меня.
– Смешно и… совестно… – говорит он, ероша свою прическу. – Отродясь, братец ты мой, не испытывал еще таких пассажей… Ха-ха… Скандал – первый сорт! Великосветский скандал!
Рублев бьет себя кулаком по колену, вскакивает и начинает шагать босиком по холодному полу.
– В шею дали! – говорит он. – Оттого и пришел рано.
– Полно, что врать-то!
– Ей-богу… В шею дали – буквально!
Я гляжу на Рублева… Лицо у него испитое и поношенное, но во всей его внешности уцелело еще столько порядочности, барской изнеженности и приличия, что это грубое «дали в шею» совсем не вяжется с его интеллигентной фигурой.
– Скандал первостатейный… Шел домой и всю дорогу хохотал. Ах, да брось ты свою ерунду писать! Выскажусь, вылью все из души, может, не так… смешно будет!.. Брось! История интересная… Ну, слушай же… На Арбате живет некий Присвистов, отставной подполковник, женатый на побочной дочери графа фон Крах… Аристократ, стало быть… Выдает он дочку за купеческого сына Ескимосова… Этот Ескимосов парвеню[4] и мовежанр,[5] свинья в ермолке и моветон, но папаше с дочкой манже и буар[6] хочется, так что тут некогда рассуждать о мовежанрах. Отправляюсь я сегодня в девятом часу к Присвистову таперствовать. На улицах грязища, дождь, туман… На душе, по обыкновению, гнусно.
– Ты покороче, – говорю я Рублеву. – Без психологии…
– Ладно… Прихожу к Присвистову… Молодые и гости после венца фрукты трескают. В ожидании танцев иду к своему посту – роялю – и сажусь.
– А, а… вы пришли! – увидел меня хозяин. – Так вы уж, любезный, смотрите: играть как следует, и главное – не напиваться…
– Я, брат, привык к таким приветствиям, не обижаюсь… Ха-ха… Назвался груздем, полезай в кузов… Не так ли? Что я такое? Тапер, прислуга… официант, умеющий играть!.. У купцов тыкают и на чай дают, и – нисколько не обидно! Ну-с, от нечего делать, до танцев начинаю побринкивать этак слегка, чтоб, знаешь, пальцы разошлись. Играю и слышу немного погодя, братец ты мой, что сзади меня кто-то подпевает. Оглядываюсь – барышня! Стоит, бестия, сзади меня и на клавиши умильно глядит. «Я, говорю, mademoiselle,[7] и не знал, что меня слушают!» А она вздыхает и говорит: «Хорошая вещь!» – «Да, говорю, хорошая… А вы нешто любите музыку?» И завязался разговор… Барышня оказалась разговорчивая. Я ее за язык не тянул, сама разболталась. «Как, говорит, жаль, что нынешняя молодежь не занимается серьезной музыкой». Я, дуррак, болван, рад, что на меня обратили внимание… осталось еще это гнусное самолюбие!.. принимаю, знаешь, этакую позу и объясняю ей индифферентизм молодежи отсутствием в нашем обществе эстетических потребностей… Зафилософствовался!
– В чем же скандал? – спрашиваю я Рублева. – Влюбился, что ли?
– Выдумал! Любовь, это – скандал личного свойства, а тут, брат, произошло нечто всеобщее, великосветское… да! Беседую я с барышней и вдруг начинаю замечать что-то неладное: за моей спиной сидят какие-то фигуры и шепчутся… Слышу слово «тапер», хихиканье… Про меня, значит, говорят… Что за оказия? Не галстук ли у меня развязался? Пробую галстук – ничего… Не обращаю, конечно, внимания и продолжаю разговор… А барышня горячится, спорит, раскраснелась вся… Так и чешет! Такую критику пустила на композиторов, что держись шапка! В «Демоне» оркестровка хороша, а мотивов нет, Римский-Корсаков барабанщик, Варламов не мог создать ничего цельного и проч. Нынешние мальчики и девочки едва гаммы играют, платят по четвертаку за урок, а уж не прочь музыкальные рецензии писать… Так и моя барышня… Я слушаю и не оспариваю… Люблю, когда молодое, зеленое дуется, мозгами шевелит… Ну а сзади-то всё бормочут, бормочут… И что же? Вдруг к моей барышне подплывает толстая пава, из породы маменек или тетенек, солидная, багровая, в пять обхватов… не глядит на меня и что-то шепчет ей на ухо… Слушай же… Барышня вспыхивает, хватается за щеки и как ужаленная отскакивает от рояля… Что за оказия? Мудрый Эдип, разреши! Ну, думаю, наверное, или фрак у меня на спине лопнул, или у девочки в туалете какой-нибудь грех приключился, иначе трудно понять этот казус. На всякий случай иду минут через десять в переднюю оглядеть свою фигуру… оглядываю галстук, фрак, тралала… все на месте, ничего не лопнуло! На мое счастье, братец, в передней стояла какая-то старушонка с узлом. Все мне объяснила… Не будь ее, я так бы и остался в счастливом неведении. «Наша барышня не может без того, чтоб характера своего не показать, – рассказывает она какому-то лакею. – Увидала около фортепьянов молодца и давай с ним балясы точить, словно с настоящим каким… ахи да смехи, а молодец-то этот, выходит, не гость, а тапер… из музыкантов… Вот тебе и поговорила! Спасибо Марфе Степановне, шепнула ей, а то бы она чего доброго и под ручку с ним бы прошлась… Теперь и совестно, да уж поздно: слов не воротишь…» А? Каково?
– И девчонка глупа, – говорю я Рублеву, – и старуха глупа. Не стоит и внимания обращать…
– Я и не обратил внимания… Только смешно и больше ничего. Я давно уж привык к таким пассажам… Прежде действительно больно было, а теперь – плевать! Девчонка глупая, молодая… ее же жалко! Сажусь я и начинаю играть танцы… Серьезного там ничего не нужно… Знай себе закатываю вальсы, кадрили-монстры да гремучие марши… Коли тошно твоей музыкальной душе, то поди рюмочку выпей, и сам же взыграешься от «Боккачио».
– Но в чем собственно скандал?
– Трещу я на клавишах и… не думаю о девочке… Смеюсь и больше ничего, но… ковыряет у меня что-то под сердцем! Точно сидит у меня под ложечкой мышь и казенные сухари грызет… Отчего мне грустно и гнусно, сам не пойму… Убеждаю себя, браню, смеюсь… подпеваю своей музыке, но саднит мою душу, да как-то особенно саднит… Повернет этак в груди, ковырнет, погрызет и вдруг к горлу подкатит этак… точно ком… Стиснешь зубы, переждешь, а оно и оттянет, потом же опять сначала… Что за комиссия! И как нарочно, в голове самые что ни на есть подлые мысли… Вспоминается мне, какая из меня дрянь вышла… Ехал в Москву за две тысячи верст, метил в композиторы и пианисты и попал в таперы… В сущности ведь это естественно… даже смешно, а меня тошнит… Вспомнился мне и ты… Думаю: сидит теперь мой сожитель и строчит… Описывает, бедняга, спящих гласных, булочных тараканов, осеннюю непогоду… описывает именно то, что давным-давно уже описано, изжевано и переварено… Думаю я, и почему-то жалко мне тебя… до слез жалко!.. Малый ты славный, с душой, а нет в тебе этого, знаешь, огня, желчи, силы… нет азарта, и почему ты не аптекарь, не сапожник, а писатель, Христос тебя знает! Вспомнились все мои приятели-неудачники, все эти певцы, художники, любители… Все это когда-то кипело, копошилось, парило в поднебесье, а теперь… черт знает что! Почему мне лезли в голову именно такие мысли, не понимаю! Гоню из головы себя, приятели лезут; приятелей гоню, девчонка лезет… Над девчонкой я смеюсь, ставлю ее ни в грош, но не дает она мне покоя… И что это, думаю, за черта у русского человека! Пока ты свободен, учишься или без дела шатаешься, ты можешь с ним и выпить, и по животу его похлопать, и с дочкой его полюбезничать, но как только ты стал в мало-мальски подчиненные отношения, ты уже сверчок, который должен знать свой шесток… Кое-как, знаешь, заглушаю мысль, а к горлу все-таки подкатывает… Подкатит, сожмет и этак… сдавит… В конце концов чувствую на своих глазах жидкость, «Боккачио» мой обрывается и… все к черту. Благородная зала оглашается другими звуками… Истерика…
– Врешь!
– Ей-богу… – говорит Рублев, краснея и стараясь засмеяться. – Каков скандал? Засим чувствую, что меня влекут в переднюю… надевают шубу… Слышу голос хозяина: «Кто напоил тапера? Кто смел дать ему водки?» В заключение… в шею… Каков пассаж? Ха-ха… Тогда не до смеха было, а теперь ужасно смешно… ужасно! Здоровила… верзила, с пожарную каланчу ростом, и вдруг – истерика! Ха-ха-ха!
– Что же тут смешного? – спрашиваю я, глядя, как плечи и голова Рублева трясутся от смеха. – Петя, ради бога… что тут смешного? Петя! Голубчик!
Но Петя хохочет, и в его хохоте я легко узнаю истерику. Начинаю возиться с ним и бранюсь, что в московских номерах не имеют привычки ставить на ночь воду.
1885Тоска
Кому повем печаль мою?..
Вечерние сумерки. Крупный мокрый снег лениво кружится около только что зажженных фонарей и тонким мягким пластом ложится на крыши, лошадиные спины, плечи, шапки. Извозчик Иона Потапов весь бел, как привидение. Он согнулся, насколько только возможно согнуться живому телу, сидит на козлах и не шевельнется. Упади на него целый сугроб, то и тогда бы, кажется, он не нашел нужным стряхивать с себя снег… Его лошаденка тоже бела и неподвижна. Своею неподвижностью, угловатостью форм и палкообразной прямизною ног она даже вблизи похожа на копеечную пряничную лошадку. Она, по всей вероятности, погружена в мысль. Кого оторвали от плуга, от привычных серых картин и бросили сюда, в этот омут, полный чудовищных огней, неугомонного треска и бегущих лошадей, тому нельзя не думать…
Иона и его лошаденка не двигаются с места уже давно. Выехали они со двора еще до обеда, а почина все нет и нет. Но вот на город спускается вечерняя мгла. Бледность фонарных огней уступает свое место живой краске, и уличная суматоха становится шумнее.
– Извозчик, на Выборгскую! – слышит Иона. – Извозчик! Иона вздрагивает и сквозь ресницы, облепленные снегом, видит военного в шинели с капюшоном.
– На Выборгскую! – повторяет военный. – Да ты спишь, что ли? На Выборгскую!
В знак согласия Иона дергает вожжи, отчего со спины лошади и с его плеч сыплются пласты снега… Военный садится в сани. Извозчик чмокает губами, вытягивает по-лебединому шею, приподнимается и больше по привычке, чем по нужде, машет кнутом. Лошаденка тоже вытягивает шею, кривит свои палкообразные ноги и нерешительно двигается с места…
– Куда прешь, леший! – на первых же порах слышит Иона возгласы из темной движущейся взад и вперед массы. – Куда черти несут? Пррава держи!
– Ты ездить не умеешь! Права держи! – сердится военный.
Бранится кучер с кареты, злобно глядит и стряхивает с рукава снег прохожий, перебегавший дорогу и налетевший плечом на морду лошаденки. Иона ерзает на козлах как на иголках, тыкает в стороны локтями и водит глазами как угорелый, словно не понимает, где он и зачем он здесь.
– Какие все подлецы! – острит военный. – Так и норовят столкнуться с тобой или под лошадь попасть. Это они сговорились.
Иона оглядывается на седока и шевелит губами… Хочет он, по-видимому, что-то сказать, но из горла не выходит ничего, кроме сипенья.
– Что? – спрашивает военный.
Иона кривит улыбкой рот, напрягает свое горло и сипит:
– А у меня, барин, тово… сын на этой неделе помер.
– Гм!.. Отчего же он умер?
Иона оборачивается всем туловищем к седоку и говорит:
– А кто ж его знает! Должно, от горячки… Три дня полежал в больнице и помер… Божья воля.
– Сворачивай, дьявол! – раздается в потемках. – Повылазило, что ли, старый пес! Гляди глазами!
– Поезжай, поезжай… – говорит седок. – Этак мы и до завтра не доедем. Подгони-ка!
Извозчик опять вытягивает шею, приподнимается и с тяжелой грацией взмахивает кнутом. Несколько раз потом оглядывается он на седока, но тот закрыл глаза и, по-видимому, не расположен слушать. Высадив его на Выборгской, он останавливается у трактира, сгибается на козлах и опять не шевельнется… Мокрый снег опять красит набело его и лошаденку. Проходит час, другой…
По тротуару, громко стуча калошами и перебраниваясь, проходят трое молодых людей: двое из них высоки и тонки, третий мал и горбат.
– Извозчик, к Полицейскому мосту! – кричит дребезжащим голосом горбач. – Троих… двугривенный!
Иона дергает вожжами и чмокает. Двугривенный – цена не сходная, но ему не до цены… Что рубль, что пятак – для него теперь все равно, были бы только седоки… Молодые люди, толкаясь и сквернословя, подходят к саням и все трое сразу лезут на сиденье. Начинается решение вопроса: кому двум сидеть, а кому третьему стоять? После долгой перебранки, капризничанья и попреков приходят к решению, что стоять должен горбач, как самый маленький.
– Ну, погоняй! – дребезжит горбач, устанавливаясь и дыша в затылок Ионы. – Лупи! Да и шапка же у тебя, братец! Хуже во всем Петербурге не найти…
– Гы-ы… гы-ы… – хохочет Иона. – Какая есть…
– Ну ты, какая есть, погоняй! Этак ты всю дорогу будешь ехать? Да? А по шее?..
– Голова трещит… – говорит один из длинных. – Вчера у Дукмасовых мы вдвоем с Васькой четыре бутылки коньяку выпили.
– Не понимаю, зачем врать! – сердится другой длинный. – Врет, как скотина.
– Накажи меня бог, правда…
– Это такая же правда, как то, что вошь кашляет.
– Гы-ы! – ухмыляется Иона. – Ве-еселые господа!
– Тьфу, чтоб тебя черти!.. – возмущается горбач. – Поедешь ты, старая холера, или нет? Разве так ездят? Хлобысни-ка ее кнутом! Но, черт! Но! Хорошенько ее!
Иона чувствует за своей спиной вертящееся тело и голосовую дрожь горбача. Он слышит обращенную к нему ругань, видит людей, и чувство одиночества начинает мало-помалу отлегать от груди. Горбач бранится до тех пор, пока не давится вычурным, шестиэтажным ругательством и не разражается кашлем. Длинные начинают говорить о какой-то Надежде Петровне. Иона оглядывается на них. Дождавшись короткой паузы, он оглядывается еще раз и бормочет:
– А у меня на этой неделе… тово… сын помер!
– Все помрем… – вздыхает горбач, вытирая после кашля губы. – Ну, погоняй, погоняй! Господа, я решительно не могу дальше так ехать! Когда он нас довезет?
– А ты его легонечко подбодри… в шею!
– Старая холера, слышишь? Ведь шею накостыляю!.. С вашим братом церемониться, так пешком ходить!.. Ты слышишь, Змей Горыныч? Или тебе плевать на наши слова?
И Иона больше слышит, чем чувствует, звуки подзатыльника.
– Гы-ы… – смеется он. – Веселые господа… дай бог здоровья!
– Извозчик, ты женат? – спрашивает длинный.
– Я-то? Гы-ы… ве-еселые господа! Таперя у меня одна жена – сырая земля… Хи-хо-хо… Могила то есть!.. Сын-то вот помер, а я жив… Чудное дело, смерть дверью обозналась… Заместо того, чтоб ко мне идтить, она к сыну…
И Иона оборачивается, чтобы рассказать, как умер его сын, но тут горбач легко вздыхает и заявляет, что, слава богу, они наконец приехали. Получив двугривенный, Иона долго глядит вслед гулякам, исчезающим в темном подъезде. Опять он одинок, и опять наступает для него тишина… Утихшая ненадолго тоска появляется вновь и распирает грудь еще с большей силой. Глаза Ионы тревожно и мученически бегают по толпам, снующим по обе стороны улицы: не найдется ли из этих тысяч людей хоть один, который выслушал бы его? Но толпы бегут, не замечая ни его, ни тоски… Тоска громадная, не знающая границ. Лопни грудь Ионы и вылейся из нее тоска, так она бы, кажется, весь свет залила, но тем не менее ее не видно. Она сумела поместиться в такую ничтожную скорлупу, что ее не увидишь днем с огнем…
Иона видит дворника с кульком и решает заговорить с ним.
– Милый, который теперь час будет? – спрашивает он.
– Десятый… Чего же стал здесь? Проезжай!
Иона отъезжает на несколько шагов, изгибается и отдается тоске… Обращаться к людям он считает уже бесполезным. Но не проходит и пяти минут, как он выпрямляется, встряхивает головой, словно почувствовал острую боль, и дергает вожжи… Ему невмоготу.
«Ко двору, – думает он. – Ко двору!»
И лошаденка, точно поняв его мысль, начинает бежать рысцой. Спустя часа полтора Иона сидит уже около большой, грязной печи. На печи, на полу, на скамьях храпит народ. В воздухе «спираль» и духота… Иона глядит на спящих, почесывается и жалеет, что так рано вернулся домой…
«И на овес не выездил, – думает он. – Оттого-то вот и тоска. Человек, который знающий свое дело… который и сам сыт и лошадь сыта, завсегда покоен…»
В одном из углов поднимается молодой извозчик, сонно крякает и тянется к ведру с водой.
– Пить захотел? – спрашивает Иона.
– Стало быть, пить!
– Так… На здоровье… А у меня, брат, сын помер… Слыхал? На этой неделе в больнице… История!
Иона смотрит, какой эффект произвели его слова, но не видит ничего. Молодой укрылся с головой и уже спит. Старик вздыхает и чешется… Как молодому хотелось пить, так ему хочется говорить. Скоро будет неделя, как умер сын, а он еще путем не говорил ни с кем… Нужно поговорить с толком, с расстановкой… Надо рассказать, как заболел сын, как он мучился, что говорил перед смертью, как умер… Нужно описать похороны и поездку в больницу за одеждой покойника. В деревне осталась дочка Анисья… И про нее нужно поговорить… Да мало ли о чем он может теперь поговорить? Слушатель должен охать, вздыхать, причитывать… А с бабами говорить еще лучше. Те хоть и дуры, но ревут от двух слов.
«Пойти лошадь поглядеть, – думает Иона. – Спать всегда успеешь… Небось выспишься…»
Он одевается и идет в конюшню, где стоит его лошадь. Думает он об овсе, сене, о погоде… Про сына, когда один, думать он не может… Поговорить с кем-нибудь о нем можно, но самому думать и рисовать себе его образ невыносимо жутко…
– Жуешь? – спрашивает Иона свою лошадь, видя ее блестящие глаза. – Ну жуй, жуй… Коли на овес не выездили, сено есть будем… Да… Стар уж стал я ездить… Сыну бы ездить, а не мне… То настоящий извозчик был… Жить бы только…
Иона молчит некоторое время и продолжает:
– Так-то, брат кобылочка… Нету Кузьмы Ионыча… Приказал долго жить… Взял и помер зря… Таперя, скажем, у тебя жеребеночек, и ты этому жеребеночку родная мать… И вдруг, скажем, этот самый жеребеночек приказал долго жить… Ведь жалко?
Лошаденка жует, слушает и дышит на руки своего хозяина…
Иона увлекается и рассказывает ей всё…
1886Переполох
Машенька Павлецкая, молоденькая, едва только кончившая курс институтка, вернувшись с прогулки в дом Пушкиных, где она жила в гувернантках, застала необыкновенный переполох. Отворявший ей швейцар Михайло был взволнован и красен, как рак.
Сверху доносился шум.
«Вероятно, с хозяйкой припадок… – подумала Машенька, – или с мужем поссорилась…»
В передней и в коридоре встретила она горничных. Одна горничная плакала. Затем Машенька видела, как из дверей ее комнаты выбежал сам хозяин Николай Сергеич, маленький, еще не старый человек с обрюзгшим лицом и с большой плешью. Он был красен. Его передергивало… Не замечая гувернантки, он прошел мимо нее и, поднимая вверх руки, воскликнул:
– О, как это ужасно! Как бестактно! Как глупо, дико! Мерзко!
Машенька вошла в свою комнату, и тут ей в первый раз в жизни пришлось испытать во всей остроте чувство, которое так знакомо людям зависимым, безответным, живущим на хлебах у богатых и знатных. В ее комнате делали обыск. Хозяйка Федосья Васильевна, полная плечистая дама с густыми черными бровями, простоволосая и угловатая, с едва заметными усиками и с красными руками, лицом и манерами похожая на простую бабу-кухарку, стояла у ее стола и вкладывала обратно в рабочую сумку клубки шерсти, лоскутки, бумажки… Очевидно, появление гувернантки было для нее неожиданно, так как, оглянувшись и увидев ее бледное, удивленное лицо, она слегка смутилась и пробормотала:
– Pardon,[8] я… я нечаянно рассыпала… зацепила рукавом…
И, сказав еще что-то, мадам Кушкина зашуршала шлейфом и вышла. Машенька обвела удивленными глазами свою комнату и, ничего не понимая, не зная, что думать, пожала плечами, похолодела от страха… Что Федосья Васильевна искала в ее сумке? Если действительно, как она говорит, она нечаянно зацепила рукавом и рассыпала, то зачем же выскочил из комнаты такой красный и взволнованный Николай Сергеич? Зачем у стола слегка выдвинут один ящик? Копилка, в которую гувернантка прятала гривенники и старые марки, была отперта. Ее отперли, но запереть не сумели, хотя и исцарапали весь замок. Этажерка с книгами, поверхность стола, постель – все носило на себе свежие следы обыска. И в корзине с бельем тоже. Белье было сложено аккуратно, но не в том порядке, в каком оставила его Машенька, уходя из дому. Обыск, значит, был настоящий, самый настоящий, но к чему он, зачем? Что случилось? Машенька вспомнила волнение швейцара, переполох, который все еще продолжался, заплаканную горничную; не имело ли все это связи с только что бывшим у нее обыском? Не замешана ли она в каком-нибудь страшном деле? Машенька побледнела и вся холодная опустилась на корзину с бельем.
В комнату вошла горничная.
– Лиза, вы не знаете, зачем это меня… обыскивали? – спросила у нее гувернантка.
– У барыни пропала брошка в две тысячи… – сказала Лиза.
– Да, но зачем же меня обыскивать?
– Всех, барышня, обыскивали. И меня всю обыскали… Нас раздевали всех догола и обыскивали… А я, барышня, вот как перед Богом… Не то чтоб ихнюю брошку, но даже к туалету близко не подходила. Я и в полиции то же скажу.
– Но… зачем же меня обыскивать? – продолжала недоумевать гувернантка.
– Брошку, говорю, украли… Барыня сама своими руками все обшарила. Даже швейцара Михайлу сами обыскивали. Чистый срам! Николай Сергеич только глядит да кудахчет, как курица. А вы, барышня, напрасно это дрожите. У вас ничего не нашли. Ежели не вы брошку взяли, так вам и бояться нечего.
– Но ведь это, Лиза, низко… оскорбительно! – сказала Машенька, задыхаясь от негодования. – Ведь это подлость, низость! Какое она имела право подозревать меня и рыться в моих вещах?
– В чужих людях живете, барышня, – вздохнула Лиза. – Хоть вы и барышня, а всё же… как бы прислуга… Это не то, что у папаши с мамашей жить…
Машенька повалилась в постель и горько зарыдала. Никогда еще над нею не совершали такого насилия, никогда еще ее так глубоко не оскорбляли, как теперь… Ее, благовоспитанную, чувствительную девицу, дочь учителя, заподозрили в воровстве, обыскали, как уличную женщину! Выше такого оскорбления, кажется, и придумать нельзя. И к этому чувству обиды присоединился еще тяжелый страх: что теперь будет?! В голову ее полезли всякие несообразности. Если ее могли заподозрить в воровстве, то, значит, могут теперь арестовать, раздеть догола и обыскать, потом вести под конвоем по улице, засадить в темную, холодную камеру с мышами и мокрицами, точь-в-точь в такую, в какой сидела княжна Тараканова. Кто вступится за нее? Родители ее живут далеко в провинции; чтобы приехать к ней, у них нет денег. В столице она одна, как в пустынном поле, без родных и знакомых. Что хотят, то и могут с ней сделать.
«Побегу ко всем судьям и защитникам… – думала Машенька, дрожа. – Я объясню им, присягну… Они поверят, что я не могу быть воровкой!»
Машенька вспомнила, что у нее в корзине под простынями лежат сладости, которые она, по старой институтской привычке, прятала за обедом в карман и уносила к себе в комнату. От мысли, что эта ее маленькая тайна уже известна хозяевам, ее бросило в жар, стало стыдно, и от всего этого – от страха, стыда, от обиды – началось сильное сердцебиение, которое отдавало в виски, в руки, глубоко в живот.
– Пожалуйте кушать! – позвали Машеньку.
«Идти или нет?»
Машенька поправила прическу, утерлась мокрым полотенцем и пошла в столовую. Там уже начали обедать… За одним концом стола сидела Федосья Васильевна, важная, с тупым, серьезным лицом, за другим – Николай Сергеич. По сторонам сидели гости и дети. Обедать подавали два лакея во фраках и белых перчатках. Все знали, что в доме переполох, что хозяйка в горе, и молчали. Слышны были только жеванье и стук ложек о тарелки.
Разговор начала сама хозяйка.
– Что у нас к третьему блюду? – спросила она у лакея томным, страдальческим голосом.
– Эстуржон а-ля рюсс![9] – ответил лакей.
– Это, Феня, я заказал… – поторопился сказать Николай Сергеич. – Рыбы захотелось. Если тебе не нравится, ma chère,[10] то пусть не подают. Я ведь это так… между прочим…
Федосья Васильевна не любила кушаний, которые заказывала не она сама, и теперь глаза у нее наполнились слезами.
– Ну, перестанем волноваться, – сказал сладким голосом Мамиков, ее домашний доктор, слегка касаясь ее руки и улыбаясь так же сладко. – Мы и без того достаточно нервны. Забудем о броши! Здоровье дороже двух тысяч!
– Мне не жалко двух тысяч! – ответила хозяйка, и крупная слеза потекла по ее щеке. – Меня возмущает самый факт! Я не потерплю в своем доме воров. Мне не жаль, мне ничего не жаль, но красть у меня – это такая неблагодарность! Так платят мне за мою доброту…
Все глядели в свои тарелки, но Машеньке показалось, что после слов хозяйки на нее все взглянули. Комок вдруг подступил к горлу, она заплакала и прижала платок к лицу.
– Pardon, – пробормотала она. – Я не могу. Голова болит. Уйду.
И она встала из-за стола, неловко, гремя стулом и еще больше смущаясь, и быстро вышла.
– Бог знает что! – проговорил Николай Сергеич морщась. – Нужно было делать у нее обыск! Как это, право… некстати.
– Я не говорю, что она взяла брошку, – сказала Федосья Васильевна, – но разве ты можешь поручиться за нее? Я, признаюсь, плохо верю этим ученым беднячкам.
– Право, Феня, некстати… Извини, Феня, но по закону ты не имеешь никакого права делать обыски.
– Я не знаю ваших законов. Я только знаю, что у меня пропала брошка, вот и все. И я найду эту брошку! – Она ударила по тарелке вилкой, и глаза у нее гневно сверкнули. – А вы ешьте и не вмешивайтесь в мои дела!
Николай Сергеич кротко опустил глаза и вздохнул. Машенька между тем, придя к себе в комнату, повалилась в постель. Ей уже не было ни страшно, ни стыдно, а мучило ее сильное желание пойти и отхлопать по щекам эту черствую, эту надменную, тупую, счастливую женщину.
Лежа, она дышала в подушку и мечтала о том, как бы хорошо было пойти теперь купить самую дорогую брошь и бросить ею в лицо этой самодурке. Если бы бог дал, Федосья Васильевна разорилась, пошла бы по миру и поняла бы весь ужас нищеты и подневольного состояния и если бы оскорбленная Машенька подала ей милостыню. О, если бы получить большое наследство, купить коляску и прокатить с шумом мимо ее окон, чтобы она позавидовала!
Но все это мечты, в действительности же оставалось только одно – поскорее уйти, не оставаться здесь ни одного часа. Правда, страшно потерять место, опять ехать к родителям, у которых ничего нет, но что же делать? Машенька не могла видеть уже ни хозяйки, ни своей маленькой комнаты, ей было здесь душно, жутко. Федосья Васильевна, помешанная на болезнях и на своем мнимом аристократизме, опротивела ей до того, что, кажется, все на свете стало грубо и неприглядно оттого, что живет эта женщина. Машенька прыгнула с кровати и стала укладываться.
– Можно войти? – спросил за дверью Николай Сергеич; он подошел к двери неслышно и говорил тихим мягким голосом. – Можно?
– Войдите.
Он вошел и остановился у двери. Глаза его глядели тускло, и красный носик его лоснился. После обеда он пил пиво, и это было заметно по его походке, по слабым, вялым рукам.
– Это что же? – спросил он, указывая на корзину.
– Укладываюсь. Простите, Николай Сергеич, но я не могу долее оставаться в вашем доме. Меня глубоко оскорбил этот обыск!
– Я понимаю… Только вы это напрасно… Зачем? Обыскали, а вы того… что вам от этого? Вас не убудет от этого.
Машенька молчала и продолжала укладываться. Николай Сергеич пощипал свои усы, как бы придумывая, что сказать еще, и продолжал заискивающим голосом:
– Я, конечно, понимаю, но надо быть снисходительной. Знаете, моя жена нервная, взбалмошная, нельзя судить строго…
Машенька молчала.
– Если уж вы так оскорблены, – продолжал Николай Сергеич, – то извольте, я готов извиниться перед вами. Извините.
Машенька ничего не ответила, а только ниже нагнулась к своему чемодану. Этот испитой, нерешительный человек ровно ничего не значил в доме. Он играл жалкую роль приживала и лишнего человека даже у прислуги; и извинение его тоже ничего не значило.
– Гм… Молчите? Вам мало этого? В таком случае я за жену извиняюсь. От имени жены… Она поступила нетактично, я признаю, как дворянин…
Николай Сергеич прошелся, вздохнул и продолжал:
– Вам надо еще, значит, чтоб у меня ковыряло вот тут, под сердцем… Вам надо, чтобы меня совесть мучила…
– Я знаю, Николай Сергеич, вы не виноваты, – сказала Машенька, глядя ему прямо в лицо своими большими заплаканными глазами. – Зачем же вам мучиться?
– Конечно… Но вы все-таки того… не уезжайте… Прошу вас.
Машенька отрицательно покачала головой. Николай Сергеич остановился у окна и забарабанил по стеклу.
– Для меня подобные недоразумения – это чистая пытка, – проговорил он. – Что же, мне на колени перед вами становиться, что ли? Вашу гордость оскорбили, и вот вы плакали, собираетесь уехать, но ведь и у меня тоже есть гордость, а вы ее не щадите. Или хотите, чтоб я сказал вам то, чего и на исповеди не скажу? Хотите? Послушайте, вы хотите, чтобы я признался в том, в чем даже пред смертью на духу не признаюсь?
Машенька молчала.
– Я взял у жены брошку! – быстро сказал Николай Сергеич. – Довольны теперь? Удовлетворены? Да, я… взял… Только, конечно, я надеюсь на вашу скромность… Ради бога, никому ни слова, ни полнамека!
Машенька, удивленная и испуганная, продолжала укладываться; она хватала свои вещи, мяла их и беспорядочно совала в чемодан и корзину. Теперь, после откровенного признания, сделанного Николаем Сергеичем, она не могла оставаться ни одной минуты и уже не понимала, как она могла жить раньше в этом доме.
– И удивляться нечего… – продолжал Николай Сергеич, помолчав немного. – Обыкновенная история! Мне деньги нужны, а она… не дает. Ведь этот дом и все это мой отец наживал, Марья Андреевна! Все ведь это мое, и брошка принадлежала моей матери, и… все мое! А она забрала, завладела всем… Не судиться же мне с ней, согласитесь… Прошу вас убедительно, извините и… и останьтесь. Tout comprendre, tout pardonner.[11] Остаетесь?
– Нет! – сказала Машенька решительно, начиная дрожать. – Оставьте меня, умоляю вас.
– Ну, бог с вами, – вздохнул Николай Сергеич, садясь на скамеечку около чемодана. – Я, признаться, люблю тех, кто еще умеет оскорбляться, презирать и прочее. Век бы сидел и на ваше негодующее лицо глядел… Так, стало быть, не остаетесь? Я понимаю… Иначе и быть не может… Да, конечно… Вам-то хорошо, а вот мне так – тпррр!.. Ни на шаг из этого погреба. Поехать бы в какое-нибудь наше имение, да там везде сидят эти женины прохвосты… управляющие, агрономы, черт бы их взял… Закладывают, перезакладывают… Рыбы не ловить, травы не топтать, деревьев не ломать.
– Николай Сергеич! – послышался из залы голос Федосьи Васильевны. – Агния, позови барина!
– Так не остаетесь? – спросил Николай Сергеич, быстро поднимаясь и идя к двери. – А то бы остались, ей-богу. Вечерком я заходил бы к вам… толковали бы. А? Останьтесь! Уйдете вы, и во всем доме не останется ни одного человеческого лица. Ведь это ужасно!
Бледное, испитое лицо Николая Сергеича умоляло, но Машенька отрицательно покачала головой, и он, махнув рукой, вышел.
Через полчаса она была уже в дороге.
1886Анюта
В самом дешевом номерке меблированных комнат «Лиссабон» из угла в угол ходил студент-медик 3-го курса, Степан Клочков, и усердно зубрил свою медицину. От неустанной, напряженной зубрячки у него пересохло во рту и выступил на лбу пот.
У окна, подернутого у краев ледяными узорами, сидела на табурете его жилица, Анюта, маленькая, худенькая брюнетка лет двадцати пяти, очень бледная, с кроткими серыми глазами. Согнувши спину, она вышивала красными нитками по воротнику мужской сорочки. Работа была спешная… Коридорные часы сипло пробили два пополудни, а в номерке еще не было убрано. Скомканное одеяло, разбросанные подушки, книги, платье, большой грязный таз, наполненный мыльными помоями, в которых плавали окурки, сор на полу – все, казалось, было свалено в одну кучу, нарочно перемешано, скомкано…
– Правое легкое состоит из трех долей… – зубрил Клочков. – Границы! Верхняя доля на передней стенке груди достигает до четвертого-пятого ребер, на боковой поверхности до четвертого ребра… назади до spina scapulae…[12]
Клочков, силясь представить себе только что прочитанное, поднял глаза к потолку. Не получив ясного представления, он стал прощупывать у себя сквозь жилетку верхние ребра.
– Эти ребра похожи на рояльные клавиши, – сказал он. – Чтобы не спутаться в счете, к ним непременно нужно привыкнуть. Придется поштудировать на скелете и на живом человеке… А ну-ка, Анюта, дай-ка я ориентируюсь!
Анюта оставила вышиванье, сняла кофточку и выпрямилась. Клочков сел против нее, нахмурился и стал считать ее ребра.
– Гм… Первое ребро не прощупывается… Оно за ключицей… Вот это будет второе ребро… Так-с… Это вот третье… Это вот четвертое… Гм… Так-с… Что ты жмешься?
– У вас пальцы холодные!
– Ну, ну… не умрешь, не вертись… Стало быть, это третье ребро, а это четвертое… Тощая ты такая на вид, а ребра едва прощупываются. Это второе… это третье… Нет, этак спутаешься и не представишь себе ясно… Придется нарисовать. Где мой уголек?
Клочков взял уголек и начертил им на груди у Анюты несколько параллельных линий, соответствующих ребрам.
– Превосходно. Все как на ладони… Ну-с, а теперь и постучать можно. Встань-ка!
Анюта встала и подняла подбородок. Клочков занялся выстукиванием и так погрузился в это занятие, что не заметил, как губы, нос и пальцы у Анюты посинели от холода. Анюта дрожала и боялась, что медик, заметив ее дрожь, перестанет чертить углем и стучать, и потом, пожалуй, дурно сдаст экзамен.
– Теперь все ясно, – сказал Клочков, перестав стучать. – Ты сиди так и не стирай угля, а я пока подзубрю еще немножко.
И медик опять стал ходить и зубрить. Анюта, точно татуированная, с черными полосами на груди, съежившись от холода, сидела и думала. Она говорила вообще очень мало, всегда молчала и все думала, думала…
За все шесть-семь лет ее шатания по меблированным комнатам, таких, как Клочков, знала она человек пять. Теперь все они уже покончали курсы, вышли в люди и, конечно, как порядочные люди, давно уже забыли ее. Один из них живет в Париже, два докторами, четвертый художник, а пятый даже, говорят, уже профессор. Клочков – шестой… Скоро и этот кончит курс, выйдет в люди. Несомненно, будущее прекрасно, и из Клочкова, вероятно, выйдет большой человек, но настоящее совсем плохо: у Клочкова нет табаку, нет чаю, и сахару осталось четыре кусочка. Нужно как можно скорее оканчивать вышиванье, нести к заказчице и потом купить на полученный четвертак и чаю и табаку.
– Можно войти? – послышалось за дверью.
Анюта быстро накинула себе на плечи шерстяной платок. Вошел художник Фетисов.
– А я к вам с просьбой, – начал он, обращаясь к Клочкову и зверски глядя из-под нависших на лоб волос. – Сделайте одолжение, одолжите мне вашу прекрасную девицу часика на два! Пишу, видите ли, картину, а без натурщицы никак нельзя!
– Ах, с удовольствием! – согласился Клочков. – Ступай, Анюта.
– Чего я там не видела! – тихо проговорила Анюта.
– Ну, полно! Человек для искусства просит, а не для пустяков каких-нибудь. Отчего не помочь, если можешь?
Анюта стала одеваться.
– А что вы пишете? – спросил Клочков.
– Психею. Хороший сюжет, да все как-то не выходит; приходится все с разных натурщиц писать. Вчера писал одну с синими ногами. Почему, спрашиваю, у тебя синие ноги? Это, говорит, чулки линяют. А вы все зубрите! Счастливый человек, терпение есть.
– Медицина такая штука, что никак нельзя без зубрячки.
– Гм… Извините, Клочков, но вы ужасно по-свински живете! Черт знает как живете!
– То есть как? Иначе нельзя жить… От батьки я получаю только двенадцать в месяц, а на эти деньги мудрено жить порядочно.
– Так-то так… – сказал художник и брезгливо поморщился, – но можно все-таки лучше жить… Развитой человек обязательно должен быть эстетиком. Не правда ли? А у вас тут черт знает что! Постель не прибрана, помои, сор… вчерашняя каша на тарелке… тьфу!
– Это правда, – сказал медик и сконфузился, – но Анюте некогда было сегодня убрать. Все время занята.
Когда художник и Анюта вышли, Клочков лег на диван и стал зубрить лежа, потом нечаянно уснул и, проснувшись через час, подпер голову кулаками и мрачно задумался. Ему вспомнились слова художника о том, что развитой человек обязательно должен быть эстетиком, и его обстановка в самом деле казалась ему теперь противной, отталкивающей. Он точно бы провидел умственным оком то свое будущее, когда он будет принимать своих больных в кабинете, пить чай в просторной столовой, в обществе жены, порядочной женщины, – и теперь этот таз с помоями, в котором плавали окурки, имел вид до невероятия гадкий. Анюта тоже представлялась некрасивой, неряшливой, жалкой… И он решил расстаться с ней, немедля, во что бы то ни стало.
Когда она, вернувшись от художника, снимала шубу, он поднялся и сказал ей серьезно:
– Вот что, моя милая… Садись и выслушай. Нам нужно расстаться! Одним словом, жить с тобою я больше не желаю.
Анюта вернулась от художника такая утомленная, изнеможенная. Лицо у нее от долгого стояния на натуре осунулось, похудело, и подбородок стал острей. В ответ на слова медика она ничего не сказала, и только губы у нее задрожали.
– Согласись, что рано или поздно нам все равно пришлось бы расстаться, – сказал медик. – Ты хорошая, добрая, и ты не глупая, ты поймешь…
Анюта опять надела шубу, молча завернула свое вышиванье в бумагу, собрала нитки, иголки; сверток с четырьмя кусочками сахару нашла на окне и положила на столе возле книг.
– Это ваше… сахар… – тихо сказала она и отвернулась, чтобы скрыть слезы.
– Ну, что же ты плачешь? – спросил Клочков.
Он прошелся по комнате в смущении и сказал:
– Странная ты, право… Сама ведь знаешь, что нам необходимо расстаться. Не век же нам быть вместе.
Она уже забрала все свои узелки и уже повернулась к нему, чтобы проститься, и ему стало жаль ее.
«Разве пусть еще одну неделю поживет здесь? – подумал он. – В самом деле, пусть еще поживет, а через неделю я велю ей уйти».
И, досадуя на свою бесхарактерность, он крикнул ей сурово:
– Ну, что же стоишь? Уходить так уходить, а не хочешь, так снимай шубу и оставайся! Оставайся!
Анюта сняла шубу, молча, потихоньку, потом высморкалась, тоже потихоньку, вздохнула и бесшумно направилась к своей постоянной позиции – к табурету у окна.
Студент потянул к себе учебник и опять заходил из угла в угол.
– Правое легкое состоит из трех долей… – зубрил он. – Верхняя доля на передней стенке груди достигает до четвертого-пятого ребер…
А в коридоре кто-то кричал во все горло:
– Грригорий, самовар!
1886Ведьма
Время шло к ночи. Дьячок Савелий Гыкин лежал у себя в церковной сторожке на громадной постели и не спал, хотя всегда имел обыкновение засыпать в одно время с курами. Из одного края засаленного, сшитого из разноцветных ситцевых лоскутьев одеяла глядели его рыжие жесткие волосы, из-под другого торчали большие, давно не мытые ноги. Он слушал… Его сторожка врезывалась в ограду, и единственное окно ее выходило в поле. А в поле была сущая война. Трудно было понять, кто кого сживал со света и ради чьей погибели заварилась в природе каша, но, судя по неумолкаемому, зловещему гулу, кому-то приходилось очень круто. Какая-то победительная сила гонялась за кем-то по полю, бушевала в лесу и на церковной крыше, злобно стучала кулаками по окну, метала и рвала, а что-то побежденное выло и плакало… Жалобный плач слышался то за окном, то над крышей, то в печке. В нем звучал не призыв на помощь, а тоска, сознание, что уже поздно, нет спасения. Снежные сугробы подернулись тонкой льдяной корой; на них и на деревьях дрожали слезы, по дорогам и тропинкам разливалась темная жижица из грязи и таявшего снега. Одним словом, на земле была оттепель, но небо сквозь темную ночь не видело этого и что есть силы сыпало на таявшую землю хлопья нового снега. А ветер гулял, как пьяный… Он не давал этому снегу ложиться на землю и кружил его в потемках, как хотел.
Гыкин прислушивался к этой музыке и хмурился. Дело в том, что он знал, или, по крайней мере, догадывался, к чему клонилась вся эта возня за окном и чьих рук было это дело.
– Я зна-аю! – бормотал он, грозя кому-то под одеялом пальцем. – Я все знаю!
У окна, на табурете, сидела дьячиха Раиса Ниловна. Жестяная лампочка, стоявшая на другом табурете, словно робея и не веря в свои силы, лила жиденький мелькающий свет на ее широкие плечи, красивые, аппетитные рельефы тела, на толстую косу, которая касалась земли. Дьячиха шила из грубого рядна мешки. Руки ее быстро двигались, все же тело, выражение глаз, брови, жирные губы, белая шея замерли, погруженные в однообразную, механическую работу, и, казалось, спали. Изредка только она поднимала голову, чтобы дать отдохнуть своей утомившейся шее, взглядывала мельком на окно, за которым бушевала метель, и опять сгибалась над рядном. Ни желаний, ни грусти, ни радости – ничего не выражало ее красивое лицо с вздернутым носом и ямками на щеках. Так ничего не выражает красивый фонтан, когда он не бьет.
Но вот она кончила один мешок, бросила его в сторону и, сладко потянувшись, остановила свой тусклый, неподвижный взгляд на окне… На стеклах плавали слезы и белели недолговечные снежинки. Снежинка упадет на стекло, взглянет на дьячиху и растает…
– Поди ложись! – проворчал дьячок.
Дьячиха молчала. Но вдруг ресницы ее шевельнулись и в глазах блеснуло внимание. Савелий, все время наблюдавший из-под одеяла выражение ее лица, высунул голову и спросил:
– Что?
– Ничего… Кажись, кто-то едет… – тихо ответила дьячиха.
Дьячок сбросил с себя руками и ногами одеяло, стал в постели на колени и тупо поглядел на жену. Робкий свет лампочки осветил его волосатое рябое лицо и скользнул по всклоченной жесткой голове.
– Слышишь? – спросила жена.
Сквозь однообразный вой метели расслышал он едва уловимый слухом, тонкий, звенящий стон, похожий на зуденье комара, когда он хочет сесть на щеку и сердится, что ему мешают.
– Это почта… – проворчал Савелий, садясь на пятки.
В трех верстах от церкви лежал почтовый тракт. Во время ветра, когда дуло с большой дороги на церковь, обитателям сторожки слышались звонки.
– Господи, приходит же охота ездить в такую погоду! – вздохнула дьячиха.
– Дело казенное. Хочешь не хочешь, поезжай…
Стон подержался в воздухе и замер.
– Проехала! – сказал Савелий, ложась.
Но не успел он укрыться одеялом, как до его слуха донесся явственный звук колокольчика. Дьячок тревожно взглянул на жену, спрыгнул с постели и, переваливаясь с боку на бок, заходил вдоль печки. Колокольчик прозвучал немного и опять замер, словно оборвался.
– Не слыхать… – пробормотал дьячок, останавливаясь и щуря на жену глаза.
Но в это самое время ветер стукнул по окну и донес тонкий, звенящий стон… Савелий побледнел, крякнул и опять зашлепал по полу босыми ногами.
– Почту кружит! – прохрипел он, злобно косясь на жену. – Слышишь ты? Почту кружит!.. Я… я знаю! Нешто я не… не понимаю? – забормотал он. – Я все знаю, чтоб ты пропала!
– Что ты знаешь? – тихо спросила дьячиха, не отрывая глаз от окна.
– А то знаю, что все это твои дела, чертиха! Твои дела, чтоб ты пропала! И метель эта, и почту кружит… все это ты наделала! Ты!
– Бесишься, глупый… – покойно заметила дьячиха.
– Я за тобой давно уж это замечаю! Как поженился, в первый же день приметил, что в тебе сучья кровь!
– Тьфу! – удивилась Раиса, пожимая плечами и крестясь. – Да ты перекрестись, дурень!
– Ведьма и есть ведьма, – продолжал Савелий глухим, плачущим голосом, торопливо сморкаясь в подол рубахи. – Хоть ты и жена мне, хоть и духовного звания, но я о тебе и на духу так скажу, какая ты есть… Да как же? Заступи, господи, и помилуй! В прошлом годе под пророка Даниила и трех отроков была метель, и – что же? мастер греться заехал. Потом на Алексея, божьего человека, реку взломало, и урядника принесло… Всю ночь тут с тобой, проклятый, калякал, а как наутро вышел, да как взглянул я на него, так у него под глазами круги и все щеки втянуло! А? В Спасовку два раза гроза была, и в оба разы охотник ночевать приходил. Я все видел, чтоб ему пропасть! Все! О, красней рака стала! Ага!
– Ничего ты не видел…
– Ну да! А этой зимой перед Рождеством на десять мучеников в Крите, когда метель день и ночь стояла… помнишь? – писарь предводителя сбился с дороги и сюда, собака, попал… И на что польстилась! Тьфу, на писаря! Стоило из-за него божью погоду мутить! Чертяка, сморкун, из земли не видно, вся морда в угрях и шея кривая… Добро бы, красивый был, а то – тьфу! – сатана.
Дьячок перевел дух, утер губы и прислушался. Колокольчика не было слышно, но рванул над крышей ветер, и в потемках за окном опять зазвякало.
– И теперь тоже! – продолжал Савелий. – Недаром это почту кружит! Наплюй мне в глаза, ежели почта не тебя ищет! О, бес знает свое дело, хороший помощник! Покружит, покружит и сюда доведет. Зна-аю! Ви-ижу! Не скроешь, бесова балаболка, похоть идольская! Как метель началась, я сразу понял твои мысли.
– Вот дурень! – усмехнулась дьячиха. – Что ж, по твоему по дурацкому уму, я ненастье делаю?
– Гм… Усмехайся! Ты или не ты, а только я замечаю: как в тебе кровь начинает играть, так и непогода, а как только непогода, так и несет сюда какого ни на есть безумца. Каждый раз так приходится! Стало быть, ты!
Дьячок для большей убедительности приложил палец ко лбу, закрыл левый глаз и проговорил певучим голосом:
– О безумие! О Иудино окаянство! Коли ты в самом деле человек есть, а не ведьма, то подумала бы в голове своей: а что если то были не мастер, не охотник, не писарь, а бес в их образе! А? Ты бы подумала!
– Да и глупый же ты, Савелий! – вздохнула дьячиха, с жалостью глядя на мужа. – Когда папенька живы были и тут жили, то много разного народа ходило к ним от трясучки лечиться: и из деревни, и из выселков, и из армянских хуторов. Почитай каждый день ходили, и никто их бесами не обзывал. А к нам ежели кто раз в год в ненастье заедет погреться, так уж тебе, глупому, и диво, сейчас у тебя и мысли разные.
Логика жены тронула Савелия. Он расставил босые ноги, нагнул голову и задумался. Он не был еще крепко убежден в своих догадках, а искренний, равнодушный тон дьячихи совсем сбил его с толку, но тем не менее, подумав немного, он мотнул головой и сказал:
– Не то чтобы старики или косолапые какие, а все молодые ночевать просятся… Почему такое? И пущай бы только грелись, а то ведь черта тешат. Нет, баба, хитрей вашего бабьего рода на этом свете и твари нет! Настоящего ума в вас – ни боже мой, меньше, чем у скворца, зато хитрости бесовской – у-у-у! – спаси, царица небесная! Вон, звонит почта! Метель еще только начиналась, а уж я все твои мысли знал! Наведьмачила, паучиха!
– Да что ты пристал ко мне, окаянный? – вышла из терпения дьячиха. – Что ты пристал ко мне, смола?
– А то пристал, что ежели нынче ночью, не дай бог, случится что… ты слушай!.. ежели случится что, то завтра же чуть свет пойду в Дядьково к отцу Никодиму и все объясню. Так и так, скажу, отец Никодим, извините великодушно, но она ведьма. Почему? Гм… желаете знать почему? Извольте… Так и так. И горе тебе, баба! Не токмо на Страшном судилище, но и в земной жизни наказана будешь! Недаром насчет вашего брата в требнике молитвы написаны!
Вдруг в окне раздался стук, такой громкий и необычайный, что Савелий побледнел и присел от испуга. Дьячиха вскочила и тоже побледнела.
– Ради бога, пустите погреться! – послышался дрожащий густой бас. – Кто тут есть? Сделайте милость!
С дороги сбились!
– А кто вы? – спросила дьячиха, боясь взглянуть на окно.
– Почта! – ответил другой голос.
– Недаром дьяволила! – махнул рукой Савелий. – Так и есть! Моя правда… Ну, гляди же ты мне!
Дьячок подпрыгнул два раза перед постелью, повалился на перину и, сердито сопя, повернулся лицом к стене. Скоро в его спину пахнуло холодом. Дверь скрипнула, и на пороге показалась высокая человеческая фигура, с головы до ног облепленная снегом. За нею мелькнула другая, такая же белая…
– И тюки вносить? – спросила вторая хриплым басом.
– Не там же их оставлять!
Сказавши это, первый начал развязывать себе башлык и, не дожидаясь, когда он развяжется, сорвал его с головы вместе с фуражкой и со злобой швырнул к печке. Затем, стащив с себя пальто, он бросил его туда же и, не здороваясь, зашагал по сторожке.
Это был молодой белокурый почтальон в истасканном форменном сюртучишке и в рыжих грязных сапогах. Согревши себя ходьбой, он сел за стол, протянул грязные ноги к мешкам и подпер кулаком голову. Его бледное с красными пятнами лицо носило еще следы только что пережитых боли и страха. Искривленное злобой, со свежими следами недавних физических и нравственных страданий, с тающим снегом на бровях, усах и круглой бородке, оно было красиво.
– Собачья жизнь! – проворчал почтальон, водя глазами по стенам и словно не веря, что он в тепле. – Чуть не пропали! Коли б не ваш огонь, так не знаю, что бы и было… И чума его знает, когда все это кончится! Конца-краю нет этой собачьей жизни! Куда мы заехали? – спросил он, понизив голос и вскидывая глазами на дьячиху.
– На Гуляевский бугор, в имение генерала Калиновского, – ответила дьячиха, встрепенувшись и краснея.
– Слышь, Степан? – повернулся почтальон к ямщику, застрявшему в дверях с большим кожаным тюком на спине. – Мы на Гуляевский бугор попали!
– Да… далече!
Произнеся это слово в форме хриплого, прерывистого вздоха, ямщик вышел и немного погодя внес другой тюк, поменьше, затем еще раз вышел и на этот раз внес почтальонную саблю на широком ремне, похожую фасоном на тот длинный плоский меч, с каким рисуется на лубочных картинках Юдифь у ложа Олоферна. Сложив тюки вдоль стены, он вышел в сени, сел там и закурил трубку.
– Может, с дороги чаю покушаете? – спросила дьячиха.
– Куда тут чаи распивать! – нахмурился почтальон. – Надо вот скорее греться да ехать, а то к почтовому поезду опоздаем. Минут десять посидим и поедем. Только вы, сделайте милость, дорогу нам покажите…
– Наказал бог погодой! – вздохнула дьячиха.
– М-да… Вы же сами кто тут будете?
– Мы? Тутошние, при церкви… Мы из духовного звания… Вон мой муж лежит! Савелий, встань же, иди поздоровайся! Тут прежде приход был, а года полтора назад его упразднили. Оно, конечно, когда господа тут жили, то и люди были, стоило приход держать, а теперь без господ, сами судите, чем духовенству жить, ежели самая близкая деревня здесь Марковка, да и та за пять верст! Теперь Савелий заштатный и… заместо сторожа. Ему споручено за церквой глядеть…
И почтальон тут же узнал, что если бы Савелий поехал к генеральше и выпросил у нее записку к преосвященному, то ему дали бы хорошее место; не идет же он к генеральше потому, что ленив и боится людей.
– Все-таки мы духовного звания… – добавила дьячиха.
– Чем же вы живете? – спросил почтальон.
– При церкви есть сенокос и огороды. Только нам от этого мало приходится… – вздохнула дьячиха. – Дядькинский отец Никодим, завидущие глаза, служит тут на Николу летнего, да на Николу зимнего и за это почти все себе берет. Заступиться некому!
– Врешь! – прохрипел Савелий. – Отец Никодим святая душа, светильник церкви, а ежели берет, то по уставу!
– Какой он у тебя сердитый! – усмехнулся почтальон. – А давно ты замужем?
– С прощеного воскресенья четвертый год пошел. Тут прежде в дьячках мой папенька были, а потом, как пришло им время помирать, они, чтоб место за мной осталось, поехали в консисторию и попросили, чтоб мне какого-нибудь неженатого дьячка в женихи прислали. Я и вышла.
– Ага, стало быть, ты одной хлопушкой двух мух убил! – сказал почтальон, глядя на спину Савелия. – И место получил, и жену взял.
Савелий нетерпеливо дрыгнул ногой и ближе придвинулся к стенке. Почтальон вышел из-за стола, потянулся и сел на почтовый тюк. Немного подумав, он помял руками тюки, переложил саблю на другое место и растянулся, свесив на пол одну ногу.
– Собачья жизнь… – пробормотал он, кладя руки под голову и закрывая глаза. – И лихому татарину такой жизни не пожелаю.
Скоро наступила тишина. Слышно было только, как сопел Савелий да как уснувший почтальон, мерно и медленно дыша, при всяком выдыхании испускал густое, протяжное «к-х-х-х…». Изредка в его горле поскрипывало какое-то колесико да шуршала по тюку вздрагивавшая нога.
Савелий заворочался под одеялом и медленно оглянулся. Дьячиха сидела на табурете и, сдавив щеки ладонями, глядела в лицо почтальона. Взгляд ее был неподвижный, как у удивленного, испуганного человека.
– Ну, чего воззрилась? – сердито прошептал Савелий.
– А тебе что? Лежи! – ответила дьячиха, не отрывая глаз от белокурой головы.
Савелий сердито выдыхнул из груди весь воздух и резко повернулся к стене. Минуты через три он опять беспокойно заворочался, стал в постели на колени и, упершись руками о подушку, покосился на жену. Та все еще не двигалась и глядела на гостя. Щеки ее побледнели, и взгляд загорелся каким-то странным огнем. Дьячок крякнул, сполз на животе с постели и, подойдя к почтальону, прикрыл его лицо платком.
– Зачем ты это? – спросила дьячиха.
– Чтоб огонь ему в глаза не бил.
– А ты огонь совсем потуши!
Савелий недоверчиво поглядел на жену, потянулся губами к лампочке, но тотчас же спохватился и всплеснул руками.
– Ну не хитрость ли бесовская? – воскликнул он. – А? Ну есть ли какая тварь хитрее бабьего роду?
– А, сатана длиннополая! – прошипела дьячиха, поморщившись от досады. – Погоди же!
И, поудобнее усевшись, она опять уставилась на почтальона.
Ничего, что лицо было закрыто. Ее не столько занимало лицо, как общий вид, новизна этого человека. Грудь у него была широкая, могучая, руки красивые, тонкие, а мускулистые стройные ноги были гораздо красивее и мужественнее, чем две «кулдышки» Савелия. Даже сравнивать было невозможно.
– Хоть я и длиннополый нечистый дух, – проговорил, немного постояв, Савелий, – а тут им нечего спать… Да… Дело у них казенное, мы же отвечать будем, зачем их тут держали. Коли везешь почту, так вези, а спать нечего… Эй, ты! – крикнул Савелий в сени. – Ты, ямщик… как тебя? Проводить вас, что ли? Вставай, нечего с почтой спать!
И расходившийся Савелий подскочил к почтальону и дернул его за рукав.
– Эй, ваше благородие! Ехать так ехать, а коли не ехать, так и не тово… Спать не годится.
Почтальон вскочил, сел, обвел мутным взглядом сторожку и опять лег.
– А ехать же когда? – забарабанил языком Савелий, дергая его за рукав. – На то ведь она и почта, чтоб во благовремении поспевать, слышишь? Я провожу.
Почтальон открыл глаза. Согретый и изнеможенный сладким первым сном, еще не совсем проснувшийся, он увидел, как в тумане, белую шею и неподвижный масленый взгляд дьячихи, закрыл глаза и улыбнулся, точно ему все это снилось.
– Ну куда в такую погоду ехать! – услышал он мягкий женский голос. – Спали бы себе да спали на доброе здоровье!
– А почта? – встревожился Савелий. – Кто же почту-то повезет? Нешто ты повезешь? Ты?
Почтальон снова открыл глаза, взглянул на двигающиеся ямки на лице дьячихи, вспомнил, где он, понял Савелия. Мысль, что ему предстоит ехать в холодных потемках, побежала из головы по всему телу холодными мурашками, и он поежился.
– Пять минуток еще бы можно поспать… – зевнул он. – Все равно опоздали…
– А может, как раз вовремя приедем! – послышался голос из сеней. – Гляди, неровен час и сам поезд на наше счастье опоздает.
Почтальон поднялся и, сладко потягиваясь, стал надевать пальто.
Савелий, видя, что гости собираются уезжать, даже заржал от удовольствия.
– Помоги, что ль! – крикнул ему ямщик, поднимая с пола тюк.
Дьячок подскочил к нему и вместе с ним потащил на двор почтовую клажу. Почтальон стал распутывать узел на башлыке. А дьячиха заглядывала ему в глаза и словно собиралась залезть ему в душу.
– Чаю бы попили… – сказала она.
– Я бы ничего… да вот они собрались! – соглашался он. – Все равно опоздали.
– А вы останьтесь! – шепнула она, опустив глаза и трогая его за рукав.
Почтальон развязал наконец узел и в нерешимости перекинул башлык через локоть. Ему было тепло стоять около дьячихи.
– Какая у тебя… шея…
И он коснулся двумя пальцами ее шеи. Видя, что ему не сопротивляются, он погладил рукой шею, плечо…
– Фу, какая…
– Остались бы… чаю попили бы.
– Куда кладешь? Ты, кутья с патокой! – послышался со двора голос ямщика. – Поперек клади.
– Остались бы… Ишь как воет погода!
И не совсем еще проснувшимся, не успевшим стряхнуть с себя обаяние молодого томительного сна, почтальоном вдруг овладело желание, ради которого забываются тюки, почтовые поезда… все на свете. Испуганно, словно желая бежать или спрятаться, он взглянул на дверь, схватил за талию дьячиху и уж нагнулся над лампочкой, чтобы потушить огонь, как в сенях застучали сапоги и на пороге показался ямщик… Из-за его плеча выглядывал Савелий. Почтальон быстро опустил руки и остановился, словно в раздумье.
– Все готово! – сказал ямщик.
Почтальон постоял немного, резко мотнул головой, как окончательно проснувшийся, и пошел за ямщиком. Дьячиха осталась одна.
– Что же, садись, показывай дорогу! – услышала она.
Лениво зазвучал один колокольчик, затем другой, и звенящие звуки мелкой длинной цепочкой понеслись от сторожки.
Когда они мало-помалу затихли, дьячиха рванулась с места и нервно заходила из угла в угол. Сначала она была бледна, потом же вся раскраснелась. Лицо ее исказилось ненавистью, дыхание задрожало, глаза заблестели дикой, свирепой злобой, и, шагая как в клетке, она походила на тигрицу, которую пугают раскаленным железом. На минуту остановилась она и взглянула на свое жилье. Чуть ли не полкомнаты занимала постель, тянувшаяся вдоль всей стены и состоявшая из грязной перины, серых жестких подушек, одеяла и разного безыменного тряпья. Эта постель представляла собой бесформенный некрасивый ком, почти такой же, какой торчал на голове Савелия всегда, когда тому приходила охота маслить свои волосы. От постели до двери, выходившей в холодные сени, тянулась темная печка с горшками и висящими тряпками. Все, не исключая и только что вышедшего Савелия, было донельзя грязно, засалено, закопчено, так что было странно видеть среди такой обстановки белую шею и тонкую, нежную кожу женщины. Дьячиха подбежала к постели, протянула руки, как бы желая раскидать, растоптать и изорвать в пыль все это, но потом, словно испугавшись прикосновения к грязи, она отскочила назад и опять зашагала…
Когда часа через два вернулся облепленный снегом и замученный Савелий, она уже лежала раздетая в постели. Глаза у нее были закрыты, но по мелким судорогам, которые бегали по ее лицу, он догадался, что она не спит. Возвращаясь домой, он дал себе слово до завтра молчать и не трогать ее, но тут не вытерпел, чтобы не уязвить.
– Даром только ворожила: уехал! – сказал он, злорадно ухмыльнувшись.
Дьячиха молчала, только подбородок ее дрогнул. Савелий медленно разделся, перелез через жену и лег к стенке.
– А вот завтра я объясню отцу Никодиму, какая ты жена! – пробормотал он, съеживаясь калачиком.
Дьячиха быстро повернулась к нему лицом и сверкнула на него глазами.
– Будет с тебя и места, – сказала она, – а жену поищи себе в лесу! Какая я тебе жена? Да чтоб ты треснул! Вот еще навязался на мою голову телепень, лежебока, прости господи!
– Ну, ну… Спи!
– Несчастная я! – зарыдала дьячиха. – Коли б не ты, я, может, за купца бы вышла или за благородного какого! Коли б не ты, я бы теперь мужа любила! Не замело тебя снегом, не замерз ты там на большой дороге, ирод!
Долго плакала дьячиха. В конце концов она глубоко вздохнула и утихла. За окном все еще злилась вьюга. В печке, в трубе, за всеми стенами что-то плакало, а Савелию казалось, что это у него внутри и в ушах плачет. Сегодняшним вечером он окончательно убедился в своих предположениях относительно жены. Что жена его при помощи нечистой силы распоряжалась ветрами и почтовыми тройками, в этом уж он более не сомневался. Но, к сугубому горю его, эта таинственность, эта сверхъестественная, дикая сила придавали лежавшей около него женщине особую непонятную прелесть, какой он и не замечал ранее. Оттого, что он по глупости, сам того не замечая, опоэтизировал ее, она стала как будто белее, глаже, неприступнее…
– Ведьма! – негодовал он. – Тьфу, противная!
А между тем, дождавшись, когда она утихла и стала ровно дышать, он коснулся пальцем ее затылка… подержал в руке ее толстую косу. Она не слышала… Тогда он стал смелее и погладил ее по шее.
– Отстань! – крикнула она и так стукнула его локтем в переносицу, что из глаз его посыпались искры.
Боль в переносице скоро прошла, но пытка все еще продолжалась.
1886Шуточка
Ясный зимний полдень… Мороз крепок, трещит, и у Наденьки, которая держит меня под руку, покрываются серебристым инеем кудри на висках и пушок над верхней губой. Мы стоим на высокой горе. От наших ног до самой земли тянется покатая плоскость, в которую солнце глядится, как в зеркало. Возле нас маленькие санки, обитые ярко-красным сукном.
– Съедемте вниз, Надежда Петровна! – умоляю я. – Один только раз! Уверяю вас, мы останемся целы и невредимы.
Но Наденька боится. Все пространство от ее маленьких калош до конца ледяной горы кажется ей страшной, неизмеримо глубокой пропастью. У нее замирает дух и прерывается дыхание, когда она глядит вниз, когда я только предлагаю сесть в санки, но что же будет, если она рискнет полететь в пропасть! Она умрет, сойдет с ума.
– Умоляю вас! – говорю я. – Не надо бояться! Поймите же, это малодушие, трусость!
Наденька наконец уступает, и я по лицу вижу, что она уступает с опасностью для жизни. Я сажаю ее, бледную, дрожащую, в санки, обхватываю рукой и вместе с нею низвергаюсь в бездну.
Санки летят как пуля. Рассекаемый воздух бьет в лицо, ревет, свистит в ушах, рвет, больно щиплет от злости, хочет сорвать с плеч голову. От напора ветра нет сил дышать. Кажется, сам дьявол обхватил нас лапами и с ревом тащит в ад. Окружающие предметы сливаются в одну длинную, стремительно бегущую полосу… Вот-вот еще мгновение, и кажется – мы погибнем!
– Я люблю вас, Надя! – говорю я вполголоса.
Санки начинают бежать всё тише и тише, рев ветра и жужжанье полозьев не так уже страшны, дыхание перестает замирать, и мы наконец внизу. Наденька ни жива ни мертва. Она бледна, едва дышит…
Я помогаю ей подняться.
– Ни за что в другой раз не поеду, – говорит она, глядя на меня широкими, полными ужаса глазами. – Ни за что на свете! Я едва не умерла!
Немного погодя она приходит в себя и уже вопросительно заглядывает мне в глаза: я ли сказал те четыре слова, или же они только послышались ей в шуме вихря? А я стою возле нее, курю и внимательно рассматриваю свою перчатку.
Она берет меня под руку, и мы долго гуляем около горы. Загадка, видимо, не дает ей покою. Были сказаны те слова или нет? Да или нет? Да или нет? Это вопрос самолюбия, чести, жизни, счастья, вопрос очень важный, самый важный на свете. Наденька нетерпеливо, грустно, проникающим взором заглядывает мне в лицо, отвечает невпопад, ждет, не заговорю ли я. О, какая игра на этом милом лице, какая игра! Я вижу, она борется с собой, ей нужно что-то сказать, о чем-то спросить, но она не находит слов, ей неловко, страшно, мешает радость…
– Знаете что? – говорит она, не глядя на меня.
– Что? – спрашиваю я.
– Давайте еще раз… прокатим.
Мы взбираемся по лестнице на гору. Опять я сажаю бледную, дрожащую Наденьку в санки, опять мы летим в страшную пропасть, опять ревет ветер и жужжат полозья, и опять при самом сильном и шумном разлете санок я говорю вполголоса:
– Я люблю вас, Наденька!
Когда санки останавливаются, Наденька окидывает взглядом гору, по которой мы только что катили, потом долго всматривается в мое лицо, вслушивается в мой голос, равнодушный и бесстрастный, и вся, вся, даже муфта и башлык ее, вся ее фигурка выражают крайнее недоумение. И на лице у нее написано:
«В чем же дело? Кто произнес те слова? Он или мне только послышалось?»
Эта неизвестность беспокоит ее, выводит из терпения. Бедная девочка не отвечает на вопросы, хмурится, готова заплакать.
– Не пойти ли нам домой? – спрашиваю я.
– А мне… мне нравится это катанье, – говорит она краснея. – Не проехаться ли нам еще раз?
Ей «нравится» это катанье, а между тем, садясь в санки, она, как и в те разы, бледна, еле дышит от страха, дрожит.
Мы спускаемся в третий раз, и я вижу, как она смотрит мне в лицо, следит за моими губами. Но я прикладываю к губам платок, кашляю и, когда достигаем середины горы, успеваю вымолвить:
– Я люблю вас, Надя!
И загадка остается загадкой! Наденька молчит, о чем-то думает… Я провожаю ее с катка домой, она старается идти тише, замедляет шаги и все ждет, не скажу ли я ей тех слов. И я вижу, как страдает ее душа, как она делает усилия над собой, чтобы не сказать:
«Не может же быть, чтоб их говорил ветер! И я не хочу, чтобы это говорил ветер!»
На другой день утром я получаю записочку: «Если пойдете сегодня на каток, то заходите за мной. Н.» И с этого дня я с Наденькой начинаю каждый день ходить на каток и, слетая вниз на санках, я всякий раз произношу вполголоса одни и те же слова:
– Я люблю вас, Надя!
Скоро Наденька привыкает к этой фразе, как к вину или морфию. Она жить без нее не может. Правда, лететь с горы по-прежнему страшно, но теперь уже страх и опасность придают особое очарование словам о любви, словам, которые по-прежнему составляют загадку и томят душу. Подозреваются все те же двое: я и ветер… Кто из двух признается ей в любви, она не знает, но ей, по-видимому, уже все равно; из какого сосуда ни пить – все равно, лишь бы быть пьяным.
Как-то в полдень я отправился на каток один; смешавшись с толпой, я вижу, как к горе подходит Наденька, как ищет глазами меня… Затем она робко идет вверх по лесенке… Страшно ехать одной, о, как страшно! Она бледна, как снег, дрожит, она идет точно на казнь, но идет, идет без оглядки, решительно. Она, очевидно, решила наконец попробовать: будут ли слышны те изумительные сладкие слова, когда меня нет? Я вижу, как она, бледная, с раскрытым от ужаса ртом, садится в санки, закрывает глаза и, простившись навеки с землей, трогается с места… «Жжжж…» – жужжат полозья. Слышит ли Наденька те слова, я не знаю… Я вижу только, как она поднимается из саней изнеможенная, слабая. И видно по ее лицу, она и сама не знает, слышала она что-нибудь или нет. Страх, пока она катила вниз, отнял у нее способность слышать, различать звуки, понимать…
Но вот наступает весенний месяц март… Солнце становится ласковее. Наша ледяная гора темнеет, теряет свой блеск и тает наконец. Мы перестаем кататься. Бедной Наденьке больше уж негде слышать тех слов, да и некому произносить их, так как ветра не слышно, а я собираюсь в Петербург – надолго, должно быть навсегда.
Как-то перед отъездом, дня за два, в сумерки сижу я в садике, а от двора, в котором живет Наденька, садик этот отделен высоким забором с гвоздями… Еще достаточно холодно, под навозом еще снег, деревья мертвы, но уже пахнет весной, и, укладываясь на ночлег, шумно кричат грачи. Я подхожу к забору и долго смотрю в щель. Я вижу, как Наденька выходит на крылечко и устремляет печальный, тоскующий взор на небо… Весенний ветер дует ей прямо в бледное, унылое лицо… Он напоминает ей о том ветре, который ревел нам тогда на горе, когда она слышала те четыре слова, и лицо у нее становится грустным, грустным, по щеке ползет слеза… И бедная девочка протягивает обе руки, как бы прося этот ветер принести ей еще раз те слова. И я, дождавшись ветра, говорю вполголоса:
– Я люблю вас, Надя!
Боже мой, что делается с Наденькой! Она вскрикивает, улыбается во все лицо и протягивает навстречу ветру руки, радостная, счастливая, такая красивая.
А я иду укладываться…
Это было уже давно. Теперь Наденька уже замужем; ее выдали или она сама вышла – это все равно – за секретаря дворянской опеки, и теперь у нее уже трое детей. То, как мы вместе когда-то ходили на каток и как ветер доносил до нее слова «я вас люблю, Наденька», не забыто; для нее теперь это самое счастливое, самое трогательное и прекрасное воспоминание в жизни…
А мне теперь, когда я стал старше, уже непонятно, зачем я говорил те слова, для чего шутил…
1886Мечты
Двое сотских – один чернобородый, коренастый, на необыкновенно коротких ножках, так что если взглянуть на него сзади, то кажется, что у него ноги начинаются гораздо ниже, чем у всех людей; другой длинный, худой и прямой, как палка, с жидкой бороденкой темно-рыжего цвета – конвоируют в уездный город бродягу, не помнящего родства. Первый идет вразвалку, глядит по сторонам, жует то соломинку, то свой рукав, хлопает себя по бедрам и мурлычет, вообще имеет вид беспечный и легкомысленный; другой же, несмотря на свое тощее лицо и узкие плечи, выглядит солидным, серьезным и основательным, складом и выражением всей своей фигуры походит на старообрядческих попов или тех воинов, каких пишут на старинных образах; ему «за мудрость бог лба прибавил», то есть он плешив, что еще больше увеличивает помянутое сходство. Первого зовут Андрей Птаха, второго – Никандр Сапожников.
Человек, которого они конвоируют, совсем не соответствует тому представлению, какое имеется у каждого о бродягах. Это маленький тщедушный человек, слабосильный и болезненный, с мелкими, бесцветными и крайне неопределенными чертами лица. Брови у него жиденькие, взгляд покорный и кроткий, усы еле пробиваются, хотя бродяга уже перевалил за тридцать. Он шагает несмело, согнувшись и засунув руки в рукава. Воротник его не мужицкого, драпового, с потертой ворсой пальтишка приподнят до самых краев фуражки, так что только один красный носик осмеливается глядеть на свет божий. Говорит он заискивающим тенорком, то и дело покашливает. Трудно, очень трудно признать в нем бродягу, прячущего свое родное имя. Скорее это обнищавший, забытый богом попович-неудачник, прогнанный за пьянство писец, купеческий сын или племянник, попробовавший свои жидкие силишки на актерском поприще и теперь идущий домой, чтобы разыграть последний акт из притчи о блудном сыне; быть может, судя по тому тупому терпению, с каким он борется с осеннею невылазной грязью, это фанатик – монастырский служка, шатающийся по русским монастырям, упорно ищущий «жития мирна и безгрешна» и не находящий…
Путники давно уже идут, но никак не могут сойти с небольшого клочка земли. Впереди них сажен пять грязной, черно-бурой дороги, позади столько же, а дальше, куда ни взглянешь, непроглядная стена белого тумана. Они идут, идут, но земля все та же, стена не ближе, и клочок остается клочком. Мелькнет белый угловатый булыжник, буерак или охапка сена, оброненная проезжим, блеснет ненадолго большая мутная лужа, а то вдруг неожиданно впереди покажется тень с неопределенными очертаниями; чем ближе к ней, тем она меньше и темнее, еще ближе – и перед путниками вырастает погнувшийся верстовой столб с потертой цифрой или же жалкая березка, мокрая, голая, как придорожный нищий. Березка пролепечет что-то остатками своих желтых листьев, один листок сорвется и лениво полетит к земле… А там опять туман, грязь, бурая трава по краям дороги. На траве виснут тусклые, недобрые слезы. Это не те слезы тихой радости, какими плачет земля, встречая и провожая летнее солнце, и какими поит она на заре перепелов, дергачей и стройных, длинноносых кроншнепов! Ноги путников вязнут в тяжелой, липкой грязи. Каждый шаг стоит напряжения.
Андрей Птаха несколько возбужден. Он оглядывает бродягу и силится понять, как это живой, трезвый человек может не помнить своего имени.
– Да ты православный? – спрашивает он.
– Православный, – кротко отвечает бродяга.
– Гм!.. стало быть, тебя крестили?
– А то как же? Я не турок. И в церковь я хожу, и говею, и скоромного не кушаю, когда не велено. Леригию я исполняю в точности…
– Ну, так как же тебя звать?
– А зови, как хочешь, парень.
Птаха пожимая плечами и в крайнем недоумении хлопает себя по бедрам. Другой же сотский, Никандр Сапожников, солидно молчит. Он не так наивен, как Птаха, и, по-видимому, отлично знает причины, побуждающие православного человека скрывать от людей свое имя. Выразительное лицо его холодно и строго. Он шагает особняком, не снисходит до праздной болтовни с товарищами и как бы старается показать всем, даже туману, свою степенность и рассудительность.
– Бог тебя знает, как об тебе понимать надо, – продолжает приставать Птаха. – Мужик – не мужик, барин – не барин, а так, словно середка какая… Намеднись в пруде я решета мыл и поймал такую вот, с палец, гадючку с зебрами и хвостом. Спервоначалу думал, что оно рыба, потом гляжу – чтоб ты издохла! – лапки есть. Не то она рыбина, не то гадюка, не то черт его разберет, что оно такое… Так вот и ты… Какого ты звания?
– Я мужик, крестьянского рода, – вздыхает бродяга. – Моя маменька из крепостных дворовых были. С виду я не похож на мужика, это точно, потому мне такая судьба вышла, добрый человек. Моя маменька при господах в нянюшках жили и всякое удовольствие получали, ну а я плоть и кровь ихняя, при них состоял в господском доме. Нежили оне меня, баловали и на ту точку били, чтоб меня из простого звания в хорошие люди вывесть. Я на кровати спал, каждый день настоящий обед кушал, брюки и полусапожки носил на манер какого дворянчика. Что маменька сами кушали, тем и меня кормили; им господа на платье подарят, а оне меня одевают… Хорошо жилось! Сколько я конфетов и пряников на своем ребячьем веку перекушал, так это ежели теперь продать, можно хорошую лошадь купить. Грамоте меня маменька обучили, страх божий сызмальства внушили и так меня приспособили, что я теперя не могу никакого мужицкого, неделикатного слова сказать. И водки, парень, не пью, и одеваюсь чисто, и могу в хорошем обществе себя содержать в приличном виде. Коли еще живы, то дай бог им здоровья, а ежели померли, то упокой, господи, их душечку в царствии твоем, идеже праведные упокояются!
Бродяга обнажает голову с торчащей на ней редкой щетинкой, поднимает кверху глаза и осеняет себя дважды крестным знамением.
– Пошли ей, господи, место злачно, место покойно! – говорит он протяжным, скорее старушечьим, чем мужским голосом. – Научи ее, господи, рабу твою Ксению, оправданием твоим! Ежели б не маменька любезная, быть бы мне в простых мужиках, без всякого понятия! Теперя, парень, о чем меня ни спроси, я все понимаю:
и светское писание, и божественное, и всякие молитвы, и катихизиц. И живу по Писанию… Людей не забижаю, плоть содержу в чистоте и целомудрии, посты соблюдаю, кушаю во благовремении. У другого какого человека только и есть удовольствия, что водка и горлобесие, а я, коли время есть, сяду в уголке и читаю книжечку. Читаю и все плачу, плачу…
– Чего ж ты плачешь?
– Пишут жалостно! За иную книжечку пятачок дашь, а плачешь и стенаешь до чрезвычайности.
– Отец твой помер? – спрашивает Птаха.
– Не знаю, парень. Не знаю я своего родителя, нечего греха таить. Я так об себе рассуждаю, что у маменьки я был незаконнорожденное дитё. Моя маменька весь свой век при господах жили и не желали за простого мужика выйтить…
– И на барина налетела, – усмехается Птаха.
– Не соблюли себя, это точно. Были оне благочестивые, богобоязненные, но девства не сохранили. Оно, конечно, грех, великий грех, что и говорить, но зато, может, во мне дворянская кровь есть. Может, только по званию я мужик, а в естестве благородный господин.
Говорит все это «благородный господин» тихим, слащавым тенорком, морща свой узенький лобик и издавая красным озябшим носиком скрипящие звуки. Птаха слушает, удивленно косится на него и не перестает пожимать плечами.
Пройдя верст шесть, сотские и бродяга садятся на бугорке отдохнуть.
– Собака и та свою кличку помнит, – бормочет Птаха. – Меня знать Андрюшка, его – Никандра, у каждого человека свое святое имя есть, и никак это имя забыть нельзя! Никак!
– Кому какая надобность мое имя знать? – вздыхает бродяга, подпирая кулачком щеку. – И какая мне от этого польза? Ежели б мне дозволили идти, куда я хочу, а то ведь хуже теперешнего будет. Я, братцы православные, знаю закон. Теперя я бродяга, не помнящий родства, и самое большее, ежели меня в Восточную Сибирь присудят и тридцать не то сорок плетей дадут, а ежели я им свое настоящее имя и звание скажу, то опять они меня в каторжную работу пошлют. Я знаю!
– А нешто ты был в каторжной работе?
– Был, друг милый. Четыре года с бритой головой ходил и кандалы носил.
– За какое дело?
– За душегубство, добрый человек! Когда я еще мальчишкой был, этак годов восемнадцати, маменька моя по нечаянности барину заместо соды и кислоты мышьяку в стакан всыпали. Коробок разных в кладовой много было, перепутать нетрудно…
Бродяга вздыхает, покачивает головой и говорит:
– Они благочестивые были, но кто их знает, чужая душа – дремучий лес! Может, по нечаянности, а может, не могли в душе своей той обиды стерпеть, что барин к себе новую слугу приблизил… Может, нарочно ему всыпали, бог знает! Мал я был тогда и не понимал всего… Теперь я помню, что барин действительно взял себе другую наложницу и маменька сильно огорчались. Почитай, нас потом года два судили… Маменьку осудили на каторгу на двадцать лет, меня за мое малолетство только на семь.
– А тебя за что?
– Как пособника. Стакан-то барину я подавал. Всегда так было: маменька приготовляли соду, а я подавал. Только, братцы, все это я вам по-христиански говорю, как перед Богом, вы никому не рассказывайте…
– Ну, нас и спрашивать никто не станет, – говорит Птаха. – Так ты, значит, бежал с каторги, что ли?
– Бежал, друг милый. Нас человек четырнадцать бежало. Дай бог здоровья, люди и сами бежали, и меня с собой прихватили. Теперь ты рассуди, парень, по совести, какой мне резон звание свое открывать? Ведь меня опять в каторгу пошлют! А какой я каторжник? Я человек нежный, болезненный, люблю в чистоте и поспать и покушать. Когда Богу молюсь, я люблю лампадочку или свечечку засветить, и чтоб кругом шуму не было. Когда земные поклоны кладу, чтоб на полу насорено и наплевано не было. А я за маменьку сорок поклонов кладу утром и вечером.
Бродяга снимает фуражку и крестится.
– А в Восточную Сибирь пущай ссылают, – говорит он, – я не боюсь!
– Нешто это лучше?
– Совсем другая статья! В каторге ты все равно что рак в лукошке: теснота, давка, толчея, духу перевести негде – сущий ад, такой ад, что и не приведи царица небесная! Разбойник ты, и разбойничья тебе честь, хуже собаки всякой. Ни покушать, ни поспать, ни Богу помолиться. А на поселении не то. На поселении перво-наперво я к обществу припишусь на манер прочих. По закону начальство обязано мне пай дать… да-а! Земля там, рассказывают, нипочем, все равно как снег: бери сколько желаешь! Дадут мне, парень, землю и под пашню, и под огород, и под жилье… Стану я, как люди, пахать, сеять, скот заведу и всякое хозяйство, пчелок, овечек, собак… Кота сибирского, чтобы мыши и крысы добра моего не ели… Поставлю сруб, братцы, образов накуплю… Бог даст, оженюсь, деточки у меня будут.
Бродяга бормочет и глядит не на слушателей, а куда-то в сторону. Как ни наивны его мечтания, но они высказываются таким искренним, задушевным тоном, что трудно не верить им. Маленький ротик бродяги перекосило улыбкой, а все лицо, и глаза, и носик застыли и отупели от блаженного предвкушения далекого счастья. Сотские слушают и глядят на него серьезно, не без участия. Они тоже верят.
– Не боюсь я Сибири, – продолжает бормотать бродяга. – Сибирь – такая же Россия, такой же Бог и царь, что и тут, так же там говорят по-православному, как и я с тобой. Только там приволья больше и люди богаче живут. Все там лучше. Тамошние реки, к примеру взять, куда лучше тутошних! Рыбы, дичины этой самой – видимо-невидимо! А мне, братцы, наипервейшее удовольствие – рыбку ловить. Хлебом меня не корми, а только дай с удочкой посидеть. Ей-богу. Ловлю я и на удочку, и на жерлицу, и верши ставлю, а когда лед идет – наметкой ловлю. Силы-то у меня нету, чтоб наметкой ловить, так я мужика за пятачок нанимаю. И Господи, что оно такое за удовольствие! Поймаешь налима или головля какого-нибудь, так словно брата родного увидел. И, скажи пожалуйста, для всякой рыбы своя умственность есть: одну на живца ловишь, другую на выползка, третью на лягушку или кузнечика. Все ведь это понимать надо! К примеру сказать, налим. Налим рыба неделикатная, она и ерша хватит, щука – пескаря любит, шилишпер – бабочку. Головля, ежели на бырком месте ловить, то нет лучше и удовольствия. Пустишь леску саженей в десять без грузила, с бабочкой или с жуком, чтоб приманка поверху плавала, стоишь в воде без штанов и пускаешь по течению, а голавль – дерг! Только тут так норовить надо, чтоб он, проклятый, приманку не сорвал. Как только он джигнул тебе за леску, так и подсекай, нечего ждать. Страсть, сколько я на своем веку рыбы переловил! Когда вот в бегах были, прочие арестанты спят в лесу, а мне не спится, норовлю к реке. А реки там широкие, быстрые, берега крутые – страсть! По берегу все леса дремучие. Деревья такие, что взглянешь на маковку, и голова кружится. Ежели по тутошним ценам, то за каждую сосну можно рублей десять дать.
Под беспорядочным напором грез, художественных образов прошлого и сладкого предчувствия счастья жалкий человек умолкает и только шевелит губами, как бы шепчась с самим собой. Тупая, блаженная улыбка не сходит с его лица. Сотские молчат. Они задумались и поникли головами. В осеннюю тишину, когда холодный, суровый туман с земли ложится на душу, когда он тюремной стеною стоит перед глазами и свидетельствует человеку об ограниченности его воли, сладко бывает думать о широких, быстрых реках с привольными, крутыми берегами, о непроходимых лесах, безграничных степях. Медленно и покойно рисует воображение, как ранним утром, когда с неба еще не сошел румянец зари, по безлюдному, крутому берегу маленьким пятном пробирается человек; вековые мачтовые сосны, громоздящиеся террасами по обе стороны потока, сурово глядят на вольного человека и угрюмо ворчат; корни, громадные камни и колючий кустарник заграждают ему путь, но он силен плотью и бодр духом, не боится ни сосен, ни камней, ни своего одиночества, ни раскатистого эхо, повторяющего каждый его шаг.
Сотские рисуют себе картины вольной жизни, какою они никогда не жили; смутно ли припоминают они образы давно слышанного, или же представления о вольной жизни достались им в наследство вместе с плотью и кровью от далеких вольных предков, бог знает!
Первый прерывает молчание Никандр Сапожников, который доселе не проронил еще ни одного слова. Позавидовал ли он призрачному счастью бродяги или, может быть, в душе почувствовал, что мечты о счастье не вяжутся с серым туманом и черно-бурой грязью, но только он сурово глядит на бродягу и говорит:
– Так-то оно так, все оно хорошо, только, брат, не доберешься ты до привольных местов. Где тебе? Верст триста пройдешь и Богу душу отдашь. Вишь, ты какой дохлый! Шесть верст прошел только, а никак отдышаться не можешь!
Бродяга медленно поворачивается в сторону Никандра, и блаженная улыбка исчезает с его лица. Он глядит испуганно и виновато на степенное лицо сотского, по-видимому, припоминает что-то и поникает головой. Опять наступает молчание… Все трое думают. Сотские напрягают ум, чтобы обнять воображением то, что может вообразить себе разве один только Бог, а именно то страшное пространство, которое отделяет их от вольного края. В голове же бродяги теснятся картины ясные, отчетливые и более страшные, чем пространство. Перед ним живо вырастают судебная волокита, пересыльные и каторжные тюрьмы, арестантские барки, томительные остановки на пути, студеные зимы, болезни, смерти товарищей…
Бродяга виновато моргает глазами, вытирает рукавом лоб, на котором выступают мелкие капли, и отдувается, как будто только что выскочил из жарко натопленной бани, потом вытирает лоб другим рукавом и боязливо оглядывается.
– И впрямь тебе не дойтить! – соглашается Птаха. – Какой ты ходок? Погляди на себя: кожа да кости! Умрешь, брат!
– Известно, помрет! Где ему! – говорит Никандр. – Его и сейчас в гошпиталь положут… Верно!
Не помнящий родства с ужасом глядит на строгие, бесстрастные лица своих зловещих спутников и, не снимая фуражки, выпучив глаза, быстро крестится… он весь дрожит, трясет головой, и всего его начинает корчить, как гусеницу, на которую наступили…
– Ну, пора идти, – говорит Никандр, поднимаясь. – Отдохнули!
Через минуту путники уже шагают по грязной дороге. Бродяга еще больше согнулся и глубже засунул руки в рукава. Птаха молчит.
1886Ванька
Ванька Жуков, девятилетний мальчик, отданный три месяца тому назад в ученье к сапожнику Аляхину, в ночь под Рождество не ложился спать. Дождавшись, когда хозяева и подмастерья ушли к заутрене, он достал из хозяйского шкафа пузырек с чернилами, ручку с заржавленным пером и, разложив перед собой измятый лист бумаги, стал писать. Прежде чем вывести первую букву, он несколько раз пугливо оглянулся на двери и окна, покосился на темный образ, по обе стороны которого тянулись полки с колодками, и прерывисто вздохнул. Бумага лежала на скамье, а сам он стоял перед скамьей на коленях.
«Милый дедушка, Константин Макарыч! – писал он. – И пишу тебе письмо. Поздравляю вас с Рождеством и желаю тебе всего от Господа Бога. Нету у меня ни отца, ни маменьки, только ты у меня один остался».
Ванька перевел глаза на темное окно, в котором мелькало отражение его свечки, и живо вообразил себе своего деда Константина Макарыча, служащего ночным сторожем у господ Живаревых. Это маленький, тощенький, но необыкновенно юркий и подвижной старикашка лет шестидесяти пяти, с вечно смеющимся лицом и пьяными глазами. Днем он спит в людской кухне или балагурит с кухарками, ночью же, окутанный в просторный тулуп, ходит вокруг усадьбы и стучит в свою колотушку. За ним, опустив головы, шагают старая Каштанка и кобелек Вьюн, прозванный так за свой черный цвет и тело, длинное, как у ласки. Этот Вьюн необыкновенно почтителен и ласков, одинаково умильно смотрит как на своих, так и на чужих, но кредитом не пользуется. Под его почтительностью и смирением скрывается самое иезуитское ехидство. Никто лучше его не умеет вовремя подкрасться и цапнуть за ногу, забраться в ледник или украсть у мужика курицу. Ему уж не раз отбивали задние ноги, раза два его вешали, каждую неделю пороли до полусмерти, но он всегда оживал.
Теперь, наверно, дед стоит у ворот, щурит глаза на ярко-красные окна деревенской церкви и, притопывая валенками, балагурит с дворней. Колотушка его подвязана к поясу. Он всплескивает руками, пожимается от холода и, старчески хихикая, щиплет то горничную, то кухарку.
– Табачку нешто нам понюхать? – говорит он, подставляя бабам свою табакерку.
Бабы нюхают и чихают. Дед приходит в неописанный восторг, заливается веселым смехом и кричит:
– Отдирай, примерзло!
Дают понюхать табаку и собакам. Каштанка чихает, крутит мордой и, обиженная, отходит в сторону. Вьюн же из почтительности не чихает и вертит хвостом. А погода великолепная. Воздух тих, прозрачен и свеж. Ночь темна, но видно всю деревню с ее белыми крышами и струйками дыма, идущими из труб, деревья, посеребренные инеем, сугробы. Все небо усыпано весело мигающими звездами, и Млечный Путь вырисовывается так ясно, как будто его перед праздником помыли и потерли снегом…
Ванька вздохнул, умакнул перо и продолжал писать:
«А вчерась мне была выволочка. Хозяин выволок меня за волосья на двор и отчесал шпандырем за то, что я качал ихнего ребятенка в люльке и по нечаянности заснул. А на неделе хозяйка велела мне почистить селедку, а я начал с хвоста, а она взяла селедку и ейной мордой начала меня в харю тыкать. Подмастерья надо мной насмехаются, посылают в кабак за водкой и велят красть у хозяев огурцы, а хозяин бьет чем попадя. А еды нету никакой. Утром дают хлеба, в обед каши и к вечеру тоже хлеба, а чтоб чаю или щей, то хозяева сами трескают. А спать мне велят в сенях, а когда ребятенок ихний плачет, я вовсе не сплю, а качаю люльку. Милый дедушка, сделай божецкую милость, возьми меня отсюда домой, на деревню, нету никакой моей возможности… Кланяюсь тебе в ножки и буду вечно Бога молить, увези меня отсюда, а то помру…»
Ванька покривил рот, потер своим черным кулаком глаза и всхлипнул.
«Я буду тебе табак тереть, – продолжал он, – Богу молиться, а если что, то секи меня как сидорову козу. А ежели думаешь, должности мне нету, то я Христа ради попрошусь к приказчику сапоги чистить али заместо Федьки в подпаски пойду. Дедушка милый, нету никакой возможности, просто смерть одна. Хотел было пешком на деревню бежать, да сапогов нету, морозу боюсь. А когда вырасту большой, то за это самое буду тебя кормить и в обиду никому не дам, а помрешь, стану за упокой души молить, все равно как за мамку Пелагею.
А Москва город большой. Дома всё господские и лошадей много, а овец нету и собаки не злые. Со звездой тут ребята не ходят и на клирос петь никого не пущают, а раз я видал в одной лавке на окно крючки продаются прямо с леской и на всякую рыбу, очень стоющие, даже такой есть один крючок, что пудового сома удержит. И видал которые лавки, где ружья всякие на манер бариновых, так что небось рублей сто кажное… А в мясных лавках и тетерева, и рябцы, и зайцы, а в котором месте их стреляют, про то сидельцы не сказывают.
Милый дедушка, а когда у господ будет елка с гостинцами, возьми мне золоченый орех и в зеленый сундучок спрячь. Попроси у барышни Ольги Игнатьевны, скажи, для Ваньки».
Ванька судорожно вздохнул и опять уставился на окно. Он вспомнил, что за елкой для господ всегда ходил в лес дед и брал с собою внука. Веселое было время! И дед крякал, и мороз крякал, а глядя на них, и Ванька крякал. Выпало, прежде чем вырубить елку, дед выкуривает трубку, долго нюхает табак, посмеивается над озябшим Ванюшкой… Молодые елки, окутанные инеем, стоят неподвижно и ждут, которой из них помирать? Откуда ни возьмись по сугробам летит стрелой заяц… Дед не может, чтоб не крикнуть:
– Держи, держи… держи! Ах, куцый дьявол!
Срубленную елку дед тащил в господский дом, а там принимались убирать ее… Больше всех хлопотала барышня Ольга Игнатьевна, любимица Ваньки. Когда еще была жива Ванькина мать Пелагея и служила у господ в горничных, Ольга Игнатьевна кормила Ваньку леденцами и от нечего делать выучила его читать, писать, считать до ста и даже танцевать кадриль. Когда же Пелагея умерла, сироту Ваньку спровадили в людскую кухню к деду, а из кухни в Москву к сапожнику Аляхину…
«Приезжай, милый дедушка, – продолжал Ванька, – Христом-Богом тебя молю, возьми меня отседа. Пожалей ты меня, сироту несчастную, а то меня все колотят и кушать страсть хочется, а скука такая, что и сказать нельзя, все плачу. А намедни хозяин колодкой по голове ударил, так что упал и насилу очухался. Пропащая моя жизнь, хуже собаки всякой… А еще кланяюсь Алене, кривому Егорке и кучеру, а гармонию мою никому не отдавай. Остаюсь твой внук Иван Жуков, милый дедушка, приезжай».
Ванька свернул вчетверо исписанный лист и вложил его в конверт, купленный накануне за копейку… Подумав немного, он умакнул перо и написал адрес:
На деревню дедушке.
Потом почесался, подумал и прибавил: «Константину Макарычу». Довольный тем, что ему не помешали писать, он надел шапку и, не набрасывая на себя шубейки, прямо в рубахе выбежал на улицу…
Сидельцы из мясной лавки, которых он расспрашивал накануне, сказали ему, что письма опускаются в почтовые ящики, а из ящиков развозятся по всей земле на почтовых тройках с пьяными ямщиками и звонкими колокольцами. Ванька добежал до первого почтового ящика и сунул драгоценное письмо в щель…
Убаюканный сладкими надеждами, он час спустя крепко спал… Ему снилась печка. На печи сидит дед, свесив босые ноги, и читает письмо кухаркам… Около печи ходит Вьюн и вертит хвостом…
1886Письмо
Благочинный о. Федор Орлов, благообразный, хорошо упитанный мужчина, лет пятидесяти, как всегда важный и строгий, с привычным, никогда не сходящим с лица выражением достоинства, но до крайности утомленный, ходил из угла в угол по своей маленькой зале и напряженно думал об одном: когда, наконец, уйдет его гость? Эта мысль томила и не оставляла его ни на минуту. Гость отец Анастасий, священник одного из подгородних сел, часа три тому назад пришел к нему по своему делу, очень неприятному и скучному, засиделся и теперь, положив локоть на толстую счетную книгу, сидел в углу за круглым столиком и, по-видимому, не думал уходить, хотя уже был девятый час вечера.
Не всякий умеет вовремя замолчать и вовремя уйти. Нередко случается, что даже светски воспитанные, политичные люди не замечают, как их присутствие возбуждает в утомленном или занятом хозяине чувство, похожее на ненависть, и как это чувство напряженно прячется и покрывается ложью. Отец же Анастасий отлично видел и понимал, что его присутствие тягостно и неуместно, что благочинный, служивший ночью утреню, а в полдень длинную обедню, утомлен и хочет покоя; каждую минуту он собирался подняться и уйти, но не поднимался, сидел и как будто ждал чего-то. Это был старик шестидесяти пяти лет, дряхлый не по летам, костлявый и сутуловатый, с старчески темным, исхудалым лицом, с красными веками и длинной, узкой, как у рыбы, спиной; одет он был в щегольскую светло-лиловую, но слишком просторную для него рясу (подаренную ему вдовою одного недавно умершего молодого священника), в суконный кафтан с широким кожаным поясом и в неуклюжие сапоги, размер и цвет которых ясно показывал, что о. Анастасий обходился без калош. Несмотря на сан и почтенные годы, что-то жалкенькое, забитое и униженное выражали его красные, мутноватые глаза, седые с зеленым отливом косички на затылке, большие лопатки на тощей спине… Он молчал, не двигался и кашлял с такою осторожностью, как будто боялся, чтобы от звуков кашля его присутствие не стало заметнее.
У благочинного старик бывал по делу. Месяца два назад ему запретили служить впредь до разрешения и назначили над ним следствие. Грехов за ним числилось много. Он вел нетрезвую жизнь, не ладил с причтом и с миром, небрежно вел метрические записи и отчетность – в этом его обвиняли формально, но, кроме того, еще с давних пор носились слухи, что он венчал за деньги недозволенные браки и продавал приезжавшим к нему из города чиновникам и офицерам свидетельства о говении. Эти слухи держались тем упорнее, что он был беден и имел девять человек детей, живших на его шее и таких же неудачников, как и он сам. Сыновья были необразованны, избалованны и сидели без дела, а некрасивые дочери не выходили замуж.
Не имея силы быть откровенным, благочинный ходил из угла в угол, молчал или же говорил намеками.
– Значит, вы нынче не поедете к себе домой? – спросил он, останавливаясь около темного окна и просовывая мизинец к спящей, надувшейся канарейке.
Отец Анастасий встрепенулся, осторожно кашлянул и сказал скороговоркой:
– Домой? Бог с ним, не поеду, Федор Ильич. Сами знаете, служить мне нельзя, так что же я там буду делать? Нарочито я уехал, чтоб людям в глаза не глядеть. Сами знаете, совестно не служить. Да и дело тут мне есть, Федор Ильич. Хочу завтра после разговенья с отцом следователем обстоятельно поговорить.
– Так… – зевнул благочинный. – А вы где остановились?
– У Зявкина.
Отец Анастасий вдруг вспомнил, что часа через два благочинному предстоит служить пасхальную утреню, и ему стало так стыдно своего неприятного, стесняющего присутствия, что он решил немедленно уйти и дать утомленному человеку покой. И старик поднялся, чтобы уйти, но прежде чем начать прощаться, он минуту откашливался и пытливо, все с тем же выражением неопределенного ожидания во всей фигуре, глядел на спину благочинного; на лице его заиграли стыд, робость и жалкий, принужденный смех, каким смеются люди, не уважающие себя. Как-то решительно махнув рукой, он сказал с сиплым дребезжащим смехом:
– Отец Федор, продлите вашу милость до конца, велите на прощанье дать мне… рюмочку водочки!
– Не время теперь пить водку, – строго сказал благочинный. – Стыд надо иметь.
Отец Анастасий еще больше сконфузился, засмеялся и, забыв про свое решение уходить домой, опустился на стул. Благочинный взглянул на его растерянное, сконфуженное лицо, на согнутое тело, и ему стало жаль старика.
– Бог даст завтра выпьем, – сказал он, желая смягчить свой строгий отказ. – Все хорошо вовремя.
Благочинный верил в исправление людей, но теперь, когда в нем разгоралось чувство жалости, ему стало казаться, что этот подследственный, испитой, опутанный грехами и немощами старик погиб для жизни безвозвратно, что на земле нет уже силы, которая могла бы разогнуть его спину, дать взгляду ясность, задержать неприятный, робкий смех, каким он нарочно смеялся, чтобы сгладить хотя немного производимое им на людей отталкивающее впечатление.
Старик казался уже о. Федору не виновным и не порочным, а униженным, оскорбленным, несчастным; вспомнил благочинный его попадью, девять человек детей, грязные нищенские полати у Зявкина, вспомнил почему-то тех людей, которые рады видеть пьяных священников и уличаемых начальников, и подумал, что самое лучшее, что мог бы сделать теперь о. Анастасий, это – как можно скорее умереть, навсегда уйти с этого света.
Послышались шаги.
– Отец Федор, вы не отдыхаете? – спросил из передней бас.
– Нет, дьякон, войди.
В залу вошел сослуживец Орлова, дьякон Любимов, человек старый, с плешью во все темя, но еще крепкий, черноволосый и с густыми, черными, как у грузина, бровями. Он поклонился Анастасию и сел.
– Что скажешь хорошего? – спросил благочинный.
– Да что хорошего? – ответил дьякон и, помолчав немного, продолжал с улыбкой: – Малые дети – малое горе, большие дети – большое горе. Тут такая история, отец Федор, что никак не опомнюсь. Комедия, да и только.
Он еще немного помолчал, улыбнулся шире и сказал:
– Нынче Николай Матвеич из Харькова вернулся. Про моего Петра мне рассказывал. Был, говорит, у него раза два.
– Что же он тебе рассказывал?
– Встревожил, бог с ним. Хотел меня порадовать, а как я раздумался, то выходит, что мало тут радости. Скорбеть надо, а не радоваться… «Твой, говорит, Петрушка шибко живет, рукой, говорит, до него теперь не достанешь». Ну и слава богу, говорю. «Я, говорит, у него обедал и весь образ его жизни видел. Живет, говорит, благородно, лучше и не надо». Мне, известно, любопытно, я и спрашиваю: а что за обедом у него подавали? «Сначала, говорит, рыбное, словно как бы на манер ухи, потом язык с горошком, а потом, говорит, индейку жареную». Это в пост-то индейку? Хороша, говорю, радость. В великий пост-то индейку? А?
– Удивительного мало, – сказал благочинный, насмешливо щуря глаза.
И, заложив большие пальцы обеих рук за пояс, он выпрямился и сказал тоном, каким говорил обыкновенно проповеди или объяснял ученикам в уездном училище закон Божий:
– Люди, не соблюдающие постов, делятся на две различные категории: одни не исполняют по легкомыслию, другие же по неверию. Твой Петр не исполняет по неверию. Да.
Дьякон робко поглядел на строгое лицо о. Федора и сказал:
– Дальше – больше… Поговорили, потолковали, то да се, и оказывается еще, что мой неверяка-сынок с какой-то мадамой живет, с чужой женой. Она у него на квартире заместо жены и хозяйки, чай разливает, гостей принимает и остальное прочее, как венчаная. Уже третий год, как с этой гадюкой хороводится. Комедия, да и только. Три года живут, а детей нету.
– Стало быть, в целомудрии живут! – захихикал о. Анастасий, сипло кашляя. – Есть дети, отец дьякон, есть, да дома не держат! В вошпитательные приюты отсылают! Хе, хе, хе… (Анастасий закашлялся.)
– Не суйтесь, отец Анастасий, – строго сказал благочинный.
– Николай Матвеич и спрашивает его: какая это такая у вас мадама за столом суп разливает? – продолжал дьякон, мрачно оглядывая согнутое тело Анастасия. – А он ему: это, говорит, моя жена. А тот и спроси: «Давно ли изволили венчаться?» Петр и отвечает: мы венчались в кондитерской Куликова.
Глаза благочинного гневно вспыхнули, и на висках выступила краска. Помимо своей греховности, Петр был ему несимпатичен как человек вообще. О. Федор имел против него, что называется, зуб. Он помнил его еще мальчиком-гимназистом, помнил отчетливо, потому что и тогда еще он казался ему ненормальным. Петруша-гимназист стыдился помогать в алтаре, обижался, когда говорили ему «ты», входя в комнаты, не крестился и, что памятнее всего, любил много и горячо говорить, а, по мнению о. Федора, многословие детям неприлично и вредно; кроме того, Петруша презрительно и критически относился к рыбной ловле, до которой благочинный и дьякон были большие охотники. Студент же Петр вовсе не ходил в церковь, спал до полудня, смотрел свысока на людей и с каким-то особенным задором любил поднимать щекотливые, неразрешимые вопросы.
– Что же ты хочешь? – спросил благочинный, подходя к дьякону и сердито глядя на него. – Что же ты хочешь? Этого следовало ожидать! Я всегда знал и был уверен, что из твоего Петра ничего путного не выйдет! Говорил я тебе и говорю. Что посеял, то и пожинай теперь! Пожинай!
– Да что же я посеял, отец Федор? – тихо спросил дьякон, глядя снизу вверх на благочинного.
– А кто же виноват, как не ты? Ты родитель, твое чадо! Ты должен был наставлять, внушать страх Божий. Учить надо! Родить-то вы родите, а наставлять не наставляете. Это грех! Нехорошо! Стыдно!
Благочинный забыл про свое утомление, шагал и продолжал говорить. На голом темени и на лбу дьякона выступили мелкие капли. Он поднял виноватые глаза на благочинного и сказал:
– Да разве я не наставлял, отец Федор? Господи помилуй, разве я не отец своему дитю? Сами вы знаете, я для него ничего не жалел, всю жизнь старался и Бога молил, чтоб ему настоящее образование дать. Он у меня и в гимназии был, и репетиторов я ему нанимал, и в университете он кончил. А что ежели я его ум направить не мог, отец Федор, так ведь, судите сами, на это у меня способности нет! Бывало, когда он студентом сюда приезжал, я начну ему по-своему внушать, а он не слушает. Скажешь ему: «ходи в церковь», а он: «зачем ходить?» Станешь ему объяснять, а он: «почему? зачем?» Или похлопает меня по плечу и скажет: «Все на этом свете относительно, приблизительно и условно. Ни я ничего не знаю, ни вы ничего же не знаете, папаша».
Отец Анастасий сипло рассмеялся, закашлялся и шевельнул в воздухе пальцами, как бы собираясь что-то сказать. Благочинный взглянул на него и сказал строго:
– Не суйтесь, отец Анастасий.
Старик смеялся, сиял и, видимо, с удовольствием слушал дьякона, точно рад был, что на этом свете и кроме него есть еще грешные люди. Дьякон говорил искренно, с сокрушенным сердцем, и даже слезы выступили у него на глазах. О. Федору стало жаль его.
– Виноват ты, дьякон, виноват, – сказал он, но уже не так строго и горячо. – Умел родить, умей и наставить. Надо было еще в детстве его наставлять, а студента поди-ка исправь!
Наступило молчание. Дьякон всплеснул руками и сказал со вздохом:
– А ведь мне же за него отвечать придется!
– То-то вот оно и есть!
Помолчав немного, благочинный и зевнул и вздохнул в одно и то же время, и спросил:
– Кто «Деяния» читает?
– Евстрат. Всегда Евстрат читает.
Дьякон поднялся и, умоляюще глядя на благочинного, спросил:
– Отец Федор, что же мне теперь делать?
– Что хочешь, то и делай. Не я отец, а ты. Тебе лучше знать.
– Ничего я не знаю, отец Федор! Научите меня, сделайте милость! Верите ли, душа истомилась! Теперь я ни спать не могу, ни сидеть спокойно, и праздник мне не в праздник. Научите, отец Федор!
– Напиши ему письмо.
– Что же я ему писать буду?
– А напиши, что так нельзя. Кратко напиши, но строго и обстоятельно, не смягчая и не умаляя его вины. Это твоя родительская обязанность. Напишешь, исполнишь свой долг и успокоишься.
– Это верно, но что же я ему напишу? В каких смыслах? Я ему напишу, а он мне в ответ: «почему? зачем? почему это грех?»
Отец Анастасий опять сипло засмеялся и шевельнул пальцами.
– Почему? Зачем? Почему это грех? – визгливо заговорил он. – Исповедую я раз одного господина и говорю ему, что излишнее упование на милосердие Божие есть грех, а он спрашивает: почему? Хочу ему ответить, а тут, – Анастасий хлопнул себя по лбу, – а тут-то у меня и нету! Хи-и-хе-хе-хе…
Слова Анастасия, его сиплый дребезжащий смех над тем, что не смешно, подействовали на благочинного и дьякона неприятно. Благочинный хотел было сказать старику «не суйтесь», но не сказал, а только поморщился.
– Не могу я ему писать! – вздохнул дьякон.
– Ты не можешь, так кто же может?
– Отец Федор! – сказал дьякон, склоняя голову набок и прижимая руку к сердцу. – Я человек необразованный, слабоумный, вас же господь наделил разумом и мудростью. Вы все знаете и понимаете, до всего умом доходите, я же путем слова сказать не умею. Будьте великодушны, наставьте меня в рассуждении письма! Научите, как его и что…
– Что ж тут учить? Учить нечему. Сел да написал.
– Нет, уж сделайте милость, отец настоятель! Молю вас. Я знаю, вашего письма он убоится и послушается, потому ведь вы тоже образованный. Будьте такие добрые! Я сяду, а вы мне подиктуйте. Завтра писать грех, а нынче бы самое в пору, я бы и успокоился.
Благочинный поглядел на умоляющее лицо дьякона, вспомнил несимпатичного Петра и согласился диктовать. Он усадил дьякона за свой стол и начал:
– Ну, пиши… Христос воскрес, любезный сын… знак восклицания. Дошли до меня, твоего отца, слухи… далее в скобках… а из какого источника, тебя это не касается… скобка… Написал?.. что ты ведешь жизнь несообразную ни с Божескими, ни с человеческими законами. Ни комфортабельность, ни светское великолепие, ни образованность, коими ты наружно прикрываешься, не могут скрыть твоего языческого вида. Именем ты христианин, но по сущности своей язычник, столь же жалкий и несчастный, как и все прочие язычники, даже еще жалчее, ибо: те язычники, не зная Христа, погибают от неведения, ты же погибаешь оттого, что обладаешь сокровищем, но небрежешь им. Не стану перечислять здесь твоих пороков, кои тебе достаточно известны, скажу только, что причину твоей погибели вижу я в твоем неверии. Ты мнишь себя мудрым быти, похваляешься знанием наук, а того не хочешь понять, что наука без веры не только не возвышает человека, но даже низводит его на степень низменного животного, ибо…
Все письмо было в таком роде. Кончив писать, дьякон прочел его вслух, просиял и вскочил.
– Дар, истинно дар! – сказал он, восторженно глядя на благочинного и всплескивая руками. – Пошлет же господь такое дарование! А? Мать царица! Во сто лет бы, кажется, такого письма не сочинил! Спаси вас господи!
Отец Анастасий тоже пришел в восторг.
– Без дара так не напишешь! – сказал он, вставая и шевеля пальцами. – Не напишешь! Тут такая риторика, что любому философу можно запятую поставить и в нос ткнуть. Ум! Светлый ум! Не женились бы, отец Федор, давно бы вы в архиереях были, истинно, были бы!
Излив свой гнев в письме, благочинный почувствовал облегчение. К нему вернулись и утомление и разбитость. Дьякон был свой человек, и благочинный не постеснялся сказать ему:
– Ну, дьякон, ступай с богом. Я с полчасика на диване подремлю, отдохнуть надо.
Дьякон ушел и увел с собою Анастасия. Как всегда бывает накануне Светлого дня, на улице было темно, но все небо сверкало яркими, лучистыми звездами. В тихом, неподвижном воздухе пахло весной и праздником.
– Сколько времени он диктовал? – изумлялся дьякон. – Минут десять, не больше! Другой бы и в месяц такого письма не сочинил. А? Вот ум! Такой ум, что я и сказать не умею! Удивление! Истинно, удивление!
– Образование! – вздохнул Анастасий, при переходе через грязную улицу поднимая до пояса полы своей рясы. – Не нам с ним равняться. Мы из дьячков, а ведь он науки проходил. Да. Настоящий человек, что и говорить.
– А вы послушайте, как он нынче в обедне Евангелие будет читать по-латынски! И по-латынски он знает, и по-гречески знает… А Петруха, Петруха! – вдруг вспомнил дьякон. – Ну, теперь он поче-ешется! Закусит язык! Будет помнить кузькину мать! Теперь уже не спросит: почему? Вот уж именно дока на доку наскочил! Ха-ха-ха!
Дьякон весело и громко рассмеялся. После того как письмо к Петру было написано, он повеселел и успокоился. Сознание исполненного родительского долга и вера в силу письма вернули к нему и его смешливость и добродушие.
– Петр в переводе значит камень, – говорил он, подходя к своему дому. – Мой же Петр не камень, а тряпка. Гадюка на него насела, а он с ней нянчится, спихнуть ее не может. Тьфу! Есть же, прости господи, такие женщины! А? Где ж в ней стыд? Насела на парня, прилипла и около юбки держит… к шутам ее на пасеку!
– А может, не она его держит, а он ее?
– Все-таки, значит, в ней стыда нет! А Петра я не защищаю… Ему достанется… Прочтет письмо и почешет затылок! Сгорит со стыда!
– Письмо славное, но только того… не посылать бы его, отец дьякон. Бог с ним!
– А что? – испугался дьякон.
– Да так! Не посылай, дьякон! Что толку? Ну, ты пошлешь, он прочтет, а… а дальше что? Встревожишь только. Прости, бог с ним!
Дьякон удивленно поглядел на темное лицо Анастасия, на его распахнувшуюся рясу, похожую в потемках на крылья, и пожал плечами.
– Как же так прощать? – спросил он. – Ведь я же за него Богу отвечать буду!
– Хоть и так, а все же прости. Право! А Бог за твою доброту и тебя простит.
– Да ведь он мне сын? Должен я его учить или нет?
– Учить? Отчего не учить? Учить можно, а только зачем язычником обзывать? Ведь ему, дьякон, обидно…
Дьякон был вдов и жил в маленьком, трехоконном домике. Хозяйством у него заведовала его старшая сестра, девушка, года три тому назад лишившаяся ног и потому не сходившая с постели; он ее боялся, слушался и ничего не делал без ее советов. О. Анастасий зашел к нему. Увидев у него стол, уже покрытый куличами и красными яйцами, он почему-то, вероятно, вспомнив про свой дом, заплакал и, чтобы обратить эти слезы в шутку, тотчас же сипло засмеялся.
– Да, скоро разговляться, – сказал он. – Да… Оно бы, дьякон, и сейчас не мешало… рюмочку выпить. Можно? Я так выпью, – зашептал он, косясь на дверь, – что старушка… не услышит… ни-ни…
Дьякон молча пододвинул к нему графин и рюмку, развернул письмо и стал читать вслух. И теперь письмо ему так же понравилось, как и в то время, когда благочинный диктовал его. Он просиял от удовольствия и, точно попробовав что-то очень сладкое, покрутил головой.
– Ну, письмо-о! – сказал он. – И не снилось Петрухе такое письмо. Такое вот и надо ему, чтоб в жар его бросило… во!
– Знаешь, дьякон? Не посылай! – сказал Анастасий, наливая как бы в забывчивости вторую рюмку. – Прости, бог с ним! Я тебе… вам по совести. Ежели отец родной его не простит, то кто ж его простит? Так и будет, значит, без прощения жить? А ты, дьякон, рассуди, наказующие и без тебя найдутся, а ты бы для родного сына милующих поискал! Я… я, братушка, выпью… Последняя… Прямо так возьми и напиши ему: прощаю тебя, Петр! Он пойме-ет! Почу-увствует! Я, брат… я, дьякон, по себе это понимаю. Когда жил как люди, и горя мне было мало, а теперь, когда образ и подобие потерял, только одного и хочу, чтоб меня добрые люди простили. Да и то рассуди, не праведников прощать надо, а грешников. Для чего тебе старушку твою прощать, ежели она не грешная? Нет, ты такого прости, на которого глядеть жалко… да!
Анастасий подпер голову кулаком и задумался.
– Беда, дьякон, – вздохнул он, видимо борясь с желанием выпить. – Беда! Во гресех роди мя мати моя, во гресех жил, во гресех и помру… Господи, прости меня грешного! Запутался я, дьякон! Нет мне спасения! И не то чтобы в жизни запутался, а в самой старости перед смертью… Я…
Старик махнул рукой и еще выпил, потом встал и пересел на другое место. Дьякон, не выпуская из рук письма, заходил из угла в угол. Он думал о своем сыне. Недовольство, скорбь и страх уже не беспокоили его: все это ушло в письмо. Теперь он только воображал себе Петра, рисовал его лицо, вспоминал прошлые голы, когда сын приезжал гостить на праздники. Думалось одно лишь хорошее, теплое, грустное, о чем можно думать, не утомляясь, хоть всю жизнь. Скучая по сыне, он еще раз прочел письмо и вопросительно поглядел на Анастасия.
– Не посылай! – сказал тот, махнув кистью руки.
– Нет, все-таки… надо. Все-таки оно его того… немножко на ум наставит. Не лишнее…
Дьякон достал из стола конверт, но прежде чем вложить в него письмо, сел за стол, улыбнулся и прибавил от себя внизу письма: «А к нам нового штатного смотрителя прислали. Этот пошустрей прежнего. И плясун, и говорун, и на все руки, так что говоровские дочки от него без ума. Воинскому начальнику Костыреву тоже, говорят, скоро отставка. Пора!» И очень довольный, не понимая, что этой припиской он вконец испортил строгое письмо, дьякон написал адрес и положил письмо на самое видное место стола.
1887Мальчики
– Володя приехал! – крикнул кто-то на дворе.
– Володичка приехали! – завопила Наталья, вбегая в столовую. – Ах, боже мой!
Вся семья Королевых, с часу на час поджидавшая своего Володю, бросилась к окнам. У подъезда стояли широкие розвальни, и от тройки белых лошадей шел густой туман. Сани были пусты, потому что Володя уже стоял в сенях и красными, озябшими пальцами развязывал башлык. Его гимназическое пальто, фуражка, калоши и волосы на висках были покрыты инеем, и весь он от головы до ног издавал такой вкусный морозный запах, что, глядя на него, хотелось озябнуть и сказать: «Бррр!» Мать и тетка бросились обнимать и целовать его, Наталья повалилась к его ногам и начала стаскивать с него валенки, сестры подняли визг, двери скрипели, хлопали, а отец Володи в одной жилетке и с ножницами в руках вбежал в переднюю и закричал испуганно:
– А мы тебя еще вчера ждали! Хорошо доехал? Благополучно? Господи боже мой, да дайте же ему с отцом поздороваться! Что, я не отец, что ли?
– Гав! Гав! – ревел басом Милорд, огромный черный пес, стуча хвостом по стенам и по мебели.
Все смешалось в один сплошной радостный звук, продолжавшийся минуты две. Когда первый порыв радости прошел, Королевы заметили, что кроме Володи в передней находился еще один маленький человек, окутанный в платки, шали и башлыки и покрытый инеем; он неподвижно стоял в углу в тени, бросаемой большою лисьей шубой.
– Володичка, а это же кто? – спросила шепотом мать.
– Ах! – спохватился Володя. – Это, честь имею представить, мой товарищ Чечевицын, ученик второго класса… Я привез его с собой погостить у нас.
– Очень приятно, милости просим! – сказал радостно отец. – Извините, я по-домашнему, без сюртука… Пожалуйте! Наталья, помоги господину Черепицыну раздеться! Господи боже мой, да прогоните эту собаку! Это наказание!
Немного погодя Володя и его друг Чечевицын, ошеломленные шумной встречей и все еще розовые от холода, сидели за столом и пили чай. Зимнее солнышко, проникая сквозь снег и узоры на окнах, дрожало на самоваре и купало свои чистые лучи в полоскательной чашке. В комнате было тепло, и мальчики чувствовали, как в их озябших телах, не желая уступать друг другу, щекотались тепло и мороз.
– Ну, вот скоро и Рождество! – говорил нараспев отец, крутя из темно-рыжего табаку папиросу. – А давно ли было лето и мать плакала, тебя провожаючи? Ан ты и приехал… Время, брат, идет быстро! Ахнуть не успеешь, как старость придет. Господин Чибисов, кушайте, прошу вас, не стесняйтесь! У нас попросту.
Три сестры Володи, Катя, Соня и Маша – самой старшей из них было одиннадцать лет, – сидели за столом и не отрывали глаз от нового знакомого. Чечевицын был такого же возраста и роста, как Володя, но не так пухл и бел, а худ, смугл, покрыт веснушками. Волосы у него были щетинистые, глаза узенькие, губы толстые, вообще был он очень некрасив, и если б на нем не было гимназической куртки, то по наружности его можно было бы принять за кухаркина сына. Он был угрюм, все время молчал и ни разу не улыбнулся. Девочки, глядя на него, сразу сообразили, что это, должно быть, очень умный и ученый человек. Он о чем-то все время думал и так был занят своими мыслями, что когда его спрашивали о чем-нибудь, то он вздрагивал, встряхивал головой и просил повторить вопрос.
Девочки заметили, что и Володя, всегда веселый и разговорчивый, на этот раз говорил мало, вовсе не улыбался и как будто даже не рад был тому, что приехал домой. Пока сидели за чаем, он обратился к сестрам только раз, да и то с какими-то странными словами. Он указал пальцем на самовар и сказал:
– А в Калифорнии вместо чаю пьют джин.
Он тоже был занят какими-то мыслями, и, судя по тем взглядам, какими он изредка обменивался с другом своим Чечевицыным, мысли у мальчиков были общие.
После чаю все пошли в детскую. Отец и девочки сели за стол и занялись работой, которая была прервана приездом мальчиков. Они делали из разноцветной бумаги цветы и бахрому для елки. Это была увлекательная и шумная работа. Каждый вновь сделанный цветок девочки встречали восторженными криками, даже криками ужаса, точно этот цветок падал с неба; папаша тоже восхищался и изредка бросал ножницы на пол, сердясь на них за то, что они тупы. Мамаша вбегала в детскую с очень озабоченным лицом и спрашивала:
– Кто взял мои ножницы? Опять ты, Иван Николаич, взял мои ножницы?
– Господи боже мой, даже ножниц не дают! – отвечал плачущим голосом Иван Николаич и, откинувшись на спинку стула, принимал позу оскорбленного человека, но через минуту опять восхищался.
В предыдущие свои приезды Володя тоже занимался приготовлениями для елки или бегал на двор поглядеть, как кучер и пастух делали снеговую гору, но теперь он и Чечевицын не обратили никакого внимания на разноцветную бумагу и ни разу даже не побывали в конюшне, а сели у окна и стали о чем-то шептаться; потом они оба вместе раскрыли географический атлас и стали рассматривать какую-то карту.
– Сначала в Пермь… – тихо говорил Чечевицын… – оттуда в Тюмень… потом Томск… потом… потом… в Камчатку… Отсюда самоеды перевезут на лодках через Берингов пролив… Вот тебе и Америка… Тут много пушных зверей.
– А Калифорния? – спросил Володя.
– Калифорния ниже… Лишь бы в Америку попасть, а Калифорния не за горами. Добывать же себе пропитание можно охотой и грабежом.
Чечевицын весь день сторонился девочек и глядел на них исподлобья. После вечернего чая случилось, что его минут на пять оставили одного с девочками. Неловко было молчать. Он сурово кашлянул, потер правой ладонью левую руку, поглядел угрюмо на Катю и спросил:
– Вы читали Майн Рида?
– Нет, не читала… Послушайте, вы умеете на коньках кататься?
Погруженный в свои мысли, Чечевицын ничего не ответил на этот вопрос, а только сильно надул щеки и сделал такой вздох, как будто ему было очень жарко. Он еще раз поднял глаза на Катю и сказал:
– Когда стадо бизонов бежит через пампасы, то дрожит земля, а в это время мустанги, испугавшись, брыкаются и ржут.
Чечевицын грустно улыбнулся и добавил:
– А также индейцы нападают на поезда. Но хуже всего это москиты и термиты.
– А что это такое?
– Это вроде муравчиков, только с крыльями. Очень сильно кусаются. Знаете, кто я?
– Господин Чечевицын.
– Нет. Я Монтигомо Ястребиный Коготь, вождь непобедимых.
Маша, самая маленькая девочка, поглядела на него, потом на окно, за которым уже наступал вечер, и сказала в раздумье:
– A у нас чечевицу вчера готовили.
Совершенно непонятные слова Чечевицына и то, что он постоянно шептался с Володей, и то, что Володя не играл, а все думал о чем-то, – все это было загадочно и странно. И обе старшие девочки, Катя и Соня, стали зорко следить за мальчиками. Вечером, когда мальчики ложились спать, девочки подкрались к двери и подслушали их разговор. О, что они узнали! Мальчики собирались бежать куда-то в Америку добывать золото; у них для дороги было уже все готово: пистолет, два ножа, сухари, увеличительное стекло для добывания огня, компас и четыре рубля денег. Они узнали, что мальчикам придется пройти пешком несколько тысяч верст, а по дороге сражаться с тиграми и дикарями, потом добывать золото и слоновую кость, убивать врагов, поступать в морские разбойники, пить джин и в конце концов жениться на красавицах и обрабатывать плантации. Володя и Чечевицын говорили и в увлечении перебивали друг друга. Себя Чечевицын называл при этом так: «Монтигомо Ястребиный Коготь», а Володю – «бледнолицый брат мой».
– Ты смотри же, не говори маме, – сказала Катя Соне, отправляясь с ней спать. – Володя привезет нам из Америки золота и слоновой кости, а если ты скажешь маме, то его не пустят.
Накануне сочельника Чечевицын целый день рассматривал карту Азии и что-то записывал, а Володя, томный, пухлый, как укушенный пчелой, угрюмо ходил по комнатам и ничего не ел. И раз даже в детской он остановился перед иконой, перекрестился и сказал:
– Господи, прости меня грешного! Господи, сохрани мою бедную, несчастную маму!
К вечеру он расплакался. Идя спать, он долго обнимал отца, мать и сестер. Катя и Соня понимали, в чем тут дело, а младшая, Маша, ничего не понимала, решительно ничего, и только при взгляде на Чечевицына задумывалась и говорила со вздохом:
– Когда пост, няня говорит, надо кушать горох и чечевицу.
Рано утром в сочельник Катя и Соня тихо поднялись с постелей и пошли посмотреть, как мальчики будут бежать в Америку. Подкрались к двери.
– Так ты не поедешь? – сердито спрашивал Чечевицын. – Говори: не поедешь?
– Господи! – тихо плакал Володя. – Как же я поеду? Мне маму жалко.
– Бледнолицый брат мой, я прошу тебя, поедем! Ты же уверял, что поедешь, сам меня сманил, а как ехать, так вот и струсил.
– Я… я не струсил, а мне… мне маму жалко.
– Ты говори: поедешь или нет?
– Я поеду, только… только погоди. Мне хочется дома пожить.
– В таком случае я сам поеду! – решил Чечевицын. – И без тебя обойдусь. А еще тоже хотел охотиться на тигров, сражаться! Когда так, отдай же мои пистоны!
Володя заплакал так горько, что сестры не выдержали и тоже тихо заплакали. Наступила тишина.
– Так ты не поедешь? – еще раз спросил Чечевицын.
– По… поеду.
– Так одевайся!
И Чечевицын, чтобы уговорить Володю, хвалил Америку, рычал как тигр, изображал пароход, бранился, обещал отдать Володе всю слоновую кость и все львиные и тигровые шкуры.
И этот худенький смуглый мальчик со щетинистыми волосами и веснушками казался девочкам необыкновенным, замечательным. Это был герой, решительный, неустрашимый человек, и рычал он так, что, стоя за дверями, в самом деле можно было подумать, что это тигр или лев.
Когда девочки вернулись к себе и одевались, Катя с глазами полными слез сказала:
– Ах, мне так страшно!
До двух часов, когда сели обедать, все было тихо, но за обедом вдруг оказалось, что мальчиков нет дома. Послали в людскую, в конюшню, во флигель к приказчику – там их не было. Послали в деревню – и там не нашли. И чай потом тоже пили без мальчиков, а когда садились ужинать, мамаша очень беспокоилась, даже плакала. А ночью опять ходили в деревню, искали, ходили с фонарями на реку. Боже, какая поднялась суматоха!
На другой день приезжал урядник, писали в столовой какую-то бумагу. Мамаша плакала.
Но вот у крыльца остановились розвальни, и от тройки белых лошадей валил пар.
– Володя приехал! – крикнул кто-то на дворе.
– Володичка приехали! – завопила Наталья, вбегая в столовую.
И Милорд залаял басом: «Гав! гав!» Оказалось, что мальчиков задержали в городе, в Гостином дворе (там они ходили и все спрашивали, где продается порох). Володя, как вошел в переднюю, так и зарыдал и бросился матери на шею. Девочки, дрожа, с ужасом думали о том, что теперь будет, слышали, как папаша повел Володю и Чечевицына к себе в кабинет и долго там говорил с ними; и мамаша тоже говорила и плакала.
– Разве это так можно? – убеждал папаша. – Не дай бог, узнают в гимназии, вас исключат. А вам стыдно, господин Чечевицын! Нехорошо-с! Вы зачинщик, и, надеюсь, вы будете наказаны вашими родителями. Разве это так можно! Вы где ночевали?
– На вокзале! – гордо ответил Чечевицын.
Володя потом лежал, и ему к голове прикладывали полотенце, смоченное в уксусе. Послали куда-то телеграмму, и на другой день приехала дама, мать Чечевицына, и увезла своего сына.
Когда уезжал Чечевицын, то лицо у него было суровое, надменное, и, прощаясь с девочками, он не сказал ни одного слова; только взял у Кати тетрадку и написал в знак памяти:
«Монтигомо Ястребиный Коготь».
1887Каштанка
Глава первая Дурное поведение
Молодая рыжая собака – помесь такса с дворняжкой – очень похожая мордой на лисицу, бегала взад и вперед по тротуару и беспокойно оглядывалась по сторонам. Изредка она останавливалась и, плача, приподнимая то одну озябшую лапу, то другую, старалась дать себе отчет: как это могло случиться, что она заблудилась?
Она отлично помнила, как она провела день и как в конце концов попала на этот незнакомый тротуар.
День начался с того, что ее хозяин, столяр Лука Александрыч, надел шапку, взял под мышку какую-то деревянную штуку, завернутую в красный платок, и крикнул:
– Каштанка, пойдем!
Услыхав свое имя, помесь такса с дворняжкой вышла из-под верстака, где она спала на стружках, сладко потянулась и побежала за хозяином. Заказчики Луки Александрыча жили ужасно далеко, так что, прежде чем дойти до каждого из них, столяр должен был по нескольку раз заходить в трактир и подкрепляться. Каштанка помнила, что по дороге она вела себя крайне неприлично. От радости, что ее взяли гулять, она прыгала, бросалась с лаем на вагоны конножелезки, забегала во дворы и гонялась за собаками. Столяр то и дело терял ее из виду, останавливался и сердито кричал на нее. Раз даже он с выражением алчности на лице забрал в кулак ее лисье ухо, потрепал и проговорил с расстановкой:
– Чтоб… ты… из… дох… ла, холера!
Побывав у заказчиков, Лука Александрыч зашел на минутку к сестре, у которой пил и закусывал; от сестры пошел он к знакомому переплетчику, от переплетчика в трактир, из трактира к куму и т. д. Одним словом, когда Каштанка попала на незнакомый тротуар, то уже вечерело, и столяр был пьян как сапожник. Он размахивал руками и, глубоко вздыхая, бормотал:
– Во гресех роди мя мати во утробе моей! Ох, грехи, грехи! Теперь вот мы по улице идем и на фонарики глядим, а как помрем – в геенне огненной гореть будем…
Или же он впадал в добродушный тон, подзывал к себе Каштанку и говорил ей:
– Ты, Каштанка, насекомое существо и больше ничего. Супротив человека ты все равно, что плотник супротив столяра…
Когда он разговаривал с нею таким образом, вдруг загремела музыка. Каштанка оглянулась и увидела, что по улице прямо на нее шел полк солдат. Не вынося музыки, которая расстраивала ей нервы, она заметалась и завыла. К великому ее удивлению, столяр, вместо того чтобы испугаться, завизжать и залаять, широко улыбнулся, вытянулся во фрунт и всей пятерней сделал под козырек. Видя, что хозяин не протестует, Каштанка еще громче завыла и, не помня себя, бросилась через дорогу на другой тротуар.
Когда она опомнилась, музыка уже не играла и полка не было. Она перебежала дорогу к тому месту, где оставила хозяина, но, увы! столяра уже там не было. Она бросилась вперед, потом назад, еще раз перебежала дорогу, но столяр точно сквозь землю провалился… Каштанка стала обнюхивать тротуар, надеясь найти хозяина по запаху его следов, но раньше какой-то негодяй прошел в новых резиновых калошах, и теперь все тонкие запахи мешались с острою каучуковою вонью, так что ничего нельзя было разобрать.
Каштанка бегала взад и вперед и не находила хозяина, а между тем становилось темно. По обе стороны улицы зажглись фонари, и в окнах домов показались огни. Шел крупный пушистый снег и красил в белое мостовую, лошадиные спины, шапки извозчиков, и чем больше темнел воздух, тем белее становились предметы. Мимо Каштанки, заслоняя ей поле зрения и толкая ее ногами, безостановочно взад и вперед проходили незнакомые заказчики. (Все человечество Каштанка делила на две очень неравные части: на хозяев и на заказчиков; между теми и другими была существенная разница: первые имели право бить ее, а вторых она сама имела право хватать за икры.) Заказчики куда-то спешили и не обращали на нее никакого внимания.
Когда стало совсем темно, Каштанкою овладели отчаяние и ужас. Она прижалась к какому-то подъезду и стала горько плакать. Целодневное путешествие с Лукой Александрычем утомило ее, уши и лапы ее озябли, и к тому же еще она была ужасно голодна. За весь день ей приходилось жевать только два раза: покушала у переплетчика немножко клейстеру да в одном из трактиров около прилавка нашла колбасную кожицу – вот и все. Если бы она была человеком, то, наверное, подумала бы:
«Нет, так жить невозможно! Нужно застрелиться!»
Глава вторая Таинственный незнакомец
Но она ни о чем не думала и только плакала. Когда мягкий пушистый снег совсем облепил ее спину и голову и она от изнеможения погрузилась в тяжелую дремоту, вдруг подъездная дверь щелкнула, запищала и ударила ее по боку. Она вскочила. Из отворенной двери вышел какой-то человек, принадлежащий к разряду заказчиков. Так как Каштанка взвизгнула и попала ему под ноги, то он не мог не обратить на нее внимания. Он нагнулся к ней и спросил:
– Псина, ты откуда? Я тебя ушиб? О бедная, бедная… Ну, не сердись, не сердись… Виноват.
Каштанка поглядела на незнакомца сквозь снежинки, нависшие на ресницы, и увидела перед собой коротенького и толстенького человечка с бритым пухлым лицом, в цилиндре и в шубе нараспашку.
– Что же ты скулишь? – продолжал он, сбивая пальцем с ее спины снег. – Где твой хозяин? Должно быть, ты потерялась? Ах, бедный песик! Что же мы теперь будем делать?
Уловив в голосе незнакомца теплую, душевную нотку, Каштанка лизнула ему руку и заскулила еще жалостнее.
– А ты хорошая, смешная! – сказал незнакомец. – Совсем лисица! Ну, что ж, делать нечего, пойдем со мной! Может быть, ты и сгодишься на что-нибудь… Ну, фюйть!
Он чмокнул губами и сделал Каштанке знак рукой, который мог означать только одно: «Пойдем!» Каштанка пошла.
Не больше как через полчаса она уже сидела на полу в большой светлой комнате и, склонив голову набок, с умилением и с любопытством глядела на незнакомца, который сидел за столом и обедал. Он ел и бросал ей кусочки… Сначала он дал ей хлеба и зеленую корочку сыра, потом кусочек мяса, полпирожка, куриных костей, а она с голодухи все это съела так быстро, что не успела разобрать вкуса. И чем больше она ела, тем сильнее чувствовался голод.
– Однако плохо же кормят тебя твои хозяева! – говорил незнакомец, глядя, с какою свирепою жадностью она глотала неразжеванные куски. – И какая ты тощая! Кожа да кости…
Каштанка съела много, но не наелась, а только опьянела от еды. После обеда она разлеглась среди комнаты, протянула ноги и, чувствуя во всем теле приятную истому, завиляла хвостом. Пока ее новый хозяин, развалившись в кресле, курил сигару, она виляла хвостом и решала вопрос: где лучше – у незнакомца или у столяра? У незнакомца обстановка бедная и некрасивая; кроме кресел, дивана, лампы и ковров, у него нет ничего, и комната кажется пустою; у столяра же вся квартира битком набита вещами; у него есть стол, верстак, куча стружек, рубанки, стамески, пилы, клетка с чижиком, лохань… У незнакомца не пахнет ничем, у столяра же в квартире всегда стоит туман и великолепно пахнет клеем, лаком и стружками. Зато у незнакомца есть одно очень важное преимущество – он дает много есть, и, надо отдать ему полную справедливость, когда Каштанка сидела перед столом и умильно глядела на него, он ни разу не ударил ее, не затопал ногами и ни разу не крикнул: «По-ошла вон, треклятая!»
Выкурив сигару, новый хозяин вышел и через минуту вернулся, держа в руках маленький матрасик.
– Эй ты, пес, поди сюда! – сказал он, кладя матрасик в углу около дивана. – Ложись здесь. Спи!
Затем он потушил лампу и вышел. Каштанка разлеглась на матрасике и закрыла глаза; с улицы послышался лай, и она хотела ответить на него, но вдруг неожиданно ею овладела грусть. Она вспомнила Луку Александрыча, его сына Федюшку, уютное местечко под верстаком… Вспомнила она, что в длинные зимние вечера, когда столяр строгал или читал вслух газету, Федюшка обыкновенно играл с нею… Он вытаскивал ее за задние лапы из-под верстака и выделывал с нею такие фокусы, что у нее зеленело в глазах и болело во всех суставах. Он заставлял ее ходить на задних лапах, изображал из нее колокол, то есть сильно дергал ее за хвост, отчего она визжала и лаяла, давал ей нюхать табаку… Особенно мучителен был следующий фокус: Федюшка привязывал на ниточку кусочек мяса и давал его Каштанке, потом же, когда она проглатывала, он с громким смехом вытаскивал его обратно из ее желудка. И чем ярче были воспоминания, тем громче и тоскливее скулила Каштанка.
Но скоро утомление и теплота взяли верх над грустью… Она стала засыпать. В ее воображении забегали собаки; пробежал, между прочим, и мохнатый старый пудель, которого она видела сегодня на улице, с бельмом на глазу и с клочьями шерсти около носа. Федюшка, с долотом в руке, погнался за пуделем, потом вдруг сам покрылся мохнатой шерстью, весело залаял и очутился около Каштанки. Каштанка и он добродушно понюхали друг другу носы и побежали на улицу…
Глава третья Новое, очень приятное знакомство
Когда Каштанка проснулась, было уже светло и с улицы доносился шум, какой бывает только днем. В комнате не было ни души. Каштанка потянулась, зевнула и, сердитая, угрюмая, прошлась по комнате. Она обнюхала углы и мебель, заглянула в переднюю и не нашла ничего интересного. Кроме двери, которая вела в переднюю, была еще одна дверь. Подумав, Каштанка поцарапала ее обеими лапами, отворила и вошла в следующую комнату. Тут на кровати, укрывшись байковым одеялом, спал заказчик, в котором она узнала вчерашнего незнакомца.
– Рррр… – заворчала она, но, вспомнив про вчерашний обед, завиляла хвостом и стала нюхать.
Она понюхала одежду и сапоги незнакомца и нашла, что они очень пахнут лошадью. Из спальни вела куда-то еще одна дверь, тоже затворенная. Каштанка поцарапала эту дверь, налегла на нее грудью, отворила и тотчас же почувствовала странный, очень подозрительный запах. Предчувствуя неприятную встречу, ворча и оглядываясь, Каштанка вошла в маленькую комнатку с грязными обоями и в страхе попятилась назад. Она увидела нечто неожиданное и страшное. Пригнув к земле шею и голову, растопырив крылья и шипя, прямо на нее шел серый гусь. Несколько в стороне от него, на матрасике, лежал белый кот; увидев Каштанку, он вскочил, выгнул спину в дугу, задрал хвост, взъерошил шерсть и тоже зашипел. Собака испугалась не на шутку, но, не желая выдавать своего страха, громко залаяла и бросилась к коту… Кот еще сильнее выгнул спину, зашипел и ударил Каштанку лапой по голове. Каштанка отскочила, присела на все четыре лапы и, протягивая к коту морду, залилась громким, визгливым лаем; в это время гусь подошел сзади и больно долбанул ее клювом в спину. Каштанка вскочила и бросилась на гуся…
– Это что такое? – послышался громкий сердитый голос, и в комнату вошел незнакомец в халате и с сигарой в зубах. – Что это значит? На место!
Он подошел к коту, щелкнул его по выгнутой спине и сказал:
– Федор Тимофеич, это что значит? Драку подняли? Ах ты, старая каналья! Ложись!
И, обратившись к гусю, он крикнул:
– Иван Иваныч, на место!
Кот покорно лег на свой матрасик и закрыл глаза. Судя по выражению его морды и усов, он сам был недоволен, что погорячился и вступил в драку. Каштанка обиженно заскулила, а гусь вытянул шею и заговорил о чем-то быстро, горячо и отчетливо, но крайне непонятно.
– Ладно, ладно! – сказал хозяин, зевая. – Надо жить мирно и дружно. – Он погладил Каштанку и продолжал: – А ты, рыжик, не бойся… Это хорошая публика, не обидит. Постой, как же мы тебя звать будем? Без имени нельзя, брат.
Незнакомец подумал и сказал:
– Вот что… Ты будешь – Тетка… Понимаешь? Тетка!
И, повторив несколько раз слово «Тетка», он вышел. Каштанка села и стала наблюдать. Кот неподвижно сидел на матрасике и делал вид, что спит. Гусь, вытягивая шею и топчась на одном месте, продолжал говорить о чем-то быстро и горячо. По-видимому, это был очень умный гусь; после каждой длинной тирады он всякий раз удивленно пятился назад и делал вид, что восхищается своей речью… Послушав его и ответив ему: «рррр…», Каштанка принялась обнюхивать углы. В одном из углов стояло маленькое корытце, в котором она увидела моченый горох и размокшие ржаные корки. Она попробовала горох – невкусно, попробовала корки – и стала есть. Гусь нисколько не обиделся, что незнакомая собака поедает его корм, а напротив, заговорил еще горячее и, чтобы показать свое доверие, сам подошел к корытцу и съел несколько горошинок.
Глава четвертая Чудеса в решете
Немного погодя опять вошел незнакомец и принес с собой какую-то странную вещь, похожую на ворота и на букву П. На перекладине этого деревянного, грубо сколоченного П висел колокол и был привязан пистолет; от языка колокола и от курка пистолета тянулись веревочки. Незнакомец поставил П посреди комнаты, долго что-то развязывал и завязывал, потом посмотрел на гуся и сказал:
– Иван Иваныч, пожалуйте!
Гусь подошел к нему и остановился в ожидательной позе.
– Ну-с, – сказал незнакомец, – начнем с самого начала. Прежде всего поклонись и сделай реверанс! Живо!
Иван Иваныч вытянул шею, закивал во все стороны и шаркнул лапкой.
– Так, молодец… Теперь умри!
Гусь лег на спину и задрал вверх лапы. Проделав еще несколько подобных неважных фокусов, незнакомец вдруг схватил себя за голову, изобразил на своем лице ужас и закричал:
– Караул! Пожар! Горим!
Иван Иваныч подбежал к П, взял в клюв веревку и зазвонил в колокол.
Незнакомец остался очень доволен. Он погладил гуся по шее и сказал:
– Молодец, Иван Иваныч! Теперь представь, что ты ювелир и торгуешь золотом и брильянтами. Представь теперь, что ты приходишь к себе в магазин и застаешь в нем воров. Как бы ты поступил в данном случае?
Гусь взял в клюв другую веревочку и потянул, отчего тотчас же раздался оглушительный выстрел. Каштанке очень понравился звон, а от выстрела она пришла в такой восторг, что забегала вокруг П и залаяла.
– Тетка, на место! – крикнул ей незнакомец. – Молчать!
Работа Ивана Иваныча не кончилась стрельбой. Целый час потом незнакомец гонял его вокруг себя на корде и хлопал бичом, причем гусь должен был прыгать через барьер и сквозь обруч, становиться на дыбы, то есть садиться на хвост и махать лапками. Каштанка не отрывала глаз от Ивана Иваныча, завывала от восторга и несколько раз принималась бегать за ним со звонким лаем. Утомив гуся и себя, незнакомец вытер со лба пот и крикнул:
– Марья, позови-ка сюда Хавронью Ивановну!
Через минуту послышалось хрюканье… Каштанка заворчала, приняла очень храбрый вид и на всякий случай подошла поближе к незнакомцу. Отворилась дверь, в комнату поглядела какая-то старуха и, сказав что-то, впустила черную, очень некрасивую свинью. Не обращая никакого внимания на ворчанье Каштанки, свинья подняла вверх свой пятачок и весело захрюкала. По-видимому, ей было очень приятно видеть своего хозяина, кота и Ивана Иваныча. Когда она подошла к коту и слегка толкнула его под живот своим пятачком и потом о чем-то заговорила с гусем, в ее движениях, в голосе и в дрожании хвостика чувствовалось много добродушия. Каштанка сразу поняла, что ворчать и лаять на таких субъектов бесполезно.
Хозяин убрал П и крикнул:
– Федор Тимофеич, пожалуйте!
Кот поднялся, лениво потянулся и нехотя, точно делая одолжение, подошел к свинье.
– Ну-с, начнем с египетской пирамиды, – начал хозяин.
Он долго объяснял что-то, потом скомандовал: «Раз… два… три!» Иван Иваныч при слове «три» взмахнул крыльями и вскочил на спину свиньи… Когда он, балансируя крыльями и шеей, укрепился на щетинистой спине, Федор Тимофеич вяло и лениво, с явным пренебрежением и с таким видом, как будто он презирает и ставит ни в грош свое искусство, полез на спину свиньи, потом нехотя взобрался на гуся и стал на задние лапы. Получилось то, что незнакомец называл «египетской пирамидой». Каштанка взвизгнула от восторга, но в это время старик кот зевнул и, потеряв равновесие, свалился с гуся. Иван Иваныч пошатнулся и тоже свалился. Незнакомец закричал, замахал руками и стал опять что-то объяснять. Провозившись целый час с пирамидой, неутомимый хозяин принялся учить Ивана Иваныча ездить верхом на коте, потом стал учить кота курить и т. п.
Ученье кончилось тем, что незнакомец вытер со лба пот и вышел, Федор Тимофеич брезгливо фыркнул, лег на матрасик и закрыл глаза, Иван Иваныч направился к корытцу, а свинья была уведена старухой. Благодаря массе новых впечатлений день прошел для Каштанки незаметно, а вечером она со своим матрасиком была уже водворена в комнатке с грязными обоями и ночевала в обществе Федора Тимофеича и гуся.
Глава пятая Талант! Талант!
Прошел месяц.
Каштанка уже привыкла к тому, что ее каждый вечер кормили вкусным обедом и звали Теткой. Привыкла она и к незнакомцу, и к своим новым сожителям. Жизнь потекла как по маслу.
Все дни начинались одинаково. Обыкновенно раньше всех просыпался Иван Иваныч и тотчас же подходил к Тетке или к коту, выгибал шею и начинал говорить о чем-то горячо и убедительно, но по-прежнему непонятно. Иной раз он поднимал вверх голову и произносил длинные монологи. В первые дни знакомства Каштанка думала, что он говорит много потому, что очень умен, но прошло немного времени, и она потеряла к нему всякое уважение; когда он подходил к ней со своими длинными речами, она уж не виляла хвостом, а третировала его, как надоедливого болтуна, который не дает никому спать, и без всякой церемонии отвечала ему: «рррр»…
Федор же Тимофеич был иного рода господин. Этот, проснувшись, не издавал никакого звука, не шевелился и даже не открывал глаз. Он охотно бы не просыпался, потому что, как видно было, он недолюбливал жизни. Ничто его не интересовало, ко всему он относился вяло и небрежно, все презирал и даже, поедая свой вкусный обед, брезгливо фыркал.
Проснувшись, Каштанка начинала ходить по комнатам и обнюхивать углы. Только ей и коту позволялось ходить по всей квартире: гусь же не имел права переступать порог комнатки с грязными обоями, а Хавронья Ивановна жила где-то на дворе в сарайчике и появлялась только во время ученья. Хозяин просыпался поздно и, напившись чаю, тотчас же принимался за свои фокусы. Каждый день в комнатку вносились П, бич, обручи, и каждый день проделывалось почти одно и то же. Ученье продолжалось часа три-четыре, так что иной раз Федор Тимофеич от утомления пошатывался, как пьяный, Иван Иваныч раскрывал клюв и тяжело дышал, а хозяин становился красным и никак не мог стереть со лба пот.
Ученье и обед делали дни очень интересными, вечера же проходили скучновато. Обыкновенно вечерами хозяин уезжал куда-то и увозил с собою гуся и кота. Оставшись одна, Тетка ложилась на матрасик и начинала грустить… Грусть подкрадывалась к ней как-то незаметно и овладевала ею постепенно, как потемки комнатой. Начиналось с того, что у собаки пропадала всякая охота лаять, есть, бегать по комнатам и даже глядеть, затем в воображении ее появлялись какие-то две неясные фигуры, не то собаки, не то люди, с физиономиями симпатичными, милыми, но непонятными; при появлении их Тетка виляла хвостом, и ей казалось, что она их где-то когда-то видела и любила… А засыпая, она всякий раз чувствовала, что от этих фигурок пахнет клеем, стружками и лаком.
Когда она совсем уже свыклась с новой жизнью и из тощей, костлявой дворняжки обратилась в сытого, выхоленного пса, однажды перед ученьем хозяин погладил ее и сказал:
– Пора нам, Тетка, делом заняться. Довольно тебе бить баклуши. Я хочу из тебя артистку сделать… Ты хочешь быть артисткой?
И он стал учить ее разным наукам. В первый урок она училась стоять и ходить на задних лапках, что ей ужасно нравилось. Во второй урок она должна была прыгать на задних лапах и хватать сахар, который высоко над ее головой держал учитель. Затем в следующие уроки она плясала, бегала на корде, выла под музыку, звонила и стреляла, а через месяц уже могла с успехом заменять Федора Тимофеича в «египетской пирамиде». Училась она очень охотно и была довольна своими успехами; беганье с высунутым языком на корде, прыганье в обруч и езда верхом на старом Федоре Тимофеиче доставляли ей величайшее наслаждение. Всякий удавшийся фокус она сопровождала звонким, восторженным лаем, а учитель удивлялся, приходил тоже в восторг и потирал руки.
– Талант! Талант! – говорил он. – Несомненный талант! Ты положительно будешь иметь успех!
И Тетка так привыкла к слову «талант», что всякий раз, когда хозяин произносил его, вскакивала и оглядывалась, как будто оно было ее кличкой.
Глава шестая Беспокойная ночь
Тетке приснился собачий сон, будто за нею гонится дворник с метлой, и она проснулась от страха.
В комнате было тихо, темно и очень душно. Кусались блохи. Тетка раньше никогда не боялась потемок, но теперь почему-то ей стало жутко и захотелось лаять. В соседней комнате громко вздохнул хозяин, потом, немного погодя, в своем сарайчике хрюкнула свинья, и опять все смолкло. Когда думаешь об еде, то на душе становится легче, и Тетка стала думать о том, как она сегодня украла у Федора Тимофеича куриную лапку и спрятала ее в гостиной между шкапом и стеной, где очень много паутины и пыли. Не мешало бы теперь пойти и посмотреть: цела эта лапка или нет? Очень может быть, что хозяин нашел ее и скушал. Но раньше утра нельзя выходить из комнатки – такое правило. Тетка закрыла глаза, чтобы поскорее уснуть, так как она знала по опыту, что чем скорее уснешь, тем скорее наступит утро. Но вдруг недалеко от нее раздался странный крик, который заставил ее вздрогнуть и вскочить на все четыре лапы. Это крикнул Иван Иваныч, и крик его был не болтливый и убедительный, как обыкновенно, а какой-то дикий, пронзительный и неестественный, похожий на скрип отворяемых ворот. Ничего не разглядев в потемках и не поняв, Тетка почувствовала еще больший страх и проворчала:
– Ррррр…
Прошло немного времени, сколько его требуется на то, чтобы обглодать хорошую кость; крик не повторялся. Тетка мало-помалу успокоилась и задремала. Ей приснились две большие черные собаки с клочьями прошлогодней шерсти на бедрах и на боках; они из большой лохани с жадностью ели помои, от которых шел белый пар и очень вкусный запах; изредка они оглядывались на Тетку, скалили зубы и ворчали: «А тебе мы не дадим!» Но из дому выбежал мужик в шубе и прогнал их кнутом; тогда Тетка подошла к лохани и стала кушать, но, как только мужик ушел за ворота, обе черные собаки с ревом бросились на нее, и вдруг опять раздался пронзительный крик.
– К-ге! К-ге-ге! – крикнул Иван Иваныч.
Тетка проснулась, вскочила и, не сходя с матрасика, залилась поющим лаем. Ей уже казалось, что кричит не Иван Иваныч, а кто-то другой, посторонний. И почему-то в сарайчике опять хрюкнула свинья.
Но вот послышалось шарканье туфель, и в комнатку вошел хозяин в халате и со свечой. Мелькающий свет запрыгал по грязным обоям и по потолку и прогнал потемки. Тетка увидела, что в комнатке нет никого постороннего. Иван Иваныч сидел на полу и не спал. Крылья у него были растопырены и клюв раскрыт, и вообще он имел такой вид, как будто очень утомился и хотел пить. Старый Федор Тимофеич тоже не спал. Должно быть, и он был разбужен криком.
– Иван Иваныч, что с тобой? – спросил хозяин у гуся. – Что ты кричишь? Ты болен?
Гусь молчал. Хозяин потрогал его за шею, погладил по спине и сказал:
– Ты чудак. И сам не спишь и другим не даешь.
Когда хозяин вышел и унес с собою свет, опять наступили потемки. Тетке было страшно. Гусь не кричал, но ей опять стало чудиться, что в потемках стоит кто-то чужой. Страшнее всего было то, что этого чужого нельзя было укусить, так как он был невидим и не имел формы. И почему-то она думала, что в эту ночь должно непременно произойти что-то очень худое. Федор Тимофеич тоже был непокоен. Тетка слышала, как он возился на своем матрасике, зевал и встряхивал головой.
Где-то на улице застучали в ворота, и в сарайчике хрюкнула свинья. Тетка заскулила, протянула передние лапы и положила на них голову. В стуке ворот, в хрюканье не спавшей почему-то свиньи, в потемках и в тишине почудилось ей что-то такое же тоскливое и страшное, как в крике Ивана Иваныча. Все было в тревоге и в беспокойстве, но отчего? Кто этот чужой, которого не было видно? Вот около Тетки на мгновение вспыхнули две тусклые зеленые искорки. Это в первый раз за все время знакомства подошел к ней Федор Тимофеич. Что ему нужно было? Тетка лизнула ему лапу и, не спрашивая, зачем он пришел, завыла тихо и на разные голоса.
– К-ге! – крикнул Иван Иваныч. – К-ге-ге!
Опять отворилась дверь и вошел хозяин со свечой. Гусь сидел в прежней позе, с разинутым клювом и растопырив крылья. Глаза у него были закрыты.
– Иван Иваныч! – позвал хозяин.
Гусь не шевельнулся. Хозяин сел перед ним на полу, минуту глядел на него молча и сказал:
– Иван Иваныч! Что же это такое? Умираешь ты, что ли? Ах, я теперь вспомнил, вспомнил! – вскрикнул он и схватил себя за голову. – Я знаю, отчего это. Это оттого, что сегодня на тебя наступила лошадь! Боже мой, боже мой!
Тетка не понимала, что говорит хозяин, но по его лицу видела, что и он ждет чего-то ужасного. Она протянула морду к темному окну, в которое, как казалось ей, глядел кто-то чужой, и завыла.
– Он умирает, Тетка! – сказал хозяин и всплеснул руками. – Да, да, умирает! К вам в комнату пришла смерть. Что нам делать?
Бледный, встревоженный хозяин, вздыхая и покачивая головой, вернулся к себе в спальню. Тетке жутко было оставаться в потемках, и она пошла за ним. Он сел на кровать и несколько раз повторил:
– Боже мой, что же делать?
Тетка ходила около его ног и, не понимая, отчего это у нее такая тоска и отчего все так беспокоятся, и, стараясь понять, следила за каждым его движением. Федор Тимофеич, редко покидавший свой матрасик, тоже вошел в спальню хозяина и стал тереться около его ног. Он встряхивал головой, как будто хотел вытряхнуть из нее тяжелые мысли, и подозрительно заглядывал под кровать.
Хозяин взял блюдечко, налил в него из рукомойника воды и опять пошел к гусю.
– Пей, Иван Иваныч! – сказал он нежно, ставя перед ним блюдечко. – Пей, голубчик.
Но Иван Иваныч не шевелился и не открывал глаз. Хозяин пригнул его голову к блюдечку и окунул клюв в воду, но гусь не пил, еще шире растопырил крылья, и голова его так и осталась лежать в блюдечке.
– Нет, ничего уже нельзя сделать! – вздохнул хозяин. – Все кончено. Пропал Иван Иваныч!
И по его щекам поползли вниз блестящие капельки, какие бывают на окнах во время дождя. Не понимая, в чем дело, Тетка и Федор Тимофеич жались к нему и с ужасом смотрели на гуся.
– Бедный Иван Иваныч! – говорил хозяин, печально вздыхая. – А я-то мечтал, что весной повезу тебя на дачу и буду гулять с тобой по зеленой травке. Милое животное, хороший мой товарищ, тебя уже нет! Как же я теперь буду обходиться без тебя?
Тетке казалось, что и с нею случится то же самое, то есть что и она тоже вот так, неизвестно отчего, закроет глаза, протянет лапы, оскалит рот, и все на нее будут смотреть с ужасом. По-видимому, такие же мысли бродили и в голове Федора Тимофеича. Никогда раньше старый кот не был так угрюм и мрачен, как теперь.
Начинался рассвет, и в комнатке уже не было того невидимого чужого, который пугал так Тетку. Когда совсем рассвело, пришел дворник, взял гуся за лапы и унес его куда-то. А немного погодя явилась старуха и вынесла корытце.
Тетка пошла в гостиную и посмотрела за шкап: хозяин не скушал куриной лапки, она лежала на своем месте, в пыли и паутине. Но Тетке было скучно, грустно и хотелось плакать. Она даже не понюхала лапки, а пошла под диван, села там и начала скулить тихо, тонким голоском:
– Ску-ску-ску…
Глава седьмая Неудачный дебют
В один прекрасный вечер хозяин вошел в комнатку с грязными обоями и, потирая руки, сказал:
– Ну-с…
Что-то он хотел еще сказать, но не сказал и вышел. Тетка, отлично изучившая во время уроков его лицо и интонацию, догадалась, что он был взволнован, озабочен и, кажется, сердит. Немного погодя он вернулся и сказал:
– Сегодня я возьму с собой Тетку и Федора Тимофеича. В египетской пирамиде ты, Тетка, заменишь сегодня покойного Ивана Иваныча. Черт знает что! Ничего не готово, не выучено, репетиций было мало! Осрамимся, провалимся!
Затем он опять вышел и через минуту вернулся в шубе и в цилиндре. Подойдя к коту, он взял его за передние лапы, поднял и спрятал его на груди под шубу, причем Федор Тимофеич казался очень равнодушным и даже не потрудился открыть глаз. Для него, по-видимому, было решительно все равно: лежать ли, или быть поднятым за ноги, валяться ли на матрасике, или покоиться на груди хозяина под шубой…
– Тетка, пойдем, – сказал хозяин.
Ничего не понимая и виляя хвостом, Тетка пошла за ним. Через минуту она уже сидела в санях около ног хозяина и слушала, как он, пожимаясь от холода и волнения, бормотал:
– Осрамимся! Провалимся!
Сани остановились около большого странного дома, похожего на опрокинутый супник. Длинный подъезд этого дома с тремя стеклянными дверями был освещен дюжиной ярких фонарей. Двери со звоном отворялись и, как рты, глотали людей, которые сновали у подъезда. Людей было много, часто к подъезду подбегали и лошади, но собак не было видно.
Хозяин взял на руки Тетку и сунул ее на грудь, под шубу, где находился Федор Тимофеич. Тут было темно и душно, но тепло. На мгновение вспыхнули две тусклые зеленые искорки – это открыл глаза кот, обеспокоенный холодными жесткими лапами соседки. Тетка лизнула его ухо и, желая усесться возможно удобнее, беспокойно задвигалась, смяла его под себя холодными лапами и нечаянно высунула из-под шубы голову, но тотчас же сердито заворчала и нырнула под шубу. Ей показалось, что она увидела громадную, плохо освещенную комнату, полную чудовищ; из-за перегородок и решеток, которые тянулись по обе стороны комнаты, выглядывали страшные рожи: лошадиные, рогатые, длинноухие и какая-то одна толстая, громадная рожа с хвостом вместо носа и с двумя длинными обглоданными костями, торчащими изо рта.
Кот сипло замяукал под лапами Тетки, но в это время шуба распахнулась, хозяин сказал «гоп!», и Федор Тимофеич с Теткою прыгнули на пол. Они уже были в маленькой комнате с серыми дощатыми стенами; тут, кроме небольшого столика с зеркалом, табурета и тряпья, развешанного по углам, не было никакой другой мебели, и, вместо лампы или свечи, горел яркий веерообразный огонек, приделанный к трубочке, вбитой в стену. Федор Тимофеич облизал свою шубу, помятую Теткой, пошел под табурет и лег. Хозяин, все еще волнуясь и потирая руки, стал раздеваться… Он разделся так, как обыкновенно раздевался у себя дома, готовясь лечь под байковое одеяло, то есть снял все, кроме белья, потом сел на табурет и, глядя в зеркало, начал выделывать над собой удивительные штуки. Прежде всего он надел на голову парик с пробором и с двумя вихрами, похожими на рога, потом густо намазал лицо чем-то белым и сверх белой краски нарисовал еще брови, усы и румяны. Затеи его этим не кончились. Опачкавши лицо и шею, он стал облачаться в какой-то необыкновенный, ни с чем не сообразный костюм, какого Тетка никогда не видала раньше ни в домах, ни на улице. Представьте вы себе широчайшие панталоны, сшитые из ситца с крупными цветами, какой употребляется в мещанских домах для занавесок и обивки мебели, панталоны, которые застегиваются у самых подмышек; одна панталона сшита из коричневого ситца, другая из светло-желтого. Утонувши в них, хозяин надел еще ситцевую курточку с большим зубчатым воротником и с золотой звездой на спине, разноцветные чулки и зеленые башмаки…
У Тетки запестрило в глазах и в душе. От белолицей мешковатой фигуры пахло хозяином, голос у нее был тоже знакомый, хозяйский, но бывали минуты, когда Тетку мучили сомнения, и тогда она готова была бежать от пестрой фигуры и лаять. Новое место, веерообразный огонек, запах, метаморфоза, случившаяся с хозяином, – все это вселяло в нее неопределенный страх и предчувствие, что она непременно встретится с каким-нибудь ужасом вроде толстой рожи с хвостом вместо носа. А тут еще где-то за стеной далеко играла ненавистная музыка и слышался временами непонятный рев. Одно только и успокаивало ее – это невозмутимость Федора Тимофеича. Он преспокойно дремал под табуретом и не открывал глаз, даже когда двигался табурет.
Какой-то человек во фраке и в белой жилетке заглянул в комнатку и сказал:
– Сейчас выход мисс Арабеллы. После нее – вы.
Хозяин ничего не ответил. Он вытащил из-под стола небольшой чемодан, сел и стал ждать. По губам и по рукам его было заметно, что он волновался, и Тетка слышала, как дрожало его дыхание.
– М-r Жорж, пожалуйте! – крикнул кто-то за дверью.
Хозяин встал и три раза перекрестился, потом достал из-под табурета кота и сунул его в чемодан.
– Иди, Тетка! – сказал он тихо.
Тетка, ничего не понимая, подошла к его рукам; он поцеловал ее в голову и положил рядом с Федором Тимофеичем. Засим наступили потемки… Тетка топталась по коту, царапала стенки чемодана и от ужаса не могла произнести ни звука, а чемодан покачивался, как на волнах, и дрожал…
– А вот и я! – громко крикнул хозяин. – А вот и я!
Тетка почувствовала, что после этого крика чемодан ударился о что-то твердое и перестал качаться. Послышался громкий густой рев: по ком-то хлопали, и этот кто-то, вероятно рожа с хвостом вместо носа, ревел и хохотал так громко, что задрожали замочки у чемодана. В ответ на рев раздался пронзительный, визгливый смех хозяина, каким он никогда не смеялся дома.
– Га! – крикнул он, стараясь перекричать рев. – Почтеннейшая публика! Я сейчас только с вокзала! У меня издохла бабушка и оставила мне наследство! В чемодане что-то очень тяжелое – очевидно, золото… Га-а! И вдруг здесь миллион! Сейчас мы откроем и посмотрим…
В чемодане щелкнул замок. Яркий свет ударил Тетку по глазам; она прыгнула вон из чемодана и, оглушенная ревом, быстро, во всю прыть забегала вокруг своего хозяина и залилась звонким лаем.
– Га! – закричал хозяин. – Дядюшка Федор Тимофеич! Дорогая тетушка! Милые родственники, черт бы вас взял!
Он упал животом на песок, схватил кота и Тетку и принялся обнимать их. Тетка, пока он тискал ее в своих объятиях, мельком оглядела тот мир, в который занесла ее судьба, и, пораженная его грандиозностью, на минуту застыла от удивления и восторга, потом вырвалась из объятий хозяина и от остроты впечатления, как волчок, закружилась на одном месте. Новый мир был велик и полон яркого света; куда ни взглянешь, всюду, от пола до потолка, видны были одни только лица, лица, лица и больше ничего.
– Тетушка, прошу вас сесть! – крикнул хозяин.
Помня, что это значит, Тетка вскочила на стул и села. Она поглядела на хозяина. Глаза его, как всегда, глядели серьезно и ласково, но лицо, в особенности рот и зубы, были изуродованы широкой неподвижной улыбкой. Сам он хохотал, прыгал, подергивал плечами и делал вид, что ему очень весело в присутствии тысяч лиц. Тетка поверила его веселости, вдруг почувствовала всем своим телом, что на нее смотрят эти тысячи лиц, подняла вверх свою лисью морду и радостно завыла.
– Вы, Тетушка, посидите, – сказал ей хозяин, – а мы с дядюшкой попляшем камаринского.
Федор Тимофеич в ожидании, когда его заставят делать глупости, стоял и равнодушно поглядывал по сторонам. Плясал он вяло, небрежно, угрюмо, и видно было по его движениям, по хвосту и по усам, что он глубоко презирал и толпу, и яркий свет, и хозяина, и себя… Протанцевав свою порцию, он зевнул и сел.
– Ну-с, Тетушка, – сказал хозяин, – сначала мы с вами споем, а потом попляшем. Хорошо?
Он вынул из кармана дудочку и заиграл. Тетка, не вынося музыки, беспокойно задвигалась на стуле и завыла. Со всех сторон послышались рев и аплодисменты. Хозяин поклонился и, когда все стихло, продолжал играть… Во время исполнения одной очень высокой ноты где-то наверху среди публики кто-то громко ахнул.
– Тятька! – крикнул детский голос. – А ведь это Каштанка!
– Каштанка и есть! – подтвердил пьяненький, дребезжащий тенорок. – Каштанка! Федюшка, это, накажи бог, Каштанка! Фюйть!
Кто-то на галерее свистнул, и два голоса, один – детский, другой – мужской, громко позвали:
– Каштанка! Каштанка!
Тетка вздрогнула и посмотрела туда, где кричали. Два лица: одно волосатое, пьяное и ухмыляющееся, другое – пухлое, краснощекое и испуганное – ударили ее по глазам, как раньше ударил яркий свет… Она вспомнила, упала со стула и забилась на песке, потом вскочила и с радостным визгом бросилась к этим лицам. Раздался оглушительный рев, пронизанный насквозь свистками и пронзительным детским криком:
– Каштанка! Каштанка!
Тетка прыгнула через барьер, потом через чье-то плечо, очутилась в ложе; чтобы попасть в следующий ярус, нужно было перескочить высокую стену; Тетка прыгнула, но не допрыгнула и поползла назад по стене. Затем она переходила с рук на руки, лизала чьи-то руки и лица, подвигалась все выше и выше и наконец попала на галерку…
Спустя полчаса Каштанка шла уже по улице за людьми, от которых пахло клеем и лаком. Лука Александрыч покачивался и инстинктивно, наученный опытом, старался держаться подальше от канавы.
– В бездне греховней валяюся во утробе моей… – бормотал он. – А ты, Каштанка, – недоумение. Супротив человека ты все равно, что плотник супротив столяра.
Рядом с ним шагал Федюшка в отцовском картузе. Каштанка глядела им обоим в спины, и ей казалось, что она давно уже идет за ними и радуется, что жизнь ее не обрывалась ни на минуту.
Вспоминала она комнатку с грязными обоями, гуся, Федора Тимофеича, вкусные обеды, ученье, цирк, но все это представлялось ей теперь как длинный, перепутанный, тяжелый сон…
1887Спать хочется
Ночь. Нянька Варька, девочка лет тринадцати, качает колыбель, в которой лежит ребенок, и чуть слышно мурлычет:
Баю-баюшки-баю, А я песенку спою…Перед образом горит зеленая лампадка; через всю комнату от угла до угла тянется веревка, на которой висят пеленки и большие черные панталоны. От лампадки ложится на потолок большое зеленое пятно, а пеленки и панталоны бросают длинные тени на печку, колыбель, на Варьку… Когда лампадка начинает мигать, пятно и тени оживают и приходят в движение, как от ветра. Душно. Пахнет щами и сапожным товаром.
Ребенок плачет. Он давно уже осип и изнемог от плача, но все еще кричит, и неизвестно, когда он уймется. А Варьке хочется спать. Глаза ее слипаются, голову тянет вниз, шея болит. Она не может шевельнуть ни веками, ни губами, и ей кажется, что лицо ее высохло и одеревенело, что голова стала маленькой, как булавочная головка.
– Баю-баюшки-баю, – мурлычет она, – тебе кашки наварю…
В печке кричит сверчок. В соседней комнате, за дверью, похрапывают хозяин и подмастерье Афанасий… Колыбель жалобно скрипит, сама Варька мурлычет – и все это сливается в ночную, убаюкивающую музыку, которую так сладко слушать, когда ложишься в постель. Теперь же эта музыка только раздражает и гнетет, потому что она вгоняет в дремоту, а спать нельзя; если Варька, не дай бог, уснет, то хозяева прибьют ее.
Лампадка мигает. Зеленое пятно и тени приходят в движение, лезут в полуоткрытые, неподвижные глаза Варьки и в ее наполовину уснувшем мозгу складываются в туманные грезы. Она видит темные облака, которые гоняются друг за другом по небу и кричат, как ребенок. Но вот подул ветер, пропали облака, и Варька видит широкое шоссе, покрытое жидкою грязью; по шоссе тянутся обозы, плетутся люди с котомками на спинах, носятся взад и вперед какие-то тени; по обе стороны сквозь холодный, суровый туман видны леса. Вдруг люди с котомками и тени падают на землю в жидкую грязь. «Зачем это?» – спрашивает Варька. «Спать, спать!» – отвечают ей. И они засыпают крепко, спят сладко, а на телеграфных проволоках сидят вороны и сороки, кричат, как ребенок, и стараются разбудить их.
– Баю-баюшки-баю, а я песенку спою… – мурлычет Варька и уже видит себя в темной, душной избе.
На полу ворочается ее покойный отец Ефим Степанов. Она не видит его, но слышит, как он катается от боли по полу и стонет. У него, как он говорит, «разыгралась грыжа». Боль так сильна, что он не может выговорить ни одного слова и только втягивает в себя воздух и отбивает зубами барабанную дробь:
– Бу-бу-бу-бу…
Мать Пелагея побежала в усадьбу к господам сказать, что Ефим помирает. Она давно уже ушла, и пора бы ей вернуться. Варька лежит на печи, не спит и прислушивается к отцовскому «бу-бу-бу». Но вот слышно, кто-то подъехал к избе. Это господа прислали молодого доктора, который приехал к ним из города в гости. Доктор входит в избу; его не видно в потемках, но слышно, как он кашляет и щелкает дверью.
– Засветите огонь, – говорит он.
– Бу-бу-бу… – отвечает Ефим.
Пелагея бросается к печке и начинает искать черепок со спичками. Проходит минута в молчании. Доктор, порывшись в карманах, зажигает свою спичку.
– Сейчас, батюшка, сейчас, – говорит Пелагея, бросается вон из избы и немного погодя возвращается с огарком.
Щеки у Ефима розовые, глаза блестят и взгляд как-то особенно остр, точно Ефим видит насквозь и избу и доктора.
– Ну, что? Что ты это вздумал? – говорит доктор, нагибаясь к нему. – Эге! Давно ли это у тебя?
– Чего-с? Помирать, ваше благородие, пришло время… Не быть мне в живых…
– Полно вздор говорить… Вылечим!
– Это как вам угодно, ваше благородие, благодарим покорно, а только мы понимаем… Коли смерть пришла, что уж тут.
Доктор с четверть часа возится с Ефимом; потом поднимается и говорит:
– Я ничего не могу поделать… Тебе нужно в больницу ехать, там тебе операцию сделают. Сейчас же поезжай… Непременно поезжай! Немножко поздно, в больнице все уже спят, но это ничего, я тебе записочку дам. Слышишь?
– Батюшка, да на чем же он поедет? – говорит Пелагея. – У нас нет лошади.
– Ничего, я попрошу господ, они дадут лошадь.
Доктор уходит, свеча тухнет, и опять слышится «бу-бу-бу»… Спустя полчаса к избе кто-то подъезжает. Это господа прислали тележку, чтобы ехать в больницу. Ефим собирается и едет…
Но вот наступает хорошее, ясное утро. Пелагеи нет дома: она пошла в больницу узнать, что делается с Ефимом. Где-то плачет ребенок, и Варька слышит, как кто-то ее голосом поет:
– Баю-баюшки-баю, а я песенку спою…
Возвращается Пелагея; она крестится и шепчет:
– Ночью вправили ему, а к утру богу душу отдал… Царство небесное, вечный покой… Сказывают, поздно захватили… Надо бы раньше…
Варька идет в лес и плачет там, но вдруг кто-то бьет ее по затылку с такой силой, что она стукается лбом о березу. Она поднимает глаза и видит перед собой хозяина-сапожника.
– Ты что же это, паршивая? – говорит он. – Дитё плачет, а ты спишь?
Он больно треплет ее за ухо, а она встряхивает головой, качает колыбель и мурлычет свою песню. Зеленое пятно и тени от панталон и пеленок колеблются, мигают ей и скоро опять овладевают ее мозгом. Опять она видит шоссе, покрытое жидкою грязью. Люди с котомками на спинах и тени разлеглись и крепко спят. Глядя на них, Варьке страстно хочется спать; она легла бы с наслаждением, но мать Пелагея идет рядом и торопит ее. Обе они спешат в город наниматься.
– Подайте милостынки Христа ради! – просит мать у встречных. – Явите божескую милость, господа милосердные!
– Подай сюда ребенка! – отвечает ей чей-то знакомый голос. – Подай сюда ребенка! – повторяет тот же голос, но уже сердито и резко. – Спишь, подлая?
Варька вскакивает и, оглядевшись, понимает, в чем дело: нет ни шоссе, ни Пелагеи, ни встречных, а стоит посреди комнатки одна только хозяйка, которая пришла покормить своего ребенка. Пока толстая, плечистая хозяйка кормит и унимает ребенка, Варька стоит, глядит на нее и ждет, когда она кончит. А за окнами уже синеет воздух, тени и зеленое пятно на потолке заметно бледнеют. Скоро утро.
– Возьми! – говорит хозяйка, застегивая на груди сорочку. – Плачет. Должно, сглазили.
Варька берет ребенка, кладет его в колыбель и опять начинает качать. Зеленое пятно и тени мало-помалу исчезают, и уж некому лезть в ее голову и туманить мозг. А спать хочется по-прежнему, ужасно хочется! Варька кладет голову на край колыбели и качается всем туловищем, чтобы пересилить сон, но глаза все-таки слипаются, и голова тяжела.
– Варька, затопи печку! – раздается за дверью голос хозяина.
Значит, уже пора вставать и приниматься за работу. Варька оставляет колыбель и бежит в сарай за дровами. Она рада. Когда бегаешь и ходишь, спать уже не так хочется, как в сидячем положении. Она приносит дрова, топит печь и чувствует, как расправляется ее одеревеневшее лицо и как проясняются мысли.
– Варька, поставь самовар! – кричит хозяйка.
Варька колет лучину, но едва успевает зажечь их и сунуть в самовар, как слышится новый приказ:
– Варька, почисть хозяину калоши!
Она садится на пол, чистит калоши и думает, что хорошо бы сунуть голову в большую, глубокую калошу и подремать в ней немножко… И вдруг калоша растет, пухнет, наполняет собою всю комнату, Варька роняет щетку, но тотчас же встряхивает головой, пучит глаза и старается глядеть так, чтобы предметы не росли и не двигались в ее глазах.
– Варька, помой снаружи лестницу, а то от заказчиков совестно!
Варька моет лестницу, убирает комнаты, потом топит другую печь и бежит в лавочку. Работы много, нет ни одной минуты свободной.
Но ничто так не тяжело, как стоять на одном месте перед кухонным столом и чистить картошку. Голову тянет к столу, картошка рябит в глазах, нож валится из рук, а возле ходит толстая, сердитая хозяйка с засученными рукавами и говорит так громко, что звенит в ушах. Мучительно также прислуживать за обедом, стирать, шить. Бывают минуты, когда хочется, ни на что не глядя, повалиться на пол и спать.
День проходит. Глядя, как темнеют окна, Варька сжимает себе деревенеющие виски и улыбается, сама не зная чего ради. Вечерняя мгла ласкает ее слипающиеся глаза и обещает ей скорый, крепкий сон. Вечером к хозяевам приходят гости.
– Варька, ставь самовар! – кричит хозяйка.
Самовар у хозяев маленький, и, прежде чем гости напиваются чаю, приходится подогревать его раз пять. После чаю Варька стоит целый час на одном месте, глядит на гостей и ждет приказаний.
– Варька, сбегай купи три бутылки пива!
Она срывается с места и старается бежать быстрее, чтобы прогнать сон.
– Варька, сбегай за водкой! Варька, где штопор? Варька, почисть селедку!
Но вот наконец гости ушли; огни тушатся, хозяева ложатся спать.
– Варька, покачай ребенка! – раздается последний приказ.
В печке кричит сверчок; зеленое пятно на потолке и тени от панталон и пеленок опять лезут в полуоткрытые глаза Варьки, мигают и туманят ей голову.
– Баю-баюшки-баю, – мурлычет она, – а я песенку спою…
А ребенок кричит и изнемогает от крика. Варька видит опять грязное шоссе, людей с котомками, Пелагею, отца Ефима. Она все понимает, всех узнает, но сквозь полусон она не может только никак понять той силы, которая сковывает ее по рукам и по ногам, давит ее и мешает ей жить. Она оглядывается, ищет эту силу, чтобы избавиться от нее, но не находит. Наконец, измучившись, она напрягает все свои силы и зрение, глядит вверх на мигающее зеленое пятно и, прислушавшись к крику, находит врага, мешающего ей жить.
Этот враг – ребенок.
Она смеется. Ей удивительно: как это раньше она не могла понять такого пустяка? Зеленое пятно, тени и сверчок тоже, кажется, смеются и удивляются.
Ложное представление овладевает Варькой. Она встает с табурета и, широко улыбаясь, не мигая глазами, прохаживается по комнате. Ей приятно и щекотно от мысли, что она сейчас избавится от ребенка, сковывающего ее по рукам и ногам… Убить ребенка, а потом спать, спать, спать…
Смеясь, подмигивая и грозя зеленому пятну пальцами, Варька подкрадывается к колыбели и наклоняется к ребенку. Задушив его, она быстро ложится на пол, смеется от радости, что ей можно спать, и через минуту спит уже крепко, как мертвая…
1888Неприятность
Земский врач Григорий Иванович Овчинников, человек лет тридцати пяти, худосочный и нервный, известный своим товарищам небольшими работами по медицинской статистике и горячею привязанностью к так называемым бытовым вопросам, как-то утром делал у себя в больнице обход палат. За ним, по обыкновению, следовал его фельдшер Михаил Захарович, пожилой человек, с жирным лицом, плоскими сальными волосами и с серьгой в ухе.
Едва доктор начал обход, как ему стало казаться очень подозрительным одно пустое обстоятельство, а именно: жилетка фельдшера топорщилась в складки и упрямо задиралась вверх, несмотря на то что фельдшер то и дело обдергивал и поправлял ее. Сорочка у фельдшера была помята и тоже топорщилась; на черном длинном сюртуке, на панталонах и даже на галстуке кое-где белел пух… Очевидно, фельдшер спал всю ночь не раздеваясь, и, судя по выражению, с каким он теперь обдергивал жилетку и поправлял галстук, одежа стесняла его.
Доктор пристально поглядел на него и понял, в чем дело. Фельдшер не шатался, отвечал на вопросы складно, но угрюмо-тупое лицо, тусклые глаза, дрожь, пробегавшая по шее и рукам, беспорядок в одежде, а главное – напряженные усилия над самим собой и желание замаскировать свое состояние, свидетельствовали, что он только что встал с постели, не выспался и был пьян, пьян тяжело, со вчерашнего… Он переживал мучительное состояние «перегара», страдал и, по-видимому, был очень недоволен собой.
Доктор, не любивший фельдшера и имевший на то свои причины, почувствовал сильное желание сказать ему: «Я вижу, вы пьяны!» Ему вдруг стали противны жилетка, длиннополый сюртук, серьга в мясистом ухе, но он сдержал свое злое чувство и сказал мягко и вежливо, как всегда:
– Давали Герасиму молока?
– Давали-с… – ответил Михаил Захарыч тоже мягко.
Разговаривая с больным Герасимом, доктор взглянул на листок, где записывалась температура, и, почувствовав новый прилив ненависти, сдержал дыхание, чтобы не говорить, но не выдержал и спросил грубо и задыхаясь:
– Отчего температура не записана?
– Нет, записана-с! – сказал мягко Михаил Захарыч, но, поглядев в листок и убедившись, что температура в самом деле не записана, он растерянно пожал плечами и пробормотал: – Не знаю-с, это, должно быть, Надежда Осиповна…
– И вчерашняя вечерняя не записана! – продолжал доктор. – Только пьянствуете, черт вас возьми! И сейчас вы пьяны, как сапожник! Где Надежда Осиповна?
Акушерки Надежды Осиповны не было в палатах, хотя она должна была каждое утро присутствовать при перевязках. Доктор поглядел вокруг себя, и ему стало казаться, что в палате не убрано, что все разбросано, ничего, что нужно, не сделано и что все так же топорщится, мнется и покрыто пухом, как противная жилетка фельдшера, и ему захотелось сорвать с себя белый фартук, накричать, бросить все, плюнуть и уйти. Но он сделал над собою усилие и продолжал обход.
За Герасимом следовал хирургический больной с воспалением клетчатки во всей правой руке. Этому нужно было сделать перевязку. Доктор сел перед ним на табурет и занялся рукой.
«Это вчера они гуляли на именинах… – думал он, медленно снимая повязку. – Погодите, я покажу вам именины! Впрочем, что я могу сделать? Ничего я не могу».
Он нащупал на вспухшей, багровой руке гнойник и сказал:
– Скальпель!
Михаил Захарыч, старавшийся показать, что он крепко стоит на ногах и годен для дела, рванулся с места и быстро подал скальпель.
– Не этот! Дайте из новых, – сказал доктор.
Фельдшер засеменил к стулу, на котором стоял ящик с перевязочным материалом, и стал торопливо рыться в нем. Он долго шептался о чем-то с сиделками, двигал ящиком по стулу, шуршал, что-то раза два уронил, а доктор сидел, ждал и чувствовал в своей спине сильное раздражение от шепота и шороха.
– Скоро же? – спросил он. – Вы, должно быть, их внизу забыли…
Фельдшер подбежал к нему и подал два скальпеля, причем не уберегся и дыхнул в его сторону.
– Это не те! – сказал раздраженно доктор. – Я говорю вам русским языком, дайте из новых. Впрочем, ступайте и проспитесь, от вас несет, как из кабака! Вы невменяемы!
– Каких же вам еще ножей нужно? – спросил раздраженно фельдшер и медленно пожал плечами.
Ему было досадно на себя и стыдно, что на него в упор глядят больные и сиделки, и, чтобы показать, что ему не стыдно, он принужденно усмехнулся и повторил:
– Каких же вам еще ножей нужно?
Доктор почувствовал на глазах слезы и дрожь в пальцах. Он сделал над собой усилие и проговорил дрожащим голосом:
– Ступайте проспитесь! Я не желаю говорить с пьяным…
– Вы можете только за дело с меня взыскивать, – продолжал фельдшер, – а ежели я, положим, выпивши, то никто не имеет права мне указывать. Ведь я служу? Что ж вам еще? Ведь служу?
Доктор вскочил и, не отдавая себе отчета в своих движениях, размахнулся и изо всей силы ударил фельдшера по лицу. Он не понимал, для чего он это делает, но почувствовал большое удовольствие оттого, что удар кулака пришелся как раз по лицу и что человек солидный, положительный, семейный, набожный и знающий себе цену покачнулся, подпрыгнул, как мячик, и сел на табурет. Ему страстно захотелось ударить еще раз, но, увидев около ненавистного лица бледные, встревоженные лица сиделок, он перестал ощущать удовольствие, махнул рукой и выбежал из палаты.
Во дворе встретилась ему шедшая в больницу Надежда Осиповна, девица лет двадцати семи, с бледно-желтым лицом и с распущенными волосами. Ее розовое ситцевое платье было сильно стянуто в подоле, и от этого шаги ее были очень мелки и часты. Она шуршала платьем, подергивала плечами в такт каждому своему шагу и покачивала головой так, как будто напевала мысленно что-то веселенькое.
«Ага, русалка!» – подумал доктор, вспомнив, что в больнице акушерку дразнят русалкой, и ему стало приятно от мысли, что он сейчас оборвет эту мелкошагающую, влюбленную в себя франтиху.
– Где это вы пропадаете? – крикнул он, поравнявшись с ней. – Отчего вы не в больнице? Температура не записана, везде беспорядок, фельдшер пьян, вы спите до двенадцати часов!.. Извольте искать себе другое место! Здесь вы больше не служите!
Придя на квартиру, доктор сорвал с себя белый фартук и полотенце, которым был подпоясан, со злобой швырнул то и другое в угол и заходил по кабинету.
– Боже, что за люди, что за люди! – проговорил он. – Это не помощники, а враги дела! Нет сил служить больше! Не могу! Я уйду!
Сердце его сильно билось, он весь дрожал и хотел плакать, и, чтобы избавиться от этих ощущений, он начал успокаивать себя мыслями о том, как он прав и как хорошо сделал, что ударил фельдшера. Прежде всего гадко то, думал доктор, что фельдшер поступил в больницу не просто, а по протекции своей тетки, служащей в нянюшках у председателя земской управы (противно бывает глядеть на эту влиятельную тетушку, когда она, приезжая лечиться, держит себя в больнице, как дома, и претендует на то, чтобы ее принимали не в очередь). Дисциплинирован фельдшер плохо, знает мало и совсем не понимает того, что знает. Он нетрезв, дерзок, нечистоплотен, берет с больных взятки и тайком продает земские лекарства. Всем также известно, что он занимается практикой и лечит у молодых мещан секретные болезни, причем употребляет какие-то собственные средства. Добро бы это был просто шарлатан, каких много, но это шарлатан убежденный и втайне протестующий. Тайком от доктора он ставит приходящим больным банки и пускает им кровь, на операциях присутствует с неумытыми руками, ковыряет в ранах всегда грязным зондом – этого достаточно, чтобы понять, как глубоко и храбро презирает он докторскую медицину с ее ученостью и педантизмом.
Дождавшись, когда пальцы перестали дрожать, доктор сел за стол и написал письмо к председателю управы: «Уважаемый Лев Трофимович! Если, по получении этого письма, ваша управа не уволит фельдшера Смирновского и не предоставит мне права самому выбирать себе помощников, то я сочту себя вынужденным (не без сожаления, конечно) просить вас не считать уже меня более врачом N-ской больницы и озаботиться приисканием мне преемника. Почтение Любовь Федоровне и Юсу. Уважающий Г. Овчинников». Прочитав это письмо, доктор нашел, что оно коротко и недостаточно холодно. К тому же почтение Любовь Федоровне и Юсу (так дразнили младшего сына председателя) в деловом, официальном письме было более чем неуместно.
«Какой тут к черту Юс?» – подумал доктор, изорвал письмо и стал придумывать другое. «Милостивый государь…» – думал он, садясь у открытого окна и глядя на уток с утятами, которые, покачиваясь и спотыкаясь, спешили по дороге, должно быть, к пруду; один утенок подобрал на дороге какую-то кишку, подавился и поднял тревожный писк; другой подбежал к нему, вытащил у него изо рта кишку и тоже подавился… Далеко около забора в кружевной тени, какую бросали на траву молодые липы, бродила кухарка Дарья и собирала щавель для зеленых щей… Слышались голоса… Кучер Зот с уздечкой в руке и больничный мужик Мануйло в грязном фартуке стояли около сарая, о чем-то разговаривали и смеялись.
«Это они о том, что я фельдшера ударил… – думал доктор. – Сегодня уже весь уезд будет знать об этом скандале… Итак: „Милостивый государь! Если ваша управа не уволит…“
Доктор отлично знал, что управа ни в каком случае не променяет его на фельдшера и скорее согласится не иметь ни одного фельдшера во всем уезде, чем лишиться такого превосходного человека, как доктор Овчинников. Наверное, тотчас же по получении письма Лев Трофимович прикатит к нему на тройке и начнет: «Да что вы это, батенька, вздумали? Голубушка, что же это такое, Христос с вами? Зачем? С какой стати? Где он? Подать его сюда, каналью! Прогнать! Обязательно прогнать! Чтоб завтра же его, подлеца, здесь не было!» Потом он пообедает с доктором, а после обеда ляжет вот на этом малиновом диване животом вверх, закроет лицо газетой и захрапит; выспавшись, напьется чаю и увезет к себе доктора ночевать. И вся история кончится тем, что и фельдшер останется в больнице, и доктор не подаст в отставку.
Доктору же в глубине души хотелось не такой развязки. Ему хотелось, чтобы фельдшерская тетушка восторжествовала и чтобы управа, невзирая на его восьмилетнюю добросовестную службу, без разговоров и даже с удовольствием приняла бы его отставку. Он мечтал о том, как он будет уезжать из больницы, к которой привык, как напишет письмо в газету «Врач», как товарищи поднесут ему сочувственный адрес…
На дороге показалась русалка. Мелко шагая и шурша платьем, она подошла к окну и спросила:
– Григорий Иваныч, сами будете принимать больных или без вас прикажете?
А глаза ее говорили: «Ты погорячился, но теперь успокоился, и тебе стыдно, но я великодушна и не замечаю этого».
– Хорошо, я сейчас, – сказал доктор.
Он опять надел фартук, подпоясался полотенцем и пошел в больницу.
«Нехорошо, что я убежал, когда ударил его… – думал он дорогой. – Вышло, как будто я сконфузился или испугался… Гимназиста разыграл… Очень нехорошо!»
Ему казалось, что когда он войдет в палату, то больным будет неловко глядеть на него и ему самому станет совестно, но, когда он вошел, больные покойно лежали на кроватях и едва обратили на него внимание. Лицо чахоточного Герасима выражало совершенное равнодушие и как бы говорило: «Он тебе не потрафил, ты его маненько поучил… Без этого, батюшка, нельзя».
Доктор вскрыл на багровой руке два гнойника и наложил повязку, потом отправился в женскую половину, где сделал одной бабе операцию в глазу, и все время за ним ходила русалка и помогала ему с таким видом, как будто ничего не случилось и все обстояло благополучно. После обхода палат началась приемка приходящих больных. В маленькой приемной доктора окно было открыто настежь. Стоило только сесть на подоконник и немножко нагнуться, чтобы увидеть на аршин от себя молодую траву. Вчера вечером был сильный ливень с грозой, а потому трава немного помята и лоснится. Тропинка, которая бежит недалеко от окна и ведет к оврагу, кажется умытой, и разбросанная по сторонам ее битая аптекарская посуда, тоже умытая, играет на солнце и испускает ослепительно яркие лучи. А дальше за тропинкой жмутся друг к другу молодые елки, одетые в пышные, зеленые платья, за ними стоят березы с белыми, как бумага, стволами, а сквозь слегка трепещущую от ветра зелень берез видно голубое, бездонное небо. Когда выглянешь в окно, то скворцы, прыгающие по тропинке, поворачивают в сторону окна свои глупые носы и решают: испугаться или нет? И, решив испугаться, они один за другим с веселым криком, точно потешаясь над доктором, не умеющим летать, несутся к верхушкам берез…
Сквозь тяжелый запах йодоформа чувствуется свежесть и аромат весеннего дня… Хорошо дышать!
– Анна Спиридонова! – вызвал доктор.
В приемную вошла молодая баба в красном платье и помолилась на образ.
– Что болит? – спросил доктор.
Баба недоверчиво покосилась на дверь, в которую вошла, и на дверцу, ведущую в аптеку, подошла поближе к доктору и шепнула:
– Детей нету!
– Кто еще не записывался? – крикнула в аптеке русалка. – Подходите записываться!
«Он уже тем скотина, – думал доктор, исследуя бабу, – что заставил меня драться первый раз в жизни. Я отродясь не дрался».
Анна Спиридонова ушла. После нее пришел старик с дурной болезнью, потом баба с тремя ребятишками в чесотке, и работа закипела. Фельдшер не показывался. За дверцей в аптеке, шурша платьем и звеня посудой, весело щебетала русалка; то и дело она входила в приемную, чтобы помочь на операции или взять рецепты, и все с таким видом, как будто все было благополучно.
«Она рада, что я ударил фельдшера, – думал доктор, прислушиваясь к голосу акушерки. – Ведь она жила с фельдшером, как кошка с собакой, и для нее праздник, если его уволят. И сиделки, кажется, рады… Как это противно!»
В самый разгар приемки ему стало казаться, что и акушерка, и сиделки, и даже больные нарочно стараются придать себе равнодушное и веселое выражение. Они как будто понимали, что ему стыдно и больно, но из деликатности делали вид, что не понимают. И он, желая показать им, что ему вовсе не стыдно, кричал сердито:
– Эй вы, там! Затворяйте дверь, а то сквозит!
А ему уж было стыдно и тяжело. Принявши сорок пять больных, он не спеша вышел из больницы. Акушерка, уже успевшая побывать у себя на квартире и надеть на плечи ярко-пунцовый платок, с папироской в зубах и с цветком в распущенных волосах, спешила куда-то со двора, вероятно, на практику или в гости. На пороге больницы сидели больные и молча грелись на солнышке. Скворцы по-прежнему шумели и гонялись за жуками. Доктор глядел по сторонам и думал, что среди всех этих ровных, безмятежных жизней, как два испорченных клавиша в фортепиано, резко выделялись и никуда не годились только две жизни: фельдшера и его. Фельдшер теперь, наверное, лег, чтобы проспаться, но никак не может уснуть от мысли, что он виноват, оскорблен и потерял место. Положение его мучительно. Доктор же, ранее никогда никого не бивший, чувствовал себя так, как будто навсегда потерял невинность. Он уже не обвинял фельдшера и не оправдывал себя, а только недоумевал: как это могло случиться, что он, порядочный человек, никогда не бивший даже собак, мог ударить? Придя к себе на квартиру, он лег в кабинете на диван, лицом к спинке, и стал думать таким образом:
«Он человек нехороший, вредный для дела; за три года, пока он служит, у меня накипело в душе, но тем не менее мой поступок ничем не может быть оправдан. Я воспользовался правом сильного. Он мой подчиненный, виноват и к тому же пьян, а я его начальник, прав и трезв… Значит, я сильнее. Во-вторых, я ударил его при людях, которые считают меня авторитетом, и таким образом я подал им отвратительный пример…»
Доктора позвали обедать… Он съел несколько ложек щей и, вставши из-за стола, опять лег на диван.
«Что же теперь делать? – продолжал он думать. – Надо возможно скорее дать ему удовлетворение… Но каким образом? Дуэли он, как практический человек, считает глупостью или не понимает их. Если в той самой палате, при сиделках и больных, попросить у него извинения, то это извинение удовлетворит только меня, а не его; он, человек дурной, поймет мое извинение как трусость и боязнь, что он пожалуется на меня начальству. К тому же это мое извинение вконец расшатает больничную дисциплину. Предложить ему денег? Нет, это безнравственно и похоже на подкуп. Если теперь, положим, обратиться за разрешением вопроса к нашему прямому начальству, то есть к управе… Она могла бы объявить мне выговор или уволить меня… Но этого она не сделает. Да и не совсем удобно вмешивать в интимные дела больницы управу, которая, кстати же, не имеет на это никакого права…»
Часа через три после обеда доктор шел к пруду купаться и думал:
«А не поступить ли мне так, как поступают все при подобных обстоятельствах? То есть пусть он подаст на меня в суд. Я безусловно виноват, оправдываться не стану, и мировой присудит меня к аресту. Таким образом оскорбленный будет удовлетворен, и те, которые считают меня авторитетом, увидят, что я был не прав».
Эта идея улыбнулась ему. Он обрадовался и стал думать, что вопрос решен благополучно и что более справедливого решения не может быть.
«Что ж, превосходно! – думал он, полезая в воду и глядя, как от него убегали стаи мелких, золотистых карасиков. – Пусть подает… Это для него тем более удобно, что наши служебные отношения уже порваны и одному из нас после этого скандала все равно уж нельзя оставаться в больнице…»
Вечером доктор приказал заложить шарабан, чтобы ехать к воинскому начальнику играть в винт. Когда он, в шляпе и в пальто, совсем уже готовый в путь, стоял у себя посреди кабинета и надевал перчатки, наружная дверь со скрипом отворилась, и кто-то бесшумно вошел в переднюю.
– Кто там? – спросил доктор.
– Это я-с… – глухо ответил вошедший.
У доктора вдруг застучало сердце, и весь он похолодел от стыда и какого-то непонятного страха. Фельдшер Михаил Захарыч (это был он) тихо кашлянул и несмело вошел в кабинет. Помолчав немного, он сказал глухим, виноватым голосом:
– Простите меня, Григорий Иваныч!
Доктор растерялся и не знал, что сказать. Он понял, что фельдшер пришел к нему унижаться и просить прощения не из христианского смирения и не ради того, чтобы своим смирением уничтожить оскорбителя, а просто из расчета: «Сделаю над собой усилие, попрошу прощения, и авось меня не прогонят и не лишат куска хлеба…» Что может быть оскорбительней для человеческого достоинства?
– Простите… – повторил фельдшер.
– Послушайте… – заговорил доктор, стараясь не глядеть на него и все еще не зная, что сказать. – Послушайте… Я вас оскорбил и… и должен понести наказание, то есть удовлетворить вас… Дуэлей вы не признаете… Впрочем, я сам не признаю дуэлей. Я вас оскорбил, и вы… вы можете подать на меня жалобу мировому судье, и я понесу наказание… А оставаться нам тут вдвоем нельзя… Кто-нибудь из нас, я или вы, должен выйти! («Боже мой! Я не то ему говорю! – ужаснулся доктор. – Как глупо, как глупо!») Одним словом, подавайте прошение! А служить вместе мы уже не можем!.. Я или вы… Завтра же подавайте!
Фельдшер поглядел исподлобья на доктора, и в его темных, мутных глазах вспыхнуло самое откровенное презрение. Он всегда считал доктора непрактическим, капризным мальчишкой, а теперь презирал его за дрожь, за непонятную суету в словах…
– И подам, – сказал он угрюмо и злобно.
– Да, и подавайте!
– А что ж вы думаете? Не подам? И подам… Вы не имеете права драться. Да и стыдились бы! Дерутся только пьяные мужики, а вы образованный…
В груди доктора неожиданно встрепенулась вся его ненависть, и он закричал не своим голосом:
– Убирайтесь вон!
Фельдшер нехотя тронулся с места (ему как будто хотелось еще что-то сказать), пошел в переднюю и остановился там в раздумье. И, что-то надумав, он решительно вышел…
– Как глупо, как глупо! – бормотал доктор по уходе его. – Как все это глупо и пошло!
Он чувствовал, что вел себя сейчас с фельдшером как мальчишка, и уж понимал, что все его мысли насчет суда не умны, не решают вопроса, а только осложняют его.
«Как глупо! – думал он, сидя в шарабане и потом играя у воинского начальника в винт. – Неужели я так мало образован и так мало знаю жизнь, что не в состоянии решить этого простого вопроса? Ну, что делать?»
На другой день утром доктор видел, как жена фельдшера садилась в повозку, чтобы куда-то ехать, и подумал: «Это она к тетушке. Пусть!»
Больница обходилась без фельдшера. Нужно было написать заявление в управу, но доктор все еще никак не мог придумать формы письма. Теперь смысл письма должен был быть таков: «Прошу уволить фельдшера, хотя виноват не он, а я». Изложить же эту мысль так, чтобы вышло не глупо и не стыдно, – для порядочного человека почти невозможно.
Дня через два или три доктору донесли, что фельдшер был с жалобой у Льва Трофимовича. Председатель не дал ему сказать ни одного слова, затопал ногами и проводил его криком: «Знаю я тебя! Вон! Не желаю слушать!» От Льва Трофимовича фельдшер поехал в управу и подал там ябеду, в которой, не упоминая о пощечине и ничего не прося для себя, доносил управе, что доктор несколько раз в его присутствии неодобрительно отзывался об управе и председателе, что лечит доктор не так, как нужно, ездит на участки неисправно и проч. Узнав об этом, доктор засмеялся и подумал: «Этакий дурак!» – и ему стало стыдно и жаль, что фельдшер делает глупости; чем больше глупостей делает человек в свою защиту, тем он, значит, беззащитнее и слабее.
Ровно через неделю после описанного утра доктор получил повестку от мирового судьи.
«Это уж совсем глупо… – думал он, расписываясь в получении. – Глупее и придумать ничего нельзя».
И когда он в пасмурное, тихое утро ехал к мировому, ему уж было не стыдно, а досадно и противно. Он злился и на себя, и на фельдшера, и на обстоятельства…
«Возьму и скажу на суде: убирайтесь вы все к черту! – злился он. – Вы все ослы, и ничего вы не понимаете!»
Подъехав к камере мирового, он увидел на пороге трех своих сиделок, вызванных в качестве свидетельниц, и русалку. При виде сиделок и жизнерадостной акушерки, которая от нетерпения переминалась с ноги на ногу и даже вспыхнула от удовольствия, когда увидела главного героя предстоящего процесса, сердитому доктору захотелось налететь на них ястребом и ошеломить: «Кто вам позволил уходить из больницы? Извольте сию минуту убираться домой!» – но он сдержал себя и, стараясь казаться покойным, пробрался сквозь толпу мужиков в камеру. Камера была пуста, и цепь мирового висела на спинке кресла. Доктор пошел в комнатку письмоводителя. Тут он увидел молодого человека с тощим лицом и в коломёнковом пиджаке с оттопыренными карманами – это был письмоводитель, и фельдшера, который сидел за столом и от нечего делать перелистывал справки о судимости. При входе доктора письмоводитель поднялся; фельдшер сконфузился и тоже поднялся.
– Александр Архипович еще не приходил? – спросил доктор конфузясь.
– Нет еще. Они дома… – ответил письмоводитель.
Камера помещалась в усадьбе мирового судьи, в одном из флигелей, а сам судья жил в большом доме. Доктор вышел из камеры и не спеша направился к дому. Александра Архиповича застал он в столовой за самоваром. Мировой без сюртука и без жилетки, с расстегнутой на груди рубахой стоял около стола и, держа в обеих руках чайник, наливал себе в стакан темного, как кофе, чаю; увидев гостя, он быстро придвинул к себе другой стакан, налил его и, не здороваясь, спросил:
– Вам с сахаром или без сахару?
Когда-то, очень давно, мировой служил в кавалерии: теперь уж он за свою долголетнюю службу по выборам состоял в чине действительного статского, но все еще не бросал ни своего военного мундира, ни военных привычек. У него были длинные, полицмейстерские усы, брюки с кантами, и все его поступки и слова были проникнуты военной грацией. Говорил он, слегка откинув назад голову и уснащая речь сочным, генеральским «мнэээ…», поводил плечами и играл глазами; здороваясь или давая закурить, шаркал подошвами и при ходьбе так осторожно и нежно звякал шпорами, как будто каждый звук шпор причинял ему невыносимую боль. Усадив доктора за чай, он погладил себя по широкой груди и по животу, глубоко вздохнул и сказал:
– Н-да-с… Может быть, желаете мнээ… водки выпить и закусить? Мнэ-э?
– Нет, спасибо, я сыт.
Оба чувствовали, что им не миновать разговора о больничном скандале, и обоим было неловко. Доктор молчал. Мировой грациозным манием руки поймал комара, укусившего его в грудь, внимательно оглядел его со всех сторон и выпустил, потом глубоко вздохнул, поднял глаза на доктора и спросил с расстановкой.
– Послушайте, отчего вы его не прогоните?
Доктор уловил в его голосе сочувственную нотку; ему вдруг стало жаль себя, и он почувствовал утомление и разбитость от передряг, пережитых в последнюю неделю. С таким выражением, как будто терпение его, наконец, лопнуло, он поднялся из-за стола и, раздраженно морщась, пожимая плечами, сказал:
– Прогнать! Как вы все рассуждаете, ей-богу… Удивительно, как вы все рассуждаете! Да разве я могу его прогнать? Вы тут сидите и думаете, что в больнице я у себя хозяин и делаю все, что хочу! Удивительно, как вы все рассуждаете! Разве я могу прогнать фельдшера, если его тетка служит в няньках у Льва Трофимыча и если Льву Трофимычу нужны такие шептуны и лакеи, как этот Захарыч? Что я могу сделать, если земство ставит нас, врачей, ни в грош, если оно на каждом шагу бросает нам под ноги поленья? Черт их подери, я не желаю служить, вот и все! Не желаю!
– Ну, ну, ну… Вы, душа моя, придаете уж слишком много значения, так сказать…
– Предводитель изо всех сил старается доказать, что все мы нигилисты, шпионит и третирует нас, как своих писарей. Какое он имеет право приезжать в мое отсутствие в больницу и допрашивать там сиделок и больных? Разве это не оскорбительно? А этот ваш юродивый Семен Алексеич, который сам пашет и не верует в медицину, потому что здоров и сыт, как бык, громогласно и в глаза обзывает нас дармоедами и попрекает куском хлеба! Да черт его возьми! Я работаю от утра до ночи, отдыха не знаю, я нужнее здесь, чем все эти вместе взятые юродивые, святоши, реформаторы и прочие клоуны! Я потерял на работе здоровье, а меня вместо благодарности попрекают куском хлеба! Покорнейше вас благодарю! И каждый считает себя вправе совать свой нос не в свое дело, учить, контролировать! Этот ваш член управы Камчатский в земском собрании делал врачам выговор за то, что у нас выходит много йодистого калия, и рекомендовал нам быть осторожными при употреблении кокаина! Что он понимает, я вас спрашиваю? Какое ему дело? Отчего он не учит вас судить?
– Но… но ведь он хам, душа моя, холуй… На него нельзя обращать внимание…
– Хам, холуй, однако же вы выбрали этого свистуна в члены и позволяете ему всюду совать свой нос! Вы вот улыбаетесь! По-вашему, все это мелочи, пустяки, но поймите же, что этих мелочей так много, что из них сложилась вся жизнь, как из песчинок гора! Я больше не могу! Сил нет, Александр Архипыч! Еще немного, и, уверяю вас, я не только бить по мордасам, но и стрелять в людей буду! Поймите, что у меня не проволоки, а нервы. Я такой же человек, как и вы…
Глаза доктора налились слезами, и голос дрогнул; он отвернулся и стал глядеть в окно. Наступило молчание.
– Н-да-с, почтеннейший… – пробормотал мировой в раздумье. – С другой же стороны, если рассудить хладнокровно, то… (мировой поймал комара и, сильно прищурив глаза, оглядел его со всех сторон, придавил и бросил в полоскательную чашку)… то, видите ли, и прогонять его нет резона. Прогоните, а на его место сядет другой такой же, да еще, пожалуй, хуже. Перемените вы сто человек, а хорошего не найдете… Все мерзавцы (мировой погладил себя под мышками и медленно закурил папиросу). С этим злом надо мириться. Я должен вам сказать, что-о в настоящее время честных и трезвых работников, на которых вы можете положиться, можно найти только среди интеллигенции и мужиков, то есть среди двух этих крайностей – и только. Вы, так сказать, можете найти честнейшего врача, превосходнейшего педагога, честнейшего пахаря или кузнеца, но средние люди, то есть, если так выразиться, люди, ушедшие от народа и не дошедшие до интеллигенции, составляют элемент ненадежный. Весьма трудно поэтому найти честного и трезвого фельдшера, писаря, приказчика и прочее. Чрезвычайно трудно! Я служу-с в юстиции со времен царя Гороха и во все время своей службы не имел еще ни разу честного и трезвого писаря, хотя и прогнал их на своем веку видимо-невидимо. Народ без всякой моральной дисциплины, не говоря уж о-о-о-о принципах, так сказать…
«Зачем он это говорит? – подумал доктор. – Не то мы с ним говорим, что нужно».
– Вот не дальше, как в прошлую пятницу, – продолжал мировой, – мой Дюжинский учинил такую, можете себе представить, штуку. Созвал он к себе вечером каких-то пьяниц, черт их знает, кто они такие, и всю ночь пропьянствовал с ними в камере. Как вам это понравится? Я ничего не имею против питья. Черт с тобой, пей, но зачем пускать в камеру неизвестных людей? Ведь, судите сами, выкрасть из дел какой-нибудь документ, вексель и прочее – минутное дело! И что ж вы думаете? После той оргии я должен был дня два проверять все дела, не пропало ли что… Ну, что ж вы поделаете со стервецом? Прогнать? Хорошо-с… А чем вы поручитесь, что другой не будет хуже?
– Да и как его прогонишь? – сказал доктор. – Прогнать человека легко только на словах… Как я прогоню и лишу его куска хлеба, если знаю, что он семейный, голодный? Куда он денется со своей семьей?
«Черт знает что, не то я говорю!» – подумал он, и ему показалось странным, что он никак не может укрепить свое сознание на какой-нибудь одной, определенной мысли или на каком-нибудь одном чувстве. «Это оттого, что я неглубок и не умею мыслить», – подумал он.
– Средний человек, как вы назвали, не надежен, – продолжал он. – Мы его гоним, браним, бьем по физиономии, но ведь надо же войти и в его положение. Он ни мужик, ни барин, ни рыба ни мясо; прошлое у него горькое, в настоящем у него только двадцать пять рублей в месяц, голодная семья и подчиненность, в будущем те же двадцать пять рублей и зависимое положение, прослужи он хоть сто лет. У него ни образования, ни собственности; читать и ходить в церковь ему некогда, нас он не слышит, потому что мы не подпускаем его к себе близко. Так и живет изо дня в день до самой смерти без надежд на лучшее, обедая впроголодь, боясь, что вот-вот его прогонят из казенной квартиры, не зная, куда приткнуть своих детей. Ну, как тут, скажите, не пьянствовать, не красть? Где тут взяться принципам!
«Мы, кажется, уж социальные вопросы решаем, – подумал он. – И как нескладно, господи! Да и к чему все это?»
Послышались звонки. Кто-то въехал во двор и подкатил сначала к камере, потом к крыльцу большого дома.
– Сам приехал, – сказал мировой, поглядев в окно. – Ну, будет вам на орехи!
– А вы, пожалуйста, отпустите меня поскорее… – попросил доктор. – Если можно, то рассмотрите мое дело не в очередь. Ей-богу, некогда.
– Хорошо, хорошо… Только я еще не знаю, батенька, подсудно ли мне это дело. Отношения ведь у вас с фельдшером, так сказать, служебные, и к тому же вы смазали его при исполнении служебных обязанностей. Впрочем, не знаю хорошенько. Спросим сейчас у Льва Трофимовича.
Послышались торопливые шаги и тяжелое дыхание, и в дверях показался Лев Трофимович, председатель, седой и лысый старик с длинной бородой и красными веками.
– Мое почтение… – сказал он, задыхаясь. – Уф, батюшки! Вели-ка, судья, подать мне квасу! Смерть моя…
Он опустился в кресло, но тотчас же быстро вскочил, подбежал к доктору и, сердито тараща на него глаза, заговорил визгливым тенором:
– Очень и чрезвычайно вам благодарен, Григорий Иваныч! Одолжили, благодарю вас! Во веки веков аминь, не забуду! Так приятели не делают! Как угодно, а это даже недобросовестно с вашей стороны! Отчего вы меня не известили? Что я вам? Кто? Враг или посторонний человек? Враг я вам? Разве я вам когда-нибудь в чем отказывал? А?
Тараща глаза и шевеля пальцами, председатель напился квасу, быстро вытер губы и продолжал:
– Очень, очень вам благодарен! Отчего вы меня не известили? Если бы вы имели ко мне чувства, приехали бы ко мне и по-дружески: «Голубушка, Лев Трофимыч, так и так, мол… Такого сорта история и прочее…» Я бы вам в один миг все устроил, и не понадобилось бы этого скандала… Тот дурак, словно белены объелся, шляется по уезду, кляузничает да сплетничает с бабами, а вы, срам сказать, извините за выражение, затеяли черт знает что, заставили этого дурака подавать в суд! Срам, чистый срам! Все меня спрашивают, в чем дело, как и что, а я председатель и ничего не знаю, что у вас там делается. Вам до меня и надобности нет! Очень, очень вам благодарен, Григорий Иваныч!
Председатель поклонился так низко, что даже побагровел весь, потом подошел к окну и крикнул:
– Жигалов, позови сюда Михаила Захарыча! Скажи, чтоб сию минуту сюда шел! Нехорошо-с! – сказал он, отходя от окна. – Даже жена моя обиделась, а уж на что, кажется, благоволит к вам. Уж очень вы, господа, умствуете! Все норовите, как бы это по-умному, да по принципам, да со всякими выкрутасами, а выходит у вас только одно: тень наводите…
– Вы норовите все не по-умному, а у вас-то что выходит? – спросил доктор.
– Что у нас выходит? А то выходит, что если бы я сейчас сюда не приехал, то вы бы и себя осрамили и нас… Счастье ваше, что я приехал!
Вошел фельдшер и остановился у порога. Председатель стоял к нему боком, засунул руки в карманы, откашлялся и сказал:
– Проси сейчас у доктора прощения!
Доктор покраснел и выбежал в другую комнату.
– Вот видишь, доктор не хочет принимать твоих извинений! – продолжал председатель. – Он желает, чтоб ты не на словах, а на деле выказал свое раскаяние. Даешь слово, что с сегодняшнего дня будешь слушаться и вести трезвую жизнь?
– Даю… – угрюмо пробасил фельдшер.
– Смотри же! Бо-оже тебя сохрани! У меня в один миг потеряешь место! Если что случится, не проси милости… Ну, ступай домой…
Для фельдшера, который уже помирился со своим несчастьем, такой поворот дела был неожиданным сюрпризом. Он даже побледнел от радости. Что-то он хотел сказать и протянул вперед руку, но ничего не сказал, а тупо улыбнулся и вышел.
– Вот и все! – сказал председатель. – И суда никакого не нужно.
Он облегченно вздохнул и с таким видом, как будто только что совершил очень трудное и важное дело, оглядел самовар и стаканы, потер руки и сказал:
– Блажени миротворцы… Налей-ка мне, Саша, стаканчик. А впрочем, вели сначала дать чего-нибудь закусить… Ну, и водочки…
– Господа, это невозможно! – сказал доктор, входя в столовую, все еще красный и ломая руки. – Это… это комедия! Это гадко! Я не могу. Лучше двадцать раз судиться, чем решать вопросы так водевильно. Нет, я не могу!
– Что же вам нужно? – огрызнулся на него председатель. – Прогнать? Извольте, я прогоню…
– Нет, не прогнать… Я не знаю, что мне нужно, но так, господа, относиться к жизни… ах, боже мой! Это мучительно!
Доктор нервно засуетился и стал искать своей шляпы и, не найдя ее, в изнеможении опустился в кресло.
– Гадко! – повторил он.
– Душа моя, – зашептал мировой, – отчасти я вас не понимаю, так сказать… Ведь вы виноваты в этом инциденте! Хлобыстать по физиономии в конце девятнадцатого века – это, некоторым образом, как хотите, не того… Он мерзавец, но-о-о согласитесь, и вы поступили неосторожно…
– Конечно! – согласился председатель.
Подали водку и закуску. На прощанье доктор машинально выпил рюмку и закусил редиской. Когда он возвращался к себе в больницу, мысли его заволакивались туманом, как трава в осеннее утро.
«Неужели, – думал он, – в последнюю неделю было так много выстрадано, передумано и сказано только для того, чтобы все кончилось так нелепо и пошло! Как глупо! Как глупо!»
Ему было стыдно, что в свой личный вопрос он впутал посторонних людей, стыдно за слова, которые он говорил этим людям, за водку, которую он выпил по привычке пить и жить зря, стыдно за свой непонимающий, неглубокий ум… Вернувшись в больницу, он тотчас же принялся за обход палат. Фельдшер ходил около него, ступая мягко, как кот, и мягко отвечая на вопросы… И фельдшер, и русалка, и сиделки делали вид, что ничего не случилось и что все было благополучно. И сам доктор изо всех сил старался казаться равнодушным. Он приказывал, сердился, шутил с больными, а в мозгу его копошилось:
«Глупо, глупо, глупо…»
1888Скучная история
I
Есть в России заслуженный профессор Николай Степанович такой-то, тайный советник и кавалер; у него так много русских и иностранных орденов, что когда ему приходится надевать их, то студенты величают его иконостасом. Знакомство у него самое аристократическое; по крайней мере, за последние двадцать пять – тридцать лет в России нет и не было такого знаменитого ученого, с которым он не был бы коротко знаком. Теперь дружить ему не с кем, но если говорить о прошлом, то длинный список его славных друзей заканчивается такими именами, как Пирогов, Кавелин и поэт Некрасов, дарившие его самой искренней и теплой дружбой. Он состоит членом всех русских и трех заграничных университетов. И прочее и прочее. Все это и многое, что еще можно было бы сказать, составляет то, что называется моим именем.
Это мое имя популярно. В России оно известно каждому грамотному человеку, а за границею оно упоминается с кафедр с прибавкою известный и почтенный. Принадлежит оно к числу тех немногих счастливых имен, бранить которые или упоминать их всуе в публике и в печати считается признаком дурного тона. Так это и должно быть. Ведь с моим именем тесно связано понятие о человеке знаменитом, богато одаренном и, несомненно, полезном. Я трудолюбив и вынослив, как верблюд, а это важно, и талантлив, а это еще важнее. К тому же, к слову сказать, я воспитанный скромный и честный малый. Никогда я не совал своего носа в литературу и в политику, не искал популярности в полемике с невеждами, не читал речей ни на обедах, ни на могилах своих товарищей… Вообще на моем ученом имени нет ни одного пятна и жаловаться ему не на что. Оно счастливо.
Носящий это имя, то есть я, изображаю из себя человека шестидесяти двух лет, с лысой головой, с вставными зубами и с неизлечимым tic’oм. Насколько блестяще и красиво мое имя, настолько тускл и безобразен я сам. Голова и руки у меня трясутся от слабости; шея, как у одной тургеневской героини, похожа на ручку контрабаса, грудь впалая, спина узкая. Когда я говорю или читаю, рот у меня кривится в сторону; когда улыбаюсь – все лицо покрывается старчески-мертвенными морщинами. Ничего нет внушительного в моей жалкой фигуре; только разве когда бываю я болен tic’oм, у меня появляется какое-то особенное выражение, которое у всякого при взгляде на меня, должно быть, вызывает суровую внушительную мысль: «По-видимому, этот человек скоро умрет».
Читаю я по-прежнему не худо; как и прежде, я могу удерживать внимание слушателей в продолжение двух часов. Моя страстность, литературность изложения и юмор делают почти незаметными недостатки моего голоса, а он у меня сух, резок и певуч, как у ханжи. Пишу же я дурно. Тот кусочек моего мозга, который заведует писательскою способностью, отказался служить. Память моя ослабела, в мыслях недостаточно последовательности, и, когда я излагаю их на бумаге, мне всякий раз кажется, что я утерял чутье к их органической связи, конструкция однообразна, фраза скудна и робка. Часто пишу я не то, что хочу; когда пишу конец, не помню начала. Часто я забываю обыкновенные слова, и всегда мне приходится тратить много энергии, чтобы избегать в письме лишних фраз и ненужных вводных предложений, – то и другое ясно свидетельствует об упадке умственной деятельности. И замечательно, чем проще письмо, тем мучительнее мое напряжение. За научной статьей я чувствую себя гораздо свободнее и умнее, чем за поздравительным письмом или докладной запиской. Еще одно: писать по-немецки или английски для меня легче, чем по-русски.
Что касается моего теперешнего образа жизни, то прежде всего я должен отметить бессонницу, которою страдаю в последнее время. Если бы меня спросили: что составляет теперь главную и основную черту твоего существования? Я ответил бы: бессонница. Как и прежде, по привычке, ровно в полночь я раздеваюсь и ложусь в постель. Засыпаю я скоро, но во втором часу просыпаюсь, и с таким чувством, как будто совсем не спал. Приходится вставать с постели и зажигать лампу. Час или два я хожу из угла в угол по комнате и рассматриваю давно знакомые картины и фотографии. Когда надоедает ходить, сажусь за свой стол. Сижу я неподвижно, ни о чем не думая и не чувствуя никаких желаний; если передо мной лежит книга, то машинально я придвигаю ее к себе и читаю без всякого интереса. Так, недавно в одну ночь я прочел машинально целый роман под странным названием: «О чем пела ласточка». Или же я, чтобы занять свое внимание, заставляю себя считать до тысячи, или воображаю лицо кого-нибудь из товарищей и начинаю вспоминать: в каком году и при каких обстоятельствах он поступил на службу? Люблю прислушиваться к звукам. То за две комнаты от меня быстро проговорит что-нибудь в бреду моя дочь Лиза, то жена пройдет через залу со свечой и непременно уронит коробку со спичками, то скрипнет рассыхающийся шкап или неожиданно загудит горелка в лампе – и все эти звуки почему-то волнуют меня.
Не спать ночью – значит каждую минуту сознавать себя ненормальным, а потому я с нетерпением жду утра и дня, когда я имею право не спать. Проходит много томительного времени, прежде чем на дворе закричит петух. Это мой первый благовеститель. Как только он прокричит, я уже знаю, что через час внизу проснется швейцар и, сердито кашляя, пойдет зачем-то вверх по лестнице. А потом за окнами начнет мало-помалу бледнеть воздух, раздадутся на улице голоса…
День начинается у меня приходом жены. Она входит ко мне в юбке, непричесанная, но уже умытая, пахнущая цветочным одеколоном, и с таким видом, как будто вошла нечаянно, и всякий раз говорит одно и то же:
– Извини, я на минутку… Ты опять не спал?
Затем она тушит лампу, садится около стола и начинает говорить. Я не пророк, но заранее знаю, о чем будет речь. Каждое утро одно и то же. Обыкновенно после тревожных расспросов о моем здоровье она вдруг вспоминает о нашем сыне офицере, служащем в Варшаве. После двадцатого числа каждого месяца мы высылаем ему по пятьдесят рублей – это главным образом и служит темою для нашего разговора.
– Конечно, это нам тяжело, – вздыхает жена, – но пока он окончательно не стал на ноги, мы обязаны помогать ему. Мальчик на чужой стороне, жалованье маленькое… Впрочем, если хочешь, в будущем месяце мы пошлем ему не пятьдесят, а сорок. Как ты думаешь?
Ежедневный опыт мог бы убедить жену, что расходы не становятся меньше оттого, что мы часто говорим о них, но жена моя не признает опыта и аккуратно каждое утро рассказывает и о нашем офицере, и о том, что хлеб, слава богу, стал дешевле, а сахар подорожал на две копейки – и все это таким тоном, как будто сообщает мне новость.
Я слушаю, машинально поддакиваю, и, вероятно, оттого, что не спал ночь, странные, ненужные мысли овладевают мной. Я смотрю на свою жену и удивляюсь, как ребенок. В недоумении я спрашиваю себя: неужели эта старая, очень полная, неуклюжая женщина, с тупым выражением мелочной заботы и страха перед куском хлеба, со взглядом, отуманенным постоянными мыслями о долгах и нужде, умеющая говорить только о расходах и улыбаться только дешевизне, – неужели эта женщина была когда-то той самой тоненькой Варею, которую я страстно полюбил за хороший, ясный ум, за чистую душу, красоту и, как Отелло Дездемону, за «состраданье» к моей науке? Неужели это та самая жена моя Варя, которая когда-то родила мне сына?
Я напряженно всматриваюсь в лицо сырой, неуклюжей старухи, ищу в ней свою Варю, но от прошлого у ней уцелел только страх за мое здоровье да еще манера мое жалованье называть нашим жалованьем, мою шапку – нашей шапкой. Мне больно смотреть на нее, и, чтобы утешить ее хоть немного, я позволяю ей говорить что угодно и даже молчу, когда она несправедливо судит о людях или журит меня за то, что я не занимаюсь практикой и не издаю учебников.
Кончается наш разговор всегда одинаково. Жена вдруг вспоминает, что я еще не пил чаю, и пугается.
– Что ж это я сижу? – говорит она, поднимаясь. – Самовар давно на столе, а я тут болтаю. Какая я стала беспамятная, господи!
Она быстро идет и останавливается у двери, чтобы сказать:
– Мы Егору должны за пять месяцев. Ты это знаешь? Не следует запускать жалованья прислуге, сколько раз я говорила! Отдать за месяц десять рублей гораздо легче, чем за пять месяцев – пятьдесят!
Выйдя за дверь, она опять останавливается и говорит:
– Никого мне так не жаль, как нашу бедную Лизу. Учится девочка в консерватории, постоянно в хорошем обществе, а одета бог знает как. Такая шубка, что на улицу стыдно показаться. Будь она чья-нибудь другая, это бы еще ничего, но ведь все знают, что ее отец знаменитый профессор, тайный советник!
И, попрекнув меня моим именем и чином, она наконец уходит. Так начинается мой день. Продолжается он не лучше.
Когда я пью чай, ко мне входит моя Лиза, в шубке, в шапочке и с нотами, уже совсем готовая, чтобы идти в консерваторию. Ей двадцать два года. На вид она моложе, хороша собой и немножко похожа на мою жену в молодости. Она нежно целует меня в висок и в руку и говорит:
– Здравствуй, папочка. Ты здоров?
В детстве она очень любила мороженое, и мне часто приходилось водить ее в кондитерскую. Мороженое для нее было мерилом всего прекрасного. Если ей хотелось похвалить меня, то она говорила: «Ты, папа, сливочный». Один пальчик назывался у нее фисташковым, другой сливочным, третий малиновым и т. д. Обыкновенно, когда по утрам она приходила ко мне здороваться, я сажал ее к себе на колени и, целуя ее пальчики, приговаривал:
– Сливочный… фисташковый… лимонный…
И теперь, по старой памяти, я целую пальцы Лизы и бормочу: «Фисташковый… сливочный… лимонный…», но выходит у меня совсем не то. Я холоден, как мороженое, и мне стыдно. Когда входит ко мне дочь и касается губами моего виска, я вздрагиваю, точно в висок жалит меня пчела, напряженно улыбаюсь и отворачиваю свое лицо. С тех пор как я страдаю бессонницей, в моем мозгу гвоздем сидит вопрос: дочь моя часто видит, как я, старик, знаменитый человек, мучительно краснею оттого, что должен лакею; она видит, как часто забота о мелких долгах заставляет меня бросать работу и по целым часам ходить из угла в угол и думать, но отчего же она ни разу тайком от матери не пришла ко мне и не шепнула: «Отец, вот мои часы, браслеты, сережки, платья… Заложи все это, тебе нужны деньги…»? Отчего она, видя, как я и мать, поддавшись ложному чувству, стараемся скрыть от людей свою бедность, отчего она не откажется от дорогого удовольствия заниматься музыкой? Я бы не принял ни часов, ни браслетов, ни жертв, храни меня бог, – мне не это нужно.
Кстати, вспоминаю я и про своего сына, варшавского офицера. Это умный, честный и трезвый человек. Но мне мало этого. Я думаю, если бы у меня был отец старик и если бы я знал, что у него бывают минуты, когда он стыдится своей бедности, то офицерское место я отдал бы кому-нибудь другому, а сам нанялся бы в работники. Подобные мысли о детях отравляют меня. К чему они? Таить в себе злое чувство против обыкновенных людей за то, что они не герои, может только узкий или озлобленный человек. Но довольно об этом.
В без четверти десять нужно идти к моим милым мальчикам читать лекцию. Одеваюсь и иду по дороге, которая знакома мне уже тридцать лет и имеет для меня свою историю. Вот большой серый дом с аптекой; тут когда-то стоял маленький домик, а в нем была портерная; в этой портерной я обдумывал свою диссертацию и написал первое любовное письмо к Варе. Писал карандашом, на листе с заголовком «Historia morbi».[13] Вот бакалейная лавочка; когда-то хозяйничал в ней жидок, продававший мне в долг папиросы, потом толстая баба, любившая студентов за то, что «у каждого из них мать есть»; теперь сидит рыжий купец, очень равнодушный человек, пьющий чай из медного чайника. А вот мрачные, давно не ремонтированные университетские ворота; скучающий дворник в тулупе, метла, кучи снега… На свежего мальчика, приехавшего из провинции и воображающего, что храм науки в самом деле храм, такие ворота не могут произвести здорового впечатления. Вообще ветхость университетских построек, мрачность коридоров, копоть стен, недостаток света, унылый вид ступеней, вешалок и скамей в истории русского пессимизма занимают одно из первых мест на ряду причин предрасполагающих… Вот и наш сад. С тех пор как я был студентом, он, кажется, не стал ни лучше, ни хуже. Я его не люблю. Было бы гораздо умнее, если бы вместо чахоточных лип, желтой акации и редкой стриженой сирени росли тут высокие сосны и хорошие дубы. Студент, настроение которого в большинстве создается обстановкой, на каждом шагу, там, где он учится, должен видеть перед собою только высокое, сильное и изящное… Храни его бог от тощих деревьев, разбитых окон, серых стен и дверей, сбитых рваной клеенкой.
Когда подхожу я к своему крыльцу, дверь распахивается и меня встречает мой старый сослуживец, сверстник и тезка швейцар Николай. Впустив меня, он крякает и говорит:
– Мороз, ваше превосходительство!
Или же, если моя шуба мокрая, то:
– Дождик, ваше превосходительство!
Затем он бежит впереди меня и отворяет на моем пути все двери. В кабинете он бережно снимает с меня шубу и в это время успевает сообщить мне какую-нибудь университетскую новость. Благодаря короткому знакомству, какое существует между всеми университетскими швейцарами и сторожами, ему известно все, что происходит на четырех факультетах, в канцелярии, в кабинете ректора, в библиотеке. Чего только он не знает! Когда у нас злобою дня бывает, например, отставка ректора или декана, то я слышу, как он, разговаривая с молодыми сторожами, называет кандидатов и тут же поясняет, что такого-то не утвердит министр, такой-то сам откажется, потом вдается в фантастические подробности о каких-то таинственных бумагах, полученных в канцелярии, о секретном разговоре, бывшем якобы у министра с попечителем, и т. п. Если исключить эти подробности, то в общем он почти всегда оказывается правым. Характеристики, даваемые им каждому из кандидатов, своеобразны, но тоже верны. Если вам нужно узнать, в каком году кто защищал диссертацию, поступил на службу, вышел в отставку или умер, то призовите к себе на помощь громадную память этого солдата, и он не только назовет вам год, месяц и число, но и сообщит также подробности, которыми сопровождалось то или другое обстоятельство. Так помнить может только тот, кто любит.
Он хранитель университетских преданий. От своих предшественников-швейцаров он получил в наследство много легенд из университетской жизни, прибавил к этому богатству много своего добра, добытого за время службы, и если хотите, то он расскажет вам много длинных и коротких историй. Он может рассказать о необыкновенных мудрецах, знавших всё, о замечательных тружениках, не спавших по неделям, о многочисленных мучениках и жертвах науки; добро торжествует у него над злом, слабый всегда побеждает сильного, мудрый глупого, скромный гордого, молодой старого… Нет надобности принимать все эти легенды и небылицы за чистую монету, но процедите их, и у вас на фильтре останется то, что нужно: наши хорошие традиции и имена истинных героев, признанных всеми.
В нашем обществе все сведения о мире ученых исчерпываются анекдотами о необыкновенной рассеянности старых профессоров и двумя-тремя остротами, которые приписываются то Груберу, то мне, то Бабухину. Для образованного общества этого мало. Если бы оно любило науку, ученых и студентов так, как Николай, то его литература давно бы уже имела целые эпопеи, сказания и жития, каких, к сожалению, она не имеет теперь.
Сообщив мне новость, Николай придает своему лицу строгое выражение, и у нас начинается деловой разговор. Если бы в это время кто-нибудь посторонний послушал, как Николай свободно обращается с терминологией, то, пожалуй, мог бы подумать, что это ученый, замаскированный солдатом. Кстати сказать, толки об учености университетских сторожей сильно преувеличены. Правда, Николай знает больше сотни латинских названий, умеет собрать скелет, иногда приготовить препарат, рассмешить студентов какой-нибудь длинной ученой цитатой, но, например, незамысловатая теория кровообращения для него и теперь так же темна, как двадцать лет назад.
За столом в кабинете, низко нагнувшись над книгой или препаратом, сидит мой прозектор Петр Игнатьевич, трудолюбивый, скромный, но бесталанный человек, лет тридцати пяти, уже плешивый и с большим животом. Работает он от утра до ночи, читает массу, отлично помнит все прочитанное – и в этом отношении он не человек, а золото; в остальном же прочем – это ломовой конь, или, как иначе говорят, ученый тупица. Характерные черты ломового коня, отличающие его от таланта, таковы: кругозор его тесен и резко ограничен специальностью; вне своей специальности он наивен, как ребенок. Помнится, как-то утром я вошел в кабинет и сказал:
– Представьте, какое несчастье! Говорят, Скобелев умер.
Николай перекрестился, а Петр Игнатьевич обернулся ко мне и спросил:
– Какой это Скобелев?
В другой раз – это было несколько раньше – я объявил, что умер профессор Перов. Милейший Петр Игнатьевич спросил:
– А что он читал?
Кажется, запой у него под самым ухом Патти, напади на Россию полчища китайцев, случись землетрясение, он не пошевельнется ни одним членом и преспокойно будет смотреть прищуренным глазом в свой микроскоп. Одним словом, до Гекубы ему нет никакого дела. Я бы дорого дал, чтобы посмотреть, как этот сухарь спит со своей женой.
Другая черта: фанатическая вера в непогрешимость науки и главным образом всего того, что пишут немцы. Он уверен в самом себе, в своих препаратах, знает цель жизни и совершенно незнаком с сомнениями и разочарованиями, от которых седеют таланты. Рабское поклонение авторитетам и отсутствие потребности самостоятельно мыслить. Разубедить его в чем-нибудь трудно, спорить с ним невозможно. Извольте-ка поспорить с человеком, который глубоко убежден, что самая лучшая наука – медицина, самые лучшие люди – врачи, самые лучшие традиции – медицинские. От недоброго медицинского прошлого уцелела только одна традиция – белый галстук, который носят теперь доктора; для ученого же и вообще образованного человека могут существовать только традиции общеуниверситетские, без всякого деления их на медицинские, юридические и т. п., но Петру Игнатьевичу трудно согласиться с этим, и он готов спорить с вами до Страшного суда.
Будущность его представляется мне ясно. За всю свою жизнь он приготовит несколько сотен препаратов необыкновенной чистоты, напишет много сухих, очень приличных рефератов, сделает с десяток добросовестных переводов, но пороха не выдумает. Для пороха нужны фантазия, изобретательность, умение угадывать, а у Петра Игнатьевича нет ничего подобного. Короче говоря, это не хозяин в науке, а работник.
Я, Петр Игнатьевич и Николай говорим вполголоса. Нам немножко не по себе. Чувствуешь что-то особенное, когда за дверью морем гудит аудитория. За тридцать лет я не привык к этому чувству и испытываю его каждое утро. Я нервно застегиваю сюртук, задаю Николаю лишние вопросы, сержусь… Похоже на то, как будто я трушу, но это не трусость, а что-то другое, чего я не в состоянии ни назвать, ни описать.
Без всякой надобности я смотрю на часы и говорю:
– Что ж? Надо идти.
И мы шествуем в таком порядке: впереди идет Николай с препаратами или с атласами, за ним я, а за мною, скромно поникнув головою, шагает ломовой конь; или же, если нужно, впереди на носилках несут труп, за трупом идет Николай и т. д. При моем появлении студенты встают, потом садятся, и шум моря внезапно стихает. Наступает штиль.
Я знаю, о чем буду читать, но не знаю, как буду читать, с чего начну и чем кончу. В голове нет ни одной готовой фразы. Но стоит мне только оглядеть аудиторию (она построена у меня амфитеатром) и произнести стереотипное: «В прошлой лекции мы остановились на…», как фразы длинной вереницей вылетают из моей души и – пошла писать губерния! Говорю я неудержимо быстро, страстно, и, кажется, нет той силы, которая могла бы прервать течение моей речи. Чтобы читать хорошо, то есть нескучно и с пользой для слушателей, нужно, кроме таланта, иметь еще сноровку и опыт, нужно обладать самым ясным представлением о своих силах, о тех, кому читаешь, и о том, что составляет предмет твоей речи. Кроме того, надо быть человеком себе на уме, следить зорко и ни на одну секунду не терять поля зрения.
Хороший дирижер, передавая мысль композитора, делает сразу двадцать дел: читает партитуру, машет палочкой, следит за певцом, делает движение в сторону то барабана, то валторны и проч. То же самое и я, когда читаю. Предо мною полтораста лиц, непохожих одно на другое, и триста глаз, глядящих мне прямо в лицо. Цель моя – победить эту многоголовую гидру. Если я каждую минуту, пока читаю, имею ясное представление о степени ее внимания и о силе разумения, то она в моей власти. Другой мой противник сидит во мне самом. Это – бесконечное разнообразие форм, явлений и законов и множество ими обусловленных своих и чужих мыслей. Каждую минуту я должен иметь ловкость выхватывать из этого громадного материала самое важное и нужное и так же быстро, как течет моя речь, облекать свою мысль в такую форму, которая была бы доступна разумению гидры и возбуждала бы ее внимание, причем надо зорко следить, чтобы мысли передавались не по мере их накопления, а в известном порядке, необходимом для правильной компоновки картины, какую я хочу нарисовать. Далее я стараюсь, чтобы речь моя была литературна, определения кратки и точны, фраза возможно проста и красива. Каждую минуту я должен осаживать себя и помнить, что в моем распоряжении имеются только час и сорок минут. Одним словом, работы немало. В одно и то же время приходится изображать из себя и ученого, и педагога, и оратора, и плохо дело, если оратор победит в вас педагога и ученого или наоборот.
Читаешь четверть, полчаса и вот замечаешь, что студенты начинают поглядывать на потолок, на Петра Игнатьевича, один полезет за платком, другой сядет поудобнее, третий улыбнется своим мыслям… Это значит, что внимание утомлено. Нужно принять меры. Пользуясь первым удобным случаем, я говорю какой-нибудь каламбур. Все полтораста лиц широко улыбаются, глаза весело блестят, слышится ненадолго гул моря… Я тоже смеюсь. Внимание освежилось, и я могу продолжать.
Никакой спорт, никакие развлечения и игры никогда не доставляли мне такого наслаждения, как чтение лекций. Только на лекции я мог весь отдаваться страсти и понимал, что вдохновение не выдумка поэтов, а существует на самом деле. И я думаю, Геркулес после самого пикантного из своих подвигов не чувствовал такого сладостного изнеможения, какое переживал я всякий раз после лекций.
Это было прежде. Теперь же на лекциях я испытываю одно только мучение. Не проходит и получаса, как я начинаю чувствовать непобедимую слабость в ногах и в плечах; сажусь в кресло, но сидя читать я не привык; через минуту поднимаюсь, продолжаю стоя, потом опять сажусь. Во рту сохнет, голос сипнет, голова кружится… Чтобы скрыть от слушателей свое состояние, я то и дело пью воду, кашляю, часто сморкаюсь, точно мне мешает насморк, говорю невпопад каламбуры и в конце концов объявляю перерыв раньше, чем следует. Но главным образом мне стыдно.
Мои совесть и ум говорят мне, что самое лучшее, что я мог бы теперь сделать, – это прочесть мальчикам прощальную лекцию, сказать им последнее слово, благословить их и уступить свое место человеку, который моложе и сильнее меня. Но пусть судит меня Бог, у меня не хватает мужества поступить по совести.
К несчастию, я не философ и не богослов. Мне отлично известно, что проживу я еще не больше полугода; казалось бы, теперь меня должны бы больше всего занимать вопросы о загробных потемках и о тех видениях, которые посетят мой могильный сон. Но почему-то душа моя не хочет знать этих вопросов, хотя ум и сознает всю их важность. Как двадцать—тридцать лет назад, так и теперь, перед смертию, меня интересует одна только наука. Испуская последний вздох, я все-таки буду верить, что наука – самое важное, самое прекрасное и нужное в жизни человека, что она всегда была и будет высшим проявлением любви и что только ею одною человек победит природу и себя. Вера эта, быть может, наивна и несправедлива в своем основании, но я не виноват, что верю так, а не иначе: победить же в себе этой веры я не могу.
Но не в этом дело. Я только прошу снизойти к моей слабости и понять, что оторвать от кафедры и учеников человека, которого судьбы костного мозга интересуют больше, чем конечная цель мироздания, равносильно тому, если бы его взяли да и заколотили в гроб, не дожидаясь, пока он умрет.
От бессонницы и вследствие напряженной борьбы с возрастающей слабостью со мной происходит нечто странное. Среди лекции к горлу вдруг подступают слезы, начинают чесаться глаза, и я чувствую страстное, истерическое желание протянуть вперед руки и громко пожаловаться. Мне хочется прокричать громким голосом, что меня, знаменитого человека, судьба приговорила к смертной казни, что через каких-нибудь полгода здесь в аудитории будет хозяйничать уже другой. Я хочу прокричать, что я отравлен: новые мысли, каких не знал я раньше, отравили последние дни моей жизни и продолжают жалить мой мозг, как москиты. И в это время мое положение представляется таким ужасным, что мне хочется, чтобы все мои слушатели ужаснулись, вскочили с мест и в паническом страхе, с отчаянным криком бросились к выходу.
Нелегко переживать такие минуты.
II
После лекции я сижу у себя дома и работаю. Читаю журналы, диссертации или готовлюсь к следующей лекции, иногда пишу что-нибудь. Работаю с перерывами, так как приходится принимать посетителей.
Слышится звонок. Это товарищ пришел поговорить о деле. Он входит ко мне со шляпой, с палкой и, протягивая ко мне ту и другую, говорит:
– Я на минуту, на минуту! Сидите, collega! Только два слова!
Первым делом мы стараемся показать друг другу, что мы оба необыкновенно вежливы и очень рады видеть друг друга. Я усаживаю его в кресло, а он усаживает меня; при этом мы осторожно поглаживаем друг друга по талиям, касаемся пуговиц, и похоже на то, как будто мы ощупываем друг друга и боимся обжечься. Оба смеемся, хотя и не говорим ничего смешного. Усевшись, наклоняемся друг к другу головами и начинаем говорить вполголоса. Как бы сердечно мы ни были расположены друг к другу, мы не можем, чтобы не золотить нашей речи всякой китайщиной вроде: «Вы изволите справедливо заметить» или: «Как я уже имел честь вам сказать», не можем, чтобы не хохотать, если кто из нас сострит, хотя бы неудачно. Кончив говорить о деле, товарищ порывисто встает и, помахивая шляпой в сторону моей работы, начинает прощаться. Опять щупаем друг друга и смеемся. Провожаю до передней; тут помогаю товарищу надеть шубу, но он всячески уклоняется от этой высокой чести. Затем, когда Егор отворяет дверь, товарищ уверяет меня, что я простужусь, а я делаю вид, что готов идти за ним даже на улицу. И когда наконец я возвращаюсь к себе в кабинет, лицо мое все еще продолжает улыбаться, должно быть по инерции.
Немного погодя другой звонок. Кто-то входит в переднюю, долго раздевается и кашляет. Егор докладывает, что пришел студент. Я говорю: проси. Через минуту входит ко мне молодой человек приятной наружности. Вот уж год, как мы с ним находимся в натянутых отношениях: он отвратительно отвечает мне на экзаменах, а я ставлю ему единицы. Таких молодцов, которых я, выражаясь на студенческом языке, гоняю или проваливаю, у меня ежегодно набирается человек семь. Те из них, которые не выдерживают экзамена по неспособности или по болезни, обыкновенно несут свой крест терпеливо и не торгуются со мной; торгуются же и ходят ко мне на дом только сангвиники, широкие натуры, которым проволочка на экзаменах портит аппетит и мешает аккуратно посещать оперу. Первым я мирволю, а вторых гоняю по целому году.
– Садитесь, – говорю я гостю. – Что скажете?
– Извините, профессор, за беспокойство… – начинает он, заикаясь и не глядя мне в лицо. – Я бы не посмел беспокоить вас, если бы не… Я держал у вас экзамен уже пять раз и… и срезался. Прошу вас, будьте добры, поставьте мне удовлетворительно, потому что…
Аргумент, который все лентяи приводят в свою пользу, всегда один и тот же: они прекрасно выдержали по всем предметам и срезались только на моем, и это тем более удивительно, что по моему предмету они занимались всегда очень усердно и знают его прекрасно; срезались же они благодаря какому-то непонятному недоразумению.
– Извините, мой друг, – говорю я гостю, – поставить вам удовлетворительно я не могу. Подите еще почитайте лекции и приходите. Тогда увидим.
Пауза. Мне приходит охота немножко помучить студента за то, что пиво и оперу он любит больше, чем науку, и я говорю со вздохом:
– По-моему, самое лучшее, что вы можете теперь сделать, – это совсем оставить медицинский факультет. Если при ваших способностях вам никак не удается выдержать экзамена, то, очевидно, у вас нет ни желания, ни призвания быть врачом.
Лицо сангвиника вытягивается.
– Простите, профессор, – усмехается он, – но это было бы с моей стороны по меньшей мере странно. Проучиться пять лет, и вдруг… уйти!
– Ну да! Лучше потерять даром пять лет, чем потом всю жизнь заниматься делом, которого не любишь.
Но тотчас же мне становится жаль его, и я спешу сказать:
– Впрочем, как знаете. Итак, почитайте еще немножко и приходите.
– Когда? – глухо спрашивает лентяй.
И в его добрых глазах я читаю: «Прийти-то можно; но ведь ты, скотина, опять меня прогонишь!»
– Конечно, – говорю я, – вы не станете ученее оттого, что будете у меня экзаменоваться еще пятнадцать раз, но это воспитает в вас характер. И на том спасибо.
Наступает молчание. Я поднимаюсь и жду, когда уйдет гость, а он стоит, смотрит на окно, теребит свою бородку и думает. Становится скучно.
Голос у сангвиника приятный, сочный, глаза умные, насмешливые, лицо благодушное, несколько помятое от частого употребления пива и долгого лежанья на диване; по-видимому, он мог бы рассказать мне много интересного про оперу, про свои любовные похождения, про товарищей, которых он любит, но, к сожалению, говорить об этом не принято. А я бы охотно послушал.
– Профессор! Даю вам честное слово, что если вы поставите мне удовлетворительно, то я…
Как только дело дошло до «честного слова», я махаю руками и сажусь за стол. Студент думает еще минуту и говорит уныло:
– В таком случае прощайте… Извините.
– Прощайте, мой друг. Доброго здоровья.
Он нерешительно идет в переднюю, медленно одевается там и, выйдя на улицу, вероятно, опять долго думает; ничего не придумав, кроме «старого черта» по моему адресу, он идет в плохой ресторан пить пиво и обедать, а потом к себе домой спать. Мир праху твоему, честный труженик!
Третий звонок. Входит молодой доктор в новой черной паре, в золотых очках и, конечно, в белом галстуке. Рекомендуется. Прошу садиться и спрашиваю, что угодно. Не без волнения молодой жрец науки начинает говорить мне, что в этом году он выдержал экзамен на докторанта и что ему остается теперь только написать диссертацию. Ему хотелось бы поработать у меня, под моим руководством, и я бы премного обязал его, если бы дал ему тему для диссертации.
– Очень рад быть полезным, коллега, – говорю я, – но давайте сначала споемся относительно того, что такое диссертация. Под этим словом принято разуметь сочинение, составляющее продукт самостоятельного творчества. Не так ли? Сочинение же, написанное на чужую тему и под чужим руководством, называется иначе…
Докторант молчит. Я вспыхиваю и вскакиваю с места.
– Что вы все ко мне ходите, не понимаю? – кричу я сердито. – Лавочка у меня, что ли? Я не торгую темами! В тысячу первый раз прошу вас всех оставить меня в покое! Извините за неделикатность, но мне наконец это надоело!
Докторант молчит, и только около его скул выступает легкая краска. Лицо его выражает глубокое уважение к моему знаменитому имени и учености, а по глазам его я вижу, что он презирает и мой голос, и мою жалкую фигуру, и нервную жестикуляцию. В своем гневе я представляюсь ему чудаком.
– У меня не лавочка! – сержусь я. – И удивительное дело! Отчего вы не хотите быть самостоятельными? Отчего вам так противна свобода?
Говорю я много, а он все молчит. В конце концов я мало-помалу стихаю и, разумеется, сдаюсь. Докторант получит от меня тему, которой грош цена, напишет под моим наблюдением никому не нужную диссертацию, с достоинством выдержит скучный диспут и получит ненужную ему ученую степень.
Звонки могут следовать один за другим без конца, но я здесь ограничусь только четырьмя. Бьет четвертый звонок, и я слышу знакомые шаги, шорох платья, милый голос…
Восемнадцать лет тому назад умер мой товарищ, окулист, и оставил после себя семилетнюю дочь Катю и тысяч шестьдесят денег. В своем завещании он назначил опекуном меня. До десяти лет Катя жила в моей семье, потом была отдана в институт и живала у меня только в летние месяцы, во время каникул. Заниматься ее воспитанием было мне некогда, наблюдал я ее только урывками и потому о детстве ее могу сказать очень немного.
Первое, что я помню и люблю по воспоминаниям, это – необыкновенную доверчивость, с какою она вошла в мой дом, лечилась у докторов и которая всегда светилась на ее личике. Бывало, сидит где-нибудь в сторонке с подвязанной щекой и непременно смотрит на что-нибудь со вниманием; видит ли она в это время, как я пишу и перелистываю книги, или как хлопочет жена, или как кухарка в кухне чистит картофель, или как играет собака, у нее всегда неизменно глаза выражали одно и то же, а именно: «Все, что делается на этом свете, все прекрасно и умно». Она была любопытна и очень любила говорить со мной. Бывало, сидит за столом против меня, следит за моими движениями и задает вопросы. Ей интересно знать, что я читаю, что делаю в университете, не боюсь ли трупов, куда деваю свое жалованье.
– Студенты дерутся в университете? – спрашивает она.
– Дерутся, милая.
– А вы ставите их на колени?
– Ставлю.
И ей было смешно, что студенты дерутся и что я ставлю их на колени, и она смеялась. Это был кроткий, терпеливый и добрый ребенок. Нередко мне приходилось видеть, как у нее отнимали что-нибудь, наказывали понапрасну или не удовлетворяли ее любопытства; в это время к постоянному выражению доверчивости на ее лице примешивалась еще грусть – и только. Я не умел заступаться за нее, а только когда видел грусть, у меня являлось желание привлечь ее к себе и пожалеть тоном старой няньки: «Сиротка моя милая!»
Помню также, она любила хорошо одеваться и прыскаться духами. В этом отношении она походила на меня. Я тоже люблю красивую одежду и хорошие духи.
Жалею, что у меня не было времени и охоты проследить начало и развитие страсти, которая вполне уже владела Катею, когда ей было четырнадцать-пятнадцать лет. Я говорю об ее страстной любви к театру. Когда она приезжала к нам из института на каникулы и жила у нас, то ни о чем она не говорила с таким удовольствием и с таким жаром, как о пьесах и актерах. Своими постоянными разговорами о театре она утомляла нас. Жена и дети не слушали ее. У одного только меня не хватало мужества отказывать ей во внимании. Когда у нее являлось желание поделиться своими восторгами, она входила ко мне в кабинет и говорила умоляющим тоном:
– Николай Степаныч, позвольте мне поговорить с вами о театре!
Я показывал ей на часы и говорил:
– Даю тебе полчаса. Начинай.
Позднее она стала привозить с собою целыми дюжинами портреты актеров и актрис, на которых молилась; потом попробовала несколько раз участвовать в любительских спектаклях и в конце концов, когда кончила курс, объявила мне, что она родилась быть актрисой.
Я никогда не разделял театральных увлечений Кати. По-моему, если пьеса хороша, то, чтобы она произвела должное впечатление, нет надобности утруждать актеров; можно ограничиться одним только чтением. Если же пьеса плоха, то никакая игра не сделает ее хорошею.
В молодости я часто посещал театр, и теперь раза два в год семья берет ложу и возит меня «проветрить». Конечно, этого недостаточно, чтобы иметь право судить о театре, но я скажу о нем немного. По моему мнению, театр не стал лучше, чем он был тридцать – сорок лет назад. По-прежнему ни в театральных коридорах, ни в фойе я никак не могу найти стакана чистой воды. По-прежнему капельдинеры штрафуют меня за мою шубу на двугривенный, хотя в ношении теплого платья зимою нет ничего предосудительного. По-прежнему в антрактах играет без всякой надобности музыка, прибавляющая к впечатлению, получаемому от пьесы, еще новое, непрошеное. По-прежнему мужчины в антрактах ходят в буфет пить спиртные напитки. Если не видно прогресса в мелочах, то напрасно я стал бы искать его и в крупном. Когда актер, с головы до ног опутанный театральными традициями и предрассудками, старается читать простой, обыкновенный монолог «Быть или не быть» не просто, а почему-то непременно с шипением и с судорогами во всем теле или когда он старается убедить меня во что бы то ни стало, что Чацкий, разговаривающий много с дураками и любящий дуру, очень умный человек и что «Горе от ума» не скучная пьеса, то на меня от сцены веет тою же самой рутиной, которая скучна мне была еще сорок лет назад, когда меня угощали классическими завываниями и биением по персям. И всякий раз выхожу я из театра консервативным более, чем когда вхожу туда.
Сантиментальную и доверчивую толпу можно убедить в том, что театр в настоящем его виде есть школа. Но кто знаком со школой в истинном ее смысле, того на эту удочку не поймаешь. Не знаю, что будет через пятьдесят – сто лет, но при настоящих условиях театр может служить только развлечением. Но развлечение это слишком дорого для того, чтобы продолжать пользоваться им. Оно отнимает у государства тысячи молодых, здоровых и талантливых мужчин и женщин, которые, если бы не посвящали себя театру, могли бы быть хорошими врачами, хлебопашцами, учительницами, офицерами; оно отнимает у публики вечерние часы – лучшее время для умственного труда и товарищеских бесед. Не говорю уж о денежных затратах и о тех нравственных потерях, какие несет зритель, когда видит на сцене неправильно трактуемые убийство, прелюбодеяние или клевету.
Катя же была совсем другого мнения. Она уверяла меня, что театр, даже в настоящем его виде, выше аудиторий, выше книг, выше всего на свете. Театр – это сила, соединяющая в себе одной все искусства, а актеры – миссионеры. Никакое искусство и никакая наука в отдельности не в состоянии действовать так сильно и так верно на человеческую душу, как сцена, и недаром поэтому актер средней величины пользуется в государстве гораздо большею популярностью, чем самый лучший ученый или художник. И никакая публичная деятельность не может доставить такого наслаждения и удовлетворения, как сценическая.
И в один прекрасный день Катя поступила в труппу и уехала, кажется в Уфу, увезя с собою много денег, тьму радужных надежд и аристократические взгляды на дело.
Первые письма ее с дороги были удивительны. Я читал их и просто изумлялся, как это небольшие листки бумаги могут содержать в себе столько молодости, душевной чистоты, святой наивности и вместе с тем тонких, дельных суждений, которые могли бы сделать честь хорошему мужскому уму. Волгу, природу, города, которые она посещала, товарищей, свои успехи и неудачи она не описывала, а воспевала; каждая строчка дышала доверчивостью, какую я привык видеть на ее лице, – и при всем том масса грамматических ошибок, а знаков препинания почти совсем не было.
Не прошло и полгода, как я получил в высшей степени поэтическое и восторженное письмо, начинавшееся словами: «Я полюбила». К этому письму была приложена фотография, изображавшая молодого мужчину с бритым лицом, в широкополой шляпе и с пледом, перекинутым через плечо. Следующие затем письма были по-прежнему великолепны, но уж показались в них знаки препинания, исчезли грамматические ошибки, и сильно запахло от них мужчиною. Катя стала писать мне о том, что хорошо бы где-нибудь на Волге построить большой театр, не иначе как на паях, и привлечь к этому предприятию богатое купечество и пароходовладельцев; денег было бы много, сборы громадные, актеры играли бы на условиях товарищества… Может быть, все это и в самом деле хорошо, но мне кажется, что подобные измышления могут исходить только из мужской головы.
Как бы то ни было, полтора-два года, по-видимому, все обстояло благополучно: Катя любила, верила в свое дело и была счастлива; но потом в письмах я стал замечать явные признаки упадка. Началось с того, что Катя пожаловалась мне на своих товарищей – это первый и самый зловещий симптом; если молодой ученый или литератор начинает свою деятельность с того, что горько жалуется на ученых или литераторов, то это значит, что он уже утомился и не годен для дела. Катя писала мне, что ее товарищи не посещают репетиций и никогда не знают ролей; в постановке нелепых пьес и в манере держать себя на сцене видно у каждого из них полное неуважение к публике; в интересах сбора, о котором только и говорят, драматические актрисы унижаются до пения шансонеток, а трагики поют куплеты, в которых смеются над рогатыми мужьями и над беременностью неверных жен и т. д. В общем, надо изумляться, как это до сих пор не погибло еще провинциальное дело и как оно может держаться на такой тонкой и гнилой жилочке.
В ответ я послал Кате длинное и, признаться, очень скучное письмо. Между прочим я писал ей: «Мне нередко приходилось беседовать со стариками актерами, благороднейшими людьми, дарившими меня своим расположением; из разговоров с ними я мог понять, что их деятельностью руководят не столько их собственный разум и свобода, сколько мода и настроение общества; лучшим из них приходилось на своем веку играть и в трагедии, и в оперетке, и в парижских фарсах, и в феериях, и всегда одинаково им казалось, что они шли по прямому пути и приносили пользу. Значит, как видишь, причину зла нужно искать не в актерах, а глубже, в самом искусстве и в отношениях к нему всего общества». Это мое письмо только раздражило Катю. Она мне ответила: «Мы с вами поем из разных опер. Я вам писала не о благороднейших людях, которые дарили вас своим расположением, а о шайке пройдох, не имеющих ничего общего с благородством. Это табун диких людей, которые попали на сцену только потому, что их не приняли бы нигде в другом месте, и которые называют себя артистами только потому, что наглы. Ни одного таланта, но много бездарностей, пьяниц, интриганов, сплетников. Не могу вам высказать, как горько мне, что искусство, которое я так люблю, попало в руки ненавистных мне людей; горько, что лучшие люди видят зло только издали, не хотят подойти поближе и, вместо того чтоб вступиться, пишут тяжеловесным слогом общие места и никому не нужную мораль…» – и так далее, все в таком роде.
Прошло еще немного времени, и я получил такое письмо: «Я бесчеловечно обманута. Не могу дольше жить. Распорядитесь моими деньгами, как это найдете нужным. Я любила вас, как отца и единственного моего друга. Простите».
Оказалось, что и ее он принадлежал тоже к «табуну диких людей». Впоследствии по некоторым намекам я мог догадаться, что было покушение на самоубийство. Кажется, Катя пробовала отравиться. Надо думать, что она потом была серьезно больна, так как следующее письмо я получил уже из Ялты, куда, по всей вероятности, ее послали доктора. Последнее письмо ее ко мне содержало в себе просьбу возможно скорее выслать ей в Ялту тысячу рублей, и оканчивалось оно так: «Извините, что письмо так мрачно. Вчера я похоронила своего ребенка». Прожив в Крыму около года, она вернулась домой.
Путешествовала она около четырех лет, и во все эти четыре года, надо сознаться, я играл по отношению к ней довольно незавидную и странную роль. Когда ранее она объявила мне, что идет в актрисы, и потом писала мне про свою любовь, когда ею периодически овладевал дух расточительности и мне то и дело приходилось, по ее требованию, высылать ей то тысячу, то две рублей, когда она писала мне о своем намерении умереть и потом о смерти ребенка, то всякий раз я терялся, и все мое участие в ее судьбе выражалось только в том, что я много думал и писал длинные, скучные письма, которых я мог бы совсем не писать. А между тем ведь я заменял ей родного отца и любил ее, как дочь!
Теперь Катя живет в полуверсте от меня. Она наняла квартиру в пять комнат и обставилась довольно комфортабельно и с присущим ей вкусом. Если бы кто взялся нарисовать ее обстановку, то преобладающим настроением в картине получилась бы лень. Для ленивого тела – мягкие кушетки, мягкие табуретки, для ленивых ног – ковры, для ленивого зрения – линючие, тусклые или матовые цвета; для ленивой души – изобилие на стенах дешевых вееров и мелких картин, в которых оригинальность исполнения преобладает над содержанием, избыток столиков и полочек, уставленных совершенно ненужными и не имеющими цены вещами, бесформенные лоскутья вместо занавесей… Все это вместе с боязнью ярких цветов, симметрии и простора, помимо душевной лени, свидетельствует еще и об извращении естественного вкуса. По целым дням Катя лежит на кушетке и читает книги, преимущественно романы и повести. Из дому она выходит только раз в день, после полудня, чтобы повидаться со мной.
Я работаю, а Катя сидит недалеко от меня на диване, молчит и кутается в шаль, точно ей холодно. Оттого ли, что она симпатична мне, или оттого, что я привык к ее частым посещениям, когда она была еще девочкой, ее присутствие не мешает мне сосредоточиться. Изредка я задаю ей машинально какой-нибудь вопрос, она дает очень короткий ответ; или же, чтоб отдохнуть минутку, я оборачиваюсь к ней и гляжу, как она, задумавшись, просматривает какой-нибудь медицинский журнал или газету. И в это время я замечаю, что на лице ее уже нет прежнего выражения доверчивости. Выражение теперь холодное, безразличное, рассеянное, как у пассажиров, которым приходится долго ждать поезда. Одета она по-прежнему красиво и просто, но небрежно; видно, что платью и прическе немало достается от кушеток и качалок, на которых она лежит по целым дням. И уж она не любопытна, как была прежде. Вопросов она уж мне не задает, как будто все уж испытала в жизни и не ждет услышать ничего нового.
В исходе четвертого часа в зале и в гостиной начинается движение. Это из консерватории вернулась Лиза и привела с собою подруг. Слышно, как играют на рояли, пробуют голоса и хохочут; в столовой Егор накрывает на стол и стучит посудой.
– Прощайте, – говорит Катя. – Сегодня я не зайду к вашим. Пусть извинят. Некогда. Приходите.
Когда я провожаю ее до передней, она сурово оглядывает меня с головы до ног и говорит с досадой:
– А вы все худеете! Отчего не лечитесь? Я съезжу к Сергею Федоровичу и приглашу. Пусть вас посмотрит.
– Не нужно, Катя.
– Не понимаю, что ваша семья смотрит! Хороши, нечего сказать.
Она порывисто надевает свою шубку, и в это время из ее небрежно сделанной прически непременно падают на пол две-три шпильки. Поправлять прическу лень и некогда; она неловко прячет упавшие локоны под шапочку и уходит.
Когда я вхожу в столовую, жена спрашивает меня:
– У тебя была сейчас Катя? Отчего же она не зашла к нам? Это даже странно…
– Мама! – говорит ей укоризненно Лиза. – Если не хочет, то и бог с ней. Не на колени же нам становиться.
– Как хочешь, это пренебрежение. Сидеть в кабинете три часа и не вспомнить о нас. Впрочем, как ей угодно.
Варя и Лиза обе ненавидят Катю. Ненависть эта мне непонятна, и, вероятно, чтобы понимать ее, нужно быть женщиной. Я ручаюсь головою, что из тех полутораста молодых мужчин, которых я почти ежедневно вижу в своей аудитории, и из той сотни пожилых, которых мне приходится встречать каждую неделю, едва ли найдется хоть один такой, который умел бы понимать ненависть и отвращение к прошлому Кати, то есть к внебрачной беременности и к незаконному ребенку; и в то же время я никак не могу припомнить ни одной такой знакомой мне женщины или девушки, которая сознательно или инстинктивно не питала бы в себе этих чувств. И это не оттого, что женщина добродетельнее и чище мужчины: ведь добродетель и чистота мало отличаются от порока, если они не свободны от злого чувства. Я объясняю это просто отсталостью женщин. Унылое чувство сострадания и боль совести, какие испытывает современный мужчина, когда видит несчастие, гораздо больше говорят мне о культуре и нравственном росте, чем ненависть и отвращение. Современная женщина так же слезлива и груба сердцем, как и в средние века. И по-моему, вполне благоразумно поступают те, которые советуют ей воспитываться, как мужчина.
Жена не любит Кати еще за то, что она была актрисой, за неблагодарность, за гордость, за эксцентричность и за все те многочисленные пороки, какие одна женщина всегда умеет находить в другой.
Кроме меня и моей семьи, у нас обедают еще две-три подруги дочери и Александр Адольфович Гнеккер, поклонник Лизы и претендент на ее руку. Это молодой блондин, не старше тридцати лет, среднего роста, очень полный, широкоплечий, с рыжими бакенами около ушей и с нафабренными усиками, придающими его полному, гладкому лицу какое-то игрушечное выражение. Одет он в очень короткий пиджак, в цветную жилетку, в брюки с большими клетками, очень широкие сверху и очень узкие книзу, и в желтые ботинки без каблуков. Глаза у него выпуклые, рачьи, галстук похож на рачью шейку, и даже, мне кажется, весь этот молодой человек издает запах ракового супа. Бывает он у нас ежедневно, но никто в моей семье не знает, какого он происхождения, где учился и на какие средства живет. Он не играет и не поет, но имеет какое-то отношение и к музыке и к пению, продает где-то чьи-то рояли, бывает часто в консерватории, знаком со всеми знаменитостями и распоряжается на концертах; судит он о музыке с большим авторитетом, и, я заметил, с ним охотно все соглашаются.
Богатые люди имеют всегда около себя приживалов; науки и искусства тоже. Кажется, нет на свете такого искусства или науки, которые были бы свободны от присутствия «инородных тел» вроде этого г. Гнеккера. Я не музыкант и, быть может, ошибаюсь относительно Гнеккера, которого к тому же мало знаю. Но слишком уж кажутся мне подозрительными его авторитет и то достоинство, с каким он стоит около рояля и слушает, когда кто-нибудь поет или играет.
Будь вы сто раз джентльменом и тайным советником, но если у вас есть дочь, то вы ничем не гарантированы от того мещанства, которое часто вносят в ваш дом и в ваше настроение ухаживания, сватовство и свадьба. Я, например, никак не могу помириться с тем торжественным выражением, какое бывает у моей жены всякий раз, когда сидит у нас Гнеккер, не могу также помириться с теми бутылками лафита, портвейна и хереса, которые ставятся только ради него, чтобы он воочию убедился, как широко и роскошно мы живем. Не перевариваю я и отрывистого смеха Лизы, которому она научилась в консерватории, и ее манеры щурить глаза в то время, когда у нас бывают мужчины. А главное, я никак не могу понять, почему это ко мне каждый день ходит и каждый день со мною обедает существо, совершенно чуждое моим привычкам, моей науке, всему складу моей жизни, совершенно непохожее на тех людей, которых я люблю. Жена и прислуга таинственно шепчут, что «это жених», но я все-таки не понимаю его присутствия; оно возбуждает во мне такое же недоумение, как если бы со мною за стол посадили зулуса. И мне также кажется странным, что моя дочь, которую я привык считать ребенком, любит этот галстук, эти глаза, эти мягкие щеки…
Прежде я любил обед или был к нему равнодушен, теперь же он не возбуждает во мне ничего, кроме скуки и раздражения. С тех пор как я стал превосходительным и побывал в деканах факультета, семья моя нашла почему-то нужным совершенно изменить наше меню и обеденные порядки. Вместо тех простых блюд, к которым я привык, когда был студентом и лекарем, теперь меня кормят супом-пюре, в котором плавают какие-то белые сосульки, и почками в мадере. Генеральский чин и известность отняли у меня навсегда и щи, и вкусные пироги, и гуся с яблоками, и леща с кашей. Они же отняли у меня горничную Агашу, говорливую и смешливую старушку, вместо которой подает теперь обед Егор, тупой и надменный малый, с белой перчаткой на правой руке. Антракты коротки, но кажутся чрезмерно длинными, потому что их нечем наполнить. Уж нет прежней веселости, непринужденных разговоров, шуток, смеха, нет взаимных ласк и той радости, какая волновала детей, жену и меня, когда мы сходились, бывало, в столовой; для меня, занятого человека, обед был временем отдыха и свидания, а для жены и детей праздником, правда, коротким, но светлым и радостным, когда они знали, что я на полчаса принадлежу не науке, не студентам, а только им одним и больше никому. Нет уже больше уменья пьянеть от одной рюмки, нет Агаши, нет леща с кашей, нет того шума, каким всегда встречались маленькие обеденные скандалы вроде драки под столом кошки с собакой или падения повязки с Катиной щеки в тарелку с супом.
Описывать теперешний обед так же невкусно, как есть его. На лице у жены торжественность, напускная важность и обычное выражение заботы. Она беспокойно оглядывает наши тарелки и говорит: «Я вижу, вам жаркое не нравится… Скажите: ведь не нравится?» И я должен отвечать: «Напрасно ты беспокоишься, милая, жаркое очень вкусно». А она: «Ты всегда за меня заступаешься, Николай Степаныч, и никогда не скажешь правды. Отчего же Александр Адольфович так мало кушал?» – и все в таком роде в продолжение всего обеда. Лиза отрывисто хохочет и щурит глаза. Я гляжу на обеих, и только вот теперь за обедом для меня совершенно ясно, что внутренняя жизнь обеих давно уже ускользнула от моего наблюдения. У меня такое чувство, как будто когда-то я жил дома с настоящей семьей, а теперь обедаю в гостях у ненастоящей жены и вижу ненастоящую Лизу. Произошла в обеих резкая перемена, я прозевал тот долгий процесс, по которому эта перемена совершалась, и немудрено, что я ничего не понимаю. Отчего произошла перемена? Не знаю. Быть может, вся беда в том, что жене и дочери Бог не дал такой же силы, как мне. С детства я привык противостоять внешним влияниям и закалил себя достаточно; такие житейские катастрофы, как известность, генеральство, переход от довольства к жизни не по средствам, знакомства со знатью и проч., едва коснулись меня, и я остался цел и невредим; на слабых же, незакаленных жену и Лизу все это свалилось, как большая снеговая глыба, и сдавило их.
Барышни и Гнеккер говорят о фугах, контрапунктах, о певцах и пианистах, о Бахе и Брамсе, а жена, боясь, чтобы ее не заподозрили в музыкальном невежестве, сочувственно улыбается им и бормочет: «Это прелестно… Неужели? Скажите…» Гнеккер солидно кушает, солидно острит и снисходительно выслушивает замечания барышень. Изредка у него является желание поговорить на плохом французском языке, и тогда он почему-то находит нужным величать меня votre excellence.[14]
А я угрюм. Видимо, я всех их стесняю, а они стесняют меня. Никогда раньше я не был коротко знаком с сословным антагонизмом, но теперь меня мучает именно что-то вроде этого. Я стараюсь находить в Гнеккере одни только дурные черты, скоро нахожу их и терзаюсь, что на его жениховском месте сидит человек не моего круга. Присутствие его дурно влияет на меня еще и в другом отношении. Обыкновенно, когда я остаюсь сам с собою или бываю в обществе людей, которых люблю, я никогда не думаю о своих заслугах, а если начинаю думать, то они представляются мне такими ничтожными, как будто я стал ученым только вчера; в присутствии же таких людей, как Гнеккер, мои заслуги кажутся мне высочайшей горой, вершина которой исчезает в облаках, а у подножия шевелятся едва заметные для глаза Гнеккеры.
После обеда я иду к себе в кабинет и закуриваю там свою трубочку, единственную за весь день, уцелевшую от давно бывшей скверной привычки дымить от утра до ночи. Когда я курю, ко мне входит жена и садится, чтобы поговорить со мной. Так же, как и утром, я заранее знаю, о чем у нас будет разговор.
– Надо бы нам с тобой поговорить серьезно, Николай Степаныч, – начинает она. – Я насчет Лизы… Отчего ты не обратишь внимания?
– То есть?
– Ты делаешь вид, что ничего не замечаешь, но это нехорошо. Нельзя быть беспечным… Гнеккер имеет насчет Лизы намерения… Что ты скажешь?
– Что он дурной человек, я не могу сказать, так как не знаю его, но что он мне не нравится, об этом я говорил тебе уже тысячу раз.
– Но так нельзя… нельзя…
Она встает и ходит в волнении.
– Так нельзя относиться к серьезному шагу… – говорит она. – Когда речь идет о счастье дочери, надо отбросить все личное. Я знаю, он тебе не нравится… Хорошо… Если мы откажем ему теперь, расстроим все, то чем ты поручишься, что Лиза всю жизнь не будет жаловаться на нас? Женихов теперь не бог весть сколько, и может случиться, что не представится другой партии… Он очень любит Лизу и, по-видимому, нравится ей… Конечно, у него нет определенного положения, но что же делать? Бог даст, со временем определится куда-нибудь. Он из хорошего семейства и богатый.
– Откуда тебе это известно?
– Он говорил. У его отца в Харькове большой дом и под Харьковом имение. Одним словом, Николай Степаныч, тебе непременно нужно съездить в Харьков.
– Зачем?
– Ты разузнаешь там… У тебя там есть знакомые профессора, они тебе помогут. Я бы сама поехала, но я женщина. Не могу…
– Не поеду я в Харьков, – говорю я угрюмо.
Жена пугается, и на лице ее появляется выражение мучительной боли.
– Ради бога, Николай Степаныч! – умоляет она меня, всхлипывая. – Ради бога, сними с меня эту тяжесть! Я страдаю!
Мне становится больно глядеть на нее.
– Хорошо, Варя, – говорю я ласково. – Если хочешь, то изволь, я съезжу в Харьков и сделаю все, что тебе угодно.
Она прижимает к глазам платок и уходит к себе в комнату плакать. Я остаюсь один.
Немного погодя приносят огонь. От кресел и лампового колпака ложатся на стены и пол знакомые, давно надоевшие тени, и когда я гляжу на них, мне кажется, что уже ночь и что уже начинается моя проклятая бессонница. Я ложусь в постель, потом встаю и хожу по комнате, потом опять ложусь… Обыкновенно после обеда, перед вечером, мое нервное возбуждение достигает своего высшего градуса. Я начинаю без причины плакать и прячу голову под подушку. В это время я боюсь, чтобы кто-нибудь не вошел, боюсь внезапно умереть, стыжусь своих слез, и в общем получается в душе нечто нестерпимое. Я чувствую, что долее я не могу видеть ни своей лампы, ни книг, ни теней на полу, не могу слышать голосов, которые раздаются в гостиной. Какая-то невидимая и непонятная сила грубо толкает меня вон из моей квартиры. Я вскакиваю, торопливо одеваюсь и осторожно, чтоб не заметили домашние, выхожу на улицу. Куда идти?
Ответ на этот вопрос у меня давно уже сидит в мозгу: к Кате.
III
По обыкновению, она лежит на турецком диване или на кушетке и читает что-нибудь. Увидев меня, она лениво поднимает голову, садится и протягивает мне руку.
– А ты все лежишь, – говорю я, помолчав немного и отдохнув. – Это нездорово. Ты бы занялась чем-нибудь!
– А?
– Ты бы, говорю, занялась чем-нибудь.
– Чем? Женщина может быть только простой работницей или актрисой.
– Ну что ж? Если нельзя в работницы, иди в актрисы.
Молчит.
– Замуж бы выходила, – говорю я полушутя.
– Не за кого. Да и незачем.
– Так жить нельзя.
– Без мужа? Велика важность! Мужчин сколько угодно, была бы охота.
– Это, Катя, некрасиво.
– Что некрасиво?
– Да вот то, что ты сейчас сказала.
Заметив, что я огорчен, и желая сгладить дурное впечатление, Катя говорит:
– Пойдемте. Идите сюда. Вот.
Она ведет меня в маленькую, очень уютную комнатку и говорит, указывая на письменный стол:
– Вот… Я приготовила для вас. Тут вы будете заниматься. Приезжайте каждый день и привозите с собой работу. А там дома вам только мешают. Будете здесь работать? Хотите?
Чтобы не огорчить ее отказом, я отвечаю ей, что заниматься у нее буду и что комната мне очень нравится. Затем мы оба садимся в уютной комнатке и начинаем разговаривать.
Тепло, уютная обстановка и присутствие симпатичного человека возбуждают во мне теперь не чувство удовольствия, как прежде, а сильный позыв к жалобам и брюзжанию. Мне кажется почему-то, что если я поропщу и пожалуюсь, то мне станет легче.
– Плохо дело, моя милая! – начинаю я со вздохом. – Очень плохо…
– Что такое?
– Видишь ли, в чем дело, мой друг. Самое лучшее и самое святое право королей – это право помилования. И я всегда чувствовал себя королем, так как безгранично пользовался этим правом. Я никогда не судил, был снисходителен, охотно прощал всех направо и налево. Где другие протестовали и возмущались, там я только советовал и убеждал. Всю свою жизнь я старался только о том, чтобы мое общество было выносимо для семьи, студентов, товарищей, для прислуги. И такое мое отношение к людям, я знаю, воспитывало всех, кому приходилось быть около меня. Но теперь уж я не король. Во мне происходит нечто такое, что прилично только рабам: в голове моей день и ночь бродят злые мысли, а в душе свили себе гнездо чувства, каких я не знал раньше. Я и ненавижу, и презираю, и негодую, и возмущаюсь, и боюсь. Я стал не в меру строг, требователен, раздражителен, нелюбезен, подозрителен. Даже то, что прежде давало мне повод только сказать лишний каламбур и добродушно посмеяться, родит во мне теперь тяжелое чувство. Изменилась во мне и моя логика: прежде я презирал только деньги, теперь же питаю злое чувство не к деньгам, а к богачам, точно они виноваты; прежде ненавидел насилие и произвол, а теперь ненавижу людей, употребляющих насилие, точно виноваты они одни, а не все мы, которые не умеем воспитывать друг друга. Что это значит? Если новые мысли и новые чувства произошли от перемены убеждений, то откуда могла взяться эта перемена? Разве мир стал хуже, а я лучше, или раньше я был слеп и равнодушен? Если же эта перемена произошла от общего упадка физических и умственных сил – я ведь болен и каждый день теряю в весе, – то положение мое жалко; значит, мои новые мысли ненормальны, нездоровы, я должен стыдиться их и считать ничтожными…
– Болезнь тут ни при чем, – перебивает меня Катя. – Просто у вас открылись глаза; вот и все. Вы увидели то, чего раньше почему-то не хотели замечать. По-моему, прежде всего вам нужно окончательно порвать с семьей и уйти.
– Ты говоришь нелепости.
– Вы уж не любите их, что ж тут кривить душой? И разве это семья? Ничтожества! Умри они сегодня, и завтра же никто не заметит их отсутствия.
Катя презирает жену и дочь так же сильно, как те ее ненавидят. Едва ли можно в наше время говорить о праве людей презирать друг друга. Но если стать на точку зрения Кати и признать такое право существующим, то все-таки увидишь, что она имеет такое же право презирать жену и Лизу, как те ее ненавидеть.
– Ничтожества! – повторяет она. – Вы обедали сегодня? Как же это они не позабыли позвать вас в столовую? Как это они до сих пор помнят еще о вашем существовании?
– Катя, – говорю я строго, – прошу тебя замолчать.
– А вы думаете, мне весело говорить о них? Я была бы рада совсем их не знать. Слушайтесь же меня, мой дорогой: бросьте все и уезжайте. Поезжайте за границу. Чем скорее, тем лучше.
– Что за вздор! А университет?
– И университет тоже. Что он вам? Все равно никакого толку. Читаете вы уже тридцать лет, а где ваши ученики? Много ли у вас знаменитых ученых? Сочтите-ка! А чтобы размножать этих докторов, которые эксплоатируют невежество и наживают сотни тысяч, для этого не нужно быть талантливым и хорошим человеком. Вы лишний.
– Боже мой, как ты резка! – ужасаюсь я. – Как ты резка! Замолчи, иначе я уйду! Я не умею отвечать на твои резкости!
Входит горничная и зовет нас пить чай. Около самовара наш разговор, слава богу, меняется. После того как я уже пожаловался, мне хочется дать волю другой своей старческой слабости – воспоминаниям. Я рассказываю Кате о своем прошлом и, к великому удивлению, сообщаю ей такие подробности, о каких я даже не подозревал, что они еще целы в моей памяти. А она слушает меня с умилением, с гордостью, притаив дыхание. Особенно я люблю рассказывать ей о том, как я когда-то учился в семинарии и как мечтал поступить в университет.
– Бывало, гуляю я по нашему семинарскому саду… – рассказываю я. – Донесет ветер из какого-нибудь далекого кабака пиликанье гармоники и песню или промчится мимо семинарского забора тройка с колоколами, и этого уже совершенно достаточно, чтобы чувство счастья вдруг наполнило не только грудь, но даже живот, ноги, руки… Слушаешь гармонику или затихающие колокола, а сам воображаешь себя врачом и рисуешь картины – одна другой лучше. И вот, как видишь, мечты мои сбылись. Я получил больше, чем смел мечтать. Тридцать лет я был любимым профессором, имел превосходных товарищей, пользовался почетною известностью. Я любил, женился по страстной любви, имел детей. Одним словом, если оглянуться назад, то вся моя жизнь представляется мне красивой, талантливо сделанной композицией. Теперь мне остается только не испортить финала. Для этого нужно умереть по-человечески. Если смерть в самом деле опасность, то нужно встретить ее так, как подобает это учителю, ученому и гражданину христианского государства: бодро и со спокойной душой. Но я порчу финал. Я утопаю, бегу к тебе, прошу помощи, а ты мне: утопайте, это так и нужно.
Но вот в передней раздается звонок. Я и Катя узнаем его и говорим:
– Это, должно быть, Михаил Федорович.
И в самом деле, через минуту входит мой товарищ, филолог, Михаил Федорович, высокий, хорошо сложенный, лет пятидесяти, с густыми седыми волосами, с черными бровями и бритый. Это добрый человек и прекрасный товарищ. Происходит он от старинной дворянской фамилии, довольно счастливой и талантливой, играющей заметную роль в истории нашей литературы и просвещения. Сам он умен, талантлив, очень образован, но не без странностей. До некоторой степени все мы странны и все мы чудаки, но его странности представляют нечто исключительное и небезопасное для его знакомых. Между последними я знаю немало таких, которые за его странностями совершенно не видят его многочисленных достоинств.
Войдя к нам, он медленно снимает перчатки и говорит бархатным басом:
– Здравствуйте. Чай пьете? Это очень кстати. Адски холодно.
Затем он садится за стол, берет себе стакан и тотчас же начинает говорить. Самое характерное в его манере говорить – это постоянно шутливый тон, какая-то помесь философии с балагурством, как у шекспировских гробокопателей. Он всегда говорит о серьезном, но никогда не говорит серьезно. Суждения его всегда резки, бранчивы, но благодаря мягкому, ровному, шутливому тону как-то так выходит, что резкость и брань не режут уха, и к ним скоро привыкаешь. Каждый вечер он приносит с собою штук пять-шесть анекдотов из университетской жизни и с них обыкновенно начинает, когда садится за стол.
– Ох, господи! – вздыхает он, насмешливо шевеля своими черными бровями. – Бывают же на свете такие комики!
– А что? – спрашивает Катя.
– Иду я сегодня с лекции и встречаю на лестнице этого старого идиота, нашего NN… Идет и, по обыкновению, выставил вперед свой лошадиный подбородок и ищет, кому бы пожаловаться на свою мигрень, на жену и на студентов, которые не хотят посещать его лекций. Ну, думаю, увидел меня – теперь погиб, пропало дело…
И так далее в таком роде. Или же он начинает так:
– Был вчера на публичной лекции нашего ZZ. Удивляюсь, как это наша alma mater,[15] не к ночи будь помянута, решается показывать публике таких балбесов и патентованных тупиц, как этот ZZ. Ведь это европейский дурак! Помилуйте, другого такого по всей Европе днем с огнем не сыщешь! Читает, можете себе представить, точно леденец сосет: сю-сю-сю… Струсил, плохо разбирает свою рукопись, мыслишки движутся еле-еле, со скоростью архимандрита, едущего на велосипеде, а главное, никак не разберешь, что он хочет сказать. Скучища страшная, мухи мрут. Эту скучищу можно сравнить только разве с тою, какая бывает у нас в актовом зале на годичном акте, когда читается традиционная речь, чтоб ее черт взял.
И тотчас же резкий переход:
– Года три тому назад, вот Николай Степанович помнит, пришлось мне читать эту речь. Жарко, душно, мундир давит под мышками – просто смерть! Читаю полчаса, час, полтора часа, два часа… «Ну, думаю, слава богу, осталось еще только десять страниц». А в конце у меня были такие четыре страницы, что можно было совсем не читать, и я рассчитывал их выпустить. Значит, осталось, думаю, только шесть. Но, представьте, взглянул мельком вперед и вижу: в первом ряду сидят рядышком какой-то генерал с лентой и архиерей. Бедняги окоченели от скуки, таращат глаза, чтоб не уснуть, и все-таки тем не менее стараются изображать на своих лицах внимание и делают вид, что мое чтение им понятно и нравится. Ну, думаю, коли нравится, так нате же вам! Назло! Взял и прочел все четыре страницы.
Когда он говорит, то улыбаются у него, как вообще у насмешливых людей, одни только глаза и брови. В глазах у него в это время нет ни ненависти, ни злости, но много остроты и той особой лисьей хитрости, какую можно бывает подметить только у очень наблюдательных людей. Если продолжать говорить об его глазах, то я заметил еще одну их особенность. Когда он принимает от Кати стакан, или выслушивает ее замечание, или провожает ее взглядом, когда она зачем-нибудь ненадолго выходит из комнаты, то в его взгляде я замечаю что-то кроткое, молящее, чистое…
Горничная убирает самовар и ставит на стол большой кусок сыру, фрукты и бутылку крымского шампанского, довольно плохого вина, которое Катя полюбила, когда жила в Крыму. Михаил Федорович берет с этажерки две колоды карт и раскладывает пасьянс. По его уверению, некоторые пасьянсы требуют большой сообразительности и внимания, но тем не менее все-таки, раскладывая их, он не перестает развлекать себя разговором. Катя внимательно следит за его картами и больше мимикой, чем словами, помогает ему. Вина за весь вечер она выпивает не больше двух рюмок, я выпиваю четверть стакана; остальная часть бутылки приходится на долю Михаила Федоровича, который может пить много и никогда не пьянеет.
За пасьянсом мы решаем разные вопросы, преимущественно высшего порядка, причем больше всего достается тому, что мы больше всего любим, то есть науке.
– Наука, слава богу, отжила свой век, – говорит Михаил Федорович с расстановкой. – Ее песня уже спета. Да-с. Человечество начинает уже чувствовать потребность заменить ее чем-нибудь другим. Выросла она на почве предрассудков, вскормлена предрассудками и составляет теперь такую же квинтэссенцию из предрассудков, как ее отжившие бабушки: алхимия, метафизика и философия. И в самом деле, что она дала людям? Ведь между учеными европейцами и китайцами, не имеющими у себя никаких наук, разница самая ничтожная, чисто внешняя. Китайцы не знали науки, но что они от этого потеряли?
– И мухи не знают науки, – говорю я, – но что же из этого?
– Вы напрасно сердитесь, Николай Степаныч.
Я ведь это говорю здесь, между нами… Я осторожнее, чем вы думаете, и не стану говорить это публично, спаси бог! В массе живет предрассудок, что науки и искусства выше земледелия, торговли, выше ремесел. Наша секта кормится этим предрассудком, и не мне с вами разрушать его. Спаси бог!
За пасьянсом достается на орехи и молодежи.
– Измельчала нынче наша публика, – вздыхает Михаил Федорович. – Не говорю уже об идеалах и прочее, но хоть бы работать и мыслить умели толком! Вот уж именно: «Печально я гляжу на наше поколенье».
– Да, ужасно измельчали, – соглашается Катя. – Скажите, в последние пять – десять лет был ли у вас хоть один выдающийся?
– Не знаю, как у других профессоров, но у себя что-то не помню.
– Я видела на своем веку много студентов и ваших молодых ученых, много актеров… Что ж? Ни разу не сподобилась встретиться не только с героем или с талантом, но даже просто с интересным человеком. Все серо, бездарно, надуто претензиями…
Все эти разговоры об измельчании производят на меня всякий раз такое впечатление, как будто я нечаянно подслушал нехороший разговор о своей дочери. Мне обидно, что обвинения огульны и строятся на таких давно избитых общих местах, таких жупелах, как измельчание, отсутствие идеалов или ссылка на прекрасное прошлое. Всякое обвинение, даже если оно высказывается в дамском обществе, должно быть формулировано с возможною определенностью, иначе оно не обвинение, а пустое злословие, недостойное порядочных людей.
Я старик, служу уже тридцать лет, но не замечаю ни измельчания, ни отсутствия идеалов и не нахожу, чтобы теперь было хуже, чем прежде. Мой швейцар, Николай, опыт которого в данном случае имеет свою цену, говорит, что нынешние студенты не лучше и не хуже прежних.
Если бы меня спросили, что мне не нравится в теперешних моих учениках, то я ответил бы на это не сразу и не много, но с достаточной определенностью. Недостатки их я знаю, и мне поэтому нет надобности прибегать к туману общих мест. Мне не нравится, что они курят табак, употребляют спиртные напитки и поздно женятся; что они беспечны и часто равнодушны до такой степени, что терпят в своей среде голодающих и не платят долгов в общество вспомоществования студентам. Они не знают новых языков и неправильно выражаются по-русски; не дальше как вчера мой товарищ-гигиенист жаловался мне, что ему приходится читать вдвое больше, так как они плохо знают физику и совершенно незнакомы с метеорологией. Они охотно поддаются влиянию писателей новейшего времени, даже не лучших, но совершенно равнодушны к таким классикам, как, например, Шекспир, Марк Аврелий, Епиктет или Паскаль, и в этом неуменье отличать большое от малого наиболее всего сказывается их житейская непрактичность. Все затруднительные вопросы, имеющие более или менее общественный характер (например, переселенческий), они решают подписными листами, но не путем научного исследования и опыта, хотя последний путь находится в полном их распоряжении и наиболее соответствует их назначению. Они охотно становятся ординаторами, ассистентами, лаборантами, экстернами и готовы занимать эти места до сорока лет, хотя самостоятельность, чувство свободы и личная инициатива в науке не меньше нужны, чем, например, в искусстве или торговле. У меня есть ученики и слушатели, но нет помощников и наследников, и потому я люблю их и умиляюсь, но не горжусь ими. И т. д., и т. д.
Подобные недостатки, как бы много их ни было, могут породить пессимистическое или бранчивое настроение только в человеке малодушном и робком. Все они имеют случайный, преходящий характер и находятся в полной зависимости от жизненных условий; достаточно каких-нибудь десяти лет, чтобы они исчезли или уступили свое место другим, новым недостаткам, без которых не обойтись и которые, в свою очередь, будут пугать малодушных. Студенческие грехи досаждают мне часто, но эта досада ничто в сравнении с тою радостью, какую я испытываю уже тридцать лет, когда беседую с учениками, читаю им, приглядываюсь к их отношениям и сравниваю их с людьми не их круга.
Михаил Федорович злословит, Катя слушает, и оба не замечают, в какую глубокую пропасть мало-помалу втягивает их такое, по-видимому, невинное развлечение, как осуждение ближних. Они не чувствуют, как простой разговор постепенно переходит в глумление и в издевательство и как оба они начинают пускать в ход даже клеветнические приемы.
– Уморительные попадаются субъекты, – говорит Михаил Федорович. – Вчера прихожу я к нашему Егору Петровичу и застаю там студиоза, из ваших же медиков, третьего курса, кажется. Лицо этакое… в добролюбовском стиле, на лбу печать глубокомыслия. Разговорились. «Такие-то дела, говорю, молодой человек. Читал я, говорю, что какой-то немец – забыл его фамилию – добыл из человеческого мозга новый алкалоид-идиотин». Что ж вы думаете? Поверил и даже на лице своем уважение изобразил: знай, мол, наших! А то намедни прихожу я в театр. Сажусь. Как раз впереди меня, в следующем ряду, сидят каких-то два: один «из насих» и, по-видимому, юрист, другой лохматый – медик. Медик пьян, как сапожник. На сцену – ноль внимания. Знай себе дремлет да носом клюет. Но как только какой-нибудь актер начнет громко читать монолог или просто возвысит голос, мой медик вздрагивает, толкает своего соседа в бок и спрашивает: «Что он говорит? Бла-а-родно?» – «Благородно», – отвечает «из насих». «Брраво! – орет медик. – Бла-а-родно! Браво!» Он, видите ли, дубина пьяная, пришел в театр не за искусством, а за благородством. Ему благородство нужно.
А Катя слушает и смеется. Хохот у нее какой-то странный: вдыхания быстро и ритмически правильно чередуются с выдыханиями – похоже на то, как будто она играет на гармонике, – и на лице при этом смеются одни только ноздри. Я же падаю духом и не знаю, что говорить. Выйдя из себя, я вспыхиваю, вскакиваю с места и кричу:
– Замолчите, наконец! Что вы сидите тут, как две жабы, и отравляете воздух своими дыханиями? Довольно!
И, не дождавшись, когда они кончат злословить, я собираюсь уходить домой. Да уж и пора: одиннадцатый час.
– А я еще посижу немножко, – говорит Михаил Федорович. – Позволяете, Екатерина Владимировна?
– Позволяю, – отвечает Катя.
– Bene.[16] В таком случае прикажите подать еще бутылочку.
Оба провожают меня со свечами в переднюю, и, пока я надеваю шубу, Михаил Федорович говорит:
– В последнее время вы ужасно похудели и состарились, Николай Степанович. Что с вами? Больны?
– Да, болен немножко.
– И не лечится… – угрюмо вставляет Катя.
– Отчего же не лечитесь? Как можно так? Береженого, милый человек, бог бережет. Кланяйтесь вашим и извинитесь, что не бываю. На днях, перед отъездом за границу, приду проститься. Непременно! На будущей неделе уезжаю.
Выхожу я от Кати раздраженный, напуганный разговорами о моей болезни и недовольный собою. Я себя спрашиваю: в самом деле, не полечиться ли у кого-нибудь из товарищей? И тотчас же я воображаю, как товарищ, выслушав меня, отойдет молча к окну, подумает, потом обернется ко мне и, стараясь, чтобы я не прочел на его лице правды, скажет равнодушным тоном: «Пока не вижу ничего особенного, но все-таки, коллега, я советовал бы вам прекратить занятия…» И это лишит меня последней надежды.
У кого нет надежд? Теперь, когда я сам ставлю себе диагноз и сам лечу себя, временами я надеюсь, что меня обманывает мое невежество, что я ошибаюсь и насчет белка и сахара, которые нахожу у себя, и насчет сердца, и насчет тех отеков, которые уже два раза видел у себя по утрам; когда я с усердием ипохондрика перечитываю учебники терапии и ежедневно меняю лекарства, мне все кажется, что я набреду на что-нибудь утешительное. Мелко все это.
Покрыто ли небо тучами или сияют на нем луна и звезды, я всякий раз, возвращаясь, гляжу на него и думаю о том, что скоро меня возьмет смерть. Казалось бы, в это время мысли мои должны быть глубоки, как небо, ярки, поразительны… Но нет! Я думаю о себе самом, о жене, Лизе, Гнеккере, о студентах, вообще о людях; думаю нехорошо, мелко, хитрю перед самим собою, и в это время мое миросозерцание может быть выражено словами, которые знаменитый Аракчеев сказал в одном из своих интимных писем: «Все хорошее в свете не может быть без дурного, и всегда более худого, чем хорошего». То есть все гадко, не для чего жить, а те шестьдесят два года, которые уже прожиты, следует считать пропащими. Я ловлю себя на этих мыслях и стараюсь убедить себя, что они случайны, временны и сидят во мне не глубоко, но тотчас же я думаю:
«Если так, то зачем же каждый вечер тебя тянет к тем двум жабам?»
И я даю себе клятву больше никогда не ходить к Кате, хотя и знаю, что завтра же опять пойду к ней.
Дергая у своей двери за звонок и потом идя вверх по лестнице, я чувствую, что у меня уже нет семьи и нет желания вернуть ее. Ясно, что новые, аракчеевские мысли сидят во мне не случайно и не временно, а владеют всем моим существом. С больною совестью, унылый, ленивый, едва двигая членами, точно во мне прибавилась тысяча пудов весу, я ложусь в постель и скоро засыпаю.
А потом – бессонница…
IV
Наступает лето, и жизнь меняется.
В одно прекрасное утро входит ко мне Лиза и говорит шутливым тоном:
– Пойдемте, ваше превосходительство. Готово.
Мое превосходительство ведут на улицу, сажают на извозчика и везут. Я еду и от нечего делать читаю вывески справа налево. Из слова «трактир» выходит «риткарт». Это годилось бы для баронской фамилии: баронесса Риткарт. Далее еду по полю мимо кладбища, которое не производит на меня ровно никакого впечатления, хотя я скоро буду лежать на нем; потом еду лесом и опять полем. Ничего интересного. После двухчасовой езды мое превосходительство ведут в нижний этаж дачи и помещают его в небольшой, очень веселенькой комнатке с голубыми обоями.
Ночью по-прежнему бессонница, но утром я уже не бодрствую и не слушаю жены, а лежу в постели. Я не сплю, а переживаю сонливое состояние, полузабытье, когда знаешь, что не спишь, но видишь сны. В полдень я встаю и сажусь по привычке за свой стол, но уж не работаю, а развлекаю себя французскими книжками в желтых обложках, которые присылает мне Катя. Конечно, было бы патриотичнее читать русских авторов, но, признаться, я не питаю к ним особенного расположения. Исключая двух-трех стариков, вся нынешняя литература представляется мне не литературой, а в своем роде кустарным промыслом, существующим только для того, чтобы его поощряли, но неохотно пользовались его изделиями. Самое лучшее из кустарных изделий нельзя назвать замечательным и нельзя искренно похвалить его без но; то же самое следует сказать и о всех тех литературных новинках, которые я прочел в последние десять – пятнадцать лет: ни одной замечательной, и не обойдешься без но. Умно, благородно, но неталантливо; талантливо, благородно, но неумно, или наконец – талантливо, умно, но неблагородно.
Я не скажу, чтобы французские книжки были и талантливы, и умны, и благородны. И они не удовлетворяют меня. Но они не так скучны, как русские, и в них не редкость найти главный элемент творчества – чувство личной свободы, чего нет у русских авторов. Я не помню ни одной такой новинки, в которой автор с первой же страницы не постарался бы опутать себя всякими условностями и контрактами со своею совестью. Один боится говорить о голом теле, другой связал себя по рукам и по ногам психологическим анализом, третьему нужно «теплое отношение к человеку», четвертый нарочно целые страницы размазывает описаниями природы, чтобы не быть заподозренным в тенденциозности… Один хочет быть в своих произведениях непременно мещанином, другой непременно дворянином и т. д. Умышленность, осторожность, себе на уме, но нет ни свободы, ни мужества писать, как хочется, а стало быть, нет и творчества.
Все это относится к так называемой изящной словесности.
Что же касается русских серьезных статей, например по социологии, по искусству и проч., то я не читаю их просто из робости. В детстве и в юности я почему-то питал страх к швейцарам и к театральным капельдинерам, и этот страх остался у меня до сих пор. Я и теперь боюсь их. Говорят, что кажется страшным только то, что непонятно. И в самом деле, очень трудно понять, отчего швейцары и капельдинеры так важны, надменны и величаво невежливы. Читая серьезные статьи, я чувствую точно такой же неопределенный страх. Необычайная важность, игривый генеральский тон, фамильярное обращение с иностранными авторами, уменье с достоинством переливать из пустого в порожнее – все это для меня непонятно, страшно и все это непохоже на скромность и джентльменски-покойный тон, к которым я привык, читая наших писателей-врачей и естественников. Не только статьи, но мне тяжело читать даже переводы, которые делают или редактируют русские серьезные люди. Чванный, благосклонный тон предисловий, изобилие примечаний от переводчика, мешающих мне сосредоточиться, знаки вопроса и sic[17] в скобках, разбросанные щедрым переводчиком по всей статье или книге, представляются мне покушением и на личность автора, и на мою читательскую самостоятельность.
Как-то раз я был приглашен экспертом в окружной суд; в антракте один из моих товарищей-экспертов обратил мое внимание на грубое отношение прокурора к подсудимым, среди которых были две интеллигентные женщины. Мне кажется, я нисколько не преувеличил, ответив товарищу, что это отношение не грубее тех, какие существуют у авторов серьезных статей друг к другу. В самом деле, эти отношения так грубы, что о них можно говорить только с тяжелым чувством. Друг к другу и к тем писателям, которых они критикуют, относятся они или излишне почтительно, не щадя своего достоинства, или же, наоборот, третируют их гораздо смелее, чем я в этих записках и мыслях своего будущего зятя Гнеккера. Обвинения в невменяемости, в нечистоте намерений и даже во всякого рода уголовщине составляют обычное украшение серьезных статей. А это уж, как любят выражаться в своих статейках молодые врачи, ultima ratio![18] Такие отношения неминуемо должны отражаться на нравах молодого поколения пишущих, и поэтому я нисколько не удивляюсь, что в тех новинках, какие приобрела в последние десять – пятнадцать лет наша изящная словесность, герои пьют много водки, а героини недостаточно целомудренны.
Я читаю французские книжки и поглядываю на окно, которое открыто; мне видны зубцы моего палисадника, два-три тощих деревца, а там дальше за палисадником дорога, поле, потом широкая полоса хвойного леса. Часто я любуюсь, как какие-то мальчик и девочка, оба беловолосые и оборванные, карабкаются на палисадник и смеются над моей лысиной. В их блестящих глазенках я читаю: «Гляди, плешивый!» Это едва ли не единственные люди, которым нет никакого дела ни до моей известности, ни до чина.
Посетители теперь бывают у меня не каждый день. Упомяну только о посещениях Николая и Петра Игнатьевича. Николай приходит обыкновенно ко мне по праздникам, как будто за делом, но больше затем, чтоб повидаться. Приходит он сильно навеселе, чего с ним никогда не бывает зимою.
– Что скажешь? – спрашиваю я, выходя к нему в сени.
– Ваше превосходительство! – говорит он, прижимая руку к сердцу и глядя на меня с восторгом влюбленного. – Ваше превосходительство! Накажи меня бог! Убей гром на этом месте! Гаудеамус игитур ювенестус![19]
И он жадно целует меня в плечи, в рукава, в пуговицы.
– Все у нас там благополучно? – спрашиваю я его.
– Ваше превосходительство! Как перед истинным…
Он не перестает божиться без всякой надобности, скоро наскучает мне, и я отсылаю его в кухню, где ему подают обедать. Петр Игнатьевич приезжает ко мне тоже по праздникам специально затем, чтобы проведать и поделиться со мною мыслями. Сидит он у меня обыкновенно около стола, скромный, чистенький, рассудительный, не решаясь положить ногу на ногу или облокотиться о стол; и все время он тихим, ровным голоском, гладко и книжно рассказывает мне разные, по его мнению, очень интересные и пикантные новости, вычитанные им из журналов и книжек. Все эти новости похожи одна на другую и сводятся к такому типу: один француз сделал открытие, другой – немец – уличил его, доказав, что это открытие было сделано еще в 1870 году каким-то американцем, а третий – тоже немец – перехитрил обоих, доказав им, что оба они опростоволосились, приняв под микроскопом шарики воздуха за темный пигмент. Петр Игнатьевич, даже когда хочет рассмешить меня, рассказывает длинно, обстоятельно, точно защищает диссертацию, с подробным перечислением литературных источников, которыми он пользовался, стараясь не ошибиться ни в числах, ни в номерах журналов, ни в именах, причем говорит не просто Пти, а непременно Жан-Жак Пти. Случается, что он остается у нас обедать, и тогда в продолжение всего обеда он рассказывает все те же пикантные истории, наводящие уныние на всех обедающих. Если Гнеккер и Лиза заводят при нем речь о фугах и контрапунктах, о Брамсе и Бахе, то он скромно потупляет взоры и конфузится; ему стыдно, что в присутствии таких серьезных людей, как я и он, говорят о таких пошлостях.
При теперешнем моем настроении достаточно пяти минут, чтобы он надоел мне так, как будто я вижу и слушаю его уже целую вечность. Я ненавижу беднягу. От его тихого, ровного голоса и книжного языка я чахну, от рассказов тупею… Он питает ко мне самые хорошие чувства и говорит со мною только для того, чтобы доставить мне удовольствие, а я плачу ему тем, что в упор гляжу на него, точно хочу его загипнотизировать и думаю: «Уйди, уйди, уйди…» Но он не поддается мысленному внушению и сидит, сидит, сидит…
Пока он сидит у меня, я никак не могу отделаться от мысли: «Очень возможно, что, когда я умру, его назначат на мое место», – и моя бедная аудитория представляется мне оазисом, в котором высох ручей, и я с Петром Игнатьевичем нелюбезен, молчалив, угрюм, как будто в подобных мыслях виноват он, а не я сам. Когда он начинает, по обычаю, превозносить немецких ученых, я уж не подшучиваю добродушно, как прежде, а угрюмо бормочу:
– Ослы ваши немцы…
Это похоже на то, как покойный профессор Никита Крылов, купаясь однажды с Пироговым в Ревеле и рассердившись на воду, которая была очень холодна, выбранился: «Подлецы немцы!» Веду я себя с Петром Игнатьевичем дурно, и только когда он уходит и я вижу, как в окне за палисадником мелькает его серая шляпа, мне хочется окликнуть его и сказать: «Простите меня, голубчик!»
Обед у нас проходит скучнее, чем зимою. Тот же Гнеккер, которого я теперь ненавижу и презираю, обедает у меня почти каждый день. Прежде я терпел его присутствие молча, теперь же я отпускаю по его адресу колкости, заставляющие краснеть жену и Лизу. Увлекшись злым чувством, я часто говорю просто глупости и не знаю, зачем говорю их. Так случилось однажды, я долго глядел с презрением на Гнеккера и ни с того ни с сего выпалил:
Орлам случается и ниже кур спускаться, Но курам никогда до облак не подняться…И досаднее всего, что курица Гнеккер оказывается гораздо умнее орла-профессора. Зная, что жена и дочь на его стороне, он держится такой тактики: отвечает на мои колкости снисходительным молчанием (спятил, мол, старик – что с ним разговаривать?) или же добродушно подшучивает надо мной. Нужно удивляться, до какой степени может измельчать человек! Я в состоянии в продолжение всего обеда мечтать о том, как Гнеккер окажется авантюристом, как Лиза и жена поймут свою ошибку и как я буду дразнить их, – и подобные нелепые мечты в то время, когда одною ногой я стою уже в могиле!
Бывают теперь и недоразумения, о которых я прежде имел понятие только понаслышке. Как мне ни совестно, но опишу одно из них, случившееся на днях после обеда.
Я сижу у себя в комнате и курю трубочку. Входит, по обыкновению, жена, садится и начинает говорить о том, что хорошо бы теперь, пока тепло и есть свободное время, съездить в Харьков и разузнать там, что за человек наш Гнеккер.
– Хорошо, съезжу… – соглашаюсь я.
Жена, довольная мною, встает и идет к двери, но тотчас же возвращается и говорит:
– Кстати, еще одна просьба. Я знаю, ты рассердишься, но моя обязанность предупредить тебя… Извини, Николай Степаныч, но все наши знакомые и соседи стали уж поговаривать о том, что ты очень часто бываешь у Кати. Она умная, образованная, я не спорю, с ней приятно провести время, но в твои годы и с твоим общественным положением как-то, знаешь, странно находить удовольствие в ее обществе… К тому же у нее такая репутация, что…
Вся кровь вдруг отливает от моего мозга, из глаз сыплются искры, я вскакиваю и, схватив себя за голову, топоча ногами, кричу не своим голосом:
– Оставьте меня! Оставьте меня! Оставьте!
Вероятно, лицо мое ужасно, голос странен, потому что жена вдруг бледнеет и громко вскрикивает каким-то тоже не своим, отчаянным голосом. На наш крик вбегают Лиза, Гнеккер, потом Егор…
– Оставьте меня! – кричу я. – Вон! Оставьте!
Ноги мои немеют, точно их нет совсем, я чувствую, как падаю на чьи-то руки, потом недолго слышу плач и погружаюсь в обморок, который длится часа два-три.
Теперь о Кате. Она бывает у меня каждый день перед вечером, и этого, конечно, не могут не заметить ни соседи, ни знакомые. Она приезжает на минутку и увозит меня с собой кататься. У нее своя лошадь и новенький шарабан, купленный этим летом. Вообще живет она на широкую ногу: наняла дорогую дачу-особняк с большим садом и перевезла в нее всю свою городскую обстановку, имеет двух горничных, кучера… Часто я спрашиваю ее:
– Катя, чем ты будешь жить, когда промотаешь отцовские деньги?
– Там увидим, – отвечает она.
– Эти деньги, мой друг, заслуживают более серьезного отношения к ним. Они нажиты хорошим человеком, честным трудом.
– Об этом вы уже говорили мне. Знаю.
Сначала мы едем по полю, потом по хвойному лесу, который виден из моего окна. Природа по-прежнему кажется мне прекрасною, хотя бес и шепчет мне, что все эти сосны и ели, птицы и белые облака на небе через три или четыре месяца, когда я умру, не заметят моего отсутствия. Кате нравится править лошадью и приятно, что погода хороша и что я сижу рядом с нею. Она в духе и не говорит резкостей.
– Вы очень хороший человек, Николай Степаныч, – говорит она. – Вы редкий экземпляр, и нет такого актера, который сумел бы сыграть вас. Меня или, например, Михаила Федорыча сыграет даже плохой актер, а вас никто. И я вам завидую, страшно завидую! Ведь что я изображаю из себя? Что?
Она с минуту думает и спрашивает меня:
– Николай Степаныч, ведь я отрицательное явление? Да?
– Да, – отвечаю я.
– Гм… Что же мне делать?
Что ответить ей? Легко сказать «трудись», или «раздай свое имущество бедным», или «познай самого себя», и потому, что это легко сказать, я не знаю, что ответить.
Мои товарищи терапевты, когда учат лечить, советуют «индивидуализировать каждый отдельный случай». Нужно послушаться этого совета, чтобы убедиться, что средства, рекомендуемые в учебниках за самые лучшие и вполне пригодные для шаблона, оказываются совершенно негодными в отдельных случаях. То же самое и в нравственных недугах.
Но ответить что-нибудь нужно, и я говорю:
– У тебя, мой друг, слишком много свободного времени. Тебе необходимо заняться чем-нибудь. В самом деле, отчего бы тебе опять не поступить в актрисы, если есть призвание?
– Не могу.
– Тон и манера у тебя таковы, как будто ты жертва. Это мне не нравится, друг мой. Сама ты виновата. Вспомни, ты начала с того, что рассердилась на людей и на порядки, но ничего не сделала, чтобы те и другие стали лучше. Ты не боролась со злом, а утомилась, и ты жертва не борьбы, а своего бессилия. Ну, конечно, тогда ты была молода, неопытна, теперь же все может пойти иначе. Право, поступай! Будешь ты трудиться, служить святому искусству…
– Не лукавьте, Николай Степаныч, – перебивает меня Катя. – Давайте раз навсегда условимся: будем говорить об актерах, об актрисах, писателях, но оставим в покое искусство. Вы прекрасный, редкий человек, но не настолько понимаете искусство, чтобы по совести считать его святым. К искусству у вас нет ни чутья, ни слуха. Всю жизнь вы были заняты, и вам некогда было приобретать это чутье. Вообще… я не люблю этих разговоров об искусстве! – продолжает она нервно. – Не люблю! И так уж опошлили его, благодарю покорно!
– Кто опошлил?
– Те опошлили его пьянством, газеты – фамильярным отношением, умные люди – философией.
– Философия тут ни при чем.
– При чем. Если кто философствует, то это значит, что он не понимает.
Чтобы дело не дошло до резкостей, я спешу переменить разговор и потом долго молчу. Только когда мы выезжаем из леса и направляемся к Катиной даче, я возвращаюсь к прежнему разговору и спрашиваю:
– Ты все-таки не ответила мне: отчего ты не хочешь идти в актрисы?
– Николай Степаныч, это, наконец, жестоко! – вскрикивает она и вдруг вся краснеет. – Вам хочется, чтобы я вслух сказала правду? Извольте, если это… это вам нравится! Таланта у меня нет! Таланта нет и… и много самолюбия! Вот!
Сделав такое признание, она отворачивает от меня лицо и, чтобы скрыть дрожь в руках, сильно дергает за вожжи.
Подъезжая к ее даче, мы уже издали видим Михаила Федоровича, который гуляет около ворот и нетерпеливо поджидает нас.
– Опять этот Михаил Федорыч! – говорит Катя с досадой. – Уберите его от меня, пожалуйста! Надоел, выдохся… Ну его!
Михаилу Федоровичу давно уже нужно ехать за границу, но он каждую неделю откладывает свой отъезд. В последнее время с ним произошли кое-какие перемены: он как-то осунулся, стал хмелеть от вина, чего с ним раньше никогда не бывало, и его черные брови начинают седеть. Когда наш шарабан останавливается у ворот, он не скрывает своей радости и своего нетерпения. Он суетливо высаживает Катю и меня, торопится задавать вопросы, смеется, потирает руки, и то кроткое, молящееся, чистое, что я прежде замечал только в его взгляде, теперь разлито по всему его лицу. Он радуется, и в то же время ему стыдно своей радости, стыдно этой привычки бывать у Кати каждый вечер, и он находит нужным мотивировать свой приезд какою-нибудь очевидною нелепостью вроде: «Ехал мимо по делу и дай, думаю, заеду на минуту».
Все трое мы идем в комнаты; сначала пьем чай, потом на столе появляются давно знакомые мне две колоды карт, большой кусок сыру, фрукты и бутылка крымского шампанского. Темы для разговоров у нас не новы, всё те же, что были и зимою. Достается и университету, и студентам, и литературе, и театру; воздух от злословия становится гуще, душнее, и отравляют его своими дыханиями уже не две жабы, как зимою, а целых три. Кроме бархатного, баритонного смеха и хохота, похожего на гармонику, горничная, которая служит нам, слышит еще неприятный, дребезжащий смех, каким в водевилях смеются генералы: хе-хе-хе…
V
Бывают страшные ночи с громом, молнией, дождем и ветром, которые в народе называют воробьиными. Одна точно такая же воробьиная ночь была и в моей личной жизни…
Я просыпаюсь после полуночи и вдруг вскакиваю с постели. Мне почему-то кажется, что я сейчас внезапно умру. Почему кажется? В теле нет ни одного такого ощущения, которое указывало бы на скорый конец, но душу мою гнетет такой ужас, как будто я вдруг увидел громадное зловещее зарево.
Я быстро зажигаю огонь, пью воду прямо из графина, потом спешу к открытому окну. Погода на дворе великолепная. Пахнет сеном и чем-то еще очень хорошим. Видны мне зубцы палисадника, сонные, тощие деревца у окна, дорога, темная полоса леса; на небе спокойная, очень яркая луна и ни одного облака. Тишина, не шевельнется ни один лист. Мне кажется, что все смотрит на меня и прислушивается, как я буду умирать…
Жутко. Закрываю окно и бегу к постели. Щупаю у себя пульс и, не найдя на руке, ищу его в висках, потом в подбородке и опять на руке, и все это у меня холодно, склизко от пота. Дыхание становится все чаще и чаще, тело дрожит, все внутренности в движении, на лице и на лысине такое ощущение, как будто на них садится паутина.
Что делать? Позвать семью? Нет, не нужно. Я не понимаю, что будут делать жена и Лиза, когда войдут ко мне.
Я прячу голову под подушку, закрываю глаза и жду, жду… Спине моей холодно, она точно втягивается вовнутрь, и такое у меня чувство, как будто смерть подойдет ко мне непременно сзади, потихоньку…
– Киви-киви! – раздается вдруг писк в ночной тишине, и я не знаю, где это: в моей груди или на улице?
– Киви-киви!
Боже мой, как страшно! Выпил бы еще воды, но уж страшно открыть глаза и боюсь поднять голову. Ужас у меня безотчетный, животный, и я никак не могу понять, отчего мне страшно: оттого ли, что хочется жить, или оттого, что меня ждет новая, еще не изведанная боль?
Наверху за потолком кто-то не то стонет, не то смеется… Прислушиваюсь. Немного погодя на лестнице раздаются шаги. Кто-то торопливо идет вниз, потом опять наверх. Через минуту шаги опять раздаются внизу; кто-то останавливается около моей двери и прислушивается.
– Кто там? – кричу я.
Дверь отворяется, я смело открываю глаза и вижу жену. Лицо у нее бледно и глаза заплаканы.
– Ты не спишь, Николай Степаныч? – спрашивает она.
– Что тебе?
– Ради бога, сходи к Лизе и посмотри на нее. С ней что-то делается…
– Хорошо… с удовольствием… – бормочу я, очень довольный тем, что я не один. – Хорошо… Сию минуту.
Я иду за своей женой, слушаю, что она говорит мне, и ничего не понимаю от волнения. По ступеням лестницы прыгают светлые пятна от ее свечи, дрожат наши длинные тени, ноги мои путаются в полах халата, я задыхаюсь, и мне кажется, что за мной что-то гонится и хочет схватить меня за спину. «Сейчас умру здесь, на этой лестнице, – думаю я. – Сейчас…» Но вот миновали лестницу, темный коридор с итальянским окном и входим в комнату Лизы. Она сидит на постели в одной сорочке, свесив босые ноги, и стонет.
– Ах, боже мой… ах, боже мой! – бормочет она, жмурясь от нашей свечи. – Не могу, не могу…
– Лиза, дитя мое, – говорю я. – Что с тобой?
Увидев меня, она вскрикивает и бросается мне на шею.
– Папа мой добрый… – рыдает она, – папа мой хороший… Крошечка мой, миленький… Я не знаю, что со мною… Тяжело!
Она обнимает меня, целует и лепечет ласкательные слова, какие я слышал от нее, когда она была еще ребенком.
– Успокойся, дитя мое, бог с тобой, – говорю я. – Не нужно плакать. Мне самому тяжело.
Я стараюсь укрыть ее, жена дает ей пить, и оба мы беспорядочно толчемся около постели; своим плечом я толкаю ее в плечо, и в это время мне вспоминается, как мы когда-то вместе купали наших детей.
– Да помоги же ей, помоги! – умоляет жена. – Сделай что-нибудь!
Что же я могу сделать? Ничего не могу. На душе у девочки какая-то тяжесть, но я ничего не понимаю, не знаю и могу только бормотать:
– Ничего, ничего… Это пройдет… Спи, спи…
Как нарочно, в нашем дворе раздается вдруг собачий вой, сначала тихий и нерешительный, потом громкий, в два голоса. Я никогда не придавал значения таким приметам, как вой собак или крик сов, но теперь сердце мое мучительно сжимается, и я спешу объяснить себе этот вой.
«Пустяки… – думаю я. – Влияние одного организма на другой. Мое сильное нервное напряжение передалось жене, Лизе, собаке, вот и все… Этой передачей объясняются предчувствия, предвидения…»
Когда я немного погодя возвращаюсь к себе в комнату, чтобы написать для Лизы рецепт, я уж не думаю о том, что скоро умру, но просто на душе тяжко, нудно, так что даже жаль, что я не умер внезапно. Долго я стою среди комнаты неподвижно и придумываю, что бы такое прописать для Лизы, но стоны за потолком умолкают, и я решаю ничего не прописывать и все-таки стою…
Тишина мертвая, такая тишина, что, как выразился какой-то писатель, даже в ушах звенит. Время идет медленно, полосы лунного света на подоконнике не меняют своего положения, точно застыли… Рассвет еще не скоро.
Но вот в палисаднике скрипит калитка, кто-то крадется и, отломив от одного из тощих деревец ветку, осторожно стучит ею по окну.
– Николай Степаныч! – слышу я шепот. – Николай Степаныч!
Я отворяю окно, и мне кажется, что я вижу сон: под окном, прижавшись к стене, стоит женщина в черном платье, ярко освещенная луной, и глядит на меня большими глазами. Лицо ее бледно, строго и фантастично от луны, как мраморное, подбородок дрожит.
– Это я… – говорит она. – Я… Катя!
При лунном свете все женские глаза кажутся большими и черными, люди выше и бледнее, и потому, вероятно, я не узнал ее в первую минуту.
– Что тебе?
– Простите, – говорит она. – Мне вдруг почему-то стало невыносимо тяжело… Я не выдержала и поехала сюда… У вас в окно свет, и… и я решила постучать… Извините… Ах, если б вы знали, как мне было тяжело! Что вы сейчас делаете?
– Ничего… Бессонница.
– У меня какое-то предчувствие было. Впрочем, пустяки.
Брови ее поднимаются, глаза блестят от слез, и все лицо озаряется, как светом, знакомым, давно не виданным выражением доверчивости.
– Николай Степаныч! – говорит она умоляюще, протягивая ко мне обе руки. – Дорогой мой, прошу вас… умоляю… Если вы не презираете моей дружбы и уважения к вам, то согласитесь на мою просьбу!
– Что такое?
– Возьмите от меня мои деньги!
– Ну, вот еще что выдумала! На что мне твои деньги?
– Вы поедете куда-нибудь лечиться… Вам нужно лечиться. Возьмете? Да? Голубчик, да?
Она жадно всматривается в мое лицо и повторяет:
– Да? Возьмете?
– Нет, мой друг, не возьму… – говорю я. – Спасибо.
Она поворачивается ко мне спиной и поникает головой. Вероятно, я отказал ей таким тоном, который не допускал дальнейших разговоров о деньгах.
– Поезжай домой спать, – говорю я. – Завтра увидимся.
– Значит, вы не считаете меня своим другом? – спрашивает она уныло.
– Я этого не говорю. Но деньги твои теперь для меня бесполезны.
– Извините… – говорит она, понизив голос на целую октаву. – Я понимаю вас… Одолжаться у такого человека, как я… у отставной актрисы… Впрочем, прощайте…
И она уходит так быстро, что я не успеваю даже сказать ей прощай.
VI
Я в Харькове.
Так как бороться с теперешним моим настроением было бы бесполезно, да и не в моих силах, то я решил, что последние дни моей жизни будут безупречны хотя с формальной стороны; если я не прав по отношению к своей семье, что я отлично сознаю, то буду стараться делать так, как она хочет. В Харьков ехать, так в Харьков. К тому же в последнее время я так равнодушен ко всему, что мне положительно все равно, куда ни ехать, в Харьков, в Париж ли, или в Бердичев.
Приехал я сюда часов в двенадцать дня и остановился в гостинице, недалеко от собора. В вагоне меня укачало, продуло сквозняками, и теперь я сижу на кровати, держусь за голову и жду tic’a. Надо бы сегодня же поехать к знакомым профессорам, да нет охоты и силы.
Входит коридорный лакей-старик и спрашивает, есть ли у меня постельное белье. Я задерживаю его минут на пять и задаю ему несколько вопросов насчет Гнеккера, ради которого я приехал сюда. Лакей оказывается уроженцем Харькова, знает этот город как свои пять пальцев, но не помнит ни одного такого дома, который носил бы фамилию Гнеккера. Расспрашиваю насчет имений – то же самое.
В коридоре часы бьют час, потом два, потом три… Последние месяцы моей жизни, пока я жду смерти, кажутся мне гораздо длиннее всей моей жизни. И никогда раньше я не умел так мириться с медленностию времени, как теперь. Прежде, бывало, когда ждешь на вокзале поезда или сидишь на экзамене, четверть часа кажутся вечностью, теперь же я могу всю ночь сидеть неподвижно на кровати и совершенно равнодушно думать о том, что завтра будет такая же длинная, бесцветная ночь, и послезавтра…
В коридоре бьет пять часов, шесть, семь… Становится темно.
В щеке тупая боль – это начинается tic. Чтобы занять себя мыслями, я становлюсь на прежнюю свою точку зрения, когда не был равнодушен, и спрашиваю: зачем я, знаменитый человек, тайный советник, сижу в этом маленьком нумере, на этой кровати с чужим серым одеялом? Зачем я гляжу на этот дешевый жестяной рукомойник и слушаю, как в коридоре дребезжат дрянные часы? Разве все это достойно моей славы и моего высокого положения среди людей? И на эти вопросы я отвечаю себе усмешкой. Смешна мне моя наивность, с какою я когда-то в молодости преувеличивал значение известности и того исключительного положения, каким будто бы пользуются знаменитости. Я известен, мое имя произносится с благоговением, мой портрет был и в «Ниве» и во «Всемирной иллюстрации», свою биографию я читал даже в одном немецком журнале – и что же из этого? Сижу я один-одинешенек в чужом городе, на чужой кровати, тру ладонью свою больную щеку… Семейные дрязги, немилосердие кредиторов, грубость железнодорожной прислуги, неудобства паспортной системы, дорогая и нездоровая пища в буфетах, всеобщее невежество и грубость в отношениях – все это и многое другое, что было бы слишком долго перечислять, касается меня не менее, чем любого мещанина, известного только своему переулку. В чем же выражается исключительность моего положения? Допустим, что я знаменит тысячу раз, что я герой, которым гордится моя родина; во всех газетах пишут бюллетени о моей болезни, по почте идут уже ко мне сочувственные адреса от товарищей, учеников и публики, но все это не помешает мне умереть на чужой кровати, в тоске, в совершенном одиночестве… В этом, конечно, никто не виноват, но, грешный человек, не люблю я своего популярного имени. Мне кажется, как будто оно меня обмануло.
Часов в десять я засыпаю и, несмотря на tic, сплю крепко и спал бы долго, если бы меня не разбудили.
В начале второго часа вдруг раздается стук в дверь.
– Кто там?
– Телеграмма!
– Могли бы и завтра, – сержусь я, получая от коридорного телеграмму. – Теперь уж я не усну в другой раз.
– Виноват-с. У вас огонь горит, я думал, что вы не спите.
Я распечатываю телеграмму и прежде всего гляжу на подпись: от жены. Что ей нужно?
«Вчера Гнеккер тайно обвенчался с Лизой. Возвратись».
Я читаю эту телеграмму и пугаюсь ненадолго. Пугает меня не поступок Лизы и Гнеккера, а мое равнодушие, с каким я встречаю известие об их свадьбе. Говорят, что философы и истинные мудрецы равнодушны. Неправда, равнодушие – это паралич души, преждевременная смерть.
Опять ложусь я в постель и начинаю придумывать, какими бы занять себя мыслями. О чем думать? Кажется, все уж передумано и ничего нет такого, что было бы теперь способно возбудить мою мысль.
Когда рассветает, я сижу в постели, обняв руками колена, и от нечего делать стараюсь познать самого себя. «Познай самого себя» – прекрасный и полезный совет; жаль только, что древние не догадались указать способ, как пользоваться этим советом.
Когда мне прежде приходила охота понять кого-нибудь или себя, то я принимал во внимание не поступки, в которых все условно, а желания. Скажи мне, чего ты хочешь, и я скажу, кто ты.
И теперь я экзаменую себя: чего я хочу?
Я хочу, чтобы наши жены, дети, друзья, ученики любили в нас не имя, не фирму и не ярлык, а обыкновенных людей. Еще что? Я хотел бы иметь помощников и наследников. Еще что? Хотел бы проснуться лет через сто и хоть одним глазом взглянуть, что будет с наукой. Хотел бы еще пожить лет десять… Дальше что?
А дальше ничего. Я думаю, долго думаю и ничего не могу еще придумать. И сколько бы я ни думал и куда бы ни разбрасывались мои мысли, для меня ясно, что в моих желаниях нет чего-то главного, чего-то очень важного. В моем пристрастии к науке, в моем желании жить, в этом сидении на чужой кровати и в стремлении познать самого себя, во всех мыслях, чувствах и понятиях, какие я составляю обо всем, нет чего-то общего, что связывало бы все это в одно целое. Каждое чувство и каждая мысль живут во мне особняком, и во всех моих суждениях о науке, театре, литературе, учениках и во всех картинках, которые рисует мое воображение, даже самый искусный аналитик не найдет того, что называется общей идеей или богом живого человека.
А коли нет этого, то, значит, нет и ничего.
При такой бедности достаточно было серьезного недуга, страха смерти, влияния обстоятельств и людей, чтобы все то, что я прежде считал своим мировоззрением и в чем видел смысл и радость своей жизни, перевернулось вверх дном и разлетелось в клочья. Ничего же поэтому нет удивительного, что последние месяцы своей жизни я омрачил мыслями и чувствами, достойными раба и варвара, что теперь я равнодушен и не замечаю рассвета. Когда в человеке нет того, что выше и сильнее всех внешних влияний, то, право, достаточно для него хорошего насморка, чтобы потерять равновесие и начать видеть в каждой птице сову, в каждом звуке слышать собачий вой. И весь его пессимизм или оптимизм с его великими и малыми мыслями в это время имеют значение только симптома, и больше ничего.
Я побежден. Если так, то нечего же продолжать еще думать, нечего разговаривать. Буду сидеть и молча ждать, что будет.
Утром коридорный приносит мне чай и нумер местной газеты. Машинально я прочитываю объявление на первой странице, передовую, выдержки из газет и журналов, хронику… Между прочим в хронике я нахожу такое известие: «Вчера с курьерским поездом прибыл в Харьков наш известный ученый, заслуженный профессор Николай Степанович такой-то и остановился в такой-то гостинице».
Очевидно, громкие имена создаются для того, чтобы жить особняком, помимо тех, кто их носит. Теперь мое имя безмятежно гуляет по Харькову; месяца через три оно, изображенное золотыми буквами на могильном памятнике, будет блестеть, как самое солнце, – и это в то время, когда я буду уж покрыт мохом…
Легкий стук в дверь. Кому-то я нужен.
– Кто там? Войдите!
Дверь отворяется, и я, удивленный, делаю шаг назад и спешу запахнуть полы своего халата. Передо мной стоит Катя.
– Здравствуйте, – говорит она, тяжело дыша от ходьбы по лестнице. – Не ожидали? Я тоже… тоже сюда приехала.
Она садится и продолжает, заикаясь и не глядя на меня:
– Что же вы не здороваетесь? Я тоже приехала… сегодня… Узнала, что вы в этой гостинице, и пришла к вам.
– Очень рад видеть тебя, – говорю я, пожимая плечами, – но я удивлен… Ты точно с неба свалилась. Зачем ты здесь?
– Я? Так… просто взяла и приехала.
Молчание. Вдруг она порывисто встает и идет ко мне.
– Николай Степаныч! – говорит она, бледнея и сжимая на груди руки. – Николай Степаныч! Я не могу дольше так жить! Не могу! Ради истинного Бога, скажите скорее, сию минуту: что мне делать? Говорите, что мне делать?
– Что же я могу сказать? – недоумеваю я. – Ничего я не могу.
– Говорите же, умоляю вас! – продолжает она, задыхаясь и дрожа всем телом. – Клянусь вам, что я не могу дольше так жить! Сил моих нет!
Она падает на стул и начинает рыдать. Она закинула назад голову, ломает руки, топочет ногами; шляпка ее свалилась с головы и болтается на резинке, прическа растрепалась.
– Помогите мне! Помогите! – умоляет она. – Не могу я дольше!
Она достает из своей дорожной сумочки платок и вместе с ним вытаскивает несколько писем, которые с ее колен падают на пол. Я подбираю их с полу и на одном из них узнаю почерк Михаила Федоровича и нечаянно прочитываю кусочек какого-то слова «страсти…».
– Ничего я не могу сказать тебе, Катя, – говорю я.
– Помогите! – рыдает она, хватая меня за руку и целуя ее. – Ведь вы мой отец, мой единственный друг! Ведь вы умны, образованны, долго жили! Вы были учителем! Говорите же: что мне делать?
– По совести, Катя: не знаю…
Я растерялся, сконфужен, тронут рыданиями и едва стою на ногах.
– Давай, Катя, завтракать, – говорю я, натянуто улыбаясь. – Будет плакать.
И тотчас же я прибавляю упавшим голосом:
– Меня скоро не станет, Катя…
– Хоть одно слово, хоть одно слово! – плачет она, протягивая ко мне руки. – Что мне делать?
– Чудачка, право… – бормочу я. – Не понимаю! Такая умница и вдруг – на тебе! расплакалась…
Наступает молчание. Катя поправляет прическу, надевает шляпу, потом комкает письма и сует их в сумочку – и все это молча и не спеша. Лицо, грудь и перчатки у нее мокры от слез, но выражение лица уже сухо, сурово… Я гляжу на нее, и мне стыдно, что я счастливее ее. Отсутствие того, что товарищи-философы называют общей идеей, я заметил в себе только незадолго перед смертью, на закате своих дней, а ведь душа этой бедняжки не знала и не будет знать приюта всю жизнь, всю жизнь!
– Давай, Катя, завтракать, – говорю я.
– Нет, благодарю, – отвечает она холодно.
Еще одна минута проходит в молчании.
– Не нравится мне Харьков, – говорю я. – Серо уж очень. Какой-то серый город.
– Да, пожалуй… Некрасивый… Я ненадолго сюда… Мимоездом. Сегодня же уеду.
– Куда?
– В Крым… то есть на Кавказ.
– Так. Надолго?
– Не знаю.
Катя встает и, холодно улыбнувшись, не глядя на меня, протягивает мне руку.
Мне хочется спросить: «Значит, на похоронах у меня не будешь?» Но она не глядит на меня, рука у нее холодная, словно чужая. Я молча провожаю ее до дверей… Вот она вышла от меня, идет по длинному коридору, не оглядываясь. Она знает, что я гляжу ей вслед, и, вероятно, на повороте оглянется.
Нет, не оглянулась. Черное платье в последний раз мелькнуло, затихли шаги… Прощай, мое сокровище!
1889Попрыгунья
I
На свадьбе у Ольги Ивановны были все ее друзья и добрые знакомые.
– Посмотрите на него: не правда ли, в нем что-то есть? – говорила она своим друзьям, кивая на мужа и как бы желая объяснить, почему это она вышла за простого, очень обыкновенного и ничем не замечательного человека.
Ее муж, Осип Степаныч Дымов, был врачом и имел чин титулярного советника. Служил он в двух больницах: в одной сверхштатным ординатором, а в другой – прозектором. Ежедневно от девяти часов утра до полудня он принимал больных и занимался у себя в палате, а после полудня ехал на конке в другую больницу, где вскрывал умерших больных. Частная практика его была ничтожна, рублей на пятьсот в год. Вот и все. Что еще можно про него сказать? А между тем Ольга Ивановна и ее друзья и добрые знакомые были не совсем обыкновенные люди. Каждый из них был чем-нибудь замечателен и немножко известен, имел уже имя и считался знаменитостью, или же хотя и не был еще знаменит, но зато подавал блестящие надежды. Артист из драматического театра, большой, давно признанный талант, изящный, умный и скромный человек и отличный чтец, учивший Ольгу Ивановну читать; певец из оперы, добродушный толстяк, со вздохом уверявший Ольгу Ивановну, что она губит себя: если бы она не ленилась и взяла себя в руки, то из нее вышла бы замечательная певица; затем несколько художников и во главе их жанрист, анималист и пейзажист Рябовский, очень красивый белокурый молодой человек, лет двадцати пяти, имевший успех на выставках и продавший свою последнюю картину за пятьсот рублей; он поправлял Ольге Ивановне ее этюды и говорил, что из нее, быть может, выйдет толк; затем виолончелист, у которого инструмент плакал и который откровенно сознавался, что из всех знакомых ему женщин умеет аккомпанировать одна только Ольга Ивановна; затем литератор, молодой, но уже известный, писавший повести, пьесы и рассказы. Еще кто? Ну, еще Василий Васильич, барин, помещик, дилетант-иллюстратор и виньетист, сильно чувствовавший старый русский стиль, былину и эпос; на бумаге, на фарфоре и на законченных тарелках он производил буквально чудеса. Среди этой артистической, свободной и избалованной судьбою компании, правда деликатной и скромной, но вспоминавшей о существовании каких-то докторов только во время болезни и для которой имя Дымов звучало так же безразлично, как Сидоров или Тарасов, – среди этой компании Дымов казался чужим, лишним и маленьким, хотя был высок ростом и широк в плечах. Казалось, что на нем чужой фрак и что у него приказчицкая бородка. Впрочем, если бы он был писателем или художником, то сказали бы, что своей бородкой он напоминает Зола.
Артист говорил Ольге Ивановне, что со своими льняными волосами и в венчальном наряде она очень похожа на стройное вишневое деревцо, когда весною оно сплошь бывает покрыто нежными белыми цве-тами.
– Нет, вы послушайте! – говорила ему Ольга Ивановна, хватая его за руку. – Как это могло вдруг случиться? Вы слушайте, слушайте… Надо вам сказать, что отец служил вместе с Дымовым в одной больнице. Когда бедняжка отец заболел, то Дымов по целым дням и ночам дежурил около его постели. Столько самопожертвования! Слушайте, Рябовский… И вы, писатель, слушайте, это очень интересно. Подойдите поближе. Сколько самопожертвования, искреннего участия! Я тоже не спала ночи и сидела около отца, и вдруг – здравствуйте, победила добра молодца! Мой Дымов врезался по самые уши. Право, судьба бывает так причудлива. Ну, после смерти отца он иногда бывал у меня, встречался на улице и в один прекрасный вечер вдруг – бац! – сделал предложение… как снег на голову… Я всю ночь проплакала и сама влюбилась адски. И вот, как видите, стала супругой. Не правда ли, в нем есть что-то сильное, могучее, медвежье? Теперь его лицо обращено к нам в три четверти, плохо освещено, но когда он обернется, вы посмотрите на его лоб. Рябовский, что вы скажете об этом лбе? Дымов, мы о тебе говорим! – крикнула она мужу. – Иди сюда. Протяни свою честную руку Рябовскому… Вот так. Будьте друзьями.
Дымов, добродушно и наивно улыбаясь, протянул Рябовскому руку и сказал:
– Очень рад. Со мной кончил курс тоже некто Рябовский. Это не родственник ваш?
II
Ольге Ивановне было двадцать два года, Дымову тридцать одни. Зажили они после свадьбы превосходно. Ольга Ивановна в гостиной увешала все стены сплошь своими и чужими этюдами в рамах и без рам, а около рояля и мебели устроила красивую тесноту из китайских зонтов, мольбертов, разноцветных тряпочек, кинжалов, бюстиков, фотографий… В столовой она оклеила стены лубочными картинами, повесила лапти и серпы, поставила в углу косу и грабли, и получилась столовая в русском вкусе. В спальне она, чтобы похоже было на пещеру, задрапировала потолок и стены темным сукном, повесила над кроватями венецианский фонарь, а у дверей поставила фигуру с алебардой. И все находили, что у молодых супругов очень миленький уголок.
Ежедневно, вставши с постели часов в одиннадцать, Ольга Ивановна играла на рояли или же, если было солнце, писала что-нибудь масляными красками. Потом, в первом часу, она ехала к своей портнихе. Так как у нее и Дымова денег было очень немного, в обрез, то, чтобы часто появляться в новых платьях и поражать своими нарядами, ей и ее портнихе приходилось пускаться на хитрости. Очень часто из старого перекрашенного платья, из ничего не стоящих кусочков тюля, кружев, плюша и шелка выходили просто чудеса, нечто обворожительное, не платье, а мечта. От портнихи Ольга Ивановна обыкновенно ехала к какой-нибудь знакомой актрисе, чтобы узнать театральные новости и кстати похлопотать насчет билета к первому представлению новой пьесы или к бенефису. От актрисы нужно было ехать в мастерскую художника или на картинную выставку, потом к кому-нибудь из знаменитостей – приглашать к себе, или отдать визит, или просто поболтать. И везде ее встречали весело и дружелюбно и уверяли ее, что она хорошая, милая, редкая… Те, которых она называла знаменитыми и великими, принимали ее как свою, как ровню и пророчили ей в один голос, что при ее талантах, вкусе и уме, если она не разбросается, выйдет большой толк. Она пела, играла на рояли, писала красками, лепила, участвовала в любительских спектаклях, но все это не как-нибудь, а с талантом; делала ли она фонарики для иллюминации, рядилась ли, завязывала ли кому галстук – все у нее выходило необыкновенно художественно, грациозно и мило. Но ни в чем ее талантливость не сказывалась так ярко, как в ее уменье быстро знакомиться и коротко сходиться с знаменитыми людьми. Стоило кому-нибудь прославиться хоть немножко и заставить о себе говорить, как она уж знакомилась с ним, в тот же день дружилась и приглашала к себе. Всякое новое знакомство было для нее сущим праздником. Она боготворила знаменитых людей, гордилась ими и каждую ночь видела их во сне. Она жаждала их и никак не могла утолить своей жажды. Старые уходили и забывались, приходили на смену им новые, но и к этим она скоро привыкала или разочаровывалась в них и начинала жадно искать новых и новых великих людей, находила и опять искала. Для чего?
В пятом часу она обедала дома с мужем. Его простота, здравый смысл и добродушие приводили ее в умиление и восторг. Она то и дело вскакивала, порывисто обнимала его голову и осыпала ее поцелуями.
– Ты, Дымов, умный, благородный человек, – говорила она, – но у тебя есть один очень важный недостаток. Ты совсем не интересуешься искусством. Ты отрицаешь и музыку и живопись.
– Я не понимаю их, – говорил он кротко. – Я всю жизнь занимался естественными науками и медициной, и мне некогда было интересоваться искусствами.
– Но ведь это ужасно, Дымов!
– Почему же? Твои знакомые не знают естественных наук и медицины, однако же ты не ставишь им этого в упрек. У каждого свое. Я не понимаю пейзажей и опер, но думаю так: если одни умные люди посвящают им всю свою жизнь, а другие умные люди платят за них громадные деньги, то, значит, они нужны. Я не понимаю, но не понимать не значит отрицать.
– Дай я пожму твою честную руку!
После обеда Ольга Ивановна ехала к знакомым, потом в театр или на концерт и возвращалась домой после полуночи. Так каждый день.
По средам у нее бывали вечеринки. На этих вечеринках хозяйка и гости не играли в карты и не танцевали, а развлекали себя разными художествами. Актер из драматического театра читал, певец пел, художники рисовали в альбомы, которых у Ольги Ивановны было множество, виолончелист играл, и сама хозяйка тоже рисовала, лепила, пела и аккомпанировала. В промежутках между чтением, музыкой и пением говорили и спорили о литературе, театре и живописи. Дам не было, потому что Ольга Ивановна всех дам, кроме актрис и своей портнихи, считала скучными и пошлыми. Ни одна вечеринка не обходилась без того, чтобы хозяйка не вздрагивала при каждом звонке и не говорила с победным выражением лица: «Это он!», разумея под словом «он» какую-нибудь новую приглашенную знаменитость. Дымова в гостиной не было, и никто не вспоминал об его существовании. Но ровно в половине двенадцатого отворялась дверь, ведущая в столовую, показывался Дымов со своею добродушною кроткою улыбкой и говорил, потирая руки:
– Пожалуйте, господа, закусить.
Все шли в столовую и всякий раз видели на столе одно и то же: блюдо с устрицами, кусок ветчины или телятины, сардины, сыр, икру, грибы, водку и два графина с вином.
– Милый мой метрдотель! – говорила Ольга Ивановна, всплескивая руками от восторга. – Ты просто очарователен! Господа, посмотрите на его лоб! Дымов, повернись в профиль. Господа, посмотрите: лицо бенгальского тигра, а выражение доброе и милое, как у оленя. У, милый!
Гости ели и, глядя на Дымова, думали: «В самом деле, славный малый», но скоро забывали о нем и продолжали говорить о театре, музыке и живописи.
Молодые супруги были счастливы, и жизнь их текла как по маслу. Впрочем, третья неделя их медового месяца была проведена не совсем счастливо, даже печально. Дымов заразился в больнице рожей, пролежал в постели шесть дней и должен был остричь догола свои красивые черные волосы. Ольга Ивановна сидела около него и горько плакала, но, когда ему полегчало, она надела на его стриженую голову беленький платок и стала писать с него бедуина. И обоим было весело. Дня через три после того, как он, выздоровевши, стал опять ходить в больницы, с ним произошло новое недоразумение.
– Мне не везет, мама! – сказал он однажды за обедом. – Сегодня у меня было четыре вскрытия, и я себе сразу два пальца порезал. И только дома я это заметил.
Ольга Ивановна испугалась. Он улыбнулся и сказал, что это пустяки и что ему часто приходится во время вскрытий делать себе порезы на руках.
– Я увлекаюсь, мама, и становлюсь рассеянным.
Ольга Ивановна с тревогой ожидала трупного заражения и по ночам молилась богу, но все обошлось благополучно. И опять потекла мирная счастливая жизнь без печалей и тревог. Настоящее было прекрасно, а на смену ему приближалась весна, уже улыбавшаяся издали и обещавшая тысячу радостей. Счастью не будет конца! В апреле, в мае и в июне дача далеко за городом, прогулки, этюды, рыбная ловля, соловьи, а потом, с июля до самой осени, поездка художников на Волгу, и в этой поездке, как непременный член сосьете,[20] будет принимать участие и Ольга Ивановна. Она уже сшила себе два дорожных костюма из холстинки, купила на дорогу красок, кистей, холста и новую палитру. Почти каждый день к ней приходил Рябовский, чтобы посмотреть, какие она сделала успехи по живописи. Когда она показывала ему свою живопись, он засовывал руки глубоко в карманы, крепко сжимал губы, сопел и говорил:
– Так-с… Это облако у вас кричит: оно освещено не по-вечернему. Передний план как-то сжеван и что-то, понимаете ли, не то… А избушка у вас подавилась чем-то и жалобно пищит… надо бы угол этот потемнее взять. А в общем недурственно… Хвалю.
И чем он непонятнее говорил, тем легче Ольга Ивановна его понимала.
III
На второй день Троицы после обеда Дымов купил закусок и конфет и поехал к жене на дачу. Он не виделся с нею уже две недели и сильно соскучился. Сидя в вагоне и потом отыскивая в большой роще свою дачу, он все время чувствовал голод и утомление и мечтал о том, как он на свободе поужинает вместе с женой и потом завалится спать. И ему весело было смотреть на свой сверток, в котором были завернуты икра, сыр и белорыбица.
Когда он отыскал свою дачу и узнал ее, уже заходило солнце. Старуха горничная сказала, что барыни нет дома и что, должно быть, они скоро придут. На даче, очень неприглядной на вид, с низкими потолками, оклеенными писчею бумагой, и с неровными щелистыми полами, было только три комнаты. В одной стояла кровать, в другой на стульях и окнах валялись холсты, кисти, засаленная бумага и мужские пальто и шляпы, а в третьей Дымов застал трех каких-то незнакомых мужчин. Двое были брюнеты с бородками, и третий совсем бритый и толстый, по-видимому – актер. На столе кипел самовар.
– Что вам угодно? – спросил актер басом, нелюдимо оглядывая Дымова. – Вам Ольгу Ивановну нужно? Погодите, она сейчас придет.
Дымов сел и стал дожидаться. Один из брюнетов, сонно и вяло поглядывая на него, налил себе чаю и спросил:
– Может, чаю хотите?
Дымову хотелось и пить и есть, но, чтобы не портить себе аппетита, он отказался от чая. Скоро послышались шаги и знакомый смех; хлопнула дверь, и в комнату вбежала Ольга Ивановна в широкополой шляпе и с ящиком в руке, а вслед за нею с большим зонтом и со складным стулом вошел веселый, краснощекий Рябовский.
– Дымов! – вскрикнула Ольга Ивановна и вспыхнула от радости. – Дымов! – повторила она, кладя ему на грудь голову и обе руки. – Это ты! Отчего ты так долго не приезжал? Отчего? Отчего?
– Когда же мне, мама? Я всегда занят, а когда бываю свободен, то все случается так, что расписание поездов не подходит.
– Но как я рада тебя видеть! Ты мне всю, всю ночь снился, и я боялась, как бы ты не заболел. Ах, если б ты знал, как ты мил, как ты кстати приехал! Ты будешь моим, спасителем. Ты один только можешь спасти меня! Завтра будет здесь преоригинальная свадьба, – продолжала она, смеясь и завязывая мужу галстук. – Женится молодой телеграфист на станции, некто Чикельдеев. Красивый молодой человек, ну, неглупый, и есть в лице, знаешь, что-то сильное, медвежье… Можно с него молодого варяга писать. Мы, все дачники, принимаем в нем участие и дали ему честное слово быть у него на свадьбе… Человек небогатый, одинокий, робкий, и, конечно, было бы грешно отказать ему в участии. Представь, после обедни венчанье, потом из церкви все пешком до квартиры невесты… понимаешь, роща, пение птиц, солнечные пятна на траве, и все мы разноцветными пятнами на ярко-зеленом фоне – преоригинально, во вкусе французских экспрессионистов. Но, Дымов, в чем я пойду в церковь? – сказала Ольга Ивановна и сделала плачущее лицо. – У меня здесь ничего нет, буквально ничего! Ни платья, ни цветов, ни перчаток… Ты должен меня спасти. Если приехал, то, значит, сама судьба велит тебе спасать меня. Возьми, мой дорогой, ключи, поезжай домой и возьми там в гардеробе мое розовое платье. Ты его помнишь, оно висит первое… Потом в кладовой с правой стороны на полу ты увидишь две картонки. Как откроешь верхнюю, так там все тюль, тюль, тюль и разные лоскутки, а под ними цветы. Цветы все вынь осторожно, постарайся, дуся, не помять их, потом я выберу… И перчатки купи.
– Хорошо, – сказал Дымов. – Я завтра поеду и пришлю.
– Когда же завтра? – спросила Ольга Ивановна и посмотрела на него с удивлением. – Когда же ты успеешь завтра? Завтра отходит первый поезд в девять часов, а венчание в одиннадцать. Нет, голубчик, надо сегодня, обязательно сегодня! Если завтра тебе нельзя будет приехать, то пришли с рассыльным. Ну, иди же… Сейчас должен прийти пассажирский поезд. Не опоздай, дуся.
– Хорошо.
– Ах, как мне жаль тебя отпускать, – сказала Ольга Ивановна, и слезы навернулись у нее на глазах. – И зачем я, дура, дала слово телеграфисту?
Дымов быстро выпил стакан чаю, взял баранку и, кротко улыбаясь, пошел на станцию. А икру, сыр и белорыбицу съели два брюнета и толстый актер.
IV
В тихую лунную июльскую ночь Ольга Ивановна стояла на палубе волжского парохода и смотрела то на воду, то на красивые берега. Рядом с нею стоял Рябовский и говорил ей, что черные тени на воде – не тени, а сон, что в виду этой колдовской воды с фантастическим блеском, в виду бездонного неба и грустных, задумчивых берегов, говорящих о суете нашей жизни и о существовании чего-то высшего, вечного, блаженного, хорошо бы забыться, умереть, стать воспоминанием. Прошедшее пошло и неинтересно, будущее ничтожно, а эта чудная, единственная в жизни ночь скоро кончится, сольется с вечностью – зачем же жить?
А Ольга Ивановна прислушивалась то к голосу Рябовского, то к тишине ночи и думала о том, что она бессмертна и никогда не умрет. Бирюзовый цвет воды, какого она раньше никогда не видала, небо, берега, черные тени и безотчетная радость, наполнявшая ее душу, говорили ей, что из нее выйдет великая художница и что где-то там за далью, за лунной ночью, в бесконечном пространстве ожидают ее успех, слава, любовь народа… Когда она не мигая долго смотрела вдаль, ей чудились толпы людей, огни, торжественные звуки музыки, крики восторга, сама она в белом платье и цветы, которые сыпались на нее со всех сторон. Думала она также о том, что рядом с нею, облокотившись о борт, стоит настоящий великий человек, гений, божий избранник… Все, что он создал до сих пор, прекрасно, ново и необыкновенно, а то, что создаст он со временем, когда с возмужалостью окрепнет его редкий талант, будет поразительно, неизмеримо высоко, и это видно по его лицу, по манере выражаться и по его отношению к природе. О тенях, вечерних тонах, о лунном блеске он говорит как-то особенно, своим языком, так что невольно чувствуется обаяние его власти над природой. Сам он очень красив, оригинален, и жизнь его, независимая, свободная, чуждая всего житейского, похожа на жизнь птицы.
– Становится свежо, – сказала Ольга Ивановна и вздрогнула.
Рябовский окутал ее в свой плащ и сказал печально:
– Я чувствую себя в вашей власти. Я раб. Зачем вы сегодня так обворожительны?
Он все время глядел на нее не отрываясь, и глаза его были страшны, и она боялась взглянуть на него.
– Я безумно люблю вас… – шептал он, дыша ей на щеку. – Скажите мне одно слово, и я не буду жить, брошу искусство… – бормотал он в сильном волнении. – Любите меня, любите…
– Не говорите так, – сказала Ольга Ивановна, закрывая глаза. – Это страшно. А Дымов?
– Что Дымов? Почему Дымов? Какое мне дело до Дымова? Волга, луна, красота, моя любовь, мой восторг, а никакого нет Дымова… Ах, я ничего не знаю… Не нужно мне прошлого, мне дайте одно мгновение… один миг!
У Ольги Ивановны забилось сердце. Она хотела думать о муже, но все ее прошлое со свадьбой, с Дымовым и с вечеринками казалось ей маленьким, ничтожным, тусклым, ненужным и далеким-далеким… В самом деле: что Дымов? почему Дымов? какое ей дело до Дымова? да существует ли он в природе, и не сон ли он только?
«Для него, простого и обыкновенного человека, достаточно и того счастья, которое он уже получил, – думала она, закрывая лицо руками. – Пусть осуждают там, проклинают, а я вот назло всем возьму и погибну, возьму вот и погибну… Надо испытать все в жизни. Боже, как жутко и как хорошо!»
– Ну что? Что? – бормотал художник, обнимая ее и жадно целуя руки, которыми она слабо пыталась отстранить его от себя. – Ты меня любишь? Да? Да? О, какая ночь! Чудная ночь!
– Да, какая ночь! – прошептала она, глядя ему в глаза, блестящие от слез, потом быстро оглянулась, обняла его и крепко поцеловала в губы.
– К Кинешме подходим! – сказал кто-то на другой стороне палубы.
Послышались тяжелые шаги. Это проходил мимо человек из буфета.
– Послушайте, – сказала ему Ольга Ивановна, смеясь и плача от счастья, – принесите нам вина.
Художник, бледный от волнения, сел на скамью, посмотрел на Ольгу Ивановну обожающими, благодарными глазами, потом закрыл глаза и сказал, томно улыбаясь:
– Я устал.
И прислонился головою к борту.
V
Второго сентября день был теплый и тихий, но пасмурный. Рано утром на Волге бродил легкий туман, а после девяти часов стал накрапывать дождь. И не было никакой надежды, что небо прояснится. За чаем Рябовский говорил Ольге Ивановне, что живопись – самое неблагодарное и самое скучное искусство, что он не художник, что одни только дураки думают, что у него есть талант, и вдруг, ни с того ни с сего, схватил нож и поцарапал им свой самый лучший этюд. После чая он, мрачный, сидел у окна и смотрел на Волгу. А Волга уже была без блеска, тусклая, матовая, холодная на вид. Все, все напоминало о приближении тоскливой хмурой осени. И казалось, что роскошные зеленые ковры на берегах, алмазные отражения лучей, прозрачную синюю даль и все щегольское и парадное природа сняла теперь с Волги и уложила в сундуки до будущей весны, и вороны летали около Волги и дразнили ее: «Голая! Голая!» Рябовский слушал их карканье и думал о том, что он уже выдохся и потерял талант, что все на этом свете условно, относительно и глупо и что не следовало бы связывать себя с этой женщиной… Одним словом, он был не в духе и хандрил.
Ольга Ивановна сидела за перегородкой на кровати и, перебирая пальцами свои прекрасные льняные волосы, воображала себя то в гостиной, то в спальне, то в кабинете мужа; воображение уносило ее в театр, к портнихе и к знаменитым друзьям. Что-то они поделывают теперь? Вспоминают ли о ней? Сезон уже начался, и пора бы подумать о вечеринках. А Дымов? Милый Дымов! Как кротко и детски-жалобно он просит ее в своих письмах поскорее ехать домой! Каждый месяц он высылал ей по семьдесят пять рублей, а когда она написала ему, что задолжала художникам сто рублей, то он прислал ей и эти сто. Какой добрый, великодушный человек! Путешествие утомило Ольгу Ивановну, она скучала, и ей хотелось поскорее уйти от этих мужиков, от запаха речной сырости и сбросить с себя это чувство физической нечистоты, которое она испытывала все время, живя в крестьянских избах и кочуя из села в село. Если бы Рябовский не дал честного слова художникам, что он проживет с ними здесь до двадцатого сентября, то можно было бы уехать сегодня же. И как бы это было хорошо!
– Боже мой, – простонал Рябовский, – когда же наконец будет солнце? Не могу же я солнечный пейзаж продолжать без солнца!..
– А у тебя есть этюд при облачном небе, – сказала Ольга Ивановна, выходя из-за перегородки. – Помнишь, на правом плане лес, а на левом – стадо коров и гуси. Теперь ты мог бы его кончить.
– Э! – поморщился художник. – Кончить! Неужели вы думаете, что сам я так глуп, что не знаю, что мне нужно делать!
– Как ты ко мне переменился! – вздохнула Ольга Ивановна.
– Ну, и прекрасно.
У Ольги Ивановны задрожало лицо, она отошла к печке и заплакала.
– Да, недоставало только слез. Перестаньте! У меня тысячи причин плакать, однако же я не плачу.
– Тысячи причин! – всхлипнула Ольга Ивановна. – Самая главная причина, что вы уже тяготитесь мной. Да! – сказала она и зарыдала. – Если говорить правду, то вы стыдитесь нашей любви. Вы все стараетесь, чтобы художники не заметили, хотя этого скрыть нельзя и им все давно уже известно.
– Ольга, я об одном прошу вас, – сказал художник умоляюще и приложив руку к сердцу, – об одном: не мучьте меня! Больше мне от вас ничего не нужно!
– Но поклянитесь, что вы меня все еще любите!
– Это мучительно! – процедил сквозь зубы художник и вскочил. – Кончится тем, что я брошусь в Волгу или сойду с ума! Оставьте меня!
– Ну, убейте, убейте меня! – крикнула Ольга Ивановна. – Убейте!
Она опять зарыдала и пошла за перегородку. На соломенной крыше избы зашуршал дождь. Рябовский схватил себя за голову и прошелся из угла в угол, потом с решительным лицом, как будто желая что-то кому-то доказать, надел фуражку, перекинул через плечо ружье и вышел из избы.
По уходе его Ольга Ивановна долго лежала на кровати и плакала. Сначала она думала о том, что хорошо бы отравиться, чтобы вернувшийся Рябовский застал ее мертвою, потом же она унеслась мыслями в гостиную, в кабинет мужа и вообразила, как она сидит неподвижно рядом с Дымовым и наслаждается физическим покоем и чистотой и как вечером сидит в театре и слушает Мазини. И тоска по цивилизации, по городскому шуму и известным людям защемила ее сердце. В избу вошла баба и стала не спеша топить печь, чтобы готовить обед. Запахло гарью, и воздух посинел от дыма. Приходили художники в высоких грязных сапогах и с мокрыми от дождя лицами, рассматривали этюды и говорили себе в утешение, что Волга даже и в дурную погоду имеет свою прелесть. А дешевые часы на стенке: тик-тик-тик… Озябшие мухи столпились в переднем углу около образов и жужжат, и слышно, как под лавками в толстых папках возятся прусаки…
Рябовский вернулся домой, когда заходило солнце. Он бросил на стол фуражку и, бледный, замученный, в грязных сапогах, опустился на лавку и закрыл глаза.
– Я устал… – сказал он и задвигал бровями, силясь поднять веки.
Чтобы приласкаться к нему и показать, что она не сердится, Ольга Ивановна подошла к нему, молча поцеловала и провела гребенкой по его белокурым волосам. Ей захотелось причесать его.
– Что такое? – спросил он, вздрогнув, точно к нему прикоснулись чем-то холодным, и открыл глаза. – Что такое? Оставьте меня в покое, прошу вас.
Он отстранил ее руками и отошел, и ей показалось, что лицо его выражало отвращение и досаду. В это время баба осторожно несла ему в обеих руках тарелку со щами, и Ольга Ивановна видела, как она обмочила во щах свои большие пальцы. И грязная баба с перетянутым животом, и щи, которые стал жадно есть Рябовский, и изба, и вся эта жизнь, которую вначале она так любила за простоту и художественный беспорядок, показались ей теперь ужасными. Она вдруг почувствовала себя оскорбленной и сказала холодно:
– Нам нужно расстаться на некоторое время, а то от скуки мы можем серьезно поссориться. Мне это надоело. Сегодня я уеду.
– На чем? На палочке верхом?
– Сегодня четверг, значит, в половине десятого придет пароход.
– А? Да, да… Ну что ж, поезжай… – сказал мягко Рябовский, утираясь вместо салфетки полотенцем. – Тебе здесь скучно и делать нечего, и надо быть большим эгоистом, чтобы удерживать тебя. Поезжай, а после двадцатого увидимся.
Ольга Ивановна укладывалась весело, и даже щеки у нее разгорелись от удовольствия. Неужели это правда, – спрашивала она себя, – что скоро она будет писать в гостиной, а спать в спальне и обедать со скатертью? У нее отлегло от сердца, и она уже не сердилась на художника.
– Краски и кисти я оставлю тебе, Рябуша, – говорила она. – Что останется, привезешь… Смотри же, без меня тут не ленись, не хандри, а работай. Ты у меня молодчина, Рябуша.
В девять часов Рябовский на прощанье поцеловал ее для того, как она думала, чтобы не целовать на пароходе при художниках, и проводил на пристань. Подошел скоро пароход и увез ее.
Приехала она домой через двое с половиной суток. Не снимая шляпы и ватерпруфа, тяжело дыша от волнения, она прошла в гостиную, а оттуда в столовую. Дымов без сюртука, в расстегнутой жилетке сидел за столом и точил нож о вилку; перед ним на тарелке лежал рябчик. Когда Ольга Ивановна входила в квартиру, она была убеждена, что необходимо скрыть все от мужа и что на это хватит у нее уменья и силы, но теперь, когда она увидела широкую, кроткую, счастливую улыбку и блестящие, радостные глаза, она почувствовала, что скрывать от этого человека так же подло, отвратительно и так же невозможно и не под силу ей, как оклеветать, украсть или убить, и она в одно мгновение решила рассказать ему все, что было. Давши ему поцеловать себя и обнять, она опустилась перед ним на колени и закрыла лицо.
– Что? Что, мама? – спросил он нежно. – Соскучилась?
Она подняла лицо, красное от стыда, и поглядела на него виновато и умоляюще, но страх и стыд помешали ей говорить правду.
– Ничего… – сказала она. – Это я так…
– Сядем, – сказал он, поднимая ее и усаживая за стол. – Вот так… Кушай рябчика. Ты проголодалась, бедняжка.
Она жадно вдыхала в себя родной воздух и ела рябчика, а он с умилением глядел на нее и радостно смеялся.
VI
По-видимому, с середины зимы Дымов стал догадываться, что его обманывают. Он, как будто у него была совесть нечиста, не мог уже смотреть жене прямо в глаза, не улыбался радостно при встрече с нею и, чтобы меньше оставаться с нею наедине, часто приводил к себе обедать своего товарища Коростелева, маленького стриженого человечка с помятым лицом, который, когда разговаривал с Ольгой Ивановной, то от смущения расстегивал все пуговицы своего пиджака и опять их застегивал и потом начинал правой рукой щипать свой левый ус. За обедом оба доктора говорили о том, что при высоком стоянии диафрагмы иногда бывают перебои сердца, или что множественные невриты в последнее время наблюдаются очень часто, или что вчера Дымов, вскрывши труп с диагностикой «злокачественная анемия», нашел рак поджелудочной железы. И казалось, что оба они вели медицинский разговор только для того, чтобы дать Ольге Ивановне возможность молчать, то есть не лгать. После обеда Коростелев садился за рояль, а Дымов вздыхал и говорил ему:
– Эх, брат! Ну, да что! Сыграй-ка что-нибудь печальное.
Подняв плечи и широко расставив пальцы, Коростелев брал несколько аккордов и начинал петь тенором «Укажи мне такую обитель, где бы русский мужик не стонал», а Дымов еще раз вздыхал, подпирал голову кулаком и задумывался.
В последнее время Ольга Ивановна вела себя крайне неосторожно. Каждое утро она просыпалась в самом дурном настроении и с мыслью, что она Рябовского уже не любит и что, слава богу, все уже кончено. Но, напившись кофе, она соображала, что Рябовский отнял у нее мужа и что теперь она осталась без мужа и без Рябовского; потом она вспоминала разговоры своих знакомых о том, что Рябовский готовит к выставке нечто поразительное, смесь пейзажа с жанром, во вкусе Поленова, отчего все, кто бывает в его мастерской, приходят в восторг; но ведь это, думала она, он создал под ее влиянием, и вообще благодаря ее влиянию он сильно изменился к лучшему. Влияние ее так благотворно и существенно, что если она оставит его, то он, пожалуй, может погибнуть. И вспоминала она также, что в последний раз он приходил к ней в каком-то сером сюртучке с искрами и в новом галстуке и спрашивал томно: «Я красив?» И в самом деле, он, изящный, со своими длинными кудрями и с голубыми глазами, был очень красив (или, быть может, так показалось) и был ласков с ней.
Вспомнив про многое и сообразив, Ольга Ивановна одевалась и в сильном волнении ехала в мастерскую к Рябовскому. Она заставала его веселым и восхищенным своею в самом деле великолепною картиной; он прыгал, дурачился и на серьезные вопросы отвечал шутками. Ольга Ивановна ревновала Рябовского к картине и ненавидела ее, но из вежливости простаивала перед картиной молча минут пять и, вздохнув, как вздыхают перед святыней, говорила тихо:
– Да, ты никогда не писал еще ничего подобного. Знаешь, даже страшно.
Потом она начинала умолять его, чтобы он любил ее, не бросал, чтобы пожалел ее, бедную и несчастную. Она плакала, целовала ему руки, требовала, чтобы он клялся ей в любви, доказывала ему, что без ее хорошего влияния он собьется с пути и погибнет. И, испортив ему хорошее настроение духа и чувствуя себя униженной, она уезжала к портнихе или к знакомой актрисе похлопотать насчет билета.
Если она не заставала его в мастерской, то оставляла ему письмо, в котором клялась, что если он сегодня не придет к ней, то она непременно отравится. Он трусил, приходил к ней и оставался обедать. Не стесняясь присутствием мужа, он говорил ей дерзости, она отвечала ему тем же. Оба чувствовали, что они связывают друг друга, что они деспоты и враги, и злились, и от злости не замечали, что оба они неприличны и что даже стриженый Коростелев понимает все. После обеда Рябовский спешил проститься и уйти.
– Куда вы идете? – спрашивала его Ольга Ивановна в передней, глядя на него с ненавистью.
Он, морщась и щуря глаза, называл какую-нибудь даму, общую знакомую, и было видно, что это он смеется над ее ревностью и хочет досадить ей. Она шла к себе в спальню и ложилась в постель; от ревности, досады, чувства унижения и стыда она кусала подушку и начинала громко рыдать. Дымов оставлял Коростелева в гостиной, шел в спальню и, сконфуженный, растерянный, говорил тихо:
– Не плачь громко, мама… Зачем? Надо молчать об этом… Надо не подавать вида… Знаешь, что случилось, того уже не поправишь.
Не зная, как усмирить в себе тяжелую ревность, от которой даже в висках ломило, и думая, что еще можно поправить дело, она умывалась, пудрила заплаканное лицо и летела к знакомой даме. Не застав у нее Рябовского, она ехала к другой, потом к третьей… Сначала ей было стыдно так ездить, но потом она привыкла, и случалось, что в один вечер она объезжала всех знакомых женщин, чтобы отыскать Рябовского, и все понимали это.
Однажды она сказала Рябовскому про мужа:
– Этот человек гнетет меня своим великодушием!
Эта фраза ей так понравилась, что, встречаясь с художниками, которые знали об ее романе с Рябовским, она всякий раз говорила про мужа, делая энергический жест рукой:
– Этот человек гнетет меня своим великодушием!
Порядок жизни был такой же, как в прошлом году. По средам бывали вечеринки. Артист читал, художники рисовали, виолончелист играл, певец пел, и неизменно в половине двенадцатого открывалась дверь, ведущая в столовую, и Дымов, улыбаясь, говорил:
– Пожалуйте, господа, закусить.
По-прежнему Ольга Ивановна искала великих людей, находила и не удовлетворялась и опять искала. По-прежнему она каждый день возвращалась поздно ночью, но Дымов уже не спал, как в прошлом году, а сидел у себя в кабинете и что-то работал. Ложился он часа в три, а вставал в восемь.
Однажды вечером, когда она, собираясь в театр, стояла перед трюмо, в спальню вошел Дымов во фраке и в белом галстуке. Он кротко улыбался и, как прежде, радостно смотрел жене прямо в глаза. Лицо его сияло.
– Я сейчас диссертацию защищал, – сказал он, садясь и поглаживая колена.
– Защитил? – спросила Ольга Ивановна.
– Ого! – засмеялся он и вытянул шею, чтобы увидеть в зеркале лицо жены, которая продолжала стоять к нему спиной и поправлять прическу. – Ого! – повторил он. – Знаешь, очень возможно, что мне предложат приват-доцентуру по общей патологии. Этим пахнет.
Видно было по его блаженному, сияющему лицу, что если бы Ольга Ивановна разделила с ним его радость и торжество, то он простил бы ей все, и настоящее и будущее, и все бы забыл, но она не понимала, что значит приват-доцентура и общая патология, к тому же боялась опоздать в театр и ничего не сказала.
Он посидел две минуты, виновато улыбнулся и вышел.
VII
Это был беспокойнейший день.
У Дымова сильно болела голова; он утром не пил чаю, не пошел в больницу и все время лежал у себя в кабинете на турецком диване. Ольга Ивановна, по обыкновению, в первом часу отправилась к Рябовскому, чтобы показать ему свой этюд nature morte и спросить его, почему он вчера не приходил. Этюд казался ей ничтожным, и написала она его только затем, чтобы иметь лишний предлог сходить к художнику.
Она вошла к нему без звонка, и, когда в передней снимала калоши, ей послышалось, как будто в мастерской что-то тихо пробежало, по-женски шурша платьем, и когда она поспешила заглянуть в мастерскую, то увидела только кусок коричневой юбки, который мелькнул на мгновение и исчез за большою картиной, занавешенной вместе с мольбертом до пола черным коленкором. Сомневаться нельзя было, это пряталась женщина. Как часто сама Ольга Ивановна находила себе убежище за этой картиной! Рябовский, по-видимому очень смущенный, как бы удивился ее приходу, протянул к ней обе руки и сказал, натянуто улыбаясь:
– А-а-а-а! Очень рад вас видеть. Что скажете хорошенького?
Глаза у Ольги Ивановны наполнились слезами. Ей было стыдно, горько, и она за миллион не согласилась бы говорить в присутствии посторонней женщины, соперницы, лгуньи, которая стояла теперь за картиной и, вероятно, злорадно хихикала.
– Я принесла вам этюд… – сказала она робко, тонким голоском, и губы ее задрожали, – nature morte.
– А-а-а… этюд?
Художник взял в руки этюд и, рассматривая его, как бы машинально прошел в другую комнату.
Ольга Ивановна покорно шла за ним.
– Nature morte… первый сорт, – бормотал он, подбирая рифму, – курорт… черт… порт…
Из мастерской послышались торопливые шаги и шуршанье платья. Значит, она ушла. Ольге Ивановне хотелось громко крикнуть, ударить художника по голове чем-нибудь тяжелым и уйти, но она ничего не видела сквозь слезы, была подавлена своим стыдом и чувствовала себя уже не Ольгой Ивановной и не художницей, а маленькою козявкой.
– Я устал… – томно проговорил художник, глядя на этюд и встряхивая головой, чтобы побороть дремоту. – Это мило, конечно, но и сегодня этюд, и в прошлом году этюд, и через месяц будет этюд… Как вам не наскучит? Я бы на вашем месте бросил живопись и занялся серьезно музыкой или чем-нибудь. Ведь вы не художница, а музыкантша. Однако, знаете, как я устал! Я сейчас скажу, чтоб дали чаю… А?
Он вышел из комнаты, и Ольга Ивановна слышала, как он что-то приказывал своему лакею. Чтоб не прощаться, не объясняться, а главное, не зарыдать, она, пока не вернулся Рябовский, поскорее побежала в переднюю, надела калоши и вышла на улицу. Тут она легко вздохнула и почувствовала себя навсегда свободной и от Рябовского, и от живописи, и от тяжелого стыда, который так давил ее в мастерской. Все кончено!
Она поехала к портнихе, потом к Барнаю, который только вчера приехал, от Барная – в нотный магазин, и все время она думала о том, как она напишет Рябовскому холодное, жесткое, полное собственного достоинства письмо и как весною или летом она поедет с Дымовым в Крым, освободится там окончательно от прошлого и начнет новую жизнь.
Вернувшись домой поздно вечером, она, не переодеваясь, села в гостиной сочинять письмо. Рябовский сказал ей, что она не художница, и она в отместку напишет ему теперь, что он каждый год пишет все одно и то же и каждый день говорит одно и то же, что он застыл и что из него не выйдет ничего, кроме того, что уже вышло. Ей хотелось написать также, что он многим обязан ее хорошему влиянию, а если он поступает дурно, то это только потому, что ее влияние парализуется разными двусмысленными особами, вроде той, которая сегодня пряталась за картину.
– Мама! – позвал из кабинета Дымов, не отворяя двери. – Мама!
– Что тебе?
– Мама, ты не входи ко мне, а только подойди к двери. Вот что… Третьего дня я заразился в больнице дифтеритом, и теперь… мне нехорошо. Пошли поскорее за Коростелевым.
Ольга Ивановна всегда звала мужа, как всех знакомых мужчин, не по имени, а по фамилии; его имя Осип не нравилось ей, потому что напоминало гоголевского Осипа и каламбур: «Осип охрип, а Архип осип». Теперь же она вскрикнула:
– Осип, это не может быть!
– Пошли! Мне нехорошо… – сказал за дверью Дымов, и слышно было, как он подошел к дивану и лег. – Пошли, – глухо послышался его голос.
«Что же это такое? – подумала Ольга Ивановна, холодея от ужаса. – Ведь это опасно!»
Без всякой надобности она взяла свечу и пошла к себе в спальню и тут, соображая, что ей нужно делать, нечаянно поглядела на себя в трюмо. С бледным, испуганным лицом, в жакете с высокими рукавами, с желтыми воланами на груди и с необыкновенным направлением полос на юбке она показалась себе страшной и гадкой. Ей вдруг стало до боли жаль Дымова, его безграничной любви к ней, его молодой жизни и даже этой его осиротелой постели, на которой он давно уже не спал, и вспоминалась ей его обычная, кроткая, покорная улыбка. Она горько заплакала и написала Коростелеву умоляющее письмо. Было два часа ночи.
VIII
Когда в восьмом часу утра Ольга Ивановна, с тяжелой от бессонницы головой, непричесанная, некрасивая и с виноватым выражением вышла из спальни, мимо нее прошел в переднюю какой-то господин с черною бородой, по-видимому доктор. Пахло лекарствами. Около двери в кабинет стоял Коростелев и правою рукою крутил юный ус.
– К нему, извините, я вас не пущу, – угрюмо сказал он Ольге Ивановне. – Заразиться можно. Да и не к чему вам, в сущности. Он все равно в бреду.
– У него настоящий дифтерит? – спросила шепотом Ольга Ивановна.
– Тех, кто на рожон лезет, по-настоящему под суд отдавать надо, – пробормотал Коростелев, не отвечая на вопрос Ольги Ивановны. – Знаете, отчего он заразился? Во вторник у мальчика высасывал через трубочку дифтеритные палочки. А к чему? Глупо… Так, сдуру…
– Опасно? Очень? – спросила Ольга Ивановна.
– Да, говорят, что форма тяжелая. Надо бы за Шреком послать, в сущности.
Приходил маленький, рыженький, с длинным носом и с еврейским акцентом, потом высокий, сутулый, лохматый, похожий на протодьякона; потом молодой, очень полный, с красным лицом и в очках. Это врачи приходили дежурить около своего товарища. Коростелев, отдежурив свое время, не уходил домой, а оставался и, как тень, бродил по всем комнатам. Горничная подавала дежурившим докторам чай и часто бегала в аптеку, и некому было убрать комнат. Было тихо и уныло.
Ольга Ивановна сидела у себя в спальне и думала о том, что это Бог ее наказывает за то, что она обманывала мужа. Молчаливое, безропотное, непонятное существо, обезличенное своею кротостью, бесхарактерное, слабое от излишней доброты, глухо страдало где-то там у себя на диване и не жаловалось. А если бы оно пожаловалось, хотя бы в бреду, то дежурные доктора узнали бы, что виноват тут не один только дифтерит. Спросили бы они Коростелева: он знает все и недаром на жену своего друга смотрит такими глазами, как будто она-то и есть самая главная, настоящая злодейка, а дифтерит только ее сообщник. Она уже не помнила ни лунного вечера на Волге, ни объяснений в любви, ни поэтической жизни в избе, а помнила только, что она из пустой прихоти, из баловства, вся, с руками и с ногами, вымазалась во что-то грязное, липкое, от чего никогда уж не отмоешься…
«Ах, как я страшно солгала! – думала она, вспоминая о беспокойной любви, какая у нее была с Рябовским. – Будь оно все проклято!..»
В четыре часа она обедала вместе с Коростелевым. Он ничего не ел, пил только красное вино и хмурился. Она тоже ничего не ела. То она мысленно молилась и давала обет Богу, что если Дымов выздоровеет, то она полюбит его опять и будет верною женой. То, забывшись на минуту, она смотрела на Коростелева и думала: «Неужели не скучно быть простым, ничем не замечательным, неизвестным человеком, да еще с таким помятым лицом и с дурными манерами?» То ей казалось, что ее сию минуту убьет Бог за то, что она, боясь заразиться, ни разу еще не была в кабинете у мужа. А в общем было тупое унылое чувство и уверенность, что жизнь уже испорчена и что ничем ее не исправишь…
После обеда наступили потемки. Когда Ольга Ивановна вышла в гостиную, Коростелев спал на кушетке, подложив под голову шелковую подушку, шитую золотом. «Кхи-пуа… – храпел он, – кхи-пуа».
И доктора, приходившие дежурить и уходившие, не замечали этого беспорядка. То, что чужой человек спал в гостиной и храпел, и этюды на стенах, и причудливая обстановка, и то, что хозяйка была непричесана и неряшливо одета, – все это не возбуждало теперь ни малейшего интереса. Один из докторов нечаянно чему-то засмеялся, и как-то странно и робко прозвучал этот смех, даже жутко сделалось.
Когда Ольга Ивановна в другой раз вышла в гостиную, Коростелев уже не спал, а сидел и курил.
– У него дифтерит носовой полости, – сказал он вполголоса. – Уже и сердце неважно работает. В сущности, плохи дела.
– А вы пошлите за Шреком, – сказала Ольга Ивановна.
– Был уже. Он-то и заметил, что дифтерит перешел в нос. Э, да что Шрек! В сущности, ничего Шрек. Он Шрек, я Коростелев – и больше ничего.
Время тянулось ужасно долго. Ольга Ивановна лежала одетая в не убранной с утра постели и дремала. Ей чудилось, что вся квартира от полу до потолка занята громадным куском железа и что стоит только вынести вон железо, как всем станет весело и легко. Очнувшись, она вспомнила, что это не железо, а болезнь Дымова.
«Nature morte, порт… – думала она, опять впадая в забытье, – спорт… курорт… А как Шрек? Шрек, грек, врек… крек… А где-то теперь мои друзья? Знают ли они, что у нас горе? Господи, спаси… избави. Шрек, грек…»
И опять железо… Время тянулось длинно, а часы в нижнем этаже били часто. И то и дело слышались звонки; приходили доктора… Вошла горничная с пустым стаканом на подносе и спросила:
– Барыня, постель прикажете постлать?
И, не получив ответа, вышла. Пробили внизу часы, приснился дождь на Волге, и опять кто-то вошел в спальню, кажется, посторонний. Ольга Ивановна вскочила и узнала Коростелева.
– Который час? – спросила она.
– Около трех.
– Ну что?
– Да что! Я пришел сказать: кончается…
Он всхлипнул, сел на кровать рядом с ней и вытер слезы рукавом. Она сразу не поняла, но вся похолодела и стала медленно креститься.
– Кончается… – повторил он тонким голоском и опять всхлипнул. – Умирает, потому что пожертвовал собой… Какая потеря для науки! – сказал он с горечью. – Это, если всех нас сравнить с ним, был великий, необыкновенный человек! Какие дарования! Какие надежды он подавал нам всем! – продолжал Коростелев, ломая руки. – Господи боже мой, это был бы такой ученый, какого теперь с огнем не найдешь. Оська Дымов, Оська Дымов, что ты наделал! Ай-ай, боже мой!
Коростелев в отчаянии закрыл обеими руками лицо и покачал головой.
– А какая нравственная сила! – продолжал он, все больше и больше озлобляясь на кого-то. – Добрая, чистая, любящая душа – не человек, а стекло! Служил науке и умер от науки. А работал, как вол, день и ночь, никто его не щадил, и молодой ученый, будущий профессор, должен был искать себе практику и по ночам заниматься переводами, чтобы платить вот за эти… подлые тряпки!
Коростелев поглядел с ненавистью на Ольгу Ивановну, ухватился за простыню обеими руками и сердито рванул, как будто она была виновата.
– И сам себя не щадил, и его не щадили. Э, да что, в сущности!
– Да, редкий человек! – сказал кто-то басом в гостиной.
Ольга Ивановна вспомнила всю свою жизнь с ним, от начала до конца, со всеми подробностями, и вдруг поняла, что это был в самом деле необыкновенный, редкий и, в сравнении с теми, кого она знала, великий человек. И, вспомнив, как к нему относились ее покойный отец и все товарищи-врачи, она поняла, что все они видели в нем будущую знаменитость. Стены, потолок, лампа и ковер на полу замигали ей насмешливо, как бы желая сказать: «Прозевала! прозевала!» Она с плачем бросилась из спальни, шмыгнула в гостиной мимо какого-то незнакомого человека и вбежала в кабинет к мужу. Он лежал неподвижно на турецком диване, покрытый до пояса одеялом. Лицо его страшно осунулось, похудело и имело серовато-желтый цвет, какого никогда не бывает у живых; и только по лбу, по черным бровям да по знакомой улыбке можно было узнать, что это Дымов. Ольга Ивановна быстро ощупала его грудь, лоб и руки. Грудь еще была тепла, но лоб и руки были неприятно холодны. И полуоткрытые глаза смотрели не на Ольгу Ивановну, а на одеяло.
– Дымов! – позвала она громко. – Дымов!
Она хотела объяснить ему, что то была ошибка, что не все еще потеряно, что жизнь еще может быть прекрасной и счастливой, что он редкий, необыкновенный, великий человек и что она будет всю жизнь благоговеть перед ним, молиться и испытывать священный страх…
– Дымов! – звала она его, трепля его за плечо и не веря тому, что он уже никогда не проснется. – Дымов, Дымов же!
А в гостиной Коростелев говорил горничной:
– Да что тут спрашивать? Вы ступайте в церковную сторожку и спросите, где живут богаделки. Они и обмоют тело и уберут – все сделают, что нужно.
1892Палата № 6
I
В больничном дворе стоит небольшой флигель, окруженный целым лесом репейника, крапивы и дикой конопли. Крыша на нем ржавая, труба наполовину обвалилась, ступеньки у крыльца сгнили и поросли травой, а от штукатурки остались одни только следы. Передним фасадом обращен он к больнице, задним – глядит в поле, от которого отделяет его серый больничный забор с гвоздями. Эти гвозди, обращенные остриями кверху, и забор, и самый флигель имеют тот особый унылый, окаянный вид, какой у нас бывает только у больничных и тюремных построек.
Если вы не боитесь ожечься о крапиву, то пойдемте по узкой тропинке, ведущей к флигелю, и посмотрим, что делается внутри. Отворив первую дверь, мы входим в сени. Здесь у стен и около печки навалены целые горы больничного хлама. Матрацы, старые изодранные халаты, панталоны, рубахи с синими полосками, никуда не годная, истасканная обувь – вся эта рвань свалена в кучи, перемята, спуталась, гниет и издает удушливый запах.
На хламе всегда с трубкой в зубах лежит сторож Никита, старый отставной солдат с порыжелыми нашивками. У него суровое, испитое лицо, нависшие брови, придающие лицу выражение степной овчарки, и красный нос; он невысок ростом, на вид сухощав и жилист, но осанка у него внушительная и кулаки здоровенные. Принадлежит он к числу тех простодушных, положительных, исполнительных и тупых людей, которые больше всего на свете любят порядок и потому убеждены, что их надо бить. Он бьет по лицу, по груди, по спине, по чем попало, и уверен, что без этого не было бы здесь порядка.
Далее вы входите в большую, просторную комнату, занимающую весь флигель, если не считать сеней. Стены здесь вымазаны грязно-голубою краской, потолок закопчен, как в курной избе, – ясно, что здесь зимой дымят печи и бывает угарно. Окна изнутри обезображены железными решетками. Пол сер и занозист. Воняет кислою капустой, фитильною гарью, клопами и аммиаком, и эта вонь в первую минуту производит на вас такое впечатление, как будто вы входите в зверинец.
В комнате стоят кровати, привинченные к полу. На них сидят и лежат люди в синих больничных халатах и по-старинному в колпаках. Это – сумасшедшие.
Всех их здесь пять человек. Только один благородного звания, остальные же все мещане. Первый от двери, высокий худощавый мещанин с рыжими блестящими усами и с заплаканными глазами, сидит, подперев голову, и глядит в одну точку. День и ночь он грустит, покачивая головой, вздыхая и горько улыбаясь; в разговорах он редко принимает участие и на вопросы обыкновенно не отвечает. Ест и пьет он машинально, когда дают. Судя по мучительному, бьющему кашлю, худобе и румянцу на щеках, у него начинается чахотка.
За ним следует маленький, живой, очень подвижной старик с острою бородкой и с черными, кудрявыми, как у негра, волосами. Днем он прогуливается по палате от окна к окну или сидит на своей постели, поджав по-турецки ноги, и неугомонно, как снегирь, насвистывает, тихо поет и хихикает. Детскую веселость и живой характер проявляет он и ночью, когда встает затем, чтобы помолиться Богу, то есть постучать себя кулаками по груди и поковырять пальцем в дверях. Это жид Мойсейка, дурачок, помешавшийся лет двадцать назад, когда у него сгорела шапочная мастерская.
Из всех обитателей палаты № 6 только ему одному позволяется выходить из флигеля и даже из больничного двора на улицу. Такой привилегией он пользуется издавна, вероятно, как больничный старожил и как тихий, безвредный дурачок, городской шут, которого давно уже привыкли видеть на улицах окруженным мальчишками и собаками. В халатишке, в смешном колпаке и в туфлях, иногда босиком и даже без панталон, он ходит по улицам, останавливаясь у ворот и лавочек, и просит копеечку. В одном месте дадут ему квасу, в другом – хлеба, в третьем – копеечку, так что возвращается он во флигель обыкновенно сытым и богатым. Все, что он приносит с собой, отбирает у него Никита в свою пользу. Делает это солдат грубо, с сердцем, выворачивая карманы и призывая Бога в свидетели, что он никогда уже больше не станет пускать жида на улицу и что беспорядки для него хуже всего на свете.
Мойсейка любит услуживать. Он подает товарищам воду, укрывает их, когда они спят, обещает каждому принести с улицы по копеечке и сшить по новой шапке; он же кормит с ложки своего соседа с левой стороны, паралитика. Поступает он так не из сострадания и не из каких-либо соображений гуманного свойства, а подражая и невольно подчиняясь своему соседу с правой стороны Громову.
Иван Дмитрич Громов, мужчина лет тридцати трех, из благородных, бывший судебный пристав и губернский секретарь, страдает манией преследования. Он или лежит на постели, свернувшись калачиком, или же ходит из угла в угол, как бы для моциона, сидит же очень редко. Он всегда возбужден, взволнован и напряжен каким-то смутным, неопределенным ожиданием. Достаточно малейшего шороха в сенях или крика на дворе, чтобы он поднял голову и стал прислушиваться: не за ним ли это идут? Не его ли ищут? И лицо его при этом выражает крайнее беспокойство и отвращение.
Мне нравится его широкое, скуластое лицо, всегда бледное и несчастное, отражающее в себе, как в зеркале, замученную борьбой и продолжительным страхом душу. Гримасы его странны и болезненны, но тонкие черты, положенные на его лицо глубоким искренним страданием, разумны и интеллигентны, и в глазах теплый, здоровый блеск. Нравится мне он сам, вежливый, услужливый и необыкновенно деликатный в обращении со всеми, кроме Никиты. Когда кто-нибудь роняет пуговку или ложку, он быстро вскакивает с постели и поднимает. Каждое утро он поздравляет своих товарищей с добрым утром, ложась спать – желает им спокойной ночи.
Кроме постоянно напряженного состояния и гримасничанья, сумасшествие его выражается еще в следующем. Иногда по вечерам он запахивается в свой халатик и, дрожа всем телом, стуча зубами, начинает быстро ходить из угла в угол и между кроватей. Похоже на то, как будто у него сильная лихорадка. По тому, как он внезапно останавливается и взглядывает на товарищей, видно, что ему хочется сказать что-то очень важное, но, по-видимому, соображая, что его не будут слушать или не поймут, он нетерпеливо встряхивает головой и продолжает шагать. Но скоро желание говорить берет верх над всякими соображениями, и он дает себе волю и говорит горячо и страстно. Речь его беспорядочна, лихорадочна, как бред, порывиста и не всегда понятна, но зато в ней слышится, и в словах и в голосе, что-то чрезвычайно хорошее. Когда он говорит, вы узнаете в нем сумасшедшего и человека. Трудно передать на бумаге его безумную речь. Говорит он о человеческой подлости, о насилии, попирающем правду, о прекрасной жизни, какая со временем будет на земле, об оконных решетках, напоминающих ему каждую минуту о тупости и жестокости насильников. Получается беспорядочное, нескладное попурри из старых, но еще не допетых песен.
II
Лет двенадцать – пятнадцать тому назад в городе, на самой главной улице, в собственном доме проживал чиновник Громов, человек солидный и зажиточный. У него было два сына: Сергей и Иван. Будучи уже студентом четвертого курса, Сергей заболел скоротечною чахоткой и умер, и эта смерть как бы послужила началом целого ряда несчастий, которые вдруг посыпались на семью Громовых. Через неделю после похорон Сергея старик отец был отдан под суд за подлоги и растраты и вскоре умер в тюремной больнице от тифа. Дом и вся движимость были проданы с молотка, и Иван Дмитрич с матерью остались без всяких средств.
Прежде, при отце, Иван Дмитрич, проживая в Петербурге, где он учился в университете, получал шестьдесят – семьдесят рублей в месяц и не имел никакого понятия о нужде, теперь же ему пришлось резко изменить свою жизнь. Он должен был от утра до ночи давать грошовые уроки, заниматься перепиской и все-таки голодать, так как весь заработок посылался матери на пропитание. Такой жизни не выдержал Иван Дмитрич; он пал духом, захирел и, бросив университет, уехал домой. Здесь, в городке, он по протекции получил место учителя в уездном училище, но не сошелся с товарищами, не понравился ученикам и скоро бросил место. Умерла мать. Он с полгода ходил без места, питаясь только хлебом и водой, затем поступил в судебные пристава. Эту должность занимал он до тех пор, пока не был уволен по болезни.
Он никогда, даже в молодые студенческие годы, не производил впечатления здорового. Всегда он был бледен, худ, подвержен простуде, мало ел, дурно спал. От одной рюмки вина у него кружилась голова и делалась истерика. Его всегда тянуло к людям, но благодаря своему раздражительному характеру и мнительности он ни с кем близко не сходился и друзей не имел. О горожанах он всегда отзывался с презрением, говоря, что их грубое невежество и сонная животная жизнь кажутся ему мерзкими и отвратительными. Говорил он тенором, громко, горячо и не иначе как негодуя и возмущаясь или с восторгом и удивлением, и всегда искренно. О чем, бывало, ни заговоришь с ним, он все сводит к одному: в городе душно и скучно жить, у общества нет высших интересов, оно ведет тусклую, бессмысленную жизнь, разнообразя ее насилием, грубым развратом и лицемерием; подлецы сыты и одеты, а честные питаются крохами; нужны школы, местная газета с честным направлением, театр, публичные чтения, сплоченность интеллигентных сил; нужно, чтоб общество сознало себя и ужаснулось. В своих суждениях о людях он клал густые краски, только белую и черную, не признавая никаких оттенков; человечество делилось у него на честных и подлецов; середины же не было. О женщинах и любви он всегда говорил страстно, с восторгом, но ни разу не был влюблен.
В городе, несмотря на резкость его суждений и нервность, его любили и за глаза ласково называли Ваней. Его врожденная деликатность, услужливость, порядочность, нравственная чистота и его поношенный сюртучок, болезненный вид и семейные несчастья внушали хорошее, теплое и грустное чувство; к тому же он был хорошо образован и начитан, знал, по мнению горожан, все и был в городе чем-то вроде ходячего справочного словаря.
Читал он очень много. Бывало, все сидит в клубе, нервно теребит бородку и перелистывает журналы и книги; и по лицу его видно, что он не читает, а глотает, едва успев разжевать. Надо думать, что чтение было одною из его болезненных привычек, так как он с одинаковою жадностью набрасывался на все, что попадало ему под руки, даже на прошлогодние газеты и календари. Дома у себя читал он всегда лежа.
III
Однажды осенним утром, подняв воротник своего пальто и шлепая по грязи, по переулкам и задворкам, пробирался Иван Дмитрич к какому-то мещанину, чтобы получить по исполнительному листу. Настроение у него было мрачное, как всегда по утрам. В одном из переулков встретились ему два арестанта в кандалах и с ними четыре конвойных с ружьями. Раньше Иван Дмитрич очень часто встречал арестантов, и всякий раз они возбуждали в нем чувства сострадания и неловкости, теперь же эта встреча произвела на него какое-то особенное, странное впечатление. Ему вдруг почему-то показалось, что его тоже могут заковать в кандалы и таким же образом вести по грязи в тюрьму. Побывав у мещанина и возвращаясь к себе домой, он встретил около почты знакомого полицейского надзирателя, который поздоровался и прошел с ним по улице несколько шагов, и почему-то это показалось ему подозрительным, дома целый день у него не выходили из головы арестанты и солдаты с ружьями, и непонятная душевная тревога мешала ему читать и сосредоточиться. Вечером он не зажигал у себя огня, а ночью не спал и все думал о том, что его могут арестовать, заковать и посадить в тюрьму. Он не знал за собой никакой вины и мог поручиться, что и в будущем никогда не убьет, не подожжет и не украдет; но разве трудно совершить преступление нечаянно, невольно, и разве не возможна клевета, наконец судебная ошибка? Ведь недаром же вековой народный опыт учит от сумы да тюрьмы не зарекаться. А судебная ошибка при теперешнем судопроизводстве очень возможна, и ничего в ней нет мудреного. Люди, имеющие служебное, деловое отношение к чужому страданию, например судьи, полицейские, врачи, с течением времени, в силу привычки, закаляются до такой степени, что хотели бы, да не могут относиться к своим клиентам иначе как формально; с этой стороны они ничем не отличаются от мужика, который на задворках режет баранов и телят и не замечает крови. При формальном же, бездушном отношении к личности, для того чтобы невинного человека лишить всех прав состояния и присудить к каторге, судье нужно только одно: время. Только время на соблюдение кое-каких формальностей, за которые судье платят жалованье, а затем – все кончено. Ищи потом справедливости и защиты в этом маленьком, грязном городишке, за двести верст от железной дороги! Да и не смешно ли помышлять о справедливости, когда всякое насилие встречается обществом как разумная и целесообразная необходимость, и всякий акт милосердия, например оправдательный приговор, вызывает целый взрыв неудовлетворенного, мстительного чувства?
Утром Иван Дмитрич поднялся с постели в ужасе, с холодным потом на лбу, совсем уже уверенный, что его могут арестовать каждую минуту. Если вчерашние тяжелые мысли так долго не оставляют его, думал он, то, значит, в них есть доля правды. Не могли же они, в самом деле, прийти в голову безо всякого повода.
Городовой не спеша прошел мимо окон: это недаром. Вот два человека остановились около дома и молчат. Почему они молчат?
И для Ивана Дмитрича наступили мучительные дни и ночи. Все проходившие мимо окон и входившие во двор казались шпионами и сыщиками. В полдень обыкновенно исправник проезжал на паре по улице; это он ехал из своего подгородного имения в полицейское правление, но Ивану Дмитричу казалось каждый раз, что он едет слишком быстро и с каким-то особенным выражением: очевидно, спешит объявить, что в городе проявился очень важный преступник. Иван Дмитрич вздрагивал при всяком звонке и стуке в ворота, томился, когда встречал у хозяйки нового человека; при встрече с полицейскими и жандармами улыбался и насвистывал, чтобы казаться равнодушным. Он не спал все ночи напролет, ожидая ареста, но громко храпел и вздыхал, как сонный, чтобы хозяйке казалось, что он спит; ведь если не спит, то, значит, его мучают угрызения совести – какая улика! Факты и здравая логика убеждали его, что все эти страхи – вздор и психопатия, что в аресте и тюрьме, если взглянуть на дело пошире, в сущности, нет ничего страшного – была бы совесть спокойна; но чем умнее и логичнее он рассуждал, тем сильнее и мучительнее становилась душевная тревога. Это было похоже на то, как один пустынник хотел вырубить себе местечко в девственном лесу; чем усерднее он работал топором, тем гуще и сильнее разрастался лес. Иван Дмитрич в конце концов, видя, что это бесполезно, совсем бросил рассуждать и весь отдался отчаянию и страху.
Он стал уединяться и избегать людей. Служба и раньше была ему противна, теперь же она стала для него невыносима. Он боялся, что его как-нибудь подведут, положат ему незаметно в карман взятку и потом уличат, или он сам нечаянно сделает в казенных бумагах ошибку, равносильную подлогу, или потеряет чужие деньги. Странно, что никогда в другое время мысль его не была так гибка и изобретательна, как теперь, когда он каждый день выдумывал тысячи разнообразных поводов к тому, чтобы серьезно опасаться за свою свободу и честь. Но зато значительно ослабел интерес к внешнему миру, в частности к книгам, и стала сильно изменять память.
Весной, когда сошел снег, в овраге около кладбища нашли два полусгнивших трупа – старухи и мальчика, с признаками насильственной смерти. В городе только и разговора было, что об этих трупах и неизвестных убийцах. Иван Дмитрич, чтобы не подумали, что это он убил, ходил по улицам и улыбался, а при встрече со знакомыми бледнел, краснел и начинал уверять, что нет подлее преступления, как убийство слабых и беззащитных. Но эта ложь скоро утомила его, и, после некоторого размышления, он решил, что в его положении самое лучшее – это спрятаться в хозяйкин погреб. В погребе просидел он день, потом ночь и другой день, сильно озяб и, дождавшись потемок, тайком, как вор, пробрался к себе в комнату. До рассвета простоял он среди комнаты, не шевелясь и прислушиваясь. Рано утром до восхода солнца к хозяйке пришли печники. Иван Дмитрич хорошо знал, что они пришли затем, чтобы перекладывать в кухне печь, но страх подсказал ему, что это полицейские, переодетые печниками. Он потихоньку вышел из квартиры и, охваченный ужасом, без шапки и сюртука, побежал по улице. За ним с лаем гнались собаки, кричал где-то позади мужик, в ушах свистел воздух, и Ивану Дмитричу казалось, что насилие всего мира скопилось за его спиной и гонится за ним.
Его задержали, привели домой и послали хозяйку за доктором. Доктор Андрей Ефимыч, о котором речь впереди, прописал холодные примочки на голову и лавровишневые капли, грустно покачал головой и ушел, сказав хозяйке, что уж больше он не придет, потому что не следует мешать людям сходить с ума. Так как дома не на что было жить и лечиться, то скоро Ивана Дмитрича отправили в больницу и положили его там в палате для венерических больных. Он не спал по ночам, капризничал и беспокоил больных и скоро, по распоряжению Андрея Ефимыча, был переведен в палату № 6.
Через год в городе уже совершенно забыли про Ивана Дмитрича, и книги его, сваленные хозяйкой в сани под навесом, были растасканы мальчишками.
IV
Сосед с левой стороны у Ивана Дмитрича, как я уже сказал, жид Мойсейка, сосед же с правой – оплывший жиром, почти круглый мужик с тупым, совершенно бессмысленным лицом. Это – неподвижное, обжорливое и нечистоплотное животное, давно уже потерявшее способность мыслить и чувствовать. От него постоянно идет острый удушливый смрад.
Никита, убирающий за ним, бьет его страшно, со всего размаха, не щадя своих кулаков; и страшно тут не то, что его бьют, – к этому можно привыкнуть, – а то, что это отупевшее животное не отвечает на побои ни звуком, ни движением, ни выражением глаз, а только слегка покачивается, как тяжелая бочка.
Пятый и последний обитатель палаты № 6 – мещанин, служивший когда-то сортировщиком на почте, маленький худощавый блондин с добрым, но несколько лукавым лицом. Судя по умным, покойным глазам, смотрящим ясно и весело, он себе на уме и имеет какую-то очень важную и приятную тайну. У него есть под подушкой и под матрацем что-то такое, чего он никому не показывает, но не из страха, что могут отнять или украсть, а из стыдливости. Иногда он подходит к окну и, обернувшись к товарищам спиной, надевает себе что-то на грудь и смотрит, нагнув голову; если в это время подойти к нему, то он сконфузится и сорвет что-то с груди. Но тайну его угадать нетрудно.
– Поздравьте меня, – говорит он часто Ивану Дмитричу, – я представлен к Станиславу второй степени со звездой. Вторую степень со звездой дают только иностранцам, но для меня почему-то хотят сделать исключение, – улыбается он, в недоумении пожимая плечами. – Вот уж, признаться, не ожидал!
– Я в этом ничего не понимаю, – угрюмо заявляет Иван Дмитрич.
– Но знаете, чего я рано или поздно добьюсь? – продолжает бывший сортировщик, лукаво щуря глаза. – Я непременно получу шведскую «Полярную звезду». Орден такой, что стоит похлопотать. Белый крест и черная лента. Это очень красиво.
Вероятно, нигде в другом месте так жизнь не однообразна, как во флигеле. Утром: больные, кроме паралитика и толстого мужика, умываются в сенях из большого ушата и утираются фалдами халатов; после этого пьют из оловянных кружек чай, который приносит из главного корпуса Никита. Каждому полагается по одной кружке. В полдень едят щи из кислой капусты и кашу, вечером ужинают кашей, оставшеюся от обеда. В промежутках лежат, спят, глядят в окна и ходят из угла в угол. И так каждый день. Даже бывший сортировщик говорит все об одних и тех же орденах.
Свежих людей редко видят в палате № 6. Новых помешанных доктор давно уже не принимает, а любителей посещать сумасшедшие дома немного на этом свете. Раз в два месяца бывает во флигеле Семен Лазарич, цирюльник. Как он стрижет сумасшедших и как Никита помогает ему делать это и в какое смятение приходят больные всякий раз при появлении пьяного улыбающегося цирюльника, мы говорить не будем.
Кроме цирюльника, никто не заглядывает во флигель. Больные осуждены видеть изо дня в день одного только Никиту.
Впрочем, недавно по больничному корпусу разнесся довольно странный слух.
Распустили слух, что палату № 6 будто бы стал посещать доктор.
V
Странный слух!
Доктор Андрей Ефимыч Рагин – замечательный человек в своем роде. Говорят, что в ранней молодости он был очень набожен и готовил себя к духовной карьере и что, кончив в 1863 году курс в гимназии, он намеревался поступить в духовную академию, но будто бы его отец, доктор медицины и хирург, едко посмеялся над ним и заявил категорически, что не будет считать его своим сыном, если он пойдет в попы. Насколько это верно – не знаю, но сам Андрей Ефимыч не раз признавался, что он никогда не чувствовал призвания к медицине и вообще к специальным наукам.
Как бы то ни было, кончив курс по медицинскому факультету, он в священники не постригся. Набожности он не проявлял и на духовную особу в начале своей врачебной карьеры походил так же мало, как теперь.
Наружность у него тяжелая, грубая, мужицкая: своим лицом, бородой, плоскими волосами и крепким, неуклюжим сложением напоминает он трактирщика на большой дороге, разъевшегося, невоздержного и крутого. Лицо суровое, покрыто синими жилками, глаза маленькие, нос красный. При высоком росте и широких плечах у него громадные руки и ноги; кажется, хватит кулаком – дух вон. Но поступь у него тихая и походка осторожная, вкрадчивая; при встрече в узком коридоре он всегда первый останавливается, чтобы дать дорогу, и не басом, как ждешь, а тонким, мягким тенорком говорит: «Виноват!» У него на шее небольшая опухоль, которая мешает ему носить жесткие крахмальные воротнички, и потому он всегда ходит в мягкой полотняной или ситцевой сорочке. Вообще одевается он не по-докторски. Одну и ту же пару он таскает лет по десяти, а новая одежа, которую он обыкновенно покупает в жидовской лавке, кажется на нем такою же поношенною и помятою, как старая; в одном и том же сюртуке он и больных принимает, и обедает, и в гости ходит; но это не из скупости, а от полного невнимания к своей наружности.
Когда Андрей Ефимыч приехал в город, чтобы принять должность, «богоугодное заведение» находилось в ужасном состоянии. В палатах, коридорах и в больничном дворе тяжело было дышать от смрада. Больничные мужики, сиделки и их дети спали в палатах вместе с больными. Жаловались, что житья нет от тараканов, клопов и мышей. В хирургическом отделении не переводилась рожа. На всю больницу было только два скальпеля и ни одного термометра, в ваннах держали картофель. Смотритель, кастелянша и фельдшер грабили больных, а про старого доктора, предшественника Андрея Ефимыча, рассказывали, будто он занимался тайною продажей больничного спирта и завел себе из сиделок и больных женщин целый гарем. В городе отлично знали про эти беспорядки и даже преувеличивали их, но относились к ним спокойно; одни оправдывали их тем, что в больницу ложатся только мещане и мужики, которые не могут быть недовольны, так как дома живут гораздо хуже, чем в больнице; не рябчиками же их кормить! Другие же в оправдание говорили, что одному городу без помощи земства не под силу содержать хорошую больницу; слава богу, что хоть плохая, да есть. А молодое земство не открывало лечебницы ни в городе, ни возле, ссылаясь на то, что город уже имеет свою больницу.
Осмотрев больницу, Андрей Ефимыч пришел к заключению, что это учреждение безнравственное и в высшей степени вредное для здоровья жителей. По его мнению, самое умное, что можно было сделать, это – выпустить больных на волю, а больницу закрыть. Но он рассудил, что для этого недостаточно одной только его воли и что это было бы бесполезно; если физическую и нравственную нечистоту прогнать с одного места, то она перейдет на другое; надо ждать, когда она сама выветрится. К тому же, если люди открывали больницу и терпят ее у себя, то, значит, она им нужна; предрассудки и все эти житейские гадости и мерзости нужны, так как они с течением времени перерабатываются во что-нибудь путное, как навоз в чернозем. На земле нет ничего такого хорошего, что в своем первоисточнике не имело бы гадости.
Приняв должность, Андрей Ефимыч отнесся к беспорядкам, по-видимому, довольно равнодушно. Он попросил только больничных мужиков и сиделок не ночевать в палатах и поставил два шкафа с инструментами; смотритель же, кастелянша, фельдшер и хирургическая рожа остались на своих местах.
Андрей Ефимыч чрезвычайно любит ум и честность, но чтобы устроить около себя жизнь умную и честную, у него не хватает характера и веры в свое право. Приказывать, запрещать и настаивать он положительно не умеет. Похоже на то, как будто он дал обет никогда не возвышать голоса и не употреблять повелительного наклонения. Сказать «дай» или «принеси» ему трудно; когда ему хочется есть, он нерешительно покашливает и говорит кухарке: «Как бы мне чаю…», или: «Как бы мне пообедать». Сказать же смотрителю, чтоб он перестал красть, или прогнать его, или совсем упразднить эту ненужную паразитную должность, – для него совершенно не под силу. Когда обманывают Андрея Ефимыча, или льстят ему, или подносят для подписи заведомо подлый счет, то он краснеет как рак и чувствует себя виноватым, но счет все-таки подписывает; когда больные жалуются ему на голод или на грубых сиделок, он конфузится и виновато бормочет:
– Хорошо, хорошо, я разберу после… Вероятно, тут недоразумение…
В первое время Андрей Ефимыч работал очень усердно. Он принимал ежедневно с утра до обеда, делал операции и даже занимался акушерской практикой. Дамы говорили про него, что он внимателен и отлично угадывает болезни, особенно детские и женские. Но с течением времени дело заметно прискучило ему своим однообразием и очевидною бесполезностью. Сегодня примешь тридцать больных, а завтра, глядишь, привалило их тридцать пять, послезавтра сорок, и так изо дня в день, из года в год, а смертность в городе не уменьшается, и больные не перестают ходить. Оказать серьезную помощь сорока приходящим больным от утра до обеда нет физической возможности, значит, поневоле выходит один обман. Принято в отчетном году двенадцать тысяч приходящих больных, значит, попросту рассуждая, обмануто двенадцать тысяч человек. Класть же серьезных больных в палаты и заниматься ими по правилам науки тоже нельзя, потому что правила есть, а науки нет; если же оставить философию и педантически следовать правилам, как прочие врачи, то для этого прежде всего нужны чистота и вентиляция, а не грязь, здоровая пища, а не щи из вонючей кислой капусты, и хорошие помощники, а не воры.
Да и к чему мешать людям умирать, если смерть есть нормальный и законный конец каждого? Что из того, если какой-нибудь торгаш или чиновник проживет лишних пять, десять лет? Если же видеть цель медицины в том, что лекарства облегчают страдания, то невольно напрашивается вопрос: зачем их облегчать? Во-первых, говорят, что страдания ведут человека к совершенству, и, во-вторых, если человечество в самом деле научится облегчать свои страдания пилюлями и каплями, то оно совершенно забросит религию и философию, в которых до сих пор находило не только защиту от всяких бед, но даже счастие. Пушкин перед смертью испытывал страшные мучения, бедняжка Гейне несколько лет лежал в параличе; почему же не поболеть какому-нибудь Андрею Ефимычу или Матрене Саввишне, жизнь которых бессодержательна и была бы совершенно пуста и похожа на жизнь амебы, если бы не страдания?
Подавляемый такими рассуждениями, Андрей Ефимыч опустил руки и стал ходить в больницу не каждый день.
VI
Жизнь его проходит так. Обыкновенно он встает утром часов в восемь, одевается и пьет чай. Потом садится у себя в кабинете читать или идет в больницу. Здесь, в больнице, в узком темном коридорчике сидят амбулаторные больные, ожидающие приемки. Мимо них, стуча сапогами по кирпичному полу, бегают мужики и сиделки, проходят тощие больные в халатах, проносят мертвецов и посуду с нечистотами, плачут дети, дует сквозной ветер. Андрей Ефимыч знает, что для лихорадящих, чахоточных и вообще впечатлительных больных такая обстановка мучительна, но что поделаешь? В приемной встречает его фельдшер Сергей Сергеич, маленький, толстый человек с бритым, чисто вымытым, пухлым лицом, с мягкими плавными манерами и в новом просторном костюме, похожий больше на сенатора, чем на фельдшера. В городе он имеет громадную практику, носит белый галстук и считает себя более сведущим, чем доктор, который совсем не имеет практики. В углу, в приемной, стоит большой образ в киоте, с тяжелою лампадой, возле – ставник в белом чехле; на стенах висят портреты архиереев, вид Святогорского монастыря и венки из сухих васильков. Сергей Сергеич религиозен и любит благолепие. Образ поставлен его иждивением; по воскресеньям в приемной кто-нибудь из больных, по его приказанию, читает вслух акафист, а после чтения сам Сергей Сергеич обходит все палаты с кадильницей и кадит в них ладаном.
Больных много, а времени мало, и потому дело ограничивается одним только коротким опросом и выдачей какого-нибудь лекарства вроде летучей мази или касторки. Андрей Ефимыч сидит, подперев щеку кулаком, задумавшись, и машинально задает вопросы. Сергей Сергеич тоже сидит, потирает свои ручки и изредка вмешивается.
– Болеем и нужду терпим оттого, – говорит он, – что Господу милосердному плохо молимся. Да!
Во время приемки Андрей Ефимыч не делает никаких операций; он давно уже отвык от них, и вид крови его неприятно волнует. Когда ему приходится раскрывать ребенку рот, чтобы заглянуть в горло, а ребенок кричит и защищается ручонками, то от шума в ушах у него кружится голова и выступают слезы на глазах. Он торопится прописать лекарство и машет руками, чтобы баба поскорее унесла ребенка.
На приемке скоро ему прискучают робость больных и их бестолковость, близость благолепного Сергея Сергеича, портреты на стенах и свои собственные вопросы, которые он задает неизменно уже более двадцати лет. И он уходит, приняв пять-шесть больных. Остальных без него принимает фельдшер.
С приятною мыслью, что, слава богу, частной практики у него давно уже нет и что ему никто не помешает, Андрей Ефимыч, придя домой, немедленно садится в кабинете за стол и начинает читать. Читает он очень много и всегда с большим удовольствием. Половина жалованья уходит у него на покупку книг, и из шести комнат его квартиры три завалены книгами и старыми журналами. Больше всего он любит сочинения по истории и философии; по медицине же выписывает одного только «Врача», которого всегда начинает читать с конца. Чтение всякий раз продолжается без перерыва по нескольку часов и его не утомляет. Читает он не так быстро и порывисто, как когда-то читал Иван Дмитрич, а медленно, с проникновением, часто останавливаясь на местах, которые ему нравятся или непонятны. Около книги всегда стоит графинчик с водкой и лежит соленый огурец или моченое яблоко прямо на сукне, без тарелки. Через каждые полчаса он, не отрывая глаз от книги, наливает себе рюмку водки и выпивает, потом, не глядя, нащупывает огурец и откусывает кусочек.
В три часа он осторожно подходит к кухонной двери, кашляет и говорит:
– Дарьюшка, как бы мне пообедать…
После обеда, довольно плохого и неопрятного, Андрей Ефимыч ходит по своим комнатам, скрестив на груди руки, и думает. Бьет четыре часа, потом пять, а он все ходит и думает. Изредка поскрипывает кухонная дверь, и показывается из нее красное, заспанное лицо Дарьюшки.
– Андрей Ефимыч, вам не пора пиво пить? – спрашивает она озабоченно.
– Нет, еще не время… – отвечает он. – Я погожу… погожу…
К вечеру обыкновенно приходит почтмейстер, Михаил Аверьяныч, единственный во всем городе человек, общество которого для Андрея Ефимыча не тягостно. Михаил Аверьяныч когда-то был очень богатым помещиком и служил в кавалерии, но разорился и из нужды поступил под старость в почтовое ведомство. У него бодрый, здоровый вид, роскошные седые бакены, благовоспитанные манеры и громкий приятный голос. Он добр и чувствителен, но вспыльчив. Когда на почте кто-нибудь из посетителей протестует, не соглашается или просто начинает рассуждать, то Михаил Аверьяныч багровеет, трясется всем телом и кричит громовым голосом: «Замолчать!», так что за почтовым отделением давно уже установилась репутация учреждения, в котором страшно бывать. Михаил Аверьяныч уважает и любит Андрея Ефимыча за образованность и благородство души, к прочим же обывателям относится свысока, как к своим подчиненным.
– А вот и я! – говорит он, входя к Андрею Ефимычу. – Здравствуйте, мой дорогой! Небось я уже надоел вам, а?
– Напротив, очень рад, – отвечает ему доктор. – Я всегда рад вам.
Приятели садятся в кабинете на диван и некоторое время молча курят.
– Дарьюшка, как бы нам пива! – говорит Андрей Ефимыч.
Первую бутылку выпивают тоже молча: доктор – задумавшись, а Михаил Аверьяныч – с веселым, оживленным видом, как человек, который имеет рассказать что-то очень интересное. Разговор всегда начинает доктор.
– Как жаль, – говорит он медленно и тихо, покачивая головой и не глядя в глаза собеседнику (он никогда не смотрит в глаза), – как глубоко жаль, уважаемый Михаил Аверьяныч, что в нашем городе совершенно нет людей, которые бы умели и любили вести умную и интересную беседу. Это громадное для нас лишение. Даже интеллигенция не возвышается над пошлостью; уровень ее развития, уверяю вас, нисколько не выше, чем у низшего сословия.
– Совершенно верно. Согласен.
– Вы сами изволите знать, – продолжает доктор тихо и с расстановкой, – что на этом свете все незначительно и неинтересно, кроме высших духовных проявлений человеческого ума. Ум проводит резкую грань между животным и человеком, намекает на божественность последнего и в некоторой степени даже заменяет ему бессмертие, которого нет. Исходя из этого, ум служит единственно возможным источником наслаждения. Мы же не видим и не слышим около себя ума, – значит, мы лишены наслаждения. Правда, у нас есть книги, но это совсем не то, что живая беседа и общение. Если позволите сделать не совсем удачное сравнение, то книги – это ноты, а беседа – пение.
– Совершенно верно.
Наступает молчание. Из кухни выходит Дарьюшка и с выражением тупой скорби, подцепив кулачком лицо, останавливается в дверях, чтобы послушать.
– Эх! – вздыхает Михаил Аверьяныч. – Захотели от нынешних ума!
И он рассказывает, как жилось прежде здорово, весело и интересно, какая была в России умная интеллигенция и как высоко она ставила понятия о чести и дружбе. Давали деньги взаймы без векселя и считалось позором не протянуть руку помощи нуждающемуся товарищу. А какие были походы, приключения, стычки, какие товарищи, какие женщины! А Кавказ – какой удивительный край! А жена одного батальонного командира, странная женщина, надевала офицерское платье и уезжала по вечерам в горы, без проводника. Говорят, что в аулах у нее был роман с каким-то князьком.
– Царица небесная, матушка… – вздыхает Дарьюшка.
– А как пили! Как ели! А какие были отчаянные либералы!
Андрей Ефимыч слушает и не слышит; он о чем-то думает и прихлебывает пиво.
– Мне часто снятся умные люди и беседы с ними, – говорит он неожиданно, перебивая Михаила Аверьяныча. – Мой отец дал мне прекрасное образование, но под влиянием идей шестидесятых годов заставил меня сделаться врачом. Мне кажется, что если б я тогда не послушался его, то теперь я находился бы в самом центре умственного движения. Вероятно, был бы членом какого-нибудь факультета. Конечно, ум тоже невечен и преходящ, но вы уже знаете, почему я питаю к нему склонность. Жизнь есть досадная ловушка. Когда мыслящий человек достигает возмужалости и приходит в зрелое сознание, то он невольно чувствует себя как бы в ловушке, из которой нет выхода. В самом деле, против его воли вызван он какими-то случайностями из небытия к жизни… Зачем? Хочет он узнать смысл и цель своего существования, ему не говорят или же говорят нелепости; он стучится – ему не отворяют; к нему приходит смерть – тоже против его воли. И вот, как в тюрьме, люди, связанные общим несчастием, чувствуют себя легче когда сходятся вместе, так и в жизни не замечаешь ловушки, когда люди, склонные к анализу и обобщениям, сходятся вместе и проводят время в обмене гордых, свободных идей. В этом смысле ум есть наслаждение незаменимое.
– Совершенно верно.
Не глядя собеседнику в глаза, тихо и с паузами, Андрей Ефимыч продолжает говорить об умных людях и беседах с ними, а Михаил Аверьяныч внимательно слушает его и соглашается: «Совершенно верно».
– А вы не верите в бессмертие души? – вдруг спрашивает почтмейстер.
– Нет, уважаемый Михаил Аверьяныч, не верю и не имею основания верить.
– Признаться, и я сомневаюсь. А хотя, впрочем, у меня такое чувство, как будто я никогда не умру. Ой, думаю себе, старый хрен, умирать пора! А в душе какой-то голосочек: не верь, не умрешь!..
В начале десятого часа Михаил Аверьяныч уходит. Надевая в передней шубу, он говорит со вздохом:
– Однако в какую глушь занесла нас судьба! Досаднее всего, что здесь и умирать придется. Эх!..
VII
Проводив приятеля, Андрей Ефимыч садится за стол и опять начинает читать. Тишина вечера и потом ночи не нарушается ни одним звуком, и время, кажется, останавливается и замирает вместе с доктором над книгой, и кажется, что ничего не существует, кроме этой книги и лампы с зеленым колпаком. Грубое, мужицкое лицо доктора мало-помалу озаряется улыбкой умиления и восторга перед движениями человеческого ума. О, зачем человек не бессмертен? – думает он. – Зачем мозговые центры и извилины, зачем зрение, речь, самочувствие, гений, если всему этому суждено уйти в почву и в конце концов охладеть вместе с земною корой, а потом миллионы лет без смысла и без цели носиться с землей вокруг солнца? Для того чтобы охладеть и потом носиться, совсем не нужно извлекать из небытия человека с его высоким, почти божеским умом и потом, словно в насмешку, превращать его в глину.
Обмен веществ! Но какая трусость утешать себя этим суррогатом бессмертия! Бессознательные процессы, происходящие в природе, ниже даже человеческой глупости, так как в глупости есть все-таки сознание и воля, в процессах же ровно ничего. Только трус, у которого больше страха перед смертью, чем достоинства, может утешать себя тем, что тело его будет со временем жить в траве, в камне, в жабе… Видеть свое бессмертие в обмене веществ так же странно, как пророчить блестящую будущность футляру после того, как разбилась и стала негодною дорогая скрипка.
Когда бьют часы, Андрей Ефимыч откидывается на спинку кресла и закрывает глаза, чтобы немножко подумать. И невзначай, под влиянием хороших мыслей, вычитанных из книги, он бросает взгляд на свое прошедшее и на настоящее. Прошлое противно, лучше не вспоминать о нем. А в настоящем то же, что в прошлом. Он знает, что в то время, когда его мысли носятся вместе с охлажденною землей вокруг солнца, рядом с докторской квартирой, в большом корпусе томятся люди в болезнях и физической нечистоте; быть может, кто-нибудь не спит и воюет с насекомыми, кто-нибудь заражается рожей или стонет от туго положенной повязки; быть может, больные играют в карты с сиделками и пьют водку. В отчетном году было обмануто двенадцать тысяч человек; все больничное дело, как и двадцать лет назад, построено на воровстве, дрязгах, сплетнях, кумовстве, на грубом шарлатанстве, и больница по-прежнему представляет из себя учреждение безнравственное и в высшей степени вредное для здоровья жителей. Он знает, что в палате № 6 за решетками Никита колотит больных и что Мойсейка каждый день ходит по городу и собирает милостыню.
С другой же стороны, ему отлично известно, что за последние двадцать пять лет с медициной произошла сказочная перемена. Когда он учился в университете, ему казалось, что медицину скоро постигнет участь алхимии и метафизики, теперь же, когда он читает по ночам, медицина трогает его и возбуждает в нем удивление и даже восторг. В самом деле, какой неожиданный блеск, какая революция! Благодаря антисептике делают операции, какие великий Пирогов считал невозможными даже in spe.[21] Обыкновенные земские врачи решаются производить резекцию коленного сустава, на сто чревосечений один только смертный случай, а каменная болезнь считается таким пустяком, что о ней даже не пишут. Радикально излечивается сифилис. А теория наследственности, гипнотизм, открытия Пастера и Коха, гигиена со статистикой, а наша русская земская медицина? Психиатрия с ее теперешнею классификацией болезней, методами распознавания и лечения – это в сравнении с тем, что было, целый Эльборус. Теперь помешанным не льют на голову холодную воду и не надевают на них горячечных рубах; их содержат по-человечески и даже, как пишут в газетах, устраивают для них спектакли и балы. Андрей Ефимыч знает, что при теперешних взглядах и вкусах такая мерзость, как палата № 6, возможна разве только в двухстах верстах от железной дороги, в городке, где городской голова и все гласные – полуграмотные мещане, видящие во враче жреца, которому нужно верить без всякой критики, хотя бы он вливал в рот расплавленное олово; в другом же месте публика и газеты давно бы уже расхватали в клочья эту маленькую Бастилию.
«Но что же? – спрашивает себя Андрей Ефимыч, открывая глаза. – Что же из этого? И антисептика, и Кох, и Пастер, а сущность дела нисколько не изменилась. Болезненность и смертность все те же. Сумасшедшим устраивают балы и спектакли, а на волю их все-таки не выпускают. Значит, все вздор и суета, и разницы между лучшею венскою клиникой и моею больницей, в сущности, нет никакой».
Но скорбь и чувство, похожее на зависть, мешают ему быть равнодушным. Это, должно быть, от утомления. Тяжелая голова склоняется к книге, он кладет под лицо руки, чтобы мягче было, и думает:
«Я служу вредному делу и получаю жалованье от людей, которых обманываю; я нечестен. Но ведь сам по себе я ничто, я только частица необходимого социального зла: все уездные чиновники вредны и даром получают жалованье… Значит, в своей нечестности виноват не я, а время… Родись я двумястами лет позже, я был бы другим».
Когда бьет три часа, он тушит лампу и уходит в спальню. Спать ему не хочется.
VIII
Года два тому назад земство расщедрилось и постановило выдавать триста рублей ежегодно в качестве пособия на усиление медицинского персонала в городской больнице впредь до открытия земской больницы, и на помощь Андрею Ефимычу был приглашен городом уездный врач Евгений Федорыч Хоботов. Это еще очень молодой человек – ему нет и тридцати, – высокий брюнет с широкими скулами и маленькими глазками; вероятно, предки его были инородцами. Приехал он в город без гроша денег, с небольшим чемоданчиком и с молодою некрасивою женщиной, которую он называет своею кухаркой. У этой женщины грудной младенец. Ходит Евгений Федорыч в фуражке с козырьком и в высоких сапогах, а зимой в полушубке. Он близко сошелся с фельдшером Сергеем Сергеичем и с казначеем, а остальных чиновников называет почему-то аристократами и сторонится их. Во всей квартире у него есть только одна книга – «Новейшие рецепты венской клиники за 1881 г.». Идя к больному, он всегда берет с собой и эту книжку. В клубе по вечерам играет он в бильярд, карт же не любит. Большой охотник употреблять в разговоре такие слова, как канитель, мантифолия с уксусом, будет тебе тень наводить и т. п.
В больнице он бывает два раза в неделю, обходит палаты и делает приемку больных. Совершенное отсутствие антисептики и кровососные банки возмущают его, но новых порядков он не вводит, боясь оскорбить этим Андрея Ефимыча. Своего коллегу Андрея Ефимыча он считает старым плутом, подозревает у него большие средства и втайне завидует ему. Он охотно бы занял его место.
IX
В один из весенних вечеров, в конце марта, когда уже на земле не было снега и в больничном саду пели скворцы, доктор вышел проводить до ворот своего приятеля почтмейстера. Как раз в это время во двор входил жид Мойсейка, возвращавшийся с добычи. Он был без шапки и в мелких калошах на босую ногу и в руках держал небольшой мешочек с милостыней.
– Дай копеечку! – обратился он к доктору, дрожа от холода и улыбаясь.
Андрей Ефимыч, который никогда не умел отказывать, подал ему гривенник.
«Как это нехорошо, – подумал он, глядя на его босые ноги с красными тощими щиколожками. – Ведь мокро».
И, побуждаемый чувством, похожим на жалость и на брезгливость, он пошел во флигель вслед за евреем, поглядывая то на его лысину, то на щиколожки. При входе доктора с кучи хлама вскочил Никита и вытянулся.
– Здравствуй, Никита, – сказал мягко Андрей Ефимыч. – Как бы этому еврею выдать сапоги, что ли, а то простудится.
– Слушаю, ваше высокоблагородие. Я доложу смотрителю.
– Пожалуйста. Ты попроси его от моего имени. Скажи, что я просил.
Дверь из сеней в палату была отворена. Иван Дмитрич, лежа на кровати и приподнявшись на локоть, с тревогой прислушивался к чужому голосу и вдруг узнал доктора. Он весь затрясся от гнева, вскочил и с красным, злым лицом, с глазами навыкате, выбежал на середину палаты.
– Доктор пришел! – крикнул он и захохотал. – Наконец-то! Господа, поздравляю, доктор удостаивает нас своим визитом! Проклятая гадина! – взвизгнул он и в исступлении, какого никогда еще не видели в палате, топнул ногой. – Убить эту гадину! Нет, мало убить! Утопить в отхожем месте!
Андрей Ефимыч, слышавший это, выглянул из сеней в палату и спросил мягко:
– За что?
– За что? – крикнул Иван Дмитрич, подходя к нему с угрожающим видом и судорожно запахиваясь в халат. – За что? Вор! – проговорил он с отвращением и делая губы так, как будто желая плюнуть. – Шарлатан! Палач!
– Успокойтесь, – сказал Андрей Ефимыч, виновато улыбаясь. – Уверяю вас, я никогда ничего не крал, в остальном же, вероятно, вы сильно преувеличиваете. Я вижу, что вы на меня сердиты. Успокойтесь, прошу вас, если можете, и скажите хладнокровно: за что вы сердиты?
– А за что вы меня здесь держите?
– За то, что вы больны.
– Да, болен. Но ведь десятки, сотни сумасшедших гуляют на свободе, потому что ваше невежество не способно отличить их от здоровых. Почему же я и вот эти несчастные должны сидеть тут за всех, как козлы отпущения? Вы, фельдшер, смотритель и вся ваша больничная сволочь в нравственном отношении неизмеримо ниже каждого из нас, почему же мы сидим, а вы нет? Где логика?
– Нравственное отношение и логика тут ни при чем. Все зависит от случая. Кого посадили, тот сидит, а кого не посадили, тот гуляет, вот и все. В том, что я доктор, а вы душевнобольной, нет ни нравственности, ни логики, а одна только пустая случайность.
– Этой ерунды я не понимаю… – глупо проговорил Иван Дмитрич и сел на свою кровать.
Мойсейка, которого Никита постеснялся обыскивать в присутствии доктора, разложил у себя на постели кусочки хлеба, бумажки и косточки и, все еще дрожа от холода, что-то быстро и певуче заговорил по-еврейски. Вероятно, он вообразил, что открыл лавочку.
– Отпустите меня, – сказал Иван Дмитрич, и голос его дрогнул.
– Не могу.
– Но почему же? Почему?
– Потому что это не в моей власти. Посудите, какая польза вам от того, если я отпущу вас? Идите. Вас задержат горожане или полиция и вернут назад.
– Да, да, это правда… – проговорил Иван Дмитрич и потер себе лоб. – Это ужасно! Но что же мне делать? Что?
Голос Ивана Дмитрича и его молодое умное лицо с гримасами понравились Андрею Ефимычу. Ему захотелось приласкать молодого человека и успокоить его. Он сел рядом с ним на постель, подумал и сказал:
– Вы спрашиваете, что делать? Самое лучшее в вашем положении – бежать отсюда. Но, к сожалению, это бесполезно. Вас задержат. Когда общество ограждает себя от преступников, психических больных и вообще неудобных людей, то оно непобедимо. Вам остается одно: успокоиться на мысли, что ваше пребывание здесь необходимо.
– Никому оно не нужно.
– Раз существуют тюрьмы и сумасшедшие дома, то должен же кто-нибудь сидеть в них. Не вы – так я, не я – так кто-нибудь третий. Погодите, когда в далеком будущем закончат свое существование тюрьмы и сумасшедшие дома, то не будет ни решеток на окнах, ни халатов. Конечно, такое время рано или поздно настанет.
Иван Дмитрич насмешливо улыбнулся.
– Вы шутите, – сказал он, щуря глаза. – Таким господам, как вы и ваш помощник Никита, нет никакого дела до будущего, но можете быть уверены, милостивый государь, настанут лучшие времена! Пусть я выражаюсь пошло, смейтесь, но воссияет заря новой жизни, восторжествует правда, и – на нашей улице будет праздник! Я не дождусь, издохну, но зато чьи-нибудь правнуки дождутся. Приветствую их от всей души и радуюсь, радуюсь за них! Вперед! Помогай вам бог, друзья!
Иван Дмитрич с блестящими глазами поднялся и, протягивая руки к окну, продолжал с волнением в голосе:
– Из-за этих решеток благословляю вас! Да здравствует правда! Радуюсь!
– Я не нахожу особенной причины радоваться, – сказал Андрей Ефимыч, которому движение Ивана Дмитрича показалось театральным и в то же время очень понравилось. – Тюрем и сумасшедших домов не будет, и правда, как вы изволили выразиться, восторжествует, но ведь сущность вещей не изменится, законы природы останутся всё те же. Люди будут болеть, стариться и умирать так же, как и теперь. Какая бы великолепная заря ни освещала вашу жизнь, все же в конце концов вас заколотят в гроб и бросят в яму.
– А бессмертие?
– Э, полноте!
– Вы не верите, ну а я верю. У Достоевского или у Вольтера кто-то говорит, что если бы не было Бога, то его выдумали бы люди. А я глубоко верю, что если нет бессмертия, то его рано или поздно изобретет великий человеческий ум.
– Хорошо сказано, – проговорил Андрей Ефимыч, улыбаясь от удовольствия. – Это хорошо, что вы веруете. С такой верой можно жить припеваючи даже замуравленному в стене. Вы изволили где-нибудь получить образование?
– Да, я был в университете, но не кончил.
– Вы мыслящий и вдумчивый человек. При всякой обстановке вы можете находить успокоение в самом себе. Свободное и глубокое мышление, которое стремится к уразумению жизни, и полное презрение к глупой суете мира – вот два блага, выше которых никогда не знал человек. И вы можете обладать ими, хотя бы вы жили за тремя решетками. Диоген жил в бочке, однако же был счастливее всех царей земных.
– Ваш Диоген был болван, – угрюмо проговорил Иван Дмитрич. – Что вы мне говорите про Диогена да про какое-то уразумение? – рассердился он вдруг и вскочил. – Я люблю жизнь, люблю страстно! У меня мания преследования, постоянный мучительный страх, но бывают минуты, когда меня охватывает жажда жизни, и тогда я боюсь сойти с ума. Ужасно хочу жить, ужасно!
Он в волнении прошелся по палате и сказал, понизив голос:
– Когда я мечтаю, меня посещают призраки. Ко мне ходят какие-то люди, я слышу голоса, музыку, и кажется мне, что я гуляю по каким-то лесам, по берегу моря, и мне так страстно хочется суеты, заботы… Скажите мне, ну что там нового? – спросил Иван Дмитрич. – Что там?
– Вы про город желаете знать или вообще?
– Ну, сначала расскажите мне про город, а потом вообще.
– Что ж? В городе томительно скучно… Не с кем слова сказать, некого послушать. Новых людей нет. Впрочем, приехал недавно молодой врач Хоботов.
– Он еще при мне приехал. Что, хам?
– Да, некультурный человек. Странно, знаете ли… Судя по всему, в наших столицах нет умственного застоя, есть движение, – значит, должны быть там и настоящие люди, но почему-то всякий раз оттуда присылают к нам таких людей, что не глядел бы. Несчастный город!
– Да, несчастный город! – вздохнул Иван Дмитрич и засмеялся. – А вообще как? Что пишут в газетах и журналах?
В палате было уже темно. Доктор поднялся и стоя начал рассказывать, что пишут за границей и в России и какое замечается теперь направление мысли. Иван Дмитрич внимательно слушал и задавал вопросы, но вдруг, точно вспомнив что-то ужасное, схватил себя за голову и лег на постель спиной к доктору.
– Что с вами? – спросил Андрей Ефимыч.
– Вы от меня не услышите больше ни одного слова! – грубо проговорил Иван Дмитрич. – Оставьте меня!
– Отчего же?
– Говорю вам: оставьте! Какого дьявола?
Андрей Ефимыч пожал плечами, вздохнул и вышел. Проходя через сени, он сказал:
– Как бы здесь убрать, Никита… Ужасно тяжелый запах!
– Слушаю, ваше высокоблагородие!
«Какой приятный молодой человек! – думал Андрей Ефимыч, идя к себе на квартиру. – За все время, пока я тут живу, это, кажется, первый, с которым можно поговорить. Он умеет рассуждать и интересуется именно тем, чем нужно».
Читая и потом ложась спать, он все время думал об Иване Дмитриче, а проснувшись на другой день утром, вспомнил, что вчера познакомился с умным и интересным человеком, и решил сходить к нему еще раз при первой возможности.
X
Иван Дмитрич лежал в такой же позе, как вчера, обхватив голову руками и поджав ноги. Лица его не было видно.
– Здравствуйте, мой друг, – сказал Андрей Ефимыч. – Вы не спите?
– Во-первых, я вам не друг, – проговорил Иван Дмитрич в подушку, – а во-вторых, вы напрасно хлопочете: вы не добьетесь от меня ни одного слова.
– Странно… – пробормотал Андрей Ефимыч в смущении. – Вчера мы беседовали так мирно, но вдруг вы почему-то обиделись и сразу оборвали… Вероятно, я выразился как-нибудь неловко или, быть может, высказал мысль, не согласную с вашими убеждениями…
– Да, так я вам и поверю! – сказал Иван Дмитрич, приподнимаясь и глядя на доктора насмешливо и с тревогой; глаза у него были красны. – Можете идти шпионить и пытать в другое место, а тут вам нечего делать.
Я еще вчера понял, зачем вы приходили.
– Странная фантазия! – усмехнулся доктор. – Значит, вы полагаете, что я шпион?
– Да, полагаю… Шпион или доктор, к которому положили меня на испытание, – это все равно.
– Ах, какой вы, право, извините… чудак!
Доктор сел на табурет возле постели и укоризненно покачал головой.
– Но допустим, что вы правы, – сказал он. – Допустим, что я предательски ловлю вас на слове, чтобы выдать полиции. Вас арестуют и потом судят. Но разве в суде и в тюрьме вам будет хуже, чем здесь? А если сошлют на поселение и даже на каторгу, то разве это хуже, чем сидеть в этом флигеле? Полагаю, не хуже… Чего же бояться?
Видимо, эти слова подействовали на Ивана Дмитрича. Он покойно сел.
Был пятый час вечера – время, когда обыкновенно Андрей Ефимыч ходит у себя по комнатам и Дарьюшка спрашивает его, не пора ли ему пиво пить. На дворе была тихая, ясная погода.
– А я после обеда вышел прогуляться, да вот и зашел, как видите, – сказал доктор. – Совсем весна.
– Теперь какой месяц? Март? – спросил Иван Дмитрич.
– Да, конец марта.
– Грязно на дворе?
– Нет, не очень. В саду уже тропинки.
– Теперь бы хорошо проехаться в коляске куда-нибудь за город, – сказал Иван Дмитрич, потирая свои красные глаза, точно спросонок, – потом вернуться бы домой в теплый, уютный кабинет и… и полечиться у порядочного доктора от головной боли… Давно уже я не жил по-человечески. А здесь гадко! Нестерпимо гадко!
После вчерашнего возбуждения он был утомлен и вял и говорил неохотно. Пальцы у него дрожали, и по лицу видно было, что у него сильно болела голова.
– Между теплым, уютным кабинетом и этою палатой нет никакой разницы, – сказал Андрей Ефимыч. – Покой и довольство человека не вне его, а в нем самом.
– То есть как?
– Обыкновенный человек ждет хорошего или дурного извне, то есть от коляски и кабинета, а мыслящий – от самого себя.
– Идите проповедуйте эту философию в Греции, где тепло и пахнет померанцем, а здесь она не по климату. С кем это я говорил о Диогене? С вами, что ли?
– Да, вчера со мной.
– Диоген не нуждался в кабинете и в теплом помещении; там и без того жарко. Лежи себе в бочке да кушай апельсины и оливки. А доведись ему в России жить, так он не то что в декабре, а в мае запросился бы в комнату. Небось скрючило бы от холода.
– Нет. Холод, как и вообще всякую боль, можно не чувствовать. Марк Аврелий сказал: «Боль есть живое представление о боли: сделай усилие воли, чтоб изменить это представление, откинь его, перестань жаловаться, и боль исчезнет». Это справедливо. Мудрец или попросту мыслящий, вдумчивый человек отличается именно тем, что презирает страдание; он всегда доволен и ничему не удивляется.
– Значит, я идиот, так как я страдаю, недоволен и удивляюсь человеческой подлости.
– Это вы напрасно. Если вы почаще будете вдумываться, то вы поймете, как ничтожно все то внешнее, что волнует нас. Нужно стремиться к уразумению жизни, а в нем – истинное благо.
– Уразумение… – поморщился Иван Дмитрич. – Внешнее, внутреннее… Извините, я этого не понимаю. Я знаю только, – сказал он, вставая и сердито глядя на доктора, – я знаю, что Бог создал меня из теплой крови и нервов, да-с! А органическая ткань, если она жизнеспособна, должна реагировать на всякое раздражение. И я реагирую! На боль я отвечаю криком и слезами, на подлость—негодованием, на мерзость – отвращением. По-моему, это, собственно, и называется жизнью. Чем ниже организм, тем он менее чувствителен и тем слабее отвечает на раздражение, и чем выше, тем он восприимчивее и энергичнее реагирует на действительность. Как не знать этого? Доктор, а не знает таких пустяков! Чтобы презирать страдание, быть всегда довольным и ничему не удивляться, нужно дойти вот до этакого состояния, – и Иван Дмитрич указал на толстого, заплывшего жиром мужика, – или же закалить себя страданиями до такой степени, чтобы потерять всякую чувствительность к ним, то есть, другими словами, перестать жить. Извините, я не мудрец и не философ, – продолжал Иван Дмитрич с раздражением, – и ничего я в этом не понимаю. Я не в состоянии рассуждать.
– Напротив, вы прекрасно рассуждаете.
– Стоики, которых вы пародируете, были замечательные люди, но учение их застыло еще две тысячи лет назад и ни капли не подвинулось вперед и не будет двигаться, так как оно не практично и не жизненно. Оно имело успех только у меньшинства, которое проводит свою жизнь в штудировании и смаковании всяких учений, большинство же не понимало его. Учение, проповедующее равнодушие к богатству, к удобствам жизни, презрение к страданиям и смерти, совсем непонятно для громадного большинства, так как это большинство никогда не знало ни богатства, ни удобств в жизни; а презирать страдания значило бы для него презирать самую жизнь, так как все существо человека состоит из ощущений голода, холода, обид, потерь и гамлетовского страха перед смертью. В этих ощущениях вся жизнь: ею можно тяготиться, ненавидеть ее, но не презирать. Да, так, повторяю, учение стоиков никогда не может иметь будущности, прогрессируют же, как видите, от начала века до сегодня борьба, чуткость к боли, способность отвечать на раздражение…
Иван Дмитрич вдруг потерял нить мыслей, остановился и досадливо потер лоб.
– Хотел сказать что-то важное, да сбился, – сказал он. – О чем я? Да! Так вот я и говорю: кто-то из стоиков продал себя в рабство затем, чтобы выкупить своего ближнего. Вот видите, значит, и стоик реагировал на раздражение, так как для такого великодушного акта, как уничтожение себя ради ближнего, нужна возмущенная, сострадающая душа. Я забыл тут в тюрьме все, что учил, а то бы еще что-нибудь вспомнил. А Христа взять? Христос отвечал на действительность тем, что плакал, улыбался, печалился, гневался, даже тосковал; он не с улыбкой шел навстречу страданиям и не презирал смерти, а молился в саду Гефсиманском, чтобы его миновала чаша сия.
Иван Дмитрич засмеялся и сел.
– Положим, покой и довольство человека не вне его, а в нем самом, – сказал он. – Положим, нужно презирать страдания и ничему не удивляться. Но вы-то на каком основании проповедуете это? Вы мудрец? Философ?
– Нет, я не философ, но проповедовать это должен каждый, потому что это разумно.
– Нет, я хочу знать, почему вы в деле уразумения, презрения к страданиям и прочее считаете себя компетентным? Разве вы страдали когда-нибудь? Вы имеете понятие о страданиях? Позвольте: вас в детстве секли?
– Нет, мои родители питали отвращение к телесным наказаниям.
– А меня отец порол жестоко. Мой отец был крутой, геморроидальный чиновник, с длинным носом и с желтою шеей. Но будем говорить о вас. Во всю вашу жизнь до вас никто не дотронулся пальцем, никто вас не запугивал, не забивал; здоровы вы, как бык. Росли вы под крылышком отца и учились на его счет, а потом сразу захватили синекуру. Больше двадцати лет вы жили на бесплатной квартире, с отоплением, с освещением, с прислугой, имея при том право работать, как и сколько вам угодно, хоть ничего не делать. От природы вы человек ленивый, рыхлый и потому старались складывать свою жизнь так, чтобы вас ничто не беспокоило и не двигало с места. Дела вы сдали фельдшеру и прочей сволочи, а сами сидели в тепле да в тишине, копили деньги, книжки почитывали, услаждали себя размышлениями о разной возвышенной чепухе и (Иван Дмитрич посмотрел на красный нос доктора) выпивахом. Одним словом, жизни вы не видели, не знаете ее совершенно, а с действительностью знакомы только теоретически. А презираете вы страдания и ничему не удивляетесь по очень простой причине: суета сует, внешнее и внутреннее презрение к жизни, страданиям и смерти, уразумение, истинное благо – все это философия, самая подходящая для российского лежебока. Видите вы, например, как мужик бьет жену. Зачем вступаться? Пускай бьет, все равно оба помрут рано или поздно; и бьющий к тому же оскорбляет побоями не того, кого бьет, а самого себя. Пьянствовать глупо, неприлично, но пить – умирать, и не пить – умирать. Приходит баба, зубы болят… Ну, что ж? Боль есть представление о боли, и к тому же без болезней не проживешь на этом свете, все помрем, а потому ступай, баба, прочь, не мешай мне мыслить и водку пить. Молодой человек просит совета, что делать, как жить; прежде чем ответить, другой бы задумался, а тут уж готов ответ: стремись к уразумению или к истинному благу. А что такое это фантастическое «истинное благо»? Ответа нет, конечно. Нас держат здесь за решеткой, гноят, истязуют, но это прекрасно и разумно, потому что между этою палатой и теплым, уютным кабинетом нет никакой разницы. Удобная философия: и делать нечего, и совесть чиста, и мудрецом себя чувствуешь… Нет, сударь, это не философия, не мышление, не широта взгляда, а лень, факирство, сонная одурь… Да! – опять рассердился Иван Дмитрич. – Страдание презираете, а небось прищеми вам дверью палец, так заорете во все горло!
– А может, и не заору, – сказал Андрей Ефимыч, кротко улыбаясь.
– Да, как же! А вот если бы вас трахнул паралич или, положим, какой-нибудь дурак и наглец, пользуясь своим положением и чином, оскорбил вас публично и вы знали бы, что это пройдет ему безнаказанно, – ну, тогда бы вы поняли, как это отсылать других к уразумению и истинному благу.
– Это оригинально, – сказал Андрей Ефимыч, смеясь от удовольствия и потирая руки. – Меня приятно поражает в вас склонность к обобщениям, а моя характеристика, которую вы только что изволили сделать, просто блестяща. Признаться, беседа с вами доставляет мне громадное удовольствие. Ну-с я вас выслушал, теперь и вы благоволите выслушать меня…
XI
Этот разговор продолжался еще около часа и, по-видимому, произвел на Андрея Ефимыча глубокое впечатление. Он стал ходить во флигель каждый день. Ходил он туда по утрам и после обеда, и часто вечерняя темнота заставала его в беседе с Иваном Дмитричем. В первое время Иван Дмитрич дичился его, подозревал в злом умысле и откровенно выражал свою неприязнь, потом же привык к нему и свое резкое обращение сменил на снисходительно-ироническое.
Скоро по больнице разнесся слух, что доктор Андрей Ефимыч стал посещать палату № 6. Никто – ни фельдшер, ни Никита, ни сиделки не могли понять, зачем он ходил туда, зачем просиживал там по целым часам, о чем разговаривал и почему не прописывал рецептов. Поступки его казались странными. Михаил Аверьяныч часто не заставал его дома, чего раньше никогда не случалось, и Дарьюшка была смущена, так как доктор пил пиво уже не в определенное время и иногда даже запаздывал к обеду.
Однажды, это было уже в конце июня, доктор Хоботов пришел по какому-то делу к Андрею Ефимычу; не застав его дома, он отправился искать его по двору; тут ему сказали, что старый доктор пошел к душевнобольным. Войдя во флигель и остановившись в сенях, Хоботов услышал такой разговор:
– Мы никогда не споемся, и обратить меня в свою веру вам не удастся, – говорил Иван Дмитрич с раздражением. – С действительностью вы совершенно незнакомы, и никогда вы не страдали, а только, как пьяница, кормились около чужих страданий, я же страдал непрерывно со дня рождения до сегодня. Поэтому говорю откровенно: я считаю себя выше вас и компетентнее во всех отношениях. Не вам учить меня.
– Я совсем не имею претензии обращать вас в свою веру, – проговорил Андрей Ефимыч тихо и с сожалением, что его не хотят понять. – И не в этом дело, мой друг. Дело не в том, что вы страдали, а я нет. Страдания и радости преходящи; оставим их, бог с ними. А дело в том, что мы с вами мыслим; мы видим друг в друге людей, которые способны мыслить и рассуждать, и это делает нас солидарными, как бы различны ни были наши взгляды. Если бы вы знали, друг мой, как надоели мне всеобщее безумие, бездарность, тупость и с какою радостью я всякий раз беседую с вами! Вы умный человек, и я наслаждаюсь вами.
Хоботов отворил на вершок дверь и взглянул в палату; Иван Дмитрич в колпаке и доктор Андрей Ефимыч сидели рядом на постели. Сумасшедший гримасничал, вздрагивал и судорожно запахивался в халат, а доктор сидел неподвижно, опустив голову, и лицо у него было красное, беспомощное, грустное. Хоботов пожал плечами, усмехнулся и переглянулся с Никитой. Никита тоже пожал плечами.
На другой день Хоботов приходил во флигель вместе с фельдшером. Оба стояли в сенях и подслушивали.
– А наш дед, кажется, совсем сдрефил! – сказал Хоботов, выходя из флигеля.
– Господи, помилуй нас, грешных! – вздохнул благолепный Сергей Сергеич, старательно обходя лужицы, чтобы не запачкать своих ярко вычищенных сапогов. – Признаться, уважаемый Евгений Федорыч, я давно уже ожидал этого!
XII
После этого Андрей Ефимыч стал замечать кругом какую-то таинственность. Мужики, сиделки и больные при встрече с ним вопросительно взглядывали на него и потом шептались. Девочка Маша, дочь смотрителя, которую он любил встречать в больничном саду, теперь, когда он с улыбкой подходил к ней, чтобы погладить ее по головке, почему-то убегала от него. Почтмейстер Михаил Аверьяныч, слушая его, уже не говорил: «Совершенно верно», а в непонятном смущении бормотал: «Да, да, да…» и глядел на него задумчиво и печально; почему-то он стал советовать своему другу оставить водку и пиво, но при этом, как человек деликатный, говорил не прямо, а намеками, рассказывая то про одного батальонного командира, отличного человека, то про полкового священника, славного малого, которые пили и заболели, но, бросив пить, совершенно выздоровели. Два-три раза приходил к Андрею Ефимычу коллега Хоботов; он тоже советовал оставить спиртные напитки и без всякого видимого повода рекомендовал принимать бромистый калий.
В августе Андрей Ефимыч получил от городского головы письмо с просьбой пожаловать по очень важному делу. Придя в назначенное время в управу, Андрей Ефимыч застал там воинского начальника, штатного смотрителя уездного училища, члена управы, Хоботова и еще какого-то полного белокурого господина, которого представили ему как доктора. Этот доктор, с польскою, трудно выговариваемою фамилией, жил в тридцати верстах от города, на конском заводе, и был теперь в городе проездом.
– Тут заявленьице по вашей части-с, – обратился член управы к Андрею Ефимычу после того, как все поздоровались и сели за стол. – Вот Евгений Федорыч говорят, что аптеке тесновато в главном корпусе и что ее надо бы перевести в один из флигелей. Оно, конечно, это ничего, перевести можно, но главная причина – флигель ремонту захочет.
– Да, без ремонта не обойтись, – сказал Андрей Ефимыч, подумав. – Если, например, угловой флигель приспособить для аптеки, то на это, полагаю, понадобится minimum рублей пятьсот. Расход непроизводительный.
Немного помолчали.
– Я уже имел честь докладывать десять лет назад, – продолжал Андрей Ефимыч тихим голосом, – что эта больница в настоящем ее виде является для города роскошью не по средствам. Строилась она в сороковых годах, но ведь тогда были не те средства. Город слишком много затрачивает на ненужные постройки и лишние должности. Я думаю, на эти деньги можно было бы, при других порядках, содержать две образцовые больницы.
– Так вот и давайте заводить другие порядки! – живо сказал член управы.
– Я уже имел честь докладывать: передайте медицинскую часть в ведение земства.
– Да, передайте земству деньги, а оно украдет, – засмеялся белокурый доктор.
– Это как водится, – согласился член управы и тоже засмеялся.
Андрей Ефимыч вяло и тускло посмотрел на белокурого доктора и сказал:
– Надо быть справедливым.
Опять помолчали. Подали чай. Воинский начальник, почему-то очень смущенный, через стол дотронулся до руки Андрея Ефимыча и сказал:
– Совсем вы нас забыли, доктор. Впрочем, вы монах: в карты не играете, женщин не любите. Скучно вам с нашим братом.
Все заговорили о том, как скучно порядочному человеку жить в этом городе. Ни театра, ни музыки, а на последнем танцевальном вечере в клубе было около двадцати дам и только два кавалера. Молодежь не танцует, а все время толпится около буфета или играет в карты. Андрей Ефимыч медленно и тихо, ни на кого не глядя, стал говорить о том, как жаль, как глубоко жаль, что горожане тратят свою жизненную энергию, свое сердце и ум на карты и сплетни, а не умеют и не хотят проводить время в интересной беседе и в чтении, не хотят пользоваться наслаждениями, какие дает ум. Только один ум интересен и замечателен, все же остальное мелко и низменно. Хоботов внимательно слушал своего коллегу и вдруг спросил:
– Андрей Ефимыч, какое сегодня число?
Получив ответ, он и белокурый доктор тоном экзаменаторов, чувствующих свою неумелость, стали спрашивать у Андрея Ефимыча, какой сегодня день, сколько дней в году и правда ли, что в палате № 6 живет замечательный пророк.
В ответ на последний вопрос Андрей Ефимыч покраснел и сказал:
– Да, это больной, но интересный молодой человек.
Больше ему не задавали никаких вопросов.
Когда он в передней надевал пальто, воинский начальник положил руку ему на плечо и сказал со вздохом:
– Нам, старикам, на отдых пора!
Выйдя из управы, Андрей Ефимыч понял, что это была комиссия, назначенная для освидетельствования его умственных способностей. Он вспомнил вопросы, которые задавали ему, покраснел, и почему-то теперь первый раз в жизни ему стало горько жаль медицину.
«Боже мой, – думал он, вспоминая, как врачи только что исследовали его, – ведь они так недавно слушали психиатрию, держали экзамен, – откуда же это круглое невежество? Они понятия не имеют о психиатрии!»
И в первый раз в жизни он почувствовал себя оскорбленным и рассерженным.
В тот же день вечером у него был Михаил Аверьяныч. Не здороваясь, почтмейстер подошел к нему, взял его за обе руки и сказал взволнованным голосом:
– Дорогой мой, друг мой, докажите мне, что вы верите в мое искреннее расположение и считаете меня своим другом… Друг мой! – И, мешая говорить Андрею Ефимычу, он продолжал, волнуясь: – Я люблю вас за образованность и благородство души. Слушайте меня, мой дорогой. Правила науки обязывают докторов скрывать от вас правду, но я по-военному режу правду-матку: вы нездоровы! Извините меня, мой дорогой, но это правда, это давно уже заметили все окружающие. Сейчас мне доктор Евгений Федорыч говорил, что для пользы вашего здоровья вам необходимо отдохнуть и развлечься. Совершенно верно! Превосходно! На сих днях я беру отпуск и уезжаю понюхать другого воздуха. Докажите же, что вы мне друг, поедем вместе! Поедем, тряхнем стариной.
– Я чувствую себя совершенно здоровым, – сказал Андрей Ефимыч, подумав. – Ехать же не могу. Позвольте мне как-нибудь иначе доказать вам свою дружбу.
Ехать куда-то, неизвестно зачем, без книг, без Дарьюшки, без пива, резко нарушить порядок жизни, установившийся за двадцать лет, – такая идея в первую минуту показалась ему дикою и фантастическою. Но он вспомнил разговор, бывший в управе, и тяжелое настроение, какое он испытал, возвращаясь из управы домой, и мысль уехать ненадолго из города, где глупые люди считают его сумасшедшим, улыбнулась ему.
– А вы, собственно, куда намерены ехать? – спросил он.
– В Москву, в Петербург, в Варшаву… В Варшаве я провел пять счастливейших лет моей жизни. Что за город изумительный! Едемте, дорогой мой!
XIII
Через неделю Андрею Ефимычу предложили отдохнуть, то есть подать в отставку, к чему он отнесся равнодушно, а еще через неделю он и Михаил Аверьяныч уже сидели в почтовом тарантасе и ехали на ближайшую железнодорожную станцию. Дни были прохладные, ясные, с голубым небом и с прозрачною далью. Двести верст до станции проехали в двое суток и по пути два раза ночевали. Когда на почтовых станциях подавали к чаю дурно вымытые стаканы или долго запрягали лошадей, то Михаил Аверьяныч багровел, трясся всем телом и кричал: «Замолчать! не рассуждать!» А сидя в тарантасе, он, не переставая ни на минуту, рассказывал о своих поездках по Кавказу и Царству Польскому. Сколько было приключений, какие встречи! Он говорил громко и при этом делал такие удивленные глаза, что можно было подумать, что он лгал. Вдобавок, рассказывая, он дышал в лицо Андрею Ефимычу и хохотал ему в ухо. Это стесняло доктора и мешало ему думать и сосредоточиться.
По железной дороге ехали из экономии в третьем классе, в вагоне для некурящих. Публика наполовину была чистая. Михаил Аверьяныч скоро со всеми перезнакомился и, переходя от скамьи к скамье, громко говорил, что не следует ездить по этим возмутительным дорогам. Кругом мошенничество! То ли дело верхом на коне: отмахаешь в один день сто верст и потом чувствуешь себя здоровым и свежим. А неурожаи у нас оттого, что осушили Пинские болота. Вообще беспорядки страшные. Он горячился, говорил громко и не давал говорить другим. Эта бесконечная болтовня вперемежку с громким хохотом и выразительными жестами утомила Андрея Ефимыча.
«Кто из нас обоих сумасшедший? – думал он с досадой. – Я ли, который стараюсь ничем не обеспокоить пассажиров, или этот эгоист, который думает, что он здесь умнее и интереснее всех, и оттого никому не дает покоя?»
В Москве Михаил Аверьяныч надел военный сюртук без погонов и панталоны с красными кантами. На улице он ходил в военной фуражке и в шинели, и солдаты отдавали ему честь. Андрею Ефимычу теперь казалось, что это был человек, который из всего барского, которое у него когда-то было, промотал все хорошее и оставил себе одно только дурное. Он любил, чтобы ему услуживали, даже когда это было совершенно не нужно. Спички лежали перед ним на столе, и он их видел, но кричал человеку, чтобы тот подал ему спички; при горничной он не стеснялся ходить в одном нижнем белье; лакеям всем без разбора, даже старикам, говорил ты и, осердившись, величал их болванами и дураками. Это, как казалось Андрею Ефимычу, было барственно, но гадко.
Прежде всего Михаил Аверьяныч повел своего друга к Иверской. Он молился горячо, с земными поклонами и со слезами, и когда кончил, глубоко вздохнул и сказал:
– Хоть и не веришь, но оно как-то покойнее, когда помолишься. Приложитесь, голубчик.
Андрей Ефимыч сконфузился и приложился к образу, а Михаил Аверьяныч вытянул губы и, покачивая головой, помолился шепотом, и опять у него на глазах навернулись слезы. Затем пошли в Кремль и посмотрели там на царь-пушку и царь-колокол и даже пальцами их потрогали, полюбовались видом на Замоскворечье, побывали в храме Спасителя и в Румянцевском музее.
Обедали они у Тестова. Михаил Аверьяныч долго смотрел в меню, разглаживая бакены, и сказал тоном гурмана, привыкшего чувствовать себя в ресторанах как дома:
– Посмотрим, чем вы нас сегодня покормите, ангел!
XIV
Доктор ходил, смотрел, ел, пил, но чувство у него было одно: досада на Михаила Аверьяныча. Ему хотелось отдохнуть от друга, уйти от него, спрятаться, а друг считал своим долгом не отпускать его ни на шаг от себя и доставлять ему возможно больше развлечений. Когда не на что было смотреть, он развлекал его разговорами. Два дня терпел Андрей Ефимыч, но на третий объявил своему другу, что он болен и хочет остаться на весь день дома. Друг сказал, что в таком случае и он остается. В самом деле, надо отдохнуть, а то этак ног не хватит. Андрей Ефимыч лег на диван, лицом к спинке, и, стиснув зубы, слушал своего друга, который горячо уверял его, что Франция рано или поздно непременно разобьет Германию, что в Москве очень много мошенников и что по наружному виду лошади нельзя судить о ее достоинствах. У доктора начались шум в ушах и сердцебиение, но попросить друга уйти или помолчать он из деликатности не решался. К счастию, Михаилу Аверьянычу наскучило сидеть в номере, и он после обеда ушел прогуляться.
Оставшись один, Андрей Ефимыч предался чувству отдыха. Как приятно лежать неподвижно на диване и сознавать, что ты один в комнате! Истинное счастие невозможно без одиночества. Падший ангел изменил Богу, вероятно, потому, что захотел одиночества, которого не знают ангелы. Андрей Ефимыч хотел думать о том, что он видел и слышал в последние дни, но Михаил Аверьяныч не выходил у него из головы.
«А ведь он взял отпуск и поехал со мной из дружбы, из великодушия, – думал доктор с досадой. – Хуже нет ничего, как эта дружеская опека. Ведь вот, кажется, и добр, и великодушен, и весельчак, а скучен. Нестерпимо скучен. Так же вот бывают люди, которые всегда говорят одни только умные и хорошие слова, но чувствуешь, что они тупые люди».
В следующие затем дни Андрей Ефимыч сказывался больным и не выходил из номера. Он лежал лицом к спинке дивана и томился, когда друг развлекал его разговорами, или же отдыхал, когда друг отсутствовал. Он досадовал на себя за то, что поехал, и на друга, который с каждым днем становился все болтливее и развязнее; настроить свои мысли на серьезный, возвышенный лад ему никак не удавалось.
«Это меня пробирает действительность, о которой говорил Иван Дмитрич, – думал он, сердясь на свою мелочность. – Впрочем, вздор… Приеду домой, и все пойдет по-старому…»
И в Петербурге то же самое: он по целым дням не выходил из номера, лежал на диване и вставал только затем, чтобы выпить пива.
Михаил Аверьяныч все время торопил ехать в Варшаву.
– Дорогой мой, зачем я туда поеду? – говорил Андрей Ефимыч умоляющим голосом. – Поезжайте одни, а мне позвольте ехать домой! Прошу вас!
– Ни под каким видом! – протестовал Михаил Аверьяныч. – Это изумительный город. В нем я провел пять счастливейших лет моей жизни.
У Андрея Ефимыча не хватило характера настоять на своем, и он скрепя сердце поехал в Варшаву. Тут он не выходил из номера, лежал на диване и злился на себя, на друга и на лакеев, которые упорно отказывались понимать по-русски, а Михаил Аверьяныч, по обыкновению, здоровый, бодрый и веселый, с утра до вечера гулял по городу и разыскивал своих старых знакомых. Несколько раз он не ночевал дома. После одной ночи, проведенной неизвестно где, он вернулся домой рано утром в сильно возбужденном состоянии, красный и непричесанный. Он долго ходил из угла в угол, что-то бормоча про себя, потом остановился и сказал:
– Честь прежде всего!
Походив еще немного, он схватил себя за голову и произнес трагическим голосом:
– Да, честь прежде всего! Будь проклята минута, когда мне впервые пришло в голову ехать в этот Вавилон! Дорогой мой, – обратился он к доктору, – презирайте меня: я проигрался! Дайте мне пятьсот рублей!
Андрей Ефимыч отсчитал пятьсот рублей и молча отдал их своему другу. Тот, все еще багровый от стыда и гнева, бессвязно произнес какую-то ненужную клятву, надел фуражку и вышел. Вернувшись часа через два, он повалился в кресло, громко вздохнул и сказал:
– Честь спасена! Едемте, мой друг! Ни одной минуты я не желаю остаться в этом проклятом городе. Мошенники! Австрийские шпионы!
Когда приятели вернулись в свой город, был уже ноябрь и на улицах лежал глубокий снег. Место Андрея Ефимыча занимал доктор Хоботов; он жил еще на старой квартире в ожидании, когда Андрей Ефимыч приедет и очистит больничную квартиру. Некрасивая женщина, которую он называл своей кухаркой, уже жила в одном из флигелей.
По городу ходили новые больничные сплетни. Говорили, что некрасивая женщина поссорилась со смотрителем и этот будто бы ползал перед нею на коленях, прося прощения.
Андрею Ефимычу в первый же день по приезде пришлось отыскивать себе квартиру.
– Друг мой, – сказал ему робко почтмейстер, – извините за нескромный вопрос: какими средствами вы располагаете?
Андрей Ефимыч молча сосчитал свои деньги и сказал:
– Восемьдесят шесть рублей.
– Я не о том спрашиваю, – проговорил в смущении Михаил Аверьяныч, не поняв доктора. – Я спрашиваю, какие у вас средства вообще?
– Я же и говорю вам: восемьдесят шесть рублей… Больше у меня ничего нет.
Михаил Аверьяныч считал доктора честным и благородным человеком, но все-таки подозревал, что у него есть капитал, по крайней мере, тысяч в двадцать. Теперь же, узнав, что Андрей Ефимыч нищий, что ему нечем жить, он почему-то вдруг заплакал и обнял своего друга.
XV
Андрей Ефимыч жил в трехоконном домике мещанки Беловой. В этом домике было только три комнаты, не считая кухни. Две из них, с окнами на улицу, занимал доктор, а в третьей и в кухне жили Дарьюшка и мещанка с тремя детьми. Иногда к хозяйке приходил ночевать любовник, пьяный мужик, бушевавший по ночам и наводивший на детей и на Дарьюшку ужас. Когда он приходил и, усевшись на кухне, начинал требовать водки, всем становилось очень тесно, и доктор из жалости брал к себе плачущих детей, укладывал их у себя на полу, и это доставляло ему большое удовольствие.
Вставал он по-прежнему в восемь часов и после чаю садился читать свои старые книги и журналы. На новые у него уже не было денег. Оттого ли, что книги были старые, или, быть может, от перемены обстановки чтение уже не захватывало его глубоко и утомляло. Чтобы не проводить времени в праздности, он составлял подробный каталог своим книгам и приклеивал к их корешкам билетики, и эта механическая, кропотливая работа казалась ему интереснее, чем чтение. Однообразная кропотливая работа каким-то непонятным образом убаюкивала его мысли, он ни о чем не думал, и время проходило быстро. Даже сидеть в кухне и чистить с Дарьюшкой картофель или выбирать сор из гречневой крупы ему казалось интересно. По субботам и воскресеньям он ходил в церковь. Стоя около стены и зажмурив глаза, он слушал пение и думал об отце, о матери, об университете, о религиях; ему было покойно, грустно, и потом, уходя из церкви, он жалел, что служба так скоро кончилась.
Он два раза ходил в больницу к Ивану Дмитричу, чтобы поговорить с ним. Но в оба раза Иван Дмитрич был необыкновенно возбужден и зол; он просил оставить его в покое, так как ему давно уже надоела пустая болтовня, и говорил, что у проклятых подлых людей он за все страдания просит только одной награды – одиночного заключения. Неужели даже в этом ему отказывают? Когда Андрей Ефимыч прощался с ним в оба раза и желал покойной ночи, то он огрызался и говорил:
– К черту!
И Андрей Ефимыч не знал теперь, пойти ему в третий раз или нет. А пойти хотелось.
Прежде в послеобеденное время Андрей Ефимыч ходил по комнатам и думал, теперь же он от обеда до вечернего чая лежал на диване лицом к спинке и предавался мелочным мыслям, которых никак не мог побороть. Ему было обидно, что за его больше чем двадцатилетнюю службу ему не дали ни пенсии, ни единовременного пособия. Правда, он служил не честно, но ведь пенсию получают все служащие без различия, честны они или нет. Современная справедливость и заключается именно в том, что чинами, орденами и пенсиями награждаются не нравственные качества и способности, а вообще служба, какая бы она ни была. Почему же он один должен составлять исключение? Денег у него совсем не было. Ему было стыдно проходить мимо лавочки и глядеть на хозяйку. За пиво должны уже тридцать два рубля. Мещанке Беловой тоже должны. Дарьюшка потихоньку продает старые платья и книги и лжет хозяйке, что скоро доктор получит очень много денег.
Он сердился на себя за то, что истратил на путешествие тысячу рублей, которая у него была скоплена. Как бы теперь пригодилась эта тысяча! Ему было досадно, что его не оставляют в покое люди. Хоботов считал своим долгом изредка навещать больного коллегу. Все было в нем противно Андрею Ефимычу: и сытое лицо, и дурной, снисходительный тон, и слово «коллега», и высокие сапоги; самое же противное было то, что он считал своею обязанностью лечить Андрея Ефимыча и думал, что в самом деле лечит. В каждое свое посещение он приносил склянку с бромистым калием и пилюли из ревеня.
И Михаил Аверьяныч тоже считал своим долгом навещать друга и развлекать его. Всякий раз он входил к Андрею Ефимычу с напускною развязностью, принужденно хохотал и начинал уверять его, что он сегодня прекрасно выглядит и что дела, слава богу, идут на поправку, и из этого можно было заключить, что положение своего друга он считал безнадежным. Он не выплатил еще своего варшавского долга и был удручен тяжелым стыдом, был напряжен и потому старался хохотать громче и рассказывать смешнее. Его анекдоты и рассказы казались теперь бесконечными и были мучительны и для Андрея Ефимыча, и для него самого.
В его присутствии Андрей Ефимыч ложился обыкновенно на диван лицом к стене и слушал, стиснув зубы; на душу его пластами ложилась накипь, и после каждого посещения друга он чувствовал, что накипь эта становится все выше и словно подходит к горлу.
Чтобы заглушить мелочные чувства, он спешил думать о том, что и он сам, и Хоботов, и Михаил Аверьяныч должны рано или поздно погибнуть, не оставив в природе даже отпечатка. Если вообразить, что через миллион лет мимо земного шара пролетит в пространстве какой-нибудь дух, то он увидит только глину и голые утесы. Все – и культура, и нравственный закон – пропадет и даже лопухом не порастет. Что же значат стыд перед лавочником, ничтожный Хоботов, тяжелая дружба Михаила Аверьяныча? Все это вздор и пустяки.
Но такие рассуждения уже не помогали. Едва он воображал земной шар через миллион лет, как из-за голого утеса показывался Хоботов в высоких сапогах или напряженно хохочущий Михаил Аверьяныч и даже слышался стыдливый шепот: «А варшавский долг, голубчик, возвращу на этих днях… Непременно».
XVI
Однажды Михаил Аверьяныч пришел после обеда, когда Андрей Ефимыч лежал на диване. Случилось так, что в это же время явился и Хоботов с бромистым калием. Андрей Ефимыч тяжело поднялся, сел и уперся обеими руками о диван.
– А сегодня, дорогой мой, – начал Михаил Аверьяныч, – у вас цвет лица гораздо лучше, чем вчера. Да вы молодцом! Ей-богу, молодцом!
– Пора, пора поправляться, коллега, – сказал Хоботов, зевая. – Небось вам самим надоела эта канитель.
– И поправимся! – весело сказал Михаил Аверьяныч. – Еще лет сто жить будем! Так-тось!
– Сто не сто, а двадцать еще хватит, – утешал Хоботов. – Ничего, ничего, коллега, не унывайте… Будет вам тень наводить.
– Мы еще покажем себя! – захохотал Михаил Аверьяныч и похлопал друга по колену. – Мы еще покажем! Будущим летом, бог даст, махнем на Кавказ и весь его верхом объедем – гоп! гоп! гоп! А с Кавказа вернемся, гляди, чего доброго, на свадьбе гулять будем. – Михаил Аверьяныч лукаво подмигнул глазом. – Женим вас, дружка милого… женим…
Андрей Ефимыч вдруг почувствовал, что накипь подходит к горлу; у него страшно забилось сердце.
– Это пошло! – сказал он, быстро вставая и отходя к окну. – Неужели вы не понимаете, что говорите пошлости?
Он хотел продолжать мягко и вежливо, но против воли вдруг сжал кулаки и поднял их выше головы.
– Оставьте меня! – крикнул он не своим голосом, багровея и дрожа всем телом. – Вон! Оба вон, оба!
Михаил Аверьяныч и Хоботов встали и уставились на него сначала с недоумением, потом со страхом.
– Оба вон! – продолжал кричать Андрей Ефимыч. – Тупые люди! Глупые люди! Не нужно мне ни дружбы, ни твоих лекарств, тупой человек! Пошлось! Гадость!
Хоботов и Михаил Аверьяныч, растерянно переглядываясь, попятились к двери и вышли в сени. Андрей Ефимыч схватил склянку с бромистым калием и швырнул им вслед: склянка со звоном разбилась о порог.
– Убирайтесь к черту! – крикнул он плачущим голосом, выбегая в сени. – К черту!
По уходе гостей Андрей Ефимыч, дрожа как в лихорадке, лег на диван и долго еще повторял:
– Тупые люди! Глупые люди!
Когда он успокоился, то прежде всего ему пришло на мысль, что бедному Михаилу Аверьянычу теперь, должно быть, страшно стыдно и тяжело на душе и что все это ужасно. Никогда раньше не случалось ничего подобного. Где же ум и такт? Где уразумение вещей и философское равнодушие?
Доктор всю ночь не мог уснуть от стыда и досады на себя, а утром, часов в десять, отправился в почтовую контору и извинился перед почтмейстером.
– Не будем вспоминать о том, что произошло, – сказал со вздохом растроганный Михаил Аверьяныч, крепко пожимая ему руку. – Кто старое помянет, тому глаз вон. Любавкин! – вдруг крикнул он так громко, что все почтальоны и посетители вздрогнули. – Подай стул. А ты подожди! – крикнул он бабе, которая сквозь решетку протягивала к нему заказное письмо. – Разве не видишь, что я занят? Не будем вспоминать старое, – продолжал он нежно, обращаясь к Андрею Ефимычу. – Садитесь, покорнейше прошу, мой дорогой.
Он минуту молча поглаживал себе колени и потом сказал:
– У меня и в мыслях не было обижаться на вас. Болезнь не свой брат, я понимаю. Ваш припадок испугал нас вчера с доктором, и мы долго потом говорили о вас. Дорогой мой, отчего вы не хотите серьезно заняться вашей болезнью? Разве можно так? Извините за дружескую откровенность, – зашептал Михаил Аверьяныч, – вы живете в самой неблагоприятной обстановке: теснота, нечистота, ухода за вами нет, лечиться не на что… Дорогой мой друг, умоляем вас вместе с доктором всем сердцем, послушайтесь нашего совета: ложитесь в больницу! Там и пища здоровая, и уход, и лечение. Евгений Федорыч хотя и моветон, между нами говоря, но сведущий, на него вполне можно положиться. Он дал мне слово, что займется вами.
Андрей Ефимыч был тронут искренним участием и слезами, которые вдруг заблестели на щеках у почтмейстера.
– Уважаемый, не верьте! – зашептал он, прикладывая руку к сердцу. – Не верьте им! Это обман! Болезнь моя только в том, что за двадцать лет я нашел во всем городе одного только умного человека, да и тот сумасшедший. Болезни нет никакой, а просто я попал в заколдованный круг, из которого нет выхода. Мне все равно, я на все готов.
– Ложитесь в больницу, дорогой мой.
– Мне все равно, хоть в яму.
– Дайте, голубчик, слово, что вы будете слушаться во всем Евгения Федорыча.
– Извольте, даю слово. Но, повторяю, уважаемый, я попал в заколдованный круг. Теперь все, даже искреннее участие моих друзей, клонится к одному – к моей погибели. Я погибаю и имею мужество сознавать это.
– Голубчик, вы выздоровеете.
– К чему это говорить? – сказал Андрей Ефимыч с раздражением. – Редкий человек под конец жизни не испытывает того же, что я теперь. Когда вам скажут, что у вас что-нибудь вроде плохих почек и увеличенного сердца и вы станете лечиться, или скажут, что вы сумасшедший или преступник, то есть, одним словом, когда люди вдруг обратят на вас внимание, то знайте, что вы попали в заколдованный круг, из которого уже не выйдете. Будете стараться выйти и еще больше заблудитесь. Сдавайтесь, потому что никакие человеческие усилия уже не спасут вас. Так мне кажется.
Между тем у решетки толпилась публика. Андрей Ефимыч, чтобы не мешать, встал и начал прощаться. Михаил Аверьяныч еще раз взял с него честное слово и проводил его до наружной двери.
В тот же день, перед вечером, к Андрею Ефимычу неожиданно явился Хоботов в полушубке и в высоких сапогах и сказал таким тоном, как будто вчера ничего не случилось:
– А я к вам по делу, коллега. Пришел приглашать вас: не хотите ли со мной на консилиум, а?
Думая, что Хоботов хочет развлечь его прогулкой или в самом деле дать ему заработать, Андрей Ефимыч оделся и вышел с ним на улицу. Он рад был случаю загладить вчерашнюю вину и помириться и в душе благодарил Хоботова, который даже не заикнулся о вчерашнем и, по-видимому, щадил его. От этого некультурного человека трудно было ожидать такой деликатности.
– А где ваш больной? – спросил Андрей Ефимыч.
– У меня в больнице. Мне уж давно хотелось показать вам… Интереснейший случай.
Вошли в больничный двор и, обойдя главный корпус, направились к флигелю, где помещались умалишенные. И все это почему-то молча. Когда вошли во флигель, Никита, по обыкновению, вскочил и вытянулся.
– Тут у одного произошло осложнение со стороны легких, – сказал вполголоса Хоботов, входя с Андреем Ефимычем в палату. – Вы погодите здесь, а я сейчас. Схожу только за стетоскопом.
И вышел.
XVII
Уже смеркалось. Иван Дмитрич лежал на своей постели, уткнувшись лицом в подушку; паралитик сидел неподвижно, тихо плакал и шевелил губами. Толстый мужик и бывший сортировщик спали. Было тихо.
Андрей Ефимыч сидел на кровати Ивана Дмитрича и ждал. Но прошло с полчаса, и вместо Хоботова вошел в палату Никита, держа в охапке халат, чье-то белье и туфли.
– Пожалуйте одеваться, ваше высокоблагородие, – сказал он тихо. – Вот ваша постелька, пожалуйте сюда, – добавил он, указывая на пустую, очевидно, недавно принесенную кровать. – Ничего, бог даст, выздоровеете.
Андрей Ефимыч все понял. Он, ни слова не говоря, перешел к кровати, на которую указал Никита, и сел; видя, что Никита стоит и ждет, он разделся догола, и ему стало стыдно. Потом он надел больничное платье; кальсоны были очень коротки, рубаха длинна, а от халата пахло копченою рыбой.
– Выздоровеете, бог даст, – повторил Никита.
Он забрал в охапку платье Андрея Ефимыча, вышел и затворил за собой дверь.
«Все равно… – думал Андрей Ефимыч, стыдливо запахиваясь в халат и чувствуя, что в своем новом костюме он похож на арестанта. – Все равно… Все равно, что фрак, что мундир, что этот халат…»
Но как же часы? А записная книжка, что в боковом кармане? А папиросы? Куда Никита унес платье? Теперь, пожалуй, до самой смерти уже не придется надевать брюк, жилета и сапогов. Все это как-то странно и даже непонятно в первое время. Андрей Ефимыч и теперь был убежден, что между домом мещанки Беловой и палатой № 6 нет никакой разницы, что все на этом свете вздор и суета сует, а между тем у него дрожали руки, ноги холодели и было жутко от мысли, что скоро Иван Дмитрич встанет и увидит, что он в халате. Он встал, прошелся и опять сел.
Вот он просидел уже полчаса, час, и ему надоело до тоски; неужели здесь можно прожить день, неделю и даже годы, как эти люди? Ну вот он сидел, прошелся и опять сел; можно пойти и посмотреть в окно и опять пройтись из угла в угол. А потом что? Так и сидеть все время, как истукан, и думать? Нет, это едва ли возможно.
Андрей Ефимыч лег, но тотчас же встал, вытер рукавом со лба холодный пот и почувствовал, что все лицо его запахло копченою рыбой. Он опять прошелся.
– Это какое-то недоразумение… – проговорил он, разводя руками в недоумении. – Надо объясниться, тут недоразумение…
В это время проснулся Иван Дмитрич. Он сел и подпер щеки кулаками. Сплюнул. Потом он лениво взглянул на доктора и, по-видимому, в первую минуту ничего не понял; но скоро сонное лицо его стало злым и насмешливым.
– Ага, и вас засадили сюда, голубчик! – проговорил он сиплым спросонок голосом, зажмурив один глаз. – Очень рад. То вы пили из людей кровь, а теперь из вас будут пить. Превосходно!
– Это какое-то недоразумение… – проговорил Андрей Ефимыч, пугаясь слов Ивана Дмитрича; он пожал плечами и повторил: – Недоразумение какое-то…
Иван Дмитрич опять сплюнул и лег.
– Проклятая жизнь! – проворчал он. – И что горько и обидно, ведь эта жизнь кончится не наградой за страдания, не апофеозом, как в опере, а смертью; придут мужики и потащат мертвого за руки и за ноги в подвал. Брр! Ну ничего… Зато на том свете будет наш праздник… Я с того света буду являться сюда тенью и пугать этих гадин. Я их поседеть заставлю.
Вернулся Мойсейка и, увидев доктора, протянул руку.
– Дай копеечку! – сказал он.
XVIII
Андрей Ефимыч отошел к окну и посмотрел в поле. Уже становилось темно, и на горизонте с правой стороны восходила холодная, багровая луна. Недалеко от больничного забора, в ста саженях, не больше, стоял высокий белый дом, обнесенный каменною стеной. Это была тюрьма.
«Вот она действительность!» – подумал Андрей Ефимыч, и ему стало страшно.
Были страшны и луна, и тюрьма, и гвозди на заборе, и далекий пламень в костопальном заводе. Сзади послышался вздох. Андрей Ефимыч оглянулся и увидел человека с блестящими звездами и с орденами на груди, который улыбался и лукаво подмигивал глазом. И это показалось страшным.
Андрей Ефимыч уверял себя, что в луне и в тюрьме нет ничего особенного, что и психически здоровые люди носят ордена и что все со временем сгинет и обратится в глину, но отчаяние вдруг овладело им, он ухватился обеими руками за решетку и изо всей силы потряс ее. Крепкая решетка не поддалась.
Потом, чтобы не так было страшно, он пошел к постели Ивана Дмитрича и сел.
– Я пал духом, дорогой мой, – пробормотал он, дрожа и утирая холодный пот. – Пал духом.
– А вы пофилософствуйте, – сказал насмешливо Иван Дмитрич.
– Боже мой, боже мой… Да, да… Вы как-то изволили говорить, что в России нет философии, но философствуют все, даже мелюзга. Но ведь от философствования мелюзги никому нет вреда, – сказал Андрей Ефимыч таким тоном, как будто хотел заплакать и разжалобить. – Зачем же, дорогой мой, этот злорадный смех? И как не философствовать этой мелюзге, если она не удовлетворена? Умному, образованному, гордому, свободолюбивому человеку, подобию Божию, нет другого выхода, как идти лекарем в грязный, глупый городишко, и всю жизнь банки, пиявки, горчишники! Шарлатанство, узость, пошлость! О боже мой!
– Вы болтаете глупости. Если в лекаря противно, шли бы в министры.
– Никуда, никуда нельзя. Слабы мы, дорогой… Был я равнодушен, бодро и здраво рассуждал, а стоило только жизни грубо прикоснуться ко мне, как я пал духом… прострация… Слабы мы, дрянные мы… И вы тоже, дорогой мой. Вы умны, благородны, с молоком матери всосали благие порывы, но едва вступили в жизнь, как утомились и заболели… Слабы, слабы!
Что-то еще неотвязчивое, кроме страха и чувства обиды, томило Андрея Ефимыча все время с наступлением вечера. Наконец он сообразил, что это ему хочется пива и курить.
– Я выйду отсюда, дорогой мой, – сказал он. – Скажу, чтобы сюда огня дали… Не могу так… не в состоянии…
Андрей Ефимыч пошел к двери и отворил ее, но тотчас же Никита вскочил и загородил ему дорогу.
– Куда вы? Нельзя, нельзя! – сказал он. – Пора спать!
– Но я только на минуту, по двору пройтись! – оторопел Андрей Ефимыч.
– Нельзя, нельзя, не приказано. Сами знаете.
Никита захлопнул дверь и прислонился к ней спиной.
– Но если я выйду отсюда, что кому сделается от этого? – спросил Андрей Ефимыч, пожимая плечами. – Не понимаю! Никита, я должен выйти! – сказал он дрогнувшим голосом. – Мне нужно!
– Не заводите беспорядков, нехорошо! – сказал наставительно Никита.
– Это черт знает что такое! – вскрикнул вдруг Иван Дмитрич и вскочил. – Какое он имеет право не пускать? Как они смеют держать нас здесь? В законе, кажется, ясно сказано, что никто не может быть лишен свободы без суда! Это насилие! Произвол!
– Конечно, произвол! – сказал Андрей Ефимыч, подбодряемый криком Ивана Дмитрича. – Мне нужно, я должен выйти. Он не имеет права! Отпусти, тебе говорят!
– Слышишь, тупая скотина? – крикнул Иван Дмитрич и постучал кулаком в дверь. – Отвори, а то я дверь выломаю! Живодер!
– Отвори! – крикнул Андрей Ефимыч, дрожа всем телом. – Я требую!
– Поговори еще! – ответил за дверью Никита. – Поговори!
– По крайней мере, поди позови сюда Евгения Федорыча! Скажи, что я прошу его пожаловать… на минуту!
– Завтра они сами придут.
– Никогда нас не выпустят! – продолжал между тем Иван Дмитрич. – Сгноят нас здесь! О господи, неужели же в самом деле на том свете нет ада и эти негодяи будут прощены? Где же справедливость? Отвори, негодяй, я задыхаюсь! – крикнул он сиплым голосом и навалился на дверь. – Я размозжу себе голову! Убийцы!
Никита быстро отворил дверь, грубо, обеими руками и коленом отпихнул Андрея Ефимыча, потом размахнулся и ударил его кулаком по лицу. Андрею Ефимычу показалось, что громадная соленая волна накрыла его с головой и потащила к кровати; в самом деле, во рту было солоно: вероятно, из зубов пошла кровь. Он, точно желая выплыть, замахал руками и ухватился за чью-то кровать, и в это время почувствовал, что Никита два раза ударил его в спину.
Громко вскрикнул Иван Дмитрич. Должно быть, и его били.
Затем все стихло. Жидкий лунный свет шел сквозь решетки, и на полу лежала тень, похожая на сеть. Было страшно. Андрей Ефимыч лег и притаил дыхание; он с ужасом ждал, что его ударят еще раз. Точно кто взял серп, воткнул в него и несколько раз повернул в груди и в кишках. От боли он укусил подушку и стиснул зубы, и вдруг в голове его, среди хаоса, ясно мелькнула страшная, невыносимая мысль, что такую же точно боль должны были испытывать годами, изо дня в день эти люди, казавшиеся теперь при лунном свете черными тенями. Как могло случиться, что в продолжение больше чем двадцати лет он не знал и не хотел знать этого? Он не знал, не имел понятия о боли, значит, он не виноват, но совесть, такая же несговорчивая и грубая, как Никита, заставила его похолодеть от затылка до пят. Он вскочил, хотел крикнуть изо всех сил и бежать скорее, чтоб убить Никиту, потом Хоботова, смотрителя и фельдшера, потом себя, но из груди не вышло ни одного звука и ноги не повиновались; задыхаясь, он рванул на груди халат и рубаху, порвал и без чувств повалился на кровать.
XIX
Утром на другой день у него болела голова, гудело в ушах и во всем теле чувствовалось недомогание. Вспоминать о вчерашней своей слабости ему не было стыдно. Он был вчера малодушен, боялся даже луны, искренно высказывал чувства и мысли, каких раньше и не подозревал у себя. Например, мысли о неудовлетворенности философствующей мелюзги. Но теперь ему было все равно.
Он не ел, не пил, лежал неподвижно и молчал.
«Мне все равно, – думал он, когда ему задавали вопросы. – Отвечать не стану… Мне все равно».
После обеда пришел Михаил Аверьяныч и принес четвертку чаю и фунт мармеладу. Дарьюшка тоже приходила и целый час стояла около кровати с выражением тупой скорби на лице. Посетил его и доктор Хоботов. Он принес склянку с бромистым калием и приказал Никите покурить в палате чем-нибудь.
Под вечер Андрей Ефимыч умер от апоплексического удара. Сначала он почувствовал потрясающий озноб и тошноту; что-то отвратительное, как казалось, проникая во все тело, даже в пальцы, потянуло от желудка к голове и залило глаза и уши. Позеленело в глазах. Андрей Ефимыч понял, что ему пришел конец, и вспомнил, что Иван Дмитрич, Михаил Аверьяныч и миллионы людей верят в бессмертие. А вдруг оно есть? Но бессмертия ему не хотелось, и он думал о нем только одно мгновение. Стадо оленей, необыкновенно красивых и грациозных, о которых он читал вчера, пробежало мимо него; потом баба протянула к нему руку с заказным письмом… Сказал что-то Михаил Аверьяныч. Потом все исчезло, и Андрей Ефимыч забылся навеки.
Пришли мужики, взяли его за руки и за ноги и отнесли в часовню. Там он лежал на столе с открытыми глазами, и луна ночью освещала его. Утром пришел Сергей Сергеич, набожно помолился на распятие и закрыл своему бывшему начальнику глаза.
Через день Андрея Ефимыча хоронили. На похоронах были только Михаил Аверьяныч и Дарьюшка.
1892Скрипка Ротшильда
Городок был маленький, хуже деревни, и жили в нем почти одни только старики, которые умирали так редко, что даже досадно. В больницу же и в тюремный замок гробов требовалось очень мало. Одним словом, дела были скверные. Если бы Яков Иванов был гробовщиком в губернском городе, то, наверное, он имел бы собственный дом и звали бы его Яковом Матвеичем; здесь же в городишке звали его просто Яковом, уличное прозвище у него было почему-то – Бронза, а жил он бедно, как простой мужик, в небольшой старой избе, где была одна только комната, и в этой комнате помещались он, Марфа, печь, двухспальная кровать, гробы, верстак и все хозяйство.
Яков делал гробы хорошие, прочные. Для мужиков и мещан он делал их на свой рост и ни разу не ошибся, так как выше и крепче его не было людей нигде, даже в тюремном замке, хотя ему было уже семьдесят лет. Для благородных же и для женщин делал по мерке и употреблял для этого железный аршин. Заказы на детские гробики принимал он очень неохотно и делал их прямо без мерки, с презрением, и всякий раз, получая деньги за работу, говорил:
– Признаться, не люблю заниматься чепухой.
Кроме мастерства, небольшой доход приносила ему также игра на скрипке. В городке на свадьбах играл обыкновенно жидовский оркестр, которым управлял лудильщик Моисей Ильич Шахкес, бравший себе больше половины дохода. Так как Яков очень хорошо играл на скрипке, особенно русские песни, то Шахкес иногда приглашал его в оркестр с платою по пятьдесят копеек в день, не считая подарков от гостей. Когда Бронза сидел в оркестре, то у него прежде всего потело и багровело лицо; было жарко, пахло чесноком до духоты, скрипка взвизгивала, у правого уха хрипел контрабас, у левого – плакала флейта, на которой играл рыжий тощий жид с целою сетью красных и синих жилок на лице, носивший фамилию известного богача Ротшильда. И этот проклятый жид даже самое веселое умудрялся играть жалобно. Без всякой видимой причины Яков мало-помалу проникался ненавистью и презрением к жидам, а особенно к Ротшильду; он начинал придираться, бранить его нехорошими словами и раз даже хотел побить его, и Ротшильд обиделся и проговорил, глядя на него свирепо:
– Если бы я не уважал вас за талант, то вы бы давно полетели у меня в окошке.
Потом заплакал. Поэтому Бронзу приглашали в оркестр не часто, только в случае крайней необходимости, когда недоставало кого-нибудь из евреев.
Яков никогда не бывал в хорошем расположении духа, так как ему постоянно приходилось терпеть страшные убытки. Например, в воскресенья и праздники грешно было работать, понедельник – тяжелый день, и таким образом в году набиралось около двухсот дней, когда поневоле приходилось сидеть сложа руки. А ведь это какой убыток! Если кто-нибудь в городе играл свадьбу без музыки или Шахкес не приглашал Якова, то это тоже был убыток. Полицейский надзиратель был два года болен и чахнул, и Яков с нетерпением ждал, когда он умрет, но надзиратель уехал в губернский город лечиться и взял да там и умер. Вот вам и убыток, по меньшей мере рублей на десять, так как гроб пришлось бы делать дорогой, с глазетом. Мысли об убытках донимали Якова особенно по ночам; он клал рядом с собой на постели скрипку и, когда всякая чепуха лезла в голову, трогал струны, скрипка в темноте издавала звук, и ему становилось легче.
Шестого мая прошлого года Марфа вдруг занемогла. Старуха тяжело дышала, пила много воды и пошатывалась, но все-таки утром сама истопила печь и даже ходила по воду. К вечеру же слегла. Яков весь день играл на скрипке; когда же совсем стемнело, взял книжку, в которую каждый день записывал свои убытки, и от скуки стал подводить годовой итог. Получилось больше тысячи рублей. Это так потрясло его, что он хватил счетами о пол и затопал ногами. Потом поднял счеты и опять долго щелкал и глубоко, напряженно вздыхал. Лицо у него было багрово и мокро от пота. Он думал о том, что если бы эту пропащую тысячу рублей положить в банк, то в год проценту накопилось бы самое малое – сорок рублей. Значит, и эти сорок рублей тоже убыток. Одним словом, куда ни повернись, везде только убытки и больше ничего.
– Яков! – позвала Марфа неожиданно. – Я умираю!
Он оглянулся на жену. Лицо у нее было розовое от жара, необыкновенно ясное и радостное. Бронза, привыкший всегда видеть ее лицо бледным, робким и несчастным, теперь смутился. Похоже было на то, как будто она в самом деле умирала и была рада, что наконец уходит навеки из этой избы, от гробов, от Якова… И она глядела в потолок и шевелила губами, и выражение у нее было счастливое, точно она видела смерть, свою избавительницу, и шепталась с ней.
Был уже рассвет, в окно видно было, как горела утренняя заря. Глядя на старуху, Яков почему-то вспомнил, что за всю жизнь он, кажется, ни разу не приласкал ее, не пожалел, ни разу не догадался купить ей платочек или принести со свадьбы чего-нибудь сладенького, а только кричал на нее, бранил за убытки, бросался на нее с кулаками; правда, он никогда не бил ее, но все-таки пугал, и она всякий раз цепенела от страха. Да, он не велел ей пить чай, потому что и без того расходы большие, и она пила только горячую воду. И он понял, отчего у нее теперь такое странное, радостное лицо, и ему стало жутко.
Дождавшись утра, он взял у соседа лошадь и повез Марфу в больницу. Тут больных было немного, и потому пришлось ему ждать недолго, часа три. К его великому удовольствию, в этот раз принимал больных не доктор, который сам был болен, а фельдшер Максим Николаич, старик, про которого все в городе говорили, что хотя он и пьющий и дерется, но понимает больше, чем доктор.
– Здравия желаем, – сказал Яков, вводя старуху в приемную. – Извините, все беспокоим вас, Максим Николаич, своими пустяшными делами. Вот, изволите видеть, захворал мой предмет. Подруга жизни, как это говорится, извините за выражение…
Нахмурив седые брови и поглаживая бакены, фельдшер стал оглядывать старуху, а она сидела на табурете сгорбившись и, тощая, остроносая, с открытым ртом, походила в профиль на птицу, которой хочется пить.
– М-да… Так… – медленно проговорил фельдшер и вздохнул. – Инфлуэнца, а может, и горячка. Теперь по городу тиф ходит. Что ж? Старушка пожила, слава богу… Сколько ей?
– Да без года семьдесят, Максим Николаич.
– Что ж? Пожила старушка. Пора и честь знать.
– Оно, конечно, справедливо изволили заметить, Максим Николаич, – сказал Яков, улыбаясь из вежливости, – и чувствительно вас благодарим за вашу приятность, но позвольте вам выразиться, всякому насекомому жить хочется.
– Мало ли чего! – сказал фельдшер таким тоном, как будто от него зависело жить старухе или умереть. – Ну, так вот, любезный, будешь прикладывать ей на голову холодный компресс и давай вот эти порошки по два в день. А засим досвиданция, бонжур.
По выражению его лица Яков видел, что дело плохо и что уж никакими порошками не поможешь; для него теперь ясно было, что Марфа помрет очень скоро, не сегодня-завтра. Он слегка толкнул фельдшера под локоть, подмигнул глазом и сказал вполголоса:
– Ей бы, Максим Николаич, банки поставить.
– Некогда, некогда, любезный. Бери свою старуху и уходи с богом. Досвиданция.
– Сделайте такую милость, – взмолился Яков. – Сами изволите знать, если б у нее, скажем, живот болел или какая внутренность, ну, тогда порошки и капли, а то ведь в ней простуда! При простуде первое дело – кровь гнать, Максим Николаич.
А фельдшер уже вызвал следующего больного, и в приемную входила баба с мальчиком.
– Ступай, ступай… – сказал он Якову, хмурясь. – Нечего тень наводить.
– В таком случае поставьте ей хоть пьявки! Заставьте вечно Бога молить!
Фельдшер вспылил и крикнул:
– Поговори мне еще! Ддубина…
Яков тоже вспылил и побагровел весь, но не сказал ни слова, а взял под руку Марфу и повел ее из приемной. Только когда уж садились в телегу, он сурово и насмешливо поглядел на больницу и сказал:
– Насажали вас тут, артистов! Богатому небось поставил бы банки, а для бедного человека и одной пьявки пожалел. Ироды!
Когда приехали домой, Марфа, войдя в избу, минут десять простояла, держась за печку. Ей казалось, что если она ляжет, то Яков будет говорить об убытках и бранить ее за то, что она все лежит и не хочет работать. А Яков глядел на нее со скукой и вспоминал, что завтра Иоанна Богослова, послезавтра Николая Чудотворца, а потом воскресенье, потом понедельник – тяжелый день. Четыре дня нельзя будет работать, а, наверное, Марфа умрет в какой-нибудь из этих дней; значит, гроб надо делать сегодня. Он взял свой железный аршин, подошел к старухе и снял с нее мерку. Потом она легла, а он перекрестился и стал делать гроб.
Когда работа была кончена, Бронза надел очки и записал в свою книжку:
«Марфе Ивановой гроб – 2 р. 40 к.».
И вздохнул. Старуха все время лежала молча с закрытыми глазами. Но вечером, когда стемнело, она вдруг позвала старика.
– Помнишь, Яков? – спросила она, глядя на него радостно. – Помнишь, пятьдесят лет назад нам бог дал ребеночка с белокурыми волосиками? Мы с тобой тогда все на речке сидели и песни пели… под вербой. – И, горько усмехнувшись, она добавила: – Умерла девочка.
Яков напряг память, но никак не мог вспомнить ни ребеночка, ни вербы.
– Это тебе мерещится, – сказал он.
Приходил батюшка, приобщал и соборовал. Потом Марфа стала бормотать что-то непонятное и к утру скончалась. Старухи соседки обмыли, одели и в гроб положили. Чтобы не платить лишнего дьячку, Яков сам читал псалтырь, и за могилку с него ничего не взяли, так как кладбищенский сторож был ему кум. Четыре мужика несли до кладбища гроб, но не за деньги, а из уважения. Шли за гробом старухи, нищие, двое юродивых, встречный народ набожно крестился… И Яков был очень доволен, что все так честно, благопристойно и дешево и ни для кого не обидно. Прощаясь в последний раз с Марфой, он потрогал рукой гроб и подумал: «Хорошая работа!»
Но когда он возвращался с кладбища, его взяла сильная тоска. Ему что-то нездоровилось: дыхание было горячее и тяжкое, ослабели ноги, тянуло к питью. А тут еще полезли в голову всякие мысли. Вспомнилось опять, что за всю свою жизнь он ни разу не пожалел Марфы, не приласкал. Пятьдесят два года, пока они жили в одной избе, тянулись долго-долго, но как-то так вышло, что за все это время он ни разу не подумал о ней, не обратил внимания, как будто она была кошка или собака. А ведь она каждый день топила печь, варила и пекла, ходила по воду, рубила дрова, спала с ним на одной кровати, а когда он возвращался пьяный со свадеб, она всякий раз с благоговением вешала его скрипку на стену и укладывала его спать, и все это молча, с робким, заботливым выражением.
Навстречу Якову, улыбаясь и кланяясь, шел Ротшильд.
– А я вас ищу, дяденька! – сказал он. – Кланялись вам Мойсей Ильич и велели вам зараз приходить к ним.
Якову было не до того. Ему хотелось плакать.
– Отстань! – сказал он и пошел дальше.
– А как же это можно? – встревожился Ротшильд, забегая вперед. – Мойсей Ильич будут обижаться! Они велели зараз!
Якову показалось противно, что жид запыхался, моргает и что у него так много рыжих веснушек. И было гадко глядеть на его зеленый сюртук с темными латками и на всю его хрупкую, деликатную фигуру.
– Что ты лезешь ко мне, чеснок? – крикнул Яков. – Не приставай!
Жид рассердился и тоже крикнул:
– Но ви, пожалуйста, потише, а то ви у меня через забор полетите!
– Прочь с глаз долой! – заревел Яков и бросился на него с кулаками. – Житья нет от пархатых!
Ротшильд помертвел от страха, присел и замахал руками над головой, как бы защищаясь от ударов, потом вскочил и побежал прочь что есть духу. На бегу он подпрыгивал, всплескивал руками, и видно было, как вздрагивала его длинная, тощая спина. Мальчишки обрадовались случаю и бросились за ним с криками: «Жид! Жид!» Собаки тоже погнались за ним с лаем. Кто-то захохотал, потом свистнул, собаки залаяли громче и дружнее… Затем, должно быть, собака укусила Ротшильда, так как послышался отчаянный, болезненный крик.
Яков погулял по выгону, потом пошел по краю города куда глаза глядят, и мальчишки кричали: «Бронза идет! Бронза идет!» А вот и река. Тут с писком носились кулики, крякали утки. Солнце сильно припекало, и от воды шло такое сверканье, что было больно смотреть. Яков прошелся по тропинке вдоль берега и видел, как из купальни вышла полная краснощекая дама, и подумал про нее: «Ишь ты, выдра!» Недалеко от купальни мальчишки ловили на мясо раков; увидев его, они стали кричать со злобой: «Бронза! Бронза!» А вот широкая старая верба с громадным дуплом, а на ней вороньи гнезда… И вдруг в памяти Якова, как живой, вырос младенчик с белокурыми волосами и верба, про которую говорила Марфа. Да, это и есть та самая верба – зеленая, тихая, грустная… Как она постарела, бедная!
Он сел под нее и стал вспоминать. На том берегу, где теперь заливной луг, в ту пору стоял крупный березовый лес, а вон на той лысой горе, что виднеется на горизонте, тогда синел старый-старый сосновый бор. По реке ходили барки. А теперь все ровно и гладко, и на том берегу стоит одна только березка, молоденькая и стройная, как барышня, а на реке только утки да гуси, и не похоже, чтобы здесь когда-нибудь ходили барки. Кажется, против прежнего и гусей стало меньше. Яков закрыл глаза, и в воображении его одно навстречу другому понеслись громадные стада белых гусей.
Он недоумевал, как это вышло так, что за последние сорок или пятьдесят лет своей жизни он ни разу не был на реке, а если, может, и был, то не обратил на нее внимания? Ведь река порядочная, не пустячная; на ней можно было бы завести рыбные ловли, а рыбу продавать купцам, чиновникам и буфетчику на станции и потом класть деньги в банк; можно было бы плавать в лодке от усадьбы к усадьбе и играть на скрипке, и народ всякого звания платил бы деньги; можно было бы попробовать опять гонять барки – это лучше, чем гробы делать; наконец, можно было бы разводить гусей, бить их и зимой отправлять в Москву; небось одного пуху в год набралось бы рублей на десять. Но он прозевал, ничего этого не сделал. Какие убытки! Ах, какие убытки! А если бы все вместе – и рыбу ловить, и на скрипке играть, и барки гонять, и гусей бить, то какой получился бы капитал! Но ничего этого не было даже во сне, жизнь прошла без пользы, без всякого удовольствия, пропала зря, ни за понюшку табаку; впереди уже ничего не осталось, а посмотришь назад – там ничего, кроме убытков, и таких страшных, что даже озноб берет. И почему человек не может жить так, чтобы не было этих потерь и убытков? Спрашивается, зачем срубили березняк и сосновый бор? Зачем даром гуляет выгон? Зачем люди делают всегда именно не то, что нужно? Зачем Яков всю свою жизнь бранился, рычал, бросался с кулаками, обижал свою жену и, спрашивается, для какой надобности давеча напугал и оскорбил жида? Зачем вообще люди мешают жить друг другу? Ведь от этого какие убытки! Какие страшные убытки! Если бы не было ненависти и злобы, люди имели бы друг от друга громадную пользу.
Вечером и ночью мерещились ему младенчик, верба, рыба, битые гуси, и Марфа, похожая в профиль на птицу, которой хочется пить, и бледное, жалкое лицо Ротшильда, и какие-то морды надвигались со всех сторон и бормотали про убытки. Он ворочался с боку на бок и раз пять вставал с постели, чтобы поиграть на скрипке.
Утром через силу поднялся и пошел в больницу. Тот же Максим Николаич приказал ему прикладывать к голове холодный компресс, дал порошки, и по выражению его лица и по тону Яков понял, что дело плохо и что уж никакими порошками не поможешь. Идя потом домой, он соображал, что от смерти будет одна только польза: не надо ни есть, ни пить, ни платить податей, ни обижать людей, а так как человек лежит в могилке не один год, а сотни, тысячи лет, то, если сосчитать, польза окажется громадная. От жизни человеку – убыток, а от смерти – польза. Это соображение, конечно, справедливо, но все-таки обидно и горько: зачем на свете такой странный порядок, что жизнь, которая дается человеку только один раз, проходит без пользы?
Не жалко было умирать, но как только дома он увидел скрипку, у него сжалось сердце и стало жалко. Скрипку нельзя взять с собой в могилу, и теперь она останется сиротой, и с нею случится то же, что с березняком и с сосновым бором. Все на этом свете пропадало и будет пропадать! Яков вышел из избы и сел у порога, прижимая к груди скрипку. Думая о пропащей, убыточной жизни, он заиграл, сам не зная что, но вышло жалобно и трогательно, и слезы потекли у него по щекам. И чем крепче он думал, тем печальнее пела скрипка.
Скрипнула щеколда раз-другой, и в калитке показался Ротшильд. Половину двора прошел он смело, но, увидев Якова, вдруг остановился, весь съежился и, должно быть, от страха стал делать руками такие знаки, как будто хотел показать на пальцах, который теперь час.
– Подойди, ничего, – сказал ласково Яков и поманил его к себе. – Подойди!
Глядя недоверчиво и со страхом, Ротшильд стал подходить и остановился от него на сажень.
– А вы, сделайте милость, не бейте меня! – сказал он, приседая. – Меня Мойсей Ильич опять послали. Не бойся, говорят, поди опять до Якова и скажи, говорят, что без их никак невозможно. В среду швадьба… Да-а! Господин Шаповалов выдают дочку жа хорошего человека… И швадьба будет богатая, у-у! – добавил жид и прищурил один глаз.
– Не могу… – проговорил Яков, тяжело дыша. – Захворал, брат.
И опять заиграл, и слезы брызнули из глаз на скрипку. Ротшильд внимательно слушал, ставши к нему боком и скрестив на груди руки. Испуганное, недоумевающее выражение на его лице мало-помалу сменилось скорбным и страдальческим, он закатил глаза, как бы испытывая мучительный восторг, и проговорил: «Ваххх!..» И слезы медленно потекли у него по щекам и закапали на зеленый сюртук.
И потом весь день Яков лежал и тосковал. Когда вечером батюшка, исповедуя, спросил его, не помнит ли он за собою какого-нибудь особенного греха, то он, напрягая слабеющую память, вспомнил опять несчастное лицо Марфы и отчаянный крик жида, которого укусила собака, и сказал едва слышно:
– Скрипку отдайте Ротшильду.
– Хорошо, – ответил батюшка.
И теперь в городе все спрашивают: откуда у Ротшильда такая хорошая скрипка? Купил он ее или украл, или, быть может, она попала к нему в заклад? Он давно уже оставил флейту и играет теперь только на скрипке. Из-под смычка у него льются такие же жалобные звуки, как в прежнее время из флейты, но когда он старается повторить то, что играл Яков, сидя на пороге, то у него выходит нечто такое унылое и скорбное, что слушатели плачут и сам он под конец закатывает глаза и говорит: «Ваххх!..» И эта новая песня так понравилась в городе, что Ротшильда приглашают к себе наперерыв купцы и чиновники и заставляют играть ее по десяти раз.
1894Учитель словесности
I
Послышался стук лошадиных копыт о бревенчатый пол; вывели из конюшни сначала вороного Графа Нулина, потом белого Великана, потом сестру его Майку. Все это были превосходные и дорогие лошади. Старик Шелестов оседлал Великана и сказал, обращаясь к своей дочери Маше:
– Ну, Мария Годфруа, иди садись. Опля!
Маша Шелестова была самой младшей в семье; ей было уже восемнадцать лет, но в семье еще не отвыкли считать ее маленькой и потому все звали ее Маней и Манюсей; а после того как в городе побывал цирк, который она усердно посещала, ее все стали звать Марией Годфруа.
– Опля! – крикнула она, садясь на Великана.
Сестра ее Варя села на Майку, Никитин – на Графа Нулина, офицеры – на своих лошадей, и длинная красивая кавалькада, пестрея белыми офицерскими кителями и черными амазонками, шагом потянулась со двора.
Никитин заметил, что, когда садились на лошадей и потом выехали на улицу, Манюся почему-то обращала внимание только на него одного. Она озабоченно оглядывала его и Графа Нулина и говорила:
– Вы, Сергей Васильич, держите его все время на мундштуке. Не давайте ему пугаться. Он притворяется.
И оттого ли, что ее Великан был в большой дружбе с Графом Нулиным, или выходило это случайно, она, как вчера и третьего дня, ехала все время рядом с Никитиным. А он глядел на ее маленькое стройное тело, сидевшее на белом гордом животном, на ее тонкий профиль, на цилиндр, который вовсе не шел к ней и делал ее старее, чем она была, глядел с радостью, с умилением, с восторгом, слушал ее, мало понимал и думал:
«Даю себе честное слово, клянусь богом, что не буду робеть и сегодня же объяснюсь с ней…»
Был седьмой час вечера – время, когда белая акация и сирень пахнут так сильно, что, кажется, воздух и сами деревья стынут от своего запаха. В городском саду уже играла музыка. Лошади звонко стучали по мостовой; со всех сторон слышались смех, говор, хлопанье калиток. Встречные солдаты козыряли офицерам, гимназисты кланялись Никитину; и, видимо, всем гуляющим, спешившим в сад на музыку, было очень приятно глядеть на кавалькаду. А как тепло, как мягки на вид облака, разбросанные в беспорядке по небу, как кротки и уютны тени тополей и акаций, – тени, которые тянутся через всю широкую улицу и захватывают на другой стороне дома до самых балконов и вторых этажей!
Выехали за город и побежали рысью по большой дороге. Здесь уже не пахло акацией и сиренью, не слышно было музыки, но зато пахло полем, зеленели молодые рожь и пшеница, пищали суслики, каркали грачи. Куда ни взглянешь, везде зелено; только кое-где чернеют бахчи да далеко влево на кладбище белеет полоса отцветающих яблонь.
Проехали мимо боен, потом мимо пивоваренного завода, обогнали толпу солдат-музыкантов, спешивших в загородный сад.
– У Полянского очень хорошая лошадь, я не спорю, – говорила Манюся Никитину, указывая глазами на офицера, ехавшего рядом с Варей. – Но она бракованная. Совсем уж некстати это белое пятно на левой ноге, и, поглядите, головой закидывает. Теперь уж ее ничем не отучишь, так и будет закидывать, пока не издохнет.
Манюся была такой же страстной лошадницей, как и ее отец. Она страдала, когда видела у кого-нибудь хорошую лошадь, и была рада, когда находила недостатки у чужих лошадей. Никитин же ничего не понимал в лошадях, для него было решительно все равно, держать ли лошадь на поводьях или на мундштуке, скакать ли рысью или галопом; он только чувствовал, что поза у него была неестественная, напряженная и что поэтому офицеры, которые умеют держаться в седле, должны нравиться Манюсе больше, чем он. И он ревновал ее к офицерам.
Когда ехали мимо загородного сада, кто-то предложил заехать и выпить сельтерской воды. Заехали. В саду росли одни только дубы; они стали распускаться только недавно, так что теперь сквозь молодую листву виден был весь сад с его эстрадой, столиками, качелями, видны были все вороньи гнезда, похожие на большие шапки. Всадники и их дамы спешились около одного из столиков и потребовали сельтерской воды. К ним стали подходить знакомые, гулявшие в саду. Между прочим, подошли военный доктор в высоких сапогах и капельмейстер, дожидавшийся своих музыкантов. Должно быть, доктор принял Никитина за студента, потому что спросил:
– Вы изволили на каникулы приехать?
– Нет, я здесь постоянно живу, – ответил Никитин. – Я служу преподавателем в гимназии.
– Неужели? – удивился доктор. – Так молоды и уже учительствуете?
– Где же молод? Мне двадцать шесть лет… Слава тебе господи.
– У вас и борода и усы, но все же на вид вам нельзя дать больше двадцати двух – двадцати трех лет. Как вы моложавы!
«Что за свинство! – подумал Никитин. – И этот считает меня молокососом!»
Ему чрезвычайно не нравилось, когда кто-нибудь заводил речь об его молодости, особенно в присутствии женщин или гимназистов. С тех пор как он приехал в этот город и поступил на службу, он стал ненавидеть свою моложавость. Гимназисты его не боялись, старики величали молодым человеком, женщины охотнее танцевали с ним, чем слушали его длинные рассуждения. И он дорого дал бы за то, чтобы постареть теперь лет на десять.
Из сада поехали дальше, на ферму Шелестовых. Здесь остановились около ворот, вызвали жену приказчика Прасковью и потребовали парного молока. Молока никто не стал пить, все переглянулись, засмеялись и поскакали назад. Когда ехали обратно, в загородном саду уже играла музыка; солнце спряталось за кладбище, и половина неба была багрова от зари.
Манюся опять ехала рядом с Никитиным. Ему хотелось заговорить о том, как страстно он ее любит, но он боялся, что его услышат офицеры и Варя, и молчал. Манюся тоже молчала, и он чувствовал, отчего она молчит и почему едет рядом с ним, и был так счастлив, что земля, небо, городские огни, черный силуэт пивоваренного завода – все сливалось у него в глазах во что-то очень хорошее и ласковое, и ему казалось, что его Граф Нулин едет по воздуху и хочет вскарабкаться на багровое небо.
Приехали домой. На столе в саду уже кипел самовар, и на одном краю стола со своими приятелями, чиновниками окружного суда, сидел старик Шелестов и, по обыкновению, что-то критиковал.
– Это хамство! – говорил он. – Хамство и больше ничего. Да-с, хамство-с!
Никитину, с тех пор как он влюбился в Манюсю, все нравилось у Шелестовых: и дом, и сад при доме, и вечерний чай, и плетеные стулья, и старая нянька, и даже слово «хамство», которое любил часто произносить старик. Не нравилось ему только изобилие собак и кошек да египетские голуби, которые уныло стонали в большой клетке на террасе. Собак дворовых и комнатных было так много, что за все время знакомства с Шелестовыми он научился узнавать только двух: Мушку и Сома. Мушка была маленькая облезлая собачонка с мохнатою мордой, злая и избалованная. Никитина она ненавидела: увидев его, она всякий раз склоняла голову набок, скалила зубы и начинала: «Ррр… нга-нга-нга-нга… ррр…»
Потом садилась под стул. Когда же он пытался прогнать ее из-под своего стула, она заливалась пронзительным лаем, а хозяева говорили:
– Не бойтесь, она не кусается. Она у нас добрая.
Сом же представлял из себя огромного черного пса на длинных ногах и с хвостом, жестким, как палка. За обедом и за чаем он обыкновенно ходил молча под столом и стучал хвостом по сапогам и по ножкам стола. Это был добрый, глупый пес, но Никитин терпеть его не мог за то, что он имел привычку класть свою морду на колени обедающим и пачкать слюною брюки. Никитин не раз пробовал бить его по большому лбу колодкой ножа, щелкал по носу, бранился, жаловался, но ничто не спасало его брюк от пятен.
После прогулки верхом чай, варенье, сухари и масло показались очень вкусными. Первый стакан все выпили с большим аппетитом и молча, перед вторым же принялись спорить. Споры всякий раз за чаем и за обедом начинала Варя. Ей было уже двадцать три года, она была хороша собой, красивее Манюси, считалась самою умной и образованной в доме и держала себя солидно, строго, как это и подобало старшей дочери, занявшей в доме место покойной матери. На правах хозяйки она ходила при гостях в блузе, офицеров величала по фамилии, на Манюсю глядела как на девочку и говорила с нею тоном классной дамы. Называла она себя старою девой – значит, была уверена, что выйдет замуж.
Всякий разговор, даже о погоде, она непременно сводила на спор. У нее была какая-то страсть – ловить всех на слове, уличать в противоречии, придираться к фразе. Вы начинаете говорить с ней о чем-нибудь, а она уже пристально смотрит вам в лицо и вдруг перебивает: «Позвольте, позвольте, Петров, третьего дня вы говорили совсем противоположное!»
Или же она насмешливо улыбается и говорит: «Однако, я замечаю, вы начинаете проповедовать принципы Третьего отделения. Поздравляю вас».
Если вы сострили или сказали каламбур, тотчас же вы слышите ее голос: «Это старо!» или: «Это плоско!» Если же острит офицер, то она делает презрительную гримасу и говорит: «Аррр-мейская острота!»
И это «ррр…» выходило у нее так внушительно, что Мушка непременно отвечала ей из-под стула: «Ррр… нга-нга-нга…»
Теперь за чаем спор начался с того, что Никитин заговорил о гимназических экзаменах.
– Позвольте, Сергей Васильич, – перебила его Варя. – Вот вы говорите, что ученикам трудно. А кто виноват, позвольте вас спросить? Например, вы задали ученикам восьмого класса сочинение на тему: «Пушкин как психолог». Во-первых, нельзя задавать таких трудных тем, а во-вторых, какой же Пушкин психолог? Ну, Щедрин или, положим, Достоевский – другое дело, а Пушкин великий поэт и больше ничего.
– Щедрин сам по себе, а Пушкин сам по себе, – угрюмо ответил Никитин.
– Я знаю, у вас в гимназии не признают Щедрина, но не в этом дело. Вы скажите мне, какой же Пушкин психолог?
– А то разве не психолог? Извольте, я приведу вам примеры.
И Никитин продекламировал несколько мест из «Онегина», потом из «Бориса Годунова».
– Никакой не вижу тут психологии, – вздохнула Варя. – Психологом называется тот, кто описывает изгибы человеческой души, а это прекрасные стихи и больше ничего.
– Я знаю, какой вам нужно психологии! – обиделся Никитин. – Вам нужно, чтобы кто-нибудь пилил мне тупой пилою палец и чтобы я орал во все горло – это, по-вашему, психология.
– Плоско! Однако вы все-таки не доказали мне: почему же Пушкин психолог?
Когда Никитину приходилось оспаривать то, что казалось ему рутиной, узостью или чем-нибудь вроде этого, то обыкновенно он вскакивал с места, хватал себя обеими руками за голову и начинал со стоном бегать из угла в угол. И теперь то же самое: он вскочил, схватил себя за голову и со стоном прошелся вокруг стола, потом сел поодаль.
За него вступились офицеры. Штабс-капитан Полянский стал уверять Варю, что Пушкин в самом деле психолог, и в доказательство привел два стиха из Лермонтова; поручик Гернет сказал, что если бы Пушкин не был психологом, то ему не поставили бы в Москве памятника.
– Это хамство! – доносилось с другого конца стола. – Я так и губернатору сказал: это, ваше превосходительство, хамство!
– Я больше не спорю! – крикнул Никитин. – Это его же царствию не будет конца! Баста! Ах, да поди ты прочь, поганая собака! – крикнул он на Сома, который положил ему на колени голову и лапу.
«Ррр… нга-нга-нга…» – послышалось из-под стула.
– Сознайтесь, что вы не правы! – крикнула Варя. – Сознайтесь!
Но пришли гостьи-барышни, и спор прекратился сам собой. Все отправились в зал. Варя села за рояль и стала играть танцы. Протанцевали сначала вальс, потом польку, потом кадриль с grand-rond,[22] которое провел по всем комнатам штабс-капитан Полянский, потом опять стали танцевать вальс.
Старики во время танцев сидели в зале, курили и смотрели на молодежь. Между ними находился и Шебалдин, директор городского кредитного общества, славившийся своей любовью к литературе и сценическому искусству. Он положил начало местному «Музыкально-драматическому кружку» и сам принимал участие в спектаклях, играя почему-то всегда только одних смешных лакеев или читая нараспев «Грешницу». Звали его в городе мумией, так как он был высок, очень тощ, жилист и имел всегда торжественное выражение лица и тусклые, неподвижные глаза. Сценическое искусство он любил так искренне, что даже брил себе усы и бороду, а это еще больше делало его похожим на мумию.
После grand-rond он нерешительно, как-то боком подошел к Никитину, кашлянул и сказал:
– Я имел удовольствие присутствовать за чаем во время спора. Вполне разделяю ваше мнение. Мы с вами единомышленники, и мне было бы очень приятно поговорить с вами. Вы изволили читать «Гамбургскую драматургию» Лессинга?
– Нет, не читал.
Шебалдин ужаснулся и замахал руками так, как будто ожег себе пальцы, и, ничего не говоря, попятился от Никитина. Фигура Шебалдина, его вопрос и удивление показались Никитину смешными, но он все-таки подумал:
«В самом деле неловко. Я – учитель словесности, а до сих пор еще не читал Лессинга. Надо будет прочесть».
Перед ужином все, молодые и старые, сели играть в «судьбу». Взяли две колоды карт: одну сдали всем поровну, другую положили на стол рубашкой вверх.
– У кого на руках эта карта, – начал торжественно старик Шелестов, поднимая верхнюю карту второй колоды, – тому судьба пойти сейчас в детскую и поцеловаться там с няней.
Удовольствие целоваться с няней выпало на долю Шебалдина. Все гурьбой окружили его, повели в детскую и со смехом, хлопая в ладоши, заставили поцеловаться с няней. Поднялся шум, крик…
– Не так страстно! – кричал Шелестов, плача от смеха. – Не так страстно!
Никитину вышла судьба исповедовать всех. Он сел на стул среди залы. Принесли шаль и накрыли его с головой. Первой пришла к нему исповедоваться Варя.
– Я знаю ваши грехи, – начал Никитин, глядя в потемках на ее строгий профиль. – Скажите мне, сударыня, с какой это стати вы каждый день гуляете с Полянским? Ох, недаром, недаром она с гусаром!
– Это плоско, – сказала Варя и ушла.
Затем под шалью заблестели большие неподвижные глаза, обозначился в потемках милый профиль и запахло чем-то дорогим, давно знакомым, что напоминало Никитину комнату Манюси.
– Мария Годфруа, – сказал он и не узнал своего голоса – так он был нежен и мягок, – в чем вы грешны?
Манюся прищурила глаза и показала ему кончик языка, потом засмеялась и ушла. А через минуту она уже стояла среди залы, хлопала в ладоши и кричала:
– Ужинать, ужинать, ужинать!
И все повалили в столовую.
За ужином Варя опять спорила, и на этот раз с отцом. Полянский солидно ел, пил красное вино и рассказывал Никитину, как он раз зимою, будучи на войне, всю ночь простоял по колено в болоте; неприятель был близко, так что не позволялось ни говорить, ни курить, ночь была холодная, темная, дул пронзительный ветер. Никитин слушал и косился на Манюсю. Она глядела на него неподвижно, не мигая, точно задумалась о чем-то или забылась… Для него это было и приятно и мучительно.
«Зачем она на меня так смотрит? – мучился он. – Это неловко. Могут заметить. Ах, как она еще молода, как наивна!»
Гости стали расходиться в полночь. Когда Никитин вышел за ворота, во втором этаже дома хлопнуло окошко, и показалась Манюся.
– Сергей Васильич! – окликнула она.
– Что прикажете?
– Вот что… – проговорила Манюся, видимо, придумывая, что бы сказать. – Вот что… Полянский обещал прийти на днях со своей фотографией и снять всех нас. Надо будет собраться.
– Хорошо.
Манюся скрылась, окно хлопнуло, и тотчас же в доме кто-то заиграл на рояле.
«Ну, дом! – думал Никитин, переходя через улицу. – Дом, в котором стонут одни только египетские голуби, да и те потому, что иначе не умеют выражать своей радости!»
Но не у одних только Шелестовых жилось весело. Не прошел Никитин и двухсот шагов, как и из другого дома послышались звуки рояля. Прошел он еще немного и увидел у ворот мужика, играющего на балалайке. В саду оркестр грянул попурри из русских песен…
Никитин жил в полуверсте от Шелестовых, в квартире из восьми комнат, которую он нанимал за триста рублей в год, вместе со своим товарищем, учителем географии и истории Ипполитом Ипполитычем. Этот Ипполит Ипполитыч, еще не старый человек, с рыжею бородкой, курносый, с лицом грубоватым и неинтеллигентным, как у мастерового, но добродушным, когда вернулся домой Никитин, сидел у себя за столом и поправлял ученические карты. Самым нужным и самым важным считалось у него по географии черчение карт, а по истории – знание хронологии; по целым ночам сидел он и синим карандашом поправлял карты своих учеников и учениц или же составлял хронологические таблички.
– Какая сегодня великолепная погода! – сказал Никитин, входя к нему. – Удивляюсь вам, как это вы можете сидеть в комнате.
Ипполит Ипполитыч был человек неразговорчивый; он или молчал, или же говорил только о том, что всем давно уже известно. Теперь он ответил так:
– Да, прекрасная погода. Теперь май, скоро будет настоящее лето. А лето не то, что зима. Зимою нужно печи топить, а летом и без печей тепло. Летом откроешь ночью окна и все-таки тепло, а зимою – двойные рамы и все-таки холодно.
Никитин посидел около стола не больше минуты и соскучился.
– Спокойной ночи! – сказал он, поднимаясь и зевая. – Хотел было я рассказать вам нечто романическое, меня касающееся, но ведь вы – география! Начнешь вам о любви, а вы сейчас: «В каком году была битва при Калке?» Ну вас к черту с вашими битвами и с Чукотскими носами!
– Что же вы сердитесь?
– Да досадно!
И, досадуя, что он не объяснился еще с Манюсей и что ему не с кем теперь поговорить о своей любви, он пошел к себе в кабинет и лег на диван. В кабинете было темно и тихо. Лежа и глядя в потемки, Никитин стал почему-то думать о том, как через два или три года он поедет зачем-нибудь в Петербург, как Манюся будет провожать его на вокзал и плакать; в Петербурге он получит от нее длинное письмо, в котором она будет умолять его скорее вернуться домой. И он напишет ей… Свое письмо начнет так: «Милая моя крыса…»
– Именно, милая моя крыса, – сказал он и засмеялся.
Ему было неудобно лежать. Он подложил руки под голову и задрал левую ногу на спинку дивана. Стало удобно. Между тем окно начало заметно бледнеть, на дворе заголосили сонные петухи. Никитин продолжал думать о том, как он вернется из Петербурга, как встретит его на вокзале Манюся и, вскрикнув от радости, бросится ему на шею; или, еще лучше, он схитрит: приедет ночью потихоньку, кухарка отворит ему, потом на цыпочках пройдет он в спальню, бесшумно разденется и – бултых в постель! А она проснется и – о, радость!
Воздух совсем побелел. Кабинета и окна уж не было. На крылечке пивоваренного завода, того самого, мимо которого сегодня проезжали, сидела Манюся и что-то говорила. Потом она взяла Никитина под руку и пошла с ним в загородный сад. Тут он увидел дубы и вороньи гнезда, похожие на шапки. Одно гнездо закачалось, выглянул из него Шебалдин и громко крикнул: «Вы не читали Лессинга!»
Никитин вздрогнул всем телом и открыл глаза. Перед диваном стоял Ипполит Ипполитыч и, откинув назад голову, надевал галстук.
– Вставайте, пора на службу, – говорил он. – А в одежде спать нельзя. От этого одежда портится. Спать надо в постели, раздевшись…
И он, по обыкновению, стал длинно и с расстановкой говорить о том, что всем давно уже известно.
Первый урок у Никитина был по русскому языку во втором классе. Когда он ровно в девять часов вошел в этот класс, то здесь, на черной доске, были написаны мелом две большие буквы: М. Ш. Это, вероятно, значило: Маша Шелестова.
«Уж пронюхали, подлецы… – подумал Никитин. – И откуда они всё знают?»
Второй урок по словесности был в пятом классе. И тут на доске было написано М. Ш., а когда он, кончив урок, выходил из этого класса, сзади него раздался крик, точно в театральном райке:
– Ура-а-а! Шелестова!!
От спанья в одежде было нехорошо в голове, тело изнемогало от лени. Ученики, каждый день ждавшие роспуска перед экзаменами, ничего не делали, томились, шалили от скуки. Никитин тоже томился, не замечал шалостей и то и дело подходил к окну. Ему была видна улица, ярко освещенная солнцем. Над домами прозрачное голубое небо, птицы, а далеко-далеко, за зелеными садами и домами, просторная, бесконечная даль с синеющими рощами, с дымком от бегущего поезда…
Вот по улице в тени акаций, играя хлыстиками, прошли два офицера в белых кителях. Вот на линейке проехала куча евреев с седыми бородами и в картузах. Гувернантка гуляет с директорскою внучкой… Пробежал куда-то Сом с двумя дворняжками… А вот в простеньком сером платье и в красных чулочках, держа в руке «Вестник Европы», пошла Варя. Была, должно быть, в городской библиотеке…
А уроки кончатся еще не скоро – в три часа! После же уроков нужно идти не домой и не к Шелестовым, а к Вольфу на урок. Этот Вольф, богатый еврей, принявший лютеранство, не отдавал своих детей в гимназию, а приглашал к ним гимназических учителей и платил по пяти рублей за урок…
«Скучно, скучно, скучно!»
В три часа он пошел к Вольфу и высидел у него, как ему показалось, целую вечность. Вышел от него в пять часов, а в седьмом уже должен был идти в гимназию на педагогический совет – составлять расписание устных экзаменов для четвертого и шестого классов!
Когда, поздно вечером, шел он из гимназии к Шелестовым, сердце у него билось и лицо горело. Неделю и месяц тому назад всякий раз, собираясь объясниться, он приготовлял целую речь с предисловием и с заключением, теперь же у него не было наготове ни одного слова, в голове все перепуталось, и он только знал, что сегодня он, наверное, объяснится и что дольше ждать нет никакой возможности.
«Я приглашу ее в сад, – обдумывал он, – немножко погуляю и объяснюсь…»
В передней не было ни души; он вошел в залу, потом в гостиную… Тут тоже никого не было. Слышно было, как наверху, во втором этаже, с кем-то спорила Варя и как в детской стучала ножницами наемная швея.
Была в доме комнатка, которая носила три названия: маленькая, проходная и темная. В ней стоял большой старый шкап с медикаментами, с порохом и охотничьими принадлежностями. Отсюда вела во второй этаж узкая деревянная лестничка, на которой всегда спали кошки. Были тут двери: одна – в детскую, другая – в гостиную. Когда вошел сюда Никитин, чтобы отправиться наверх, дверь из детской отворилась и хлопнула так, что задрожали и лестница и шкап; вбежала Манюся в темном платье, с куском синей материи в руках и, не замечая Никитина, шмыгнула к лестнице.
– Постойте… – остановил ее Никитин. – Здравствуйте, Годфруа… Позвольте…
Он запыхался, не знал, что говорить; одною рукой держал ее за руку, а другою – за синюю материю. А она не то испугалась, не то удивилась и глядела на него большими глазами.
– Позвольте… – продолжал Никитин, боясь, чтоб она не ушла. – Мне нужно вам кое-что сказать… Только… здесь неудобно. Я не могу, не в состоянии… Понимаете ли, Годфруа, я не могу… вот и все…
Синяя материя упала на пол, и Никитин взял Манюсю за другую руку. Она побледнела, зашевелила губами, потом попятилась назад от Никитина и очутилась в углу между стеной и шкапом.
– Честное слово, уверяю вас… – сказал он тихо. – Манюся, честное слово…
Она откинула назад голову, а он поцеловал ее в губы, и, чтоб этот поцелуй продолжался дольше, он взял ее за щеки пальцами; и как-то так вышло, что сам он очутился в углу между шкапом и стеной, а она обвила руками его шею и прижалась к его подбородку головой.
Потом оба побежали в сад.
Сад у Шелестовых был большой, на четырех десятинах. Тут росло с два десятка старых кленов и лип, была одна ель, все же остальное составляли фруктовые деревья: черешни, яблони, груши, дикий каштан, серебристая маслина… Много было и цветов.
Никитин и Манюся молча бегали по аллеям, смеялись, задавали изредка друг другу отрывистые вопросы, на которые не отвечали, а над садом светил полумесяц, и на земле из темной травы, слабо освещенной этим полумесяцем, тянулись сонные тюльпаны и ирисы, точно прося, чтобы и с ними объяснились в любви.
Когда Никитин и Манюся вернулись в дом, офицеры и барышни были уже в сборе и танцевали мазурку. Опять Полянский водил по всем комнатам grand-rond, опять после танцев играли в судьбу. Перед ужином, когда гости пошли из залы в столовую, Манюся, оставшись одна с Никитиным, прижалась к нему и сказала:
– Ты сам поговори с папой и Варей. Мне стыдно…
После ужина он говорил со стариком. Выслушав его, Шелестов подумал и сказал:
– Очень вам благодарен за честь, которую вы оказываете мне и дочери, но позвольте мне поговорить с вами по-дружески. Буду говорить с вами не как отец, а как джентльмен с джентльменом. Скажите, пожалуйста, что вам за охота так рано жениться? Это только мужики женятся рано, но там, известно, хамство, а вы-то с чего? Что за удовольствие в такие молодые годы надевать на себя кандалы?
– Я вовсе не молод! – обиделся Никитин. – Мне двадцать седьмой год.
– Папа, коновал пришел! – крикнула из другой комнаты Варя.
И разговор прекратился. Домой провожали Никитина Варя, Манюся и Полянский. Когда подошли к его калитке, Варя сказала:
– Что это ваш таинственный Митрополит Митрополитыч никуда не показывается? Пусть бы к нам пришел.
Таинственный Ипполит Ипполитыч, когда вошел к нему Никитин, сидел у себя на постели и снимал панталоны.
– Не ложитесь, голубчик! – сказал ему Никитин, задыхаясь. – Постойте, не ложитесь!
Ипполит Ипполитыч быстро надел панталоны и спросил встревоженно:
– Что такое?
– Я женюсь!
Никитин сел рядом с товарищем и, глядя на него удивленно, точно удивляясь самому себе, сказал:
– Представьте, женюсь! На Маше Шелестовой! Сегодня предложение сделал.
– Что ж? Она девушка, кажется, хорошая. Только молода очень.
– Да, молода! – вздохнул Никитин и озабоченно пожал плечами. – Очень, очень молода!
– Она у меня в гимназии училась. Я ее знаю. По географии училась ничего себе, а по истории – плохо. И в классе была невнимательна.
Никитину вдруг почему-то стало жаль своего товарища и захотелось сказать ему что-нибудь ласковое, утешительное.
– Голубчик, отчего вы не женитесь? – спросил он. – Ипполит Ипполитыч, отчего бы вам, например, на Варе не жениться? Это чудная, превосходная девушка! Правда, она очень любит спорить, но зато сердце… какое сердце! Она сейчас про вас спрашивала. Женитесь на ней, голубчик! А?
Он отлично знал, что Варя не пойдет за этого скучного курносого человека, но все-таки убеждал его жениться на ней. Зачем?
– Женитьба – шаг серьезный, – сказал Ипполит Ипполитыч, подумав. – Надо обсудить все, взвесить, а так нельзя. Благоразумие никогда не мешает, а в особенности в женитьбе, когда человек, перестав быть холостым, начинает новую жизнь.
И он заговорил о том, что всем давно уже известно. Никитин не стал слушать его, простился и пошел к себе. Он быстро разделся и быстро лег, чтобы поскорее начать думать о своем счастии, о Манюсе, о будущем, улыбнулся и вдруг вспомнил, что он не читал еще Лессинга.
«Надо будет прочесть… – подумал он. – Впрочем, зачем мне его читать? Ну его к черту!»
И, утомленный своим счастьем, он тотчас же уснул и улыбался до самого утра.
Снился ему стук лошадиных копыт о бревенчатый пол; снилось, как из конюшни вывели сначала вороного Графа Нулина, потом белого Великана, потом сестру его Майку…
II
«В церкви было очень тесно и шумно, и раз даже кто-то вскрикнул, и протоиерей, венчавший меня и Манюсю, взглянул через очки на толпу и сказал сурово:
– Не ходите по церкви и не шумите, а стойте тихо и молитесь. Надо страх Божий иметь.
Шаферами у меня были два моих товарища, а у Мани – штабс-капитан Полянский и поручик Гернет. Архиерейский хор пел великолепно. Треск свечей, блеск, наряды, офицеры, множество веселых, довольных лиц и какой-то особенный, воздушный вид у Мани, и вся вообще обстановка и слова венчальных молитв трогали меня до слез, наполняли торжеством. Я думал: как расцвела, как поэтически красиво сложилась в последнее время моя жизнь! Два года назад я был еще студентом, жил в дешевых номерах на Неглинном, без денег, без родных и, как казалось мне тогда, без будущего. Теперь же я – учитель гимназии в одном из лучших губернских городов, обеспечен, любим, избалован. Для меня вот, думал я, собралась теперь эта толпа, для меня горят три паникадила, ревет протодьякон, стараются певчие, и для меня так молодо, изящно и радостно это молодое существо, которое немного погодя будет называться моею женой. Я вспомнил первые встречи, наши поездки за город, объяснение в любви и погоду, которая, как нарочно, все лето была дивно хороша; и то счастье, которое когда-то на Неглинном представлялось мне возможным только в романах и повестях, теперь я испытывал на самом деле, казалось, брал его руками.
После венчания все в беспорядке толпились около меня и Мани и выражали свое искреннее удовольствие, поздравляли и желали счастья. Бригадный генерал, старик лет под семьдесят, поздравил одну только Манюсю и сказал ей старческим, скрипучим голосом так громко, что пронеслось по всей церкви:
– Надеюсь, милая, и после свадьбы вы останетесь все таким же розаном.
Офицеры, директор и все учителя улыбнулись из приличия, и я тоже почувствовал на своем лице приятную неискреннюю улыбку. Милейший Ипполит Ипполитыч, учитель истории и географии, всегда говорящий то, что всем давно известно, крепко пожал мне руку и сказал с чувством:
– До сих пор вы были не женаты и жили одни, а теперь вы женаты и будете жить вдвоем.
Из церкви поехали в двухэтажный нештукатуренный дом, который я получаю теперь в приданое. Кроме этого дома, за Маней деньгами тысяч двадцать и еще какая-то Мелитоновская пустошь со сторожкой, где, как говорят, множество кур и уток, которые без надзора становятся дикими. По приезде из церкви я потягивался, развалясь у себя в новом кабинете на турецком диване, и курил; мне было мягко, удобно и уютно, как никогда в жизни, а в это время гости кричали «ура» и в передней плохая музыка играла туши и всякий вздор. Варя, сестра Мани, вбежала в кабинет с бокалом в руке и с каким-то странным, напряженным выражением, точно у нее рот был полон воды; она, по-видимому, хотела бежать дальше, но вдруг захохотала и зарыдала, и бокал со звоном покатился по полу. Мы подхватили ее под руки и увели.
– Никто не может понять! – бормотала она потом в самой дальней комнате, лежа на постели у кормилицы. – Никто, никто! Боже мой, никто не может понять!
Но все отлично понимали, что она старше своей сестры Мани на четыре года и все еще не замужем и что плакала она не из зависти, а из грустного сознания, что время ее уходит и, быть может, даже ушло. Когда танцевали кадриль, она была уже в зале, с заплаканным, сильно напудренным лицом, и я видел, как штабс-капитан Полянский держал перед ней блюдечко с мороженым, а она кушала ложечкой…
Уже шестой час утра. Я взялся за дневник, чтобы описать свое полное, разнообразное счастье, и думал, что напишу листов шесть и завтра прочту Мане, но, странное дело, у меня в голове все перепуталось, стало неясно, как сон, и мне припоминается резко только этот эпизод с Варей и хочется написать: бедная Варя! Вот так бы все сидел и писал: бедная Варя! Кстати же зашумели деревья: будет дождь; каркают вороны, и у моей Мани, которая только что уснула, почему-то грустное лицо».
Потом Никитин долго не трогал своего дневника. В первых числах августа начались у него переэкзаменовки и приемные экзамены, а после Успеньева дня – классные занятия. Обыкновенно в девятом часу утра он уходил на службу и уже в десятом начинал тосковать по Мане и по своем новом доме и посматривал на часы. В низших классах он заставлял кого-нибудь из мальчиков диктовать и, пока дети писали, сидел на подоконнике с закрытыми глазами и мечтал; мечтал ли он о будущем, вспоминал ли о прошлом, – все у него выходило одинаково прекрасно, похоже на сказку. В старших классах читали вслух Гоголя или прозу Пушкина, и это нагоняло на него дремоту, в воображении вырастали люди, деревья, поля, верховые лошади, и он говорил со вздохом, как бы восхищаясь автором:
– Как хорошо!
Во время большой перемены Маня присылала ему завтрак в белой, как снег, салфеточке, и он съедал его медленно, с расстановкой, чтобы продлить наслаждение, а Ипполит Ипполитыч, обыкновенно завтракавший одною только булкой, смотрел на него с уважением и с завистью и говорил что-нибудь известное вроде:
– Без пищи люди не могут существовать.
Из гимназии Никитин шел на частные уроки, и когда наконец в шестом часу возвращался домой, то чувствовал и радость и тревогу, как будто не был дома целый год. Он вбегал по лестнице, запыхавшись, находил Маню, обнимал ее, целовал и клялся, что любит ее, жить без нее не может, уверял, что страшно соскучился, и со страхом спрашивал ее, здорова ли она и отчего у нее такое невеселое лицо. Потом вдвоем обедали. После обеда он ложился в кабинете на диван и курил, а она садилась возле и рассказывала вполголоса.
Самыми счастливыми днями у него были теперь воскресенья и праздники, когда он с утра до вечера оставался дома. В эти дни он принимал участие в наивной, но необыкновенно приятной жизни, напоминавшей ему пастушеские идиллии. Он не переставая наблюдал, как его разумная и положительная Маня устраивала гнездо, и сам тоже, желая показать, что он не лишний в доме, делал что-нибудь бесполезное, например, выкатывал из сарая шарабан и оглядывал его со всех сторон. Манюся завела от трех коров настоящее молочное хозяйство, и у нее в погребе и на погребице было много кувшинов с молоком и горшочков со сметаной, и все это она берегла для масла. Иногда ради шутки Никитин просил у нее стакан молока; она пугалась, так как это был непорядок, но он со смехом обнимал ее и говорил:
– Ну, ну, я пошутил, золото мое! Пошутил!
Или же он посмеивался над ее педантизмом, когда она, например, найдя в шкафу завалящий, твердый, как камень, кусочек колбасы или сыру, говорила с важностью:
– Это съедят в кухне.
Он замечал ей, что такой маленький кусочек годится только в мышеловку, и она начинала горячо доказывать, что мужчины ничего не понимают в хозяйстве и что прислугу ничем не удивишь, пошли ей в кухню хоть три пуда закусок, и он соглашался и в восторге обнимал ее. То, что в ее словах было справедливо, казалось ему необыкновенным, изумительным; то же, что расходилось с его убеждениями, было, по его мнению, наивно и умилительно.
Иногда на него находил философский стих, и он начинал рассуждать на какую-нибудь отвлеченную тему, а она слушала и смотрела ему в лицо с любопытством.
– Я бесконечно счастлив с тобой, моя радость, – говорил он, перебирая ей пальчики или распуская и опять заплетая ей косу. – Но на это свое счастье я не смотрю как на нечто такое, что свалилось на меня случайно, точно с неба. Это счастье – явление вполне естественное, последовательное, логически верное. Я верю в то, что человек есть творец своего счастья, и теперь я беру именно то, что я сам создал. Да, говорю без жеманства, это счастье создал я сам и владею им по праву. Тебе известно мое прошлое. Сиротство, бедность, несчастное детство, тоскливая юность – все это борьба, это путь, который я прокладывал к счастью…
В октябре гимназия понесла тяжелую потерю: Ипполит Ипполитыч заболел рожей головы и скончался. Два последних дня перед смертью он был в бессознательном состоянии и бредил, но и в бреду говорил только то, что всем известно:
– Волга впадает в Каспийское море… Лошади кушают овес и сено…
В тот день, когда его хоронили, учения в гимназии не было. Товарищи и ученики несли крышку и гроб, и гимназический хор всю дорогу до кладбища пел «Святый Боже». В процессии участвовали три священника, два дьякона, вся мужская гимназия и архиерейский хор в парадных кафтанах. И, глядя на торжественные похороны, встречные прохожие крестились и говорили:
– Дай бог всякому так помереть.
Вернувшись с кладбища домой, растроганный Никитин отыскал в столе свой дневник и написал:
«Сейчас опустили в могилу Ипполита Ипполитовича Рыжицкого.
Мир праху твоему, скромный труженик! Маня, Варя и все женщины, бывшие на похоронах, искренно плакали, быть может оттого, что знали, что этого неинтересного, забитого человека не любила никогда ни одна женщина. Я хотел сказать на могиле товарища теплое слово, но меня предупредили, что это может не понравиться директору, так как он не любил покойного. После свадьбы это, кажется, первый день, когда у меня не легко на душе…»
Затем во весь учебный сезон не было никаких особенных событий.
Зима была вялая, без морозов, с мокрым снегом; под Крещенье, например, всю ночь ветер жалобно выл по-осеннему и текло с крыш, а утром во время водосвятия полиция не пускала никого на реку, так как, говорили, лед надулся и потемнел. Но, несмотря на дурную погоду, Никитину жилось так же счастливо, как и летом. Даже еще прибавилось одно лишнее развлечение: он научился играть в винт. Только одно иногда волновало и сердило его и, казалось, мешало ему быть вполне счастливым: это кошки и собаки, которых он получил в приданое. В комнатах всегда, особенно по утрам, пахло, как в зверинце, и этого запаха ничем нельзя было заглушить; кошки часто дрались с собаками. Злую Мушку кормили по десяти раз в день, она по-прежнему не признавала Никитина и ворчала на него:
«Ррр… нга-нга-нга…»
Как-то Великим постом в полночь возвращался он домой из клуба, где играл в карты. Шел дождь, было темно и грязно. Никитин чувствовал на душе неприятный осадок и никак не мог понять, отчего это: оттого ли, что он проиграл в клубе двенадцать рублей, или оттого, что один из партнеров, когда расплачивались, сказал, что у Никитина куры денег не клюют, очевидно, намекая на приданое? Двенадцати рублей было не жалко, и слова партнера не содержали в себе ничего обидного, но все-таки было неприятно. Даже домой не хотелось.
– Фуй, как нехорошо! – проговорил он, останавливаясь около фонаря.
Ему пришло в голову, что двенадцати рублей ему оттого не жалко, что они достались ему даром. Вот если бы он был работником, то знал бы цену каждой копейке и не был бы равнодушен к выигрышу и проигрышу. Да и все счастье, рассуждал он, досталось ему даром, понапрасну и, в сущности, было для него такою же роскошью, как лекарство для здорового; если бы он, подобно громадному большинству людей, был угнетен заботой о куске хлеба, боролся за существование, если бы у него болели спина и грудь от работы, то ужин, теплая уютная квартира и семейное счастье были бы потребностью, наградой и украшением его жизни: теперь же все это имело какое-то странное, неопределенное значение.
– Фуй, как нехорошо! – повторил он, отлично понимая, что эти рассуждения сами по себе уже дурной знак.
Когда он пришел домой, Маня была в постели. Она ровно дышала и улыбалась и, по-видимому, спала с большим удовольствием. Возле нее, свернувшись клубочком, лежал белый кот и мурлыкал. Пока Никитин зажигал свечу и закуривал, Маня проснулась и с жадностью выпила стакан воды.
– Мармеладу наелась, – сказала она и засмеялась. – Ты у наших был? – спросила она, помолчав.
– Нет, не был.
Никитин уже знал, что штабс-капитан Полянский, на которого в последнее время сильно рассчитывала Варя, получил перевод в одну из западных губерний и уже делал в городе прощальные визиты, и поэтому в доме тестя было скучно.
– Вечером заходила Варя, – сказала Маня, садясь. – Она ничего не говорила, но по лицу видно, как ей тяжело, бедняжке. Терпеть не могу Полянского. Толстый, обрюзг, а когда ходит или танцует, щеки трясутся… Не моего романа. Но все-таки я считала его порядочным человеком.
– Я и теперь считаю его порядочным.
– А зачем он так дурно поступил с Варей?
– Почему же дурно? – спросил Никитин, начиная чувствовать раздражение против белого кота, который потягивался, выгнув спину. – Насколько мне известно, он предложения не делал и обещаний никаких не давал.
– А зачем он часто бывал в доме? Если не намерен жениться, то не ходи.
Никитин потушил свечу и лег. Но не хотелось ни спать, ни лежать. Ему казалось, что голова у него громадная и пустая, как амбар, и что в ней бродят новые, какие-то особенные мысли в виде длинных теней. Он думал о том, что, кроме мягкого лампадного света, улыбающегося тихому семейному счастью, кроме этого мирка, в котором так спокойно и сладко живется ему и вот этому коту, есть ведь еще другой мир… И ему страстно, до тоски вдруг захотелось в этот другой мир, чтобы самому работать где-нибудь на заводе или в большой мастерской, говорить с кафедры, сочинять, печатать, шуметь, утомляться, страдать… Ему захотелось чего-нибудь такого, что захватило бы его до забвения самого себя, до равнодушия к личному счастью, ощущения которого так однообразны. И в воображении вдруг, как живой, вырос бритый Шебалдин и проговорил с ужасом:
«Вы не читали даже Лессинга! Как вы отстали! Боже, как вы опустились!»
Маня опять стала пить воду. Он взглянул на ее шею, полные плечи и грудь и вспомнил слово, которое когда-то в церкви сказал бригадный генерал: розан.
– Розан, – пробормотал он и засмеялся.
В ответ ему под кроватью заворчала сонная Мушка:
«Ррр… нга-нга-нга…»
Тяжелая злоба, точно холодный молоток, повернулась в его душе, и ему захотелось сказать Мане что-нибудь грубое и даже вскочить и ударить ее. Началось сердцебиение.
– Так, значит, – спросил он, сдерживая себя, – если я ходил к вам в дом, то непременно должен был жениться на тебе?
– Конечно. Ты сам это отлично понимаешь.
– Мило.
И через минуту опять повторил:
– Мило.
Чтобы не сказать лишнего и успокоить сердце, Никитин пошел к себе в кабинет и лег на диван без подушки, потом полежал на полу, на ковре.
«Какой вздор! – успокаивал он себя. – Ты – педагог, работаешь на благороднейшем поприще… Какого же тебе еще нужно другого мира? Что за чепуха!»
Но тотчас же он с уверенностью говорил себе, что он вовсе не педагог, а чиновник, такой же бездарный и безличный, как чех, преподаватель греческого языка; никогда у него не было призвания к учительской деятельности, с педагогией он знаком не был и ею никогда не интересовался, обращаться с детьми не умеет; значение того, что он преподавал, было ему неизвестно, и, быть может, даже он учил тому, что не нужно. Покойный Ипполит Ипполитыч был откровенно туп, и все товарищи и ученики знали, кто он и чего можно ждать от него; он же, Никитин, подобно чеху, умеет скрывать свою тупость и ловко обманывает всех, делая вид, что у него, слава богу, все идет хорошо. Эти новые мысли пугали Никитина, он отказывался от них, называл их глупыми и верил, что все это от нервов, что сам же он будет смеяться над собой…
И в самом деле, под утро он уже смеялся над своею нервностью и называл себя бабой, но для него уже было ясно, что покой потерян, вероятно, навсегда и что в двухэтажном нештукатуренном доме счастье для него уже невозможно. Он догадывался, что иллюзия иссякла и уже начиналась новая, нервная, сознательная жизнь, которая не в ладу с покоем и личным счастьем.
На другой день, в воскресенье, он был в гимназической церкви и виделся там с директором и товарищами. Ему казалось, что все они были заняты только тем, что тщательно скрывали свое невежество и недовольство жизнью, и сам он, чтобы не выдать им своего беспокойства, приятно улыбался и говорил о пустяках. Потом он ходил на вокзал и видел там, как пришел и ушел почтовый поезд, и ему приятно было, что он один и что ему не нужно ни с кем разговаривать.
Дома застал он тестя и Варю, которые пришли к нему обедать. Варя была с заплаканными глазами и жаловалась на головную боль, а Шелестов ел очень много и говорил о том, как теперешние молодые люди ненадежны и как мало в них джентльменства.
– Это хамство! – говорил он. – Так я ему прямо и скажу: это хамство, милостивый государь!
Никитин приятно улыбался и помогал Мане угощать гостей, но после обеда пошел к себе в кабинет и заперся.
Мартовское солнце светило ярко, и сквозь оконные стекла падали на стол горячие лучи. Было еще только двадцатое число, но уже ездили на колесах, и в саду шумели скворцы. Похоже было на то, что сейчас вот войдет Манюся, обнимет одною рукой за шею и скажет, что подали к крыльцу верховых лошадей или шарабан, и спросит, что ей надеть, чтобы не озябнуть. Начиналась весна, такая же чудесная, как и в прошлом году, и обещала те же радости… Но Никитин думал о том, что хорошо бы взять теперь отпуск и уехать в Москву и остановиться там на Неглинном в знакомых номерах. В соседней комнате пили кофе и говорили о штабс-капитане Полянском, а он старался не слушать и писал в своем дневнике: «Где я, боже мой?! Меня окружает пошлость и пошлость. Скучные, ничтожные люди, горшочки со сметаной, кувшины с молоком, тараканы, глупые женщины… Нет ничего страшнее, оскорбительнее, тоскливее пошлости. Бежать отсюда, бежать сегодня же, иначе я сойду с ума!»
1894Анна на шее
I
После венчания не было даже легкой закуски; молодые выпили по бокалу, переоделись и поехали на вокзал. Вместо веселого свадебного бала и ужина, вместо музыки и танцев – поездка на богомолье за двести верст. Многие одобряли это, говоря, что Модест Алексеич уже в чинах и не молод и шумная свадьба могла бы, пожалуй, показаться не совсем приличной; да и скучно слушать музыку, когда чиновник пятидесяти двух лет женится на девушке, которой едва минуло восемнадцать. Говорили также, что эту поездку в монастырь Модест Алексеич, как человек с правилами, затеял, собственно, для того, чтобы дать понять своей молодой жене, что и в браке он отдает первое место религии и нравственности.
Молодых провожали. Толпа сослуживцев и родных стояла с бокалами и ждала, когда пойдет поезд, чтобы крикнуть «ура», и Петр Леонтьич, отец, в цилиндре, в учительском фраке, уже пьяный и уже очень бледный, все тянулся к окну со своим бокалом и говорил умоляюще:
– Анюта! Аня! Аня, на одно слово!
Аня наклонялась к нему из окна, и он шептал ей что-то, обдавая ее запахом винного перегара, дул в ухо, – ничего нельзя было понять, – и крестил ей лицо, грудь, руки; при этом дыхание у него дрожало и на глазах блестели слезы. А братья Ани, Петя и Андрюша, гимназисты, дергали его сзади за фрак и шептали сконфуженно:
– Папочка, будет… Папочка, не надо…
Когда поезд тронулся, Аня видела, как ее отец побежал немножко за вагоном, пошатываясь и расплескивая свое вино, и какое у него было жалкое, доброе, виноватое лицо.
– Ура-а-а! – кричал он.
Молодые остались одни. Модест Алексеич осмотрелся в купе, разложил вещи по полкам и сел против своей молодой жены, улыбаясь. Это был чиновник среднего роста, довольно полный, пухлый, очень сытый, с длинными бакенами и без усов, и его бритый, круглый, резко очерченный подбородок походил на пятку. Самое характерное в его лице было отсутствие усов, это свежевыбритое, голое место, которое постепенно переходило в жирные, дрожащие, как желе, щеки. Держался он солидно, движения у него были не быстрые, манеры мягкие.
– Не могу не припомнить теперь одного обстоятельства, – сказал он, улыбаясь. – Пять лет назад, когда Косоротов получил орден святыя Анны второй степени и пришел благодарить, то его сиятельство выразился так: «Значит, у вас теперь три Анны: одна в петлице, две на шее». А надо сказать, что в то время к Косоротову только что вернулась его жена, особа сварливая и легкомысленная, которую звали Анной. Надеюсь, что когда я получу Анну второй степени, то его сиятельство не будет иметь повода сказать мне то же самое.
Он улыбался своими маленькими глазками. И она тоже улыбалась, волнуясь от мысли, что этот человек может каждую минуту поцеловать ее своими полными, влажными губами и что она уже не имеет права отказать ему в этом. Мягкие движения его пухлого тела пугали ее, ей было и страшно и гадко. Он встал, не спеша снял с шеи орден, снял фрак и жилет и надел халат.
– Вот так, – сказал он, садясь рядом с Аней.
Она вспоминала, как мучительно было венчание, когда казалось ей, что и священник, и гости, и все в церкви глядели на нее печально: зачем, зачем она, такая милая, хорошая, выходит за этого пожилого, неинтересного господина? Еще утром сегодня она была в восторге, что все так хорошо устроилось, во время же венчания и теперь в вагоне чувствовала себя виноватой, обманутой и смешной. Вот она вышла за богатого, а денег у нее все-таки не было, венчальное платье шили в долг, и, когда сегодня ее провожали отец и братья, она по их лицам видела, что у них не было ни копейки. Будут ли они сегодня ужинать? А завтра? И ей почему-то казалось, что отец и мальчики сидят теперь без нее голодные и испытывают точно такую же тоску, какая была в первый вечер после похорон матери.
«О, как я несчастна! – думала она. – Зачем я так несчастна?»
С неловкостью человека солидного, не привыкшего обращаться с женщинами, Модест Алексеич трогал ее за талию и похлопывал по плечу, а она думала о деньгах, о матери, об ее смерти. Когда умерла мать, отец Петр Леонтьич, учитель чистописания и рисования в гимназии, запил, наступила нужда; у мальчиков не было сапог и калош, отца таскали к мировому, приходил судебный пристав и описывал мебель… Какой стыд! Аня должна была ухаживать за пьяным отцом, штопать братьям чулки, ходить на рынок, и, когда хвалили ее красоту, молодость и изящные манеры, ей казалось, что весь свет видит ее дешевую шляпку и дырочки на ботинках, замазанные чернилами. А по ночам слезы и неотвязчивая, беспокойная мысль, что скоро-скоро отца уволят из гимназии за слабость и что он не перенесет этого и тоже умрет, как мать. Но вот знакомые дамы засуетились и стали искать для Ани хорошего человека. Скоро нашелся вот этот самый Модест Алексеич, не молодой и не красивый, но с деньгами. У него в банке тысяч сто и есть родовое имение, которое он отдает в аренду. Это человек с правилами и на хорошем счету у его сиятельства; ему ничего не стоит, как говорили Ане, взять у его сиятельства записочку к директору гимназии и даже к попечителю, чтобы Петра Леонтьича не увольняли…
Пока она вспоминала эти подробности, послышалась вдруг музыка, ворвавшаяся в окно вместе с шумом голосов. Это поезд остановился на полустанке. За платформой в толпе бойко играли на гармонике и на дешевой визгливой скрипке, а из-за высоких берез и тополей, из-за дач, залитых лунным светом, доносились звуки военного оркестра: должно быть, на дачах был танцевальный вечер. На платформе гуляли дачники и горожане, приезжавшие сюда в хорошую погоду подышать чистым воздухом. Был тут и Артынов, владелец всего этого дачного места, богач, высокий, полный брюнет, похожий лицом на армянина, с глазами навыкате и в странном костюме. На нем была рубаха, расстегнутая на груди, и высокие сапоги со шпорами, и с плеч спускался черный плащ, тащившийся по земле, как шлейф. За ним, опустив свои острые морды, ходили две борзые.
У Ани еще блестели на глазах слезы, но она уже не помнила ни о матери, ни о деньгах, ни о своей свадьбе, а пожимала руки знакомым гимназистам и офицерам, весело смеялась и говорила быстро:
– Здравствуйте! Как поживаете?
Она вышла на площадку, под лунный свет, и стала так, чтобы видели ее всю в новом великолепном платье и в шляпке.
– Зачем мы здесь стоим? – спросила она.
– Здесь разъезд, – ответили ей, – ожидают почтового поезда.
Заметив, что на нее смотрит Артынов, она кокетливо прищурила глаза и заговорила громко по-французски, и оттого, что ее собственный голос звучал так прекрасно и что слышалась музыка и луна отражалась в пруде, и оттого, что на нее жадно и с любопытством смотрел Артынов, этот известный донжуан и баловник, и оттого, что всем было весело, она вдруг почувствовала радость, и, когда поезд тронулся и знакомые офицеры на прощанье сделали ей под козырек, она уже напевала польку, звуки которой посылал ей вдогонку военный оркестр, гремевший где-то там за деревьями; и вернулась она в свое купе с таким чувством, как будто на полустанке ее убедили, что она будет счастлива непременно, несмотря ни на что.
Молодые пробыли в монастыре два дня, потом вернулись в город. Жили они на казенной квартире. Когда Модест Алексеич уходил на службу, Аня играла на рояле, или плакала от скуки, или ложилась на кушетку и читала романы и рассматривала модный журнал. За обедом Модест Алексеич ел очень много и говорил о политике, о назначениях, переводах и наградах, о том, что надо трудиться, что семейная жизнь есть не удовольствие, а долг, что копейка рубль бережет и что выше всего на свете он ставит религию и нравственность. И, держа нож в кулаке, как меч, он говорил:
– Каждый человек должен иметь свои обязанности!
А Аня слушала его, боялась и не могла есть и обыкновенно вставала из-за стола голодной. После обеда муж отдыхал и громко храпел, а она уходила к своим. Отец и мальчики посматривали на нее как-то особенно, как будто только что до ее прихода осуждали ее за то, что она вышла из-за денег, за нелюбимого, нудного, скучного человека; ее шуршащее платье, браслетки и вообще дамский вид стесняли, оскорбляли их; в ее присутствии они немножко конфузились и не знали, о чем говорить с ней; но все же любили они ее по-прежнему и еще не привыкли обедать без нее. Она садилась и кушала с ними щи, кашу и картошку, жаренную на бараньем сале, от которого пахло свечкой. Петр Леонтьич дрожащей рукой наливал из графинчика и выпивал быстро, с жадностью, с отвращением, потом выпивал другую рюмку, потом третью… Петя и Андрюша, худенькие, бледные мальчики с большими глазами, брали графинчик и говорили растерянно:
– Не надо, папочка… Довольно, папочка…
И Аня тоже тревожилась и умоляла его больше не пить, а он вдруг вспыхивал и стучал кулаком по столу.
– Я никому не позволю надзирать за мной! – кричал он. – Мальчишки! Девчонка! Я вас всех выгоню вон!
Но в голосе его слышались слабость, доброта, и никто его не боялся. После обеда обыкновенно он наряжался; бледный, с порезанным от бритья подбородком, вытягивая тощую шею, он целых полчаса стоял перед зеркалом и прихорашивался, то причесываясь, то закручивая свои черные усы, прыскался духами, завязывал бантом галстук, потом надевал перчатки, цилиндр и уходил на частные уроки. А если был праздник, то он оставался дома и писал красками или играл на фисгармонии, которая шипела и рычала; он старался выдавить из нее стройные, гармоничные звуки и подпевал или же сердился на мальчиков:
– Мерзавцы! Негодяи! Испортили инструмент!
По вечерам муж Ани играл в карты со своими сослуживцами, жившими с ним под одной крышей в казенном доме. Сходились во время карт жены чиновников, некрасивые, безвкусно наряженные, грубые, как кухарки, и в квартире начинались сплетни, такие же некрасивые и безвкусные, как сами чиновницы. Случалось, что Модест Алексеич ходил с Аней в театр. В антрактах он не отпускал ее от себя ни на шаг, а ходил с ней под руку по коридорам и по фойе. Раскланявшись с кем-нибудь, он тотчас уже шептал Лис: «Статский советник… принят у его сиятельства…», или: «Со средствами… имеет свой дом…» Когда проходили мимо буфета, Ане очень хотелось чего-нибудь сладкого; она любила шоколад и яблочное пирожное, но денег у нее не было, а спросить у мужа она стеснялась. Он брал грушу, мял ее пальцами и спрашивал нерешительно:
– Сколько стоит?
– Двадцать пять копеек.
– Однако! – говорил он и клал грушу на место; но так как было неловко отойти от буфета, ничего не купивши, то он требовал сельтерской воды и выпивал один всю бутылку, и слезы выступали у него на глазах, и Аня ненавидела его в это время.
Или он, вдруг весь покраснев, говорил ей быстро:
– Поклонись этой старой даме!
– Но я с ней незнакома.
– Все равно. Это супруга управляющего казенной палатой! Поклонись же, тебе говорю! – ворчал он настойчиво. – Голова у тебя не отвалится.
Аня кланялась, и голова у нее в самом деле не отваливалась, но было мучительно. Она делала все, что хотел муж, и злилась на себя за то, что он обманул ее, как последнюю дурочку. Выходила она за него только из-за денег, а между тем денег у нее теперь было меньше, чем до замужества. Прежде хоть отец давал двугривенные, а теперь – ни гроша. Брать тайно или просить она не могла, она боялась мужа, трепетала его. Ей казалось, что страх к этому человеку она носит в своей душе уже давно. Когда-то в детстве самой внушительной и страшной силой, надвигающейся как туча или локомотив, готовый задавить, ей всегда представлялся директор гимназии; другой такою же силой, о которой в семье всегда говорили и которую почему-то боялись, был его сиятельство; и был еще десяток сил помельче, и между ними учителя гимназии с бритыми усами, строгие, неумолимые, и теперь вот, наконец, Модест Алексеич, человек с правилами, который даже лицом походил на директора. И в воображении Ани все эти силы сливались в одно и в виде одного страшного, громадного белого медведя надвигались на слабых и виноватых, таких, как ее отец, и она боялась сказать что-нибудь против, и натянуто улыбалась, и выражала притворное удовольствие, когда ее грубо ласкали и оскверняли объятиями, наводившими на нее ужас.
Только один раз Петр Леонтьич осмелился попросить у него пятьдесят рублей взаймы, чтобы заплатить какой-то очень неприятный долг, но какое это было страдание!
– Хорошо, я вам дам, – сказал Модест Алексеич, подумав, – но предупреждаю, что больше уже не буду помогать вам, пока вы не бросите пить. Для человека, состоящего на государственной службе, постыдна такая слабость. Не могу не напомнить вам общеизвестного факта, что многих способных людей погубила эта страсть, между тем как при воздержании они, быть может, могли бы со временем сделаться высокопоставлен-ными людьми.
И потянулись длинные периоды: «по мере того…», «исходя из того положения…», «ввиду только что сказанного», а бедный Петр Леонтьич страдал от унижения и испытывал сильное желание выпить.
И мальчики, приходившие к Ане в гости, обыкновенно в рваных сапогах и в поношенных брюках, тоже должны были выслушивать наставления.
– Каждый человек должен иметь свои обязанности! – говорил им Модест Алексеич.
А денег не давал. Но зато он дарил Ане кольца, браслеты и броши, говоря, что эти вещи хорошо иметь про черный день. И часто он отпирал ее комод и делал ревизию: все ли вещи целы.
II
Наступила между тем зима. Еще задолго до рождества в местной газете было объявлено, что 29 декабря в дворянском собрании «имеет быть» обычный зимний бал. Каждый вечер, после карт, Модест Алексеич, взволнованный, шептался с чиновницами, озабоченно поглядывая на Аню, и потом долго ходил из угла в угол, о чем-то думая. Наконец, как-то поздно вечером, он остановился перед Аней и сказал:
– Ты должна сшить себе бальное платье. Понимаешь? Только, пожалуйста, посоветуйся с Марьей Григорьевной и с Натальей Кузьминишной.
И дал ей сто рублей. Она взяла; но, заказывая бальное платье, ни с кем не советовалась, а поговорила только с отцом и постаралась вообразить себе, как бы оделась на бал ее мать. Ее покойная мать сама одевалась всегда по последней моде и всегда возилась с Аней и одевала ее изящно, как куклу, и научила ее говорить по-французски и превосходно танцевать мазурку (до замужества она пять лет прослужила в гувернантках). Аня так же, как мать, могла из старого платья сделать новое, мыть в бензине перчатки, брать напрокат bijoux[23] и так же, как мать, умела щурить глаза, картавить, принимать красивые позы, приходить, когда нужно, в восторг, глядеть печально и загадочно. А от отца она унаследовала темный цвет волос и глаз, нервность и эту манеру всегда прихорашиваться.
Когда за полчаса до отъезда на бал Модест Алексеич вошел к ней без сюртука, чтобы перед ее трюмо надеть себе на шею орден, то, очарованный ее красотой и блеском ее свежего, воздушного наряда, самодовольно расчесал себе бакены и сказал:
– Вот ты у меня какая… вот ты какая! Анюта! – продолжал он, вдруг впадая в торжественный тон. – Я тебя осчастливил, а сегодня ты можешь осчастливить меня. Прошу тебя, представься супруге его сиятельства! Ради бога! Через нее я могу получить старшего докладчика!
Поехали на бал. Вот и дворянское собрание, и подъезд со швейцаром. Передняя с вешалками, шубы, снующие лакеи и декольтированные дамы, закрывающиеся веерами от сквозного ветра; пахнет светильным газом и солдатами. Когда Аня, идя вверх по лестнице под руку с мужем, услышала музыку и увидала в громадном зеркале всю себя, освещенную множеством огней, то в душе ее проснулась радость и то самое предчувствие счастья, какое испытала она в лунный вечер на полустанке. Она шла гордая, самоуверенная, в первый раз чувствуя себя не девочкой, а дамой, и невольно походкою и манерами подражая своей покойной матери. И в первый раз в жизни она чувствовала себя богатой и свободной. Даже присутствие мужа не стесняло ее, так как, перейдя порог собрания, она уже угадала инстинктом, что близость старого мужа нисколько не унижает ее, а, наоборот, кладет на нее печать пикантной таинственности, которая так нравится мужчинам. В большой зале уже гремел оркестр и начались танцы. После казенной квартиры, охваченная впечатлениями света, пестроты, музыки, шума, Аня окинула взглядом залу и подумала: «Ах, как хорошо!» – и сразу отличила в толпе всех своих знакомых, всех, кого она раньше встречала на вечерах или на гуляньях, всех этих офицеров, учителей, адвокатов, чиновников, помещиков, его сиятельство, Артынова и дам высшего общества, разодетых, сильно декольтированных, красивых и безобразных, которые уже занимали свои позиции в избушках и павильонах благотворительного базара, чтобы начать торговлю в пользу бедных. Громадный офицер в эполетах – она познакомилась с ним на Старо-Киевской улице, когда была гимназисткой, а теперь не помнила его фамилии, – точно из-под земли вырос и пригласил на вальс, и она отлетела от мужа, и ей уж казалось, будто она плыла на парусной лодке, в сильную бурю, а муж остался далеко на берегу… Она танцевала страстно, с увлечением и вальс, и польку, и кадриль, переходя с рук на руки, угорая от музыки и шума, мешая русский язык с французским, картавя, смеясь и не думая ни о муже, ни о ком и ни о чем. Она имела успех у мужчин, это было ясно, да иначе и быть не могло, она задыхалась от волнения, судорожно тискала в руках веер и хотела пить. Отец Петр Леонтьич, в помятом фраке, от которого пахло бензином, подошел к ней, протягивая блюдечко с красным мороженым.
– Ты очаровательна сегодня, – говорил он, глядя на нее с восторгом, – и никогда еще я так не жалел, что ты поспешила замуж… Зачем? Я знаю, ты сделала это ради нас, но… – Он дрожащими руками вытащил пачечку денег и сказал: – Я сегодня получил с урока и могу отдать долг твоему мужу.
Она сунула ему в руки блюдечко и, подхваченная кем-то, унеслась далеко и мельком, через плечо своего кавалера, видела, как отец, скользя по паркету, обнял даму и понесся с ней по зале.
«Как он мил, когда трезв!» – думала она.
Мазурку она танцевала с тем же громадным офицером; он важно и тяжело, словно туша в мундире, ходил, поводил плечами и грудью, притоптывал ногами еле-еле – ему страшно не хотелось танцевать, а она порхала около, дразня его своей красотой, своей открытой шеей; глаза ее горели задором, движения были страстные, а он становился все равнодушнее и протягивал к ней руки милостиво, как король.
– Браво, браво!.. – говорили в публике.
Но мало-помалу и громадного офицера прорвало; он оживился, заволновался и, уже поддавшись очарованию, вошел в азарт и двигался легко, молодо, а она только поводила плечами и глядела лукаво, точно она уже была королева, а он раб, и в это время ей казалось, что на них смотрит вся зала, что все эти люди млеют и завидуют им. Едва громадный офицер успел поблагодарить ее, как публика вдруг расступилась и мужчины вытянулись как-то странно, опустив руки… Это шел к ней его сиятельство, во фраке с двумя звездами. Да, его сиятельство шел именно к ней, потому что глядел прямо на нее в упор и слащаво улыбался и при этом жевал губами, что делал он всегда, когда видел хорошеньких женщин.
– Очень рад, очень рад… – начал он. – А я прикажу посадить вашего мужа на гауптвахту за то, что он до сих пор скрывал от нас такое сокровище. Я к вам с поручением от жены, – продолжал он, подавая ей руку. – Вы должны помочь нам… М-да… Нужно назначить вам премию за красоту… как в Америке… М-да… Американцы… Моя жена ждет вас с нетерпением.
Он привел ее в избушку, к пожилой даме, у которой нижняя часть лица была несоразмерно велика, так что казалось, будто она во рту держала большой камень.
– Помогите нам, – сказала она в нос, нараспев. – Все хорошенькие женщины работают на благотворительном базаре, и только одна вы почему-то гуляете. Отчего вы не хотите нам помочь?
Она ушла, и Аня заняла ее место около серебряного самовара с чашками. Тотчас же началась бойкая торговля. За чашку чаю Аня брала не меньше рубля, а громадного офицера заставила выпить три чашки. Подошел Артынов, богач, с выпуклыми глазами, страдающий одышкой, но уже не в том странном костюме, в каком видела его Аня летом, а во фраке, как все. Не отрывая глаз с Ани, он выпил бокал шампанского и заплатил сто рублей, потом выпил чаю и дал еще сто – и все это молча, страдая астмой… Аня зазывала покупателей и брала с них деньги, уже глубоко убежденная, что ее улыбки и взгляды не доставляют этим людям ничего, кроме большого удовольствия. Она уже поняла, что она создана исключительно для этой шумной, блестящей, смеющейся жизни с музыкой, танцами, поклонниками, и давнишний страх ее перед силой, которая надвигается и грозит задавить, казался ей смешным; никого она уже не боялась и только жалела, что нет матери, которая порадовалась бы теперь вместе с ней ее успехам.
Петр Леонтьич, уже бледный, но еще крепко держась на ногах, подошел к избушке и попросил рюмку коньяку. Аня покраснела, ожидая, что он скажет что-нибудь неподобающее (ей уже было стыдно, что у нее такой бедный, такой обыкновенный отец), но он выпил, выбросил из своей пачечки десять рублей и важно отошел, не сказав ни слова. Немного погодя она видела, как он шел в паре в grand rond, и в этот раз он уже пошатывался и что-то выкрикивал, к великому конфузу своей дамы, и Аня вспомнила, как года три назад на балу он так же вот пошатывался и выкрикивал – и кончилось тем, что околоточный увез его домой спать, а на другой день директор грозил уволить со службы. Как некстати было это воспоминание!
Когда в избушках потухли самовары и утомленные благотворительницы сдали выручку пожилой даме с камнем во рту, Артынов повел Аню под руку в залу, где был сервирован ужин для всех участвовавших в благотворительном базаре. Ужинало человек двадцать, не больше, но было очень шумно. Его сиятельство провозгласил тост: «В этой роскошной столовой будет уместно выпить за процветание дешевых столовых, служивших предметом сегодняшнего базара». Бригадный генерал предложил выпить «за силу, перед которой пасует даже артиллерия», и все потянулись чокаться с дамами. Было очень, очень весело!
Когда Аню провожали домой, то уже светало и кухарки шли на рынок. Радостная, пьяная, полная новых впечатлений, замученная, она разделась, повалилась в постель и тотчас же уснула…
Во втором часу дня ее разбудила горничная и доложила, что приехал господин Артынов с визитом. Она быстро оделась и пошла в гостиную. Вскоре после Артынова приезжал его сиятельство благодарить за участие в благотворительном базаре. Он, глядя на нее слащаво и жуя, поцеловал ей ручку и попросил позволения бывать еще и уехал, а она стояла среди гостиной, изумленная, очарованная, не веря, что перемена в ее жизни, удивительная перемена, произошла так скоро; и в это самое время вошел ее муж, Модест Алексеич… И перед ней также стоял он теперь с тем же заискивающим, сладким, холопски-почтительным выражением, какое она привыкла видеть у него в присутствии сильных и знатных; и с восторгом, с негодованием, с презрением, уже уверенная, что ей за это ничего не будет, она сказала, отчетливо выговаривая каждое слово:
– Подите прочь, болван!
После этого у Ани не было уже ни одного свободного дня, так как она принимала участие то в пикнике, то в прогулке, то в спектакле. Возвращалась она домой каждый день под утро и ложилась в гостиной на полу, и потом рассказывала всем трогательно, как она спит под цветами. Денег нужно было очень много, но она уже не боялась Модеста Алексеича и тратила его деньги, как свои; и она не просила, не требовала, а только посылала ему счета или записки: «выдать подателю сего 200 р.» или: «немедленно уплатить 100 р.».
На Пасхе Модест Алексеич получил Анну второй степени. Когда он пришел благодарить, его сиятельство отложил в сторону газету и сел поглубже в кресло.
– Значит, у вас теперь три Анны, – сказал он, осматривая свои белые руки с розовыми ногтями, – одна в петлице, две на шее.
Модест Алексеич приложил два пальца к губам из осторожности, чтобы не рассмеяться громко, и сказал:
– Теперь остается ожидать появления на свет маленького Владимира. Осмелюсь просить ваше сиятельство в восприемники.
Он намекал на Владимира IV степени и уже воображал, как он будет всюду рассказывать об этом своем каламбуре, удачном по находчивости и смелости, и хотел сказать еще что-нибудь такое же удачное, но его сиятельство вновь углубился в газету и кивнул головой…
А Аня все каталась на тройках, ездила с Артыновым на охоту, играла в одноактных пьесах, ужинала и все реже и реже бывала у своих. Они обедали уже одни. Петр Леонтьич запивал сильнее прежнего, денег не было, и фисгармонию давно уже продали за долг. Мальчики теперь не отпускали его одного на улицу и всё следили за ним, чтобы он не упал; и когда во время катанья на Старо-Киевской им встречалась Аня на паре с пристяжной на отлете и с Артыновым на козлах вместо кучера, Петр Леонтьич снимал цилиндр и собирался что-то крикнуть, а Петя и Андрюша брали его под руки и говорили умоляюще:
– Не надо, папочка… Будет, папочка…
1895Дом с мезонином
I
Это было шесть-семь лет тому назад, когда я жил в одном из уездов Т-ой губернии, в имении помещика Белокурова, молодого человека, который вставал очень рано, ходил в поддевке, по вечерам пил пиво и все жаловался мне, что он нигде и ни в ком не встречает сочувствия. Он жил в саду во флигеле, а я в старом барском доме, в громадной зале с колоннами, где не было никакой мебели, кроме широкого дивана, на котором я спал, да еще стола, на котором я раскладывал пасьянс. Тут всегда, даже в тихую погоду, что-то гудело в старых амосовских печах, а во время грозы весь дом дрожал и, казалось, трескался на части, и было немножко страшно, особенно ночью, когда все десять больших окон вдруг освещались молнией.
Обреченный судьбой на постоянную праздность, я не делал решительно ничего. По целым часам я смотрел в свои окна на небо, на птиц, на аллеи, читал все, что привозили мне с почты, спал. Иногда я уходил из дому и до позднего вечера бродил где-нибудь.
Однажды, возвращаясь домой, я нечаянно забрел в какую-то незнакомую усадьбу. Солнце уже пряталось, и на цветущей ржи растянулись вечерние тени. Два ряда старых, тесно посаженных, очень высоких елей стояли, как две сплошные стены, образуя мрачную красивую аллею. Я легко перелез через изгородь и пошел по этой аллее, скользя по еловым иглам, которые тут на вершок покрывали землю. Было тихо, темно, и только высоко на вершинах кое-где дрожал яркий золотой свет и переливал радугой в сетях паука. Сильно, до духоты пахло хвоем. Потом я повернул на длинную липовую аллею. И тут тоже запустение и старость; прошлогодняя листва печально шелестела под ногами, и в сумерках между деревьями прятались тени. Направо, в старом фруктовом саду, нехотя, слабым голосом пела иволга, должно быть, тоже старушка. Но вот и липы кончились; я прошел мимо белого дома с террасой и с мезонином, и передо мною неожиданно развернулся вид на барский двор и на широкий пруд с купальней, с толпой зеленых ив, с деревней на том берегу, с высокой узкой колокольней, на которой горел крест, отражая в себе заходившее солнце. На миг на меня повеяло очарованием чего-то родного, очень знакомого, будто я уже видел эту самую панораму когда-то в детстве.
А у белых каменных ворот, которые вели со двора в поле, у старинных крепких ворот со львами, стояли две девушки. Одна из них, постарше, тонкая, бледная, очень красивая, с целой копной каштановых волос на голове, с маленьким упрямым ртом, имела строгое выражение и на меня едва обратила внимание; другая же, совсем еще молоденькая – ей было семнадцать-восемнадцать лет, не больше – тоже тонкая и бледная, с большим ртом и с большими глазами, с удивлением посмотрела на меня, когда я проходил мимо, cказала что-то по-английски и сконфузилась, и мне показалось, что и эти два милых лица мне давно уже знакомы. И я вернулся домой с таким чувством, как будто видел хороший сон.
Вскоре после этого, как-то в полдень, когда я и Белокуров гуляли около дома, неожиданно, шурша по траве, въехала во двор рессорная коляска, в которой сидела одна из тех девушек. Это была старшая. Она приехала с подписным листом просить на погорельцев. Не глядя на нас, она очень серьезно и обстоятельно рассказала нам, сколько сгорело домов в селе Сиянове, сколько мужчин, женщин и детей осталось без крова и что намерен предпринять на первых порах погорельческий комитет, членом которого она теперь была. Давши нам подписаться, она спрятала лист и тотчас же стала прощаться.
– Вы совсем забыли нас, Петр Петрович, – сказала она Белокурову, подавая ему руку. – Приезжайте, и если monsieur N. (она назвала мою фамилию) захочет взглянуть, как живут почитатели его таланта, и пожалует к нам, то мама и я будем очень рады.
Я поклонился.
Когда она уехала, Петр Петрович стал рассказывать. Эта девушка, по его словам, была из хорошей семьи, и звали ее Лидией Волчаниновой, а имение, в котором она жила с матерью и сестрой, так же как и село на другом берегу пруда, называлось Шелковкой. Отец ее когда-то занимал видное место в Москве и умер в чине тайного советника. Несмотря на хорошие средства, Волчаниновы жили в деревне безвыездно, лето и зиму, и Лидия была учительницей в земской школе у себя в Шелковке и получала двадцать пять рублей в месяц. Она тратила на себя только эти деньги и гордилась, что живет на собственный счет.
– Интересная семья, – сказал Белокуров. – Пожалуй, сходим к ним как-нибудь. Они будут вам очень рады.
Как-то после обеда, в один из праздников, мы вспомнили про Волчаниновых и отправились к ним в Шелковку. Они, мать и обе дочери, были дома. Мать, Екатерина Павловна, когда-то, по-видимому, красивая, теперь же сырая не по летам, больная одышкой, грустная, рассеянная, старалась занять меня разговором о живописи. Узнав от дочери, что я, быть может, приеду в Шелковку, она торопливо припомнила два-три моих пейзажа, какие видела на выставках в Москве, и теперь спрашивала, что я хотел в них выразить. Лидия, или, как ее звали дома, Лида, говорила больше с Белокуровым, чем со мной. Серьезная, не улыбаясь, она спрашивала его, почему он не служит в земстве и почему до сих пор не был ни на одном земском собрании.
– Нехорошо, Петр Петрович, – говорила она укоризненно. – Нехорошо. Стыдно.
– Правда, Лида, правда, – соглашалась мать. – Нехорошо.
– Весь наш уезд находится в руках Балагина, – продолжала Лида, обращаясь ко мне. – Сам он председатель управы и все должности в уезде роздал своим племянникам и зятьям и делает что хочет. Надо бороться. Молодежь должна составить из себя сильную партию, но вы видите, какая у нас молодежь. Стыдно, Петр Петрович!
Младшая сестра, Женя, пока говорили о земстве, молчала. Она не принимала участия в серьезных разговорах, ее в семье еще не считали взрослой и, как маленькую, называли Мисюсь, потому что в детстве она называла так мисс, свою гувернантку. Все время она смотрела на меня с любопытством и, когда я осматривал в альбоме фотографии, объясняла мне: «Это дядя… Это крестный папа», – и водила пальчиком по портретам и в это время по-детски касалась меня своим плечом, и я близко видел ее слабую, неразвитую грудь, тонкие плечи, косу и худенькое тело, туго стянутое поясом.
Мы играли в крокет и lown-tennis, гуляли по саду, пили чай, потом долго ужинали. После громадной пустой залы с колоннами мне было как-то не по себе в этом небольшом уютном доме, в котором не было на стенах олеографий и прислуге говорили «вы», и все мне казалось молодым и чистым благодаря присутствию Лиды и Мисюсь, и все дышало порядочностью. За ужином Лида опять говорила с Белокуровым о земстве, о Балагине, о школьных библиотеках. Это была живая, искренняя, убежденная девушка, и слушать ее было интересно, хотя говорила она много и громко, – быть может, оттого, что привыкла говорить в школе. Зато мой Петр Петрович, у которого еще со студенчества осталась манера всякий разговор сводить на спор, говорил скучно, вяло и длинно, с явным желанием казаться умным и передовым человеком. Жестикулируя, он опрокинул рукавом соусник, и на скатерти образовалась большая лужа, но, кроме меня, казалось, никто не заметил этого.
Когда мы возвращались домой, было темно и тихо.
– Хорошее воспитание не в том, что ты не прольешь соуса на скатерть, а в том, что ты не заметишь, если это сделает кто-нибудь другой, – сказал Белокуров и вздохнул. – Да, прекрасная, интеллигентная семья. Отстал я от хороших людей, ах как отстал! А все дела, дела! Дела!
Он говорил о том, как много приходится работать, когда хочешь стать образцовым сельским хозяином. А я думал: какой это тяжелый и ленивый малый! Он, когда говорил о чем-нибудь серьезно, то с напряжением тянул «э-э-э-э» и работал так же, как говорил, – медленно, всегда опаздывая, пропуская сроки. В его деловитость я плохо верил уже потому, что письма, которые я поручал ему отправлять на почту, он по целым неделям таскал у себя в кармане.
– Тяжелее всего, – бормотал он, идя рядом со мной, – тяжелее всего, что работаешь и ни в ком не встречаешь сочувствия. Никакого сочувствия!
II
Я стал бывать у Волчаниновых. Обыкновенно я сидел на нижней ступени террасы; меня томило недовольство собой, было жаль своей жизни, которая протекала так быстро и неинтересно, и я все думал о том, как хорошо было бы вырвать из своей груди сердце, которое стало у меня таким тяжелым. А в это время на террасе говорили, слышался шорох платьев, перелистывали книгу. Я скоро привык к тому, что днем Лида принимала больных, раздавала книжки и часто уходила в деревню с непокрытой головой, под зонтиком, а вечером громко говорила о земстве, о школах. Эта тонкая, красивая, неизменно строгая девушка с маленьким, изящно очерченным ртом всякий раз, когда начинался деловой разговор, говорила мне сухо:
– Это для вас неинтересно.
Я был ей несимпатичен. Она не любила меня за то, что я пейзажист и в своих картинах не изображаю народных нужд, и что я, как ей казалось, был равнодушен к тому, во что она так крепко верила. Помнится, когда я ехал по берегу Байкала, мне встретилась девушка-бурятка в рубахе и в штанах из синей дабы, верхом на лошади; я спросил у нее, не продаст ли она мне свою трубку, и, пока мы говорили, она с презрением смотрела на мое европейское лицо и на мою шляпу, и в одну минуту ей надоело говорить со мной, она гикнула и поскакала прочь. И Лида точно так же презирала во мне чужого. Внешним образом она никак не выражала своего нерасположения ко мне, но я чувствовал его и, сидя на нижней ступени террасы, испытывал раздражение и говорил, что лечить мужиков, не будучи врачом, значит обманывать их и что легко быть благодетелем, когда имеешь две тысячи десятин.
А ее сестра, Мисюсь, не имела никаких забот и проводила свою жизнь в полной праздности, как я. Вставши утром, она тотчас же бралась за книгу и читала, сидя на террасе в глубоком кресле, так что ножки ее едва касались земли, или пряталась с книгой в липовой аллее, или шла за ворота в поле. Она читала целый день, с жадностью глядя в книгу, и только потому, что взгляд ее иногда становился усталым, ошеломленным и лицо сильно бледнело, можно было догадаться, как это чтение утомляло ее мозг. Когда я приходил, она, увидев меня, слегка краснела, оставляла книгу и с оживлением, глядя мне в лицо своими большими глазами, рассказывала о том, что случилось: например, о том, что в людской загорелась сажа или что работник поймал в пруде большую рыбу. В будни она ходила обыкновенно в светлой рубашечке и в темно-синей юбке. Мы гуляли вместе, рвали вишни для варенья, катались в лодке, и когда она прыгала, чтобы достать вишню, или работала веслами, сквозь широкие рукава просвечивали ее тонкие, слабые руки. Или я писал этюд, а она стояла возле и смотрела с восхищением.
В одно из воскресений, в конце июля, я пришел к Волчаниновым утром, часов в девять. Я ходил по парку, держась подальше от дома, и отыскивал белые грибы, которых в то лето было очень много, и ставил около них метки, чтобы потом подобрать их вместе с Женей. Дул теплый ветер. Я видел, как Женя и ее мать, обе в светлых праздничных платьях, прошли из церкви домой и Женя придерживала от ветра шляпу. Потом я слышал, как на террасе пили чай.
Для меня, человека беззаботного, ищущего оправдания для своей постоянной праздности, эти летние праздничные утра в наших усадьбах всегда были необыкновенно привлекательны. Когда зеленый сад, еще влажный от росы, весь сияет от солнца и кажется счастливым, когда около дома пахнет резедой и олеандром, молодежь только что вернулась из церкви и пьет чай в саду, и когда все так мило одеты и веселы, и когда знаешь, что все эти здоровые, сытые, красивые люди весь длинный день ничего не будут делать, то хочется, чтобы вся жизнь была такою. И теперь я думал то же самое и ходил по саду, готовый ходить так без дела и без цели весь день, все лето.
Пришла Женя с корзиной; у нее было такое выражение, как будто она знала или предчувствовала, что найдет меня в саду. Мы подбирали грибы и говорили, и когда она спрашивала о чем-нибудь, то заходила вперед, чтобы видеть мое лицо.
– Вчера у нас в деревне произошло чудо, – сказала она. – Хромая Пелагея была больна целый год, никакие доктора и лекарства не помогали, а вчера старуха пошептала, и прошло.
– Это неважно, – сказал я. – Не следует искать чудес только около больных и старух. Разве здоровье не чудо? А сама жизнь? Что непонятно, то и есть чудо.
– А вам не страшно то, что непонятно?
– Нет. К явлениям, которых я не понимаю, я подхожу бодро и не подчиняюсь им. Я выше их. Человек должен сознавать себя выше львов, тигров, звезд, выше всего в природе, даже выше того, что непонятно и кажется чудесным, иначе он не человек, а мышь, которая всего боится.
Женя думала, что я, как художник, знаю очень многое и могу верно угадывать то, чего не знаю. Ей хотелось, чтобы я ввел ее в область вечного и прекрасного, в этот высший свет, в котором, по ее мнению, я был своим человеком, и она говорила со мной о Боге, о вечной жизни, о чудесном. И я, не допускавший, что я и мое воображение после смерти погибнем навеки, отвечал: «Да, люди бессмертны», «Да, нас ожидает вечная жизнь».
А она слушала, верила и не требовала доказательств.
Когда мы шли к дому, она вдруг остановилась и сказала:
– Наша Лида замечательный человек. Не правда ли? Я ее горячо люблю и могла бы каждую минуту пожертвовать для нее жизнью. Но скажите, – Женя дотронулась до моего рукава пальцем, – скажите, почему вы с ней всё спорите? Почему вы раздражены?
– Потому что она неправа.
Женя отрицательно покачала головой, и слезы показались у нее на глазах.
– Как это непонятно! – проговорила она.
В это время Лида только что вернулась откуда-то и, стоя около крыльца с хлыстом в руках, стройная, красивая, освещенная солнцем, приказывала что-то работнику. Торопясь и громко разговаривая, она приняла двух-трех больных, потом с деловым, озабоченным видом ходила по комнатам, отворяя то один шкап, то другой, уходила в мезонин; ее долго искали и звали обедать, и пришла она, когда мы уже съели суп. Все эти мелкие подробности я почему-то помню и люблю, и весь этот день живо помню, хотя не произошло ничего особенного. После обеда Женя читала, лежа в глубоком кресле, а я сидел на нижней ступени террасы. Мы молчали. Все небо заволокло облаками, и стал накрапывать редкий, мелкий дождь. Было жарко, ветер давно уже стих, и казалось, что этот день никогда не кончится. К нам на террасу вышла Екатерина Павловна, заспанная, с веером.
– О, мама, – сказала Женя, целуя у нее руку, – тебе вредно спать днем.
Они обожали друг друга. Когда одна уходила в сад, то другая уже стояла на террасе и, глядя на деревья, окликала: «Ау, Женя!», или: «Мамочка, где ты?» Они всегда вместе молились, и обе одинаково верили и хорошо понимали друг друга, даже когда молчали. И к людям они относились одинаково. Екатерина Павловна также скоро привыкла и привязалась ко мне и, когда я не появлялся два-три дня, присылала узнать, здоров ли я. На мои этюды она смотрела тоже с восхищением, и с такою же болтливостью и так же откровенно, как Мисюсь, рассказывала мне, что случилось, и часто поверяла мне свои домашние тайны.
Она благоговела перед своей старшей дочерью. Лида никогда не ласкалась, говорила только о серьезном; она жила своею особенною жизнью, и для матери и для сестры была такою же священной, немного загадочной особой, как для матросов адмирал, который все сидит у себя в каюте.
– Наша Лида замечательный человек, – говорила часто мать. – Не правда ли?
И теперь, пока накрапывал дождь, мы говорили о Лиде.
– Она замечательный человек, – сказала мать и прибавила вполголоса тоном заговорщицы, испуганно оглядываясь: – Таких днем с огнем поискать, хотя, знаете ли, я начинаю немножко беспокоиться. Школа, аптечки, книжки – все это хорошо, но зачем крайности? Ведь ей уже двадцать четвертый год, пора о себе серьезно подумать. Этак за книжками и аптечками и не увидишь, как жизнь пройдет… Замуж нужно.
Женя, бледная от чтения, с помятою прической, приподняла голову и сказала как бы про себя, глядя на мать:
– Мамочка, все зависит от воли Божией!
И опять погрузилась в чтение.
Пришел Белокуров в поддевке и в вышитой сорочке. Мы играли в крокет и lown-tennis, потом, когда потемнело, долго ужинали, и Лида опять говорила о школах и о Балагине, который забрал в свои руки весь уезд. Уходя в этот вечер от Волчаниновых, я уносил впечатление длинного-длинного, праздного дня, с грустным сознанием, что все кончается на этом свете, как бы ни было длинно. Нас до ворот провожала Женя, и оттого, быть может, что она провела со мной весь день от утра до вечера, я почувствовал, что без нее мне как будто скучно и что вся эта милая семья близка мне; и в первый раз за все лето мне захотелось писать.
– Скажите, отчего вы живете так скучно, так не колоритно? – спросил я у Белокурова, идя с ним домой. – Моя жизнь скучна, тяжела, однообразна, потому что я художник, я странный человек, я издерган с юных дней завистью, недовольством собой, неверием в свое дело, я всегда беден, я бродяга, но вы-то, вы, здоровый, нормальный человек, помещик, барин, – отчего вы живете так неинтересно, так мало берете от жизни? Отчего, например, вы до сих пор не влюбились в Лиду или Женю?
– Вы забываете, что я люблю другую женщину, – ответил Белокуров.
Это он говорил про свою подругу, Любовь Ивановну, жившую с ним вместе во флигеле. Я каждый день видел, как эта дама, очень полная, пухлая, важная, похожая на откормленную гусыню, гуляла по саду, в русском костюме с бусами, всегда под зонтиком, и прислуга то и дело звала ее то кушать, то чай пить. Года три назад она наняла один из флигелей под дачу, да так и осталась жить у Белокурова, по-видимому навсегда. Она была старше его лет на десять и управляла им строго, так что, отлучаясь из дому, он должен был спрашивать у нее позволения. Она часто рыдала мужским голосом, и тогда я посылал сказать ей, что если она не перестанет, то я съеду с квартиры; и она переставала.
Когда мы пришли домой, Белокуров сел на диван и нахмурился в раздумье, а я стал ходить по зале, испытывая тихое волнение, точно влюбленный. Мне хотелось говорить про Волчаниновых.
– Лида может полюбить только земца, увлеченного так же, как она, больницами и школами, – сказал я. – О, ради такой девушки можно не только стать земцем, но даже истаскать, как в сказке, железные башмаки.
А Мисюсь? Какая прелесть эта Мисюсь!
Белокуров длинно, растягивая «э-э-э-э…», заговорил о болезни века – пессимизме. Говорил он уверенно и таким тоном, как будто я спорил с ним. Сотни верст пустынной, однообразной, выгоревшей степи не могут нагнать такого уныния, как один человек, когда он сидит, говорит и неизвестно, когда он уйдет.
– Дело не в пессимизме и не в оптимизме, – сказал я раздраженно, – а в том, что у девяноста девяти из ста нет ума. Белокуров принял это на свой счет, обиделся и ушел.
III
– В Малозёмове гостит князь, тебе кланяется, – говорила Лида матери, вернувшись откуда-то и снимая перчатки. – Рассказывал много интересного… Обещал опять поднять в губернском собрании вопрос о медицинском пункте в Малозёмове, но говорит: мало надежды. – И, обратясь ко мне, она сказала: – Извините, я все забываю, что для вас это не может быть интересно.
Я почувствовал раздражение.
– Почему же не интересно? – спросил я и пожал плечами. – Вам не угодно знать мое мнение, но, уверяю вас, этот вопрос меня живо интересует.
– Да?
– Да. По моему мнению, медицинский пункт в Малозёмове вовсе не нужен.
Мое раздражение передалось и ей; она посмотрела на меня, прищурив глаза, и спросила:
– Что же нужно? Пейзажи?
– И пейзажи не нужны. Ничего там не нужно.
Она кончила снимать перчатки и развернула газету, которую только что привезли с почты; через минуту она сказала тихо, очевидно сдерживая себя:
– На прошлой неделе умерла от родов Анна, а если бы поблизости был медицинский пункт, то она осталась бы жива. И господа пейзажисты, мне кажется, должны бы иметь какие-нибудь убеждения на этот счет.
– Я имею на этот счет очень определенное убеждение, уверяю вас, – ответил я, а она закрылась от меня газетой, как бы не желая слушать. – По-моему, медицинские пункты, школы, библиотечки, аптечки, при существующих условиях, служат только порабощению. Народ опутан цепью великой, и вы не рубите этой цепи, а лишь прибавляете новые звенья – вот вам мое убеждение.
Она подняла на меня глаза и насмешливо улыбнулась, а я продолжал, стараясь уловить свою главную мысль:
– Не то важно, что Анна умерла от родов, а то, что все эти Анны, Мавры, Пелагеи с раннего утра до потемок гнут спины, болеют от непосильного труда, всю жизнь дрожат за голодных и больных детей, всю жизнь боятся смерти и болезней, всю жизнь лечатся, рано блекнут, рано старятся и умирают в грязи и в вони; их дети, подрастая, начинают ту же музыку, и так проходят сот-ни лет, и миллиарды людей живут хуже животных – только ради куска хлеба, испытывая постоянный страх. Весь ужас их положения в том, что им некогда о душе подумать, некогда вспомнить о своем образе и подобии; голод, холод, животный страх, масса труда, точно снеговые обвалы, загородили им все пути к духовной деятельности, именно к тому самому, что отличает человека от животного и составляет единственное, ради чего стоит жить. Вы приходите к ним на помощь с больницами и школами, но этим не освобождаете их от пут, а, напротив, еще больше порабощаете, так как, внося в их жизнь новые предрассудки, вы увеличиваете число их потребностей, не говоря уже о том, что за мушки и за книжки они должны платить земству и, значит, сильнее гнуть спину.
– Я спорить с вами не стану, – сказала Лида, опуская газету. – Я уже это слышала. Скажу вам только одно: нельзя сидеть сложа руки. Правда, мы не спасаем человечества и, быть может, во многом ошибаемся, но мы делаем то, что можем, и мы – правы. Самая высокая и святая задача культурного человека – это служить ближним, и мы пытаемся служить как умеем. Вам не нравится, но ведь на всех не угодишь.
– Правда, Лида, правда, – сказала мать.
В присутствии Лиды она всегда робела и, разговаривая, тревожно поглядывала на нее, боясь сказать что-нибудь лишнее или неуместное; и никогда она не противоречила ей, а всегда соглашалась: правда, Лида, правда.
– Мужицкая грамотность, книжки с жалкими наставлениями и прибаутками и медицинские пункты не могут уменьшить ни невежества, ни смертности, так же, как свет из ваших окон не может осветить этого громадного сада, – сказал я. – Вы не даете ничего, вы своим вмешательством в жизнь этих людей создаете лишь новые потребности, новый повод к труду.
– Ах, боже мой, но ведь нужно же делать что-нибудь! – сказала Лида с досадой, и по ее тону было заметно, что мои рассуждения она считает ничтожными и презирает их.
– Нужно освободить людей от тяжкого физического труда, – сказал я. – Нужно облегчить их ярмо, дать им передышку, чтобы они не всю свою жизнь проводили у печей, корыт и в поле, но имели бы также время подумать о душе, о Боге, могли бы пошире проявить свои духовные способности. Призвание всякого человека в духовной деятельности – в постоянном искании правды и смысла жизни. Сделайте же для них ненужным грубый, животный труд, дайте им почувствовать себя на свободе, и тогда увидите, какая, в сущности, насмешка эти книжки и аптечки. Раз человек сознает свое истинное призвание, то удовлетворять его могут только религия, наука, искусства, а не эти пустяки.
– Освободить от труда! – усмехнулась Лида. – Разве это возможно?
– Да. Возьмите на себя долю их труда. Если бы все мы, городские и деревенские жители, все без исключения, согласились поделить между собою труд, который затрачивается вообще человечеством на удовлетворение физических потребностей, то на каждого из нас, быть может, пришлось бы не более двух-трех часов в день. Представьте, что все мы, богатые и бедные, работаем только три часа в день, а остальное время у нас свободно. Представьте еще, что мы, чтобы еще менее зависеть от своего тела и менее трудиться, изобретаем машины, заменяющие труд, мы стараемся сократить число наших потребностей до минимума. Мы закаляем себя, наших детей, чтобы они не боялись голода, холода и мы не дрожали бы постоянно за их здоровье, как дрожат Анна, Мавра и Пелагея. Представьте, что мы не лечимся, не держим аптек, табачных фабрик, винокуренных заводов, – сколько свободного времени у нас остается в конце концов! Все мы сообща отдаем этот досуг наукам и искусствам. Как иногда мужики миром починяют дорогу, так и все мы сообща, миром, искали бы правды и смысла жизни, и – я уверен в этом – правда была бы открыта очень скоро, человек избавился бы от этого постоянного мучительного, угнетающего страха смерти, и даже от самой смерти.
– Вы, однако, себе противоречите, – сказала Лида. – Вы говорите – наука, наука, а сами отрицаете грамотность.
– Грамотность, когда человек имеет возможность читать только вывески на кабаках да изредка книжки, которых не понимает, – такая грамотность держится у нас со времен Рюрика, гоголевский Петрушка давно уже читает, между тем деревня какая была при Рюрике, такая и осталась до сих пор. Не грамотность нужна, а свобода для широкого проявления духовных способностей. Нужны не школы, а университеты.
– Вы и медицину отрицаете.
– Да. Она была бы нужна только для изучения болезней, как явлений природы, а не для лечения их. Если уж лечить, то не болезни, а причины их. Устраните главную причину – физический труд – и тогда не будет болезней. Не признаю я науки, которая лечит, – продолжал я возбужденно. – Науки и искусства, когда они настоящие, стремятся не к временным, не к частным целям, а к вечному и общему, – они ищут правды и смысла жизни, ищут Бога, душу, а когда их пристегивают к нуждам и злобам дня, к аптечкам и библиотечкам, то они только осложняют, загромождают жизнь. У нас много медиков, фармацевтов, юристов, стало много грамотных, но совсем нет биологов, математиков, философов, поэтов. Весь ум, вся душевная энергия ушли на удовлетворение временных, преходящих нужд… У ученых, писателей и художников кипит работа, по их милости удобства жизни растут с каждым днем, потребности тела множатся, между тем до правды еще далеко, и человек по-прежнему остается самым хищным и самым нечистоплотным животным, и все клонится к тому, чтобы человечество в своем большинстве выродилось и утеряло навсегда всякую жизнеспособность. При таких условиях жизнь художника не имеет смысла, и чем он талантливее, тем страннее и непонятнее его роль, так как на поверку выходит, что работает он для забавы хищного нечистоплотного животного, поддерживая существующий порядок. И я не хочу работать и не буду… Ничего не нужно, пусть земля провалится в тартарары!
– Мисюська, выйди, – сказала Лида сестре, очевидно, находя мои слова вредными для такой молодой девушки.
Женя грустно посмотрела на сестру и на мать и вышла.
– Подобные милые вещи говорят обыкновенно, когда хотят оправдать свое равнодушие, – сказала Лида. – Отрицать больницы и школы легче, чем лечить и учить.
– Правда, Лида, правда, – согласилась мать.
– Вы угрожаете, что не станете работать, – продолжала Лида. – Очевидно, вы высоко цените ваши работы. Перестанем же спорить, мы никогда не споемся, так как самую несовершенную из всех библиотечек и аптечек, о которых вы только что отзывались так презрительно, я ставлю выше всех пейзажей в свете. – И тотчас же, обратясь к матери, она заговорила совсем другим тоном: – Князь очень похудел и сильно изменился с тех пор, как был у нас. Его посылают в Виши.
Она рассказывала матери про князя, чтобы не говорить со мной. Лицо у нее горело, и, чтобы скрыть свое волнение, она низко, точно близорукая, нагнулась к столу и делала вид, что читает газету. Мое присутствие было неприятно. Я простился и пошел домой.
IV
На дворе было тихо; деревня по ту сторону пруда уже спала, не было видно ни одного огонька, и только на пруде едва светились бледные отражения звезд. У ворот со львами стояла Женя неподвижно, поджидая меня, чтобы проводить.
– В деревне все спят, – сказал я ей, стараясь разглядеть в темноте ее лицо, и увидел устремленные на меня темные печальные глаза. – И кабатчик и конокрады покойно спят, а мы, порядочные люди, раздражаем друг друга и спорим.
Была грустная августовская ночь, – грустная потому, что уже пахло осенью; покрытая багровым облаком, восходила луна и еле-еле освещала дорогу и по сторонам ее темные озимые поля. Часто падали звезды. Женя шла со мной рядом по дороге и старалась не глядеть на небо, чтобы не видеть падающих звезд, которые почему-то пугали ее.
– Мне кажется, вы правы, – сказала она, дрожа от ночной сырости. – Если бы люди, все сообща, могли отдаться духовной деятельности, то они скоро узнали бы все.
– Конечно. Мы высшие существа, и если бы в самом деле мы сознали всю силу человеческого гения и жили бы только для высших целей, то в конце концов мы стали бы как боги. Но этого никогда не будет, – человечество выродится, и от гения не останется и следа.
Когда не стало видно ворот, Женя остановилась и торопливо пожала мне руку.
– Спокойной ночи, – проговорила она дрожа; плечи ее были покрыты только одною рубашечкой, и она сжалась от холода. – Приходите завтра.
Мне стало жутко от мысли, что я останусь один, раздраженный, недовольный собой и людьми; и я сам уже старался не глядеть на падающие звезды.
– Побудьте со мной еще минуту, – сказал я. – Прошу вас.
Я любил Женю. Должно быть, я любил ее за то, что она встречала и провожала меня, за то, что смотрела на меня нежно и с восхищением. Как трогательно прекрасны были ее бледное лицо, тонкая шея, тонкие руки, ее слабость, праздность, ее книги! А ум? Я подозревал у нее недюжинный ум, меня восхищала широта ее воззрений, быть может, потому, что она мыслила иначе, чем строгая, красивая Лида, которая не любила меня. Я нравился Жене как художник, я победил ее сердце своим талантом, и мне страстно хотелось писать только для нее, и я мечтал о ней, как о своей маленькой королеве, которая вместе со мною будет владеть этими деревьями, полями, туманом, зарею, этою природой, чудесной, очаровательной, но среди которой я до сих пор чувствовал себя безнадежно одиноким и ненужным.
– Останьтесь еще минуту, – попросил я. – Умоляю вас.
Я снял с себя пальто и прикрыл ее озябшие плечи; она, боясь показаться в мужском пальто смешной и некрасивой, засмеялась и сбросила его, и в это время я обнял ее и стал осыпать поцелуями ее лицо, плечи, руки.
– До завтра! – прошептала она и осторожно, точно боясь нарушить ночную тишину, обняла меня. – Мы не имеем тайн друг от друга, я должна сейчас рассказать все маме и сестре… Это так страшно! Мама ничего, мама любит вас, но Лида!
Она побежала к воротам.
– Прощайте! – крикнула она.
И потом минуты две я слышал, как она бежала. Мне не хотелось домой, да и незачем было идти туда. Я постоял немного в раздумье и тихо поплелся назад, чтобы еще взглянуть на дом в котором она жила, милый, наивный, старый дом, который, казалось, окнами своего мезонина глядел на меня, как глазами, и понимал все. Я прошел мимо террасы, сел на скамье около площадки для lown-tennis, в темноте под старым вязом, и отсюда смотрел на дом. В окнах мезонина, в котором жила Мисюсь, блеснул яркий свет, потом покойный зеленый – это лампу накрыли абажуром. Задвигались тени… Я был полон нежности, тишины и довольства собою, довольства, что сумел увлечься и полюбить, и в то же время я чувствовал неудобство от мысли, что в это же самое время, в нескольких шагах от меня, в одной из комнат этого дома живет Лида, которая не любит, быть может, ненавидит меня. Я сидел и все ждал, не выйдет ли Женя, прислушивался, и мне казалось, будто в мезонине говорят.
Прошло около часа. Зеленый огонь погас, и не стало видно теней. Луна уже стояла высоко над домом и освещала спящий сад, дорожки; георгины и розы в цветнике перед домом были отчетливо видны и казались все одного цвета. Становилось очень холодно. Я вышел из сада, подобрал на дороге свое пальто и не спеша побрел домой.
Когда на другой день после обеда я пришел к Волчаниновым, стеклянная дверь в сад была открыта настежь. Я посидел на террасе, поджидая, что вот-вот за цветником на площадке или на одной из аллей покажется Женя или донесется ее голос из комнат; потом я прошел в гостиную, в столовую. Не было ни души. Из столовой я прошел длинным коридором в переднюю, потом назад. Тут в коридоре было несколько дверей, и за одной из них раздавался голос Лиды.
– Вороне где-то… бог… – говорила она громко и протяжно, вероятно диктуя. – Бог послал кусочек сыру… Вороне… где-то… Кто там? – окликнула она вдруг, услышав мои шаги.
– Это я.
– А! Простите, я не могу сейчас выйти к вам, я занимаюсь с Дашей.
– Екатерина Павловна в саду?
– Нет, она с сестрой уехала сегодня утром к тете, в Пензенскую губернию. А зимой, вероятно, они поедут за границу… – добавила она, помолчав. – Вороне где-то… бо-ог послал ку-усочек сыру… Написала?
Я вышел в переднюю и, ни о чем не думая, стоял и смотрел оттуда на пруд и на деревню, а до меня доносилось:
– Кусочек сыру… Вороне где-то бог послал кусочек сыру…
И я ушел из усадьбы тою же дорогой, какой пришел сюда в первый раз, только в обратном порядке: сначала со двора в сад, мимо дома, потом по липовой аллее… Тут догнал меня мальчишка и подал записку. «Я рассказала все сестре, и она требует, чтобы я рассталась с вами, – прочел я. – Я была бы не в силах огорчить ее своим неповиновением. Бог даст вам счастья, простите меня. Если бы вы знали, как я и мама горько плачем!»
Потом темная еловая аллея, обвалившаяся изгородь… На том поле, где тогда цвела рожь и кричали перепела, теперь бродили коровы и спутанные лошади. Кое-где на холмах ярко зеленела озимь. Трезвое, будничное настроение овладело мной, и мне стало стыдно всего, что я говорил у Волчаниновых, и по-прежнему стало скучно жить. Придя домой, я уложился и вечером уехал в Петербург.
Больше я уже не видел Волчаниновых. Как-то недавно, едучи в Крым, я встретил в вагоне Белокурова. Он по-прежнему был в поддевке и в вышитой сорочке и, когда я спросил его о здоровье, ответил: «Вашими молитвами». Мы разговорились. Имение свое он продал и купил другое, поменьше, на имя Любови Ивановны. Про Волчаниновых сообщил он немного. Лида, по его словам, жила по-прежнему в Шелковке и учила в школе детей; мало-помалу ей удалось собрать около себя кружок симпатичных ей людей, которые составили из себя сильную партию и на последних земских выборах «прокатили» Балагина, державшего до того времени в своих руках весь уезд. Про Женю же Белокуров сообщил только, что она не жила дома и была неизвестно где.
Я уже начинаю забывать про дом с мезонином, и лишь изредка, когда пишу или читаю, вдруг ни с того ни с сего припомнится мне то зеленый огонь в окне, то звук моих шагов, раздававшихся в поле ночью, когда я, влюбленный, возвращался домой и потирал руки от холода. А еще реже, в минуты, когда меня томит одиночество и мне грустно, я вспоминаю смутно, и мало-помалу мне почему-то начинает казаться, что обо мне тоже вспоминают, меня ждут и что мы встретимся…
Мисюсь, где ты?
1896Ионыч
I
Когда в губернском городе С. приезжие жаловались на скуку и однообразие жизни, то местные жители, как бы оправдываясь, говорили, что, напротив, в С. очень хорошо, что в С. есть библиотека, театр, клуб, бывают балы, что, наконец, есть умные, интересные, приятные семьи, с которыми можно завести знакомства. И указывали на семью Туркиных как на самую образованную и талантливую.
Эта семья жила на главной улице, возле губернатора, в собственном доме. Сам Туркин, Иван Петрович, полный, красивый брюнет с бакенами, устраивал любительские спектакли с благотворительною целью, сам играл старых генералов и при этом кашлял очень смешно. Он знал много анекдотов, шарад, поговорок, любил шутить и острить, и всегда у него было такое выражение, что нельзя было понять, шутит он или говорит серьезно. Жена его, Вера Иосифовна, худощавая, миловидная дама в pince-nez, писала повести и романы и охотно читала их вслух своим гостям. Дочь, Екатерина Ивановна, молодая девушка, играла на рояле. Одним словом, у каждого члена семьи был какой-нибудь свой талант. Туркины принимали гостей радушно и показывали им свои таланты весело, с сердечной простотой. В их большом каменном доме было просторно и летом прохладно, половина окон выходила в старый тенистый сад, где весной пели соловьи; когда в доме сидели гости, то в кухне стучали ножами, во дворе пахло жареным луком – и это всякий раз предвещало обильный и вкусный ужин.
И доктору Старцеву, Дмитрию Ионычу, когда он был только что назначен земским врачом и поселился в Дялиже, в девяти верстах от С., тоже говорили, что ему, как интеллигентному человеку, необходимо познакомиться с Туркиными. Как-то зимой на улице его представили Ивану Петровичу; поговорили о погоде, о театре, о холере, последовало приглашение. Весной, в праздник – это было Вознесение, – после приема больных Старцев отправился в город, чтобы развлечься немножко и кстати купить себе кое-что. Он шел пешком, не спеша (своих лошадей у него еще не было) и все время напевал:
Когда еще я не пил слез из чаши бытия…В городе он пообедал, погулял в саду, потом как-то само собой пришло ему на память приглашение Ивана Петровича, и он решил сходить к Туркиным, посмотреть, что это за люди.
– Здравствуйте пожалуйста, – сказал Иван Петрович, встречая его на крыльце. – Очень, очень рад видеть такого приятного гостя. Пойдемте, я представлю вас своей благоверной. Я говорю ему, Верочка, – продолжал он, представляя доктора жене, – я ему говорю, что он не имеет никакого римского права сидеть у себя в больнице, он должен отдавать свой досуг обществу. Не правда ли, душенька?
– Садитесь здесь, – говорила Вера Иосифовна, сажая гостя возле себя. – Вы можете ухаживать за мной. Мой муж ревнив, это Отелло, но ведь мы постараемся вести себя так, что он ничего не заметит.
– Ах ты, цыпка, баловница… – нежно пробормотал Иван Петрович и поцеловал ее в лоб. – Вы очень кстати пожаловали, – обратился он опять к гостю, – моя благоверная написала большинский роман и сегодня будет читать его вслух.
– Жанчик, – сказала Вера Иосифовна мужу, – dites que l’on nous donne du thе.[24]
Старцеву представили Екатерину Ивановну, восемнадцатилетнюю девушку, очень похожую на мать, такую же худощавую и миловидную. Выражение у нее было еще детское и талия тонкая, нежная; и девственная, уже развитая грудь, красивая, здоровая, говорила о весне, настоящей весне. Потом пили чай с вареньем, с медом, с конфетами и с очень вкусными печеньями, которые таяли во рту. С наступлением вечера, мало-помалу, сходились гости, и к каждому из них Иван Петрович обращал свои смеющиеся глаза и говорил:
– Здравствуйте пожалуйста.
Потом все сидели в гостиной с очень серьезными лицами, и Вера Иосифовна читала свой роман. Она начала так: «Мороз крепчал…» Окна были отворены настежь, слышно было, как на кухне стучали ножами и доносился запах жареного лука… В мягких, глубоких креслах было покойно, огни мигали так ласково в сумерках гостиной; и теперь, в летний вечер, когда долетали с улицы голоса, смех и потягивало со двора сиренью, трудно было понять, как это крепчал мороз и как заходившее солнце освещало своими холодными лучами снежную равнину и путника, одиноко шедшего по дороге; Вера Иосифовна читала о том, как молодая, красивая графиня устраивала у себя в деревне школы, больницы, библиотеки и как она полюбила странствующего художника, – читала о том, чего никогда не бывает в жизни, и все-таки слушать было приятно, удобно, и в голову шли всё такие хорошие, покойные мысли, – не хотелось вставать.
– Недурственно… – тихо проговорил Иван Петрович.
А один из гостей, слушая и уносясь мыслями куда-то очень, очень далеко, сказал едва слышно:
– Да… действительно…
Прошел час, другой. В городском саду по соседству играл оркестр и пел хор песенников. Когда Вера Иосифовна закрыла свою тетрадь, то минут пять молчали и слушали «Лучинушку», которую пел хор, и эта песня передавала то, чего не было в романе и что бывает в жизни.
– Вы печатаете свои произведения в журналах? – спросил у Веры Иосифовны Старцев.
– Нет, – отвечала она, – я нигде не печатаю. Напишу и спрячу у себя в шкапу. Для чего печатать? – пояснила она. – Ведь мы имеем средства.
И все почему-то вздохнули.
– А теперь ты, Котик, сыграй что-нибудь, – сказал Иван Петрович дочери.
Подняли у рояля крышку, раскрыли ноты, лежавшие уже наготове. Екатерина Ивановна села и обеими руками ударила по клавишам; и потом тотчас же опять ударила изо всей силы, и опять, и опять; плечи и грудь у нее содрогались, она упрямо ударяла все по одному месту, и казалось, что она не перестанет, пока не вобьет клавишей внутрь рояля. Гостиная наполнилась громом; гремело все: и пол, и потолок, и мебель… Екатерина Ивановна играла трудный пассаж, интересный именно своею трудностью, длинный и однообразный, и Старцев, слушая, рисовал себе, как с высокой горы сыплются камни, сыплются и все сыплются, и ему хотелось, чтобы они поскорее перестали сыпаться, и в то же время Екатерина Ивановна, розовая от напряжения, сильная, энергичная, с локоном, упавшим на лоб, очень нравилась ему. После зимы, проведенной в Дялиже, среди больных и мужиков, сидеть в гостиной, смотреть на это молодое, изящное и, вероятно, чистое существо и слушать эти шумные, надоедливые, но все же культурные звуки, – было так приятно, так ново…
– Ну, Котик, сегодня ты играла как никогда, – сказал Иван Петрович со слезами на глазах, когда его дочь кончила и встала. – Умри, Денис, лучше не напишешь.
Все окружили ее, поздравляли, изумлялись, уверяли, что давно уже не слыхали такой музыки, а она слушала молча, чуть улыбаясь, и на всей ее фигуре было написано торжество.
– Прекрасно! превосходно!
– Прекрасно! – сказал и Старцев, поддаваясь общему увлечению. – Вы где учились музыке? – спросил он у Екатерины Ивановны. – В консерватории?
– Нет, в консерваторию я еще только собираюсь, а пока училась здесь, у мадам Завловской.
– Вы кончили курс в здешней гимназии?
– О нет! – ответила за нее Вера Иосифовна. – Мы приглашали учителей на дом, в гимназии же или в институте, согласитесь, могли быть дурные влияния; пока девушка растет, она должна находиться под влиянием одной только матери.
– А все-таки в консерваторию я поеду, – сказала Екатерина Ивановна.
– Нет, Котик любит свою маму. Котик не станет огорчать папу и маму.
– Нет, поеду! Поеду! – сказала Екатерина Ивановна, шутя и капризничая, и топнула ножкой.
А за ужином уже Иван Петрович показывал свои таланты. Он, смеясь одними только глазами, рассказывал анекдоты, острил, предлагал смешные задачи и сам же решал их, и все время говорил на своем необыкновенном языке, выработанном долгими упражнениями в остроумии и, очевидно, давно уже вошедшем у него в привычку: большинский, недурственно, покорчило вас благодарю…
Но это было не все. Когда гости, сытые и довольные, толпились в передней, разбирая свои пальто и трости, около них суетился лакей Павлуша, или, как его звали здесь, Пава, мальчик лет четырнадцати, стриженый, с полными щеками.
– А ну-ка, Пава, изобрази! – сказал ему Иван Петрович.
Пава стал в позу, поднял вверх руку и проговорил трагическим тоном:
– Умри, несчастная!
И все захохотали.
«Занятно», – подумал Старцев, выходя на улицу. Он зашел еще в ресторан и выпил пива, потом отправился пешком к себе в Дялиж. Шел он и всю дорогу напевал:
Твой голос для меня, и ласковый и томный…Пройдя девять верст и потом ложась спать, он не чувствовал ни малейшей усталости, а напротив, ему казалось, что он с удовольствием прошел бы еще верст двадцать.
«Недурственно…» – вспомнил он, засыпая, и засмеялся.
II
Старцев все собирался к Туркиным, но в больнице было очень много работы, и он никак не мог выбрать свободного часа. Прошло больше года таким образом в трудах и одиночестве; но вот из города принесли письмо в голубом конверте…
Вера Иосифовна давно уже страдала мигренью, но в последнее время, когда Котик каждый день пугала, что уедет в консерваторию, припадки стали повторяться все чаще. У Туркиных перебывали все городские врачи; дошла наконец очередь и до земского. Вера Иосифовна написала ему трогательное письмо, в котором просила его приехать и облегчить ее страдания. Старцев приехал и после этого стал бывать у Туркиных часто, очень часто… Он в самом деле немножко помог Вере Иосифовне, и она всем гостям уже говорила, что это необыкновенный, удивительный доктор. Но ездил он к Туркиным уже не ради ее мигрени…
Праздничный день. Екатерина Ивановна кончила свои длинные, томительные экзерсисы на рояле. Потом долго сидели в столовой и пили чай, и Иван Петрович рассказывал что-то смешное. Но вот звонок; нужно было идти в переднюю встречать какого-то гостя; Старцев воспользовался минутой замешательства и сказал Екатерине Ивановне шепотом, сильно волнуясь:
– Ради бога, умоляю вас, не мучайте меня, пойдемте в сад!
Она пожала плечами, как бы недоумевая и не понимая, что ему нужно от нее, но встала и пошла.
– Вы по три, по четыре часа играете на рояле, – говорил он, идя за ней, – потом сидите с мамой, и нет никакой возможности поговорить с вами. Дайте мне хоть четверть часа, умоляю вас.
Приближалась осень, и в старом саду было тихо, грустно, а на аллеях лежали темные листья. Уже рано смеркалось.
– Я не видел вас целую неделю, – продолжал Старцев, – а если бы вы знали, какое это страдание! Сядемте. Выслушайте меня.
У обоих было любимое место в саду: скамья под старым широким кленом. И теперь сели на эту скамью.
– Что вам угодно? – спросила Екатерина Ивановна сухо, деловым тоном.
– Я не видел вас целую неделю, я не слышал вас так долго. Я страстно хочу, я жажду вашего голоса. Говорите.
Она восхищала его своею свежестью, наивным выражением глаз и щек. Даже в том, как сидело на ней платье, он видел что-то необыкновенно милое, трогательное своей простотой и наивной грацией. И в то же время, несмотря на эту наивность, она казалась ему очень умной и развитой не по летам. С ней он мог говорить о литературе, об искусстве, о чем угодно, мог жаловаться ей на жизнь, на людей, хотя во время серьезного разговора, случалось, она вдруг некстати начинала смеяться или убегала в дом. Она, как почти все С-ие девушки, много читала (вообще же в С. читали очень мало, и в здешней библиотеке так и говорили, что если бы не девушки и не молодые евреи, то хоть закрывай библиотеку); это бесконечно нравилось Старцеву, он с волнением спрашивал у нее всякий раз, о чем она читала в последние дни, и, очарованный, слушал, когда она рассказывала.
– Что вы читали на этой неделе, пока мы не виделись? – спросил он теперь. – Говорите, прошу вас.
– Я читала Писемского.
– Что именно?
– «Тысяча душ», – ответила Котик. – А как смешно звали Писемского: Алексей Феофилактыч!
– Куда же вы? – ужаснулся Старцев, когда она вдруг встала и пошла к дому. – Мне необходимо поговорить с вами, я должен объясниться… Побудьте со мной хоть пять минут! Заклинаю вас!
Она остановилась, как бы желая что-то сказать, потом неловко сунула ему в руку записку и побежала в дом и там опять села за рояль.
«Сегодня, в одиннадцать часов вечера, – прочел Старцев, – будьте на кладбище возле памятника Деметти».
«Ну, уж это совсем не умно, – подумал он, придя в себя. – При чем тут кладбище? Для чего?»
Было ясно: Котик дурачилась. Кому в самом деле придет серьезно в голову назначать свидание ночью, далеко за городом, на кладбище, когда это легко можно устроить на улице, в городском саду? И к лицу ли ему, земскому доктору, умному, солидному человеку, вздыхать, получать записочки, таскаться по кладбищам, делать глупости, над которыми смеются теперь даже гимназисты? К чему поведет этот роман? Что скажут товарищи, когда узнают? Так думал Старцев, бродя в клубе около столов, а в половине одиннадцатого вдруг взял и поехал на кладбище.
У него уже была своя пара лошадей и кучер Пантелеймон в бархатной жилетке. Светила луна. Было тихо, тепло, но тепло по-осеннему. В предместье, около боен, выли собаки. Старцев оставил лошадей на краю города, в одном из переулков, а сам пошел на кладбище пешком. «У всякого свои странности, – думал он. – Котик тоже странная, и – кто знает? – быть может, она не шутит, придет», – и он отдался этой слабой, пустой надежде, и она опьянила его.
С полверсты он прошел полем. Кладбище обозначалось вдали темной полосой, как лес или большой сад. Показалась ограда из белого камня, ворота… При лунном свете на воротах можно было прочесть: «Грядет час в онь же…» Старцев вошел в калитку, и первое, что он увидел, это белые кресты и памятники по обе стороны широкой аллеи и черные тени от них и от тополей; и кругом далеко было видно белое и черное, и сонные деревья склоняли свои ветви над белым. Казалось, что здесь было светлей, чем в поле; листья кленов, похожие на лапы, резко выделялись на желтом песке аллей и на плитах, и надписи на памятниках были ясны. На первых порах Старцева поразило то, что он видел теперь первый раз в жизни и чего, вероятно, больше уже не случится видеть: мир, не похожий ни на что другое, – мир, где так хорош и мягок лунный свет, точно здесь его колыбель, где нет жизни, нет и нет, но в каждом темном тополе, в каждой могиле чувствуется присутствие тайны, обещающей жизнь тихую, прекрасную, вечную. От плит и увядших цветов, вместе с осенним запахом листьев, веет прощением, печалью и покоем.
Кругом безмолвие; в глубоком смирении с неба смотрели звезды, и шаги Старцева раздавались так резко и некстати. И только когда в церкви стали бить часы и он вообразил самого себя мертвым, зарытым здесь навеки, то ему показалось, что кто-то смотрит на него, и он на минуту подумал, что это не покой и не тишина, а глухая тоска небытия, подавленное отчаяние…
Памятник Деметти в виде часовни, с ангелом наверху; когда-то в С. была проездом итальянская опера, одна из певиц умерла, ее похоронили и поставили этот памятник. В городе уже никто не помнил о ней, но лампадка над входом отражала лунный свет и, казалось, горела.
Никого не было. Да и кто пойдет сюда в полночь? Но Старцев ждал, и точно лунный свет подогревал в нем страсть, ждал страстно и рисовал в воображении поцелуи, объятия. Он посидел около памятника с полчаса, потом прошелся по боковым аллеям, со шляпой в руке, поджидая и думая о том, сколько здесь, в этих могилах, зарыто женщин и девушек, которые были красивы, очаровательны, которые любили, сгорали по ночам страстью, отдаваясь, ласке. Как, в сущности, нехорошо шутит над человеком мать-природа, как обидно сознавать это! Старцев думал так, и в то же время ему хотелось закричать, что он хочет, что он ждет любви во что бы то ни стало; перед ним белели уже не куски мрамора, а прекрасные тела, он видел формы, которые стыдливо прятались в тени деревьев, ощущал тепло, и это томление становилось тягостным…
И точно опустился занавес, луна ушла под облака, и вдруг все потемнело кругом. Старцев едва нашел ворота, – уже было темно, как в осеннюю ночь, – потом часа полтора бродил, отыскивая переулок, где оставил своих лошадей.
– Я устал, едва держусь на ногах, – сказал он Пантелеймону.
И, садясь с наслаждением в коляску, он подумал: «Ох, не надо бы полнеть!»
III
На другой день вечером он поехал к Туркиным делать предложение. Но это оказалось неудобным, так как Екатерину Ивановну в ее комнате причесывал парикмахер. Она собиралась в клуб на танцевальный вечер.
Пришлось опять долго сидеть в столовой и пить чай. Иван Петрович, видя, что гость задумчив и скучает, вынул из жилетного кармана записочки, прочел смешное письмо немца-управляющего о том, как в имении испортились все запирательства и обвалилась застенчивость.
«А приданого они дадут, должно быть, немало», – думал Старцев, рассеянно слушая.
После бессонной ночи он находился в состоянии ошеломления, точно его опоили чем-то сладким и усыпляющим; на душе было туманно, но радостно, тепло, и в то же время в голове какой-то холодный, тяжелый кусочек рассуждал:
«Остановись, пока не поздно! Пара ли она тебе? Она избалована, капризна, спит до двух часов, а ты дьячковский сын, земский врач…»
«Ну, что ж? – думал он. – И пусть».
«К тому же если ты женишься на ней, – продолжал кусочек, – то ее родня заставит тебя бросить земскую службу и жить в городе».
«Ну что ж? – думал он. – В городе так в городе. Дадут приданое, заведем обстановку…»
Наконец вошла Екатерина Ивановна в бальном платье, декольте, хорошенькая, чистенькая, и Старцев залюбовался и пришел в такой восторг, что не мог выговорить ни одного слова, а только смотрел на нее и смеялся.
Она стала прощаться, и он – оставаться тут ему было уже незачем – поднялся, говоря, что ему пора домой: ждут больные.
– Делать нечего, – сказал Иван Петрович, – поезжайте, кстати же подвезете Котика в клуб.
На дворе накрапывал дождь, было очень темно, и только по хриплому кашлю Пантелеймона можно было угадать, где лошади. Подняли у коляски верх.
– Я иду по ковру, ты идешь, пока врешь, – говорил Иван Петрович, усаживая дочь в коляску, – он идет, пока врет… Трогай! Прощайте пожалуйста! Поехали.
– А я вчера был на кладбище, – начал Старцев. – Как это невеликодушно и немилосердно с вашей стороны…
– Вы были на кладбище?
– Да, я был там и ждал вас почти до двух часов.
Я страдал…
– И страдайте, если вы не понимаете шуток.
Екатерина Ивановна, довольная, что так хитро подшутила над влюбленным и что ее так сильно любят, захохотала и вдруг вскрикнула от испуга, так как в это самое время лошади круто поворачивали в ворота клуба и коляска накренилась. Старцев обнял Екатерину Ивановну за талию; она, испуганная, прижалась к нему, и он не удержался и страстно поцеловал ее в губы, в подбородок и сильнее обнял.
– Довольно, – сказала она сухо.
И чрез мгновение ее уже не было в коляске, и городовой около освещенного подъезда клуба кричал отвратительным голосом на Пантелеймона:
– Чего стал, ворона? Проезжай дальше!
Старцев поехал домой, но скоро вернулся. Одетый в чужой фрак и белый жесткий галстук, который как-то все топорщился и хотел сползти с воротничка, он в полночь сидел в клубе в гостиной и говорил Екатерине Ивановне с увлечением:
– О, как мало знают те, которые никогда не любили! Мне кажется, никто еще не описал верно любви, и едва ли можно описать это нежное, радостное, мучительное чувство, и кто испытал его хоть раз, тот не станет передавать его на словах. К чему предисловия, описания? К чему ненужное красноречие? Любовь моя безгранична… Прошу, умоляю вас, – выговорил наконец Старцев, – будьте моей женой!
– Дмитрий Ионыч, – сказала Екатерина Ивановна с очень серьезным выражением, подумав. – Дмитрий Ионыч, я очень вам благодарна за честь, я вас уважаю, но… – она встала и продолжала стоя, – но, извините, быть вашей женой я не могу. Будем говорить серьезно. Дмитрий Ионыч, вы знаете, больше всего в жизни я люблю искусство, я безумно люблю, обожаю музыку, ей я посвятила всю свою жизнь. Я хочу быть артисткой, я хочу славы, успехов, свободы, а вы хотите, чтобы я продолжала жить в этом городе, продолжала эту пустую, бесполезную жизнь, которая стала для меня невыносима. Сделаться женой – о нет, простите! Человек должен стремиться к высшей, блестящей цели, а семейная жизнь связала бы меня навеки. Дмитрий Ионыч (она чуть-чуть улыбнулась, так как, произнеся «Дмитрий Ионыч», вспомнила «Алексей Феофилактыч»), Дмитрий Ионыч, вы добрый, благородный, умный человек, вы лучше всех… – у нее слезы навернулись на глазах, – я сочувствую вам всей душой, но… но вы поймете…
И, чтобы не заплакать, она отвернулась и вышла из гостиной.
У Старцева перестало беспокойно биться сердце. Выйдя из клуба на улицу, он прежде всего сорвал с себя жесткий галстук и вздохнул всей грудью. Ему было немножко стыдно, и самолюбие его было оскорблено, – он не ожидал отказа, – и не верилось, что все его мечты, томления и надежды привели его к такому глупенькому концу, точно в маленькой пьесе на любительском спектакле. И жаль было своего чувства, этой своей любви, так жаль, что, кажется, взял бы и зарыдал или изо всей силы хватил бы зонтиком по широкой спине Пантелеймона.
Дня три у него дело валилось из рук, он не ел, не спал, но когда до него дошел слух, что Екатерина Ивановна уехала в Москву поступать в консерваторию, он успокоился и зажил по-прежнему.
Потом, иногда вспоминая, как он бродил по кладбищу или как ездил по всему городу и отыскивал фрак, он лениво потягивался и говорил:
– Сколько хлопот, однако!
IV
Прошло четыре года. В городе у Старцева была уже большая практика. Каждое утро он спешно принимал больных у себя в Дялиже, потом уезжал к городским больным, уезжал уже не на паре, а на тройке с бубенчиками, и возвращался домой поздно ночью. Он пополнел, раздобрел и неохотно ходил пешком, так как страдал одышкой. И Пантелеймон тоже пополнел, и чем он больше рос в ширину, тем печальнее вздыхал и жаловался на свою горькую участь: езда одолела!
Старцев бывал в разных домах и встречал много людей, но ни с кем не сходился близко. Обыватели своими разговорами, взглядами на жизнь и даже своим видом раздражали его. Опыт научил его мало-помалу, что пока с обывателем играешь в карты или закусываешь с ним, то это мирный, благодушный и даже неглупый человек, но стоит только заговорить с ним о чем-нибудь несъедобном, например, о политике или науке, как он становится в тупик или заводит такую философию, тупую и злую, что остается только рукой махнуть и отойти. Когда Старцев пробовал заговорить даже с либеральным обывателем, например, о том, что человечество, слава богу, идет вперед и что со временем оно будет обходиться без паспортов и без смертной казни, то обыватель глядел на него искоса и недоверчиво и спрашивал: «Значит, тогда всякий может резать на улице кого угодно?» А когда Старцев в обществе, за ужином или чаем, говорил о том, что нужно трудиться, что без труда жить нельзя, то всякий принимал это за упрек и начинал сердиться и назойливо спорить. При всем том обыватели не делали ничего, решительно ничего, и не интересовались ничем, и никак нельзя было придумать, о чем говорить с ними. И Старцев избегал разговоров, а только закусывал и играл в винт, и когда заставал в каком-нибудь доме семейный праздник и его приглашали откушать, то он садился и ел молча, глядя в тарелку; и все, что в это время говорили, было неинтересно, несправедливо, глупо, он чувствовал раздражение, волновался, но молчал, и за то, что он всегда сурово молчал и глядел в тарелку, его прозвали в городе «поляк надутый», хотя он никогда поляком не был.
От таких развлечений, как театр и концерты, он уклонялся, но зато в винт играл каждый вечер, часа по три, с наслаждением. Было у него еще одно развлечение, в которое он втянулся незаметно, мало-помалу, – это по вечерам вынимать из карманов бумажки, добытые практикой, и, случалось, бумажек – желтых и зеленых, от которых пахло духами, и уксусом, и ладаном, и ворванью, – было понапихано во все карманы рублей на семьдесят; и когда собиралось несколько сот, он отвозил в Общество взаимного кредита и клал там на текущий счет.
За все четыре года после отъезда Екатерины Ивановны он был у Туркиных только два раза, по приглашению Веры Иосифовны, которая все еще лечилась от мигрени. Каждое лето Екатерина Ивановна приезжала к родителям погостить, но он не видел ее ни разу; как-то не случалось.
Но вот прошло четыре года. В одно тихое, теплое утро в больницу принесли письмо. Вера Иосифовна писала Дмитрию Ионычу, что очень соскучилась по нем, и просила его непременно пожаловать к ней и облегчить ее страдания, и кстати же сегодня день ее рождения. Внизу была приписка: «К просьбе мамы присоединяюсь и я. Я.».
Старцев подумал и вечером поехал к Туркиным.
– А, здравствуйте пожалуйста! – встретил его Иван Петрович, улыбаясь одними глазами. – Бонжурте.
Вера Иосифовна, уже сильно постаревшая, с белыми волосами, пожала Старцеву руку, манерно вздохнула и сказала:
– Вы, доктор, не хотите ухаживать за мной, никогда у нас не бываете, я уже стара для вас. Но вот приехала молодая, быть может, она будет счастливее.
А Котик? Она похудела, побледнела, стала красивее и стройнее; но уже это была Екатерина Ивановна, а не Котик; уже не было прежней свежести и выражения детской наивности. И во взгляде и в манерах было что-то новое – несмелое и виноватое, точно здесь, в доме Туркиных, она уже не чувствовала себя дома.
– Сколько лет, сколько зим! – сказала она, подавая Старцеву руку, и было видно, что у нее тревожно билось сердце; и пристально, с любопытством глядя ему в лицо, она продолжала: – Как вы пополнели! Вы загорели, возмужали, но в общем вы мало изменились.
И теперь она ему нравилась, очень нравилась, но чего-то уже недоставало в ней, или что-то было лишнее, – он и сам не мог бы сказать, что именно, но что-то уже мешало ему чувствовать, как прежде. Ему не нравилась ее бледность, новое выражение, слабая улыбка, голос, а немного погодя уже не нравилось платье, кресло, в котором она сидела, не нравилось что-то в прошлом, когда он едва не женился на ней. Он вспомнил о своей любви, о мечтах и надеждах, которые волновали его четыре года назад, – и ему стало неловко.
Пили чай со сладким пирогом. Потом Вера Иосифовна читала вслух роман, читала о том, чего никогда не бывает в жизни, а Старцев слушал, глядел на ее седую, красивую голову и ждал, когда она кончит.
«Бездарен, – думал он, – не тот, кто не умеет писать повестей, а тот, кто их пишет и не умеет скрыть этого».
– Недурственно, – сказал Иван Петрович.
Потом Екатерина Ивановна играла на рояле шумно и долго, и, когда кончила, ее долго благодарили и восхищались ею.
«А хорошо, что я на ней не женился», – подумал Старцев.
Она смотрела на него и, по-видимому, ждала, что он предложит ей пойти в сад, но он молчал.
– Давайте же поговорим, – сказала она, подходя к нему. – Как вы живете? Что у вас? Как? Я все эти дни думала о вас, – продолжала она нервно, – я хотела послать вам письмо, хотела сама поехать к вам в Дялиж, и я уже решила поехать, но потом раздумала, – бог знает, как вы теперь ко мне относитесь. Я с таким волнением ожидала вас сегодня. Ради бога, пойдемте в сад.
Они пошли в сад и сели там на скамью под старым кленом, как четыре года назад. Было темно.
– Как же вы поживаете? – спросила Екатерина Ивановна.
– Ничего, живем понемножку, – ответил Старцев.
И ничего не мог больше придумать. Помолчали.
– Я волнуюсь, – сказала Екатерина Ивановна и закрыла руками лицо, – но вы не обращайте внимания. Мне так хорошо дома, я так рада видеть всех и не могу привыкнуть. Сколько воспоминаний! Мне казалось, что мы будем говорить с вами без умолку, до утра.
Теперь он видел близко ее лицо, блестящие глаза, и здесь, в темноте, она казалась моложе, чем в комнате, и даже как будто вернулось к ней ее прежнее детское выражение. И в самом деле, она с наивным любопытством смотрела на него, точно хотела поближе разглядеть и понять человека, который когда-то любил ее так пламенно, с такой нежностью и так несчастливо; ее глаза благодарили его за эту любовь. И он вспомнил все, что было, все малейшие подробности, как он бродил по кладбищу, как потом под утро, утомленный, возвращался к себе домой, и ему вдруг стало грустно и жаль прошлого. В душе затеплился огонек.
– А помните, как я провожал вас на вечер в клуб? – сказал он. – Тогда шел дождь, было темно…
Огонек все разгорался в душе, и уже хотелось говорить, жаловаться на жизнь…
– Эх! – сказал он со вздохом. – Вы вот спрашиваете, как я поживаю. Как мы поживаем тут? Да никак. Старимся, полнеем, опускаемся. День да ночь – сутки прочь, жизнь проходит тускло, без впечатлений, без мыслей… Днем нажива, а вечером клуб, общество картежников, алкоголиков, хрипунов, которых я терпеть не могу. Что хорошего?
– Но у вас работа, благородная цель в жизни. Вы так любили говорить о своей больнице. Я тогда была какая-то странная, воображала себя великой пианисткой. Теперь все барышни играют на рояле, и я тоже играла, как все, и ничего во мне не было особенного; я такая же пианистка, как мама писательница. И, конечно, я вас не понимала тогда, но потом, в Москве, я часто думала о вас. Я только о вас и думала. Какое это счастье быть земским врачом, помогать страдальцам, служить народу. Какое счастье! – повторила Екатерина Ивановна с увлечением. – Когда я думала о вас в Москве, вы представлялись мне таким идеальным, возвышенным…
Старцев вспомнил про бумажки, которые он по вечерам вынимал из карманов с таким удовольствием, и огонек в душе погас.
Он встал, чтобы идти к дому. Она взяла его под руку.
– Вы лучший из людей, которых я знала в своей жизни, – продолжала она. – Мы будем видеться, говорить, не правда ли? Обещайте мне. Я не пианистка, на свой счет я уже не заблуждаюсь и не буду при вас ни играть, ни говорить о музыке.
Когда вошли в дом и Старцев увидел при вечернем освещении ее лицо и грустные, благодарные, испытующие глаза, обращенные на него, то почувствовал беспокойство и подумал опять: «А хорошо, что я тогда не женился».
Он стал прощаться.
– Вы не имеете никакого римского права уезжать без ужина, – говорил Иван Петрович, провожая его. – Это с вашей стороны весьма перпендикулярно. А ну-ка, изобрази! – сказал он, обращаясь в передней к Паве.
Пава, уже не мальчик, а молодой человек с усами, стал в позу, подняв вверх руку и сказал трагическим голосом:
– Умри, несчастная!
Все это раздражало Старцева. Садясь в коляску и глядя на темный дом и сад, которые были ему так милы и дороги когда-то, он вспомнил все сразу – и романы Веры Иосифовны, и шумную игру Котика, и остроумие Ивана Петровича, и трагическую позу Павы, и подумал, что если самые талантливые люди во всем городе так бездарны, то каков же должен быть город.
Через три дня Пава принес письмо от Екатерины Ивановны.
«Вы не едете к нам. Почему? – писала она. – Я боюсь, что вы изменились к нам; я боюсь, и мне страшно от одной мысли об этом. Успокойте же меня, приезжайте и скажите, что все хорошо.
Мне необходимо поговорить с Вами. Ваша Е. Г.».
Он прочел это письмо, подумал и сказал Паве:
– Скажи, любезный, что сегодня я не могу приехать, я очень занят. Приеду, скажи, так дня через три.
Но прошло три дня, прошла неделя, а он все не ехал. Как-то, проезжая мимо дома Туркиных, он вспомнил, что надо бы заехать хоть на минутку, но подумал и… не заехал.
И больше уж он никогда не бывал у Туркиных.
V
Прошло еще несколько лет. Старцев еще больше пополнел, ожирел, тяжело дышит и уже ходит, откинув назад голову. Когда он, пухлый, красный, едет на тройке с бубенчиками и Пантелеймон, тоже пухлый и красный, с мясистым затылком, сидит на козлах, протянув вперед прямые, точно деревянные, руки, и кричит встречным: «Прррава держи!», то картина бывает внушительная, и кажется, что едет не человек, а языческий бог. У него в городе громадная практика, некогда вздохнуть, и уже есть имение и два дома в городе, и он облюбовывает себе еще третий, повыгоднее, и когда ему в Обществе взаимного кредита говорят про какой-нибудь дом, назначенный к торгам, то он без церемонии идет в этот дом и, проходя через все комнаты, не обращая внимания на неодетых женщин и детей, которые глядят на него с изумлением и страхом, тычет во все двери палкой и говорит:
– Это кабинет? Это спальня? А тут что?
И при этом тяжело дышит и вытирает со лба пот.
У него много хлопот, но все же он не бросает земского места; жадность одолела, хочется поспеть и здесь и там. В Дялиже и в городе его зовут уже просто Ионычем. «Куда это Ионыч едет?» или: «Не пригласить ли на консилиум Ионыча?»
Вероятно, оттого что горло заплыло жиром, голос у него изменился, стал тонким и резким. Характер у него тоже изменился: стал тяжелым, раздражительным. Принимая больных, он обыкновенно сердится, нетерпеливо стучит палкой о пол и кричит своим неприятным голосом:
– Извольте отвечать только на вопросы! Не разговаривать!
Он одинок. Живется ему скучно, ничто его не интересует.
За все время, пока он живет в Дялиже, любовь к Котику была его единственной радостью и, вероятно, последней. По вечерам он играет в клубе в винт и потом сидит один за большим столом и ужинает. Ему прислуживает лакей Иван, самый старый и почтенный, подают ему лафит № 17, и уже все – и старшины клуба, и повар, и лакей – знают, что он любит и чего не любит, стараются изо всех сил угодить ему, а то, чего доброго, рассердится вдруг и станет стучать палкой о пол.
Ужиная, он изредка оборачивается и вмешивается в какой-нибудь разговор:
– Это вы про что? А? Кого?
И когда, случается, по соседству за каким-нибудь столом заходит речь о Туркиных, то он спрашивает:
– Это вы про каких Туркиных? Это про тех, что дочка играет на фортепьянах?
Вот и все, что можно сказать про него.
А Туркины? Иван Петрович не постарел, нисколько не изменился и по-прежнему все острит и рассказывает анекдоты; Вера Иосифовна читает гостям свои романы по-прежнему охотно, с сердечной простотой. А Котик играет на рояле каждый день, часа по четыре. Она заметно постарела, похварывает и каждую осень уезжает с матерью в Крым. Провожая их на вокзале, Иван Петрович, когда трогается поезд, утирает слезы и кричит:
– Прощайте пожалуйста!
И машет платком.
1898Человек в футляре
На самом краю села Мироносицкого, в сарае старосты Прокофия, расположились на ночлег запоздавшие охотники. Их было только двое: ветеринарный врач Иван Иваныч и учитель гимназии Буркин. У Ивана Иваныча была довольно странная, двойная фамилия – Чимша-Гималайский, которая совсем не шла ему, и его во всей губернии звали просто по имени и отчеству; он жил около города на конском заводе и приехал теперь на охоту, чтобы подышать чистым воздухом. Учитель же гимназии Буркин каждое лето гостил у графов П. и в этой местности давно уже был своим человеком.
Не спали. Иван Иваныч, высокий худощавый старик с длинными усами, сидел снаружи у входа и курил трубку; его освещала луна. Буркин лежал внутри на сене, и его не было видно в потемках.
Рассказывали разные истории. Между прочим, говорили о том, что жена старосты, Мавра, женщина здоровая и неглупая, во всю свою жизнь нигде не была дальше своего родного села, никогда не видела ни города, ни железной дороги, а в последние десять лет все сидела за печью и только по ночам выходила на улицу.
– Что же тут удивительного! – сказал Буркин. – Людей, одиноких по натуре, которые, как рак-отшельник или улитка, стараются уйти в свою скорлупу, на этом свете немало. Быть может, тут явление атавизма, возвращение к тому времени, когда предок человека не был еще общественным животным и жил одиноко в своей берлоге, а может быть, это просто одна из разновидностей человеческого характера, – кто знает? Я не естественник, и не мое дело касаться подобных вопросов; я только хочу сказать, что такие люди, как Мавра, явление не редкое. Да вот, недалеко искать, месяца два назад умер у нас в городе некий Беликов, учитель греческого языка, мой товарищ. Вы о нем слышали, конечно. Он был замечателен тем, что всегда, даже в очень хорошую погоду, выходил в калошах и с зонтиком и непременно в теплом пальто на вате. И зонтик у него был в чехле, и часы в чехле из серой замши, и когда вынимал перочинный нож, чтобы очинить карандаш, то и нож у него был в чехольчике; и лицо, казалось, тоже было в чехле, так как он все время прятал его в поднятый воротник. Он носил темные очки, фуфайку, уши закладывал ватой, и когда садился на извозчика, то приказывал поднимать верх. Одним словом, у этого человека наблюдалось постоянное и непреодолимое стремление окружить себя оболочкой, создать себе, так сказать, футляр, который уединил бы его, защитил бы от внешних влияний. Действительность раздражала его, пугала, держала в постоянной тревоге, и, быть может, для того, чтобы оправдать эту свою робость, свое отвращение к настоящему, он всегда хвалил прошлое и то, чего никогда не было; и древние языки, которые он преподавал, были для него, в сущности, те же калоши и зонтик, куда он прятался от действительной жизни.
– О, как звучен, как прекрасен греческий язык! – говорил он со сладким выражением; и, как бы в доказательство своих слов, прищуривал глаза и, подняв палец, произносил: – Антропос!
И мысль свою Беликов также старался запрятать в футляр.
Для него были ясны только циркуляры и газетные статьи, в которых запрещалось что-нибудь. Когда в циркуляре запрещалось ученикам выходить на улицу после девяти часов вечера или в какой-нибудь статье запрещалась плотская любовь, то это было для него ясно, определенно; запрещено – и баста. В разрешении же и позволении скрывался для него всегда элемент сомнительный, что-то недосказанное и смутное. Когда в городе разрешали драматический кружок, или читальню, или чайную, то он покачивал головой и говорил тихо:
– Оно, конечно, так-то так, все это прекрасно, да как бы чего не вышло.
Всякого рода нарушения, уклонения, отступления от правил приводили его в уныние, хотя, казалось бы, какое ему дело? Если кто из товарищей опаздывал на молебен, или доходили слухи о какой-нибудь проказе гимназистов, или видели классную даму поздно вечером с офицером, то он очень волновался и все говорил, как бы чего не вышло. А на педагогических советах он просто угнетал нас своею осторожностью, мнительностью и своими чисто футлярными соображениями насчет того, что вот-де в мужской и женской гимназиях молодежь ведет себя дурно, очень шумит в классах, – ах, как бы не дошло до начальства, ах, как бы чего не вышло, – и что если б из второго класса исключить Петрова, а из четвертого – Егорова, то было бы очень хорошо. И что же? Своими вздохами, нытьем, своими темными очками на бледном, маленьком лице, – знаете, маленьком лице, как у хорька, – он давил нас всех, и мы уступали, сбавляли Петрову и Егорову балл по поведению, сажали их под арест и в конце концов исключали и Петрова и Егорова. Было у него странное обыкновение – ходить по нашим квартирам. Придет к учителю, сядет и молчит, и как будто что-то высматривает. Посидит этак, молча, час-другой и уйдет. Это называлось у него «поддерживать добрые отношения с товарищами», и, очевидно, ходить к нам и сидеть было для него тяжело, и ходил он к нам только потому, что считал это своею товарищескою обязанностью. Мы, учителя, боялись его. И даже директор боялся. Вот подите же, наши учителя народ всё мыслящий, глубоко порядочный, воспитанный на Тургеневе и Щедрине, однако же этот человечек, ходивший всегда в калошах и с зонтиком, держал в руках всю гимназию целых пятнадцать лет! Да что гимназию? Весь город! Наши дамы по субботам домашних спектаклей не устраивали, боялись, как бы он не узнал; и духовенство стеснялось при нем кушать скоромное и играть в карты. Под влиянием таких людей, как Беликов, за последние десять – пятнадцать лет в нашем городе стали бояться всего. Боятся громко говорить, посылать письма, знакомиться, читать книги, боятся помогать бедным, учить грамоте…
Иван Иваныч, желая что-то сказать, кашлянул, но сначала закурил трубку, поглядел на луну и потом уже сказал с расстановкой:
– Да. Мыслящие, порядочные, читают и Щедрина, и Тургенева, разных там Боклей и прочее, а вот подчинились же, терпели… То-то вот оно и есть.
– Беликов жил в том же доме, где и я, – продолжал Буркин, – в том же этаже, дверь против двери, мы часто виделись, и я знал его домашнюю жизнь. И дома та же история: халат, колпак, ставни, задвижки, целый ряд всяких запрещений, ограничений, и – ах, как бы чего не вышло. Постное есть вредно, а скоромное нельзя, так как, пожалуй, скажут, что Беликов не исполняет постов, и он ел судака на коровьем масле, – пища не постная, но и нельзя сказать чтобы скоромная. Женской прислуги он не держал из страха, чтобы о нем не думали дурно, а держал повара Афанасия, старика лет шестидесяти, нетрезвого и полоумного, который когда-то служил в денщиках и умел кое-как стряпать. Этот Афанасий стоял обыкновенно у двери, скрестив руки, и всегда бормотал одно и то же с глубоким вздохом:
– Много уж их нынче развелось!
Спальня у Беликова была маленькая, точно ящик, кровать была с пологом. Ложась спать, он укрывался с головой; было жарко, душно, в закрытые двери стучался ветер, в печке гудело; слышались вздохи из кухни, вздохи зловещие…
И ему было страшно под одеялом. Он боялся, как бы чего не вышло, как бы его не зарезал Афанасий, как бы не забрались воры, и потом всю ночь видел тревожные сны, а утром, когда мы вместе шли в гимназию, был скучен, бледен, и было видно, что многолюдная гимназия, в которую он шел, была страшна, противна всему существу его и что идти рядом со мной ему, человеку по натуре одинокому, было тяжко.
– Очень уж шумят у нас в классах, – говорил он, как бы стараясь отыскать объяснение своему тяжелому чувству. – Ни на что не похоже.
И этот учитель греческого языка, этот человек в футляре, можете себе представить, едва не женился.
Иван Иваныч быстро оглянулся в сарай и сказал:
– Шутите!
– Да, едва не женился, как это ни странно. Назначили к нам нового учителя истории и географии, некоего Коваленко, Михаила Саввича, из хохлов. Приехал он не один, а с сестрой Варенькой. Он молодой, высокий, смуглый, с громадными руками, и по лицу видно, что говорит басом, и в самом деле, голос как из бочки: бу-бу-бу… А она уже не молодая, лет тридцати, но тоже высокая, стройная, чернобровая, краснощекая, – одним словом, не девица, а мармелад, и такая разбитная, шумная, все поет малороссийские романсы и хохочет. Чуть что, так и зальется голосистым смехом: ха-ха-ха! Первое, основательное знакомство с Коваленками у нас, помню, произошло на именинах у директора. Среди суровых, напряженно скучных педагогов, которые и на именины-то ходят по обязанности, вдруг видим, новая Афродита возродилась из пены: ходит, подбоченясь, хохочет, поет, пляшет… Она спела с чувством «Виют витры», потом еще романс, и еще, и всех нас очаровала, – всех, даже Беликова. Он подсел к ней и сказал, сладко улыбаясь:
– Малороссийский язык своею нежностью и приятною звучностью напоминает древнегреческий.
Это польстило ей, и она стала рассказывать ему с чувством и убедительно, что в Гадячском уезде у нее есть хутор, а на хуторе живет мамочка, и там такие груши, такие дыни, такие кабаки! У хохлов тыквы называют кабаками, а кабаки шинками, и варят у них борщ с красненькими и с синенькими «такой вкусный, такой вкусный, что просто – ужас!».
Слушали мы, слушали, и вдруг всех нас осенила одна и та же мысль.
– А хорошо бы их поженить, – тихо сказала мне директорша.
Мы все почему-то вспомнили, что наш Беликов не женат, и нам теперь казалось странным, что мы до сих пор как-то не замечали, совершенно упускали из виду такую важную подробность в его жизни. Как вообще он относится к женщине, как он решает для себя этот насущный вопрос? Раньше это не интересовало нас вовсе; быть может, мы не допускали даже и мысли, что человек, который во всякую погоду ходит в калошах и спит под пологом, может любить.
– Ему давно уже за сорок, а ей тридцать… – пояснила свою мысль директорша. – Мне кажется, она бы за него пошла.
Чего только не делается у нас в провинции от скуки, сколько ненужного, вздорного! И это потому, что совсем не делается то, что нужно. Ну вот к чему нам вдруг понадобилось женить этого Беликова, которого даже и вообразить нельзя было женатым? Директорша, инспекторша и все наши гимназические дамы ожили, даже похорошели, точно вдруг увидели цель жизни. Директорша берет в театре ложу, и смотрим – в ее ложе сидит Варенька с этаким веером, сияющая, счастливая, и рядом с ней Беликов, маленький, скрюченный, точно его из дому клещами вытащили. Я даю вечеринку, и дамы требуют, чтобы я непременно пригласил и Беликова и Вареньку. Одним словом, заработала машина. Оказалось, что Варенька не прочь была замуж. Жить ей у брата было не очень-то весело, только и знали, что по целым дням спорила и ругались. Вот вам сцена: идет Коваленко по улице, высокий, здоровый верзила, в вышитой сорочке, чуб из-под фуражки падает на лоб; в одной руке пачка книг, в другой толстая суковатая палка. За ним идет сестра, тоже с книгами.
– Да ты же, Михайлик, этого не читал! – спорит она громко. – Я же тебе говорю, клянусь, ты не читал же этого вовсе!
– А я тебе говорю, что читал! – кричит Коваленко, гремя палкой по тротуару.
– Ах же, боже ж мой, Минчик! Чего же ты сердишься, ведь у нас же разговор принципиальный.
– А я тебе говорю, что я читал! – кричит еще громче Коваленко.
А дома, как кто посторонний, так и перепалка. Такая жизнь, вероятно, наскучила, хотелось своего угла, да и возраст принять во внимание: тут уж перебирать некогда, выйдешь за кого угодно, даже за учителя греческого языка. И то сказать, для большинства наших барышень за кого ни выйти, лишь бы выйти. Как бы ни было, Варенька стала оказывать нашему Беликову явную благосклонность.
А Беликов? Он и к Коваленку ходил так же, как к нам. Придет к нему, сядет и молчит. Он молчит, а Варенька поет ему «Виют витры», или глядит на него задумчиво своими темными глазами, или вдруг зальется:
– Ха-ха-ха!
В любовных делах, а особенно в женитьбе, внушение играет большую роль. Все – и товарищи и дамы – стали уверять Беликова, что он должен жениться, что ему ничего больше не остается в жизни, как жениться; все мы поздравляли его, говорили с важными лицами разные пошлости, вроде того-де, что брак есть шаг серьезный; к тому же Варенька была недурна собой, интересна, она была дочь статского советника и имела хутор, а главное, это была первая женщина, которая отнеслась к нему ласково, сердечно, – голова у него закружилась, и он решил, что ему в самом деле нужно жениться.
– Вот тут бы и отобрать у него калоши и зонтик, – проговорил Иван Иваныч.
– Представьте, это оказалось невозможным. Он поставил у себя на столе портрет Вареньки и все ходил ко мне и говорил о Вареньке, о семейной жизни, о том, что брак есть шаг серьезный, часто бывал у Коваленков, но образа жизни не изменил нисколько. Даже наоборот, решение жениться подействовало на него как-то болезненно, он похудел, побледнел и, казалось, еще глубже ушел в свой футляр.
– Варвара Саввишна мне нравится, – говорил он мне со слабой кривой улыбочкой, – и я знаю, жениться необходимо каждому человеку, но… все это, знаете ли, произошло как-то вдруг… Надо подумать.
– Что же тут думать? – говорю ему. – Женитесь, вот и все.
– Нет, женитьба – шаг серьезный, надо сначала взвесить предстоящие обязанности, ответственность… чтобы потом чего не вышло. Это меня так беспокоит, я теперь все ночи не сплю. И, признаться, я боюсь: у нее с братом какой-то странный образ мыслей, рассуждают они как-то, знаете ли, странно, и характер очень бойкий. Женишься, а потом, чего доброго, попадешь в какую-нибудь историю.
И он не делал предложения, все откладывал, к великой досаде директорши и всех наших дам; все взвешивал предстоящие обязанности и ответственность и между тем почти каждый день гулял с Варенькой, быть может, думал, что это так нужно в его положении, и приходил ко мне, чтобы поговорить о семейной жизни. И, по всей вероятности, в конце концов он сделал бы предложение, и совершился бы один из тех ненужных, глупых браков, каких у нас от скуки и от нечего делать совершаются тысячи, если бы вдруг не произошел kolossalische Skandal. Нужно сказать, что брат Вареньки, Коваленко, возненавидел Беликова с первого же дня знакомства и терпеть его не мог.
– Не понимаю, – говорил он нам, пожимая плечами, – не понимаю, как вы перевариваете этого фискала, эту мерзкую рожу. Эх, господа, как вы можете тут жить! Атмосфера у вас удушающая, поганая. Разве вы педагоги, учителя? Вы чинодралы, у вас не храм науки, а управа благочиния, и кислятиной воняет, как в полицейской будке. Нет, братцы, поживу с вами еще немного и уеду к себе на хутор, и буду там раков ловить и хохлят учить. Уеду, а вы оставайтесь тут со своим Иудой, нехай вин лопне.
Или он хохотал, хохотал до слез то басом, то тонким писклявым голосом и спрашивал меня, разводя руками:
– Шо он у меня сидить? Шо ему надо? Сидить и смотрить.
Он даже название дал Беликову «глитай, абож паук». И, понятно, мы избегали говорить с ним о том, что сестра его Варенька собирается за «абож паука». И когда однажды директорша намекнула ему, что хорошо бы пристроить его сестру за такого солидного, всеми уважаемого человека, как Беликов, то он нахмурился и проворчал:
– Не мое это дело. Пускай она выходит хоть за гадюку, а я не люблю в чужие дела мешаться.
Теперь слушайте, что дальше. Какой-то проказник нарисовал карикатуру: идет Беликов в калошах, в подсученных брюках, под зонтом, и с ним под руку Варенька; внизу подпись: «Влюбленный антропос». Выражение схвачено, понимаете ли, удивительно.
Художник, должно быть, проработал не одну ночь, так как все учителя мужской и женской гимназий, учителя семинарии, чиновники – все получили по экземпляру. Получил и Беликов. Карикатура произвела на него самое тяжелое впечатление.
Выходим мы вместе из дому, – это было как раз первое мая, воскресенье, и мы все, учителя и гимназисты, условились сойтись у гимназии и потом вместе идти пешком за город в рощу, – выходим мы, а он зеленый, мрачнее тучи.
– Какие есть нехорошие, злые люди! – проговорил он, и губы у него задрожали.
Мне даже жалко его стало. Идем, и вдруг, можете себе представить, катит на велосипеде Коваленко, а за ним Варенька, тоже на велосипеде, красная, заморенная, но веселая, радостная.
– А мы, – кричит она, – вперед едем! Уже ж такая хорошая погода, такая хорошая, что просто ужас!
И скрылись оба. Мой Беликов из зеленого стал белым и точно оцепенел. Остановился и смотрит на меня…
– Позвольте, что же это такое? – спросил он. – Или, быть может, меня обманывает зрение? Разве преподавателям гимназии и женщинам прилично ездить на велосипеде?
– Что же тут неприличного? – сказал я. – И пусть катаются себе на здоровье.
– Да как же можно? – крикнул он, изумляясь моему спокойствию. – Что вы говорите?!
И он был так поражен, что не захотел идти дальше и вернулся домой.
На другой день он все время нервно потирал руки и вздрагивал, и было видно по лицу, что ему нехорошо. И с занятий ушел, что случилось с ним первый раз в жизни. И не обедал. А под вечер оделся потеплее, хотя на дворе стояла совсем летняя погода, и поплелся к Коваленкам. Вареньки не было дома, застал он только брата.
– Садитесь, покорнейше прошу, – проговорил Коваленко холодно и нахмурил брови; лицо у него было заспанное, он только что отдыхал после обеда и был сильно не в духе.
Беликов посидел молча минут десять и начал:
– Я к вам пришел, чтоб облегчить душу. Мне очень, очень тяжело. Какой-то пасквилянт нарисовал в смешном виде меня и еще одну особу, нам обоим близкую. Считаю долгом уверить вас, что я тут ни при чем… Я не подавал никакого повода к такой насмешке, – напротив же, все время вел себя как вполне порядочный человек.
Коваленко сидел, надувшись, и молчал. Беликов подождал немного и продолжал тихо, печальным голосом:
– И еще я имею кое-что сказать вам. Я давно служу, вы же только еще начинаете службу, и я считаю долгом, как старший товарищ, предостеречь вас. Вы катаетесь на велосипеде, а эта забава совершенно неприлична для воспитателя юношества.
– Почему же? – спросил Коваленко басом.
– Да разве тут надо еще объяснять, Михаил Саввич, разве это не понятно? Если учитель едет на велосипеде, то что же остается ученикам? Им остается только ходить на головах! И раз это не разрешено циркулярно, то и нельзя. Я вчера ужаснулся! Когда я увидел вашу сестрицу, то у меня помутилось в глазах. Женщина или девушка на велосипеде – это ужасно!
– Что же, собственно, вам угодно?
– Мне угодно только одно – предостеречь вас, Михаил Саввич. Вы – человек молодой, у вас впереди будущее, надо вести себя очень, очень осторожно, вы же так манкируете, ох, как манкируете! Вы ходите в вышитой сорочке, постоянно на улице с какими-то книгами, а теперь вот еще велосипед. О том, что вы и ваша сестрица катаетесь на велосипеде, узнает директор, потом дойдет до попечителя… Что же хорошего?
– Что я и сестра катаемся на велосипеде, никому нет до этого дела! – сказал Коваленко и побагровел. – А кто будет вмешиваться в мои домашние и семейные дела, того я пошлю к чертям собачьим.
Беликов побледнел и встал.
– Если вы говорите со мной таким тоном, то я не могу продолжать, – сказал он. – И прошу вас никогда так не выражаться в моем присутствии о начальниках. Вы должны с уважением относиться к властям.
– А разве я говорил что дурное про властей? – спросил Коваленко, глядя на него со злобой. – Пожалуйста, оставьте меня в покое. Я честный человек и с таким господином, как вы, не желаю разговаривать. Я не люблю фискалов.
Беликов нервно засуетился и стал одеваться быстро, с выражением ужаса на лице. Ведь это первый раз в жизни он слышал такие грубости.
– Можете говорить, что вам угодно, – сказал он, выходя из передней на площадку лестницы. – Я должен только предупредить вас: быть может, нас слышал кто-нибудь, и чтобы не перетолковали нашего разговора и чего-нибудь не вышло, я должен буду доложить господину директору содержание нашего разговора… в главных чертах. Я обязан это сделать.
– Доложить? Ступай докладывай!
Коваленко схватил его сзади за воротник и пихнул, и Беликов покатился вниз по лестнице, гремя своими калошами. Лестница была высокая, крутая, но он докатился донизу благополучно; встал и потрогал себя за нос: целы ли очки? Но как раз в то время, когда он катился по лестнице, вошла Варенька и с нею две дамы; они стояли внизу и глядели – и для Беликова это было ужаснее всего. Лучше бы, кажется, сломать себе шею, обе ноги, чем стать посмешищем: ведь теперь узнает весь город, дойдет до директора, попечителя, – ах, как бы чего не вышло! – нарисуют новую карикатуру, и кончится все это тем, что прикажут подать в отставку…
Когда он поднялся, Варенька узнала его и, глядя на его смешное лицо, помятое пальто, калоши, не понимая, в чем дело, полагая, что это он упал сам нечаянно, не удержалась и захохотала на весь дом:
– Ха-ха-ха!
И этим раскатистым, заливчатым «ха-ха-ха» завершилось все: и сватовство, и земное существование Беликова. Уже он не слышал, что говорила Варенька, и ничего не видел. Вернувшись к себе домой, он прежде всего убрал со стола портрет, а потом лег и уже больше не вставал.
Дня через три пришел ко мне Афанасий и спросил, не надо ли послать за доктором, так как-де с барином что-то делается. Я пошел к Беликову. Он лежал под пологом, укрытый одеялом, и молчал; спросишь его, а он только да или нет – и больше ни звука. Он лежит, а возле бродит Афанасий, мрачный, нахмуренный, и вздыхает глубоко; а от него водкой, как из кабака.
Через месяц Беликов умер. Хоронили мы его все, то есть обе гимназии и семинария. Теперь, когда он лежал в гробу, выражение у него было кроткое, приятное, даже веселое, точно он был рад, что наконец его положили в футляр, из которого он уже никогда не выйдет. Да, он достиг своего идеала! И как бы в честь его, во время похорон была пасмурная, дождливая погода, и все мы были в калошах и с зонтами. Варенька тоже была на похоронах и, когда гроб опускали в могилу, всплакнула. Я заметил, что хохлушки только плачут или хохочут, среднего же настроения у них не бывает.
Признаюсь, хоронить таких людей, как Беликов, это большое удовольствие. Когда мы возвращались с кладбища, то у нас были скромные, постные физиономии; никому не хотелось обнаружить этого чувства удовольствия, – чувства, похожего на то, какое мы испытывали давно-давно, еще в детстве, когда старшие уезжали из дому и мы бегали по саду час-другой, наслаждаясь полною свободой. Ах, свобода, свобода! Даже намек, даже слабая надежда на ее возможность дает душе крылья, не правда ли?
Вернулись мы с кладбища в добром расположении. Но прошло не больше недели, и жизнь потекла по-прежнему такая же суровая, утомительная, бестолковая, жизнь, не запрещенная циркулярно, но и не разрешенная вполне; не стало лучше. И в самом деле, Беликова похоронили, а сколько еще таких человеков в футляре осталось, сколько их еще будет!
– То-то вот оно и есть, – сказал Иван Иваныч и закурил трубку.
– Сколько их еще будет! – повторил Буркин.
Учитель гимназии вышел из сарая. Это был человек небольшого роста, толстый, совершенно лысый, с черной бородой чуть не по пояс; и с ним вышли две собаки.
– Луна-то, луна! – сказал он, глядя вверх.
Была уже полночь. Направо видно было все село, длинная улица тянулась далеко, верст на пять. Все было погружено в тихий, глубокий сон; ни движения, ни звука, даже не верится, что в природе может быть так тихо. Когда в лунную ночь видишь широкую сельскую улицу с ее избами, стогами, уснувшими ивами, то на душе становится тихо; в этом своем покое, укрывшись в ночных тенях от трудов, забот и горя, она кротка, печальна, прекрасна, и кажется, что и звезды смотрят на нее ласково и с умилением, и что зла уже нет на земле, и все благополучно. Налево с края села начиналось поле; оно было видно далеко, до горизонта, и во всю ширь этого поля, залитого лунным светом, тоже ни движения, ни звука.
– То-то вот оно и есть, – повторил Иван Иваныч. – А разве то, что мы живем в городе в духоте, в тесноте, пишем ненужные бумаги, играем в винт, – разве это не футляр? А то, что мы проводим всю жизнь среди бездельников, сутяг, глупых, праздных женщин, говорим и слушаем разный вздор – разве это не футляр? Вот если желаете, то я расскажу вам одну очень поучительную историю.
– Нет, уж пора спать, – сказал Буркин. – До завтра.
Оба пошли в сарай и легли на сене. И уже оба укрылись и задремали, как вдруг послышались легкие шаги: туп, туп… Кто-то ходил недалеко от сарая; пройдет немного и остановится, а через минуту опять: туп, туп… Собаки заворчали.
– Это Мавра ходит, – сказал Буркин.
Шаги затихли.
– Видеть и слышать, как лгут, – проговорил Иван Иваныч, поворачиваясь на другой бок, – и тебя же называют дураком за то, что ты терпишь эту ложь; сносить обиды, унижения, не сметь открыто заявить, что ты на стороне честных, свободных людей, и самому лгать, улыбаться, и все это из-за куска хлеба, из-за теплого угла, из-за какого-нибудь чинишка, которому грош цена, – нет, больше жить так невозможно!
– Ну, уж это вы из другой оперы, Иван Иваныч, – сказал учитель. – Давайте спать.
И минут через десять Буркин уже спал. А Иван Иваныч все ворочался с боку на бок и вздыхал, а потом встал, опять вышел наружу и, севши у дверей, закурил трубочку.
1898Крыжовник
Еще с раннего утра все небо обложили дождевые тучи; было тихо, не жарко и скучно, как бывает в серые пасмурные дни, когда над полем давно уже нависли тучи, ждешь дождя, а его нет. Ветеринарный врач Иван Иваныч и учитель гимназии Буркин уже утомились идти, и поле представлялось им бесконечным. Далеко впереди еле были видны ветряные мельницы села Мироносицкого, справа тянулся и потом исчезал далеко за селом ряд холмов, и оба они знали, что это берег реки, там луга, зеленые ивы, усадьбы, и если стать на один из холмов, то оттуда видно такое же громадное поле, телеграф и поезд, который издали похож на ползущую гусеницу, а в ясную погоду оттуда бывает виден даже город. Теперь, в тихую погоду, когда вся природа казалась кроткой и задумчивой, Иван Иваныч и Буркин были проникнуты любовью к этому полю, и оба думали о том, как велика, как прекрасна эта страна.
– В прошлый раз, когда мы были в сарае у старосты Прокофия, – сказал Буркин, – вы собирались рассказать какую-то историю.
– Да, я хотел тогда рассказать про своего брата.
Иван Иваныч протяжно вздохнул и закурил трубочку, чтобы начать рассказывать, но как раз в это время пошел дождь. И минут через пять лил уже сильный дождь, обложной, и трудно было предвидеть, когда он кончится. Иван Иваныч и Буркин остановились в раздумье; собаки, уже мокрые, стояли, поджав хвосты, и смотрели на них с умилением.
– Нам нужно укрыться куда-нибудь, – сказал Буркин. – Пойдемте к Алехину. Тут близко.
– Пойдемте.
Они свернули в сторону и шли всё по скошенному полю, то прямо, то забирая направо, пока не вышли на дорогу. Скоро показались тополи, сад, потом красные крыши амбаров; заблестела река, и открылся вид на широкий плес с мельницей и белою купальней. Это было Софьино, где жил Алехин.
Мельница работала, заглушая шум дождя; плотина дрожала. Тут около телег стояли мокрые лошади, понурив головы, и ходили люди, накрывшись мешками. Было сыро, грязно, неуютно, и вид у плеса был холодный, злой. Иван Иваныч и Буркин испытывали уже чувство мокроты, нечистоты, неудобства во всем теле, ноги отяжелели от грязи, и когда, пройдя плотину, они поднимались к господским амбарам, то молчали, точно сердились друг на друга. В одном из амбаров шумела веялка; дверь была открыта, и из нее валила пыль. На пороге стоял сам Алехин, мужчина лет сорока, высокий, полный, с длинными волосами, похожий больше на профессора или художника, чем на помещика. На нем была белая, давно не мытая рубаха с веревочным пояском, вместо брюк кальсоны, и на сапогах тоже налипли грязь и солома. Нос и глаза были черны от пыли. Он узнал Ивана Иваныча и Буркина и, по-видимому, очень обрадовался.
– Пожалуйте, господа, в дом, – сказал он, улыбаясь. – Я сейчас, сию минуту.
Дом был большой, двухэтажный. Алехин жил внизу, в двух комнатах со сводами и с маленькими окнами, где когда-то жили приказчики; тут была обстановка простая, и пахло ржаным хлебом, дешевою водкой и сбруей. Наверху же, в парадных комнатах, он бывал редко, только когда приезжали гости. Ивана Иваныча и Буркина встретила в доме горничная, молодая женщина, такая красивая, что они оба разом остановились и поглядели друг на друга.
– Вы не можете себе представить, как я рад видеть вас, господа, – говорил Алехин, входя за ними в переднюю. – Вот не ожидал! Пелагея, – обратился он к горничной, – дайте гостям переодеться во что-нибудь. Да, кстати, и я переоденусь. Только надо сначала пойти помыться, а то я, кажется, с весны не мылся. Не хотите ли, господа, пойти в купальню, а тут пока приготовят.
Красивая Пелагея, такая деликатная и на вид такая мягкая, принесла простыни и мыло, и Алехин с гостями пошел в купальню.
– Да, давно я уже не мылся, – говорил он, раздеваясь. – Купальня у меня, как видите, хорошая, отец еще строил, но мыться как-то все некогда.
Он сел на ступеньке и намылил свои длинные волосы и шею, и вода около него стала коричневой.
– Да, признаюсь… – проговорил Иван Иваныч значительно, глядя на его голову.
– Давно я уже не мылся… – повторил Алехин конфузливо и еще раз намылился, и вода около него стала темно-синей, как чернила.
Иван Иваныч вышел наружу, бросился в воду с шумом и поплыл под дождем, широко взмахивая руками, и от него шли волны, и на волнах качались белые лилии; он доплыл до самой середины плеса и нырнул, и через минуту показался на другом месте, и поплыл дальше, и все нырял, стараясь достать дна. «Ах, боже мой… – повторял он, наслаждаясь. – Ах, боже мой…» Доплыл до мельницы, о чем-то поговорил там с мужиками и повернул назад, и на середине плеса лег, подставляя свое лицо под дождь. Буркин и Алехин уже оделись и собрались уходить, а он все плавал и нырял.
– Ах, боже мой… – говорил он. – Ах, господи помилуй!
– Будет вам! – крикнул ему Буркин.
Вернулись в дом. И только когда в большой гостиной наверху зажгли лампу, и Буркин и Иван Иваныч, одетые в шелковые халаты и теплые туфли, сидели в креслах, а сам Алехин, умытый, причесанный, в новом сюртуке, ходил по гостиной, видимо с наслаждением ощущая тепло, чистоту, сухое платье, легкую обувь, и когда красивая Пелагея, бесшумно ступая по ковру и мягко улыбаясь, подавала на подносе чай с вареньем, только тогда Иван Иваныч приступил к рассказу, и казалось, что его слушали не одни только Буркин и Алехин, но также старые и молодые дамы и военные, спокойно и строго глядевшие из золотых рам.
– Нас два брата, – начал он, – я, Иван Иваныч, и другой – Николай Иваныч, года на два помоложе. Я пошел по ученой части, стал ветеринаром, а Николай уже с девятнадцати лет сидел в казенной палате. Наш отец Чимша-Гималайский был из кантонистов, но, выслужив офицерский чин, оставил нам потомственное дворянство и именьишко. После его смерти именьишко у нас оттягали за долги, но, как бы ни было, детство мы провели в деревне на воле. Мы, все равно как крестьянские дети, дни и ночи проводили в поле, в лесу, стерегли лошадей, драли лыко, ловили рыбу и прочее тому подобное… А вы знаете, кто хоть раз в жизни поймал ерша или видел осенью перелетных дроздов, как они в ясные, прохладные дни носятся стаями над деревней, тот уже не городской житель, и его до самой смерти будет потягивать на волю. Мой брат тосковал в казенной палате. Годы проходили, а он все сидел на одном месте, писал все те же бумаги и думал все об одном и том же, как бы в деревню. И эта тоска у него мало-помалу вылилась в определенное желание, в мечту купить себе маленькую усадебку где-нибудь на берегу реки или озера.
Он был добрый, кроткий человек, я любил его, но этому желанию запереть себя на всю жизнь в собственную усадьбу я никогда не сочувствовал. Принято говорить, что человеку нужно только три аршина земли. Но ведь три аршина нужны трупу, а не человеку. И говорят также теперь, что если наша интеллигенция имеет тяготение к земле и стремится в усадьбы, то это хорошо. Но ведь эти усадьбы те же три аршина земли. Уходить из города, от борьбы, от житейского шума, уходить и прятаться у себя в усадьбе – это не жизнь, это эгоизм, лень, это своего рода монашество, но монашество без подвига. Человеку нужно не три аршина земли, не усадьба, а весь земной шар, вся природа, где на просторе он мог бы проявить все свойства и особенности своего свободного духа.
Брат мой Николай, сидя у себя в канцелярии, мечтал о том, как он будет есть свои собственные щи, от которых идет такой вкусный запах по всему двору, есть на зеленой травке, спать на солнышке, сидеть по целым часам за воротами на лавочке и глядеть на поле и лес. Сельскохозяйственные книжки и всякие эти советы в календарях составляли его радость, любимую духовную пищу; он любил читать и газеты, но читал в них одни только объявления о том, что продаются столько-то десятин пашни и луга с усадьбой, рекой, садом, мельницей, с проточными прудами. И рисовались у него в голове дорожки в саду, цветы, фрукты, скворечни, караси в прудах и, знаете, всякая эта штука. Эти воображаемые картины были различны, смотря по объявлениям, которые попадались ему, но почему-то в каждой из них непременно был крыжовник. Ни одной усадьбы, ни одного поэтического угла он не мог себе представить без того, чтобы там не было крыжовника.
– Деревенская жизнь имеет свои удобства, – говорил он, бывало. – Сидишь на балконе, пьешь чай, а на пруде твои уточки плавают, пахнет так хорошо, и… и крыжовник растет.
Он чертил план своего имения, и всякий раз у него на плане выходило одно и то же: а) барский дом, b) людская, с) огород, d) крыжовник. Жил он скупо: недоедал, недопивал, одевался бог знает как, словно нищий, и все копил и клал в банк. Страшно жадничал. Мне было больно глядеть на него, и я кое-что давал ему и посылал на праздниках, но он и это прятал. Уж коли задался человек идеей, то ничего не поделаешь.
Годы шли, перевели его в другую губернию, минуло ему уже сорок лет, а он все читал объявления в газетах и копил. Потом, слышу, женился. Все с той же целью, чтобы купить себе усадьбу с крыжовником, он женился на старой, некрасивой вдове, без всякого чувства, а только потому, что у нее водились деньжонки. Он и с ней тоже жил скупо, держал ее впроголодь, а деньги ее положил в банк на свое имя. Раньше она была за почтмейстером и привыкла у него к пирогам и к наливкам, а у второго мужа и хлеба черного не видала вдоволь; стала чахнуть от такой жизни да года через три взяла и отдала богу душу. И, конечно, брат мой ни одной минуты не подумал, что он виноват в ее смерти. Деньги, как водка, делают человека чудаком. У нас в городе умирал купец. Перед смертью приказал подать себе тарелку меду и съел все свои деньги и выигрышные билеты вместе с медом, чтобы никому не досталось. Как-то на вокзале я осматривал гурты, и в это время один барышник попал под локомотив, и ему отрезало ногу. Несем мы его в приемный покой, кровь льет – страшное дело, а он все просит, чтобы ногу его отыскали, и все беспокоится: в сапоге на отрезанной ноге двадцать рублей, как бы не пропали.
– Это вы уж из другой оперы, – сказал Буркин.
– После смерти жены, – продолжал Иван Иваныч, подумав полминуты, – брат мой стал высматривать себе имение. Конечно, хоть пять лет высматривай, но все же в конце концов ошибешься и купишь совсем не то, о чем мечтал. Брат Николай через комиссионера, с переводом долга, купил сто двенадцать десятин с барским домом, с людской, с парком, но ни фруктового сада, ни крыжовника, ни прудов с уточками; была река, но вода в ней цветом как кофе, потому что по одну сторону имения кирпичный завод, а по другую – костопальный. Но мой Николай Иваныч мало печалился; он выписал себе двадцать кустов крыжовника, посадил и зажил помещиком.
В прошлом году я поехал к нему проведать. Поеду, думаю, посмотрю, как и что там. В письмах своих брат называл свое имение так: Чумбароклова пустошь, Гималайское тож. Приехал я в «Гималайское тож» после полудня. Было жарко. Везде канавы, заборы, изгороди, понасажены рядами елки, – и не знаешь, как проехать во двор, куда поставить лошадь. Иду к дому, а навстречу мне рыжая собака, толстая, похожая на свинью. Хочется ей лаять, да лень. Вышла из кухни кухарка, голоногая, толстая, тоже похожая на свинью, и сказала, что барин отдыхает после обеда. Вхожу к брату, он сидит в постели, колени покрыты одеялом; постарел, располнел, обрюзг; щеки, нос и губы тянутся вперед, – того и гляди, хрюкнет в одеяло.
Мы обнялись и всплакнули от радости и от грустной мысли, что когда-то были молоды, а теперь оба седы, и умирать пора. Он оделся и повел меня показывать свое имение.
– Ну, как ты тут поживаешь? – спросил я.
– Да ничего, слава богу, живу хорошо.
Это уж был не прежний робкий бедняга-чиновник, а настоящий помещик, барин. Он уж обжился тут, привык и вошел во вкус; кушал много, в бане мылся, полнел, уже судился с обществом и с обоими заводами, и очень обижался, когда мужики не называли его «ваше высокоблагородие». И о душе своей заботился солидно, по-барски, и добрые дела творил не просто, а с важностью. А какие добрые дела? Лечил мужиков от всех болезней содой и касторкой и в день своих именин служил среди деревни благодарственный молебен, а потом ставил полведра, думал, что так нужно. Ах, эти ужасные полведра! Сегодня толстый помещик тащит мужиков к земскому начальнику за потраву, а завтра, в торжественный день, ставит им полведра, а они пьют и кричат «ура» и, пьяные, кланяются ему в ноги. Перемена жизни к лучшему, сытость, праздность развивают в русском человеке самомнение, самое наглое. Николай Иваныч, который когда-то в казенной палате боялся даже для себя лично иметь собственные взгляды, теперь говорил одни только истины, и таким тоном, точно министр: «Образование необходимо, но для народа оно преждевременно», «Телесные наказания вообще вредны, но в некоторых случаях они полезны и незаменимы».
– Я знаю народ и умею с ним обращаться, – говорил он. – Меня народ любит. Стоит мне только пальцем шевельнуть, и для меня народ сделает все, что захочу.
И все это, заметьте, говорилось с умной, доброю улыбкой. Он раз двадцать повторил: «мы, дворяне», «я как дворянин»; очевидно, уже не помнил, что дед наш был мужик, а отец – солдат. Даже наша фамилия Чимша-Гималайский, в сущности несообразная, казалась ему теперь звучной, знатной и очень приятной.
Но дело не в нем, а во мне самом. Я хочу вам рассказать, какая перемена произошла во мне в эти немногие часы, пока я был в его усадьбе. Вечером, когда мы пили чай, кухарка подала к столу полную тарелку крыжовнику. Это был не купленный, а свой собственный крыжовник, собранный в первый раз с тех пор, как были посажены кусты. Николай Иваныч засмеялся и минуту глядел на крыжовник молча, со слезами, – он не мог говорить от волнения, потом положил в рот одну ягоду, поглядел на меня с торжеством ребенка, который наконец получил свою любимую игрушку, и сказал:
– Как вкусно!
И он с жадностью ел и все повторял:
– Ах, как вкусно! Ты попробуй!
Было жестко и кисло, но, как сказал Пушкин, «тьмы истин нам дороже нас возвышающий обман». Я видел счастливого человека, заветная мечта которого осуществилась так очевидно, который достиг цели в жизни, получил то, что хотел, который был доволен своей судьбой, самим собой. К моим мыслям о человеческом счастье всегда почему-то примешивалось что-то грустное, теперь же, при виде счастливого человека, мною овладело тяжелое чувство, близкое к отчаянию. Особенно тяжело было ночью. Мне постлали постель в комнате рядом с спальней брата, и мне было слышно, как он не спал и как вставал и подходил к тарелке с крыжовником и брал по ягодке. Я соображал: как, в сущности, много довольных, счастливых людей! Какая это подавляющая сила! Вы взгляните на эту жизнь: наглость и праздность сильных, невежество и скотоподобие слабых, кругом бедность невозможная, теснота, вырождение, пьянство, лицемерие, вранье… Между тем во всех домах и на улицах тишина, спокойствие; из пятидесяти тысяч, живущих в городе, ни одного, который бы вскрикнул, громко возмутился. Мы видим тех, которые ходят на рынок за провизией, днем едят, ночью спят, которые говорят свою чепуху, женятся, старятся, благодушно тащат на кладбище своих покойников; но мы не видим и не слышим тех, которые страдают, и то, что страшно в жизни, происходит где-то за кулисами. Все тихо, спокойно, и протестует одна только немая статистика: столько-то с ума сошло, столько-то ведер выпито, столько-то детей погибло от недоедания… И такой порядок, очевидно, нужен; очевидно, счастливый чувствует себя хорошо только потому, что несчастные несут свое бремя молча, и без этого молчания счастье было бы невозможно. Это общий гипноз. Надо, чтобы за дверью каждого довольного, счастливого человека стоял кто-нибудь с молоточком и постоянно напоминал бы стуком, что есть несчастные, что, как бы он ни был счастлив, жизнь рано или поздно покажет ему свои когти, стрясется беда – болезнь, бедность, потери, и его никто не увидит и не услышит, как теперь он не видит и не слышит других. Но человека с молоточком нет, счастливый живет себе, и мелкие житейские заботы волнуют его слегка, как ветер осину, – и все обстоит благополучно.
– В ту ночь мне стало понятно, как я тоже был доволен и счастлив, – продолжал Иван Иваныч, вставая. – Я тоже за обедом и на охоте поучал, как жить, как веровать, как управлять народом. Я тоже говорил, что ученье свет, что образование необходимо, но для простых людей пока довольно одной грамоты. Свобода есть благо, говорил я, без нее нельзя, как без воздуха, но надо подождать. Да, я говорил так, а теперь спрашиваю: во имя чего ждать? – спросил Иван Иваныч, сердито глядя на Буркина. – Во имя чего ждать, я вас спрашиваю? Во имя каких соображений? Мне говорят, что не все сразу, всякая идея осуществляется в жизни постепенно, в свое время. Но кто это говорит? Где доказательства, что это справедливо? Вы ссылаетесь на естественный порядок вещей, на законность явлений, но есть ли порядок и законность в том, что я, живой, мыслящий человек, стою надо рвом и жду, когда он зарастет сам или затянет его илом, в то время как, быть может, я мог бы перескочить через него или построить через него мост? И опять-таки во имя чего ждать? Ждать, когда нет сил жить, а между тем жить нужно и хочется жить!
Я уехал тогда от брата рано утром, и с тех пор для меня стало невыносимо бывать в городе. Меня угнетают тишина и спокойствие, я боюсь смотреть на окна, так как для меня теперь нет более тяжелого зрелища, как счастливое семейство, сидящее вокруг стола и пьющее чай. Я уже стар и не гожусь для борьбы, я не способен даже ненавидеть. Я только скорблю душевно, раздражаюсь, досадую, по ночам у меня горит голова от наплыва мыслей, и я не могу спать… Ах, если б я был молод!
Иван Иваныч прошелся в волнении из угла в угол и повторил:
– Если б я был молод!
Он вдруг подошел к Алехину и стал пожимать ему то одну руку, то другую.
– Павел Константиныч! – проговорил он умоляющим голосом, – не успокаивайтесь, не давайте усыплять себя! Пока молоды, сильны, бодры, не уставайте делать добро! Счастья нет, и не должно его быть, а если в жизни есть смысл и цель, то смысл этот и цель вовсе не в нашем счастье, а в чем-то более разумном и великом. Делайте добро!
И все это Иван Иваныч проговорил с жалкой, просящею улыбкой, как будто просил лично для себя.
Потом все трое сидели в креслах, в разных концах гостиной, и молчали. Рассказ Ивана Иваныча не удовлетворил ни Буркина, ни Алехина. Когда из золотых рам глядели генералы и дамы, которые в сумерках казались живыми, слушать рассказ про беднягу чиновника, который ел крыжовник, было скучно. Хотелось почему-то говорить и слушать про изящных людей, про женщин. И то, что они сидели в гостиной, где всё – и люстра в чехле, и кресла, и ковры под ногами говорили, что здесь когда-то ходили, сидели, пили чай вот эти самые люди, которые глядели теперь из рам, и то, что здесь теперь бесшумно ходила красивая Пелагея, – это было лучше всяких рассказов.
Алехину сильно хотелось спать; он встал по хозяйству рано, в третьем часу утра, и теперь у него слипались глаза, но он боялся, как бы гости не стали без него рассказывать что-нибудь интересное, и не уходил. Умно ли, справедливо ли было то, что только что говорил Иван Иваныч, он не вникал; гости говорили не о крупе, не о сене, не о дегте, а о чем-то, что не имело прямого отношения к его жизни, и он был рад и хотел, чтобы они продолжали…
– Однако пора спать, – сказал Буркин, поднимаясь. – Позвольте пожелать вам спокойной ночи.
Алехин простился и ушел к себе вниз, а гости остались наверху. Им обоим отвели на ночь большую комнату, где стояли две старые деревянные кровати с резными украшениями и в углу было распятие из слоновой кости; от их постелей, широких, прохладных, которые постилала красивая Пелагея, приятно пахло свежим бельем.
Иван Иваныч молча разделся и лег.
– Господи, прости нас, грешных! – проговорил он и укрылся с головой.
От его трубочки, лежавшей на столе, сильно пахло табачным перегаром, и Буркин долго не спал и все никак не мог понять, откуда этот тяжелый запах.
Дождь стучал в окна всю ночь.
1898О любви
На другой день к завтраку подавали очень вкусные пирожки, раков и бараньи котлеты; и, пока ели, приходил наверх повар Никанор справиться, что гости желают к обеду. Это был человек среднего роста, с пухлым лицом и маленькими глазами, бритый, и казалось, что усы у него были не бриты, а выщипаны.
Алехин рассказал, что красивая Пелагея была влюблена в этого повара. Так как он был пьяница и буйного нрава, то она не хотела за него замуж, но соглашалась жить так. Он же был очень набожен, и религиозные убеждения не позволяли ему жить так; он требовал, чтобы она шла за него, и иначе не хотел, и бранил ее, когда бывал пьян, и даже бил. Когда он бывал пьян, она пряталась наверху и рыдала, и тогда Алехин и прислуга не уходили из дому, чтобы защитить ее в случае надобности.
Стали говорить о любви.
– Как зарождается любовь, – сказал Алехин, – почему Пелагея не полюбила кого-нибудь другого, более подходящего к ней по ее душевным и внешним качествам, а полюбила именно Никанора, этого мурло, – тут у нас все зовут его мурлом, – поскольку в любви важны вопросы личного счастья – все это неизвестно и обо всем этом можно трактовать как угодно. До сих пор о любви была сказана только одна неоспоримая правда, а именно, что «тайна сия велика есть», все же остальное, что писали и говорили о любви, было не решением, а только постановкой вопросов, которые так и оставались неразрешенными. То объяснение, которое, казалось бы, годится для одного случая, уже не годится для десяти других, и самое лучшее, по-моему, – это объяснять каждый случай в отдельности, не пытаясь обобщать. Надо, как говорят доктора, индивидуализировать каждый отдельный случай.
– Совершенно верно, – согласился Буркин.
– Мы, русские порядочные люди, питаем пристрастие к этим вопросам, остающимся без разрешения. Обыкновенно любовь поэтизируют, украшают ее розами, соловьями, мы же, русские, украшаем нашу любовь этими роковыми вопросами, и притом выбираем из них самые неинтересные. В Москве, когда я еще был студентом, у меня была подруга жизни, милая дама, которая всякий раз, когда я держал ее в объятиях, думала о том, сколько я буду выдавать ей в месяц и почем теперь говядина за фунт. Так и мы, когда любим, то не перестаем задавать себе вопросы: честно это или не честно, умно или глупо, к чему поведет эта любовь и так далее. Хорошо это или нет, я не знаю, но что это мешает, не удовлетворяет, раздражает, – это я знаю.
Было похоже, что он хочет что-то рассказать. У людей, живущих одиноко, всегда бывает на душе что-нибудь такое, что они охотно бы рассказали. В городе холостяки нарочно ходят в баню и в рестораны, чтобы только поговорить, и иногда рассказывают банщикам или официантам очень интересные истории, в деревне же обыкновенно они изливают душу перед своими гостями. Теперь в окна было видно серое небо и деревья, мокрые от дождя, в такую погоду некуда было деваться и ничего больше не оставалось, как только рассказывать и слушать.
– Я живу в Софьине и занимаюсь хозяйством уже давно, – начал Алехин, – с тех пор как кончил в университете. По воспитанию я белоручка, по наклонностям – кабинетный человек, но на имении, когда я приехал сюда, был большой долг, а так как отец мой задолжал отчасти потому, что много тратил на мое образование, то я решил, что не уеду отсюда и буду работать, пока не уплачу этого долга. Я решил так и начал тут работать, признаюсь, не без некоторого отвращения. Здешняя земля дает немного, и, чтобы сельское хозяйство было не в убыток, нужно пользоваться трудом крепостных или наемных батраков, что почти одно и то же, или же вести свое хозяйство на крестьянский лад, то есть работать в поле самому, со своей семьей. Середины тут нет. Но я тогда не вдавался в такие тонкости. Я не оставлял в покое ни одного клочка земли, я сгонял всех мужиков и баб из соседних деревень, работа у меня тут кипела неистовая; я сам тоже пахал, сеял, косил и при этом скучал и брезгливо морщился, как деревенская кошка, которая с голоду ест на огороде огурцы; тело мое болело, и я спал на ходу. В первое время мне казалось, что эту рабочую жизнь я могу легко помирить со своими культурными привычками; для этого стоит только, думал я, держаться в жизни известного внешнего порядка. Я поселился тут наверху, в парадных комнатах, и завел так, что после завтрака и обеда мне подавали кофе с ликерами и, ложась спать, я читал на ночь «Вестник Европы». Но как-то пришел наш батюшка, отец Иван, и в один присест выпил все мои ликеры; и «Вестник Европы» пошел тоже к поповнам, так как летом, особенно во время покоса, я не успевал добраться до своей постели и засыпал в сарае в санях или где-нибудь в лесной сторожке – какое уж тут чтение? Я мало-помалу перебрался вниз, стал обедать в людской кухне, и из прежней роскоши у меня осталась только вся эта прислуга, которая еще служила моему отцу и которую уволить мне было бы больно.
В первые же годы меня здесь выбрали в почетные мировые судьи. Кое-когда приходилось наезжать в город и принимать участие в заседаниях съезда и окружного суда, и это меня развлекало. Когда поживешь здесь безвыездно месяца два-три, особенно зимой, то в конце концов начинаешь тосковать по черном сюртуке. А в окружном суде были и сюртуки, и мундиры, и фраки, всё юристы, люди, получившие общее образование; было с кем поговорить. После спанья в санях, после людской кухни сидеть в кресле, в чистом белье, в легких ботинках, с цепью на груди – это такая роскошь!
В городе меня принимали радушно, я охотно знакомился. И из всех знакомств самым основательным и, правду сказать, самым приятным для меня было знакомство с Лугановичем, товарищем председателя окружного суда. Его вы знаете оба: милейшая личность. Это было как раз после знаменитого дела поджигателей; разбирательство продолжалось два дня, мы были утомлены, Луганович посмотрел на меня и сказал:
– Знаете что? Пойдемте ко мне обедать.
Это было неожиданно, так как с Лугановичем я был знаком мало, только официально, и ни разу у него не был. Я только на минутку зашел к себе в номер, чтобы переодеться, и отправился на обед. И тут мне представился случай познакомиться с Анной Алексеевной, женой Лугановича. Тогда она была еще очень молода, не старше двадцати двух лет, и за полгода до того у нее родился первый ребенок. Дело прошлое, и теперь бы я затруднился определить, что, собственно, в ней было такого необыкновенного, что мне так понравилось в ней, тогда же за обедом для меня все было неотразимо ясно; я видел женщину молодую, прекрасную, добрую, интеллигентную, обаятельную, женщину, какой я раньше никогда не встречал; и сразу я почувствовал в ней существо близкое, уже знакомое, точно это лицо, эти приветливые, умные глаза я видел уже когда-то в детстве, в альбоме, который лежал на комоде у моей матери.
В деле поджигателей обвинили четырех евреев, признали шайку и, по-моему, совсем неосновательно. За обедом я очень волновался, мне было тяжело, и уж не помню, что я говорил, только Анна Алексеевна все покачивала головой и говорила мужу:
– Дмитрий, как же это так?
Луганович – это добряк, один из тех простодушных людей, которые крепко держатся мнения, что раз человек попал под суд, то, значит, он виноват, и что выражать сомнение в правильности приговора можно не иначе, как в законном порядке, на бумаге, но никак не за обедом и не в частном разговоре.
– Мы с вами не поджигали, – говорил он мягко, – и вот нас же не судят, не сажают в тюрьму.
И оба, муж и жена, старались, чтобы я побольше ел и пил; по некоторым мелочам, по тому, например, как оба они вместе варили кофе, и по тому, как они понимали друг друга с полуслов, я мог заключить, что живут они мирно, благополучно и что они рады гостю. После обеда играли на рояле в четыре руки, потом стало темно, и я уехал к себе. Это было в начале весны. Затем все лето провел я в Софьине безвыездно, и было мне некогда даже подумать о городе, но воспоминание о стройной белокурой женщине оставалось во мне все дни; я не думал о ней, но точно легкая тень ее лежала на моей душе.
Позднею осенью в городе был спектакль с благотворительной целью. Вхожу я в губернаторскую ложу (меня пригласили туда в антракте), смотрю – рядом с губернаторшей Анна Алексеевна, и опять то же самое неотразимое, бьющее впечатление красоты и милых ласковых глаз, и опять то же чувство близости.
Мы сидели рядом, потом ходили в фойе.
– Вы похудели, – сказала она. – Вы были больны?
– Да. У меня простужено плечо, и в дождливую погоду я дурно сплю.
– У вас вялый вид. Тогда весной, когда вы приходили обедать, вы были моложе, бодрее. Вы тогда были воодушевлены и много говорили, были очень интересны, и, признаюсь, я даже увлеклась вами немножко. Почему-то часто в течение лета вы приходили мне на память, и сегодня, когда я собиралась в театр, мне казалось, что я вас увижу.
И она засмеялась.
– Но сегодня у вас вялый вид, – повторила она. – Это вас старит.
На другой день я завтракал у Лугановичей; после завтрака они поехали к себе на дачу, чтобы распорядиться там насчет зимы, и я с ними. С ними же вернулся в город и в полночь пил у них чай в тихой, семейной обстановке, когда горел камин, и молодая мать все уходила взглянуть, спит ли ее девочка. И после этого в каждый свой приезд я непременно бывал у Лугановичей. Ко мне привыкли, и я привык. Обыкновенно входил я без доклада, как свой человек.
– Кто там? – слышался из дальних комнат протяжный голос, который казался мне таким прекрасным.
– Это Павел Константиныч, – отвечала горничная или няня.
Анна Алексеевна выходила ко мне с озабоченным лицом и всякий раз спрашивала:
– Почему вас так долго не было? Случилось что-нибудь?
Ее взгляд, изящная, благородная рука, которую она подавала мне, ее домашнее платье, прическа, голос, шаги всякий раз производили на меня все то же впечатление чего-то нового, необыкновенного в моей жизни и важного. Мы беседовали подолгу и подолгу молчали, думая каждый о своем, или же она играла мне на рояле. Если же никого не было дома, то я оставался и ждал, разговаривал с няней, играл с ребенком или же в кабинете лежал на турецком диване и читал газету, а когда Анна Алексеевна возвращалась, то я встречал ее в передней, брал от нее все ее покупки, и почему-то всякий раз эти покупки я нес с такою любовью, с таким торжеством, точно мальчик.
Есть пословица: не было у бабы хлопот, так купила порося. Не было у Лугановичей хлопот, так подружились они со мной. Если я долго не приезжал в город, то, значит, я был болен или что-нибудь случилось со мной, и они оба сильно беспокоились. Они беспокоились, что я, образованный человек, знающий языки, вместо того чтобы заниматься наукой или литературным трудом, живу в деревне, верчусь как белка в колесе, много работаю, но всегда без гроша. Им казалось, что я страдаю, и если я говорю, смеюсь, ем, то только для того, чтобы скрыть свои страдания, и даже в веселые минуты, когда мне было хорошо, я чувствовал на себе их пытливые взгляды. Они были особенно трогательны, когда мне в самом деле приходилось тяжело, когда меня притеснял какой-нибудь кредитор или не хватало денег для срочного платежа; оба, муж и жена, шептались у окна, потом он подходил ко мне и с серьезным лицом говорил:
– Если вы, Павел Константиныч, в настоящее время нуждаетесь в деньгах, то я и жена просим вас не стесняться и взять у нас.
И уши краснели у него от волнения. А случалось, что точно так же, пошептавшись у окна, он подходил ко мне, с красными ушами, и говорил:
– Я и жена убедительно просим вас принять от нас вот этот подарок.
И подавал запонки, портсигар или лампу; и я за это присылал им из деревни битую птицу, масло и цветы. Кстати сказать, оба они были состоятельные люди. В первое время я часто брал взаймы и был не особенно разборчив, брал, где только возможно, но никакие силы не заставили бы меня взять у Лугановичей. Да что говорить об этом!
Я был несчастлив. И дома, и в поле, и в сарае я думал о ней, я старался понять тайну молодой, красивой, умной женщины, которая выходит за неинтересного человека, почти за старика (мужу было больше сорока лет), имеет от него детей, – понять тайну этого неинтересного человека, добряка, простяка, который рассуждает с таким скучным здравомыслием, на балах и вечеринках держится около солидных людей, вялый, ненужный, с покорным, безучастным выражением, точно его привели сюда продавать, который верит, однако, в свое право быть счастливым, иметь от нее детей; и я все старался понять, почему она встретилась именно ему, а не мне, и для чего это нужно было, чтобы в нашей жизни произошла такая ужасная ошибка.
А приезжая в город, я всякий раз по ее глазам видел, что она ждала меня; и она сама признавалась мне, что еще с утра у нее было какое-то особенное чувство, она угадывала, что я приеду. Мы подолгу говорили, молчали, но мы не признавались друг другу в нашей любви и скрывали ее робко, ревниво. Мы боялись всего, что могло бы открыть нашу тайну нам же самим. Я любил нежно, глубоко, но я рассуждал, я спрашивал себя, к чему может повести наша любовь, если у нас не хватит сил бороться с нею; мне казалось невероятным, что эта моя тихая, грустная любовь вдруг грубо оборвет счастливое течение жизни ее мужа, детей, всего этого дома, где меня так любили и где мне так верили. Честно ли это? Она пошла бы за мной, но куда? Куда бы я мог увести ее? Другое дело, если бы у меня была красивая, интересная жизнь, если б я, например, боролся за освобождение родины или был знаменитым ученым, артистом, художником, а то ведь из одной обычной, будничной обстановки пришлось бы увлечь ее в другую такую же или еще более будничную. И как бы долго продолжалось наше счастье? Что было бы с ней в случае моей болезни, смерти, или просто если бы мы разлюбили друг друга?
И она, по-видимому, рассуждала подобным же образом. Она думала о муже, о детях, о своей матери, которая любила ее мужа, как сына. Если б она отдалась своему чувству, то пришлось бы лгать или говорить правду, а в ее положении то и другое было бы одинаково страшно и неудобно. И ее мучил вопрос: принесет ли мне счастье ее любовь, не осложнит ли она моей жизни, и без того тяжелой, полной всяких несчастий? Ей казалось, что она уже недостаточно молода для меня, недостаточно трудолюбива и энергична, чтобы начать новую жизнь, и она часто говорила с мужем о том, что мне нужно жениться на умной, достойной девушке, которая была бы хорошей хозяйкой, помощницей, – и тотчас же добавляла, что во всем городе едва ли найдется такая девушка.
Между тем годы шли. У Анны Алексеевны было уже двое детей. Когда я приходил к Лугановичам, прислуга улыбалась приветливо, дети кричали, что пришел дядя Павел Константиныч, и вешались мне на шею; все радовались. Не понимали, что делалось в моей душе, и думали, что я тоже радуюсь. Все видели во мне благородное существо. И взрослые и дети чувствовали, что по комнате ходит благородное существо, и это вносило в их отношения ко мне какую-то особую прелесть, точно в моем присутствии и их жизнь была чище и красивее. Я и Анна Алексеевна ходили вместе в театр, всякий раз пешком; мы сидели в креслах рядом; плечи наши касались, я молча брал из ее рук бинокль и в это время чувствовал, что она близка мне, что она моя, что нам нельзя друг без друга, но, по какому-то странному недоразумению, выйдя из театра, мы всякий раз прощались и расходились, как чужие. В городе уже говорили о нас бог знает что, но из всего, что говорили, не было ни одного слова правды.
В последние годы Анна Алексеевна стала чаще уезжать то к матери, то к сестре; у нее уже бывало дурное настроение, являлось сознание неудовлетворенной, испорченной жизни, когда не хотелось видеть ни мужа, ни детей. Она уже лечилась от расстройства нервов.
Мы молчали и всё молчали, а при посторонних она испытывала какое-то странное раздражение против меня; о чем бы я ни говорил, она не соглашалась со мной, и если я спорил, то она принимала сторону моего противника. Когда я ронял что-нибудь, то она говорила холодно:
– Поздравляю вас.
Если, идя с ней в театр, я забывал взять бинокль, то потом она говорила:
– Я так и знала, что вы забудете.
К счастью или к несчастью, в нашей жизни не бывает ничего, что не кончалось бы рано или поздно. Наступило время разлуки, так как Лугановича назначили председателем в одной из западных губерний. Нужно было продавать мебель, лошадей, дачу. Когда ездили на дачу и потом возвращались и оглядывались, чтобы в последний раз взглянуть на сад, на зеленую крышу, то было всем грустно, и я понимал, что пришла пора прощаться не с одной только дачей. Было решено, что в конце августа мы проводим Анну Алексеевну в Крым, куда посылали ее доктора, а немного погодя уедет Луганович с детьми в свою западную губернию.
Мы провожали Анну Алексеевну большой толпой. Когда она уже простилась с мужем и детьми и до третьего звонка оставалось одно мгновение, я вбежал к ней в купе, чтобы положить на полку одну из ее корзинок, которую она едва не забыла; и нужно было проститься. Когда тут, в купе, взгляды наши встретились, душевные силы оставили нас обоих, я обнял ее, она прижалась лицом к моей груди, и слезы потекли из глаз; целуя ее лицо, плечи, руки, мокрые от слез, – о, как мы были с ней несчастны! – я признался ей в своей любви, и со жгучей болью в сердце я понял, как не нужно, мелко и как обманчиво было все то, что нам мешало любить.
Я понял, что когда любишь, то в своих рассуждениях об этой любви нужно исходить от высшего, от более важного, чем счастье или несчастье, грех или добродетель в их ходячем смысле, или не нужно рассуждать вовсе.
Я поцеловал в последний раз, пожал руку, и мы расстались – навсегда. Поезд уже шел. Я сел в соседнем купе, – оно было пусто, – и до первой станции сидел тут и плакал. Потом пошел к себе в Софьино пешком…
Пока Алехин рассказывал, дождь перестал и выглянуло солнце. Буркин и Иван Иваныч вышли на балкон; отсюда был прекрасный вид на сад и на плес, который теперь на солнце блестел, как зеркало. Они любовались и в то же время жалели, что этот человек с добрыми, умными глазами, который рассказывал им с таким чистосердечием, в самом деле вертелся здесь, в этом громадном имении, как белка в колесе, а не занимался наукой или чем-нибудь другим, что делало бы его жизнь более приятной; и они думали о том, какое, должно быть, скорбное лицо было у молодой дамы, когда он прощался с ней в купе и целовал ей лицо и плечи. Оба они встречали ее в городе, а Буркин был даже знаком с ней и находил ее красивой.
1898Душечка
Оленька, дочь отставного коллежского асессора Племянникова, сидела у себя во дворе на крылечке, задумавшись. Было жарко, назойливо приставали мухи, и было так приятно думать, что скоро уже вечер. С востока надвигались темные дождевые тучи, и оттуда изредка потягивало влагой.
Среди двора стоял Кукин, антрепренер и содержатель увеселительного сада «Тиволи», квартировавший тут же во дворе, во флигеле, и глядел на небо.
– Опять! – говорил он с отчаянием. – Опять будет дождь! Каждый день дожди, каждый день дожди – точно нарочно! Ведь это петля! Это разоренье! Каждый день страшные убытки!
Он всплеснул руками и продолжал, обращаясь к Оленьке:
– Вот вам, Ольга Семеновна, наша жизнь. Хоть плачь! Работаешь, стараешься, мучишься, ночей не спишь, все думаешь, как бы лучше, – и что же? С одной стороны, публика невежественная, дикая. Даю ей самую лучшую оперетку, феерию, великолепных куплетистов, но разве ей это нужно? Разве она в этом понимает что-нибудь? Ей нужен балаган! Ей подавай пошлость! С другой стороны, взгляните на погоду. Почти каждый вечер дождь. Как зарядило с десятого мая, так потом весь май и июнь, просто ужас! Публика не ходит, но ведь я за аренду плачу? Артистам плачу?
На другой день под вечер опять надвигались тучи, и Кукин говорил с истерическим хохотом:
– Ну что ж? И пускай! Пускай хоть весь сад зальет, хоть меня самого! Чтоб мне не было счастья ни на этом, ни на том свете! Пускай артисты подают на меня в суд! Что суд? Хоть на каторгу в Сибирь! Хоть на эшафот! Ха-ха-ха!
И на третий день то же…
Оленька слушала Кукина молча, серьезно, и, случалось, слезы выступали у нее на глазах. В конце концов несчастья Кукина тронули ее, она его полюбила. Он был мал ростом, тощ, с желтым лицом, с зачесанными височками, говорил жидким тенорком, и когда говорил, то кривил рот; и на лице у него всегда было написано отчаяние, но все же он возбудил в ней настоящее, глубокое чувство. Она постоянно любила кого-нибудь и не могла без этого. Раньше она любила своего папашу, который теперь сидел больной, в темной комнате, в кресле, и тяжело дышал; любила свою тетю, которая иногда, раз в два года, приезжала из Брянска; а еще раньше, когда училась в прогимназии, любила своего учителя французского языка. Это была тихая, добродушная, жалостливая барышня с кротким, мягким взглядом, очень здоровая. Глядя на ее полные розовые щеки, на мягкую белую шею с темной родинкой, на добрую, наивную улыбку, которая бывала на ее лице, когда она слушала что-нибудь приятное, мужчины думали: «Да, ничего себе…» – и тоже улыбались, а гостьи-дамы не могли удержаться, чтобы вдруг среди разговора не схватить ее за руку и не проговорить в порыве удовольствия:
– Душечка!
Дом, в котором она жила со дня рождения и который в завещании был записан на ее имя, находился на окраине города, в Цыганской слободке, недалеко от сада «Тиволи»; по вечерам и по ночам ей слышно было, как в саду играла музыка, как лопались с треском ракеты, и ей казалось, что это Кукин воюет со своей судьбой и берет приступом своего главного врага – равнодушную публику; сердце у нее сладко замирало, спать совсем не хотелось, и, когда под утро он возвращался домой, она тихо стучала в окошко из своей спальни и, показывая ему сквозь занавески только лицо и одно плечо, ласково улыбалась…
Он сделал предложение, и они повенчались. И когда он увидал как следует ее шею и полные здоровые плечи, то всплеснул руками и проговорил:
– Душечка!
Он был счастлив, но так как в день свадьбы и потом ночью шел дождь, то с его лица не сходило выражение отчаяния.
После свадьбы жили хорошо. Она сидела у него в кассе, смотрела за порядками в саду, записывала расходы, выдавала жалованье, и ее розовые щеки, милая, наивная, похожая на сияние улыбка мелькали то в окошечке кассы, то за кулисами, то в буфете. И она уже говорила своим знакомым, что самое замечательное, самое важное и нужное на свете – это театр и что получить истинное наслаждение и стать образованным и гуманным можно только в театре.
– Но разве публика понимает это? – говорила она. – Ей нужен балаган! Вчера у нас шел «Фауст наизнанку», и почти все ложи были пустые, а если бы мы с Ваничкой поставили какую-нибудь пошлость, то, поверьте, театр был бы битком набит. Завтра мы с Ваничкой ставим «Орфея в аду», приходите.
И что говорил о театре и об актерах Кукин, то повторяла и она. Публику она так же, как и он, презирала за равнодушие к искусству и за невежество, на репетициях вмешивалась, поправляла актеров, смотрела за поведением музыкантов, и когда в местной газете неодобрительно отзывались о театре, то она плакала и потом ходила в редакцию объясняться.
Актеры любили ее и называли «мы с Ваничкой» и «душечкой»; она жалела их и давала им понемножку взаймы, и если, случалось, ее обманывали, то она только потихоньку плакала, но мужу не жаловалась.
И зимой жили хорошо. Сняли городской театр на всю зиму и сдавали его на короткие сроки то малороссийской труппе, то фокуснику, то местным любителям. Оленька полнела и вся сияла от удовольствия, а Кукин худел и желтел и жаловался на страшные убытки, хотя всю зиму дела шли недурно. По ночам он кашлял, а она поила его малиной и липовым цветом, натирала одеколоном, кутала в свои мягкие шали.
– Какой ты у меня славненький! – говорила она совершенно искренно, приглаживая ему волосы. – Какой ты у меня хорошенький.
В великом посту он уехал в Москву набирать труппу, а она без него не могла спать, все сидела у окна и смотрела на звезды. И в это время она сравнивала себя с курами, которые тоже всю ночь не спят и испытывают беспокойство, когда в курятнике нет петуха. Кукин задержался в Москве и писал, что вернется к святой, и в письмах уже делал распоряжения насчет «Тиволи». Но под страстной понедельник, поздно вечером, вдруг раздался зловещий стук в ворота; кто-то бил в калитку, как в бочку: бум! бум! бум! Сонная кухарка, шлепая босыми ногами по лужам, побежала отворять.
– Отворите, сделайте милость! – говорил кто-то за воротами глухим басом. – Вам телеграмма!
Оленька и раньше получала телеграммы от мужа, но теперь почему-то так и обомлела. Дрожащими руками она распечатала телеграмму и прочла следующее:
«Иван Петрович скончался сегодня скоропостижно сючала ждем распоряжений хохороны вторник».
Так и было напечатано в телеграмме «хохороны» и какое-то еще непонятное слово «сючала»; подпись была режиссера опереточной труппы.
– Голубчик мой! – зарыдала Оленька. – Ваничка мой миленький, голубчик мой! Зачем же я с тобой повстречалась? Зачем я тебя узнала и полюбила! На кого ты покинул свою бедную Оленьку, бедную, несчастную?..
Кукина похоронили во вторник, в Москве, на Ваганькове; Оленька вернулась домой в среду, и как только вошла к себе, то повалилась на постель и зарыдала так громко, что слышно было на улице и в соседних дворах.
– Душечка! – говорили соседки, крестясь. – Душечка Ольга Семеновна, матушка, как убивается!
Три месяца спустя как-то Оленька возвращалась от обедни, печальная, в глубоком трауре. Случилось, что с нею шел рядом, тоже возвращавшийся из церкви, один из ее соседей, Василий Андреич Пустовалов, управляющий лесным складом купца Бабакаева. Он был в соломенной шляпе и в белом жилете с золотой цепочкой и походил больше на помещика, чем на торговца.
– Всякая вещь имеет свой порядок, Ольга Семеновна, – говорил он степенно, с сочувствием в голосе, – и если кто из наших ближних умирает, то, значит, так Богу угодно, и в этом случае мы должны себя помнить и переносить с покорностью.
Доведя Оленьку до калитки, он простился и пошел далее. После этого весь день слышался ей его степенный голос, и едва она закрывала глаза, как мерещилась его темная борода. Он ей очень понравился. И, по-видимому, она тоже произвела на него впечатление, потому что немного погодя к ней пришла пить кофе одна пожилая дама, мало ей знакомая, которая как только села за стол, то немедля заговорила о Пустовалове, о том, что он хороший, солидный человек и что за него с удовольствием пойдет всякая невеста. Через три дня пришел с визитом и сам Пустовалов; он сидел недолго, минут десять, и говорил мало, но Оленька его полюбила, так полюбила, что всю ночь не спала и горела, как в лихорадке, а утром послала за пожилой дамой. Скоро ее просватали, потом была свадьба.
Пустовалов и Оленька, поженившись, жили хорошо. Обыкновенно он сидел в лесном складе до обеда, потом уходил по делам, и его сменяла Оленька, которая сидела в конторе до вечера и писала там счета и отпускала товар.
– Теперь лес с каждым годом дорожает на двадцать процентов, – говорила она покупателям и знакомым. – Помилуйте, прежде мы торговали местным лесом, теперь же Васичка должен каждый год ездить за лесом в Могилевскую губернию. А какой тариф! – говорила она, в ужасе закрывая обе щеки руками. – Какой тариф!
Ей казалось, что она торгует лесом уже давно-давно, что в жизни самое важное и нужное это лес, и что-то родное, трогательное слышалось ей в словах: балка, кругляк, тес, шелевка, безымянка, решетник, лафет, горбыль… По ночам, когда она спала, ей снились целые горы досок и теса, длинные бесконечные вереницы подвод, везущих лес куда-то далеко за город; снилось ей, как целый полк двенадцатиаршинных, пятивершковых бревен стоймя шел войной на лесной склад, как бревна, балки и горбыли стукались, издавая гулкий звук сухого дерева, все падало и опять вставало, громоздясь друг на друга; Оленька вскрикивала во сне, и Пустовалов говорил ей нежно:
– Оленька, что с тобой, милая? Перекрестись!
Какие мысли были у мужа, такие и у нее. Если он думал, что в комнате жарко или что дела теперь стали тихие, то так думала и она. Муж ее не любил никаких развлечений и в праздники сидел дома, и она тоже.
– И всё вы дома или в конторе, – говорили знакомые. – Вы бы сходили в театр, душечка, или в цирк.
– Нам с Васичкой некогда по театрам ходить, – отвечала она степенно. – Мы люди труда, нам не до пустяков. В театрах этих что хорошего?
По субботам Пустовалов и она ходили ко всенощной, в праздники к ранней обедне и, возвращаясь из церкви, шли рядышком, с умиленными лицами, от обоих хорошо пахло, и ее шелковое платье приятно шумело; а дома пили чай со сдобным хлебом и с разными вареньями, потом кушали пирог. Каждый день в полдень во дворе и за воротами на улице вкусно пахло борщом и жареной бараниной или уткой, а в постные дни – рыбой, и мимо ворот нельзя было пройти без того, чтобы не захотелось есть. В конторе всегда кипел самовар, и покупателей угощали чаем с бубликами. Раз в неделю супруги ходили в баню и возвращались оттуда рядышком, оба красные.
– Ничего, живем хорошо, – говорила Оленька знакомым, – слава богу. Дай бог всякому жить, как мы с Васичкой.
Когда Пустовалов уезжал в Могилевскую губернию за лесом, она сильно скучала и по ночам не спала, плакала. Иногда по вечерам приходил к ней полковой ветеринарный врач Смирнин, молодой человек, квартировавший у нее во флигеле. Он рассказывал ей что-нибудь или играл с нею в карты, и это ее развлекало. Особенно интересны были рассказы из его собственной семейной жизни; он был женат и имел сына, но с женой разошелся, так как она ему изменила, и теперь он ее ненавидел и высылал ей ежемесячно по сорока рублей на содержание сына. И, слушая об этом, Оленька вздыхала и покачивала головой, и ей было жаль его.
– Ну, спаси вас господи, – говорила она, прощаясь с ним и провожая его со свечой до лестницы. – Спасибо, что поскучали со мной, дай бог вам здоровья, царица небесная…
И все она выражалась так степенно, так рассудительно, подражая мужу; ветеринар уже скрывался внизу за дверью, а она окликала его и говорила:
– Знаете, Владимир Платоныч, вы бы помирились с вашей женой. Простили бы ее хоть ради сына!.. Мальчишечка-то небось все понимает.
А когда возвращался Пустовалов, она рассказывала ему вполголоса про ветеринара и его несчастную семейную жизнь, и оба вздыхали и покачивали головами, и говорили о мальчике, который, вероятно, скучает по отце, потом, по какому-то странному течению мыслей, оба становились перед образами, клали земные поклоны и молились, чтобы бог послал им детей.
И так прожили Пустоваловы тихо и смирно, в любви и полном согласии шесть лет. Но вот как-то зимой Василий Андреич в складе, напившись горячего чаю, вышел без шапки отпускать лес, простудился и занемог. Его лечили лучшие доктора, но болезнь взяла свое, и он умер, проболев четыре месяца. И Оленька опять овдовела.
– На кого же ты меня покинул, голубчик мой? – рыдала она, похоронив мужа. – Как же я теперь буду жить без тебя, горькая я и несчастная? Люди добрые, пожалейте меня, сироту круглую…
Она ходила в черном платье с плерезами и уже отказалась навсегда от шляпки и перчаток, выходила из дому редко, только в церковь или на могилку мужа, и жила дома как монашенка. И только когда прошло шесть месяцев, она сняла плерезы и стала открывать на окнах ставни. Иногда уже видели по утрам, как она ходила за провизией на базар со своей кухаркой, но о том, как она жила у себя теперь и что делалось у нее в доме, можно было только догадываться. По тому, например, догадывались, что видели, как она в своем садике пила чай с ветеринаром, а он читал ей вслух газету, и еще по тому, что, встретясь на почте с одной знакомой дамой, она сказала:
– У нас в городе нет правильного ветеринарного надзора, и от этого много болезней. То и дело слышишь, люди заболевают от молока и заражаются от лошадей и коров. О здоровье домашних животных, в сущности, надо заботиться так же, как о здоровье людей.
Она повторяла мысли ветеринара и теперь была обо всем такого же мнения, как он. Было ясно, что она не могла прожить без привязанности и одного года и нашла свое новое счастье у себя во флигеле. Другую бы осудили за это, но об Оленьке никто не мог подумать дурно, и все было так понятно в ее жизни. Она и ветеринар никому не говорили о перемене, какая произошла в их отношениях, и старались скрыть, но это им не удавалось, потому что у Оленьки не могло быть тайн. Когда к нему приходили гости, его сослуживцы по полку, то она, наливая им чай или подавая ужинать, начинала говорить о чуме на рогатом скоте, о жемчужной болезни, о городских бойнях, а он страшно конфузился и, когда уходили гости, хватал ее за руку и шипел сердито:
– Я ведь просил тебя не говорить о том, чего ты не понимаешь! Когда мы, ветеринары, говорим между собой, то, пожалуйста, не вмешивайся. Это, наконец, скучно!
А она смотрела на него с изумлением и с тревогой и спрашивала:
– Володичка, о чем же мне говорить?!
И она со слезами на глазах обнимала его, умоляла не сердиться, и оба были счастливы.
Но, однако, это счастье продолжалось недолго. Ветеринар уехал вместе с полком, уехал навсегда, так как полк перевели куда-то очень далеко, чуть ли не в Сибирь. И Оленька осталась одна.
Теперь уже она была совершенно одна. Отец давно уже умер, и кресло его валялось на чердаке, запыленное, без одной ножки. Она похудела и подурнела, и на улице встречные уже не глядели на нее, как прежде, и не улыбались ей; очевидно, лучшие годы уже прошли, остались позади, и теперь начиналась какая-то новая жизнь, неизвестная, о которой лучше не думать. По вечерам Оленька сидела на крылечке, и ей слышно было, как в «Тиволи» играла музыка и лопались ракеты, но это уже не вызывало никаких мыслей. Глядела она безучастно на свой пустой двор, ни о чем не думала, ничего не хотела, а потом, когда наступала ночь, шла спать и видела во сне свой пустой двор. Ела и пила она точно поневоле.
А главное, что хуже всего, у нее уже не было никаких мнений. Она видела кругом себя предметы и понимала все, что происходило кругом, но ни о чем не могла составить мнения и не знала, о чем ей говорить. А как это ужасно не иметь никакого мнения! Видишь, например, как стоит бутылка, или идет дождь, или едет мужик на телеге, но для чего эта бутылка, или дождь, или мужик, какой в них смысл, сказать не можешь и даже за тысячу рублей ничего не сказал бы. При Кукине и Пустовалове и потом при ветеринаре Оленька могла объяснить все и сказала бы свое мнение о чем угодно, теперь же и среди мыслей, и в сердце у нее была такая же пустота, как на дворе. И так жутко и так горько, как будто объелась полыни.
Город мало-помалу расширялся во все стороны; Цыганскую слободку уже называли улицей, и там, где были сад «Тиволи» и лесные склады, выросли уже дома, и образовался ряд переулков. Как быстро бежит время! Дом у Оленьки потемнел, крыша заржавела, сарай покосился, и весь двор порос бурьяном и колючей крапивой. Сама Оленька постарела, подурнела; летом она сидит на крылечке, и на душе у нее пo-прежнему и пусто, и нудно, и отдает полынью, а зимой сидит она у окна и глядит на снег. Повеет ли весной, донесет ли ветер звон соборных колоколов, и вдруг нахлынут воспоминания о прошлом, сладко сожмется сердце и из глаз польются обильные слезы, но это только на минуту, а там опять пустота, и неизвестно, зачем живешь. Черная кошечка Брыска ласкается и мягко мурлычет, но не трогают Оленьку эти кошачьи ласки. Это ли ей нужно? Ей бы такую любовь, которая захватила бы все ее существо, всю душу, разум, дала бы ей мысли, направление жизни, согрела бы ее стареющую кровь. И она стряхивает с подола черную Брыску и говорит ей с досадой:
– Поди, поди… Нечего тут!
И так день за днем, год за годом, – и ни одной радости, и нет никакого мнения. Что сказала Мавра-кухарка, то и хорошо.
В один жаркий июльский день, под вечер, когда по улице гнали городское стадо и весь двор наполнился облаками пыли, вдруг кто-то постучал в калитку. Оленька пошла сама отворять и, как взглянула, так и обомлела: за воротами стоял ветеринар Смирнин, уже седой и в штатском платье. Ей вдруг вспомнилось все, она не удержалась, заплакала и положила ему голову на грудь, не сказавши ни одного слова, и в сильном волнении не заметила, как оба потом вошли в дом, как сели чай пить.
– Голубчик мой! – бормотала она, дрожа от радости. – Владимир Платоныч! Откуда бог принес?
– Хочу здесь совсем поселиться, – рассказывал он. – Подал в отставку и вот приехал попробовать счастья на воле, пожить оседлой жизнью. Да и сына пора уж отдавать в гимназию. Вырос. Я-то, знаете ли, помирился с женой.
– А где же она? – спросила Оленька.
– Она с сыном в гостинице, а я вот хожу и квартиру ищу.
– Господи, батюшка, да возьмите у меня дом! Чем не квартира? Ах, господи, да я с вас ничего и не возьму, – заволновалась Оленька и опять заплакала. – Живите тут, а с меня и флигеля довольно. Радость-то, господи!
На другой день уже красили на доме крышу и белили стены, и Оленька, подбоченясь, ходила по двору и распоряжалась. На лице ее засветилась прежняя улыбка, и вся она ожила, посвежела, точно очнулась от долгого сна. Приехала жена ветеринара, худая, некрасивая дама с короткими волосами и с капризным выражением, и с нею мальчик, Саша, маленький не по летам (ему шел уже десятый год), полный, с ясными голубыми глазами и с ямочками на щеках. И едва мальчик вошел во двор, как побежал за кошкой, и тотчас же послышался его веселый, радостный смех.
– Тетенька, это ваша кошка? – спросил он у Оленьки. – Когда она у вас ощенится, то, пожалуйста, подарите нам одного котеночка. Мама очень боится мышей.
Оленька поговорила с ним, напоила его чаем, и сердце у нее в груди стало вдруг теплым и сладко сжалось, точно этот мальчик был ее родной сын. И когда вечером он, сидя в столовой, повторял уроки, она смотрела на него с умилением и с жалостью и шептала:
– Голубчик мой, красавчик… Деточка моя, и уродился же ты такой умненький, такой беленький.
– Островом называется, – прочел он, – часть суши, со всех сторон окруженная водою.
– Островом называется часть суши… – повторила она, и это было ее первое мнение, которое она высказала с уверенностью после стольких лет молчания и пустоты в мыслях.
И она уже имела свои мнения и за ужином говорила с родителями Саши о том, как теперь детям трудно учиться в гимназиях, но что все-таки классическое образование лучше реального, так как из гимназии всюду открыта дорога: хочешь – иди в доктора, хочешь – в инженеры.
Саша стал ходить в гимназию. Его мать уехала в Харьков к сестре и не возвращалась; отец его каждый день уезжал куда-то осматривать гурты и, случалось, не живал дома дня по три, и Оленьке казалось, что Сашу совсем забросили, что он лишний в доме, что он умирает с голоду; и она перевела его к себе во флигель и устроила его там в маленькой комнате.
И вот уже прошло полгода, как Саша живет у нее во флигеле. Каждое утро Оленька входит в его комнату; он крепко спит, подложив руку под щеку, не дышит. Ей жаль будить его.
– Сашенька, – говорит она печально, – вставай, голубчик! В гимназию пора.
Он встает, одевается, молится Богу, потом садится чай пить; выпивает три стакана чаю и съедает два больших бублика и полфранцузского хлеба с маслом. Он еще не совсем очнулся от сна и потому не в духе.
– А ты, Сашенька, нетвердо выучил басню, – говорит Оленька и глядит на него так, будто провожает его в дальнюю дорогу. – Забота мне с тобой. Уж ты старайся, голубчик, учись… Слушайся учителей.
– Ах, оставьте, пожалуйста! – говорит Саша. Затем он идет по улице в гимназию, сам маленький, но в большом картузе, с ранцем на спине. За ним бесшумно идет Оленька.
– Сашенька-а! – окликает она.
Он оглядывается, а она сует ему в руку финик или карамельку. Когда поворачивают в тот переулок, где стоит гимназия, ему становится совестно, что за ним идет высокая, полная женщина; он оглядывается и говорит:
– Вы, тетя, идите домой, а теперь уже я сам дойду.
Она останавливается и смотрит ему вслед не мигая, пока он не скрывается в подъезде гимназии. Ах, как она его любит! Из ее прежних привязанностей ни одна не была такою глубокой, никогда еще раньше ее душа не покорялась так беззаветно, бескорыстно и с такой отрадой, как теперь, когда в ней все более и более разгоралось материнское чувство. За этого чужого ей мальчика, за его ямочки на щеках, за картуз, она отдала бы всю свою жизнь, отдала бы с радостью, со слезами умиления. Почему? А кто ж его знает – почему?
Проводив Сашу в гимназию, она возвращается домой, тихо, такая довольная, покойная, любвеобильная; ее лицо, помолодевшее за последние полгода, улыбается, сияет; встречные, глядя на нее, испытывают удовольствие и говорят ей:
– Здравствуйте, душечка Ольга Семеновна! Как поживаете, душечка?
– Трудно теперь стало в гимназии учиться, – рассказывает она на базаре. – Шутка ли, вчера в первом классе задали басню наизусть, да перевод латинский, да задачу… Ну где тут маленькому?
И она начинает говорить об учителях, об уроках, об учебниках, – то же самое, что говорит о них Саша.
В третьем часу вместе обедают, вечером вместе готовят уроки и плачут. Укладывая его в постель, она долго крестит его и шепчет молитву, потом, ложась спать, грезит о том будущем, далеком и туманном, когда Саша, кончив курс, станет доктором или инженером, будет иметь собственный большой дом, лошадей, коляску, женится и у него родятся дети… Она засыпает и все думает о том же, и слезы текут у нее по щекам из закрытых глаз. И черная кошечка лежит у нее под боком и мурлычет:
– Мур… мур… мур…
Вдруг сильный стук в калитку. Оленька просыпается и не дышит от страха; сердце у нее сильно бьется. Проходит полминуты, и опять стук.
«Это телеграмма из Харькова, – думает она, начиная дрожать всем телом. – Мать требует Сашу к себе в Харьков… О господи!»
Она в отчаянии; у нее холодеют голова, ноги, руки, и кажется, что несчастнее ее нет человека во всем свете. Но проходит еще минута, слышатся голоса; это ветеринар вернулся домой из клуба.
«Ну, слава богу», – думает она.
От сердца мало-помалу отстает тяжесть, опять становится легко; она ложится и думает о Саше, который спит крепко в соседней комнате и изредка говорит в бреду:
– Я ттебе! Пошел вон! Не дерись!
1899Дама с собачкой
I
Говорили, что на набережной появилось новое лицо: дама с собачкой. Дмитрий Дмитрич Гуров, проживший в Ялте уже две недели и привыкший тут, тоже стал интересоваться новыми лицами. Сидя в павильоне у Берне, он видел, как по набережной прошла молодая дама, невысокого роста блондинка, в берете; за нею бежал белый шпиц.
И потом он встречал ее в городском саду и на сквере, по нескольку раз в день. Она гуляла одна, все в том же берете, с белым шпицем; никто не знал, кто она, и называли ее просто так: дама с собачкой.
«Если она здесь без мужа и без знакомых, – соображал Гуров, – то было бы не лишнее познакомиться с ней».
Ему не было еще сорока, но у него была уже дочь двенадцати лет и два сына гимназиста. Его женили рано, когда он был еще студентом второго курса, и теперь жена казалась в полтора раза старше его. Это была женщина высокая, с темными бровями, прямая, важная, солидная и, как она сама себя называла, мыслящая. Она много читала, не писала в письмах ъ, называла мужа не Дмитрием, а Димитрием, а он втайне считал ее недалекой, узкой, неизящной, боялся ее и не любил бывать дома. Изменять ей он начал уже давно, изменял часто и, вероятно, поэтому о женщинах отзывался почти всегда дурно, и когда в его присутствии говорили о них, то он называл их так:
– Низшая раса!
Ему казалось, что он достаточно научен горьким опытом, чтобы называть их как угодно, но все же без «низшей расы» он не мог бы прожить и двух дней. В обществе мужчин ему было скучно, не по себе, с ними он был неразговорчив, холоден, но когда находился среди женщин, то чувствовал себя свободно и знал, о чем говорить с ними и как держать себя; и даже молчать с ними ему было легко. В его наружности, в характере, во всей его натуре было что-то привлекательное, неуловимое, что располагало к нему женщин, манило их; он знал об этом, и самого его тоже какая-то сила влекла к ним.
Опыт многократный, в самом деле горький опыт, научил его давно, что всякое сближение, которое вначале так приятно разнообразит жизнь и представляется милым и легким приключением, у порядочных людей, особенно у москвичей, тяжелых на подъем, нерешительных, неизбежно вырастает в целую задачу, сложную чрезвычайно, и положение в конце концов становится тягостным. Но при всякой новой встрече с интересною женщиной этот опыт как-то ускользал из памяти, и хотелось жить, и все казалось так просто и забавно.
И вот однажды, под вечер, он обедал в саду, а дама в берете подходила не спеша, чтобы занять соседний стол. Ее выражение, походка, платье, прическа говорили ему, что она из порядочного общества, замужем, в Ялте в первый раз и одна, что ей скучно здесь… В рассказах о нечистоте местных нравов много неправды, он презирал их и знал, что такие рассказы в большинстве сочиняются людьми, которые сами бы охотно грешили, если б умели; но когда дама села за соседний стол в трех шагах от него, ему вспомнились эти рассказы о легких победах, о поездках в горы, и соблазнительная мысль о скорой, мимолетной связи, о романе с неизвестною женщиной, которой не знаешь по имени и фамилии, вдруг овладела им.
Он ласково поманил к себе шпица и, когда тот подошел, погрозил ему пальцем. Шпиц заворчал. Гуров опять погрозил.
Дама взглянула на него и тотчас же опустила глаза.
– Он не кусается, – сказала она и покраснела.
– Можно дать ему кость? – И когда она утвердительно кивнула головой, он спросил приветливо: – Вы давно изволили приехать в Ялту?
– Дней пять.
– А я уже дотягиваю здесь вторую неделю. Помолчали немного.
– Время идет быстро, а между тем здесь такая скука! – сказала она, не глядя на него.
– Это только принято говорить, что здесь скучно. Обыватель живет у себя где-нибудь в Белеве или Жиздре – и ему не скучно, а приедет сюда: «Ах, скучно! ах, пыль!» Подумаешь, что он из Гренады приехал.
Она засмеялась. Потом оба продолжали есть молча, как незнакомые; но после обеда пошли рядом – и начался шутливый, легкий разговор людей свободных, довольных, которым все равно, куда бы ни идти, о чем ни говорить. Они гуляли и говорили о том, как странно освещено море; вода была сиреневого цвета, такого мягкого и теплого, и по ней от луны шла золотая полоса. Говорили о том, как душно после жаркого дня. Гуров рассказал, что он москвич, по образованию филолог, но служит в банке; готовился когда-то петь в частной опере, но бросил, имеет в Москве два дома… А от нее он узнал, что она выросла в Петербурге, но вышла замуж в С., где живет уже два года, что пробудет она в Ялте еще с месяц и за ней, быть может, приедет ее муж, которому тоже хочется отдохнуть. Она никак не могла объяснить, где служит ее муж – в губернском правлении или в губернской земской управе, и это ей самой было смешно. И узнал еще Гуров, что ее зовут Анной Сергеевной.
Потом у себя в номере он думал о ней, о том, что завтра она, наверное, встретится с ним. Так должно быть. Ложась спать, он вспомнил, что она еще так недавно была институткой, училась, все равно как теперь его дочь, вспомнил, сколько еще несмелости, угловатости было в ее смехе, в разговоре с незнакомым, – должно быть, это первый раз в жизни она была одна, в такой обстановке, когда за ней ходят, и на нее смотрят, и говорят с ней только с одною тайною целью, о которой она не может не догадываться. Вспомнил он ее тонкую, слабую шею, красивые серые глаза.
«Что-то в ней есть жалкое все-таки», – подумал он и стал засыпать.
II
Прошла неделя после знакомства. Был праздничный день. В комнатах было душно, а на улицах вихрем носилась пыль, срывало шляпы. Весь день хотелось пить, и Гуров часто заходил в павильон и предлагал Анне Сергеевне то воды с сиропом, то мороженого. Некуда было деваться.
Вечером, когда немного утихло, они пошли на мол, чтобы посмотреть, как придет пароход. На пристани было много гуляющих; собрались встречать кого-то, держали букеты. И тут отчетливо бросались в глаза две особенности нарядной ялтинской толпы: пожилые дамы были одеты, как молодые, и было много генералов.
По случаю волнения на море пароход пришел поздно, когда уже село солнце, и, прежде чем пристать к молу, долго поворачивался. Анна Сергеевна смотрела в лорнетку на пароход и на пассажиров, как бы отыскивая знакомых, и когда обращалась к Гурову, то глаза у нее блестели. Она много говорила, и вопросы у нее были отрывисты, и она сама тотчас же забывала, о чем спрашивала; потом потеряла в толпе лорнетку.
Нарядная толпа расходилась, уже не было видно лиц, ветер стих совсем, а Гуров и Анна Сергеевна стояли, точно ожидая, не сойдет ли еще кто с парохода. Анна Сергеевна уже молчала и нюхала цветы, не глядя на Гурова.
– Погода к вечеру стала получше, – сказал он. – Куда же мы теперь пойдем? Не поехать ли нам куда-нибудь?
Она ничего не ответила.
Тогда он пристально поглядел на нее и вдруг обнял ее и поцеловал в губы, и его обдало запахом и влагой цветов, и тотчас же он пугливо огляделся: не видел ли кто?
– Пойдемте к вам… – проговорил он тихо.
И оба пошли быстро.
У нее в номере было душно, пахло духами, которые она купила в японском магазине. Гуров, глядя на нее теперь, думал: «Каких только не бывает в жизни встреч!» От прошлого у него сохранилось воспоминание о беззаботных, добродушных женщинах, веселых от любви, благодарных ему за счастье, хотя бы очень короткое; и о таких, – как, например, его жена, – которые любили без искренности, с излишними разговорами, манерно, с истерией, с таким выражением, как будто то была не любовь, не страсть, а что-то более значительное; и о таких двух-трех, очень красивых, холодных, у которых вдруг промелькало на лице хищное выражение, упрямое желание взять, выхватить у жизни больше, чем она может дать, и это были не первой молодости, капризные, не рассуждающие, властные, не умные женщины, и когда Гуров охладевал к ним, то красота их возбуждала в нем ненависть и кружева на их белье казались ему тогда похожими на чешую.
Но тут все та же несмелость, угловатость неопытной молодости, неловкое чувство; и было впечатление растерянности, как будто кто вдруг постучал в дверь. Анна Сергеевна, эта «дама с собачкой», к тому, что произошло, отнеслась как-то особенно, очень серьезно, точно к своему падению, – так казалось, и это было странно и некстати. У нее опустились, завяли черты и по сторонам лица печально висели длинные волосы, она задумалась в унылой позе, точно грешница на старинной картине.
– Нехорошо, – сказала она. – Вы же первый меня не уважаете теперь.
На столе в номере был арбуз. Гуров отрезал себе ломоть и стал есть не спеша. Прошло, по крайней мере, полчаса в молчании.
Анна Сергеевна была трогательна, от нее веяло чистотой порядочной, наивной, мало жившей женщины; одинокая свеча, горевшая на столе, едва освещала ее лицо, но было видно, что у нее нехорошо на душе.
– Отчего бы я мог перестать уважать тебя? – спросил Гуров. – Ты сама не знаешь, что говоришь.
– Пусть бог меня простит! – сказала она, и глаза у нее наполнились слезами. – Это ужасно.
– Ты точно оправдываешься.
– Чем мне оправдаться? Я дурная, низкая женщина, я себя презираю и об оправдании не думаю. Я не мужа обманула, а самое себя. И не сейчас только, а уже давно обманываю. Мой муж, быть может, честный, хороший человек, но ведь он лакей! Я не знаю, что он делает там, как служит, а знаю только, что он лакей. Мне, когда я вышла за него, было двадцать лет, меня томило любопытство, мне хотелось чего-нибудь получше; ведь есть же, – говорила я себе, – другая жизнь. Хотелось пожить! Пожить и пожить… Любопытство меня жгло… вы этого не понимаете, но, клянусь богом, я уже не могла владеть собой, со мной что-то делалось, меня нельзя было удержать, я сказала мужу, что больна, и поехала сюда… И здесь все ходила, как в угаре, как безумная… и вот я стала пошлой, дрянной женщиной, которую всякий может презирать.
Гурову было уже скучно слушать, его раздражал наивный тон, это покаяние, такое неожиданное и неуместное; если бы не слезы на глазах, то можно было бы подумать, что она шутит или играет роль.
– Я не понимаю, – сказал он тихо, – что же ты хочешь?
Она спрятала лицо у него на груди и прижалась к нему.
– Верьте, верьте мне, умоляю вас… – говорила она. – Я люблю честную, чистую жизнь, а грех мне гадок, я сама не знаю, что делаю. Простые люди говорят: нечистый попутал. И я могу теперь про себя сказать, что меня попутал нечистый.
– Полно, полно… – бормотал он.
Он смотрел ей в неподвижные, испуганные глаза, целовал ее, говорил тихо и ласково, и она понемногу успокоилась, и веселость вернулась к ней; стали оба смеяться.
Потом, когда они вышли, на набережной не было ни души, город со своими кипарисами имел совсем мертвый вид, но море еще шумело и билось о берег; один баркас качался на волнах, и на нем сонно мерцал фонарик.
Нашли извозчика и поехали в Ореанду.
– Я сейчас внизу в передней узнал твою фамилию: на доске написано фон Дидериц, – сказал Гуров. – Твой муж немец?
– Нет, у него, кажется, дед был немец, но сам он православный.
В Ореанде сидели на скамье, недалеко от церкви, смотрели вниз на море и молчали. Ялта была едва видна сквозь утренний туман, на вершинах гор неподвижно стояли белые облака. Листва не шевелилась на деревьях, кричали цикады, и однообразный, глухой шум моря, доносившийся снизу, говорил о покое, о вечном сне, какой ожидает нас. Так шумело внизу, когда еще тут не было ни Ялты, ни Ореанды, теперь шумит и будет шуметь так же равнодушно и глухо, когда нас не будет. И в этом постоянстве, в полном равнодушии к жизни и смерти каждого из нас кроется, быть может, залог нашего вечного спасения, непрерывного движения жизни на земле, непрерывного совершенства. Сидя рядом с молодой женщиной, которая на рассвете казалась такой красивой, успокоенный и очарованный ввиду этой сказочной обстановки – моря, гор, облаков, широкого неба, Гуров думал о том, как, в сущности, если вдуматься, все прекрасно на этом свете, все, кроме того, что мы сами мыслим и делаем, когда забываем о высших целях бытия, о своем человеческом достоинстве.
Подошел какой-то человек – должно быть, сторож, – посмотрел на них и ушел. И эта подробность показалась такой таинственной и тоже красивой. Видно было, как пришел пароход из Феодосии, освещенный утренней зарей, уже без огней.
– Роса на траве, – сказала Анна Сергеевна после молчания.
– Да. Пора домой.
Они вернулись в город.
Потом каждый полдень они встречались на набережной, завтракали вместе, обедали, гуляли, восхищались морем. Она жаловалась, что дурно спит и что у нее тревожно бьется сердце, задавала всё одни и те же вопросы, волнуемая то ревностью, то страхом, что он недостаточно ее уважает. И часто на сквере или в саду, когда вблизи их никого не было, он вдруг привлекал ее к себе и целовал страстно. Совершенная праздность, эти поцелуи среди белого дня, с оглядкой и страхом, как бы кто не увидел, жара, запах моря и постоянное мелькание перед глазами праздных, нарядных, сытых людей точно переродили его; он говорил Анне Сергеевне о том, как она хороша, как соблазнительна, был нетерпеливо страстен, не отходил от нее ни на шаг, а она часто задумывалась и все просила его сознаться, что он ее не уважает, нисколько не любит, а только видит в ней пошлую женщину. Почти каждый вечер попозже они уезжали куда-нибудь за город, в Ореанду или на водопад; и прогулка удавалась, впечатления неизменно всякий раз были прекрасны, величавы.
Ждали, что приедет муж. Но пришло от него письмо, в котором он извещал, что у него разболелись глаза, и умолял жену поскорее вернуться домой. Анна Сергеевна заторопилась.
– Это хорошо, что я уезжаю, – говорила она Гурову. – Это сама судьба.
Она поехала на лошадях, и он провожал ее. Ехали целый день. Когда она садилась в вагон курьерского поезда и когда пробил второй звонок, она говорила:
– Дайте я погляжу на вас еще… Погляжу еще раз. Вот так.
Она не плакала, но была грустна, точно больна, и лицо у нее дрожало.
– Я буду о вас думать… вспоминать, – говорила она. – Господь с вами, оставайтесь. Не поминайте лихом. Мы навсегда прощаемся, это так нужно, потому что не следовало бы вовсе встречаться. Ну, господь с вами.
Поезд ушел быстро, его огни скоро исчезли, и через минуту уже не было слышно шума, точно все сговорилось нарочно, чтобы прекратить поскорее это сладкое забытье, это безумие. И, оставшись один на платформе и глядя в темную даль, Гуров слушал крик кузнечиков и гудение телеграфных проволок с таким чувством, как будто только что проснулся. И он думал о том, что вот в его жизни было еще одно похождение или приключение, и оно тоже уже кончилось, и осталось теперь воспоминание… он был растроган, грустен и испытывал легкое раскаяние; ведь эта молодая женщина, с которой он больше уже никогда не увидится, не была с ним счастлива; он был приветлив с ней и сердечен, но все же в обращении с ней, в его тоне и ласках сквозила тенью легкая насмешка, грубоватое высокомерие счастливого мужчины, который к тому же почти вдвое старше ее. Все время она называла его добрым, необыкновенным, возвышенным; очевидно, он казался ей не тем, чем был на самом деле, значит, невольно обманывал ее…
Здесь на станции уже пахло осенью, вечер был прохладный.
«Пора и мне на север, – думал Гуров, уходя с платформы. – Пора!»
III
Дома в Москве уже все было по-зимнему, топили печи, и по утрам, когда дети собирались в гимназию и пили чай, было темно, и няня ненадолго зажигала огонь. Уже начались морозы. Когда идет первый снег, в первый день езды на санях, приятно видеть белую землю, белые крыши, дышится мягко, славно, и в это время вспоминаются юные годы. У старых лип и берез, белых от инея, добродушное выражение, они ближе к сердцу, чем кипарисы и пальмы, и вблизи них уже не хочется думать о горах и море.
Гуров был москвич, вернулся он в Москву в хороший, морозный день, и когда надел шубу и теплые перчатки и прошелся по Петровке, и когда в субботу вечером услышал звон колоколов, то недавняя поездка и места, в которых он был, утеряли для него все очарование. Мало-помалу он окунулся в московскую жизнь, уже с жадностью прочитывал по три газеты в день и говорил, что не читает московских газет из принципа. Его уже тянуло в рестораны, клубы, на званые обеды, юбилеи, и уже ему было лестно, что у него бывают известные адвокаты и артисты и что в Докторском клубе он играет в карты с профессором. Уже он мог съесть целую порцию селянки на сквородке…
Пройдет какой-нибудь месяц, и Анна Сергеевна, казалось ему, покроется в памяти туманом и только изредка будет сниться с трогательной улыбкой, как снились другие. Но прошло больше месяца, наступила глубокая зима, а в памяти все было ясно, точно расстался он с Анной Сергеевной только вчера. И воспоминания разгорались все сильнее. Доносились ли в вечерней тишине в его кабинет голоса детей, приготовлявших уроки, слышал ли он романс или орган в ресторане или завывала в камине метель, как вдруг воскресало в памяти все: и то, что было на молу, и раннее утро с туманом на горах, и пароход из Феодосии, и поцелуи. Он долго ходил по комнате, и вспоминал, и улыбался, и потом воспоминания переходили в мечты, и прошедшее в воображении мешалось с тем, что будет. Анна Сергеевна не снилась ему, а шла за ним всюду, как тень, и следила за ним. Закрывши глаза, он видел ее, как живую, и она казалась красивее, моложе, нежнее, чем была; и сам он казался себе лучше, чем был тогда, в Ялте. Она по вечерам глядела на него из книжного шкапа, из камина, из угла, он слышал ее дыхание, ласковый шорох ее одежды. На улице он провожал взглядом женщин, искал, нет ли похожей на нее…
И уже томило сильное желание поделиться с кем-нибудь своими воспоминаниями. Но дома нельзя было говорить о своей любви, а вне дома – не с кем. Не с жильцами же и не в банке. И о чем говорить? Разве он любил тогда? Разве было что-нибудь красивое, поэтическое, или поучительное, или просто интересное в его отношениях к Анне Сергеевне? И приходилось говорить неопределенно о любви, о женщинах, и никто не догадывался, в чем дело, и только жена шевелила своими темными бровями и говорила:
– Тебе, Димитрий, совсем не идет роль фата.
Однажды ночью, выходя из Докторского клуба со своим партнером, чиновником, он не удержался и сказал:
– Если б вы знали, с какой очаровательной женщиной я познакомился в Ялте!
Чиновник сел в сани и поехал, но вдруг обернулся и окликнул:
– Дмитрий Дмитрич!
– Что?
– А давеча вы были правы: осетрина-то с душком!
Эти слова, такие обычные, почему-то вдруг возмутили Гурова, показались ему унизительными, нечистыми. Какие дикие нравы, какие лица! Что за бестолковые ночи, какие неинтересные незаметные дни! Неистовая игра в карты, обжорство, пьянство, постоянные разговоры всё об одном. Ненужные дела и разговоры всё об одном отхватывают на свою долю лучшую часть времени, лучшие силы, и в конце концов остается какая-то куцая, бескрылая жизнь, какая-то чепуха, и уйти и бежать нельзя, точно сидишь в сумасшедшем доме или в арестантских ротах!
Гуров не спал всю ночь и возмущался, и затем весь день провел с головной болью. И в следующие ночи он спал дурно, все сидел в постели и думал или ходил из угла в угол. Дети ему надоели, банк надоел, не хотелось никуда идти, ни о чем говорить.
В декабре на праздниках он собрался в дорогу и сказал жене что уезжает в Петербург хлопотать за одного молодого человека – и уехал в С. Зачем? Он и сам не знал хорошо. Ему хотелось повидаться с Анной Сергеевной и поговорить, устроить свидание если можно.
Приехал он в С. утром и занял в гостинице лучший номер где весь пол был обтянут серым солдатским сукном и была на столе чернильница, серая от пыли, со всадником на лошади, у которого была поднята рука со шляпой, а голова отбита. Швейцар дал ему нужные сведения: фон Дидериц живет на Старо-Гончарной улице, в собственном доме, – это недалеко от гостиницы, живет хорошо, богато, имеет своих лошадей, его все знают в городе. Швейцар выговаривал так: Дрыдыриц.
Гуров не спеша пошел на Старо-Гончарную, отыскал дом. Как раз против дома тянулся забор, серый, длинный, с гвоздями.
«От такого забора убежишь», – думал Гуров, поглядывая то на окна, то на забор.
Он соображал: сегодня день неприсутственный и муж, вероятно, дома. Да и все равно, было бы бестактно войти в дом и смутить. Если же послать записку, то она, пожалуй, попадет в руки мужу, и тогда все можно испортить. Лучше всего положиться на случай. И он все ходил по улице и около забора и поджидал этого случая. Он видел, как в ворота вошел нищий и на него напали собаки, потом, час спустя, слышал игру на рояли, и звуки доносились слабые, неясные. Должно быть, Анна Сергеевна играла. Парадная дверь вдруг отворилась, и из нее вышла какая-то старушка, а за нею бежал знакомый белый шпиц. Гуров хотел позвать собаку, но у него вдруг забилось сердце, и он от волнения не мог вспомнить, как зовут шпица.
Он ходил, и все больше и больше ненавидел серый забор, и уже думал с раздражением, что Анна Сергеевна забыла о нем и, быть может, уже развлекается с другим, и это так естественно в положении молодой женщины, которая вынуждена с утра до вечера видеть этот проклятый забор. Он вернулся к себе в номер и долго сидел на диване, не зная, что делать, потом обедал, потом долго спал.
«Как все это глупо и беспокойно, – думал он, проснувшись и глядя на темные окна: был уже вечер. – Вот и выспался зачем-то. Что же я теперь ночью буду делать?»
Он сидел на постели, покрытой дешевым серым, точно больничным, одеялом, и дразнил себя с досадой:
«Вот тебе и дама с собачкой… Вот тебе и приключение… Вот и сиди тут».
Еще утром, на вокзале, ему бросилась в глаза афиша с очень крупными буквами: шла в первый раз «Гейша». Он вспомнил об этом и поехал в театр.
«Очень возможно, что она бывает на первых представлениях», – думал он.
Театр был полон. И тут, как вообще во всех губернских театрах, был туман повыше люстры, шумно беспокоилась галерка; в первом ряду перед началом представления стояли местные франты, заложив руки назад; и тут, в губернаторской ложе, на первом месте сидела губернаторская дочь в боа, а сам губернатор скромно прятался за портьерой, и видны были только его руки; качался занавес, оркестр долго настраивался. Все время, пока публика входила и занимала места, Гуров жадно искал глазами.
Вошла и Анна Сергеевна. Она села в третьем ряду, и когда Гуров взглянул на нее, то сердце у него сжалось, и он понял ясно, что для него теперь на всем свете нет ближе, дороже и важнее человека; она, затерявшаяся в провинциальной толпе, эта маленькая женщина, ничем не замечательная, с вульгарною лорнеткой в руках, наполняла теперь всю его жизнь, была его горем, радостью, единственным счастьем, какого он теперь желал для себя; и под звуки плохого оркестра, дрянных обывательских скрипок он думал о том, как она хороша. Думал и мечтал.
Вместе с Анной Сергеевной вошел и сел рядом молодой человек с небольшими бакенами, очень высокий, сутулый; он при каждом шаге покачивал головой, и, казалось, постоянно кланялся. Вероятно, это был муж, которого она тогда в Ялте, в порыве горького чувства, обозвала лакеем. И в самом деле, в его длинной фигуре, в бакенах, в небольшой лысине было что-то лакейски-скромное, улыбался он сладко, и в петлице у него блестел какой-то ученый значок, точно лакейский номер.
В первом антракте муж ушел курить, она осталась в кресле. Гуров, сидевший тоже в партере, подошел к ней и сказал дрожащим голосом, улыбаясь насильно:
– Здравствуйте.
Она взглянула на него и побледнела, потом еще раз взглянула с ужасом, не веря глазам, и крепко сжала в руках вместе веер и лорнетку, очевидно, борясь с собой, чтобы не упасть в обморок. Оба молчали. Она сидела, он стоял, испуганный ее смущением, не решаясь сесть рядом. Запели настраиваемые скрипки и флейта, стало вдруг страшно, казалось, что из всех лож смотрят. Но вот она встала и быстро пошла к выходу; он – за ней, и оба шли бестолково, по коридорам, по лестницам, то поднимаясь, то спускаясь, и мелькали у них перед глазами какие-то люди в судейских, учительских и удельных мундирах, и всё со значками; мелькали дамы, шубы на вешалках, дул сквозной ветер, обдавая запахом табачных окурков. И Гуров, у которого сильно билось сердце, думал: «О господи! И к чему эти люди, этот оркестр…»
И в эту минуту он вдруг вспомнил, как тогда вечером на станции, проводив Анну Сергеевну, говорил себе, что все кончилось и они уже никогда не увидятся. Но как еще далеко было до конца!
На узкой, мрачной лестнице, где было написано «ход в амфитеатр», она остановилась.
– Как вы меня испугали! – сказала она, тяжело дыша, все еще бледная, ошеломленная. – О, как вы меня испугали! Я едва жива. Зачем вы приехали? Зачем?
– Но поймите, Анна, поймите… – проговорил он вполголоса, торопясь. – Умоляю вас, поймите…
Она глядела на него со страхом, с мольбой, с любовью, глядела пристально, чтобы покрепче задержать в памяти его черты.
– Я так страдаю! – продолжала она, не слушая его. – Я все время думала только о вас, я жила мыслями о вас. И мне хотелось забыть, забыть, но зачем, зачем вы приехали?
Повыше, на площадке, два гимназиста курили и смотрели вниз, но Гурову было все равно, он привлек к себе Анну Сергеевну и стал целовать ее лицо, щеки, руки.
– Что вы делаете, что вы делаете! – говорила она в ужасе, отстраняя его от себя. – Мы с вами обезумели. Уезжайте сегодня же, уезжайте сейчас… Заклинаю вас всем святым, умоляю… Сюда идут!
По лестнице снизу вверх кто-то шел.
– Вы должны уехать… – продолжала Анна Сергеевна шепотом. – Слышите, Дмитрий Дмитрич? Я приеду к вам в Москву. Я никогда не была счастлива, я теперь несчастна и никогда, никогда не буду счастлива, никогда! Не заставляйте же меня страдать еще больше! Клянусь, я приеду в Москву. А теперь расстанемся! Мой милый, добрый, дорогой мой, расстанемся!
Она пожала ему руку и стала быстро спускаться вниз, все оглядываясь на него, и по глазам ее было видно, что она в самом деле не была счастлива. Гуров постоял немного, прислушался, потом, когда все утихло, отыскал свою вешалку и ушел из театра.
IV
И Анна Сергеевна стала приезжать к нему в Москву. Раз в два-три месяца она уезжала из С. и говорила мужу, что едет посоветоваться с профессором насчет своей женской болезни, – и муж верил и не верил. Приехав в Москву, она останавливалась в «Славянском базаре» и тотчас же посылала к Гурову человека в красной шапке. Гуров ходил к ней, и никто в Москве не знал об этом.
Однажды он шел к ней таким образом в зимнее утро (посыльный был у него накануне вечером и не застал). С ним шла его дочь, которую хотелось ему проводить в гимназию, это было по дороге. Валил крупный мокрый снег.
– Теперь три градуса тепла, а между тем идет снег, – говорил Гуров дочери. – Но ведь это тепло только на поверхности земли, в верхних же слоях атмосферы совсем другая температура.
– Папа, а почему зимой не бывает грома?
Он объяснил и это. Он говорил и думал о том, что вот он идет на свидание и ни одна живая душа не знает об этом и, вероятно, никогда не будет знать. У него были две жизни: одна явная, которую видели и знали все, кому это нужно было, полная условной правды и условного обмана, похожая совершенно на жизнь его знакомых и друзей, и другая – протекавшая тайно. И по какому-то странному стечению обстоятельств, быть может, случайному, все, что было для него важно, интересно, необходимо, в чем он был искренен и не обманывал себя, что составляло зерно его жизни, происходило тайно от других, все же, что было его ложью, его оболочкой, в которую он прятался, чтобы скрыть правду, как, например, его служба в банке, споры в клубе, его «низшая раса», хождение с женой на юбилеи, – все это было явно. И по себе он судил о других, не верил тому, что видел, и всегда предполагал, что у каждого человека под покровом тайны, как под покровом ночи, проходит его настоящая, самая интересная жизнь. Каждое личное существование держится на тайне, и, быть может, отчасти поэтому культурный человек так нервно хлопочет о том, чтобы уважалась личная тайна.
Проводив дочь в гимназию, Гуров отправился в «Славянский базар». Он снял шубу внизу, поднялся наверх и тихо постучал в дверь. Анна Сергеевна, одетая в его любимое серое платье, утомленная дорогой и ожиданием, поджидала его со вчерашнего вечера; она была бледна, глядела на него и не улыбалась, и едва он вошел, как она уже припала к его груди. Точно они не виделись года два, поцелуй их был долгий, длительный.
– Ну, как живешь там? – спросил он. – Что нового?
– Погоди, сейчас скажу… Не могу.
Она не могла говорить, так как плакала. Отвернулась от него и прижала платок к глазам.
«Ну пускай поплачет, а я пока посижу», – подумал он и сел в кресло.
Потом он позвонил и сказал, чтобы ему принесли чаю; и потом, когда пил чай, она все стояла, отвернувшись к окну… Она плакала от волнения, от скорбного сознания, что их жизнь так печально сложилась; они видятся только тайно, скрываются от людей, как воры! Разве жизнь их не разбита?
– Ну перестань! – сказал он.
Для него было очевидно, что эта их любовь кончится еще не скоро, неизвестно когда. Анна Сергеевна привязывалась к нему все сильнее, обожала его, и было бы немыслимо сказать ей, что все это должно же иметь когда-нибудь конец; да она бы и не поверила этому.
Он подошел к ней и взял ее за плечи, чтобы приласкать, пошутить, и в это время увидел себя в зеркале.
Голова его уже начинала седеть. И ему показалось странным, что он так постарел за последние годы, так подурнел. Плечи, на которых лежали его руки, были теплы и вздрагивали. Он почувствовал сострадание к этой жизни, еще такой теплой и красивой, но, вероятно, уже близкой к тому, чтобы начать блекнуть и вянуть, как его жизнь. За что она его любит так? Он всегда казался женщинам не тем, кем был, и любили они в нем не его самого, а человека, которого создавало их воображение и которого они в своей жизни жадно искали; и потом, когда замечали свою ошибку, то все-таки любили. И ни одна из них не была с ним счастлива. Время шло, он знакомился, сходился, расставался, но ни разу не любил; было все, что угодно, но только не любовь.
И только теперь, когда у него голова стала седой, он полюбил как следует, по-настоящему – первый раз в жизни.
Анна Сергеевна и он любили друг друга, как очень близкие, родные люди, как муж и жена, как нежные друзья; им казалось, что сама судьба предназначила их друг для друга, и было непонятно, для чего он женат, а она замужем; и точно это были две перелетные птицы, самец и самка, которых поймали и заставили жить в отдельных клетках. Они простили друг другу то, чего стыдились в своем прошлом, прощали все в настоящем и чувствовали, что эта их любовь изменила их обоих.
Прежде в грустные минуты он успокаивал себя всякими рассуждениями, какие только приходили ему в голову, теперь же ему было не до рассуждений, он чувствовал глубокое сострадание, хотелось быть искренним, нежным…
– Перестань, моя хорошая, – говорил он, – поплакала – и будет… Теперь давай поговорим, что-нибудь придумаем.
Потом они долго советовались, говорили о том, как избавить себя от необходимости прятаться, обманывать, жить в разных городах, не видеться подолгу. Как освободиться от этих невыносимых пут?
– Как? Как? – спрашивал он, хватая себя за голову. – Как?
И казалось, что еще немного – и решение будет найдено, и тогда начнется новая, прекрасная жизнь; и обоим было ясно, что до конца еще далеко-далеко и что самое сложное и трудное только еще начинается.
1899Невеста
I
Было уже часов десять вечера, и над садом светила полная луна. В доме Шуминых только что кончилась всенощная, которую заказывала бабушка Марфа Михайловна, и теперь Наде – она вышла в сад на минутку – видно было, как в зале накрывали на стол для закуски, как в своем пышном шелковом платье суетилась бабушка; отец Андрей, соборный протоиерей, говорил о чем-то с матерью Нади, Ниной Ивановной, и теперь мать при вечернем освещении сквозь окно почему-то казалась очень молодой; возле стоял сын отца Андрея, Андрей Андреич, и внимательно слушал.
В саду было тихо, прохладно, и темные, покойные тени лежали на земле. Слышно было, как где-то далеко, очень далеко, должно быть за городом, кричали лягушки. Чувствовался май, милый май! Дышалось глубоко, и хотелось думать, что не здесь, а где-то под небом, над деревьями, далеко за городом, в полях и лесах развернулась теперь своя весенняя жизнь, таинственная, прекрасная, богатая и святая, недоступная пониманию слабого, грешного человека. И хотелось почему-то плакать.
Ей, Наде, было уже двадцать три года; с шестнадцати лет она страстно мечтала о замужестве, и теперь, наконец, она была невестой Андрея Андреича, того самого, который стоял за окном; он ей нравился, свадьба была уже назначена на седьмое июля, а между тем радости не было, ночи спала она плохо, веселье пропало… Из подвального этажа, где была кухня, в открытое окно слышно было, как там спешили, как стучали ножами, как хлопали дверью на блоке; пахло жареной индейкой и маринованными вишнями. И почему-то казалось, что так теперь будет всю жизнь, без перемены, без конца!
Вот кто-то вышел из дома и остановился на крыльце; это Александр Тимофеич, или попросту Саша, гость, приехавший из Москвы дней десять назад. Когда-то давно к бабушке хаживала за подаяньем ее дальняя родственница, Марья Петровна, обедневшая дворянка-вдова, маленькая, худенькая, больная. У нее был сын Саша. Почему-то про него говорили, что он прекрасный художник, и, когда у него умерла мать, бабушка, ради спасения души, отправила его в Москву в Комиссаровское училище; года через два перешел он в училище живописи, пробыл здесь чуть ли не пятнадцать лет и кончил по архитектурному отделению, с грехом пополам, но архитектурой все-таки не занимался, а служил в одной из московских литографий. Почти каждое лето приезжал он, обыкновенно очень больной, к бабушке, чтобы отдохнуть и поправиться.
На нем был теперь застегнутый сюртук и поношенные парусинковые брюки, стоптанные внизу. И сорочка была неглаженая, и весь он имел какой-то несвежий вид. Очень худой, с большими глазами, с длинными, худыми пальцами, бородатый, темный и все-таки красивый. К Шуминым он привык, как к родным, и у них чувствовал себя, как дома. И комната, в которой он жил здесь, называлась уже давно Сашиной комнатой.
Стоя на крыльце, он увидел Надю и пошел к ней.
– Хорошо у вас здесь, – сказал он.
– Конечно, хорошо. Вам бы здесь до осени пожить.
– Да, должно, так придется. Пожалуй, до сентября у вас тут проживу.
Он засмеялся без причины и сел рядом.
– А я вот сижу и смотрю отсюда на маму, – сказала Надя. – Она кажется отсюда такой молодой! У моей мамы, конечно, есть слабости, – добавила она, помолчав, – но все же она необыкновенная женщина.
– Да, хорошая… – согласился Саша. – Ваша мама по-своему, конечно, и очень добрая и милая женщина, но… как вам сказать? Сегодня утром рано зашел я к вам в кухню, а там четыре прислуги спят прямо на полу, кроватей нет, вместо постелей лохмотья, вонь, клопы, тараканы… То же самое, что было двадцать лет назад, никакой перемены. Ну, бабушка, бог с ней, на то она и бабушка; а ведь мама небось по-французски говорит, в спектаклях участвует. Можно бы, кажется, понимать.
Когда Саша говорил, то вытягивал перед слушателем два длинных, тощих пальца.
– Мне все здесь как-то дико с непривычки, – продолжал он. – Черт знает, никто ничего не делает. Мамаша целый день только гуляет, как герцогиня какая-нибудь, бабушка тоже ничего не делает, вы – тоже.
И жених, Андрей Андреич, тоже ничего не делает.
Надя слышала это и в прошлом году и, кажется, в позапрошлом, и знала, что Саша иначе рассуждать не может, и это прежде смешило ее, теперь же почему-то ей стало досадно.
– Все это старо и давно надоело, – сказала она и встала. – Вы бы придумали что-нибудь поновее.
Он засмеялся и тоже встал, и оба пошли к дому. Она, высокая, красивая, стройная, казалась теперь рядом с ним очень здоровой и нарядной; она чувствовала это, и ей было жаль его и почему-то неловко.
– И говорите вы много лишнего, – сказала она. – Вот вы только что говорили про моего Андрея, но ведь вы его не знаете.
– Моего Андрея… Бог с ним, с вашим Андреем! Мне вот молодости вашей жалко.
Когда вошли в зал, там уже садились ужинать. Бабушка, или, как ее называли в доме, бабуля, очень полная, некрасивая, с густыми бровями и с усиками, говорила громко, и уже по ее голосу и манере говорить было заметно, что она здесь старшая в доме. Ей принадлежали торговые ряды на ярмарке и старинный дом с колоннами и садом, но она каждое утро молилась, чтобы бог спас ее от разорения, и при этом плакала. И ее невестка, мать Нади, Нина Ивановна, белокурая, сильно затянутая, в pince-nez и с бриллиантами на каждом пальце; и отец Андрей, старик, худощавый, беззубый и с таким выражением, будто собирался рассказать что-то очень смешное; и его сын Андрей Андреич, жених Нади, полный и красивый, с вьющимися волосами, похожий на артиста или художника, – все трое говорили о гипнотизме.
– Ты у меня в неделю поправишься, – сказала бабуля, обращаясь к Саше, – только вот кушай побольше. И на что ты похож! – вздохнула она. – Страшный ты стал! Вот уж подлинно, как есть, блудный сын.
– Отеческого дара расточив богатство, – проговорил отец Андрей медленно, со смеющимися глазами, – с бессмысленными скоты пасохся окаянный…
– Люблю я своего батьку, – сказал Андрей Андреич и потрогал отца за плечо. – Славный старик. Добрый старик.
Все помолчали. Саша вдруг засмеялся и прижал ко рту салфетку.
– Стало быть, вы верите в гипнотизм? – спросил отец Андрей у Нины Ивановны.
– Я не могу, конечно, утверждать, что я верю, – ответила Нина Ивановна, придавая своему лицу очень серьезное, даже строгое выражение, – но должна сознаться, что в природе есть много таинственного и непонятного.
– Совершенно с вами согласен, хотя должен прибавить от себя, что вера значительно сокращает нам область таинственного.
Подали большую, очень жирную индейку. Отец Андрей и Нина Ивановна продолжали свой разговор. У Нины Ивановны блестели бриллианты на пальцах, потом на глазах заблестели слезы, она заволновалась.
– Хотя я и не смею спорить с вами, – сказала она, – но, согласитесь, в жизни так много неразрешимых загадок!
– Ни одной, смею вас уверить.
После ужина Андрей Андреич играл на скрипке, а Нина Ивановна аккомпанировала на рояли. Он десять лет назад кончил в университете по филологическому факультету, но нигде не служил, определенного дела не имел и лишь изредка принимал участие в концертах с благотворительною целью; и в городе называли его артистом.
Андрей Андреич играл; все слушали молча. На столе тихо кипел самовар, и только один Саша пил чай. Потом, когда пробило двенадцать, лопнула вдруг струна на скрипке; все засмеялись, засуетились и стали прощаться.
Проводив жениха, Надя пошла к себе наверх, где жила с матерью (нижний этаж занимала бабушка). Внизу, в зале, стали тушить огни, а Саша все еще сидел и пил чай. Пил он чай всегда подолгу, по-московски, стаканов по семи в один раз. Наде, когда она разделась и легла в постель, долго еще было слышно, как внизу убирала прислуга, как сердилась бабуля. Наконец все затихло, и только слышалось изредка, как в своей комнате, внизу, покашливал басом Саша.
II
Когда Надя проснулась, было, должно быть, часа два, начинался рассвет. Где-то далеко стучал сторож. Спать не хотелось, лежать было очень мягко, неловко. Надя, как и во все прошлые майские ночи, села в постели и стала думать. А мысли были все те же, что и в прошлую ночь, однообразные, ненужные, неотвязчивые, мысли о том, как Андрей Андреич стал ухаживать за ней и сделал ей предложение, как она согласилась и потом мало-помалу оценила этого доброго, умного человека. Но почему-то теперь, когда до свадьбы осталось не больше месяца, она стала испытывать страх, беспокойство, как будто ожидало ее что-то неопределенное, тяжелое.
«Тик-ток, тик-ток… – лениво стучал сторож. – Тик-ток…» В большое старое окно виден сад, дальние кусты густо цветущей сирени, сонной и вялой от холода; и туман, белый, густой, тихо подплывает к сирени, хочет закрыть ее. На дальних деревьях кричат сонные грачи.
– Боже мой, отчего мне так тяжело!
Быть может, то же самое испытывает перед свадьбой каждая невеста. Кто знает! Или тут влияние Саши? Но ведь Саша уже несколько лет подряд говорит все одно и то же, как по-писаному, и когда говорит, то кажется наивным и странным. Но отчего же все-таки Саша не выходит из головы? отчего?
Сторож уже давно не стучит. Под окном и в саду зашумели птицы, туман ушел из сада, все кругом озарилось весенним светом, точно улыбкой. Скоро весь сад, согретый солнцем, обласканный, ожил, и капли росы, как алмазы, засверкали на листьях; и старый, давно запущенный сад в это утро казался таким молодым, нарядным.
Уже проснулась бабуля. Закашлял густым басом Саша. Слышно было, как внизу подали самовар, как двигали стульями.
Часы идут медленно. Надя давно уже встала и давно уже гуляла в саду, а все еще тянется утро.
Вот Нина Ивановна, заплаканная, со стаканом минеральной воды. Она занималась спиритизмом, гомеопатией, много читала, любила поговорить о сомнениях, которым была подвержена, и все это, казалось Наде, заключало в себе глубокий, таинственный смысл. Теперь Надя поцеловала мать и пошла с ней рядом.
– О чем ты плакала, мама? – спросила она.
– Вчера на ночь стала я читать повесть, в которой описывается один старик и его дочь. Старик служит где-то, ну, и в дочь его влюбился начальник. Я не дочитала, но там есть такое одно место, что трудно было удержаться от слез, – сказала Нина Ивановна и отхлебнула из стакана. – Сегодня утром вспомнила и тоже всплакнула.
– А мне все эти дни так невесело, – сказала Надя, помолчав. – Отчего я не сплю по ночам?
– Не знаю, милая. А когда я не сплю по ночам, то закрываю глаза крепко-крепко, вот этак, и рисую себе Анну Каренину, как она ходит и как говорит, или рисую что-нибудь историческое, из древнего мира…
Надя почувствовала, что мать не понимает ее и не может понять. Почувствовала это первый раз в жизни, и ей даже страшно стало, захотелось спрятаться; и она ушла к себе в комнату.
А в два часа сели обедать. Была среда, день постный, и потому бабушке подали постный борщ и леща с кашей.
Чтобы подразнить бабушку, Саша ел и свой скоромный суп, и постный борщ. Он шутил все время, пока обедали, но шутки у него выходили громоздкие, непременно с расчетом на мораль, и выходило совсем не смешно, когда он перед тем, как сострить, поднимал вверх свои очень длинные, исхудалые, точно мертвые пальцы и когда приходило на мысль, что он очень болен и, пожалуй, недолго еще протянет на этом свете; тогда становилось жаль его до слез.
После обеда бабушка ушла к себе в комнату отдыхать. Нина Ивановна недолго поиграла на рояли и потом тоже ушла.
– Ах, милая Надя, – начал Саша свой обычный послеобеденный разговор, – если бы вы послушались меня! если бы!
Она сидела глубоко в старинном кресле, закрыв глаза, а он тихо ходил по комнате, из угла в угол.
– Если бы вы поехали учиться! – говорил он. – Только просвещенные и святые люди интересны, только они и нужны. Ведь чем больше будет таких людей, тем скорее настанет царствие Божие на земле. От вашего города тогда мало-помалу не останется камня на камне, – все полетит вверх дном, все изменится, точно по волшебству. И будут тогда здесь громадные, великолепнейшие дома, чудесные сады, фонтаны необыкновенные, замечательные люди… Но главное не это. Главное то, что толпы в нашем смысле, в каком она есть теперь, этого зла тогда не будет, потому что каждый человек будет веровать и каждый будет знать, для чего он живет, и ни один не будет искать опоры в толпе. Милая, голубушка, поезжайте! Покажите всем, что эта неподвижная, серая, грешная жизнь надоела вам. Покажите это хоть себе самой!
– Нельзя, Саша. Я выхожу замуж.
– Э, полно! Кому это нужно?
Вышли в сад, прошлись немного.
– И как бы там ни было, милая моя, надо вдуматься, надо понять, как нечиста, как безнравственна эта ваша праздная жизнь, – продолжал Саша. – Поймите же, ведь если, например, вы, и ваша мать, и ваша бабулька ничего не делаете, то, значит, за вас работает кто-то другой, вы заедаете чью-то чужую жизнь, а разве это чисто, не грязно?
Надя хотела сказать: «Да, это правда»; хотела сказать, что она понимает; но слезы показались у нее на глазах, она вдруг притихла, сжалась вся и ушла к себе.
Перед вечером приходил Андрей Андреич и, по обыкновению, долго играл на скрипке. Вообще он был неразговорчив и любил скрипку, быть может, потому, что во время игры можно было молчать. В одиннадцатом часу, уходя домой, уже в пальто, он обнял Надю и стал жадно целовать ее лицо, плечи, руки.
– Дорогая, милая моя, прекрасная!.. – бормотал он. – О, как я счастлив! Я безумствую от восторга!
И ей казалось, что это она уже давно слышала, очень давно, или читала где-то… в романе, в старом, оборванном, давно уже заброшенном.
В зале Саша сидел у стола и пил чай, поставив блюдечко на свои длинные пять пальцев; бабуля раскладывала пасьянс, Нина Ивановна читала. Трещал огонек в лампадке, и все, казалось, было тихо, благополучно. Надя простилась и пошла к себе наверх, легла и тотчас же уснула. Но, как и в прошлую ночь, едва забрезжил свет, она уже проснулась. Спать не хотелось, на душе было непокойно, тяжело. Она сидела, положив голову на колени, и думала о женихе, о свадьбе… Вспомнила она почему-то, что ее мать не любила своего покойного мужа и теперь ничего не имела, жила в полной зависимости от своей свекрови, бабули. И Надя, как ни думала, не могла сообразить, почему до сих пор она видела в своей матери что-то особенное, необыкновенное, почему не замечала простой, обыкновенной несчастной женщины.
И Саша не спал внизу, – слышно было, как он кашлял. Это странный, наивный человек, думала Надя, и в его мечтах, во всех этих чудесных садах, фонтанах необыкновенных чувствуется что-то нелепое; но почему-то в его наивности, даже в этой нелепости столько прекрасного, что едва она только вот подумала о том, не поехать ли ей учиться, как все сердце, всю грудь обдало холодком, залило чувством радости, восторга.
– Но лучше не думать, лучше не думать… – шептала она. – Не надо думать об этом.
«Тик-ток… – стучал сторож где-то далеко. – Тик-ток… тик-ток…»
III
Саша в середине июня стал вдруг скучать и засобирался в Москву.
– Не могу я жить в этом городе, – говорил он мрачно. – Ни водопровода, ни канализации! Я есть за обедом брезгаю: в кухне грязь невозможнейшая…
– Да погоди, блудный сын! – убеждала бабушка почему-то шепотом, – седьмого числа свадьба!
– Не желаю.
– Хотел ведь у нас до сентября пожить!
– А теперь вот не желаю. Мне работать нужно!
Лето выдалось сырое и холодное, деревья были мокрые, все в саду глядело неприветливо, уныло, хотелось в самом деле работать. В комнатах, внизу и наверху, слышались незнакомые женские голоса, стучала у бабушки швейная машина: это спешили с приданым. Одних шуб за Надей давали шесть, и самая дешевая из них, по словам бабушки, стоила триста рублей! Суета раздражала Сашу; он сидел у себя в комнате и сердился; но все же его уговорили остаться, и он дал слово, что уедет первого июля, не раньше.
Время шло быстро. На Петров день после обеда Андрей Андреич пошел с Надей на Московскую улицу, чтобы еще раз осмотреть дом, который наняли и давно уже приготовили для молодых. Дом двухэтажный, но убран был пока только верхний этаж. В зале блестящий пол, выкрашенный под паркет, венские стулья, рояль, пюпитр для скрипки. Пахло краской. На стене в золотой раме висела большая картина, написанная красками: нагая дама и около нее лиловая ваза с отбитой ручкой.
– Чудесная картина, – проговорил Андрей Андреич и из уважения вздохнул. – Это художника Шишмачевского.
Дальше была гостиная с круглым столом, диваном и креслами, обитыми ярко-голубой материей. Над диваном большой фотографический портрет отца Андрея в камилавке и в орденах. Потом вошли в столовую с буфетом, потом в спальню; здесь в полумраке стояли рядом две кровати, и похоже было, что когда обставляли спальню, то имели в виду, что всегда тут будет очень хорошо и иначе быть не может. Андрей Андреич водил Надю по комнатам и все время держал ее за талию; а она чувствовала себя слабой, виноватой, ненавидела все эти комнаты, кровати, кресла, ее мутило от нагой дамы. Для нее уже ясно было, что она разлюбила Андрея Андреича или, быть может, не любила его никогда; но как это сказать, кому сказать и для чего, она не понимала и не могла понять, хотя думала об этом все дни, все ночи… Он держал ее за талию, говорил так ласково, скромно, так был счастлив, расхаживая по этой своей квартире; а она видела во всем одну только пошлость, глупую, наивную, невыносимую пошлость, и его рука, обнимавшая ее талию, казалась ей жесткой и холодной, как обруч. И каждую минуту она готова была убежать, зарыдать, броситься в окно. Андрей Андреич привел ее в ванную и здесь дотронулся до крана, вделанного в стену, и вдруг потекла вода.
– Каково? – сказал он и засмеялся. – Я велел сделать на чердаке бак на сто ведер, и вот мы с тобой теперь будем иметь воду.
Прошлись по двору, потом вышли на улицу, взяли извозчика. Пыль носилась густыми тучами, и казалось, вот-вот пойдет дождь.
– Тебе не холодно? – спросил Андрей Андреич, щурясь от пыли.
Она промолчала.
– Вчера Саша, ты помнишь, упрекнул меня в том, что я ничего не делаю, – сказал он, помолчав немного. – Что же, он прав! бесконечно прав! Я ничего не делаю и не могу делать. Дорогая моя, отчего это? Отчего мне так противна даже мысль о том, что я когда-нибудь нацеплю на лоб кокарду и пойду служить? Отчего мне так не по себе, когда я вижу адвоката, или учителя латинского языка, или члена управы? О матушка Русь! О матушка Русь, как еще много ты носишь на себе праздных и бесполезных! Как много на тебе таких, как я, многострадальная!
И то, что он ничего не делал, он обобщал, видел в этом знамение времени.
– Когда женимся, – продолжал он, – то пойдем вместе в деревню, дорогая моя, будем там работать! Мы купим себе небольшой клочок земли с садом, рекой, будем трудиться, наблюдать жизнь… О, как это будет хорошо!
Он снял шляпу, и волосы развевались у него от ветра, а она слушала его и думала: «Боже, домой хочу! Боже!» Почти около самого дома они обогнали отца Андрея.
– А вот и отец идет! – обрадовался Андрей Андреич и замахал шляпой. – Люблю я своего батьку, право, – сказал он, расплачиваясь с извозчиком. – Славный старик. Добрый старик.
Вошла Надя в дом сердитая, нездоровая, думая о том, что весь вечер будут гости, что надо занимать их, улыбаться, слушать скрипку, слушать всякий вздор и говорить только о свадьбе. Бабушка, важная, пышная в своем шелковом платье, надменная, какою она всегда казалась при гостях, сидела у самовара. Вошел отец Андрей со своей хитрой улыбкой.
– Имею удовольствие и благодатное утешение видеть вас в добром здоровье, – сказал он бабушке, и трудно было понять, шутит это он или говорит серьезно.
IV
Ветер стучал в окна, в крышу; слышался свист, и в печи домовой жалобно и угрюмо напевал свою песенку. Был первый час ночи. В доме все уже легли, но никто не спал, и Наде все чуялось, что внизу играют на скрипке. Послышался резкий стук, должно быть, сорвалась ставня. Через минуту вошла Нина Ивановна в одной сорочке, со свечой.
– Что это застучало, Надя? – спросила она.
Мать, с волосами, заплетенными в одну косу, с робкой улыбкой, в эту бурную ночь казалась старше, некрасивее, меньше ростом. Наде вспомнилось, как еще недавно она считала свою мать необыкновенной и с гордостью слушала слова, какие она говорила; а теперь никак не могла вспомнить этих слов; все, что приходило на память, было так слабо, ненужно.
В печке раздалось пение нескольких басов и даже послышалось: «А-ах, бо-о-же мой!» Надя села в постели и вдруг схватила себя крепко за волосы и зарыдала.
– Мама, мама, – проговорила она, – родная моя, если б ты знала, что со мной делается! Прошу тебя, умоляю, позволь мне уехать! Умоляю!
– Куда? – спросила Нина Ивановна, не понимая, и села на кровать. – Куда уехать?
Надя долго плакала и не могла выговорить ни слова.
– Позволь мне уехать из города! – сказала она наконец. – Свадьбы не должно быть и не будет, пойми!
Я не люблю этого человека… И говорить о нем не могу.
– Нет, родная моя, нет, – заговорила Нина Ивановна быстро, страшно испугавшись. – Ты успокойся, – это у тебя от нерасположения духа. Это пройдет. Это бывает. Вероятно, ты повздорила с Андреем; но милые бранятся – только тешатся.
– Ну, уйди, мама, уйди! – зарыдала Надя.
– Да, – сказала Нина Ивановна, помолчав. – Давно ли ты была ребенком, девочкой, а теперь уже невеста. В природе постоянный обмен веществ. И не заметишь, как сама станешь матерью и старухой, и будет у тебя такая же строптивая дочка, как у меня.
– Милая, добрая моя, ты ведь умна, ты несчастна, – сказала Надя, – ты очень несчастна, – зачем же ты говоришь пошлости? Бога ради, зачем?
Нина Ивановна хотела что-то сказать, но не могла выговорить ни слова, всхлипнула и ушла к себе. Басы опять загудели в печке, стало вдруг страшно. Надя вскочила с постели и быстро пошла к матери. Нина Ивановна, заплаканная, лежала в постели, укрывшись голубым одеялом, и держала в руках книгу.
– Мама, выслушай меня! – проговорила Надя. – Умоляю тебя, вдумайся и пойми! Ты только пойми, до какой степени мелка и унизительна наша жизнь. У меня открылись глаза, я теперь все вижу. И что такое твой Андрей Андреич? Ведь он же не умен, мама! Господи боже мой! Пойми, мама, он глуп!
Нина Ивановна порывисто села.
– Ты и твоя бабка мучаете меня! – сказала она, вспыхнув. – Я жить хочу! жить! – повторила она и раза два ударила кулачком по груди. – Дайте же мне свободу! Я еще молода, я жить хочу, а вы из меня старуху сделали!..
Она горько заплакала, легла и свернулась под одеялом калачиком, и показалась такой маленькой, жалкой, глупенькой. Надя пошла к себе, оделась и, севши у окна, стала поджидать утра. Она всю ночь сидела и думала, а кто-то со двора все стучал в ставню и насвистывал.
Утром бабушка жаловалась, что в саду ночью ветром посбивало все яблоки и сломало одну старую сливу. Было серо, тускло, безотрадно, хоть огонь зажигай; все жаловались на холод, и дождь стучал в окна. После чаю Надя вошла к Саше и, не сказав ни слова, стала на колени в углу у кресла и закрыла лицо руками.
– Что? – спросил Саша.
– Не могу… – проговорила она. – Как я могла жить здесь раньше, не понимаю, не постигаю! Жениха я презираю, себя презираю, презираю всю эту праздную, бессмысленную жизнь…
– Ну, ну… – проговорил Саша, не понимая еще, в чем дело. – Это ничего… Это хорошо.
– Эта жизнь опостылела мне, – продолжала Надя, – я не вынесу здесь и одного дня. Завтра же я уеду отсюда. Возьмите меня с собой, бога ради!
Саша минуту смотрел на нее с удивлением; наконец он понял и обрадовался, как ребенок. Он взмахнул руками и начал притоптывать туфлями, как бы танцуя от радости.
– Великолепно! – говорил он, потирая руки. – Боже, как это хорошо!
А она глядела на него, не мигая, большими, влюбленными глазами, как очарованная, ожидая, что он тотчас же скажет ей что-нибудь значительное, безграничное по своей важности; он еще ничего не сказал ей, но уже ей казалось, что перед нею открывается нечто новое и широкое, чего она раньше не знала, и уже она смотрела на него, полная ожиданий, готовая на все, хотя бы на смерть.
– Завтра я уезжаю, – сказал он, подумав, – и вы поедете на вокзал провожать меня… Ваш багаж я заберу в свой чемодан и билет вам возьму; а во время третьего звонка вы войдете в вагон, – мы и поедем. Проводите меня до Москвы, а там вы одни поедете в Петербург. Паспорт у вас есть?
– Есть.
– Клянусь вам, вы не пожалеете и не раскаетесь, – сказал Саша с увлечением. – Поедете, будете учиться, а там пусть вас носит судьба. Когда перевернете вашу жизнь, то все изменится. Главное – перевернуть жизнь, а все остальное не важно. Итак, значит, завтра поедем?
– О да! Бога ради!
Наде казалось, что она очень взволнована, что на душе у нее тяжело как никогда, что теперь до самого отъезда придется страдать и мучительно думать; но едва она пришла к себе наверх и прилегла на постель, как тотчас же уснула и спала крепко, с заплаканным лицом, с улыбкой, до самого вечера.
V
Послали за извозчиком. Надя, уже в шляпе и пальто, пошла наверх, чтобы еще раз взглянуть на мать, на все свое; она постояла в своей комнате около постели, еще теплой, осмотрелась, потом пошла тихо к матери. Нина Ивановна спала, в комнате было тихо. Надя поцеловала мать и поправила ей волосы, постояла минуты две… Потом не спеша вернулась вниз.
На дворе шел сильный дождь. Извозчик с крытым верхом, весь мокрый, стоял у подъезда.
– Не поместишься с ним, Надя, – сказала бабушка, когда прислуга стала укладывать чемоданы. – И охота в такую погоду провожать! Оставалась бы дома. Ишь ведь дождь какой!
Надя хотела сказать что-то и не могла. Вот Саша подсадил Надю, укрыл ей ноги пледом. Вот и сам он поместился рядом.
– В добрый час! Господь благословит! – кричала с крыльца бабушка. – Ты же, Саша, пиши нам из Москвы!
– Ладно. Прощайте, бабуля!
– Сохрани тебя царица небесная!
– Ну погодка! – проговорил Саша.
Надя теперь только заплакала. Теперь уже для нее ясно было, что она уедет непременно, чему она все-таки не верила, когда прощалась с бабушкой, когда глядела на мать. Прощай, город! И все ей вдруг припомнилось: и Андрей, и его отец, и новая квартира, и нагая дама с вазой; и все это уже не пугало, не тяготило, а было наивно, мелко и уходило все назад и назад. А когда сели в вагон и поезд тронулся, то все это прошлое, такое большое и серьезное, сжалось в комочек, и разворачивалось громадное, широкое будущее, которое до сих пор было так мало заметно. Дождь стучал в окна вагона, было видно только зеленое поле, мелькали телеграфные столбы да птицы на проволоках, и радость вдруг перехватила ей дыхание: она вспомнила, что она едет на волю, едет учиться, а это все равно что когда-то очень давно называлось уходить в казачество. Она и смеялась, и плакала, и молилась.
– Ничего-о! – говорил Саша, ухмыляясь. – Ничего-о!
VI
Прошла осень, за ней прошла зима. Надя уже сильно тосковала и каждый день думала о матери и о бабушке, думала о Саше. Письма из дому приходили тихие, добрые, и, казалось, все уже было прощено и забыто. В мае после экзаменов она, здоровая, веселая, поехала домой и на пути остановилась в Москве, чтобы повидаться с Сашей. Он был все такой же, как и прошлым летом: бородатый, со всклокоченной головой, все в том же сюртуке и парусинковых брюках, все с теми же большими, прекрасными глазами; но вид у него был нездоровый, замученный, он и постарел, и похудел, и все покашливал. И почему-то показался он Наде серым, провинциальным.
– Боже мой, Надя приехала! – сказал он и весело рассмеялся. – Родная моя, голубушка!
Посидели в литографии, где было накурено и сильно, до духоты, пахло тушью и красками; потом пошли в его комнату, где было накурено, наплевано; на столе возле остывшего самовара лежала разбитая тарелка с темной бумажкой, и на столе и на полу было множество мертвых мух. И тут было видно по всему, что личную жизнь свою Саша устроил неряшливо, жил как придется, с полным презрением к удобствам, и если бы кто-нибудь заговорил с ним об его личном счастье, об его личной жизни, о любви к нему, то он бы ничего не понял и только бы засмеялся.
– Ничего, все обошлось благополучно, – рассказывала Надя торопливо. – Мама приезжала ко мне осенью в Петербург, говорила, что бабушка не сердится, а только все ходит в мою комнату и крестит стены.
Саша глядел весело, но покашливал и говорил надтреснутым голосом, и Надя все вглядывалась в него и не понимала, болен ли он на самом деле серьезно или ей это только так кажется.
– Саша, дорогой мой, – сказала она, – а ведь вы больны!
– Нет, ничего. Болен, но не очень…
– Ах, боже мой, – заволновалась Надя, – отчего вы не лечитесь, отчего не бережете своего здоровья? Дорогой мой, милый Саша, – проговорила она, и слезы брызнули у нее из глаз, и почему-то в воображении ее выросли и Андрей Андреич, и голая дама с вазой, и все ее прошлое, которое казалось теперь таким же далеким, как детство; и заплакала она оттого, что Саша уже не казался ей таким новым, интеллигентным, интересным, каким был в прошлом году. – Милый Саша, вы очень, очень больны. Я бы не знаю что сделала, чтобы вы не были так бледны и худы. Я вам так обязана! Вы не можете даже представить себе, как много вы сделали для меня, мой хороший Саша! В сущности, для меня вы теперь самый близкий, самый родной человек.
Они посидели, поговорили; и теперь, после того как Надя провела зиму в Петербурге, от Саши, от его слов, от улыбки и от всей его фигуры веяло чем-то отжитым, старомодным, давно спетым и, быть может, уже ушедшим в могилу.
– Я послезавтра на Волгу поеду, – сказал Саша, – ну а потом на кумыс. Хочу кумыса попить. А со мной едет один приятель с женой. Жена удивительный человек; все сбиваю ее, уговариваю, чтоб она учиться пошла. Хочу, чтобы жизнь свою перевернула.
Поговоривши, поехали на вокзал. Саша угощал чаем, яблоками; а когда поезд тронулся и он, улыбаясь, помахивал платком, то даже по ногам его видно было, что он очень болен и едва ли проживет долго.
Приехала Надя в свой город в полдень. Когда она ехала с вокзала домой, то улицы казались ей очень широкими, а дома маленькими, приплюснутыми; людей не было, и только встретился немец-настройщик в рыжем пальто. И все дома точно пылью покрыты. Бабушка, совсем уже старая, по-прежнему полная и некрасивая, охватила Надю руками и долго плакала, прижавшись лицом к ее плечу, и не могла оторваться. Нина Ивановна тоже сильно постарела и подурнела, как-то осунулась вся, но все еще по-прежнему была затянута, и бриллианты блестели у нее на пальцах.
– Милая моя! – говорила она, дрожа всем телом. – Милая моя!
Потом сидели и молча плакали. Видно было, что и бабушка и мать чувствовали, что прошлое потеряно навсегда и бесповоротно: нет уже ни положения в обществе, ни прежней чести, ни права приглашать к себе в гости; так бывает, когда среди легкой, беззаботной жизни вдруг нагрянет ночью полиция, сделает обыск, и хозяин дома, окажется, растратил, подделал, – и прощай тогда навеки легкая, беззаботная жизнь!
Надя пошла наверх и увидела ту же постель, те же окна с белыми, наивными занавесками, а в окнах тот же сад, залитый солнцем, веселый, шумный. Она потрогала свой стол, постель, посидела, подумала. И обедала хорошо, и пила чай со вкусными, жирными сливками, но чего-то уже не хватало, чувствовалась пустота в комнатах, и потолки были низки. Вечером она легла спать, укрылась, и почему-то было смешно лежать в этой теплой, очень мягкой постели.
Пришла на минутку Нина Ивановна, села, как садятся виноватые, робко и с оглядкой.
– Ну как, Надя? – спросила она, помолчав. – Ты довольна? Очень довольна?
– Довольна, мама.
Нина Ивановна встала и перекрестила Надю и окна.
– А я, как видишь, стала религиозной, – сказала она. – Знаешь, я теперь занимаюсь философией и все думаю, думаю… И для меня теперь многое стало ясно как день. Прежде всего надо, мне кажется, чтобы вся жизнь проходила как сквозь призму.
– Скажи, мама, как здоровье бабушки?
– Как будто бы ничего. Когда ты уехала тогда с Сашей и пришла от тебя телеграмма, то бабушка, как прочла, так и упала; три дня лежала без движения. Потом все богу молилась и плакала. А теперь ничего.
Она встала и прошлась по комнате.
«Тик-ток… – стучал сторож. – Тик-ток, тик-ток…»
– Прежде всего надо, чтобы вся жизнь проходила как бы сквозь призму, – сказала она, – то есть, другими словами, надо, чтобы жизнь в сознании делилась на простейшие элементы, как бы на семь основных цветов, и каждый элемент надо изучать в отдельности.
Что еще сказала Нина Ивановна и когда она ушла, Надя не слышала, так как скоро уснула.
Прошел май, настал июнь. Надя уже привыкла к дому. Бабушка хлопотала за самоваром, глубоко вздыхала; Нина Ивановна рассказывала по вечерам про свою философию; она по-прежнему проживала в доме, как приживалка, и должна была обращаться к бабушке за каждым двугривенным. Было много мух в доме, и потолки в комнатах, казалось, становились все ниже и ниже. Бабуля и Нина Ивановна не выходили на улицу из страха, чтобы им не встретились отец Андрей и Андрей Андреич. Надя ходила по саду, по улице, глядела на дома, на серые заборы, и ей казалось, что в городе все давно уже состарилось, отжило и все только ждет не то конца, не то начала чего-то молодого, свежего. О, если бы поскорее наступила эта новая, ясная жизнь, когда можно будет прямо и смело смотреть в глаза своей судьбе, сознавать себя правым, быть веселым, свободным! А такая жизнь рано или поздно настанет! Ведь будет же время, когда от бабушкина дома, где все так устроено, что четыре прислуги иначе жить не могут, как только в одной комнате, в подвальном этаже, в нечистоте, – будет же время, когда от этого дома не останется и следа и о нем забудут, никто не будет помнить. И Надю развлекали только мальчишки из соседнего двора; когда она гуляла по саду, они стучали в забор и дразнили ее со смехом:
– Невеста! Невеста!
Пришло из Саратова письмо от Саши. Своим веселым, танцующим почерком он писал, что путешествие по Волге ему удалось вполне, но что в Саратове он прихворнул немного, потерял голос, и уже две недели лежит в больнице. Она поняла, что это значит, и предчувствие, похожее на уверенность, овладело ею. И ей было неприятно, что это предчувствие и мысли о Саше не волновали ее так, как раньше. Ей страстно хотелось жить, хотелось в Петербург, и знакомство с Сашей представлялось уже милым, но далеким, далеким прошлым! Она не спала всю ночь и утром сидела у окна, прислушивалась. И в самом деле, послышались голоса внизу; встревоженная бабушка стала о чем-то быстро спрашивать. Потом заплакал кто-то… Когда Надя сошла вниз, то бабушка стояла в углу и молилась, и лицо у нее было заплакано. На столе лежала телеграмма.
Надя долго ходила по комнате, слушая, как плачет бабушка, потом взяла телеграмму, прочла. Сообщалось, что вчера утром в Саратове от чахотки скончался Александр Тимофеич, или попросту Саша.
Бабушка и Нина Ивановна пошли в церковь заказывать панихиду, а Надя долго еще ходила по комнатам и думала. Она ясно сознавала, что жизнь ее перевернута, как хотел того Саша, что она здесь одинокая, чужая, ненужная и что все ей тут ненужно, все прежнее оторвано от нее и исчезло, точно сгорело, и пепел разнесся по ветру. Она вошла в Сашину комнату, постояла тут.
«Прощай, милый Саша!» – думала она, и впереди ей рисовалась жизнь новая, широкая, просторная, и эта жизнь, еще неясная, полная тайн, увлекала и манила ее.
Она пошла к себе наверх укладываться, а на другой день утром простилась со своими и, живая, веселая, покинула город, – как полагала, навсегда.
1903Примечания
1
Верховный жрец (от лат. pontifex maximus).
(обратно)2
Вы понимаете (фр.)
(обратно)3
Парадный бал (от фр. bal parе).
(обратно)4
Выскочка (фр.).
(обратно)5
Человек дурного тона, плохо воспитанный (фр.).
(обратно)6
Есть и пить (фр.).
(обратно)7
Барышня (фр.).
(обратно)8
Извините (фр.).
(обратно)9
Стерлядь по-русски! (От фр. de l’esturgeon à la russe.)
(обратно)10
Моя дорогая (фр.).
(обратно)11
Все понять, все простить (фр.).
(обратно)12
До ости лопатки (лат.).
(обратно)13
«История болезни» (лат.).
(обратно)14
Ваше превосходительство (фр.).
(обратно)15
Мать-кормилица (лат.). Так в старину студенты называли свой университет.
(обратно)16
Хорошо (лат.).
(обратно)17
Так (лат.).
(обратно)18
Последний довод! (лат.)
(обратно)19
Искаженное начало старинной студенческой песни: «Gau-deamus igitur, juvenes dum sumus» – «Будем веселиться, пока молоды» (лат.).
(обратно)20
Общества (от фр. sociеtе).
(обратно)21
В будущем (лат.).
(обратно)22
Большим кругом (фр.).
(обратно)23
Драгоценности (фр.).
(обратно)24
Скажи, чтобы нам дали чаю (фр.).
(обратно)
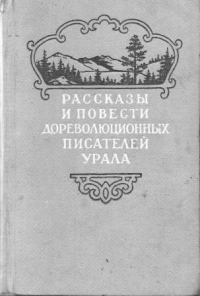

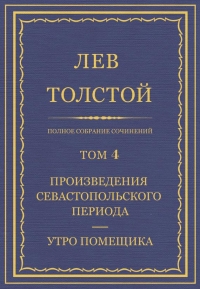

Комментарии к книге «Человек в футляре», Антон Павлович Чехов
Всего 0 комментариев