Александр Эртель "Записки Степняка"
Иван Бунин "Эртель"
Он теперь почти забыт, а для большинства и совсем неизвестен. Удивительна была его жизнь, удивительно и это забвение. Кто забыл его друзей и современников — Гаршина, Успенского, Короленко, Чехова? А ведь, в общем, он был не меньше их, — за исключением, конечно, Чехова, — в некоторых отношениях даже больше.
Двадцать лет тому назад, в Москве, в чудесный морозный день, я сидел в его кабинете, в залитой солнцем квартире на Воздвиженке, и, как всегда при встречах с ним, думал:
"Какая умница, какой талант в каждом слове, в каждой усмешке! Какая смесь мужественности и мягкости, твердости и деликатности, породистого англичанина и воронежского прасола! Как все мило в нем и вокруг него: и его сухощавая, высокая фигура в прекрасном английском костюме, на котором нет ни единой пушинки, и белоснежное белье, и крупные с рыжеватыми волосами руки, и висячие русые усы, и голубые меланхолические глаза, и янтарный мундштук, в котором душисто дымится дорогая папироса, и весь этот кабинет, сверкающий солнцем, чистотой, комфортом! Как поверить, что этот самый человек в юности двух слов не умел связать в самом невзыскательном уездном обществе, плохо знал, как обращаться с салфетками, писал с нелепейшими орфографическими ошибками?"
В этой же самой квартире он вскоре и умер — от разрыва сердца.
Через год после того вышли в свет семь томов собрания его сочинений (рассказов, повестей и романов) и один том писем. К роману «Гарденины» было приложено предисловие Толстого. К письмам — его автобиография и статья Гершензона: "Мировоззрение Эртеля".
Толстой писал о «Гардениных», что, "начав читать эту книгу, не мог оторваться, пока не прочел ее всю и не перечел некоторых мест по несколько раз". Он писал:
"Главное достоинство, кроме серьезного отношения к делу, кроме такого знания народного быта, какого я не знаю ни у одного писателя, неподражаемое, не встречаемое нигде достоинство этого романа есть удивительный по верности, красоте, разнообразию и силе народный язык. Такого языка не найдешь ни у старых, ни у новых писателей. Мало того, что народный язык его верен, силен, красив, он бесконечно разнообразен. Старик-дворовый говорит одним языком, мастеровой другим, молодой парень третьим, бабы четвертым, девки опять иным. У какого-то писателя высчитали количество употребляемых им слов. Я думаю, что у Эртеля количество это, особенно народных слов, было бы самое большое из всех русских писателей, да еще каких верных, хороших, сильных, нигде, кроме как в народе, не употребляемых слов. И нигде эти слова не подчеркнуты, не преувеличена их исключительность, не чувствуется того, что так часто бывает, что автор хочет щегольнуть, удивить подслушанным им словечком…"
Это знание народа станет вполне понятно, когда просмотришь автобиографию Эртеля.
— Я родился, — говорит он, — 7 июня 1855 года. Дед мой был из берлинской бюргерской семьи, юношей попал в армию Наполеона и под Смоленском был взят в плен, а затем увезен одним из русских офицеров в воронежскую деревню. Там он вскоре перешел в православие, женился на крепостной девушке, приписался в воронежские мещане и всю последующую жизнь прожил управляющим в господских имениях. Эту же должность наследовал и отец мой, тоже женившийся на крепостной. Человек он был весьма мало образованный, но любил читать, преимущественно исторические книги, — и не чужд был так называемым вопросам политики и даже своего рода философии; к прекрасным чертам его характера нужно отнести большую доброту при наружной суровости, довольно чуткое чувство справедливости и чрезвычайную трезвость ума, почти совершенно совпадавшую со взглядами великорусского крестьянина. Что до моей матери, незаконной дочери одного задонского помещика, то, в противоположность отцу, она была не прочь и от чувствительности, и даже мечтательного романтизма…
— Выучила читать меня она, писать же я выучился сам, сначала копируя с книг печатные буквы. Затем мой крестный, тот помещик Савельев, у которого отец долго был управляющим, предложил отцу взять меня к себе в дом. Жена Савельева была француженка, актриса из какого-то бульварного театра в Париже почти совсем не говорила по-русски, очень скучала и привязалась ко мне, как к игрушке, рядила меня, кормила лакомствами… Впрочем, все это длилось недолго. Отец поссорился с Савельевым, потерял место — и я был обращен в "первобытное состояние". Тогда мы почти год бедствовали на квартире у одного знакомого мужика, пока отец не снял в аренду хутор…
— Я пользовался совершенной свободой делать, что мне угодно: играть с деревенскими ребятами, читать когда и что захочу… Когда отец взялся "приучать меня к хозяйству", мне было тринадцать лет. Я в то время знал четыре арифметики, "Историю Наполеона", "Кощея Бессмертного", "Путешествие Пифагора", "Стеньку Разина" Костомарова, второй том "Музея иностранной литературы", "Песни Кольцова", "Сочинения Пушкина", старинный конский лечебник, Священную историю с картинками, комедию Чадаева "Дон Педро Прокодурнате". Затем я самоучкой выучился читать по-церковному и несколько раз перечитал "Киевский Патерик" и несколько книг Четьи-Минеи… Лет шестнадцати я познакомился с усманским купцом Богомоловым, и он снабдил меня сочинениями Дарвина "О происхождении человека" и книжками "Русского слова", в которых я с огромным увлечением прочитал статьи Писарева…
— Отец сделал меня своим помощником по хозяйству, но я настолько держался запанибрата с простым народом, что иногда отец грозился меня бить за это и действительно раза три бил… Я был свой человек в застольной, в конюшнях, в деревне "на улице", на посиделках, на свадьбах, везде, где собирался молодой деревенский народ… Отец решил, наконец, что мои дружественные и фамильярные отношения с деревней положительно мешают мне обладать авторитетом, нужным для приказчика, и согласился на то, чтобы я искал себе должность где-нибудь в другом месте; и вскоре после того я занял должность конторщика в одном соседнем имении… Железную дорогу я увидал в первый раз, когда мне стало шестнадцать лет; Москву и Петербург — двадцати трех…
Дальнейшее довольно типично для того времени, для самоучки, "рвущегося к свету, к прогрессу": новое знакомство с новым чудаком-купцом, который "посреди грязи и пошлости торгового люда" был одержим истинной страстью к этому «прогрессу» и к чтению; знакомство с его дочерью, которая взялась руководить развитием молодого «дикаря» и с которой вскоре завязался "книжный роман", кончившийся свадьбой; затем попытка завести свое хозяйство в арендованном на грошовое приданое жены именьице и крушение этой попытки,"я, считавшийся дельным хозяином в чужом богатом имении, оказался никуда не годным в своем маленьком", — и наконец переезд в Петербург (благодаря случайному знакомству с писателем Засодимским, как-то заехавшим в Усмань) и начало типичной писательской жизни в среде наиболее «передовых» представителей тогдашней литературы, жизни в такой бедности, что у молодого писателя вскоре обнаружились задатки чахотки, и с таким увлечением «передовыми» идеями, что пришлось даже посидеть в Петропавловской крепости, а потом пожить в ссылке в Твери. Однако типичность эта тут и кончается. Совсем не типичной оказалась быстрота развития этого «дикаря», быстрота превращения его в настоящего культурного человека, его необычайный духовный и художественный рост и, главное, самостоятельность вкусов, взглядов и стремлений, уже и тогда далеко не во всем совпадавших с тем, что полагалось иметь всем этим Засодимским, Златовратским. "Даже и в ту пору увлечения Засодимским, — говорит Эртель, — меня не покидала отцовская струйка: здравый смысл. Я, например, чувствовал, что знаю жизнь лучше и глубже его, особенно жизнь народную, бытописателем которой он считал себя. Умел я и людей узнавать лучше его — этому помогали мои занятия хозяйством, деловые отношения с купцами, крестьянами, кулаками, кабатчиками, барышниками, словом, все то, что шло у меня рядом с любовью к народу, с сетованьями о его нужде, печалях, с увлечением туманными идеалами образованности, прогресса, свободы, равенства и братства…"
Этот-то "здравый смысл" (если уж употреблять столь чрезмерно скромное выражение) и сделал Эртеля такой крупной и своеобразной фигурой, как в жизни, так и в литературе. Гершензон совершенно справедливо говорит, что "нельзя вообразить себе более резкого контраста, нежели тот, которым представляет фигура Эртеля среди худосочной и вялой русской интеллигенции восьмидесятых годов". Да и жизнь его, повторяю, была лишь очень короткое время более или менее типичной жизнью интеллигента из разночинцев. Вскоре она опять стала (даже и внешне) чрезвычайно непохожа на таковую: после Твери Эртель только временами живал в столицах или за границей, — он опять вернулся в деревню, к сельскому хозяйству и почти до самого своего конца отдавал ему половину всех своих сил, сперва арендуя лично для себя клочок земли на родине, а затем управляя огромнейшими и богатейшими барскими имениями (одно время даже сразу несколькими, разбросанными в целых девяти губерниях, то есть "целым царством", как писал он мне однажды).
Гершензон считает, что Эртель даже и как мыслитель был явлением «замечательным», что мировоззрение его "представляет собой чрезвычайно оригинальную и ценную систему идей". Сила мышления Эртеля, говорит он была в той области, которую Кант отводит "практическому разуму". Эртель был прежде всего человеком дела. Ему дана была от природы огромная жизнеспособность, он был ярким представителем делателей жизни, обладал страстной жаждой быть в непрерывной смене явлений и действий. И вот этим-то и определялся характер его мировоззрения.
Все это мировоззрение есть ответ на двойственный вопрос: что позволяет сделать жизнь и чего она требует? Вопрос об изначальной силе, движущей мир, и о конечной цели этого движения Эртель оставлял без рассмотрения.
Он, однако, не был рационалистом. Напротив, как раз живое чутье действительности научило его тому, что в основе всего видимого есть элемент невидимый, но не менее реальный, и что не учитывать его в практических расчетах значит рисковать ошибочностью всех расчетов. Оттого позитивизм казался ему нестерпимой бессмысленностью.
Он думал, что жизнь резко распадается на явления двух родов: на зависящие исключительно от воли "Великого Неизвестного, которого мы называем богом", то есть на такие, к которым мы должны относиться с безусловной покорностью, и на зависящие от нашей воли и устранимые, по отношению к которым борьба уместна и необходима.
Он верил, что существует абсолютная истина, но стоял лишь за условное осуществление ее, любил говорить: "В меру, друг, в меру!" — то есть: не ускоряй насильственно этот поступательный ход истории. Безусловное понимание добра и зла и условное действие в осуществлении первого и в борьбе с последним — вот что нужно для всякой деятельности, в том числе для всякой протестующей, говорил он. Значит ли это, однако, что он проповедовал "умеренность и аккуратность"? Редко кто был менее умерен и аккуратен, чем он, вся жизнь которого была страстной неумеренностью, "вечным горением в делах душевных, общественных и житейских, страдальческими поисками внешней и внутренней гармонии". Он сам нередко жаловался: "Все не удается восстановить в своей жизни равновесия… То, что видишь вокруг и что читаешь, до такой степени надрывает сердце жалостью к одним и гневом к другим, что просто беда…" И дальше (говоря о своем участии в помощи голодающим, которой он в начале девяностых годов отдавался целых два года с такой страстью, что совершенно забросил свои собственные дела и оказался в настоящей нищете): "Еще раз узнал, что могу до самозабвения, до полнейшего упадка сил, увлекаться так называемой общественной деятельностью…"
Он сурово осуждал русскую интеллигенцию, и прежде всего с практической точки зрения. Он говорил, что ее вечный протест, обусловленный только "нервическим раздражением" или "лирическим отношением к вещам", бессилен, не ведет к цели, ибо пафос сам по себе не есть какая-либо сущность, а только форма проявления, сущностью же всякой борьбы является личное религиозно-философское убеждение протестующего и затем — понимание исторической действительности. Первое, что нужно русскому интеллигенту, говорил он, это проникнуться учением Христа, "который костью стал в горле господ Михайловских", без чего невозможна религиозная культура личности, а второе — глубокая и серьезная культура и исторический такт. Он говорил: "Всякие "Забытые слова" оттого ведь и забываются столь быстро и часто, что мы их воспринимаем лишь нервами… Несчастье нашего поколения заключается в том, что у него совершенно отсутствовал интерес к религии, к философии, к искусству и до сих пор отсутствует свободно развитое чувство, свободная мысль… Людям, кроме политических форм и учреждений, нужен «дух», вера, истина, бог… Ты скажешь: а все же умели умирать за идею! Ах, легче умереть, нежели осуществить! Односторонне протестующее общество даже в случае победы может принести более зла, нежели добра… О, горек, тысячу раз горек деспотизм, но он отнюдь не менее горек, если проистекает от «Феденьки», а не от Победоносцевых. Воображаю, что натворили бы «Феденьки» на месте Победоносцевых! Что до нашего отношения к народу, то и тут не нужно никакой нормы, кроме той нравственной нормы, которою вообще должны определяться отношения между людьми, то есть закона любви, установленного Христом…"
"Мне думается, — писал он в своей записной книжке, возражая Толстому, последователем которого он был во многом, — я думаю, что раздать имение нищим — не вся правда. Нужно, чтобы во мне и в детях моих сохранилось то, что есть добро: знание, образованность, целый ряд истинно хороших привычек, а это все большей частью требует не одной головной передачи, а наследственной. Отдавши имение, отдам ли я действительно все, чем я обязан людям? Нет, благодаря чужому труду, я, кроме имения обладаю еще многим другим и этим многим должен делиться с ближним, а не зарывать его в землю…"
Вообще безусловное понимание истины и условное осуществление ее — один из заветных тезисов Эртеля. Всем существом он чувствовал, что прямолинейная принципиальность холодна, мертвенна, что теплота жизни только в компромиссе, что полное самоотречение такая же нелепость, как и всякое безусловное осуществление истины. "Любить одинаково своего ребенка и чужого — противоестественно. Достаточно, если твое личное чувство не погашает в тебе справедливости, которая не позволяет зарезать чужого ребенка ради удобства своего. Норма в той середине, где росток личной жизни цветет и зреет в полной силе, не заглушая вместе с тем любви ко всему живущему…"
Умер этот удивительный по своей кипучей внутренней и внешней деятельности, по свободе и ясности ума и широте сердца человек слишком рано — всего 52 лет от роду. И перед смертью уже глубоко верил, что "смысл всех земных страданий открывается там". В отрочестве он пережил пору страстного религиозного чувства. Затем эти чувства сменились "сомнениями, попытками утвердить, на месте растущего неверия, веру в добро, в революционные и народнические учения, в учение Толстого… Но неизменно все перемешалось в моей натуре". Он во многом и навсегда остался "другом всяческих свобод" и вообще интеллигентом своего времени. И все-таки жизнь являлась ему "все в новом освещении". Добро? Но оказалось, что слово это "звучало слишком пусто" и что нужно было "хорошенько подумать над ним". Народничество? Но оказалось, что "народнические грезы суть грезы, и больше ничего… Вот организовать (вне всякой политики) какой-нибудь огромный союз образованных людей с целью помощи всяческим крестьянским нуждам — это другое дело… Русскому народу и его интеллигенции, прежде всяких попыток осуществления "царства божия", предстоит еще создать почву для такого царства, словом и делом водворять сознательный и твердо поставленный культурный быт… Социализм? Но не думаешь ли ты, что он может быть только у того народа, где проселочные дороги обсажены вишнями и вишни бывают целы? <…> Революция? Но к революции в смысле насилия я чувствую органическое отвращение… <…> Ведь еще Герцен сказал, что иные вещи несравненно более жалко терять, нежели иных людей… Толстой? Но всех загнать в Фиванду — значит оскопить и обесцветить жизнь… Нельзя всем предписать земледельческий труд, жестокое непротивление злу, самоотречение до уничтожения личности… Сводить всю свою жизнь до роли «самаритянской» я не хочу… Не было бы тени — не было бы борьбы, а что же прекраснее борьбы! Народ? Я долго писал о нем, обливаясь слезами…" Но идут годы — и что же говорит этот народолюбец? "Нет, никогда еще я так не понимал некрасовского выражения "любя ненавидеть", как теперь, купаясь в аду подлинной, а не абстрагированной народной действительности, в прелестях русского неправдоподобно жестокого быта… <…> Безверие? Но человек без религии существо жалкое и несчастное… Золотые купола и благовест — форма великой сущности, живущей в каждой человеческой душе…" И вот — последние признания, незадолго до смерти:
"Страшные тайны бога недоступны моему рассудочному пониманию…"
"Верую, что смысл жизненных страданий и смерти откроется там…"
"Горячо верую, что жизнь наша не кончается здесь и что в той жизни будет разрешение всех мучительных загадок и тайн человеческого существования…"
1929
Я. Билинкис "Творчество А. И. Эртеля"
После реформ 60-х годов необыкновенно усложнилась, по сравнению с предшествующими десятилетиями, русская жизнь. Этот период русской истории нашел свое выражение в творчестве Толстого и Достоевского, Некрасова и Щедрина, Островского и Чехова. Но конфликты, противоречия этой поры были настолько сложны и многообразны, настолько пронизали все сферы, что даже произведения работавших рядом или шедших друг за другом титанов нашей литературы не могут дать всестороннего представления о своеобразии процессов, происходивших во второй половине XIX века. И, надо думать, что именно стремясь к полноте и многогранности изучения прошлого, Горький не уставал привлекать внимание читателей не только к литераторам первой величины, но и к писателям второго и третьего ряда, особенно к тем из них, кто жил и писал в 60-х, 70-х, 80-х, 90-х годах XIX столетия. В их числе Горький не раз называл и Эртеля.
1
Эпоха создает не только свои характерные стили, но и исторически характерные жизненные пути литераторов. Точнее, она, как правило, наиболее легко находит свое выражение в книгах людей, в самой жизни которых все внутренне наполнено содержанием общих социально-исторических процессов.
У Александра Ивановича Эртеля (1855–1908) не было и не могло быть той непосредственной связи с русским и французским XVIII веком, с культурой "лучших людей из дворян", живших в начале XIX столетия, которая имела такое огромное значение не только для Пушкина или Тургенева, но и для Герцена и, по-своему, для Толстого. У рода Эртеля не было своей истории, и уже этим биография его исторически характерна. {III}
Дед Эртеля — немец, оказавшийся в рядах армии Наполеона — был взят русскими войсками в плен и остался в России навсегда. Здесь всю свою жизнь он и служил — сначала домашним учителем, затем управляющим на мельницах и в дворянских поместьях. Приказчиком у купца, управляющим в чужих поместьях, арендатором небольшого хутора прожил жизнь отец писателя. И сам Эртель с детских лет должен был привыкать к «хозяйству». Когда матери Эртеля удалось настоять, чтобы мальчика отдали в гимназию, и отец повез его в губернский город — Воронеж, то, вспоминает Эртель, "на грех, отец встретился со старым своим товарищем по училищу и закутил с ним. Пили, пили, куда-то ездили и возвращались по ночам… Отцу повсюду не советовали отдавать меня в гимназию: "Будет образованный — родителей не станет кормить"; приводились примеры… Отец подумал, подумал, да, не дожидаясь экзамена, и увез меня домой".[1] Так и не получил Эртель никакого систематического образования и сумел стать образованным человеком только благодаря неистребимой тяге к знаниям, а в первую очередь благодаря тому, что самая история все больше сближала широкие демократические массы России с культурными завоеваниями человечества. С детства "приучавшемуся к хозяйству", работавшему по хозяйству, так или иначе, почти всю жизнь — конторщиком, кассиром, управляющим в поместьях, Эртелю довелось прочесть не только Загоскина, Зотова, Дюма-отца и Поля Феваля, но и Дарвина и Писарева, а затем встретиться с литераторами-народниками, побывать в роли заведующего частной библиотекой, которую посещали Глеб Успенский, Златовратский, Наумов, Бажин, Кривенко, кое-кто из революционных народников.
Эртель, родившийся в 1855 году, не мог пройти ту школу кружков, в которой формировались первые поколения разночинных деятелей русской культуры. В юности он был далек от народнических объединений, зрелость же его пришлась на 80-е годы — время разгрома и вырождения народничества. Условия его индивидуального бытия мало благоприятствовали выработке у писателя широкого и свободного взгляда: прежде чем прийти в литературу, Эртель, по его собственным словам, "жил как бы на две половины", причем "одною половиною — в мире теорий, в мире увлечений туманными и смутными идеалами образованности, прогресса, свободы, равенства, братства", "другою половиною в мире посевов, спекуляций, наемки, продажи, долгов, мелких и пошлых {IV} забот о хорошей одежде, о хорошей упряжи, о хороших лошадях, о золотых часах и т. п.".
И все-таки человек "без роду и племени", не испытавший воздействия передовых кружков и обществ, Эртель пришел в большую литературу, стал говорить о вещах, для всей России необыкновенно важных, стал думать "обо всем", как сказал однажды о Менделееве Блок. Пришел, стал думать и говорить вслед за Глебом Успенским, рядом с Чеховым, которые так же, как и он, не имели "в крови" традиций французской революции и декабризма, не прошли школы Белинского, петрашевцев, Чернышевского, не участвовали в революционных народнических организациях.
Им, этим людям, было особенно трудно твердо, не падая, стоять в жизни и в литературе. Недаром многие так или иначе не удержались — Щапов, Николай Успенский, Суворин… Этот список можно было бы значительно продолжить. По свидетельству М. П. Чехова, Лесков с горечью говорил молодому Чехову: "Вы молодой писатель, а я уже старый. Пишите одно только хорошее, честное и доброе, чтобы вам не пришлось раскаиваться так, как мне". И все-таки многие, лучшие выстояли — и Глеб Успенский, и Чехов, и Эртель. И в том, что они выстояли, не было случайности. Их трудный путь вперед, путь из мещанских низов, говорил о том, что «тронулись» глубины русской жизни, что дума "обо всем" владеет уже не одиночками и не десятками.
В столицах шум, гремят витии, Кипит словесная война, А там, во глубине России, Там вековая тишина,эти слова были сказаны Некрасовым в 1857 году. Их нельзя было бы уже сказать даже в 80-х годах; они снимались, в частности, самим фактом появления в большой литературе Глеба Успенского, Эртеля, Чехова — одного за другим и одного рядом с другим — как деятелей демократической культуры. "В России движение идет быстрее вперед, чем во всей остальной Европе", — писал еще в 1859 году Ф. Энгельсу К. Маркс.[2]
2
Первое печатное произведение Эртеля — небольшой рассказ «Переселенцы» — было опубликовано в еженедельном журнале "Русское обозрение" в 1878 году. Оно говорило о разрушении в по-{V}реформенное время старых основ жизни, о поисках крестьянами счастья. И одновременно с мотивом глубоких перемен в судьбах крестьянства рождался у Эртеля другой мотив — мотив осознания честным интеллигентом несостоятельности жизнеустройства, возникавшего в результате реформ. Эртель стал мучительно думать о том, как можно изменить складывающееся положение. В том же 1878 году, когда были напечатаны «Переселенцы», Эртель начал работать над повестью "Без почвы".
Герой повести, Алексей Данилович Глебов, наследник когда-то богатых, но разорившихся предков, живущий в Петербурге, покидает столицу и уезжает в провинцию, стремясь в земстве послужить народному благу. А в земстве, в которое верит Глебов, окопались бесчестные карьеристы. Он приезжает в уездный город Черешинск и встречается здесь со своим спивающимся с круга приятелем, который и подсказал Глебову прежде мысль о земстве. Таково содержание тех четырех глав повести, которые были написаны Эртелем и на которых работа над нею оборвалась.
В этой задуманной и начатой повести нет еще ничего специфически «эртелевского». Мотив нравственных страданий интеллигента, вызываемых бедствиями народа, стремлений такого интеллигента посвятить себя борьбе со злом стал в 70-80-х годах "общим местом" всей народнической и близкой к ней литературы. Объединяет автора повести с народническими и околонародническими писателями и принцип освещения характеров, соотнесения их с обстоятельствами. Так, например, вся история жизни Глебова, его поступки объясняются романтически, совсем в духе народнической "субъективной социологии", — особым складом его души, особой его нервной организацией. Борьба партий, группировок в черешинском земстве предстает как результат столкновения злых воль людей, борющихся из честолюбия и прочих дурных побуждений за господство в местном управлении. Обстоятельства, таким образом, рисовались здесь как всецело определяемые субъективными устремлениями, субъективной волей отдельных людей. При таком подходе к характерам, к их связи с обстоятельствами вряд ли оказалось бы возможным серьезно поставить вопрос о необходимости «почвы» для деятельности, вопрос, который явно возникал перед писателем (об этом говорит заглавие повести). Заглавие задуманной повести, в сущности, снималось наметившимися в ней принципами освещения характеров, их соотнесения с «условиями». Будь повесть завершена и напечатана, она {VI} бы, несомненно, не внесла никакого нового слова в литературный процесс 70-х годов.
Эртель, видимо, почувствовал, что своей повестью он ничего не может открыть, ничего не может объяснить ни себе, ни читателю. И совсем еще молодой, начинающий писатель продолжать работу над повестью не стал. А с января 1880 года начали печататься отдельными очерками "Записки Степняка".
3
Когда появились "Записки Степняка", многие критики были поражены смелостью писателя, решившегося в первом своем значительном произведении совершенно открыто последовать по пути, каким до этого уже прошел большой художник слова — Тургенев: особенностями своего построения "Записки Степняка" сразу же напомнили всем тургеневские "Записки охотника".
У писателя-эпигона подобная близость построения его книги к построению выдающегося произведения, созданного в совсем иную эпоху, была бы очевиднейшим свидетельством творческой несамостоятельности, отсутствия у него хоть сколько-нибудь серьезных прав на внимание читателей и историков литературы. Однако уже тот факт, что повесть "Без почвы" осталась незаконченной, показывает, что Эртель писать, повторяя о жизненных отношениях уже сказанное, не хотел и, видимо, органически не мог. И в этом случае прямое и открытое повторение общей схемы книги, широко популярной, неотделимой в читательском сознании от эпохи, в какую она была создана и о которой рассказывала, могло подчеркнуто обнаруживать «непохожесть» новых отношений между людьми на существовавшие прежде. Именно в этом и состоит смысл внешнего повторения "Записками Степняка" "Записок охотника".
Книга Тургенева, созданная в 40-х годах, рассказывала о времени, когда главным злом было крепостное право, когда в личной зависимости крестьянина от помещика заключен был основной источник тогдашних бедствий и страданий народа. Враг был известен, и ясно было, от чего необходимо избавиться. Внутренние противоречия, развивавшиеся в недрах самой крестьянской жизни, силы, подтачивавшие изнутри основы старого крестьянского «мира», еще не обнаружили себя с достаточной очевидностью, и не о них в ту пору должна была идти речь, — крестьянству нужно было прежде всего получить свободу. {VII}
Тургеневский «охотник» улавливает, и даже специально отмечает, различия всего жизненного поведения, всего облика Хоря и Калиныча. Они и живут по-разному и в очень разном видят близкое своей душе: Хорь деловит, практичен, суров и своим обликом заставляет рассказчика вспомнить о Сократе и Петре Великом; Калиныч совсем не занят делами, он весь в "близости к природе", и душа его бесконечно поэтична. Но в этой «непохожести» Хоря и Калиныча Тургеневу важно, что в крестьянах могут быть найдены все самые замечательные качества, какими может обладать человек, — у одного из них ум Сократа, сила и энергия Петра Великого, у другого — необыкновенная душевная мягкость, красота чувств… Конфликт в рассказе "Хорь и Калиныч" построен на противоречии между бесправным положением крестьян как крепостных, с одной стороны, и безграничностью их внутренних человеческих возможностей с другой. Вопрос о различии между Хорем и Калинычем как проявлении противоречий, складывающихся в среде самого крестьянства, перед Тургеневым еще никак не стоял, хотя увиденное и воспроизведенное им проблему эту в себе уже содержало: не случайно Хорь богат, а Калиныч беден.
Лесник в рассказе «Бирюк» суров и подчас даже жесток со своими же, с мужиками, когда он охраняет господский лес. Но свою суровость он сам «угрюмо» относит на счет службы и говорит: "Должность свою справляю… даром господский хлеб есть не приходится". А "по душе" он остается человечным, готов пожалеть и действительно жалеет провинившегося мужика и только просит охотника "не сказывать" об этом. Поступок его с мужиком, которого он пожалел и отпустил, внутренне для него самого естествен, органичен.
Бурмистр в одноименном рассказе обрисован самим автором "Записок охотника" как человек, угнетающий зависимых от него крестьян. Но, по Тургеневу, возможны подобные отношения потому, что существует крепостное право и Софрон — бурмистр у помещика-крепостника. Характерны в этом смысле и название рассказа и то, что именно в этом рассказе фигура помещика представляет собою одно из самых резких у Тургенева обличений крепостников и крепостничества, (показательно, что этот рассказ привлек внимание В. И. Ленина как пример обличения помещичьего "гуманизма").
Щедрин в статье 1868 года "Напрасные опасения" с полным основанием мог сказать о "Записках охотника", что "Сучок, Ермо-{VIII}лай, Бирюк, Касьян и другие типы, созданные рукою Тургенева, нимало не знакомили нас с крестьянскою средою…"[3] Другое дело, что в 40-х годах, когда все общественные вопросы сводились, по выражению В. И. Ленина, к борьбе с крепостным правом и его порождениями, когда было еще неясно, каков характер отношений, идущих на смену отношениям крепостничества, Тургенев (как, впрочем, и другие прогрессивные писатели тех лет) не мог, а значит, и не должен был освещать крестьянскую жизнь иначе, чем он это делал. Напомним, что еще в 60-х годах борьба шла главным образом с крепостническими по своему существу, а не с новыми, специфически буржуазными формами «хищничества» (если воспользоваться образом-формулой Щедрина).
Перед Степняком предстает русская действительность 70-х годов, в которой сложность и противоречия жизни приобрели уже очевидно новый характер. В первом же очерке из составляющих книгу рассказчик с завистью думает о людях 40-х и 60-х годов, об их счастье: "Вера в них была, цельность была, врага они ясно видели, идеалы свои ощупывали руками… А теперь что, — мы теперь, точно мужик: стащили с него барина, он и не знает, кто его за горло душит. Ясность отношений исчезла; суматоха какая-то всюду, путаница, абракадабра".
И дальше, "под шум вьюги", Степняк узнает, что пьянство в народе растет, "кабаки эти пошли, и дележи, и воровство", и ходок по «мирским» делам продал документы, доверенные ему «миром», за две сотенных тем, с кем тягался «мир». И тягался-то «мир» за луга не с помещиком, а с мужиками соседнего поселка… Правда, как будто есть еще села, где "мирское дело" держится прочней. Но постоянно идет речь о глубоком внутреннем разладе, характеризующем крестьянскую жизнь в новых условиях.
Не понимающие новых обстоятельств, не разбирающиеся в своих правах и правах помещика по отношению к ним в новое время, крестьяне, сами того не сознавая, оказываются бунтовщиками, попадают на поселение в Сибирь. Из других мест люди целыми деревнями бегут в Сибирь от голода. Рушатся старые порядки, старые устои крестьянской жизни, исчезают целые села.
Рассказчика сопровождает во время вьюги совсем обнищавший {IX} крестьянин Григорий. Его потянули в путь обещанные два рубля. "Поехал ли бы он провожать меня, если б у него были в кармане эти несчастные два рубля?" — подумал я. "А тебя-то куда черт нес? — помимо моей воли встал неутешительный вопрос. — "Кто тебе дал право рисковать жизнью людей?.." "Два рубля дали мне это право…" — как-то сам собою сказался иронический ответ, и больно стало на душе…" Так оказывается, что деньги лежат теперь в основе отношений между людьми, в основе всей их жизни, всех их поступков.
Эртель обнаруживает рост социальных противоречий в пределах любого крестьянского «мира».
"От одного корня", "из одной стороны, из одной среды, из одной деревни даже" вышли два крестьянина — Василий Мироныч и Трофим. Первый из них, Василий Мироныч, очень напоминает всем своим обликом тургеневского Хоря. Это о нем говорят: "ума палата", «деляга», "кремень", отзываются о нем даже как о «справедливом». Но Эртель особо указывает, что деловитого, практического Василия Мироныча, самого богатого мужика в Березовке, никто никогда не назовет ни «душевным», ни «мирским» человеком. Понятия «зажиточности», "хозяйственности", с одной стороны, и «душевности» по отношению к людям, единства с «мирскими» интересами, с «мирской» жизнью, с другой, выступают не только как несовместимые, но и как противостоящие друг другу. И рассказчик у Эртеля знает, что сметка, деловитость, "способность к чисто математическим вычислениям" — это не только свидетельство и выражение способности мужика к большому, настоящему делу, к гражданской деятельности, но и характерная черта тех людей из крестьянской среды, "которых принято называть теперь всех вообще «кулаками». Особенность нравственного облика, открытая в русском крестьянине Тургеневым, приводится у Эртеля во внутреннюю связь со своеобразными условиями, с противоречиями "жизни всей среды" в новых социально-исторических обстоятельствах — так в ходе литературного процесса получала свое решение задача, которая, по верному замечанию Щедрина, еще не была (да и не могла быть, — добавим мы от себя) решена ни Тургеневым, ни кем бы то ни было иным в пору, когда создавались "Записки охотника".
Василий Мироныч не только сам не живет «мирскими» интересами. Он открыто презирает «мирские» установления и видит в «мире» один лишь «беспорядок». О Трофиме, стоящем за «мирские» начала, он отзывается как о мужике «блажном» и относится {X} к нему с несомненной антипатией, вполне разделяемой, со своей стороны, Трофимом.
В то же время именно кулаку Василию Миронычу, его корыстным устремлениям обязана своим существованием школа в Березовке. Все хлопоты перед земством об открытии школы ни к чему не привели. Но Василию Миронычу в его торговых операциях обойтись без грамоты, без умения считать было уже невозможно. Ему нужны стали грамотные помощники. И, сам неграмотный, сына своего он отдает учиться и не жалеет денег, хоть и небольших, которых это обучение ему стоит. Так входит в первую же книгу Эртеля чрезвычайно характерный и существенный для всего его творчества мотив — мотив внутренней связи общественного прогресса с развитием капиталистических отношений, к чему мы еще вернемся.
Трофима, отстаивающего традиции «мирской» жизни, "мир возносил… как знатока и поборника старых преданий", однако "не потому, чтобы и сам был проникнут духом этих преданий, нет, — этого совсем не было. Он возносил его потому, что чувствовал какое-то младенческое, наивное благоговение перед ними — благоговение, похожее, пожалуй, на ощущаемое перед какой-нибудь святыней, даже с примесью некоторого суеверия. Но вместе с этим суеверным благоговением перед стариною… мир и не пытался подражать ей, не пробовал жить по старине. По его: "Не те ноне времена!.. Тогда житье было совсем особливое…" В самой крестьянской среде отношения между людьми складываются так, что, испытывая еще благоговение перед проповедью Трофима, следовать этой проповеди мужики не могут. Так обстоит дело даже у березовцев, у которых прежде "общинные инстинкты" были особенно сильны и которых за это их соседи раньше звали «дружными», "мирскими людьми". Если и возникают в каких-нибудь особых и редких случаях вспышки старых "общинных инстинктов", то они оказываются недолгими, а затем и вовсе исчезают. И сам Трофим сознает, что "времена ноне — самые что ни на есть развратные…"
Покидая Березовку, Степняк уже видит, что мирное сочетание традиций, воплощаемых Трофимом, с «линией», которую представляет Василий Мироныч, невозможно. Кому-то из них обязательно предстоит победить, кому-то потерпеть поражение. Процветание Василия Мироныча, упадок хозяйства Трофима не оставляют никаких сомнений в том, что и кого именно ждет.
Дальше Степняку доводится увидеть, как буржуазные отношения, отношения по принципу "человек человеку — волк", про-{XI}никают в семью, снимают человеческое содержание во взаимных связях между людьми. Тихий "мужичок Сигней", нисколько не задумываясь о справедливости или несправедливости своих поступков, под видом «вызволения» ставит в кабальную от себя зависимость своего свата Гришку. Чужими и даже ненавидящими друг друга оказываются тот же Сигней и его сын Митрофан. Не испытывающему нужды сыну приказчика Пармену кажется странным и ни с чем не сообразным, когда его подозревают в том, что он собирался жениться на крестьянской девушке без приданого, хотя бы она была необыкновенно хороша собою и нравилась ему. Пармен с достоинством и абсолютным сознанием своей правоты объясняет рассказчику, что женился он, собственно, на деньгах, "салопе лисьем, платке дредановом, трех платьях шелковых, перине", да еще на умении своей невесты в делах "любого купца за пояс заткнуть". И о смерти красавицы, которая когда-то ему нравилась, Пармен вспоминает с совершенным равнодушием. Человеческое в нем уже полностью съедено денежным — никто не заставлял его жениться на Акулине, ему самому даже в голову не могла прийти возможность предпочесть Ульяну трем сотням рублей, салопу, перине да квалифицированной помощи в грабительских делах. Если автор "Записок охотника" боролся в первую очередь со злом насилия — прежде всего насилия внеэкономического над мужиком, то автор "Записок Степняка" открывал зло в проникновении власти денег, власти буржуазных отношений в характер, в душу самого мужика.
Реформы 60-х годов многими даже прогрессивными русскими писателями были восприняты как полная и окончательная утрата всем дворянством в целом какой бы то ни было роли и в экономической и в политической жизни страны. «Оскудение» — так назвал Сергей Атава (Терпигорев) книгу о судьбах дворянства в пореформенную эпоху. К оскудению и вымиранию сводилось, с точки зрения Терпигорева, все, что досталось на долю дворянства после падения крепостного права. И, пожалуй, Эртель был в 70-80-х годах одним из очень немногих, кто не принадлежал к революционному лагерю и все-таки увидел, что землевладельцы как класс сохранили и после реформ ключевые позиции в обществе.
Да, конечно, далеко не все из дворян сумели примениться к новым обстоятельствам, увидеть те возможности, которые в них таились. Переходит Визгуновская экономия от помещиков Чечоткиных к купцу Мордолупову. В "жертву поземельным банкам" и {XII} на разорение обречен не желающий и не умеющий действовать помещик Михрюткин — одного дворянского происхождения в новое время оказывается мало. И в конце рассказа о Михрюткине мы присутствуем при «отходной» таким хозяевам: "Спи, младенец мой прекрасный, — смеясь, обратился господин Карпеткин к господину Михрюткину, баюшки-баю… Спи, наработался… Прошло твое времечко…"
Но рассказ, в котором действует Михрюткин, называется "Два помещика". И слова: "Прошло твое времечко" произносит вовсе не купец, а тоже помещик только иного, чем Михрюткин, склада. Господин Карпеткин — «применившийся» помещик, увидевший и в новых условиях колоссальные возможности для своего процветания. Он один из наследников михрюткинских богатств в пореформенное время. И Карпеткин сейчас полон бьющей через край жизненной энергии.
"Ай, люли, под кусточком!" — отозвалось далекое эхо.
— Ведь это девки в саду-то! — вскрикнул плотоядно усмехнувшись, господин Карпеткин и, схватив фуражку, опрометью побежал с балкона". Так расстаемся мы с господином Карпеткиным. Ему нечего унывать. И к умиранию он вовсе не готовится.
Развитие буржуазных отношений несло конец помещичьей «обломовщине», но развитие это шло в России таким путем, что у людей привилегированного сословия были все возможности приспособиться. Присутствие в эртелевском рассказе рядом с Михрюткиным господина Карпеткина очень точно передает одну из характерных исторических особенностей шествия капитализма в России.
Добролюбов находил в произведениях Тургенева выражение главным образом "морали и философии" времени. Это необыкновенно верное наблюдение. Тургеневские "два помещика" в одноименном рассказе из "Записок охотника" это прежде всего люди недостойные, недостойные по своим моральным качествам, по своей нравственной философии. В "Двух помещиках" Эртеля нравственно-психологические черты характеров Михрюткина и Карпеткина связаны самим писателем с общественно-экономическими условиями периода наступления капитализма. В результате не только открывается своеобразие общественных отношений новой эпохи, но и в огромной степени углубляется представление о «механизме» взаимодействия характеров {XIII} и обстоятельств, о возможностях литературы и исследовании этого «механизма».
Проблема судеб дворянства в пореформенное время имела для автора "Записок Степняка" социально-экономическое содержание и в том смысле, что Эртель ясно видел, как по-разному отразилось падение крепостного права на положении различных по своим экономическим возможностям групп дворянства. Реформы открывали новые пути и возможности прежде всего перед владельцами сотен и тысяч крепостных душ. Их хозяйства легко приобретали характер "агрономической промышленности", как сказал Толстой в "Анне Карениной" о поместье Вронского. Размеры землевладения у многих крупных помещиков после реформы даже значительно выросли. "И ни с кем так безжалостно не поступил шестьдесят первый год, ни на кого не обрушился он с такой сокрушительной стремительностью, как на несчастных «малодушных». Подобно железной метле прошла по их скученным усадебкам эмансипация и разогнала по широкому лицу земли русской горемык — владельцев. Почва из-под них как-то сразу ушла и ухнула в какое-то бездонное «далеко».
"Барин Листарка", "отставной писец второго разряда Аристарх Алексеич Тетерькин", и в прежние-то, дореформенные времена бывал бит богатым помещиком на конюшне, теперь же ему остается только жаловаться на всеобщий «грабеж» да отчаянно и безнадежно цепляться за свое дворянское первородство. Уже, в сущности, почти и не помещик по положению, Листарка, однако, упорно держится барином и при этом с восторгом вспоминает того Катай-Валяева, по приказу которого был отправлен когда-то на конюшню. В этой неистребимости барско-рабского в сознании Листарки — один из источников его обреченности.
На страницах "Записок Степняка" чередою, один за другим, проходят поднимающиеся к власти новые хозяева. Эртель внес свой немалый вклад в создание образа русского буржуа-первонакопителя, хозяина в первом поколении. Но писатель пошел и дальше. Он увидел и сумел передать своеобразие общественно-политической позиции русской буржуазии, особенности ее роли в историческом процессе.
Одну из зим Степняк проводит не у себя на хуторе, а в небольшом уездном городке, где снимает квартиру у купца Жолтикова. К Жолтикову нередко сходятся гости. И вместе с ними долгими вечерами Жолтиков ругательски ругает власть, существующие порядки. Он заступается за интеллигенцию, за универ-{XIV}ситеты, за печать. "Гости дружно поддакивали…" Однако постепенно в разговоре "темы политические уступали место узко житейским… И тут уже речи не было о либеральных принципах. И «жиды», и рожь, и исправник трактовались с точки зрения исключительно местной, купеческой, и только. Правда, и здесь иногда прорывалась хлесткая фраза, но роль этой фразы была уж откровенно декоративная. У жолтиковских гостей было два масштаба: один для государства, другой для их тесного круга.
Но это не вносило разлада в их души. Над ними витало благодарное отсутствие логики. Личность с легким сердцем противополагалась ими государству. В теории государство казалось им врагом, но на практике они взывали к нему как к силам всемогущим…"
Так обнаруживается отсутствие у русского буржуа политической самостоятельности, его неспособность к решительному историческому действию. И эти особенности исторической позиции русской буржуазии с неизбежностью разрушают душевную цельность в людях этой среды. От психологического анализа у Эртеля и здесь ведут прямые нити к общественно-политической жизни страны.
Однако среди собирающихся у Жолтикова по вечерам гостей есть один, который приходит тайком. Это Харлампий — юноша лет девятнадцати, сын миллионера. Недовольство всем, что он видит вокруг, — для него не фраза. "Ему претят и кажущаяся строгость морали, и колокола, и молебны, и двусмысленные торговые предприятия. Аромат деревянного масла и восковых свечей захватывает ему дыхание. Ложь… истомила его… Его волнуют грешные мысли. Ему мерещится таинственная даль и влечет к себе что-то неведомо страшное…" Харлампий хочет бежать из дому, учиться, поступить в университет. Он потрясен, когда открывает, что за всеми либеральными рассуждениями Жолтикова нет подлинного протеста. И он все-таки уходит из дома отца, и дальнейшие следы этого "блудного сына" ведут, по словам Степняка, не в университет… Глубочайший душевный разлад, болезнь совести возникают и у людей из лагеря буржуазии, возникают уже в тот момент, когда класс этот только начинает занимать место в рядах хозяев страны. Могущество буржуазии в России недолговечно. Царство ее с самого начала внутренне непрочно. Психологический анализ Эртеля снова почти непосредственно открывает своеобразие исторических процессов. {XV}
Поиски путей преодоления противоречивости, неустроенности жизни могли быть разные. Можно было пытаться вернуться назад — к патриархально-крепостнической «идиллии» — и можно было искать устройства отношений с народом на особой, не крепостнической и не буржуазной, основе.
Реакционеры стремились к первому. Помещик и статский советник Гермоген Пожарский "не ломится на рожон". Он не требует восстановления крепостного права. Напротив, он даже приветствует преобразования и сам участвует в них. Но участвует только с тем, чтобы исподволь наполнить новую форму старым содержанием крепостнической «идиллии». Ему это во многом удается. И успех Гермогена как нельзя очевиднее говорит о враждебности народным интересам новых, утверждаемых буржуазными реформами порядков, об их внутренней близости в этом смысле с порядками крепостническими.
Дикое пьянство, падение нравов оказываются неотделимыми от «идиллии», за которую стоит Гермоген. Недаром сам Гермоген радуется пьяному народному «веселию» и пристраивает учительницами в школы женщин весьма сомнительного поведения. Патриархальная «идиллия» неизбежно оборачивается в новых условиях сонмищем всеобщего нравственного разложения.
Нравственный суд над отстаиванием старых порядков, над попытками установить всевластие дворянства выражен в "Записках Степняка" в разных формах. В частности, он по-тургеневски поручен Эртелем женщине, решающей, за кем ей идти, с чьим жизненным делом связать свою судьбу.
В летнюю ночь в Липягах исповедуется перед совсем еще юной Любой ее жених, Сергий Львович Карамышев. Возможность счастливого будущего для России он видит во всемерном усилении дворянства, во взятии дворянством в свои руки всей жизни общества, всей жизни страны. Люба расспрашивает Карамышева о подробностях его программы. И он сообщает ей, что все уже обдумано, все предусмотрено — даже то, как поступить с «нигилистами». В облике Сергия Львовича Карамышева и перед Любой и перед читателем предстает человек, готовый не только приветствовать реакционную военную диктатуру, но и непосредственно участвовать в ее установлении. Обойтись без нее верхам становится все труднее, и Карамышев уже ко всему готов.
Люба отказывается стать женою Карамышева. В следующую ночь в том же саду она слушает «нигилиста» Федю Лебедкина. "Он в резких и сильных чертах обрисовал ей положение народа… {XVI} Его малоземелье, его болезни, его голод и нищету, его экономическое рабство, которое наименовал более тяжким, нежели рабство крепостное, — все это вставало перед девушкой наподобие исполинских духов тьмы, безнаказанно терзающих светлый гений народный". Лебедкин зовет "пойти к нему, к великому страдальцу, в его ранах забыть свои раны, в его несчастиях схоронить свои". Люба откликается, на призыв «нигилиста».
И пусть в конце "Записок Степняка" мы узнаем, что "господин Карамышев призван в качестве сведущего человека", а "Гермоген получил подлинное «превосходительство» и невступно щеголяет теперь в белых штанах". Историей, как бы через Любу выражающей свою волю, Карамышев не избран, как не были избраны когда-то Лизой Калитиной Паншин, Еленой Стаховой — Курнатовский.
Люди разного происхождения, разного уровня культуры и с очень разной жизненной судьбой думают о народе, стремятся помочь ему. Федя Лебедкии и Люба, получивший прекрасное образование генеральский сын Серафим Ежиков и брошенная офицером, не подозревающая о существовании различных методов обучения грамоте, не понимающая самого слова «метод» молодая учительница. Положение народа тревожит честных людей во всех кругах общества, зовет их к действию. Каждый из этих честных людей предоставлен самому себе, живет и действует в одиночку. Но Степняк непрерывно наталкивается на них в своих встречах, в своих раздумьях. И если жалкая, беспомощная «офицерша» задумывается "обо всем", — значит, поиски лучшего, поиски счастья народного затронули уже и самые глубины.
Серафиму Ежикову не удалось найти выход. Крестьяне так и не поняли его, а он так и не узнал, что надо делать. «Офицерша», увидев, что мальчишка, обученный ею грамоте, стал записывать неустойки да штрафы, налагаемые на крестьян, почувствовав, что "никого нет, чтоб идти за мир", пришла в отчаяние и не захотела больше жить. Оба они — и Ежиков и «офицерша» — потеряли веру в то, что можно спасти народ, а жить на себя, как говорит в своем предсмертном письме «офицерша», не хотели и не могли.
Все, что видит, с чем сталкивается Степняк, вызывает в его душе чувства безысходнейшей горечи и боли: "от добрых восклицаний во вкусе Левитова" он пришел "к пессимизму «Идиллии» и «Аддио»… разметал свои силы и дошел до Ментоны". Однако есть в отношении Степняка к жизни нечто, что не позволяет ему прийти к самоубийству, что решительнейшим образом отличает {XVII} его от Ежикова и «офицерши». Нам уже приходилось отмечать, что Степняк видит, как неотделимо от развития денежных, буржуазных отношений возникают школы в деревнях. С разрушением старых условий настала "путаница, абракадабра", пришли "последние времена". Но именно в эти "последние времена" сын отца Лаврентия Митька уже решается не подчиниться родительскому насилию, что "по прежним временам" было бы, как понимает сам отец Лаврентий, невозможно. И девушка в крестьянской семье, собравшаяся замуж, может позволить себе не ждать, разрешения брата — «сладить» с ней уже нельзя. Вместе с ростом нищеты и горя возникают и благодатные перемены. И все это в новых обстоятельствах неотделимо одно от другого. Вот что не открылось Ежикову и «офицерше», но открывается Степняку.
У нас в течение долгого времени нередко говорилось, что народники "не замечали" развития капитализма в России. Утверждение это ложно, и оно могло возникнуть лишь при игнорировании действительного содержания бoльшей части народнической литературы. Даже Златовратский, Засодимский, Наумов, не говоря уже о Каронине, в значительнейших своих произведениях так или иначе рассказывали о крушении старых «устоев». Беда большинства народников была в другом. Они не видели в социально-экономических условиях русской жизни внутренних источников капитализма, считали возникновение капитализма в России результатом политики царского правительства, почему и пытались тем или иным путем добиться изменения этой политики, свято веря, что так можно избавить Россию от ужасов буржуазного хищничества. Народники не видели также в развитии капитализма его прогрессивной исторической роли и считали, что общественный прогресс может быть достигнут лишь в том случае, если этому развитию будет положен конец.
Щедрин и, по-другому, Глеб Успенский, пожалуй, наиболее полно в нашей литературе показали, как социально-экономические условия русской жизни с неумолимой неизбежностью рождают капитализм. Но и Щедрину даже и в 70-80-х годах, не говоря уже о революционных демократах-шестидесятниках, источники будущего представлялись какими-то "подземными ключами", внутренне никак не связанными с "нашествием чумазого". Самое образное определение Щедриным капитализма как «чумазого», олицетворенне его в облике Разуваева достаточно ясно говорят, что вопрос о пути к освобождению трудовых масс и вопрос о развитии капитализма в сознании автора "Убежища Монрепо" и "Мелочей {XVIII} жизни" еще не были связаны друг с другом. Глеб Успенский увидел и обрисовал неразрывность экономического подъема крестьянских хозяйств в те годы и развития в них буржуазных отношений. Но подъем экономического уровня хозяйства ни в коей мере не был для Успенского выражением общественного прогресса. Прогресс для Успенского состоял прежде всего в усилении связи человека с землей. И с этой точки зрения Успенский готов был даже противопоставить пореформенной эпохе времена дореформенные, когда крестьянин был более близок к земле ("Власть земли").
Прогрессивность буржуазного развития еще до реформ 60-х годов была отмечена Гончаровым. Однако автор "Обыкновенной истории" и «Обломова» видел ее проявления в жизнеспособности, готовности к активному и самостоятельному действию людей, принявших и положивших в основу своего поведения специфически буржуазное мировосприятие. При этом оказывались в огромной степени затушеванными темные стороны буржуазного прогресса.
Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что Эртель едва ли не первым среди русских литераторов пореформенной эпохи увидел в процессах народной жизни, в их повседневном течении в условиях развития капитализма сложнейшее переплетение прогрессивного и враждебного интересам народа, взаимопроникновение того и другого. Только после Эртеля подобный подход к развитию капитализма (правда, несравненно шире и глубже, чем у Эртеля) оказался характерной особенностью творчества Чехова, а затем — уже на совсем новой основе — стал существеннейшей чертой историзма в творческом методе Горького.
Своеобразие эртелевского понимания пореформенных обстоятельств русской жизни определило собою и характер восприятия повествователем, Степняком Батуриным, всего, с чем он сталкивался в своих наблюдениях и раздумьях, сформировало самый образ Степняка как повествователя. Все, о чем рассказывает Батурин, глубоко волнует его. Батурин душою сросся со степью: недаром он сам пожелал назвать себя как автора «Записок» Степняком. По мере накопления тягостных впечатлений он действительно приходит "к пессимизму «Идиллии» и «Аддио». Лирическая линия книги, передающая эволюцию настроения Степняка, очень важна для Эртеля. Она позволяет с особой стороны и с большой силой воспроизвести глубину и трудность жизненных противоречий. {XIX}
При всем этом Степняк неизменно остается прежде всего объективным наблюдателем, точнее — объективным исследователем всего происходящего. Он, как и сам Эртель, ни на что не закрывает глаз, сознательно стремится ничего не обойти, ничего не упустить — вплоть до важнейших особенностей речи людей, с которыми сталкивается (отсюда, из этого пристального внимания писателя ко всему, что в самой жизни характеризует человека, возникает, кстати, исключительная выразительность языка в произведениях Эртеля, отмеченная еще Львом Толстым).
Эта позиция и самый облик повествователя сделали "Записки Степняка" произведением, в главном для народнической критики неприемлемым. Не случайно Н. К. Михайловский в отклике на книгу Эртеля все свои неодобрительные замечания сосредоточил в первую очередь именно на образе повествователя, на образе Степняка.
Сами по себе все или почти все картины действительности, нарисованные автором "Записок Степняка", могли бы порознь встретиться и действительно встречаются в немалом числе произведений народнических писателей 70-80-х годов. Ново, глубоко перспективно для литературного процесса было соотношение этих картин, складывавшееся у Эртеля и получившее наиболее прямое выражение в образе Степняка Батурина как повествователя. Пессимизм Степняка — не форма отказа от общественной активности, как утверждал Михайловский. Это результат осознания Эртелем и его героем-повествователем того, как сложны объективные обстоятельства, как недоступно решение важнейших жизненных вопросов, если исходить из одних лишь субъективных устремлений. И пессимизм этот был во многом и многом исторически плодотворнее, чем наивная вера самых честных и даже самых самоотверженных народников. Именно отсюда протягивались нити к знаменитой чеховской «объективности», ставшей одним из существеннейших и исторически характернейших явлений в развитии литературы последней трети XIX столетия, «объективности», тоже непонятой и отвергнутой и Михайловским и другими иародниками.
4
В центре наблюдений Степняка, в центре первой книги Эртеля стоят экономические отношения между людьми в пореформенной деревне, раскрываемые главным образом через анализ психологического своеобразия характеров в это время. {XX}
О 80-х годах Ленин говорил, что "в России не было эпохи, про которую бы до такой степени можно было сказать: "наступила очередь мысли и разума", как про эпоху Александра III!"[4]
Значительнейшее из произведений Эртеля начала 80-х годов, его повесть "Волхонская барышня" (1883), вводит нас в атмосферу идейной борьбы, идейной полемики, характерной по своему содержанию именно для этого десятилетия.
Два приятеля, из которых один приезжает на лето в гости к другому, сразу же предстают перед нами: один — "благоговеющим перед Марксом и его законами "Гегелевой триады", другой — свято верящим в "миссию русской общины", в «самобытность» развития России. Оба приятеля — не мыслители-теоретики, а рядовые, средние люди, постоянным трудом зарабатывающие средства на жизнь. Захар Иванович, "благоговеющий перед Марксом", служит у помещика Волхонского. Илья Петрович Тутолмин, апологет общинного строя, с горечью и вместе с тем с гордостью за то, что всю жизнь мог рассчитывать только на себя и не эксплуатировал чужой труд, говорит о том, как он голодал в годы учебы в университете, как не имел возможности окончить университетский курс.
Эртель, разумеется, ни в какой мере не понял и даже не увидел революционной сущности марксизма: не случайно его герой, Захар Иванович, видит свое следование теории Маркса в том, что… внедряет новые экономические начала в помещичье хозяйство. Г. В. Плеханов был совершенно прав, когда в "Наших разногласиях" сказал об искажающей истинную суть великого учения обрисовке последователей Маркса Эртелем. Автор "Волхонской барышни", конечно же, знал марксизм в том освещении, какое придавали ему предшественники "легального марксизма", то есть те, для кого, по выражению В. И. Ленина, "разрыв с народничеством означал переход от мещанского (или крестьянского) социализма не к пролетарскому социализму… а к буржуазному либерализму".[5] В конце концов "легальные марксисты" из признания неизбежности развития в России капитализма, прогрессивности его роли сделали вывод о том, что необходимо "пойти на выучку к капитализму", пришли так или иначе к воспеванию основ буржуазного строя. Подход Эртеля к обрисовке русских сторонников теории Маркса никак не мог дать истинного представления о роли марксизма в общественной жизни России. {XXI}
Эртель, надо думать, воспринимал марксизм отчасти даже сквозь призму народнических теоретиков, дававших марксизму весьма своеобразное истолкование. Так появилась, например, в авторском тексте "Волхонской барышни" ссылка на "законы "Гегелевой триады" при объяснении основной сущности марксизма, а Захар Иванович мечтает о браке "волхонской барышни" и купца Лукавина, будучи твердо убежден, что в хозяйстве, которое на лукавинские деньги можно будет построить целиком на буржуазных началах, исчезнут все общественные противоречия.
Однако автор "Волхонской барышни" едва ли не первым среди наших писателей запечатлел факт широкого — пусть не свободного от противоречий распространения в России идей Маркса, факт вовлечения их в общественную борьбу уже в 80-х годах. В. И. Ленин писал: "Оригинальное явление: марксизм был, уже начиная с 80-х годов (если не раньше), такой бесспорной, фактически господствующей силой среди передовых общественных учений Западной Европы, что в России теории, враждебные марксизму, не могли долгое время выступать открыто против марксизма. Эти теории софистицировали, фальсифицировали (зачастую бессознательно) марксизм, эти теории как бы становились сами на почву марксизма и "по Марксу" пытались опровергнуть приложение к России теории Маркса!"[6] Одно из первых, хотя и глубоко противоречивых (сам Эртель не стал даже "легальным марксистом"), отражений этого сложного исторического явления мы находим в "Волхонской барышне".
Сделав героев повести, сталкивающихся в споре, обыкновенными, рядовыми людьми, никак не претендующими на роль идеологов, Эртель тем самым обнажил (конечно, сам того не сознавая) неизбежность и необходимость распространения марксизма и на русской почве. Он раскрыл — пусть даже очень ограниченно, очень односторонне — органическую, внутреннюю связь успехов марксизма в России с социально-экономическими процессами русской жизни. Трезво воспринимающий все, что в деревне происходит, Захар Иванович, как показывает Эртель, не может не искать объяснение всего наблюдаемого им в теории Маркса, не может не видеть в ней противовеса народническим химерам. Обнаружение Эртелем важнейшего идейного столкновения времени в отношениях обыкновенных, ничем не выделяющихся из массы, {XXII} рядовых людей передает также, как мы это видели и в "Записках Степняка", процесс пробуждения и накопления раздумий о жизни, обо «всем» в самых широких слоях русского общества.
Если Тутолмина писатель заставляет, в сущности, бежать из Волхонки, признать после всего им увиденного неосновательность надежд на общину, то планы Захара Ивановича не осуществляются, по мысли писателя, главным образом из-за странности, неожиданности, неразумности всего, что совершают люди дворянского круга и что, соответственно, происходит с ними.
И в образе Варвары Волхонской и, особенно, в образе ее кузена, графа Мишеля Облепищева, Эртель всячески подчеркивает иррациональность, непредвидимость многих важнейших поступков этих людей, больше того — всей главной линии их поведения. Собственно, в этих образах "Волхонской барышни" писатель воспроизводит черты разрушающегося, упадочного сознания, последовательно связывая их с историческим вырождением целого класса.
Так в "Волхонской барышне" намечается (пусть даже только намечается) та линия в изображении людей упадочного, разрушающегося сознания, которая многие годы спустя даст мировой литературе, с одной стороны, горьковскую "Жизнь Клима Самгина", с другой — творчество Томаса Манна.
Будучи глубоко объективен в художественном исследовании важнейших жизненных процессов, автор "Волхонской барышни" в то же время все больше приходил к выводу о несостоятельности всех и всяких попыток активного воздействия на движение истории, на ее ход. Он постепенно все меньше верил в историческую плодотворность любого активного вмешательства в совершающиеся процессы, хотя и сознавал, что воздерживаться от такого вмешательства живому человеку совершенно невозможно. Соответственно объективность, то есть строгая честность художественного исследования, у Эртеля уже с "Волхонской барышни" в некоторой мере (к счастью, не вполне последовательно) оборачивается объективизмом, то есть отказом не только от прямой, но и от какой бы то ни было общественной оценки жизненных явлений, принципиальной описательностью. "Записки Степняка" — это книга вопросов (недаром некоторые ее главы даже прямо завершаются вопросами), книга сомнений, поисков, лирического пафоса, и самая композиция передает прежде всего напряженность поисков автором связи между явлениями жизни, {XXIII} их внутреннего соотношения друг с другом. "Волхонская барышня" этого лирического пифоса уже почти лишена, и больше он в такой мере, в какой это было свойственно "Запискам Степняка", к писателю не вернется.
Когда создавались "Записки Степняка", у Эртеля не было еще никакого ответа на все, что мучило его. Ясно было только, что ответ нельзя придумать, что его надо вывести из анализа всей связи жизненных явлений. После "Записок Степняка" ответ у Эртеля стал возникать, его взгляд на жизнь становился шире. Но при этом в немалой степени утрачивалась острота в постановке важнейших жизненных вопросов. Характерно в этом смысле, что Эртель не принял в конечном счете толстовских "рецептов спасения человечества", навязывавших объективному течению жизни нечто, никак из хода жизни не следовавшее. Однако он остался далек и звучавшему, как набат, гневному толстовскому обличению всей истории собственнического общества.
5
В «Гардениных» содержится наиболее широкая в творчестве Эртеля картина русской действительности. Здесь представлены Петербург и деревня, люди очень разного склада. События развертываются в продолжение необыкновенно важных для русской истории пятнадцати лет — в эти годы народническое движение испытало свой высший подъем и начало затем вырождаться, правительство переходило к политике контрреформ, а подспудно назревал новый этап освободительной борьбы.
Дальнейшее усложнение жизни неумолимо требовало качественно нового миропонимания для создания книг, охватывающих действительность во взаимосвязи важнейших ее сторон. И большая русская литература не дала в 80-х годах романа о современности. Правда, именно этим временем был рожден чеховский рассказ — малая эпическая форма, решительно принявшая на свои плечи тяжесть, которая раньше оказывалась посильной только романам. Чеховский рассказ, оставаясь произведением малой эпической формы, воспроизводя непосредственно отдельный факт, отдельное событие из ряда событий и фактов, раскрывал течение жизненного процесса в целом, его общий характер, то есть справлялся с задачей, на решение которой прежде малая эпическая форма, как правило, не претендовала. Лучшие чеховские рас-{XXIV}сказы становились — каждый в отдельности — как бы маленькими романами. Но и чеховский рассказ не мог передать взаимосвязь разных, многих сторон действительности между собой. Этой взаимосвязи для своего времени вообще, как правило, не знали писатели 80-х годов, почему в ту пору роман в русской литературе и стал достоянием Боборыкина и Потапенко, вовсе не подходивших к большой эпической форме как к широкому, развернутому исследованию внутренних основ жизни.
Эртеля после появления в 1889 году «Гардениных» Толстой назвал самым крупным русским писателем этих лет. Надо думать, что Толстой увидел в «Гардениных» тот широкий, общий взгляд на жизнь, которого не было у Боборыкина и Потапенко и который сделал «Гардениных» едва ли не единственным подлинно значительным русским романом в литературе, принадлежащей собственно 80-м годам. Основой этого широкого общего взгляда явились у Эртеля объективность подхода к действительности, к ее важнейшим процессам, своеобразный историзм (тот историзм, который у Чехова в эти годы только вырабатывался).
"Мне хотелось изобразить в романе тот период общественного сознания, когда перерождаются понятия, видоизменяются верования, когда новые формы общественности могущественно двигают рост критического отношения к жизни, когда пускает ростки иное мировоззрение, почти противоположное первоначальному", — так определял сам писатель смысл «Гардениных». И здесь же дальше добавлял, что внутренний источник движения «общественности» "к свету, т. е. к правде, к добру", он видит в «неистребимых» свойствах "души человеческой".
Действие романа открывается картинами жизни начала 70-х годов. И в самом Гарденине и в отношениях гарденинской дворни с живущими в Петербурге «господами» почти все осталось таким же, каким было до реформ, в годы, когда существовало крепостное право.
Работа крестьян, получивших личную свободу, но не имеющих земли, сохранила в Гарденине все особенности барщины. Управитель и конюший, как и прежде, властны над жизнью и смертью мужиков. Они даже так же, как прежде, бьют по зубам, и никому не придет в голову искать на них управу. "Та же старина-матушка. Пошлю повестить на барщину — сколько нужно, столько и придут. Цену сам назначаю. Неисправностей никаких, порубок нет, потрав нет, работа ни разу не стояла; что касательно суда — ей-богу, до сих пор не знаю, как мировому прошенье {XXV} написать", — хвастает управитель, Мартин Лукьяныч Рахманный. Экономка Фелицата Никаноровна и представить себе не может, что дочь ее госпожи, генеральши Гардениной, выйдет замуж за человека недворянского происхождения, неизвестного рода. И живет она мечтами не о своем счастье, не о своей судьбе, а о замужестве Элиз Гардениной с каким-нибудь родовитым графом. Дворецкий в петербургском доме Гардениных не может понять, как это студент Ефрем отказывается принять барское «благодеяние». Как некое материальное выражение того, что старые порядки еще сохраняются, продолжает существовать и по-старому процветает в поместье Гардениных коннозаводское дело.
И все-таки в первой же главе первой части мы узнаем, что Элиз тяготится привычным укладом гарденинской жизни. Она не спит ночами, читает "Преступление и наказание", неожиданно привозит в свой петербургский дом избитую пьяную женщину с улицы. Здесь же рассказано и о студенте Ефреме, сыне гарденинского дворового человека, конюшего Капитона Аверьяныча, который так и не принял приглашения генеральши и даже выразил свой отказ переселиться в ее дом открыто и резко. Заканчивается эта первая глава возгласом дворецкого Климона: "Ну, времечко наступило!"
Дальше шаг за шагом перед нами раскрывается в отношениях, в судьбах людей процесс ухода старых времен.
Через пятнадцать лет в Гарденине нет уже старых управителя, конюшего, экономки. Хозяйство ведется на совсем иных, чем раньше, — буржуазных началах. Жизнь вытеснила людей старого склада, склада крепостнических времен. Их старое мировосприятие перед лицом новых времен обнаружило свою несостоятельность. Конюший Капитон Аверьяныч, видевший главное дело всей своей жизни в рабском служении господам, в безграничном преклонении перед ними, не может перенести того, что дочь Гардениных стала женой его собственного сына — бывшего крепостного, а сам он благодаря этому лишился доверия господ. Капитон Аверьяныч кончает жизнь самоубийством. Старое отношение к жизни и новые времена оказываются для него несовместимыми. Мартин Лукьяныч теряет место гарденинского управляющего. Ему остается в конце жизни гордиться тем положением сына, достижению которого он сам раньше всячески препятствовал. Фелицата Никаноровна начинает сомневаться в том, правильно ли жила раньше, и спасения от этих сомнений, от непонятного ей ищет в монастыре. {XXVI}
Совсем другими стали крестьянские нравы. Появились три-четыре избы, резко выделяющиеся среди всех "своим великолепием. Одна была даже каменная, с фронтоном, с железною крышей, с ярко раскрашенными ставнями. Она принадлежала Максиму Евстифеичу Шашлову. Пунцовый кабацкий флаг победоносно развевался над нею. Отлично также отстроилась солдатка Василиса с помощью своего нового ремесла" — она создала у себя что-то вроде публичного дома. Разрушаются старые семейные связи, и на смену им приходят интересы выгоды, корысти. Эртель подробно воспроизводит сцены распада старых семейных отношений в семье старосты Веденея. Коннозаводское дело переходит к купцу Малышеву. Когда завершаются события, о которых в романе идет речь, "чуть не половина деревни хочет идти на новые места". В ходоки по делам переселения попадают те, кто разбогател на чужих бедствиях. Но есть уже и в самой крестьянской среде люди, далекие от общинных иллюзий и вместе с тем думающие об общих интересах, ищущие реальной возможности постоять за них.
Движение вперед все-таки совершается, хотя идет оно путем необыкновенно трудным, говорит Эртель своими «Гардениными». Это движение писатель видит неотделимым от развития в русской жизни капитализма со всем тем мрачным, что капитализм с собою нес.
Историзм эртелевского миропонимания находит свое выражение и в образе Николая Рахманного — центрального для Эртеля героя книги, в сопоставлениях в сюжете романа взглядов Рахманного и Ивана Федотыча, жизненных путей Рахманного и Ефрема.
Рахманный не пытался сломать жизненные порядки, которые и для него были тяжелы. Оставаясь на их почве, он стремился "по возможности" содействовать просвещению, уменьшению суммы зла, смягчению жестокости. Он писал корреспонденции о злоупотреблениях и неустройствах, помогал школьному делу, терпеливо сносил домашнюю тиранию отца. Иногда ему становилось так трудно, что он готов был завыть, думал о самоубийстве. Но затем снова "впрягался в хомут". И со временем пришло маленькое личное счастье. Он приобрел самостоятельность, получил средства к тому, чтобы как-то помогать другим людям. Татьяна, которую он любил, в конце концов стала его женою, и он может, вместе с нею растить и своего первенца и других детей.
Ефрем в первом же своем разговоре с Рахманным советовал {XXVII} ему "бороться с общими причинами разорения". Он привез с собою в деревню тайную, видимо революционную, литературу. Ему хотелось бы поднять крестьян на активные, решительные действия. Планы Ефрема не осуществились. Привезенная литература так и осталась невынутой, отчуждение от крестьян непреодоленным.
Все, что делал Ефрем, утверждает при этом Эртель, бесконечно далеко от того, что когда бы то ни было может стать важным для гарденинских мужиков. След Ефрема теряется в неизвестности. Так историзм Эртеля оказывался включающим в себя — хотя бы отчасти — фатализм, убеждение в необходимости и возможности вообще жить и действовать плодотворно лишь в рамках того, что жизнь сама по себе предлагает. Знаменательно, что уже в 1883 году Эртель мог заявить: "…Следя за… неумолимым прогрессом нравственности… видишь, что… мы вместе с нашей «душою» суть результат бесчисленных видоизменений и приспособлений, не более, и если действуем честно, хорошо, правдиво, живем «свято», то… единственно в силу того, что мы таковы суть как результаты бесчисленных приспособлений".
В процессе работы над романом писатель всячески стремился утвердить подобное мировосприятие.
Так, по черновому наброску плана к «Гардениным» Николаю Рахманному (называвшемуся первоначально Парменом Исполатовым) предстояло побить барина-ловеласа и затем бежать из дому. В окончательном тексте романа за центральным положительным героем Эртеля уже не может числиться подобных поступков. В наброске писатель рисовал Фелицату Никаноровну гневно и резко — она доносила здесь барыне о свидании Ефрема с Элиз, которое подсмотрела. В окончательном тексте писательская интонация решительно изменена — верная своей госпоже и вообще старым жизненным порядкам, Фелицата здесь уже никак не доносчица.
И в то же время в основе писательской позиции Эртеля лежал все-таки глубокий, хотя и не свободный от внутренних противоречий историзм, историзм, который сам автор «Гардениных» — пусть непоследовательно пытался даже противопоставить мистическому миропониманию. В этом смысл разграничения в романе взглядов, всего жизненного поведения Рахманного и Ивана Федотыча.
Рахманный как будто учится у Ивана Федотыча нормам нравственности, перенимает его представления о долге, об обязанно-{XXVIII}стях человека. Но самая природа человечности в поступках Ивана Федотыча и в поступках Рахманного — разная. Вот в предпоследней главе, когда немало постигший Рахманный многое уже может сопоставить и оценить, он присутствует в избе Ивана Федотыча на сборище «братьев» и «сестер». "Николай был больше заинтересован, нежели тронут. Правда, и он поддался общему возбуждению: щеки его были мокры от слез; но какой-то червяк непрестанно шевелился в нем. Урывками он вспоминал прежнее время, ласковый и спокойный вид гладко выбритого Ивана Федотыча, его истории и рассказы, запах стружек, нервный визг пилы, вьюгу за окнами… Нет, то было гораздо, гораздо лучше! Здесь веяло чем-то больным, там — здоровьем, свежестью; здесь обречение и жертва, — там самодовлеющая и благосклонная полнота жизни". Затем, годы спустя, в разговоре с Рафаилом Гардениным, сыном состарившейся генеральши, говоря о старом столяре, Рахманный с открытым сожалением упоминает о мистицизме Ивана Федотыча. "Святой человек-с!.. — говорит он об Иване Федотыче. — Вот подлинно "заглохла б нива жизни", если б не появлялись такие люди… — и помолчав, еще добавил: — Хотя, конечно, простой человек, полуграмотный… Мистик, к сожалению".
Эртелю не случайно приходилось специально подчеркивать несовпадение жизненных позиций своего главного героя и старого столяра. Объективно позиция Рахманного обнаруживала в себе какую-то долю фаталистического и, следовательно, тоже мистического миросозерцания. Недаром все же и в изображении крестьянства такое большое место заняли в романе мистические в немалой мере мотивы (история убийства Агафона, фигура Кирюшки, Арефий, Иван Федотыч, сборище «братьев» и «сестер» у него).
А. А. Фадеев, читая «Гардениных», отметил, что пореформенная Россия обрисована в романе необыкновенно широко. Он записал: "Почти вся пореформенная Россия дана в разрезе".[7] Между тем количество действующих лиц в «Гардениных» не так уж велико и в центре романа стоят вовсе не те, кто мог бы представить основные борющиеся силы, важнейшие социальные группы эпохи. Однако любой читатель не может не согласиться с тем, что суждение Фадеева совершенно справедливо. В широте воспроизведения русской жизни в «Гардениных» благотворно сказались сильные стороны эртелевского миропонимания. {XXIX}
История реализма как литературного направления есть история художественного исследования социальной основы человеческих характеров, существа внутренней связи между типическими характерами и типическими обстоятельствами. В рецензии на "Букеты…" В. Соллогуба Белинский очень точно говорил о своеобразии произведений, принадлежащих к реалистическому направлению в искусстве: "Теперь роман и повесть изображают не пороки и добродетели, а людей как членов общества, а потому, изображая людей, изображают общество".[8] Однако на заре развития реалистического направления в русской литературе, у писателей "натуральной школы", представление о сущности характеров и сущности обстоятельств, о «механизме» связи между ними было еще очень односторонним. Обстоятельства понимались главным образом как условия быта строго определенной социальной среды, характеры как повторяющие, каждый в отдельности и все вместе, какую-нибудь определенную среду в ее основных признаках, Процесс развития реализма в XIX веке и состоял, быть может, в первую очередь в том, что все более глубоко освещалась внутренняя связь характеров с обстоятельствами.
Очень многих — едва ли не большинство — персонажей «Гардениных» мы не можем охарактеризовать формулами вроде "типический помещик", "типический разночинец" и т. п. Ни о Рукодееве, ни о Еферове нельзя говорить как о "типических купцах". С каким существительным можно «сопрячь» слово «типический» в приложении к Николаю Рахманному? А это ведь никак не второстепенные фигуры в романе, и всякий непредубежденный читатель видит, что они не «придуманы» автором, не «построены» вопреки тому, что могло быть и было в действительности.
Все герои, очень разные по своему положению в жизни, объединены в книге прежде всего тем, что в каждом из них у Эртеля: так или иначе выражена переходность того времени, когда развертывается действие в романе. Характеры и Рукодеева, и Еферова, и многих других персонажей даны писателем во всей их сложности, подчас противоречивости, и за этим, точнее в этом, открывается общая противоречивость общественных отношений, общественных условий пореформенной эпохи. В характере каждого из героев «Гардениных» мы видим то исторически своеобразное и исторически неповторимое переплетение черт, которое выражает и обрисовывает пореформенную русскую жизнь 70-80-х го-{XXX}дов. В Рукодееве, например, автору «Гардениных» важно не только то, что это спивающийся, безобразничающий купец, но и его увлечение Писаревым, Дарвином, Боклем. Именно в этом неожиданном и невозможном, казалось бы, сочетании проглядывает через психологию человека общее содержание жизни России определенной поры. Интересно в этой связи, что когда В. Г. Чертков упрекнул Эртеля в письме за изображение Ивана Федотыча вне конфликта с церковью, с официальной религией[9], Эртель возразил ему в письме от 18 ноября 1888 года, что "описываемое… относится к 70-му году".[10] С точки зрения Эртеля, подобный ответ решал дело, снимал упрек.
Анализ человеческой души во всей ее сложности стал раскрывать историческое своеобразие времени еще в раннем творчестве Льва Толстого. При этом, однако, сам Толстой исходил из представления о внеисторической, извечной основе характеров. Осознанный историзм в освещении самых разных граней внутренней жизни человека утвержден был в русской литературе Чеховым в 90-х годах и затем, уже на основе марксистского миропонимания, Горьким. В процессе постепенной выработки литературой этого осознанного историзма в подходе к внутреннему миру человека, ко всей «диалектике» душевной жизни занимают свое место — на пути от "Войны и мира" и "Анны Карениной" к чеховским «Мужикам», "Студенту", "Вишневому саду", к произведениям Горького — и «Гарденины».
6
90-е годы были в истории России временем непосредственной подготовки, а затем и начала третьего, уже пролетарского этапа освободительного движения. Обнаруживалась со всей очевидностью историческая обреченность не только дворянства, но и буржуазии. Обнажалась несостоятельность либерально-постепеновских программ всех родов и оттенков. Эти процессы нашли свое отражение в центральных произведениях Эртеля этих лет — «Смене» (1891) и "Карьере Струкова" (1895–1896).
Откликаясь на появление первого из этих произведений, романа «Смена», Н. К. Михайловский писал: "Для меня осталось не {XXXI} совсем ясным, в чем именно состоит «Смена» в романе г. Эртеля, что именно и чем сменяется, в которую сторону смена направляется, к добру или к худу ведет".[11] Отзыв Михайловского по-своему точно характеризовал как разногласия народников с Эртелем, так и внутренние противоречия эртелевского романа.
Если народники еще и в 90-х годах продолжали упорно отрицать неизбежность для России капиталистического пути, то Эртель видел недолговечность уже установившейся буржуазной эры, сменившей эру дворянскую. При этом он не представлял себе, чем «сменится» буржуазная эра. И понятие «смены» в книге Эртеля оставалось действительно во многом неопределенным.
Вот как однажды, в письме к В. А. Гольцеву от 25 февраля 1891 года, излагал замысел «Смены» сам писатель: "В Андрее Мансурове будет изображен отнюдь не какой-либо «положительный» тип… В его лице мне хочется «объективировать» модную ныне импотенцию в перьях философского пессимизма; это — человек с некоторым "поэтическим гвоздем", с изрядно развитым вкусом ко всему честному, изящному, тонкому, умному, но… и т. д. Мне ужасно хочется возможно ярче написать этот портрет — эту жалкую апофеозу вымирающего культурного слоя, этот итог многолетней нервической работы и привилегированного существования. Он будет занимать центральное место одно из центральных, — а из его сближений, связей и столкновений с старыми и новыми людьми должен обнаружиться перед читателем процесс «смены». А рядом с этим процессом «смены» в культурной среде — в народе будет происходить свое, отчасти нелепое и фантастическое, отчасти живое и весьма новое, но пока без всякого отношения (т. е. без внутреннего, без интимного отношения) и к новому и к старому культурному типу. Только в конце романа образуется некая связь между «новыми» и деревней…"[12] И в этом изложении его замысла самим автором «Смены» также видно, в чем силен и в чем слаб был здесь Эртель.
Писателю удалось в «Смене» с большой художественной убедительностью запечатлеть процесс распада специфически дворянского, специфически барского сознания в эпоху, когда дворянство уже полностью утратило свою историческую роль. В этом смысле {XXXII} Эртель пошел в «Смене» дальше, чем в "Волхонской барышне", добился, несомненно, значительного результата. Образ Мансурова — один из наиболее глубоких и интересных во всем эртелевском творчестве.
Сделав Мансурова во многом обаятельным и показав в то же время его полную внутреннюю опустошенность, неизбежность бессмысленной гибели этого человека, так и оставшегося по особенностям своей психологии дворянским интеллигентом, Эртель тонко и глубоко передал суровую неумолимость хода истории, решающую роль ее законов в жизни, в судьбах людей. Конец Мансурова, казалось бы, совершенно случаен. Но вся логика развития этого характера у Эртеля такова, что Мансуров шаг за шагом движется к гибели, и смерть его должна быть именно бессмысленной и нелепой. Случайность здесь в самом точном смысле этого слова является единственно возможной формой осуществления необходимости. Утонченный дворянский интеллигент, погибающий в публичном доме от не ему предназначенной пули, — этот итог пути Мансурова, подготовленный в романе всем психологическим движением характера, полон глубочайшего внутреннего значеиия.
Разночинцы, ставшие на путь буржуазно-просветительной деятельности, оказываются в положении "лишних людей" новой формации. Жизнь идет мимо них, и превращение большинства из них в регистраторов-"статистиков" необыкновенно знаменательно: найти достойное место в движении событий им не суждено.
Не удерживаются в Княжих Липах их арендаторы — в разной мере и по-разному бессовестные и бесчестные дельцы буржуазной складки — Егор Колодкин и Илья Прытков.
Однако крушение власти Колодкина в мансуровском поместье писатель рисует как результат пробуждения совести в душе этого человека, а Прытков свален в первую очередь братом, Федором Прытковым, разоблачившим его бесчестность и нанесшим ему удар. Так у художника, главная сила которого состояла в непредвзятом, объективном исследовании жизненных явлений, важнейший и точно отмеченный исторический процесс — процесс назревания новой «смены» — освещался главным образом как следствие торжества добрых начал в душах людей, выдвинутых «сменой» предшествующей. Объективное исследование подменялось здесь собственными домыслами и пожеланиями писателя, ибо законы революционного разрушения эксплуататорского общества силами трудовых масс оставались для Эртеля чуждыми и неприемлемыми, «смена» же буржуазной эры каким-то новым вре-{XXXIII}менем становилась в его представлении, по-видимому, и неизбежной и необходимой.
Народное движение предстает в «Смене» по преимуществу как бессмысленные волнения крестьян, вызванные совершенно неосновательными надеждами на получение земли или религиозным фанатизмом. Действительно "живое и весьма новое" в народной жизни, характерное для 90-х годов и таившее в себе главные истоки новой «смены», оказалось в романе почти полностью обойденным и отчасти даже извращенным.
Чем дальше развивались события, тем все глубже обнажались противоречия в позиции Эртеля. Очевидным становилось, что удержаться на подлинно исторической точке зрения, сохранить верность принципам объективного исследования жизненных процессов писателю при его миропонимании удается все в меньшей степени. Своеобразие русской действительности 90-х годов при глубоком и верном анализе неизбежно должно было привести исследователя к выводу о назревании народной революции, к надеждам именно и только на нее. Эртель не мог сделать подобный вывод и питать подобные надежды. И поэтому он неизбежно отходил от того, что составляло основу и главную силу его творчества, — от объективного и разностороннего анализа характеров и обстоятельств.
В "Карьере Струкова", последнем завершенном произведении писателя, еще нашла свое выражение и сильная сторона Эртеля как мыслителя и художника. В образе Струкова, отстаивавшего принципы "легального марксизма" и пришедшего постепенно от участия в движении прогрессивной молодежи к полному внутреннему саморазрушению и, в конечном счете, к самоубийству, в сущности, прослежен один из путей формирования упадочного, декадентского сознания, обрисованы пагубные последствия для человеческой души пассивного приспосабливания личности к совершающимся жизненным процессам, отказа от активного исторического действия.
Но сам Эртель был далек от того, чтобы признать необходимость и неизбежность революционной борьбы, революционных норм жизни и поведения человека. Он по-прежнему хотел верить в то, что надо и можно найти верный путь постепенного, «применяющегося» действия. Поэтому волновавшее его общественно-историческое явление — "карьеру Струкова" — он обрисовал в романе как якобы порожденное прежде всего таинственными и непостижимыми особенностями психики этого именно человека. Так появились в "Карьере Струкова" и другие герои со странным, по Эр-{XXXIV}телю во многом необъяснимым, поведением и жизненным путем. Это в разной степени относится и к богатому купцу Перелыгину, и к доктору Бучневу, и к крестьянке Фросе, и к ее мужу Максиму, а отчасти и к жене Струкова Наташе. Разрушающееся, упадочное сознание все меньше представало в обрисовке Эртеля как конкретное общественно-историческое явление и все больше как бы приписывалось художником самым разным людям. Самим Эртелем оно явно все больше воспринималось как бы вне истории и независимо от нее. Для конкретного и объективного художественного исследования действительности у писателя, не пришедшего даже в 90-е годы к революционному миропониманию и в то же время не желавшего отказаться от рассмотрения важнейших (в том числе и новых для той поры) явлений, оставалось все меньше возможностей.
В середине 90-х годов Эртель навсегда оставил литературную деятельность и последние годы своей жизни (он умер в 1908 г.) прожил управляющим в одном из помещичьих имений.
Критики по-разному объясняли уход Эртеля из литературы. Одни утверждали, что Эртель был по всему характеру своего отношения к жизни не столько художником, сколько человеком практики, непосредственного дела, и объясняли решительное обращение писателя в конце его пути к хозяйственной деятельности как осуществление им своего главного призвания. Другие говорили о трагедии Эртеля и видели ее в том, что обстоятельства, нужда заставляли его заниматься хозяйством, когда он рвался к письменному столу.
На наш взгляд, оба эти объяснения страдают односторонностью и потому, в сущности, оба неверны.
Анализ значительнейших созданий Эртеля показывает, что открыть в жизни, в отношениях людей что-либо кроме того, что уже было им открыто, Эртель при своем мировоззрении не мог, хотя к этому и стремился. "Время наше представляется мне мучительно трудным и загадочным; те или иные решения задач мало удовлетворительными",[13] — с горечью говорил он в одном из писем еще в начале 90-х годов. Вот в этом осознании, точнее — в этом ощущении неудовлетворительности всех «решений», какие казались ему приемлемыми, и в невозможности для него пробиться к решению истинному и состояла трагедия Эртеля.
Эртель действительно вынужден был оставить литературу. Но вынужден прежде всего потому, что если он хотел остаться вер-{XXXV}ным пафосу своих уже написанных книг, — писать больше он не мог. "Писать потому, что хочется, потому что требует того непобедимый художественный инстинкт, а иногда столь же непобедимый литературный зуд, я никогда не мог. Помимо сей слепой силы, мне всегда была нужна сознательная уверенность, что то, что пишу, — ново и интересно, по крайней мере, для меня самого. И вот такой-то уверенности у меня теперь решительно нет",[14] — так объяснял в 1897 году сам автор "Записок Степняка" и «Гардениных» прекращение своей литературной деятельности. Как у всякого значительного художника, трагедия Эртеля была в самой основе своей трагедией непреодолимости творческих противоречий. А финал этой трагедии — превращение Эртеля в человека, поглощенного хозяйственными делами в управляемом им поместье, — по-своему тоже всецело принадлежит той жизненной позиции, выйти за пределы которой писатель не сумел.
И сильные и слабые стороны Эртеля, весь его путь неотделимы от времени, когда он жил, и своеобразно освещают весьма существенные черты этой не столь уж далекой от нас поры.
Я. Билинкис {XXXVI}
Александр Эртель "Записки Степняка" Очерки и рассказы
Посвящается
Марье Ивановне Эртель
Мое знакомство с Батуриным
Батурин был близкий мне человек. Теперь он умер. Перед смертью он писал мне и просил меня издать его записки. И, странное дело, человек в высшей степени скромный, он просил при отдельном издании поместить его биографию. Вот уж задача-то неблагодарная… "Я, — говорит, — хочу, чтобы видели, почему от бодрых восклицаний во вкусе Левитова я пришел к пессимизму «Идиллии» и «Аддио», и почему вообще я разметал свои силы и дошел до Ментоны. Все это вы поясните". Странная и, повторяю, неблагодарная задача. Внешние факты из жизни Батурина таковы: происходил из дворян (хотя бабка его и была крепостная); ценза не имел; хозяйничал плохо (мужики его ужасно надували); курса в университете не кончил; женат не был… Вот. Разве добавить к этому, что любил деревню и до конца дней своих бредил степью? Так это и без того видно.
Записки свои он начал вести в Петербурге, куда занесли его некоторые обстоятельства на целый год. "Особенно скверно мне там было в апреле, говорил он, — такая тоска забрала меня тогда и до того взманила степь, что я не выдержал и взялся за перо". Позже, по приезде в деревню, это уже сделалось привычкой. Вообще нужно сказать, человек он был глубоко почвенный и к земле своей пришит был крепко. Это с одной стороны. Но с другой — эта земля мучила и терзала его неусыпно. Он всегда с завистью говорил о сороковых и шестидесятых годах. "Счастливые люди жили в те годы!" — часто восклицал он, обыкновенно вздыхая при этом. "Чем же {3} они счастливы-то, Николай Васильевич?" — спрошу, бывало, я. "А тем счастливы, — скажет, вера в них была, цельность была, врага они ясно видели, идеалы свои ощупывали руками… А теперь что, — мы теперь точно мужик: стащили с него барина, он и не знает, кто его за горло душит". Ясность отношений исчезла; суматоха какая-то всюду, путаница, абракадабра…" И напрасно я напоминал ему идеалы, ясные как кристалл; он с тихою печалью улыбался. "Да, они ясны, — говорил он. — Но это — ясность теории, ясность вычислений арифметических. Они ясны до той поры, пока жизнь не затуманит и не загрязнит их… Вот погодите, насмотритесь, может быть. Все захватает своими нечистыми руками эта проклятая, эта изолгавшаяся жизнь, и в конце концов получатся пятна, не более…" И он в унынии поникал головою. Иногда же злился, обзывал меня Маниловым и уподоблял идеалы тульским самоварам, что до тех пор и блестят, пока новы, а чуть попадут в руки кухарки — и конец их блистанию. Вообще он легко поддавался желчи.
Но временами на него находила бодрость, и тогда страстное нетерпение загоралось в нем. Он ездил по соседям, знакомился с новыми людьми, говорил, проповедовал, строил проекты различных мероприятий… А спустя немного снова сидел кислый и больной. И так во всю жизнь. Мне кажется, особенно угнетала его пустота, как бы искусственно воздвигнутая вокруг него: куда бы он ни сунулся, везде встречались запоры и преграды. Я говорю о цензе. Но, конечно, и не одно это угнетало; необходимо еще упомянуть о нервах, не дававших ему покоя. Это хрупкое наследие дворянских предков он в особенности проклинал.
Любимым его писателем был Глеб Успенский, любимым поэтом — Некрасов. Читая вообще плохо, в стихи Некрасова он покладал душу, и они выходили у него изумительно прекрасными. Я и теперь без волнения не могу вспомнить то страстное выражение его глубокого и гибкого голоса, с которым он произносил, весь охваченный каким-то острым и тревожным ознобом:
Что враги? Пусть клевещут язвительней, Я пощады у них не прошу. Не придумать им казни мучительней Той, которую в сердце ношу! Что друзья? Наши силы не ровные, Я ни в чем середины не знал, Что обходят они, хладнокровные, Я на все безрассудно дерзал; Я не думал, что молодость шумная, Что надменная сила пройдет И влекла меня жажда безумная, Жажда жизни — вперед и вперед! Увлекаем бесславною битвою, Сколько раз я над бездной стоял, Поднимался твоею молитвою, Снова падал — и вовсе упал!.. Выводи на дорогу тернистую! Разучился ходить я по ней, Погрузился я в тину нечистую Мелких помыслов, мелких страстей. От ликующих, праздно болтающих, Обагряющих руки в крови, Уведи меня в стан погибающих За великое дело любви! Тот, чья жизнь бесполезно разбилася, Может смертью еще доказать, Что в нем сердце не робкое билося, Что умел он любить…Хорошо это у него выходило.
Я уже сказал, что женат он не был. Но роман у него был, и притом интересный. Не буду распространяться о подробностях этого романа, о неизбежном его подразделении на три части: все это длинно, да, по совести говоря, и не особенно идет к делу. Расскажу лучше с его слов: так же кратко и с такой же настойчивостью напирая на развязке.
"Любил я, конечно, страстно, — говорил он. — Помню долгие ночи, проведенные без сна, и глупые стихи, вымученные с болью душевной… Помню, как горела несчастная моя подушка и обольстительные грезы кружили голову… Но, само собой, благородство кипело во мне ключом, и, прежде чем объясниться в любви, я много потрудился с золотниками. Понимаете, я взвешивал и мерил, разлагал и вскрывал свои помыслы и свои грезы. И представьте, какое обстоятельство смущало меня сильно: когда она нежно улыбалась, рот у нее казался слишком большим, и это мне ужасно не нравилось: было что-то хищное и вместе очень уж сладкое в этой улыбке… это глупость, конечно, но вы эту «глупость» пока отметьте. — И так, после долгой возни с своим нутром я прыгнул; то есть {5} открылся в любви, изволите ли видеть. Ну она, как и бывает в подобных случаях, сначала вошла в испуг, затем стала ко мне присматриваться… Одним словом, история чересчур уж известная: мы, говоря высоким слогом, полюбили. Некоторые обстоятельства надлежащим образом драпировали эту любовь, или лучше сказать попросту: разжигали. Оно хотя и грубое слово, но к делу чрезвычайно идет. Говорить приходилось с осторожностью; в области сношений мы ограничивались боязливым пожатием руки…
Но как бы то ни было, дело дошло до «свидания». Ах, если бы вы видели эту теплую июльскую ночь и залезли бы на эту ночь в мою шкуру! В небесах горел месяц, и в саду было тихо, как в могиле. Вы знаете, ведь в июле соловьи у нас замолкают… И так было тихо. Я сидел у подножия старого тополя, и ждал ее, и смотрел. Сначала меня пожирала лихорадка: зубы стучали от какой-то неизъяснимой стужи; по телу колючим ознобом пробегала дрожь… Но потом окружающая тишина как будто дохнула на меня свежим и мирным своим дыханием. Какая-то странная неподвижность сковала все существо мое… Нервы получили неизъяснимую, неизвестную дотоле чуткость. Густая листва тополя, молчаливым пологом висевшая надо мною; березовая аллея, недвижимо окаймившая тихую реку; ясная луна в ясном небе — все это переполнилось каким-то особым выражением и, как будто сдерживая дыхание, смотрело на меня, ждало от меня чего-то… Именно сдерживая дыхание. Душа моя точно растворялась в природе. Какие-то волны, тихие и вкрадчивые, беспрерывным течением вплывали в нее, внося с собою непреодолимую истому и славное ощущение какой-то широкой и сладкой полноты… Я не мыслил, я только ощущал. Во мне даже замерло нетерпение мое… Прелестнейшее животное состояние!
Понятно ли вам, как все это предрасполагало к неге, к любви, к блаженству? А вышла, друг мой, одна только отвратительнейшая ерунда!.. Впрочем, это пока в сторону. — Не буду расписывать вам чувства мои, когда легкий шорох платья коснулся, наконец, моего слуха. Помню только, что я узнал, с поразительной чуткостью, похожей даже на ясновидение, узнал, что это непременно ее синее кашемировое платье. Но не в этом дело. Месяц светил не-{6}сколько вкось, и его лучи, сквозя чрез листву ближней березы, падали прямо ей в лицо. Или лучше — не падали, а играли прихотливыми пятнами. Помню, как сейчас, что один ее глаз (правый) да нижняя часть лица освещались особенно часто и особенно ярко. Как-то так приходилось. Помню также, что прикоснулся я к ней положительно с какой-то безумной радостью, и долго, не отрываясь, смотрел ей в глаза, влажные и несколько восторженные. Она прижималась ко мне вся в трепете и как будто недоумевая. Или, скорее, казалась растерянною от огромного счастья… Но вместе с тем губы наши не "сливались в поцелуй" (какое удачное выражение это "сливание"!) от какой-то непонятной нам, но ужасно настойчивой стыдливости.
И вот в эту-то пору сугубого блаженства до нас донесся внятный шорох. Мы замерли. Но я не выпускал из объятий милую девушку и по возможности старался казаться твердым. Шорох усилился. За кустом сирени послышались голоса и как будто фыркнула лошадь… А затем произошел следующий разговор:
— Васюх?
— Я.
— Обделал?
— Вона!
— Чья?
— Шут ее знает! Кажись, Митрошкина.
— Мерин, так Митрошкин. Холка побита?
— Побита.
— Ну, Митрошкин.
Послышался сдержанный смех.
— Вот поревутся-то!
— Пущай. Он мне, брат, тоже завязал о Покрове: "Вор ты, говорит… В Сибири, говорит, тебе место…" Пущай теперь…
— Ловок! Ну, покурим, да в ход. Не гнались?
— Не видать.
— К Архаилу?
— К кому же опричи… Не иначе как к Архаилу.
— Скуп стал, линючий пес!
— Всё две красных даст.
Конокрады уселись и, по-видимому, закурили. {7}
— Эх, жизнь проклятая! — сказал один, сплевывая сквозь зубы, — как заполучу, так запью.
— А что, — спросил другой, — аль не подается?
— Подается! — насмешливо возразил первый, — она подастся, как прихватить ее в тесном месте.
Помолчали.
— А девка хороша, — сказал другой. Первый ничего не ответил. Тогда другой в свою очередь плюнул и произнес:
— Взял да прихватил.
— И прихвачу, — решительно ответил первый. — Как пойдет к сестре в Лупцоватку, так и прихвачу. А станет кричать — изобью как собаку.
— А насчет подарку?
— Берет, дьявол. Берет, да что толку!.. Позавчера целый полштоф наливки вылопала. Вылопать вылопала, а к чему пришло дело: выкладывай, говорит, четвертной билет. Мне, говорит, Чумаков купец четвертной билет сулит… Мне, говорит, ежели за четвертной, и от мамушки запрета нету… Поди вот поговори с ней!
— Эка! — равнодушно произнес другой и снова сплюнул. — Ну, а баба твоя? — спросил он после непродолжительного молчания.
Первый засмеялся.
— И утюжил я ее, братец ты мой, вчерашнею ночью! — сказал он. — До того добил — хрип у ней, окаянной, пошел. Ну — бросил.
— Эка!.. — заметил другой, и, помолчав, спросил: — За дела?
— Стерва она! — с негодованием отозвался первый. — Гармонь я купил, так на что гармонь купил, ей бы муки да дьявола пестрого… Будет помнить гармонь!.
— Их не бить, добра не видать, — философически вымолвил другой, и после паузы спросил: — Где мерина-то подцепил?
— На жнивах. Ходит по копнам и не дается, дьявол. Бился, бился…
— Молодчина ты! — одобрительно сказал другой.
— Я, брат, не из робких, — хвастливо возразил первый, видимо польщенный похвалою, — я, брат, чуть что — мне и в Сибири не страшно. Эка-ста!.. {8}
— А мне опять старых чертей поить, — сказал другой в раздумье.
— А что?
— Все насчет ссылки этой… То ничего все; а у Митьки амбар обокрали, и пошло, и пошло… Это уж знай — на десятку напорешься: два ведра, хоть издохни!..
— Напоил бы я их!
— И напоишь, — в некоторой обиде отозвался другой.
— Я бы их напоил! Я бы подпустил им!
— Подпустишь!
— И подпущу. Я, брат, своим так и сказал: чуть что — ждите красного петуха в гости. Небось!
— Ловок ты! Семья-то, она, брат…
— Что ж семья…
— Что ж! Семья-то, она, брат, тово… Она, брат, детишки тоже… Это ты тоже не тово…
— Тютя ты! — презрительно отозвался первый. — Я бы не токмо бояться их, чертей, я бы измолол их… В струне бы их держал. Эх, баба ты!.. Ты бы, кабы не они, может житель был бы… Ты, как за хомут скотину-то у тебя пропили, легче бы петлю накинул на себя… — И он вдруг прыснул: — И на кой дьявол ты хомут этот сволок? Хомут городской, на какого лешего тебе этот хомут?
— Хомут, хомут! — смущенно возразил другой. — Поедем-ка… Хомут!.. Ловки вы…
Затем опять раздался шорох. Лошадь снова фыркнула, и все смолкло.
— Ах, ужас какой! Как я боялась… — воскликнула девушка и крепко прижалась ко мне, закинув назад изящную свою головку.
— Чего же ты боялась, дорогая?
— Услышат… Папа узнает… Скандал… Мало ли чего!
— Ну вот тут-то и конец моему роману, — саркастически усмехаясь, добавлял Батурин. — Руки мои внезапно как плети скользнули по ее гибкому стану и в бессилии опустились. Во рту появилась какая-то сухая и неприязненная горечь… А тут, как на грех, месячный луч коварно лег на ее губы, и выражение страсти немилосердно растянуло их. И что же мне показалось! — бывает же глуп человек — мне показалось: какая-то огромная птица бьется на моей груди… И, страшно сказать, все существо мое переполнилось непобедимым отвращением. {9}
Она, впрочем, впоследствии вышла замуж за одного прокурорского товарища. Он был мал, как котенок, и фамилию ему дал госпадь бог самую подходящую — «Сюсюткин».
Вот единственный роман Батурина.
Ну, а еще, я, ей-богу, не знаю, что сказать о нем. Добрый был человек, любил искусство… Но в последнее время редко заглядывал в книги. Да что в последнее время! — в последнее время он только мучился да терзался, да путался в различных думах, тяжких и удушливых, как кошмар… И вот человек умер.
Говорят, что, умирая, он обвел окружающих тоскливым взглядом и спросил упорно: "Да когда же мы переведемся на Руси?" Что он этим хотел сказать не знаю. Но, повторяю, добрый был человек, и его жаль.
Я издаю его записки. {10}
Записки Степняка
I. Степная сторона
Не отличается живописным разнообразием природа степного края. Нет там высоких гор, красиво увенчанных многолюдными селам и торговыми городами, потонувшими в густой зелени садов; нет и многоводных рек, с ранней весны до поздней осени горделиво несущих и дерзко свистящие пароходы, и неуклюжие дощаники, и грациозные расшивы… Нет и стекловидных озер, поэтично сверкающих среди тихих лесистых берегов, — озер, усеянных веселыми островами, богатых рыбою, чистых и глубоких… Нет ничего этого. Ни красою Поволжья, ни угрюмою прелестью замосковского северного края, ни диким величием глухого Полесья не влечет к себе моя родина. Куда ни глянешь — все поля да поля… Мелькнет осиновый куст, засинеет далекий лес, зачернеют на горизонте два-три кургана, блеснет на солнышке степной прудок или поросшая коблами речка, бросится в глаза барская усадьба с ярко-зелеными и красными кровлями своих построек, вспыхнут там и сям позолоченные кресты сельских церквей, выглянет серым пятнышком купеческий хутор — и опять поля, поля…
И народ не из бойких населяет эти поля. Угрюмая низменность и томительное однообразие края словно отозвались на нем. Нет в нем той разбитной юркости бывалого человека, которою щеголяет ярославец, нет и смышлености подмосковного жителя; не блещет он сметкою и талантливостью наторевшего в отхожих промыслах рязанца, не обладает находчивостью костромича, оборотливостью владимирца, стойкостью и энергией сибиряка. Он не поет тех исторических песен, которыми славится {13} Поволжье; он не помнит ни Стеньки Разина, ни Ермака Тимофеевича; в его песнях и сказках нет тех преданий, которыми так богаты украинские думы, олонецкие былины, поволжские песни. Вольная воля, богатырская сила, молодецкая удаль, насколько они выразились в коренном, старорусском эпосе, неизвестны ему. Его предания не поэтичны. В них, повторяю, и помину нет ни о Владимире Красном-Солнышке с его сильно-могучими богатырями, ни о новгородских укшуйниках, то разбивавших богатые торговые суда, то ретиво ратовавших за вече, за свободу, то заселявших суровое Поморье, — ни о понизовой вольнице с ее отчаянными атаманами и удалыми есаулами, разъезжающими в разукрашенных косных лодочках вдоль по матушке по Волге…
Зато он помнит все ужасы крепостного права. Помнит волостных голов, окружных, заседателей. Помнит времена заселения края, когда на целые сотни верст тянулись девственные степи, когда по берегам изобилующих рыбою рек и речонок высились дремучие леса, в которых водились косматые медведи и шаловливые белки; но татарские наезды, беспрестанно тревожившие новую «украйну», уже не помнит он. Не вспоминает он в своих песнях ни о подвигах молодецкой удали, ни о милостивом божеском заступлении, несомненно имевшем место при обороне молодых поселений. Вечный недосуг, вечное чиновничье и помещичье ярмо как бы обесцветили его фантазию, притупили его память на все необычное, на все выходящее из уровня серенькой, прозаической действительности.
Он прежде всего землепашец. Не уважает новшеств, презирает городские нравы, плохо верит начальству. Он тих, страшно терпелив, добродушен, но любит разгул, питает склонность к веселой беседе, и в пору этого разгула, во время этой беседы, становится раздражительным и буйным.
В нем тьма противоположностей, и поэт, скорбно обратившийся к нему с вопросом:
Так кто ж ты, наконец?!вероятно, не скоро дождется ответа.
Он добродушно верит в черта, с замечательной подробностью представляя не только его козни, но даже и {14} наружность; он целыми массами стекается на поклонение к святым местам, в Киев, Задонск, Воронеж, и вместе с тем целые годы не говеет, лениво посещает свой приходский храм и не любит попа. Он основывает секты, идущие по пути рационализма дальше протестантства, и наряду с этим бьет оглоблями колдунов, становит капканы на ведьм и оборотней, косо глядит на «скоромников». Он в большинстве плохой мирянин, а между тем не может себе представить иной формы землевладения, как общинная. С редким единодушием дерется "всем миром" за спорные покосы с соседями, стойко отстаивает интересы мира в волости, с замечательной аккуратностью делает раскладки, делит «мирской» лес, «мирские» тяготы… А в земские гласные выбирает «мироеда», оставляет без призора сирот и увечных, и — что главное — оказывается совершенно несостоятельным там, где требуется не одно только математическое распределение тяготы или пользование старыми правами и угодьями по старым дедовским обычаям, а мирская инициатива, мирская предприимчивость и мирское единодушие. А это требование, конечно, предъявилось и предъявляется ему беспрестанно новыми порядками, воздвигнутыми на новой, еще не изведанной им почве, — почве, созданной послереформенными экономическими и нравственными отношениями…
Своеобразен и противоречив он (как и во всем) в своих понятиях о нравственности и правде. Прощая волостным старшинам тысячные растраты, благодушно мотивируя их "человеческою слабостью", он совершенно бесчеловечно, с какою-то варварскою, холодною жестокостью мучает, а иногда забивает и до смерти мелкого воришку, попавшегося с хомутом или холстами; разводя без помощи св. синода, по одной только "своей мужицкой" совести мужа с женою, — народ этот в то же время порет розгами сноху, обругавшую распутника-свекра "черным словом".
Он таков, каким его воспитало многовековое ярмо.
Край пересекли железные дороги, в селах водворились кабатчики, в усадьбе — кулаки. Веяние трактирной цивилизации тлетворно пронеслось над тихими степными деревнями. Наряду с страшным развитием хищничества появился отхожий промысел. Зашаталась община под напором тысячи плотоядных инстинктов, зашевелившихся в степной глуши. {15}
Степной мужик тих, страшно терпелив, добродушен… Тридцать лет тому назад и с этими только качествами ему жилось хорошо: земля рожала, хлеба до новины доставало с избытком, подати выплачивались; теперь он копит недоимки, истощает землю, пьянствует и нищенствует… Прежних трех добродетелей оказывается недостаточно. Откуда же придут к нему те, которые одни только в силах противостать всеразлагающему духу времени?..
Я не знаю, откуда придут они, эти другие добродетели, и мне страшно за мой край — степную сторону, и позабыть мне ее хочется, не думать о ней…
Но отчего же эта бесконечная ширь полей, эта уныло-однообразная равнина, где-где перемежаемая едва заметными возвышенностями, эти там и сям рассеянные села, хутора и усадьбы, этот убогий народ, — с таким непобедимым очарованием влекут меня к себе? Отчего мне вечно мерещится моя бедная родина с ее безбрежными полями, вечно вспоминается ее захватывающий душу простор, ее синеющая даль? Почему предо мною неотступно встают кусты и курганы, белеют высокие колокольни и уныло звенит тоскливая мужицкая песня?..
Вот и теперь, когда тусклый свет петербургского полдня тускло брезжит в мою тесную, затхлую квартирку, когда в запыленные окна виднеется лишь узкий, как колодезь, двор да клочок серого холодного неба, когда с улицы доносится назойливый треск экипажей, лязг лошадиных копыт и возгласы кучеров, — вспоминаю я далекую родину… И кажется мне, что из какой-то едва досягаемой, чудно-таинственной дали с чарующей ясностью выступают и всецело заполоняют меня родные картины…
И тоскливая печаль обнимает мое сердце, — печаль, мучительно, хотя вместе с тем и невыразимо-сладко колеблющая какие-то странные, болезненно-чуткие, болезненно-отзывчивые струны в моей груди…
Март 1880. С.-Петербург. {16}
II. Под шум вьюги
Был пасмурный зимний день. С самого утра шла метель, дул сильный ветер. В моей холостой квартире было темно, мрачно, неприютно… Дела не было; из знакомых приехать было некому: кто отправился к празднику, — был последний день масленицы, прощеный день, — кто сидел дома, в кругу семьи. Моя семья была далеко…
Большие стенные часы безукоризненно отбивали такт. Они одни только нарушали сумрачную тишь, окружавшую меня, — они да смутный шум вьюги, бушевавшей за окнами… Книг не было, — только вчера отослал в городскую библиотеку обменить на новые.
Тоска одолевала меня… Я и курил беспрестанно, и вымеривал тяжелыми шагами мою длинную комнату, и бессознательно всматривался в волны снега, бившие в стекла… А тоска росла пуще и пуще… Пошли бродить думы, воспоминания… все горькие, невеселые, под стать к погоде, под стать к скучному сумраку, лившему в окна… Напрасно я разыскивал в этих думах, в этих воспоминаниях яркого, светлого луча, напрасно напрягал память, вызывая его, этот луч, эту ободряющую полосу света… Все было — сплошная одуряющая тьма… Моя память упорно отказывалась воспроизвести светлое, радостное и, как бы издеваясь надо мной, назойливо рисовала все скверное, все мучительное моего прошлого… Ряд фактов, один другого безотраднее, один другого тяжелее, вставали и медленно проходили предо мною, каждый отзываясь тупою болью в сердце… И как живо представлялись мне эти факты… С какой убийственной ясностью подробностей!.. Они угнетали меня… Они заполоняли мою мысль, мои {17} чувства… Мало-помалу самое желанье радости и света остывало во мне, обессиленное наплывом горя… Все во мне переполнилось этим горем, этою тоскою… Не той тихой, меланхолической тоской, которая часто неразрывна и с хорошими минутами, а той, от которой бежать хочется куда глаза глядят или разбить голову об стену…
"Хоть бы поехать куда!" — вырвалось у меня. А куда сунешься, куда поедешь в такую бешеную погоду? Куда вырвешься из этой проклятой норы?.. Я с ненавистью оглянул комнату…
Полусумрак тускло освещал белые каменные стены, чисто вымытый пол, стеклянный шкаф с кипами запыленных бумаг.
Маятник неутомимо отчеканивал такт… Вьюга металась в окна… Где-то под полом скреблась мышь…
Невыносимо…
"Поеду к Панкратову, — решил я, — что ж что погода?… Три часа езды не много".
Был час пополудни.
До Панкратова считалось тридцать верст. "Еду!" — проговорил я, упрямо отгоняя назойливые мысли о погоде, о скверной дороге… Из дома меня словно гнал кто…
Выехал я из своего хутора в два часа. В поле несла сильная подземка… Ветер гнал беспорядочными волнами сухой снег. В двадцати шагах ничего не было видно. Но с дороги снег сметало, и ехать было можно. Колокольчики глухо звенели под дугою, прозябшие пристяжные уносили на славу…
— Эй, потрогивай, Яков, не рано! — покрикивал я, глубоко вдыхая холодный воздух и выставляя лицо в упор рьяному ветру.
— Ну вы, дети! — погонял Яков, слегка покачиваясь на облучке, и «дети» неслись, взрывая рыхлые сугробы… Дух захватывало… Что-то свежее, бодрое разливалось по жилам…
А «погода» все усиливалась. Над полем ложился сумрак. Тяжелые тучи облегали небо. Ветер свирепел…
— Эй, приуныли, голубчики!.. — понукал расходившуюся тройку Яков, молодцевато посвистывая и помахивая кнутиком… И тройка неслась… Колокольчики стонали {18} и захлебывались… Пристяжные отфыркивались от снега, влипавшего в их горячие ноздри… Под полозьями скрипела морозная дорога… Вешки серыми пятнами мелькали сквозь клубы снега…
Проехали пятнадцать верст. Потянулась длинными рядами изб Большая Березовка. Сумрак сгущался… Из свинцовых туч, низко прилегших к земле, повалил снег; ветер крутил его и разгонял по полю… Лошади начинали уставать. Колокольчики звенели порывисто, словно нехотя…
— Не ночевать ли нам, Яков, а?
— Ну… с чего… Тут, по реке-то, до Россошного доберемся…
До Россошного считалось семь верст.
— Ступай до Россошного!
Опять выехали в поле. Дорога виднелась только под копытами лошадей и становилась тяжелою. Повеяло сильным холодом. Быстро вечерело…
Добрались кое-как до Россошного. Оставалось восемь верст… Дорогу положительно завалило… Посоветовались мы с возницей: "Что делать? Ехать без проводника немыслимо, ночевать не хочется, — пути-то немного осталось…" Порешили искать проводника. Остановили лошадей среди улицы, и Яков пошел по ряду изб, уж кое-где мигающих огоньками.
Поиски оказались неудачными: все было мертвецки пьяно ради прощеного дня, а если и попадался трезвый, то или запрашивал нелепые деньги, или прямо посылал нас "к черту"… Яков сообщал мне о неуспехе, но не бросал попытки и все ходил по окнам.
А темь все надвигалась да надвигалась. Становился настоящий вечер. Снег до такой степени усилился, что с одной стороны улицы не было видно другой… Только огоньки смутно мерцали в окошках. Впрочем, вблизи было видно, — тьма была какая-то серая…
— Как же быть, — нету… — подошел ко мне Яков.
— Ну что ж, делать нечего — надо ночевать… Иди разыскивай ночлег.
Пошел мой возница с просьбой о ночлеге… Я сидел в санях и терпеливо дожидался его, с напряженным вниманием вслушиваясь в плаксивое завыванье вьюги… Редко, редко прерывалось это завыванье: смутно до-{19}несется залихватская песня, исполняемая пьяным голосом где-то далеко, на краю села… отрывисто звякнут колокольчики от нетерпеливого движения коренной, и опять монотонное, ноющее завыванье…
К саням подошел Яков и еще кто-то в плохом корявом зипунишке.
— Вот берется проводить за два рубля!
— А ты не пьян? — обращаюсь я к зипуну, с трудом отрываясь от тоскливых звуков вьюги.
— Росинки в рот не брал… — отвечает зипун, хватаясь за шапку. В голосе какая-то истома чудится, от всей фигуры веет беспомощностью и крайним смирением…
— Ну ладно. Как же ты, верхом, что ль, поедешь?
— Да поедемте ко мне, там видно будет… Вот у свата был, прощался… — неизвестно для чего прибавил он, мешковато усаживаясь на облучке.
Тронулись. Едем. Зипун кажет бесчисленные переулки. Ветер рвется и воет в тесном пространстве и назойливо заворачивает воротник моей шубы. Лошади поминутно прерывают рысь в глубоких сугробах… Наконец избы редеют, и видно уж чистое поле.
— Далеко двор-то твой?
— Да вот неподалеку… — ежась и укутываясь в свой дрянной зипунишко, чуть слышно отвечает мужичонко.
Подъехали к концу села. Одинокая избушка из необожженного кирпича стоит на отлете, краем к крутому оврагу. К одной стороне избы прилеплено что-то вроде хлева. Давно покинутая борона с похиленными зубьями придерживает ветхую крышу на избе, а ветер, дико воя, как бы негодуя на слабую преграду, щетинит и рвет из-под бороны черную, полуистлевшую солому. Бедно… глухо…
Трубы на крыше не было. "Знать, по-черному", — подумал я.
— Слезайте, погрейтесь покуда…
— Ну, это, пожалуй, не лишнее!
Я стряхнул с себя снег, налегший густым слоем, и направился в избу. Толкнул дверь в сени… Она подалась с каким-то жалобным скрипом, снег ворвался за мною… Ощупью я нашел другую дверь, — та была на более гладких петлях и не скрипнула. Тихо я вошел в избу. Удуш-{20}ливым, гнилым воздухом пахнуло на меня. Я остановился у порога. Ребенок плакал где-то в темноте, слабо скрипела колыбель…
Плач этого ребенка поразил меня: мне не доводилось слышать таких тоскливых, таких ноющих ноток… Это не было капризное хныканье избалованного ребенка, это даже не было выражением требования чего-либо. В нем, в этом еле слышном, тягучем плаче, изредка прерываемом таким же тихим, беспомощным всхлипыванием, так и чудилась за сердце хватающая жалоба, жалоба на долю, на судьбу, на ту неумолимую судьбу, что бросила в гниль, тесноту и голую, бесшабашную бедность чистое, ни в чем неповинное создание…
С пеленок — мученик.
Вой ветра в разбитую оконницу как-то странно подлаживал к детскому плачу: он то порывисто заглушал его, то, как бы под сурдиною, рабски следил за скорбною нотою… Утешая и убаюкивая, в тон и гармонию с этим душу надрывающим дуэтом, слышалась песня матери… Правда, не песня, а причитанье какое-то…
Баю-баюшки-баю, Баю дитятку мою… Ходит котик ночевать, Мою дитятку качать…Я кашлянул.
— Ах, господи!.. Кто-й-то? — спросил слегка встревоженный женский голос.
Я рассказал в чем дело. Баба засуетилась, нашла светец; я услужил ей спичкой, и мы соединенными усилиями, зажгли огонь. Теленок, привязанный у печки, заревел благим матом и отчаянно запрыгал, — вероятно, обрадовавшись свету… Под ногами шелестела мокрая, перегнившая солома.
— Ох, и погода же!.. Да куда ж вас несет экую пору?
— К Панкратову.
— Ишь ты, ближний свет!.. — Баба покачала головой. — Право, оставайтесь… Да я и Гришку не пущу… Ну, долго ли до греха!.. Вы уж лучше ночуйте; я бы соломы настлала… в сенцах свежая есть. {21}
Я отказался. Она слезливо посмотрела на меня и молча отвернулась к окну, за которым все выше и выше поднимался сугроб.
Ребенок умолк; хрипливое, тяжелое дыханье доносилось из колыбели. Баба, подгорюнившись, стояла, прислонясь к печке. Вся она была какая-то жалкая… Выражение беспомощности и тоскливой покорности застыло на некрасивом, испитом лице… В голосе слышалось уныние и редко-редко прорывалась какая-то детски брюзгливая злость. У ней было много общего с мужем.
— Что ж, маслену-то весело гуляли? — спросил я.
— И, батюшка, какое уж тут гулянье… На соль не хватает… Мука, почитай, на исходе, а до новины-то два раза ноги протянешь… Не до гуляньев тут…
С печки робко свесилась детская головка.
— Много у тебя детей-то?
— Да вон мальчонка, пяти годочков, — указала она на головку, тотчас же юркнувшую в темноту, — девчонка еще, да грудной вот… Болеет все, нудится… Господь-то не прибирает его.
Баба тихо вздохнула.
Вошел Григорий и шумно сбил снег с мерзлых лаптей. Зипун был подпоясан, в руках пеньковый кнутишко.
— Ну, едем, что ль? — обратился он ко мне, стараясь не глядеть в сторону жены.
— Пожалуй…
Я поднялся с лавки.
— Гриша, куда же ты едешь в такую вьюгу?.. Ишь, творится-то что… Ведь беспременно заблудишь…
— Небойсь, не сблужу, — отозвался Григорий, недовольно морща брови.
Баба понурилась и тихо стала качать колыбель: ребенок опять заныл. Мы вышли из избы.
Сдержанное всхлипывание послышалось сзади нас. Григорий порывисто отворил дверь в избу и вошел в нее. Я остался среди темных, как погреб, сеней.
— Да ты, Ариша, не плачь, — донеслось до меня, — тут дорога-то известная, а коли не затихнет — я и заночую у Панкратова…
— Право, не ехать бы… Вон Бодрягин-то, Захар, замерз на всеедной… {22}
— А дома много высидишь?.. С голодухи, что ль, издыхать?.. Сама знаешь… Два целковых на земи-то не валяются: это ведь деньги!.. Не кажинный день так-то…
Дальше следовал шепот. Я отворил дверь в избу.
— Сейчас, сейчас… — засуетился Григорий, спеша вызвать на лицо подобострастную улыбку и подтягивая истрепанный кушачишко.
— Не погодить ли нам, пока утихнет, а?
Тревога показалась в глазах Григория, баба — и та как-будто испугалась…
— Что ж, воля ваша… — как-то потерянно мямлил он, — по-моему, сейчас бы… Нечего время проводить… Она сейчас-то бы лучше, пожалуй, езда-то…
— Да я тебя все равно возьму провожатым, хоть и совсем стихнет, дорога незнакомая, а все-таки ночь… — поспешил я его успокоить.
Дело уладилось. Я выкурил две-три папиросы. Вошел мой Яков, потерся у печки, посушил варежки и опять отправился к лошадям. Григорий то и дело выбегал "смотреть погоду"; каждый раз она, по его словам, была "кажись, ничего"… — Чем дольше я сидел в избе, тем больше он тревожился, тем больше ему не сиделось на месте…
Наконец поутихло. Мы вышли из избы. Григорий вывел из хлева маленькую, шершавую лошаденку и собирался садиться на нее. Так как вешки ясно виделись по дороге, и подземка несла чуть-чуть, то я сказал ему, чтобы он привязал пока лошадь сзади и садился в сани. Он было полез на тесный облучок.
— Садись со мною рядом, а то Якову будешь мешать, — остановил я его.
Уселись. Поехали. Сквозь туманные обрывки туч кое-где светились звездочки и синелось небо. Морозило. Снег неистово скрипел под санями…
— Тут Калинкины дворики придут, — промолвил Григорий.
— Скоро?
— Версты четыре, а то и меньше…
Дорога, часто усаженная соломенными вешками, тянулась около реки. Влево — река, вправо — чистое поле… Лошади скоро уморились: снег доходил им почти до колена. Полозья врезaлись… Поехали шагом. Яков то {23} и дело похлопывал рукавицами. Григорий бочком сидел около меня и посматривал, по сторонам.
— А, должно быть, плохо тебе живется, Григорий? — обратился я к нему.
— Чего уж… — Он помолчал немного. — Оно бы и ништо, да вот хлебушко-то… Недостача все… А там ребятенки малы, все сам да сам… Баба тоже хворает, с самых родов… Животом жалится… молоко вот тоже пропало.
— Да ты бы свозил ее к акушерке, что ль, — небойсь, есть земская-то?
— Ну, уж куда там!.. В позапрошлом году так-то бачка помирал… Тоже научили, это, к дохтуру… Приехал я, а он стоит на крылечке, перчаточки надевает — таково сердито! — должно, малы они ему… Тройка тут готова, ямщик… К вашей милости, говорю… "Что?" — спрашивает… Вот — умирает, колотье замучило… Указываю, это, на бачку-то — он в телеге под войлочком лежит, невмоготу ему слезть-то… "Некогда, говорит, пойди к фершелу"… Взял да укатил, только я его и видел… Ну, посмотрел я, это, ему вслед, да еще себя выругал… Для нас ли этот народ заведен! — только присловье одно… Пошел к фершелу… Ну, фершелок, известно, пьяненький: дал чего-то в пузырьке, — пои, говорит…
Григорий замолчал.
— Ну что же, полегчало?
— Кому? Бачке-то? — спохватился он, — известно, помер… Где ж полегчать!.. Дорогой-то еще дюжей его разбило — в два конца-то, почитай, сорок верст… А уж работник был, царство ему небесное, и-и… — он покачал головой. — Как жив-то был — мы все-таки супротив других не плошали: два работника!.. Ну, а теперь, что ж, плохо… Завезешь, завезешь хлебушка с поля… Ну, думаешь, ноне до новины перебьюсь… ан не тут-то было!.. Там продашь на подушное, там за земельку купцу надоть, там засыпку в магазей… туда-сюда, глянь — до поста-то великого еле-еле протянешь… Да и то уж впроголодь. Кабы коровенка — все бы сподручнее…
— Разве нет коровы-то?
— Летось с укциону продали… Барину тут задолжал — не отработал…
Григорий вздохнул.
— Оно бы все ничего, да вот ребятенки-то… Груд-{24}ной-то нудится-нудится, тоска… С утра до ночи ноет… Известно, кабы молочка, глядишь — и справился бы… Теперь вот телочку добыл: у соседа корова сдохла, я ее и взял; две меры ржи отдал…
— Чем же вы маленького-то кормите? — удивился я.
— Махонького-то? Да чем… хлебушка нажуешь с солью…
Он замолчал и старательно начал оправлять полость, покрывавшую мои ноги.
Холодный ветерок подувал в лицо. Он опять понемногу усиливался. Обрывки туч снова сплотились и заслонили редкие звездочки.
Вьюга опять закрутила.
— Калинкины дворики виднеются! — послышалось восклицание Григория, ехавшего впереди. Он поравнялся с санями. Лошаденка его, сплошь занесенная снегом, беспрестанно отфыркивалась и трусила мелкой рысцою. Зипун тоже покрылся белым слоем.
— У… понесло-то!
— А что, Григорий, не перегодить ли нам в двориках? — закричал я ему, — может, опять поутихнет.
— Что ж… Тут знакомый мужичок есть, Андреян Семеныч… Заедемте… Изба чистая…
— Ну ладно!
Переехали какой-то сугроб. В избах замерцали подслеповатые огоньки. Зашумели ветлы около полузанесенных дворов…
Калинкины дворики стояли среди чистого поля; река отходила от них версты на полторы. Все это сообщили мне после. К Панкратову я прежде ездил по иной дороге, минуя дворики.
Мы поравнялись с длинной избою. Два окна выглядывали на улицу и освещали ее. Григорий подошел к окну и постучал; послышались расспросы… Наконец дверь скрипнула, и нас впустили. Где-то на дворе залаяла собака…
Я вошел в избу. Это была просторная сосновая изба, чистая, теплая, с деревянным полом, с «белою» печкою. На столе, накрытом грубою скатертью, лежал непочатый каравай ситного хлеба и стояла деревянная резная соло-{25}ница. В высоком деревянном подсвечнике горела сальная свеча.
Меня встретил хозяин. Это был высокий, статный мужик, с красивым, открытым лицом, с большою русою бородою. Сильная проседь серебрилась у него в волосах; серые глаза глядели умно и насмешливо… По тонким губам бродила какая-то подмывающе-бодрая, слегка лукавая усмешка… Вообще в нем сразу что-то располагало, — есть такие симпатичные лица.
Поздоровались. Я снял шубу и подошел к столу.
— Аль по нужде какой едешь? — спросил меня Андреян Семеныч, бережно вешая мою шубу ближе к печке. Голос у него был приятный и добродушный, но опять-таки с легким оттенком насмешливости.
Я ответил ему, куда еду. Он слегка покачал головой и, накинув полушубок на плечи, вышел из избы. Колокольчики звенели где-то на дворе.
На задней лавке что-то прибирала сморщенная, но бодрая и чрезвычайно подвижная старушка; с палатей выглядывали веселые русые головки детей.
— Что ж, у вас семьи-то только? — спросил я старуху.
Она чуть заметно улыбнулась.
— Нет, сын есть. Да он с женою пошел прощаться к тестю… Должно, гостюют.
Вошли Григорий и Яков, за ними Андреян Семеныч.
— Раздевайтесь-ка да полезайте на печку… Я обсушу зипуны-то… Ты, Григорий, разувайся да положь в печурку лапти-то, они поколева пообсохнут… Ишь, барин-то вас умаял как…
Он насмешливо взглянул на меня.
— Старуха, поищи-ка винца, там, должно быть, осталось; налей ребятам-то по стаканчику…
Старуха засуетилась. Ребята чинно выпили водку и, утеревши полою губы, полезли на печь.
— Ты не выпьешь с дорожки-то?.. Небойсь прозяб… — обратился ко мне Андреян Семеныч.
Я отказался.
— Ну, да оно знамо… — опять-таки насмешливо сказал он, тщательно отряхая Григорьев зипунишко, — шуба-то твоя не этому чета… Мороз-то не вот скоро влезет.
Возражать было нечего… Я посмотрел на часы. {26}
— Много до полночи-то? — спросил Андреян Семеныч.
— Да теперь семь часов.
— Стало быть — пять осталось. Лошадям овса-то надыть? Сенца мы дали.
— Нет… Может, погодка поутихнет, — поедем.
— То-то, смотри… А то овес есть.
— Много считаете до Панкратова?
— Тут хоть и недалеча, версты три, да дорога-то блажная: мало-мальски погода поднимется, ни за что не доедешь… Прогалок-то большой: как не попадешь к Панкратову, так и езди пo степи до самого Битюка; уж там в лес уткнешься — по ту сторону реки будет…
— Ты кто, из дворян, что ль? — бесцеремонно добавил он, развешивая зипун перед горячим «устьем»…
— Нет, не из дворян.
Андреян Семеныч как-то неопределенно промычал, но тон его сразу стал и доверчивей, и добродушней. Он обстоятельно расспросил меня про мое жительство, мои занятия, про крестьянское житье в Малой Березовке (село, около которого я жил), которая была известна во всем уезде благодаря большому винокуренному заводу, носившему название Березовского.
— Да что, Андреян Семеныч, — ответил я ему на последний вопрос, балуются мужики, в Березовке… Пьянство все усиливается, живут плохо… Воровство завелось.
— Т-э-к… — задумчиво протянул Андреян Семеныч, — да, надо правду сказать, народ дюже стал слабее, чем в наше время, — продолжал он, — кабаки эти пошли, и дележи, и воровство… Всего вдосталь!
— Отчего же это, Андреян Семеныч?
— А уж бог ее знает с чего! — Андреян Семеныч развел руками. — Я помекаю так: все от голодухи больше… Ты вот погляди на наш поселок: живем мы, слава богу, покедова — в достаче, ну и не заметно, чтобы пьянство, алибо что… И народ у нас дружнее, мирское дело не продаст, не пропьет… А ты, вон, погляди в Россошном у них, — он кивнул в сторону Григория, выбрали они ходока, за луга стараться, — соседи у них луга отбили, — что ж ты думал?.. — взял этот ходок да за две сотенных документы и продай суседским!.. Вот они как мирское дело-то понимают. {27}
— Это верно, — подтвердил Григорий, — Кузьма Семеныч у нас есть, теперь кабак открыл, с нового года.
— И приговор ему дали? — удивился я.
— Дали. Старикам поднес восемь ведер, ну и дали…
— А луга так и остались за соседями?
— Как же, известно, остались… Летось, петровками, какая драка из-за них была!..
— Ну вот… — развел руками Андреян Семеныч. — У них, чтоб какого-нибудь согласия промеж себя, и не спрашивай… Всяк по-своему, порознь… Только одно и есть мирское дело — мирские деньги пропить… Это они давай!.. И так у них заведено еще: всех дворов в селе около двухсот будет.
— Более, дядя Андреян, — перебил Григорий.
— А то еще и более, а всеми делами десять аль двадцать мироедов ворочают… Мироед и на сходке, и в волостной, и в кабаке… И как ведь это у них: чуть мужик справится, зашибет где ни на есть копейку, так сейчас и норовит суседа закабалить… И тут уж его бойся… А вот у нас на поселке дворов двадцать есть, да как все мы по капиталам-то ровны, у нас закабаливать-то и некого…
— Ты мне вот еще растолкуй, Андреян Семеныч, — сказал я, — вот вы, барские ведь, кажется, были?
— Барские.
— По сколько у вас на душу земли-то?
— Три с осьминником.
— Ну, вот в Большой Березовке однодворцы живут, у них по пяти десятин на душу приходится, а живут они — почти полсела побирается, отчего это?
— Ты нас в расчет не клади… Мы еще отцовским нажитием сыты, это вот с воли-то маненько поупали, а то зажитнее нас в округе не было.
— Ну, не вас, так взять других барских, все они живут справнее однодворцев…
— Это правда, что супротив барского однодворец не вынесет… Перво-наперво, работает он куда плоше нашего, под страстью не был, барщины не знавал, а другое дело — избалован… Ну, вот теперь и расплачивается…
— Не равен однодворец, не равен барский, — отозвался Григорий, — вот тоже оленинские барские, а живут-то никак еще хуже нас, грешных… {28}
— Да, оленинские точно что плохо… — сознался Андреян Семеныч.
— Да, видно, всем не меды, — добавил он после некоторого раздумья, куда ни погляди, горе одно… Что барские, что однодворцы…
Он сел к столу и, садясь, хватился за спину.
— Эка поясница-то одолевает… Должно, все палочки отзываются…
Он как-то, не то зло, не то весело, усмехнулся.
— Какие палочки? — удивился я.
— Да как же! Меня ведь сквозь строй гоняли…
Я заинтересовался.
— Вона!.. Я ведь бывалый… И Сибири, по барским щедротам, отведал и палочек… В Томской четыре года выжил.
— Да за что же это?
Мне что-то не верилось в эти ужасы, глядя на его спокойное, добродушно усмехающееся лицо.
— Да все воля эта, пусто бы ей… Ишь, мы до воли-то на Битюке жили… Може, слыхал — Калинкин барин есть, производителем он теперь… Ну, мы его крепостные были… Угодья у нас были — одно слово… Ну, и лес, и река подле… Заказу ни в чем… Жители мы были еще исстари: мой дед-то чистоганом двести золотых батюшке покойному оставил… Вышла, это, воля. Барин нас и вздумай переселить на эту вот самую «Сухопутку»… Мы, известно, заартачились, ходоков выбрали: я пошел, да еще тут два мужичка. Ушли, как водится, таючись… Однако с Рязани воротили нас, — ишь, не порядок… Пригнали домой по этапу… А уж тут вышло распоряженье ломать… Как так? — не закон, ребята… Сбили мир, порешили не давать… Ну, значит, бунт… Солдат пригнали на постой к нам… Свиней, кур, телятишек, душат не судом! Одно слово — разор… Терпим… "Что ж, хотите по добровольности переселяться?" — спрашивают… "Нет, не хотим…"
Андреян Семеныч воодушевился. Добродушная насмешливость исчезла из его глаз, и в них засветилась какая-то злоба…
— Ты сам рассуди, — обратился он ко мне, — жили мы при всех угодьях… Сады, это, у нас разведены, пчельники, рыбная ловля, луга заливные, и вдруг на! переселяйся… Тут ни леску, ни речки — уж колодцы Калин-{29}кин порыл… Какая это воля!.. Работали-работали на них, корпели-корпели, а тут на "Сухопутку"!..
Ну, стало быть, как сказали, это, мы, что не хотим, велели избы ломать. Мы в колья… А сами, значит, еще нарядили ходока, — Архип был у нас мужичок, шустрый такой… Услали мы его, а сами стоим на одном. Порешили не поддаваться до конца… Ну немного годя пригнали тут на нас две роты, усмирять, значит… Мы было опять в колья… не тут-то было. Ну, знамо, сила! супротив нее что поделаешь… Скорились мы… наутро собрали нас всем миром на выгонок… Солдаты, это, в два ряда выстроились, — с палками стоят… нас кругом оцепили, с ружьями… А над селом просто стон стоит, — бабы с ребятишками рев подняли… Ну, думаю, плохо дело, закатают на смерть… Стали выкликать… выходи, говорят, зачинщики… Переглянулись мы, это… молчим… еще кой-кто сказал: мы все зачинщики… А коли все, так всех сквозь строй гнать… с первого до последнего… что ж, думаю, двум смертям не бывать… перекрестился, вышел… Я зачинщик, говорю… Валяй его, кричат… Начали руки связывать… Пусти, говорю, я и так пройду… ну, все-таки связали; повели… Прошел раз… жгется. Ничего, что дальше… Ведут другой раз… Ну, закатают, думаю… Повели в третий, не стерпел очумел… так замертво и упал… Бросили… тут я уж ничего не помню… Ишь, еще троих водили, да человек двадцать розгами секли… — А избы, знай, ворочают: все на «Сухопутку» сгоняют… Взяли тут нас четырех прямо в больницу… Оттуда вышло решенье в Томскую, в Сибирь, на поселение… Затосковал я: уж переселяться бы как следует, а тут гонят… Ах ты, пусто бы вам! Ну, что тут малый без меня поделает?.. Однако делать нечего, сила солому ломит, плетью обуха не перешибешь… Взял я с собою старуху, пошел. Одиннадцать месяцев нас перли! Со мною деньжонки, спасибо, были, нам-то и вмоготу, а то бы беда!.. Ну, пригнали нас на место. Оглянулись мы, видим, сторона не плохая, пожалуй что и нашей не уступит… Что за притча, думаем, вот тебе и Сибирь!.. Снял я тут мельничонку у мужиков, дело-то это мне сподручное: свой ветряк был на "старине"-то… Мельница хоша и водяная попалась, ну, разница в них небольшая.
Обжились… Глушь такая, что боже упаси!.. Город — двести верст… Село от села — сто… Поселок — пять-{30}десят!.. Жить то способно, вольно… Лесу — сколько хочешь, рыбы — тьма… Всего вволю!.. Я уж подумывал сына вызвать туда…
— Что же, вызвал? — спросил я.
— Случай такой подошел, я вот тебе расскажу… Сошелся я там с начетчиком одним, тоже сосланный был… Ума — палата!.. Век я его не забуду…
Андреян Семеныч слегка задумался и вздохнул. Старуха подошла к столу и сняла пальцами нагоревший светилень.
— Это ты про Самсон Гаврилыча? — спросила она.
— Про него… Эх, душа был человек!.. Ну, вот он-то и отсоветовал мне сына выписывать… "Скорей всего, говорит, вам прощенье выйдет… Человек ты денежный, тебе везде будет хорошо, а пуще того в своих местах… А тут жить-то пожалуй, и вольно, только тоска тебя задушит: человек ты пришлый, своих местов ни в жисть не забудешь…" Послушался я его. И только с той поры одолела меня тоска: все дожидаюсь, скоро ли отпустят в Расею… Не найду никак места, да и шабаш!.. А тут старуха скучает, — кропчится… Что ты будешь делать!.. Так я у этого начетчика и дневал и ночевал… Заберусь, бывало, к нему… Хата, это, чистая, белая… сядем и ну толковать. Сначала по хозяйству: как помол, как что… а там уж и по-душевному… Заскучаю я станет читать мне, — читал он страсть как внятно, вразумительно… И все больше одно место читал, — от тоски, говаривал, помогает… Вон оно у меня замечено, сын-то маленько грамотен…
Андреян Семеныч кивнул на божницу.
Я взял книгу, лежавшую там, и развернул: то было евангелие.
— Ну, прожили мы там четыре года… Воротили нас… Пришли мы уж сюда, на «Сухопутку»… Вижу, малый женился, ребятенками обзавелся, обстроился как след, все в порядке… Я тоже принес маленько деньжонок: скопил в Томской да и родительские еще оставались… Ну, вот и живем, пока бог грехам терпит.
Андреян Семеныч ласково взглянул на меня и усмехнулся; ему, видимо, нравилось мое напряженное внимание и мое сочувствие.
— А что, дядя Андреян, — послышался с печки голос Григория, — земли там довольно, вволю, в Томской-то? {31}
— Куда еще больше! И земли и лесу.
— Эх, кабы жена не хворала да деньжонок на дорогу, — ушел бы туда!..
Андреян Семеныч задумался.
— "Сладки гусиные лапки!" — "А ты их едал?" — "Я-то не едал, да мой дядя видал, как наш барин едал!" — сбалагурил он, усмехаясь. — Эх, Григорий, без денег да без силы и там пропадешь!.. Поставь плотника без топора, срубит он те избу-то?.. А в Томской такие места: тут рупь нужно там пятью не обойдешься… Тут ты один вот, хоть плохо, да все копаешься, а там впору с семьей, не то одному… Кабы сообча с кем, ну так… Да и то! Андреян Семеныч махнул рукою. — Вон тамлыцкие — вконец разорились… Туда уж еле дошли, а оттуда всю дорогу побирались… И тут-то все распродали, не знать, как и быть теперь…
— Отчего же это? — полюбопытствовал я.
— С дуру-ума. Броду не спросились, — в воду полезли… Уж если переселяться, так надо умеючи: сперва ходока послать надежного, место облюбовать да закрепить его как ни на есть, може оно казенное аль хрестьянское… Ну, опосля на это место-то дворов пяток справить, ну, а там уж и можно… Зря-то ничего не делается, милый ты мой…
Все мы молчали. Сверчок трещал где-то за печкою. Со двора слабо доносился шум ветра…
Я взглянул на часы: было десять. Григорий все уговаривал ехать, — он, кажется, боялся за свои два целковых, — на том и порешили.
Хозяин от денег отказался: "Може, я когда заеду к тебе, — авось обогреешь", — сказал он мне, добродушно усмехаясь. "Аль, може, неловко мужика-то в гости?" — добавил он, уже смеясь. Я, разумеется, принялся разуверять его и на прощанье крепко пожал ему руку. Руку он мне подал неловко, и удивился, когда я крепко сжал ее: по его мнению, это было «лишнее».
Мы выехали. Около дворов как будто стихло, но это объяснилось переменою ветра: когда проехали дворики и выехали в поле, там несла страшная вьюга… Ворочаться {32} назад не хотелось, да к тому же думалось, что за три версты можно ощупью добраться.
Сначала все шло хорошо. Попали на дорогу, хотя и полузанесенную, но все-таки отличавшуюся твердостью от рыхлого поля. Отдохнувшие лошади, похрапывая, бодро шли навстречу ветру.
Проехали с версту.
Мне показалось, что под санями не прежняя ровная дорога; я не счел нужным заметить это Якову, предполагая, что могла попасться какая-нибудь случайная поверхность. Григорий едва заметным пятном виднелся впереди.
Сани сильно затолкало. "Что это?" — крикнул я Якову; тот нагнулся с облучка и всмотрелся: оказался вспаханный косогор, с которого почти весь снег снесло ветром. Подъехал Григорий.
— Как быть? — Сбились…
— Вижу, что сбились. Как полагаешь — далеко от двориков отъехали?
— Да, думается, версты две…
— Куда ж теперь ехать?
— Надо попытать вбок ветру, — должно, прямо попадем.
— Ну, ступай вбок ветру.
А вьюга, как бы сердясь за непрошенное соседство, завывает все резче и резче, и целыми тучами валит снег на сани…
Въехали на какие-то жнива: снег лошадям выше колена. Пристяжные пугливо жмутся к оглоблям, колокольчики как-то жалобно перезванивают. Поехали шагом, чтобы вконец не изморить лошадей. Едем час, другой… — нет и признаков жилья, а давно бы пора.
— Где же Григорий?
— Да он впереди все ехал… Не видать что-то… — Ну-ка, остановись.
Лошади, после легкого усилия со стороны Якова, стали как вкопанные; пристяжные сиротливо понурили головы… Григория нет.
— Покричи-ка, Яков.
— Гри-го-рий! — выработывает мой возница охрипшим басом. {33}
— Гри-го-рий! — подсобляю я ему.
Нет отзыва. Звук наших голосов замер, как в склепе. Только вьюга порывисто гудела в ответ и несла все новые и новые горы снега. Около саней образовался сугроб.
Невольная дрожь проняла меня… Какая-то смутная тоска ложилась на душу… Понемногу закрадывалась мысль об опасности серьезной…
Буря несла какими-то прихотливыми порывами: то завоет, застонет, закружится, — то стихнет. Чудилось что-то дико-осмысленное в этой игре с человеческой жизнью, в этой забаве кошки с мышкой.
Вот она сразу стихла: чуть слышно голосит ветерок, взвевая маленькие облачка снега. Но сверху, с туманных, тяжелых туч снег падает и падает… Казалось, не будет конца ему… И полость, и шуба моя, и армяк Якова — все завалено… А снег все падает и падает… Какое-то мучительное чувство, чувство постепенной отчуждаемости от жизни овладело мною при виде этих беспрерывно падающих мириад крутящихся снежинок, при виде все возвышающихся час от часу сугробов вокруг саней и лошадей.
— Двинь лошадей, Яков, — засыплет!.. Лошадей погнали; они рванулись и стали… Колокольчики жалобно и глухо звякнули…
Пробую закурить сигару — спички тухнут: отсырели.
— Гри-го-рий? — взывает Яков с тоскою в голосе.
Нет ответа… Снег падает и падает… Я начал немного зябнуть… Яков, по колено в снегу, ходил около лошадей и раздражительно оправлял сбрую; изредка крупная ругань выдавала его душевное настроение.
Тьма висела над полем. Не та черная, осенняя тьма, про которую говорят "хоть глаз выколи", а серая, туманная… Темные предметы резко обозначались в этой тьме…
Понесла опять вьюга, свирепая, дикая… Поле снова застонало. Лошади прозябли и, без всякого понукания, двинулись. Яков пошел позади… Колокольчики, от настывшего на них снега, издавали какие-то деревянные звуки.
Григория след простыл… Мне невольно вспомнились его детишки мал-мала меньше, хворая жена… "Поехал ли бы он провожать меня, если бы у него были в кармане {34} эти несчастные два рубля?" — подумал я. "А тебя-то куда черт нес?" — помимо моей воли встал неутешительный вопрос. "Кто тебе дал право рисковать жизнью людей?.." — "Два рубля дали мне это право…" — как-то сам собою сказался иронический ответ, и больно стало на душе…
Спускаемся куда-то под гору… Ниже, ниже и, наконец, погружаемся в сугроб… Лошади стали. Приходилось вылезать из саней; делаю попытку — по пояс!.. Снег в калошах, снег за сапогами…
После дружных усилий и энергичных понуканий лошади вывезли из сугроба порожние сани… Мы сели в них, на этот раз рядом и плотно до невозможности. Холодная бешено воющая мгла окружала нас… Снег на ногах у меня таял, дрожь охватывала все тело.
А Григорий все на уме… Я опять призываю его надорванным голосом: "А-э-й!" — слышится не то смутное эхо моего возгласа, не то завыванье вьюги… Еще раз кричу — ни звука…
Мною овладевает какая-то апатия: как будто ко сну клонит, но я не сплю… Яков сосредоточенно молчит, и только что-то изредка шепчет… Должно быть, нещадно ругает и меня, и вьюгу, и все… А может, и не ругается, а вспоминает что? Может, мать свою вспоминает, суетливую, словоохотливую старушку? Или свою незатейливую крестьянскую обстановку, с ее рабочими буднями, с ее праздниками "на улице", где до ранней зорюшки тянется то тоскливая, то ухарская песня, слышится топот трепака, треньканье балалайки, звонкий хохот девок и молодиц… Может, и возлюбленную какую вспомнил, с черной соболиной бровью, с высокою, крепкой грудью, с любовными речами где-нибудь в душистом коноплянике или у плота на берегу широкой тихой речки, в которой ярко отражается жаркое летнее солнышко?.. Кто его знает…
Все холоднее становится телу…
Я высоко приподнял бобровый воротник моей шубы и накрылся им совсем, с лицом. Отрадное чувство теплоты охватило меня. На миг я вполне отдался этому чувству, — как будто вьюга не ревела, снег не падал тучами с неба… Крепкая ругань Якова вывела меня из этого полубессознательного состояния… "А ведь замерзнем", — промелькнуло в голове… Жгучая тоска по жизни охватила меня… {35} Жизнь эта казалась такой полной, такой осмысленной… Все ее горе, все ее невзгоды отступали в какую-то недосягаемую даль…
Воспоминания, одно другого заманчивей, зароились в голове… То вспомнится далекое детство… Яркая зелень муравы на лужайке… Звонкие голоса детей, играющих на той лужайке… Залитый белыми пахучими цветами вишенник в саду… Веселый птичий гам в далекой роще, — там, за садом… Тихая река, поросшая коблами и зеленым камышом; за рекой — поемные луга с бесчисленными, блестящими как зеркало, озерами, необъятная даль, подернутая сизым туманом, и над всем этим привольем — чудно сверкающее майское солнышко…
— Ну! окаянные, — остановились! — сердито кричит Яков на лошадей, и сани порывисто ныряют из сугроба… Воротник мой распахивается, и холодный снег летит в лицо… Я снова старательно закрываю его, снова нагреваюсь дыханием, и снова заманчивое прошлое встает предо мною…
Встает хуторок, затерянный в глуши. Безграничная степь кругом того хуторка. Далекие курганы, темными очертаниями пестрящие горизонт, и над всем этим простором — горячее синее небо и глубокая, невозмутимая тишь… А то покосы вспомнятся… Темные пятна бесчисленных копен, разбросанных по зеленому простору… Величавые стога… июньские темные ночи… Огоньки у косарей… стройные песни… далекий отзвук лошадиного ржания… перекликанье перепелов в нескошенной траве, и глубокое-глубокое небо с ярко горящими звездами…
Как бы хорошо улететь и остаться там — в этой чудной стране былых впечатлений, былых радостей!..
Холодно… Я еще крепче прижимаю воротник к лицу и усиленно дышу… На мгновение опять становится тепло, и опять встает далекое прошлое… Над степью горит заря в полнеба… Вдали замирает тоскливая песня… воздух полон ароматом подкошенной травы… У студеного колодезя в ложбинке стоит она, моя первая любовь, — Дуня… Любовно и пытливо смотрят ее серые глаза из-под темных длинных ресниц… Отблеск зари весело сверкает в тех глазах… Смуглый, здоровый румянец покрывает щеки… высокая грудь трепетно волнуется под туго стянутой завеской… грубая, рабочая рука крепко и застенчиво {36} жмет мою руку… "Аль ты меня любишь?" — порывисто шепчет она, наклоняясь к моему лицу… "Люблю, моя дорогая красавица…" Горячие губы обжигают меня… Мои руки крепко сжимают трепещущий стан… до боли крепко… А песня снова тоскливо дрожит где-то вдалеке, вызывая глухой, едва слышный отзвук…
Где-то она теперь, эта Дуня?.. Работает ли, и день и ночь не разгибая спины, обшивая и мужа и детей, поспевая и на жнитво в поле, и на молотьбу в риге, и на поденную работу к купцу иль к барину?.. Надорвала ли она свои молодые силы на этой ежедневной, ежечасной работе, и сгинула ль ее девичья красота, и здоровый, смуглый румянец заменился зеленоватой бледностью, а высокая, крепкая грудь высохла как щепка, или вынес все невзгоды железный организм, и она по-прежнему бойкая, статная, красивая?..
А холод уж пронизывал меня насквозь… Тело дрожало и ежилось под сырым платьем. Воротник, на несколько минут согревший меня, не помогал уже… Я отворотил его от лица.
Вьюга опять немного стихла. Яков покрикивал на лошадей. На сероватом фоне волнующегося снега показался лес, дремучий-предремучий…
— Яков, сходи-ка, что за лес, — не сад ли панкратовский?
Яков идет… Я с лихорадочным нетерпением всматриваюсь в его удаляющуюся фигуру.
— Это бурьян!.. — чуть слышно доносится до меня его крик. — Должно межа аль залоги…
— Марево, — как-то сосредоточенно выговариваю я… Какая-то разнеживающая усталость овладевает мною… В голове — хаос… требуется сильное напряжение воли, чтобы связать этот хаос, чтобы выработать, выдавить из него какую-либо разумную мысль… Этой способности к напряжению не оказывается…
— А-э-й! — слышится из мглы, на этот раз явственно и громко.
— Гри-го-рий! — кричим мы в два голоса.
Впереди что-то зачернело.
— Ты, Григорий?
— Эй, добрые люди!.. {37}
К самым саням нашим подъехала заиндевевшая, лохматая лошаденка; на розвальнях, в которые она была впряжена, белелась какая-то безобразная масса. Из саней вылез тулуп и подошел к нам; снял шапку.
— Здравствуйте… Откелева будете?
— Здорово… Блудим вот… с Малой Березовки… Ты чей?
— Будиловский… Ехал на станцию, тоже сбился…
— Куда держать, как думаешь?
— Держать беспременно на ветер надоть: тут неподалеку либо Тамлык, либо Красноярье должно быть.
— Ну, едем вместе!
— Теперича, знамо, вместе. Авось бог милостив…
Тронулись. Лошаденка, фыркая, шла за нашими санями. Меня клонило ко сну. Желая во что бы то ни стало избавиться от него, я решительным движением руки совсем отворотил воротник… Снег бросился мне в лицо; щеки защипало… Теплое дыханье лошаденки коснулось моей шеи и полилось отрадной струею по спине…
Протяжный гул едва слышно раздался из мглы… Вот еще…
— Это колокол! — радостно вскрикнул Яков и ударил по лошадям.
Поехали на гул. Он становился все ближе и ближе, все слышней и слышней… Лошади, словно почуяв близость жилья, бодро стали переступать по сугробам… Под санями почудилось что-то твердое… Попалась наклоненная ветром растрепанная соломенная вешка… Мы выехали на дорогу. Сонливость мою как рукой сняло…
Скоро черными пятнами показались избы. Колокол все гудел и гудел… Темный высокий силуэт церкви показался перед нами; чуть-чуть сверкнул огонек около нее. Мы направили лошадей к этому огоньку, — оказалась сторожка.
Перезябший, занесенный с ног до головы снегом, я бросился из саней в эту сторожку. Блок на двери пронзительно заскрипел…
С печи свесились чьи-то ноги в лаптях, а потом выглянула оттуда и вся фигура…
— Григорий! Ты тут?..
Обрадованный Григорий соскочил с печи и принялся разоблачать меня. {38}
— Ну, слава богу… Так и думал — замерзли, — торопливо говорил он. Полезайте на печку скорей…
— Да ты-то как сюда попал?
— Плутал, плутал, да и заехал сюда… Я уж тут давишь… тоже насилу отогрелся…
— Это Красноярье?
— Какое там Красноярье — это аж Малый Яблонец!
Я удивился: от Калинкиных двориков до Яблонца считалось пятнадцать верст…
Старые маленькие часы, шипя и как-то захлебываясь, пробили четыре.
"Шесть часов под вьюгой", — подумал я и полез на печь.
Скоро вошел и Яков с новыми спутниками. Их было двое — старик и мальчик. Лошадей поставили под дровяной навес около сторожки. Пришел и сторож, отставной солдат-преображенец, хромой и седой, но еще свежий старик. Он объяснил, что Григорий разбудил его в два часа, рассказал в чем дело, и он сейчас же отправился звонить в колокол, по опыту зная, какое это хорошее пособие для заблудившихся в степи во время вьюги.
Все обошлось благополучно. Никто из нас даже и носа не обморозил, вероятно благодаря тому, что с самых двориков дул талый, полуденный ветер и стало опять морозить уж недалеко от Яблонца.
Измученный впечатлениями адской ночи и пригретый теплой печью, я задремал…
Спал я немного: сдержанный говор разбудил меня. Я открыл глаза. Керосиновая лампочка без стекла коптила потолок, разливая темно-багровый, мигающий свет. Часы проворно тикали; где-то мурлыкала кошка; кто-то пронзительно храпел…
Говор слышался с палатей.
— Стало быть, ты, таперича, ходоком будешь от обчествa? — задавал вопрос сиплый баритон, очевидно принадлежавший сторожу.
— Ходок, ходок, братик ты мой, это ты верно… — отвечал ему добродушнейший голос с какой-то тягучей, плавной интонацией. {39}
— Куда ж ты, таперича, примерно сказать, бредешь?
— А бреду я, братик ты мой, в Томскую, — для осмотра, значит…
— Это, к примеру, насчет новых местов?
— Да, да. Мир препоручил на мою волю: осмотреть, разузнать: как земли, как что…
— Вы что ж, стало быть, целым селом норовите туда?
— Что ж поделаешь… — вздохнул ходок, — уж больно житья не стало… Никаких волей тебе нетути… Так и порешили — идти всем миром…
— Велико ваше село-то?
— Да душ около пятисот наберется.
Сторож глубокомысленно засвистал.
— Кто же вас пустит-то?
— Как не пустить… Ты сам посуди, братик ты мой, теперь вот почитай все село без хлебушка сидит… В кажинной избе хворый, либо два… На погост то и знай таскают… А с чего? — с голодухи… Подати еще за первую половину, за осеннюю, не внесёны, а тут уж за другую гонят… Что ж… поневоле уйдешь куда глаза глядят, не токмa в Томскую…
— Ведь они у всех одни — вол-то!.. А вот мы терпим… Хошь тяжело, кто об этом говорит, а все живем…
— Земельки-то у вас побольше, братик ты мой…
— Какое уж там!.. В одном поле сороковая, а в двух по тридцатке…
— Э!.. — протянул насмешливо ходок, — это вы жители… Еще, никак, леску малость есть?.. А вы вот поживите-ка по-нашему: полтридцатки в клину, окромя ни лесу, ни выгона… Да земля-то дермо!.. Прокормись тут-то… Мы скотинку-то, почитай с самого посева, на зеленях держим, — пустить некуда… уж и так она, сердешная, извелась совсем… Зимой опять: не то ей дать соломки-то, не то избу истопить — ребятишек обогреть… Одно слово горе!.. Весной, честь-честью, выедешь в поле с сохою, а пахать-то и не на чем… Свою еще туда-сюда, как-нибудь с грехом пополам всковыряешь, а вот как придется барину аль купцу отработывать зимнюю наемку, — ну, и плачь… Вот она, жизнь-то какая!.. Иной раз так-то и земельку повинишь, что, мол, хлебушка не рожает, а иной раз и подумаешь: с чего ей, матушке, рожать-то?.. Так-то, братик ты мой… {40}
— А небось кабак полон? — скептически заметил сторож, сплевывая сквозь зубы и расправляя чубуком трубки свои седые усы.
— Известно полон, — горячо заговорил ходок, — небось, брат, как горе-то навалится, не токмa что в кабак, в прорубь забежишь… Кабы оно, горе-то, какое часовое, наносное, так взялся бы за ум да опять справился… А то ноне голодаешь, а завтра еще пуще… Ноне у те коровенку ведут с двора, завтра — овец последних… Ноне хорош годок, да к посту хлебушка нетути, а завтра — он и вовсе, може, не родится… Вот оно что в кабак-то гонит, милый ты человек… Горе-то, оно вековешное… с шеи-то его не скопнешь: хошь ходи в кабак, хошь в рот капли не бери, все едино… хошь работай, хошь плюнь… А вино, сам знаешь, память отбивает: море по колено… Вот его мужичок-то и любит… А уж коли он в достатке — в кабак не пойдет: шкалик-то какой дома выпьет… Известно, уж пьянство — плохая статья, да сердце-то свое человек переломить не может, братик ты мой, а сердце-то у него вчастую кровью обливается… Ну, вот он ее и душит…
Ну, правда, — продолжал он, снова впадая в добродушный тон, — много есть и балуются, особливо молодые парни… Есть такие — стащит что попало, да в кабак… У нас, летось, одного мальчика осудили — в церкву залез… Ну, это, я так полагаю, от кабатчиков больше — сомущают… А малый молодой, пожить-то хочется, ну и липнет, ровно муха к меду… Эх, грехи, грехи!
— Что же это у вас земельки-то обмалковато? — перебил ходока сторож.
— Да мы встарину-то лесом владали — Будиловским бором… Без мала две тыщи десятин было… Да лес-то тот у нас казна отбила.
— Как же так? — заинтересовался сторож.
— То-то все простота… Ишь, ни плантов, ни документов нетути: лет, може, шестьдесят тому брали их в суд, они там и сгори, — в те поры вся архива сгорела… А лес-то был нам закреплен царицей Екатериной — грамота от ней была: владать нам веки-вешные Будиловским бором…
— Что ж, вы хлопотали?
— Как же не хлопотать!.. Я разов пяток в Питере-то побывал, все попусту!.. Тысячи три только своих приложили… Вконец разорились… Знамо, казна… Кабы другой {41} кто захватил, глядишь и взяло бы наше… А с казной — что поделаешь! — Ходок сокрушительно вздохнул. — Теперь один конец: новые места…" А то хоть ложись да помирай… Мир так и присудил: коли я облюбую землю, дворов тридцать сразу переселить, а остальных года через два…
— Кому ж ваша-то земля останется?
Ходок пренебрежительно махнул рукой.
— Пускай кто хочет берет… Толку-то в ней немного — почитай сто лет пашется без навоза… Може, купец какой засядет да под степь пустит, гурты отгуливать… Пускай уж разводятся, видно их, толстопузых, царство пришло…
В тоне ходока задрожали злобные нотки…
Говор затих. Сторож все покуривал трубочку и поплевывал. Ходок вздыхал и тяжело ворочался в глубине полатей.
— Что-то отец Афанасий нейдет, — пора бы и заутреню начинать? заговорил сторож.
Ходок ответил ему что-то, и опять сдержанный говор послышался с полатей. Но я уж не вслушивался в этот говор: дрема одолела меня…
Когда я проснулся, в оконце, густо запушенное морозом, тускло брезжил розовый рассвет. Ходок стоял среди избы и, благоговейно кладя поклоны, молился.
"Господи, владыко живота моего, — разносилось в полусумраке сторожки, — духа праздности, уныния, любоначалия, празднословия не даждь ми… духа же целомудрия, смиренномудрия, терпения, любви даруй ми, рабу твоему… Ей, господи, царю, даруй ми зрети моя прегрешения, и не осуждати брата моего…"
Я с любопытством оглянул молящегося. То был высокий, сгорбленный старик с огромной лысой головою, с бородою вплоть до пояса… Лицо было крайне простое и добродушное; в тихих голубых глазах светилась какая-то трогательная, детская наивность…
На лавке, прикорнув к какой-то кадушке, совсем одетый, спал мальчик лет двенадцати; на его белокурой кудрявой головке, на его полуоткрытом румяном рте почивало то же добродушие, та же беззаветная наивность, {42} что поражала так в лице ходока. Это был его внучек, с которым он ехал до станции и едва не замерз.
В сторожку стали набираться говельщики. Поп что-то запоздал: к заутрени заблаговестили, когда уж я выехал из Яблонца.
На дворе совершенно распогодилось. Ни одно облачко не застилало синего неба. Широкое сугробистое поле так и алело под лучами только что поднявшегося солнца. Крепко морозило. Отдохнувшие лошади, отфыркиваясь и прядая ушами, неслись как ветер. Колокольчики певуче будили степную тишь вперемежку с торжественными звуками яблоновского колокола. Откуда-то издалека еще доносился колокольный гул… Даль сверкала и сливалась с сверкающим небом… Чуть видно искрился крест на какой-то церкви… Позади нас, за Яблонцем, в сторону Битюка, чернелся лес и опять искрились два-три креста… А за лесом тонуло в алых лучах Красноярье, раскинутое на горе, синел Тамлык, до изб которого не добрались еще солнечные лучи, успев только зарумянить крутые столбы дыма, прихотливо поднимавшегося из труб…
Яков похлопывал рукавицами и весело покрикивал на лошадей. Григорий отстал и не спеша трусил на своей косматой лошаденке. {43}
III. От одного корня
Невесело живется на глухом, степном хуторе в позднюю, непогожую осень. Хлеб уж обмолочен, а пожалуй продан и отпущен, работ по хозяйству никаких нет, или и есть, да чересчур незатейливые — так, около двора больше: защитить хлевы камышом, прикрыть кое-где крышу, — вот и все. Сиди в четырех стенах, читай — если есть что, думай — если есть об чем, спи… А когда надоест все это, выйди за хутор да оглядывай широкий степной простор: не чернеются ли где, на далеком горизонте, лошадки, не ползет ли кто из знакомых разделить скуку… И — боже мой, что за радость обнимет хуторянина, если и в самом деле приползет какой-нибудь сосед!.. Будь тот сосед хоть ненавистнейший человек, он смело может рассчитывать на радушный прием у одуревшего с тоски и скуки хозяина.
Лет шесть тому назад мне пришлось на своей коже испытать всю прелесть поздней осени, да какой осени!.. Дождь лил не два, не три дня, не неделю, наконец, а целых два месяца. Казалось, не было конца ему. Наступил уж ноябрь, затем и он стал подходить к концу, а не было и признаков зимы. День и ночь низко ползли хмурые тучи над грязными, унылыми полями, в воздухе стояла какая-то гнилая, неприятная теплынь, и с утра до вечера моросил мельчайший дождь. Земля переставала всасывать в себя воду. Дороги казались уж не дорогами, а сплошными узкими и бесконечно длинными болотами, по которым шагу нельзя было ступить. Скирды немолоченного хлеба и ометы не чисто вымолоченной соломы покры-{44}лись густыми зелеными всходами: поросли. Озими начали подопревать… А зима словно сгинула…
Невесело жилось в деревне, а уж про мой заброшенный в степи хуторок, отстоящий от ближнего поселка более четырех верст, и говорить нечего.
Проснешься утром, по стеклам маленьких окон методично стучат дождевые капли, в комнате какой-то неприятный, кислый полумрак, — ни свет, ни тьма, — ну, думаешь, должно быть еще рано… Нет, какой там рано! — уж стрелка на часах приближается к десяти… Глазам верить не хочется…
— Семен! или уж поздно? — тоскливо взываю я.
— Да уж не рано, Николай Василич. У меня и самовар давно готов — два раза уходил, — отвечает Семен из-за перегородки.
— Ах ты боже мой!.. А дождь не перестал? — спрашиваю я, хотя и самому мне отлично видно, что по стеклам беспрерывно стекают дождевые капли, но так уж само собой спросилось: авось, мол, это мне только кажется, что на дворе ливень, а на самом-то деле его и нету, — может быть, с пелены, мокрой от вчерашнего дождя, льется вода по стеклам…
— Какой вам перестал! — сокрушительно докладывает Семен, — всю ночь-ноченскую шел, а с утра-то словно еще пуще… И откелево только он берется, прости господи!.. Все ометы насквозь пролило…
— Иль глубоко?
— Мы, давишь, еле дорылись до сухого-то…
— А ведь это плохо!
— Чего уж!..
— Вот то-то низко клали-то… Говорил ведь я — повершить бы еще разок, так нет: больно высоко, таскать носилки тяжело!.. Вот тебе и тяжело…
Семен энергично гремит стаканами. По-видимому, разговор становится ему неприятен. Ну и ладно…
Пью чай и курю, курю и хожу по своей небольшой комнатке, хожу и думаю: "Хорошо бы приехать кому теперь…" И представляется мне, что, пожалуй, кто-нибудь и приедет… Кому бы приехать? Может, Егор Василич соберется и притащит с собою гитару и карты?.. Славно бы время провели… Споем мы с ним меланхолическими голосами: "Среди долины ровныя" или "Виют витры" под {45} печальное тренканье гитары, затем, пожалуй, и удалую начнем: "Ах вы сени мои…" или что-нибудь подобное, и по обыкновению не кончим: как-то не ладятся у нас веселые песни… Поговорим о том, что когда же это, мол, пойдут морозы и наступит зима, поскорбим о судьбе несчастных озимей, о бездорожье, о вздорожании бакалейных закусок… Позеваем, повздыхаем сокрушительно, закусим чем бог послал, а на сон грядущий сыграем по маленькой в преферанс с болваном, и по окончании игры аккуратно запишем должок, мелком на притолке. На наличные мы не играем с Егором Василичем: человек он расчетливый и копейку бережет…
А то и Андрей Захарыч заедет и выложит новости со всего уезда. Расскажет, почему танюхинский целовальник, заведомый вор и грабитель, от острога избавился, свяжет причину этого избавления с новой шляпкой председательши Лупоглазовой или с вороным битюгом, недавно приобретенным самим председателем. Сообщит новый анекдот о Храпоткине, местном помещике и женихе, замечательном своею глупостью и громадным животом… Передаст свежеиспеченную остроту исправника Демокритова или смехотворнейшую выходку нашего enfant terribl'я 1 Микульского… Не забудет и про то, что мать протопопица тройню родила, в Головлеве на крестинах поп костью подавился, а в Ольховатке дьякон с женой подрался и ради этой причины в набат ударил, чем несказанно всполошил все село… Все, все расскажет! И опять-таки славно проведем время…
Немудрено, что и Семен Андреич приплетется и уж непременно захватит новые газеты, — журналами он пренебрегает и никогда их не выписывает, разве когда с картинками… Ну, уж это человек умственный и о протопопице говорить не станет. С ним мы и Мак-Магона продернем и прохвосту Гамбетте надлежащую встрепку воздадим… Не забудем и австрийского премьера и железного канцлера… Примем во внимание и министерство новое в Турции и волнения в Герцеговине. Как? Что? Почему? Чем кончится?.. Одним словом, все содержимое доброго десятка газетных нумеров с подобающим глубокомыслием взвесим, значение этого содержимого для судеб Европы {46} вообще и России, в частности, определим и о будущем помечтаем, причем сладко вздохнем и сплюнем, как обыкновенно делается, когда мерещатся бифштексы на голодный желудок… Поскорбим слегка и о настоящем, однако с достодолжной осмотрительностью и с надлежащей примесью упования. Вообще славно проведем время…
А что, если все трое?.. Что, если?.. Вот бы… Я радостно вздрагиваю и начинаю усиленно ходить и курить… Того гляди приедут… Отчего же им и не приехать?..
— Эка льет-то, батюшка! — вздыхает Семен за перегородкой. "Гм… льет… А ведь и в самом деле льет!" И я гляжу упорно в окно, а за окном будто какие нити тянутся сверху, и нету тем нитям конца. Очевидная нелепость моих предположений встает предо мною воочию… Радостное ожидание сменяется какою-то ленивой злобою, и опять хожу и курю, хожу и курю… Туман в глазах, туман в голове, во рту какая-то горькая, вяжущая скверность, на сердце — тоска… А дождик — тук-тук, тук-тук… А маятник тик-так, тик-так… И главное — все это постукивает не спеша, размеренно, хладнокровно… Именно хладнокровно, как будто так думая: к чему спешить, торопиться, времени у нас довольно на то, чтоб свести с ума любого миндальника-оптимиста… О господи!..
С Семеном бы, что ли, поговорить?.. Да об чем с ним говорить?.. Сгорели «они» до тла в позапрошлом году. — Знаю… Мальчишку пятилетка у него лошади задавили. — Знаю… Жена к Чумакову приказчику сбежала. Знаю… Мир целовальнику надел отдал в аренду за недоимки — знаю… Чахотка у него развивается. Работать он почти не может. — И, это знаю… Все знаю… И не о чем мне говорить с Семеном.
Порывисто беру какую-то книжонку и начинаю читать. Нет — темно. То есть оно, пожалуй, и не совсем темно, читать-то и можно бы, но… О господи!..
С твердою решимостью, вероятно несколько удивившею Семена, преспокойно подшивавшего подметку к старому сапогу, я напяливаю кожаное пальто и выхожу за хутор. Дождь как будто поутих; по крайней мере он уж не льет, а только моросит, то есть стоит в воздухе в виде мельчайшей пыли… Дует влажный, пронизывающий ветер, наклоняя к земле мокрый бурьян на межах, щетиня соломенную крышу хуторских построек… До далекого {47} подернутого легким туманом горизонта тянется ровное, как скатерть, грязно-желтое, печальное, неприветное поле… Ни деревушки, ни кустика, ни бугорка… Все это появляется на горизонте только в ясные дни.
Около самого хутора пролегает неглубокая ложбина, в которой шумит и трепещется мокрый камыш. Невдалеке, в этой же самой ложбинке, морщится маленькими грязноватыми волнами узенький прудок, запруженный полуразмытой плотиной, которую только, кажется, и сдерживают своими корнями молодые ветелки, сиротливо распростирающие по сырому воздуху свои мокрые, голые ветви… У пруда — небольшой лужок с поблекшей травою, низко прибитой к земле, долгими, непрерывными дождями.
И над всем этим нескончаемой вереницей тянутся угрюмые, синеватые тучи…
И так-то изо дня в день, изо дня в день!
В один из таких сумрачных дней, когда я только что начинал пить свой утренний чай, совершенно неожиданно скрипнула дверь, и за перегородкой послышался тихий голос:
— Дома хозяин-то?
— Где ж ему быть? — вопросом же ответил Семен.
— Кто там? — спросил я, внезапно воспрянув духом.
— Мы, Миколай Василич, — вваливаясь в комнату, ответил мне неожиданный гость. Это был мужик из соседней деревушки Березовки, Василий Мироныч. Я, конечно, обрадовался ему, как только может обрадоваться человек, почти обезумевший со скуки. Мы сейчас же вплотную подсели к самовару и завели длиннейшие разговоры. Но прежде расскажу, что за мужик был Василий Мироныч.
Ему было лет за пятьдесят. Благообразное, умное лицо, обросшее большой светло-русой бородой, степенная тихая речь, открытый взгляд серьезных серых глаз — все это располагало в его пользу, заставляло если не чувствовать к нему особой симпатии, то уважать его, а главное — верить ему, его всегда строго обдуманным и непременно имеющим какое-нибудь практическое значение рассказам, советам и рассуждениям. Именно — практическое значение, потому что все его рассказы, советы и рассужде-{48}ния вертелись исключительно на почве непосредственной, так сказать осязательной, пригодности. Все, что не соприкасалось с этой пригодностью, — не пользовалось его уважением. Оно было либо лишнее и вообще «блажное», либо такое, о котором нам, темным и грешным людям, говорить не след. Одним словом, он был не из тех, которые, мечтая о журавле в небе, выпускают синицу из рук. Мне даже всегда почему-то думалось, что и эта пословица, а также и много иных в таком же духе, вроде "своей рубашки" и "всяк за себя", — выдумана и пущена в ход непременно Василием Миронычем. Не этим, не березовским, конечно, а другим, который, может быть, во времена удельных междоусобиц проживал где-нибудь около Твери либо Рязани…
Вот за эту-то «синицу» я хотя и уважал Василия Мироныча, но любить его не мог, — просто инстинктивно не мог любить… Странно, что не я только один относился так к Василию Миронычу. И на миру его уважали, даже отчасти побаивались, почти всегда слушали, но любить опять-таки не любили.
— Каков мужик Василий Мироныч? — спросишь, бывало, какого-нибудь березовского обитателя, и обитатель, не задумываясь, ответит;
— Мужик умнейший… Обстоятельный мужик…
Другой, пожалуй, прибавит: "ума — палата", «деляга», "кремень", даже «справедливым» мужиком назовет, но никогда не отзовется как о "душевном человеке", о «мирском». Купцы и помещики почему-то звали его "серым министром",
Мужик он был зажиточный. Богаче его, кажется, не было в Березовке: впрочем, нужно добавить, что быть первым богачом в Березовке значило не очень много. Было у него штук пять лошадей, — правда, очень порядочных, местной битюцкой породы, — две или даже три дойных коровы, с полсотни овец, рига изба-двойня. Были и деньжонки, хотя, конечно, по-нашему очень небольшие — сотни три, четыре, — но по крестьянству немалые. Он каждый год снимал у меня десятин по семи под посев, а плательщиком был исправным. Были в нем и торговые замашки. Так, недавно выстроил он рушку, а к ней пристроил и помольный постав. Мельницы водяные от нас не близко, а потому дело его пошло хорошо. При постройке {49} рушки он был сам за мастера, а уж откуда научился этому мастерству, требующему немалых познаний, сказать положительно не могу… Слышал я как-то, что жил он исключительно для этой выучки где-то на мельнице простым работником, но жил очень недолго. Я думаю, что поставил он рушку и пустил ее в ход только с помощью своей необыкновенно острой сметки и какой-то врожденной способности к математическим вычетам и расчетам.
Впрочем, слово «необыкновенный» я, пожалуй, употребил неправильно. В среде торговых мужиков, мещан и тому подобных людей, которых принято называть теперь всех вообще «кулаками», эта самая сметка и эта способность к чисто математическим вычислениям встречаются очень часто.
— Вот беда с осенью-то, Василий Мироныч!
— Что поделаешь — божеское произволение!.. — сокрушительно вздохнул Василий Мироныч, отирая чистым ситцевым платком вспотевшее лицо.
— Зеленя-то, кажется, подопревают…
— Как не подопревать, известно — подопревают… Кабы знато, сев-то попоздней бы начать…
— Да я и не знаю, Василий Мироныч, к чему спешили? Ведь вы, вон небось, еще до первого спаса ржи-то свои отсеяли…
Василий Мироныч сдержанно улыбнулся.
— Нешто угадаешь?.. Известно так огадывали: пораней посеешь, зеленя-то будут кустистей, ан по заморозкам скотине корм… Вот вышло-то не по-нашему… Меня и то попрекают севом-то, — добавил он.
— Кто?
— Свои, мужики. Мы, бывало раньше успенья не севали… Так уж исстари… А ноне, как на грех, я и начни до первого спаса, ну, за мной и все… А теперь вот… Просто горе!..
— Ну, чем же ты-то виноват!
— Поди ж ты вот!.. А тут, как на смех, Трофим… знаешь?
— Кузькин что ль?
— Ну, ну… Так он обапол Ивана постного отсеялся — как, говорит, старики севали, так и я, — не дураче нас были…
— По его и вышло? {50}
— По его и вышло! — засмеялся Василий Мироныч, — зеленя-то у него еле-еле землю закрыли, ну, и ничего — не преют… Мужики-то и сбились на его сторону… Известно, чтo мужик? Мужик — дурак!.. Куда ветер потяня туда и он…
Было заметно, что Василий Мироныч засел на своего любимого конька. Он хотя и не горячился, но говорил с заметным одушевлением; я, конечно, старался почти не прерывать его: благо разговорился, что с ним бывало не часто.
— И вот я тебе скажу, Миколай Василич, не дай-то господи в мирские дела встревать… Окромя худого, ничего не выйдет… Одно огорчение…
— Да какое же огорчение, Василий Мироныч? Что-то я не соображу…
— Как какое? Так скажем — один убыток… Пытали мы эфто!..
Василий Мироныч опять отер пот, обильно проступавший на его высоком лбу, и попросил налить еще стаканчик.
— Годков десять, пожалуй, будя, еще ты на хуторе-то на эфтом не сидел, и занеси меня нелегкая в ходоки… поверенные то ись, — поправился он. — И что я греха претерпел, скажу тебе — страсть!..
Я недоумевающе взглянул на него:
— Ну, уж и греха?
— А ты как думал?.. Одно слово — склыка… Возьмем, к примеру, подводу. Надоть куда по мирскому делу ехать — подводы нет!.. Бьешься, бьешься… И к старосте-то, и к десятскому, — нет тебе подводы, да и шабаш!.. Иди, мол, к Прохору, его черед… А к Прохору придешь, — не мой черед, говорит, я онадысь свой отбыл: к становому сотского возил… Ступай к Аношке!.. А у Аношки, глядишь, одна кобыла, да и та ожеребилась только… Что ты поделаешь?.. А уж чтоб за Аношку кто поехал — и в уме не держи!.. Не такой народ… Да так-то ходишь, ходишь, бывало, по порядку, да ни с чем и воротишься… Ах, пусто бы вам!.. Ведь раз, что ты думаешь, так и отмахал на своих на двоих до города!
— Это пятьдесят верст-то?..
— А как ты думал!.. Вот он, мир-то…
— Да ты бы уж свою-то лошадь?.. {51}
— С чего ж эфто убыточиться-то? — с легким оттенком обидчивости возразил Василий Мироныч. — Это, надо прямо сказать, расточителем быть свово добра… Ты ее оторвешь, лошадь-то, от работы — ан рупь… Да еще кое время… А то и целковым не отделаешься… Их, целковых-то, на добрых людей не напасешься!..
Василий Мироныч попросил налить еще стаканчик.
— Аль теперь возьми ты сходку… тоже мир собрался… мир, — повторил он иронически, — а я так полагаю, один эфто беспорядок и больше ничего… Теперь мы с тобой… аль купцы где соберутся… по делам. Один говори, другой слушай… А там другой заговорил… На мой сгад кабыть так. Теперь сходка… Кто во что горазд!.. Тот свое горланит, тот свое… Рази это порядок?.. Одна смута…
Я вполне согласился с ним.
— А уж поналягут в чем — сполняй!.. У тебя, можа, дела — посев там на стороне аль коммерция какая торговая, а ты с бадиком по окнам ступай: десятским аль становому самовары ставь; да эфто еще не беда — хорошему человеку услужить, — мгновенно поправился Василий Мироныч, — мир, мол, порешил — скоряйся!.. То ли вот купецкое дело! — ни тебе мир, ни тебе…
— Да ведь и у них и общество, и выборы, и всё…
— Что обчествo!.. Сравнил… У них так: зах-отел ты там, ну, к примеру, в головы, аль куда, ну обчество… А не захотел — живи себе особняком… Заплатил там, что причитается, и свят… Ни ты кого, ни до тебе никому делов нету… А ведь тут, ты тo подумай, — связа!.. Ты хочешь на гору, а самое это обчество-то тебя за ногу, да за ногу… Никакого антересу нету… Ну, возьми теперь землю. Кабы особняк-то у меня был, что мне?.. В раз бы я ее и навозцем угодовал, земельку-то, и ветелочек бы насадил кое место, а посеял-то бы чем хотел… Ну, а теперь — шалишь! Я вот в позапрошлом году гречишки малость посеял, — так, осьминник, — так что ж ты думаешь, ведь так и сгинула дуром!..
— Вот тебе на! Как же это она сгинула?
— А вот распорядки-то наши мужицкие всё… мир-то эфтот… обчествo-то…
Василий Мироныч даже рассердился.
— Да что же с гречихой-то сделалось? {52}
— Скотина разбила…
— А пастухи-то чего ж глядели?
— А пастухам что?.. Кабы свое, ну — так… Да что пастухи… Их тоже винить нечего… Одно дело — не углядишь, особливо свинью, а другое… Вольно ему, говорят, гречиху сеять, коли во всем клину ее нет… ради его осьминника не проклажаться тут… Что поделаешь-то? — Мир!.. А я еще, признаться, гречишки-то у Чумакова, Праксел Алкидыча, две мерки выпросил на семена… Уж такая-то ядреная была, такая-то ядреная!..
Василий Мироныч легонько вздохнул и опрокинул верх донышком порожний стакан.
— Э-э… ты что же это, любезный?.. Что, Миколай Василич, признаться, распарился — невмоготу…
— Ну вот там, распарился!..
Я опять стал наливать ему.
— Ну что с тобой делать, чай пить — не дрова рубить… Наливай, видно, еще!..
— Вот ты, Василий Мироныч, все толкуешь, что ваш мирской порядок не хорош, особняк лучше, мол… Ну, как же ты тогда хоть со скотиной-то обошелся-бы?
— Это ты насчет чего? Насчет кормов, что ль?..
— Да. Теперь вот гуляет она стадом по всей мирской земле1, ей и способно, а как же она будет вертеться на пяти-то десятинах, на особняке-то?
— Зачем вертеться… Да я у тебя же корма сниму… Были бы деньги, а то кормов хватит… Еще повольней мирских.
— Ну, ты, положим, снимешь, а другой кто? Ему, может, не на что снять-то? Василий Мироныч удивленно взглянул на меня.
— Заработает… запашет там, аль еще чего сработает…
— Заработок на другое нужен… А вот на корма-то нету?..
— А кому какое дело? Наживи… Кто не велит… Я ведь нажил, ну и он наживи…
— А может, у него в башке-то поменьше твоего, — нажить-то?.. Иль счастья ему нет…
Василий Мироныч окончательно рассмеялся.
— И вздумал что, Миколай Василич!.. Ах-ха-ха!.. {53}
Теперь, по-твоему, выходит, ежели, значит, у тебя есть, а у меня нет, так пополам?.. Ах-ха-ха!.. Ну, шутник!.. — Василий Мироныч даже блюдечко с чаем опустил на стол, чтоб не обжечься. — Это, значит, ты будешь спину мозолить, а я спать до отвалу, и чтоб заработок поровну?… Ай да Миколай Василич, ловок…
Василий Мироныч так непринужденно и добродушно смеялся, что и я не утерпел — тоже засмеялся.
— Ну, вы-ы-думал…
— Постой, постой, Василий Мироныч!.. Погоди смеяться… Ты что это так, задаром, с бухта-барахта нищему подаешь? Может, он спит себе, когда ты ему на краюху хлеба-то вырабатываешь, спину мозолишь?
Василий Мироныч сразу перестал смеяться и отвечал мне уж совершенно серьезно:
— Это особь статья… то — старчик, а то…
— А ты ему что за работник, старчику-то?
— Нет, Миколай Василич, ты не туда ведешь… Ежели я старчику подам, это уж все одно, к примеру, как для души… спaсенье и все такое… Тут совсем иное дело… Так сказать надо — божественное… Мы бога помним, и старчику завсегда с нашим удовольствием… Не разорит… Это ты, Миколай Василич, прямо надо сказать, не к делу…
Василий Мироныч принялся допивать отставленное было блюдечко.
— Теперь я землепашество совсем забросить хочу, Миколай Василич, после продолжительного молчания заговорил он, развязывая кумачный шейный платок и осторожно вешая его на спинку стула, — хочу маслобойку завесть, да свиньенок набрать малость, в корм…
— Что ж, дело хорошее; выйдет ли толк-то? Говорят, с маслом плохие дела стали.
— Это верно, что плохие, — равнодушно проронил Василий Мироныч.
— А как плохие, так зачем же заводить? — удивился я.
Василий Мироныч снисходительно усмехнулся.
— Наше дело-то не тo, Миколай Василич!.. Наше дело маленькое… Ну, а маленькое-то, пожалуй, и пойдет себе… {54}
— Мне кажется, все равно: маленькое оно или большое, масло-то не самому есть… продавать надо, а оно вон дешево!..
— Зачем самим есть… Всего не поешь… — добродушно рассмеялся Василий Мироныч.
Во время смеха у него около глаз показывались мельчайшие морщинки, что производило очень приятное впечатление.
— Ты тaк теперь возьми — семя когда поспевает?
— Ну, известно, поздно.
— Ну, а подат гонят? В одно, почитай, время? Так ли я говорю?.. Значит, деньги мужику надыть… А маслобоек то у нас, вблизу нет, стало быть, сам товар выбирай, сам цену становь… подходит — наш, не гожается вези куда знаешь… А то ишшо как можно пристроить… Ну, известно, не с нашими капиталами. Можно загодя деньги выдавать под сами-то, особливо своим, деревенским…
Я напомнил Василию Миронычу пример соседа-арендатора, который, года три тому назад, завел маслобойню, и, несмотря на выгодную покупку семени, бросил ее, но Василий Мироныч не урезонился, хотя и не усмехнулся на этот раз.
— Это Егор-то Василич?.. Опять — иное дело… Человек он не деревенский, будь я на его месте, и не подумал бы маслобойку заводить… Потому по нонешним временам да ежели в эфтаком деле круг большой, прямо надо сказать — пропaсть!.. А по малости ежели, с осторожною, ну, она и ничего… Вот нашему брату мужику идет… Потому мы в селе… Теперь хошь бы масло. Нешто я повезу в город-то его продавать — своим добром называться, как Егор Василич?.. Я его дома, по селу оченно даже много распущу, масла-то… Знамо — не на деньги, — в долг… А возьму-то опять не деньгами, а либо работой, либо семем, как барышней… А то добром своим кланяться!.. Они, известно, рады прижать нашего брата, купцы-то… Им это на руку…
Василий Мироныч окончательно разгорячился.
— Теперь возьмем Егора Василича… Куда он жмых девал? — Смехота… Коров выдумал кормить, чтоб молока больше давали… А мне что ее, корову-то, раскармливать, коли никакого антересу от эфтого нет?.. Шило на {55} мыло переводить?.. Нет, шалишь! А купи он свинью, да купи-то опять-таки с умом, потрафляй, куда какая идет: коли к немцу, — на круглоту напирай, нужды нет, что невеликонька, в Москву ежели — бери крупную и чтоб не подлыжеватая была, а в Доброе аль в Лебедянь — опять иную… Вот и раскармливай ее, свинью-то! Свинья выручит… особливо по нонешним временам, ишь ее как немцы-то подчишшают, успевай подавать…
— Да, немцы действительно цены на нее подняли; вот уж другой год, кажется, они к нам приезжают?..
— Другой. И теперь самых этих немцев никак упускать невозможно… Одно слово — скупай и спушшай, скупай и спушшай… Свиньи хватит… Свинья, это прямо надо сказать, — хлеб!.. Это не корова… Да и уход за ей самый, можно сказать, пустяшный… Дал ей спервоначала лузги да мучицы малость… Заправил ее, да жмыхом, жмыхом-то… Ноне жмыху распарь, завтра — просянки, ноне — жмыху, завтра — просянки… Она выручит, брат, она свое отдаст!.. А то корова!.. Какой от ей барыш? — Так, пустошь… Деньгам перевод… — Вот и разочти, — немного успокоившись продолжал Василий Мироныч, — кое масло, кое жмых, кое рушка… помольный постав… Один барыш!.. Знамо — уж судержать себя нужно в строгости, чтоб… Ежели что в долг зря… аль опять в товаре передача… ну там, работникам вперед — ни боже мой!.. Одно слово, надо с умом… Да ноне опять и из эстого хорошо… Как что, сичас в волость… Ну, писарю там… Старшине… чтоб, значит, рука… И уж тут без опаски. Да чего тут, — благодушно добавил Василий Мироныч, — с нашим народом еще можно жить… С полa-горя… Народ, так надо сказать, не дюже набалован… Совесть знает… Не то что какой чтоб оголтелый… Особливо коли с ним по правде, по-божески… Кровь-то из ево не пить… А то ведь есть и наш брат… Сущий Ирод!.. Норовит тебе мужика-то по миру пустить…
Мне показалось немного странным суждение Василия Мироныча об Иродах; на мгновение я было даже заподозрил его искренность в защите мужика, но одного взгляда на его лицо достаточно было, чтобы убедиться в этой искренности. Вполне убедиться…
— Одно вот сомущает меня, Миколай Василич, грамоте я не обучен… {56}
— Я и то удивляюсь тебе, Василии Мироныч, как это ты не забудешь своих счетов, не перепутаешь!..
— Это что говорить, — я памятлив… Бога гневить нечего… Только все-таки сподручней бы… Особливо с маслобойкой, — дело мелкое: кому фунт, кому полтора… Как тут запомнить!.. А в эфтой мелочи, в фунтах-то, самый барыш и есть… Аль опять расчет… Возьмем хоть свинью, — без расчета с ей никак невозможно… За много куплена, сколько проела, почем пуд легла, как тут без грамоты-то сведешь?.. Просто иной раз в тоску вдашься… И на родителей-то, признаться, попеняешь: чтоб хоть к дьячку, все бы блажей… Не в пример способней ежели письменному… Пытал я еще с молодых годов, чтоб самому обучиться… ну, цыхярь одолел, да на том и стал… Где ж!.. Ученье хорошо смолоду… Вот теперь сынишку в выучку отдал…
— Куда?
— Аль ты не слыхал? Ведь мы ученицу наняли…
Это было для меня новостью. Я знал, что Василий Мироныч чрез посредство своего знакомца, волостного писаря, хлопотал одно время в земстве об открытии школы в Березовке, но хлопоты эти успехом не увенчались, несмотря на то, что березовское сельское общество соглашалось, не только дать помещение для школы, но даже платить часть жалованья учителю. О причинах этого неуспеха толковали разно. Из компетентных источников мне не удалось узнать об них.
— Где же вы разыскали эту учительницу? Земство, что ль, прислало?
— Какое те земство — пропадай оно совсем с потрохом, — свою наняли!..
— Как же это так?
— Да как бы тебе сказать… с неделю, что ль… пожалуй, с неделю. Сижу я у Гераськи в избе, уж огонь засветили, глядь, в оконницу стучит кто-й-то… Ну, окликнули… просятся ночевать… Чьи будете, спрашиваем… "Тамлыцкие…" Куда едете? "С Воронежа, с богомолья, барыня, ахфицерша…" Пустили… Вошла она в избу, разделась… такая разбитная, хоть куда… С нами, это, сразу разговор завела… Про хозяйство, хлеба… Одно слово бой. Не из самых так чтоб из молодых, а ничего… Отец, говорит, в Тамлыке трахтер содержит, вдовый… И она вдова: ишь, {57} за каким-то ахфицером, что ль, была… Гутарим, это, мы, а робятенки посередь избы толкутся… С эстого и речь повелась… "Что вы, говорит, робят грамоте не обучаете?" Как же их учить-то, мол? Сами не горазды, а училище — десять верст почитай… Самим чтоб завесть — невмоготу… Начальство тоже в резонт не принимает… А мы — всей душой… Тоже понимаем… темный человек, к примеру, аль письмённый!.. Слово за слово… она и скажи: "Есть мое такое желанье, чтоб, значит, робят обучать, хотите ваших буду?.." А тут на огонек-то еще кой-кто из суседей подошел… Она, это, нам всем объявила… Мы было, признаться, и усумнились: не насмех ли, мол?.. Ну нет, — взаправду… Как не хотеть, говорим, только первое дело — невмоготу… заломит, думаем… А она на это нам: "Ну, в эфтом, говорит, мы с вами, старички, сойдемся, коли избу мне отведете, чтоб особняк значит, ну, харчи еще, — вот и ладно… а обучу как след, — с отца рупь…" Чего лучше?.. Только вот барыня-то ты, говорим, може в харчах не угодим как… Смеется. И так это она нас улестла, так улестла… Враз мы с ей и покончили: рупь с головы, хватера и харчи… Думаем, чего лучше? Клад в руки дается… Наутро мы ей и хватеру сготовили.
— Где ж вы ей особняк нашли?
— А Степаниды солдатки… Изба-то у ней хоша невеличка, зато чистая… да и топится по-белому… А самое Степаниду к Трофиму Кузькину… Чего ей? — Старушка… абы на палатях место было, да хлебово какое ни на есть, тюрьки там аль еще чего… А к ученице сестра Трофимова, Алена, перебралась… Видал? — девка-то… Уж она невеста, поди…
— Видел как-то на жнитве…
— Ну вот!.. Она ей и печку истопит и самовар согреет… Девка промзительная… И ее стала грамоте учить! — засмеялся Василий Мироныч.
— Это вы хорошо сделали, что учительницу наняли… Еще деды наши говаривали: ученье — свет, неученье — тьма…
— Истинно — тьма… Я говорю, свинью возьмем!.. Что ты с ей без грамоты-то поделаешь?.. Аль опять в долг товар распустить… Никак эфтого темному человеку учесть невозможно, а самый тут в эфтом учете и барыш… Да что {58} свинья!.. Куда ни кинь, везде письменному способнее… Условие там писать аль к мировому… Уж в торговом деле никак без эфтого невозможно… Аль опять насчет цен… Вот я как-то, по осени, у Чумакова был, так он те словно по писанному: в Москве цены стоят вольготные, говорит: туша по том-то, мука по том… А в Ростове дела замялись, с овсом без спросу, пшеница ни по чем… Просто диву дашься!.. А все — грамота… Вот мальчонка-то обучится и — подсоба… А там пошпынял его маненько по домашности, да в город, в лавку… Пускай к купецкому порядку приобыкнет… А уж в хрестьянстве — только грех один… Конешно, уж мое дело не молодое, сохи не бросишь, сызмалетства с ей… А что самое подходящее по нонешним временам — торговое дело… Ты сам рассуди: в старину хрестьянство аль ноне!.. В старину-то земли девать не знали куда… Лошадей косяками водили… скотины тьма-тьмущая… А ноне ни тебе земли, ни тебе лугов аль лесу… Одно слово — теснота… Какая уж в хрестьянстве жисть, — склыка одна… И ты посмотри: коли человек тверезый, обстоятельный, — уж он тебе сичас круг заводит… Аль рушку, аль свиней почнет кормить, овец накупит… А не то так посевом займется: у мужиков сымает, у купцов… Аль еще что ни на есть… абы от мира подальше… Я тебе говорю: один грех — этот мир… Как ни то: поналечь ежели, спить ведра два, тяготу какую ни на есть наложить, — это так, эфто они могут, старички-то поштенные, миряне-то эфти… а коли ежели заступа какая нужна — к примеру, кто изобидел тебя, купец ли, помешшик, аль свой брат мужик, мир-то и не при чем… ступай к мировому, либо в волость… Одна тягота да грех, а чтоб заступы… никакой… окромя с тебя же сопьют…
Э-э, Миколай Василич, — спохватился Василий Мироныч, взглянув в окно, за которым уж густели вечерние тени, — загутарился я с тобой!.. А ведь приехал-то за делом!.. Почем у те земля-то под яровое пойдет?.. По-летошнему, аль уступишь?.. Запиши-ка мне десятин пяток… Да полтинничек-то скинь… пра! Я ведь оброшник-то твой верный…
Я записал Василию Миронычу пять десятин ярового, причем скинул ему полтинничек, потому что «оброшником» он действительно был верным, и, несмотря на отсут-{59}ствие всяких письменных условий, ни разу не просрочил, ни разу, что называется, не объегорил меня. Впрочем, я где-то уж сказал, что и крестьяне величали его "мужиком справедливым"…
Кажется, уже в начале декабря начались морозы. Грязь на дорогах превратилась в безобразные комья, твердостью равные железу. Ветер, до тех пор постоянно дувший с юго-запада, с "гнилой стороны", переменился и подул с севера, с Москвы. Тучи все по-прежнему тянулись над печальными полями, но они уж были не синеватые, дождевые, а серые с молочно-белыми окраинами. Мелководные пруды и речки начинали замерзать; особенно замерзали те, которые лежали в крутых или поросших лесом берегах, — в затишье. Целые стада лошадей, коров и овец появились на замерших озимях, разнообразя мертвенно-унылый вид окрестностей.
Зима все еще не приходила. Случалось иногда, что тусклое небо еще более потускнеет, еще гуще и плотнее надвинутся мрачные тучи, и снег мелкими, твердыми, как кристалл, звездочками засеет над полями. Но ветер в это время как нарочно превратится в бурю и с какой-то упрямой свирепостью погонит некстати расщедрившиеся тучи в неведомую даль, и снега снова как не было… Разве в глубоко проезженных дорожных колеях останется он, и тогда дороги кажутся какими-то траурными каймами на темно-сером фоне неоглядных полей.
Упорное постоянство этих щемящих осенних картин и вечное одиночество в конце концов начали как-то странно действовать на меня. Мысль, измученная тоскливым однообразием направления, в котором ей приходилось работать, словно замерла, заснула… Ничего не хотелось, ничто не волновало, не тревожило, ни во что не верилось… Чувствовалась только тупая, одуряющая тоска, которая казалась самым нормальным состоянием духа. Было еще какое-то безотчетное, инстинктивное стремление к физическому покою, и при этом страшная, непобедимая лень. Если уж ляжешь, то лежишь с утра до ночи, усядешься спокойно — сидишь целые часы.
Я сказал, что чувствовалась тупая тоска; да, именно тупая, без отчаяния, без вздохов, без порывистых воскли-{60}цаний и проклятий. Собственно даже не думалось, что вот, мол, тоска! а только ощущалось. Формулировать это ощущение, выразить его мысль отказывалась… Повторяю она словно заснула. Впрочем, было, если хотите, какое-то подобие мышления, пародия на него. Взглянешь, например, на потолок — ползет муха; ну, думаешь, вон ползет… "Куда это она?… Ишь, ведь это она к печке пробирается, к теплу…" Или обратишь внимание на ноги: "Гм… один сапог блестит больше другого… С чего бы это?.. Должно быть, Семен или заленился, или устал… вон, ишь какое матовое пятно-то около носка…" А то глянешь в окно: на крыше амбара сидит растрепанная галка и бестолково трепыхается крыльями. "Вон, — подумаешь, — крыльями машет… ишь, какая взъерошенная…" И на этом успокоишься. Но и это нехитрое упражнение обыкновенно скоро надоедало мне, и тогда я закрывал глаза и всецело погружался в бессознательное, полудремотное состояние, от чая до обеда, от обеда до ужина…
В одно утро я проснулся раньше обыкновенного. В окна бил яркий свет, виднелось чистое голубое небо. На самоваре, шумливо бурлившем у печки, прихотливо переливались ослепительно сверкающие блики. Чувство невыразимой, почти восторженной радости обняло меня. Какая-то удивительно приятная свежесть волной пробежала по всему организму. Все во мне сразу переменилось. Не говоря уже о нервах, вдруг получивших какую-то, отчасти даже странную, восприимчивость, не говоря о мысли, которая вмиг отрешилась от своей спячки и заработала с давно небывалой энергией, — самое тело, до тех пор дряблое и бессильное, вдруг прониклось неодолимой потребностью к движению, стало упругим и сильным.
— Или снег? — закричал я весело, вскакивая с постели, и Семен весело отозвался:
— Подвалил путек, слава те осподи!.. Близy четверти навалило…
Действительно "слава те осподи!.."
— Когда шел-то?
— Почитай что с полночи… Уж на рассвете перестал.
— Стало быть, пороша есть?
— Надо быть… Как не быть пороше?.. Аль на охоту хотите? {61}
— Чего же сидеть-то? Скажи Михайле, чтоб Орлику овса засыпал, да Копчику.
— Пообедамши поедете?
— Ты скажи Анне, чтоб она наскоро чего-нибудь приготовила. Оттепели-то нет?
— Нет, нету. Морозит.
Через час, закусивши на скорую руку, мы с Михайлой выезжаем на охоту с борзыми. У меня было их только две, но зато, по отзывам знатоков, обе замечательные. Одна, Отрада, — грациознейшее животное, с большими, черными, матовыми глазами и блестящим белым цветом шерсти, длинная, поджарая, на тонких упругих ногах. Другая, Карай, — широкогрудый, вечно угрюмый кобель из породы псовых, с волнистой, довольно длинной седой шерстью и прямой как стрела спиною. Обе собаки обладали просто изумительной резвостью и силою бега. К сожалению, я должен прибавить, что вместе с этим Отрада была страшно труслива и не переносила встречи с волком или даже с лихими дворняжками; Карай же хотя и выказывал отчаянную храбрость в подобных случаях, но зато питал непреоборимую страсть к истреблению кур и яиц… Что делать? Видно, совершенства не ищи в этом мире.
У меня вырвалось невольное восклицание, когда я сел верхом и оглянул знакомые окрестности… Я не узнал их. Вместо вчерашнего серенького, туманного колорита какое-то торжественное сверкание облекало их. Сверкали солнечные лучи, сверкал снег, отражая эти лучи, сверкало чистое, безоблачное небо. Казалось, самый воздух, холодный, но чудно прозрачный, проникнут был этим сверканием… Правда, этот сплошной блеск чрезвычайно скоро утомлял глаза. Им становилось больно даже от одного пристального взгляда на ослепительно белую пустыню, с убийственной ровностью раскинутую на огромное, подавляющее пространство. Но зато там и сям, на голубоватом горизонте, замыкавшем эту пустыню, показались предметы, на которых можно было отдохнуть утомленному зрению. Дали как бы раздвинулись. Завиднелись скрытые до сих пор колокольни окрестных сел со своими ярко позолоченными крестами; показались далекие купеческие хутора со своими высокими ригами и скирдами хлеба; засинелись Малюхинские кусты, отстоящие от хутора не ближе десяти верст; черною, едва заметною нитью протя-{62}нулся по южному горизонту казенный лес, до которого считалось еще дальше, чем до Малюхинских кустов; словно из земли выросла Березовка со своими гумнами, с ветлами, опушенными снегом, с черными трубами, резко выдававшимися на белых крышах…
Вся снеговая равнина, все эти колокольни с огоньками, сверкающими на крестах, все эти хутора, кусты, лес, Березовка — все словно было погружено в глубокий, невозмутимый сон. Ни одного звука не тревожило торжественной тишины… Блеск и тишь — вот картина. Не хотелось громко выговорить слова, вскрикнуть, зашуметь, — одним словом, каким бы то ни было образом нарушить эту тишину, пробудить ее. Чувствовалось, что всякий звук — если он не принадлежит какому-нибудь небожителю — был бы оскорблением чему-то дорогому, близкому, какой-то святыне… Природа казалась храмом, тишина благоговейной тишиной этого храма, тишиной, в которой уместны лишь кроткий шепот молитвы да стройное, умилительно-прекрасное пение клира, тишиной строгой и вместе величавой…
По крайней мере, первое мое впечатление было именно таково. Конечно, через полчаса, через час оно сгладилось, стушевалось, оставив по себе очень смутный след…
Напутствуемые благими пожеланиями Семена, мы тронулись. Лошади, застоявшиеся на конюшне, ретиво рвались на поводах и жадно вдыхали широко раскрывавшимися ноздрями морозный воздух. Собаки, как шальные, бешено скакали вокруг лошадей, тучами взрывая снег. Даже Карай бросил на этот раз свою обычную угрюмость. Кухарка Анна, особа нрава меланхолического, вышедши провожать нас, оглянула из-под руки поле, сладко прищурилась и растроганным голосом соблаговолила вымолвить: "Эка, господи, благодать-то!", после чего, как бы раскаявшись в своей излишней разговорчивости, торопливо отерла грязным передником нос и ушла в кухню.
Не проехав и версты от хутора, мы напали на заячий след. Он шел по направлению к Березовке. Собаки, увидев след, перестали забегать вперед лошадей и степенной трусцой побежали позади нас. Не доезжая до Березовки лежала окладина; след терялся в ней среди высоких кочек, поросших шиповником и мелким, корявым осинником. На минуту мы остановились в недоумении среди {63} окладины. Собаки обнюхивали кусты и суетливо перебегали между кочками… Вдруг страшный крик Михайлы: "3аяц, заяц!" раздался около меня, и я увидел на противоположной стороне окладины ком чего-то серого, с изумительной быстротой удиравшего от нас. Лошади горячо рванулись, испуганные криком, собаки бестолково заметались… Еще мгновение — и Орлик, почуяв удар в бока, в два-три бешеных скачка через кочки, через кустарник вынес меня из окладины. Собаки увидали зайца и неистово помчались ему наперерез. Михайло, нещадно погоняя Копчика, орал невыразимо диким и нелепым голосом: "Ату его, ату, ату!" и почти не отставал от собак. Я несся вслед за Михайлой, тщетно напрягая все силы, чтобы хоть немного умерить пыл Орлика. Но повода до боли резали мне руки, а он, судорожно закусив удила, летел как бешеный.
Не ушел от нас злосчастный зверек, не ушли и еще два. Наконец и нам и лошадям нашим надоела охота… Собаки, и те, кажется, усердствовали больше по обязанности, чем по желанию. Ретивость у всех поостыла. Притом же, мне ужасно захотелось пить. Почему-то я вспомнил рассказ Василия Мироныча про учительницу, нанятую березовцами. Что это за офицерша такая, вдруг возымевшая желание обучать грамоте крестьянских ребятишек? Во всяком случае, барыня интересная… Березовка лежала на перепутье, и я решил просто-напросто заехать к офицерше и познакомиться. "Кстати, там и чаю где-нибудь напьюсь, — думалось мне, — если не у нее, то у Василия Мироныча; самовар у него, кажется, водится".
— Где у вас учительница-то живет? — спросил я бабу, встретившуюся нам при въезде в деревню.
— А ты, Миколай Василич, проезжай по порядку-то, — низко кланяясь, отвечала, по-видимому узнавшая меня, баба, — да и заверни к гумнам. Около гумен-то и стоит ее хибарка. Еще плетeнюшек около ей…
Деревенские собаки с дружным лаем бросились на моих борзых. Баба и попыталась было разогнать их, но задорные Волчки, Шавки, Шарики не обратили ни малейшего внимания на эту попытку и упрямо задирали невозмутимо шествовавшего Карая, хотя приближаться к нему слишком близко и не смели. Что же касается Отрады, то — увы! — она во все силы своих лопаток позорно удирала к хутору, явственно видневшемуся из Березовки. {64} Ребятишки, игравшие на противоположном конце деревни в снежки, с веселым гамом направились к нам, но, узнавши во мне "соседнего барина", ограничились одним рассматриванием зайцев, беспомощно трепавшихся в тороках, да односложными замечаниями, вроде того, что, мол, "экия у него уши-то, робята… бо-о-льшущие!" но травить Карая и кидать в него снежками не осмеливались — робели.
Изба, в которой жила и учила ребятишек «офицерша», резко отличалась от обыкновенных деревенских изб. Она была на довольно высоком кирпичном фундаменте, из хорошего соснового леса, с маленьким крылечком и светленькими створчатыми окнами. Покрыта она была не обыкновенной соломой, а сторновкой, что придавало ей чрезвычайно уютный вид. От деревни до нее было порядочное расстояние, сажен пятьдесят, а может — немного и больше.
Муж той солдатки Степаниды, которой принадлежала эта изба, каким-то образом принес из службы порядочные деньжонки, часть которых и убил на постройку избы, намереваясь открыть в ней кабак, но остальные деньжонки ушли у него целиком на какое-то нелепейшее предприятие, и солдат умер, оставив жену нищей в красивой избе. Почему уж она не продала ее — я не знаю. Вероятно, не успела.
Передав лошадей Михайле, я вошел в избу. Внутренность ее опять-таки была не похожа на внутренность крестьянской избы. Гладкий деревянный пол был чисто вымыт и покрыт узенькими дерюжными половиками, за тесовой перегородкой виднелась небольшая выбеленная печка с лежанкой. На окнах висели кисейные занавески и стояли горшки с какими-то цветами; на стене, между окон, — около десятка фотографических карточек, вставленных в рамки из разноцветных раковин.
В избе никого не было, кроме девушки в обыкновенном крестьянском костюме. Это была сестра Трофима Кузькина — Алена. Я видел ее мельком еще летом, на жнитве, но теперь не узнал, а больше догадался, благодаря рассказу Василия Мироныча о том, что она перебралась к офицерше. На вид ей было лет шестнадцать, если судить по узеньким, почти детским плечам, тонкому, худому стану и не развившейся еще груди. Но при взгляде на {65} лицо, и особенно на глаза, ей можно было дать, пожалуй, и двадцать лет. Глаза эти были какие-то темные, строгие и необыкновенно пытливые. Вообще и выражение всего красивого, смуглого личика было серьезное, а отчасти, пожалуй, и суровое. Особенно помогали этому постоянные складочки между черными, густыми бровями и всегда как будто сжатые губы. Я уж сказал, что лицо у нее было красивое. Нужно добавить, что оно было очень красиво и что главное — необыкновенно привлекательно своим строгим, серьезным выражением и пытливым взглядом глаз из-под полуопущенных длинных ресниц. Когда она усмехалась, — что было очень редко, — глаза эти вдруг загорались каким-то чрезвычайно задорным огоньком, который и пропадал мгновенно, так что долго думалось, не обман ли зрения это прихотливое сверканье…
Когда я вошел, Алена с усердием чистила небольшой самоварчик. Увидав меня, она мгновенно, незаметным почти движением руки, ототкнула высокоподобранную юбку и смахнула рукавом рубашки пыль с лица, но нисколько не оробела и не сконфузилась.
— Что, Алена, аль нет хозяйки-то твоей? — спросил я.
— Нету.
Говорила она отрывисто и как будто нехотя, причем окончание слов почти не выговаривала. Голос у ней был высокий и немного резкий, особенно когда разговор ей не нравился; он тогда становился даже сердитым и грубым.
— Куда же это ее унесло? — пошутил я.
— В Подлесном, — нимало не усмехнувшись, ответила Алена, как-то нервно хмуря брови.
— К кому?
— К попу.
— Стало быть, и ребята болтаются.
Она удивленно вскинула на меня глазами.
— Ведь праздник ноне…
Я только теперь вспомнил, что был какой-то праздник, — впрочем, не из больших.
— Как же, Алена, чайку бы мне напиться?
— За братцем Трофимом схожу, — сказала она, еще более хмурясь.
Я ничего не имел против этого. Мне и самому становилось как-то неловко наедине с дикаркой-девушкой.
Только что она, накинув на голову шушпан, собира-{66}лась выходить из избы, как на крыльце послышались голоса. Оказалось — пришел Трофим, который откуда-то с гумна увидел наших лошадей, привязанных к крыльцу.
Между Трофимом и Аленой не было почти никакого сходства. У одной в темных, полузакрытых длинными ресницами глазах вечно светилась какая-то упорная дума, и на всем лице лежал отпечаток несомненно серьезной внутренней работы; у другого был ясный, безмятежный взгляд, иногда немного грустный и рассеянный, но чаще всего полный какой-то тихой, ласковой радости. Бледное лицо, обрамленное черной лохматой бородкой, не носило на себе следа ни мучительной заботы, ни мысли глубокой, — как и взгляд, оно было безмятежно и ласково. Он был, наверное вдвое старше сестры, а может быть, даже и больше.
Одет он был плоховато. На ногах — лапти, хотя и новые, полушубок кой-где порванный; но рубашка сквозила в эти дыры — чистая, да и вообще, несмотря на бедность одежды, грязи на ней заметно не было.
Василий Мироныч, «справедливый» Василий Мироныч, отзывался о Трофиме не иначе, как о мужике «блажном». Хотя, называя его так, он ничуть не переменял своего добродушного тона, да и на самом деле между ним и Трофимом никаких неудовольствий, сколько мне известно, не бывало. Трофим же, величая Василия Мироныча «делягой», "умнейшим мужиком", никогда не называл его «справедливым», хотя я и не слыхал, чтоб он назвал его когда-нибудь «несправедливым» или вообще отозвался бы об нем дурно. Несомненно, что между ними была некоторая антипатия, которую, по всей вероятности, они и сами чувствовали только инстинктивно, — может быть, даже не сознаваясь в ней самим себе.
Мир относился к Трофиму разно. Он то возносил его, то ни во что не ставил, хотя последнее делал отнюдь не с презрением, а так как-то — любя. В давние времена березовцы, — не нынешние березовцы, а предки их, — благодаря особым, исключительно экономическим условиям, которых я тут касаться не буду, выработали в себе пожалуй что и из ряду вон выходящие общинные инстинкты: «дружность», стойкость, сочувствие к своему брату — мирскому человеку. Лет за десять перед освобождением {67} от крепостной зависимости условия, благоприятствующие развитию этих общинных, мирских инстинктов, круто изменились. Мир пошел вразброд, начал разлагаться… Березовцев соседи уж перестали звать «дружными», "мирскими людьми"… Некоторые события, совершившиеся во время самого «освобождения», вызвали было опять эту «дружность» на свет божий, и даже в необычайной силе, но не надолго…
Дело все-таки в том, что у березовцев были, — хотя и смутно сознаваемые и вдобавок почти перезабытые, — традиции, предания прежней «дружной» жизни, прежнего общинного порядка. Усердным хранителем и ревностным поборником этих преданий старого, «дедовского» порядка был Трофим. Вот за это-то возносил его мир. Тут еще пояснение. Мир возносил Трофима, как знатока и поборника старых преданий, не потому, чтобы и сам был проникнут духом этих преданий, нет, этого совсем не было. Он возносил его потому, что чувствовал какое-то младенческое, наивное благоговение перед ними, — благоговение, похожее, пожалуй, на ощущаемое перед какой-нибудь святыней, даже с примесью некоторого суеверия. Но вместе с этим суеверным благоговением перед стариною, перед общинностью, если выразиться языком интеллигентных людей, — известно, что слова «община», "общинность" между крестьянами не употребляются, — мир и не пытался подражать ей, не пробовал жить по старине. По его: "Не те ноне времена!.. Тогда житье было совсем особливое. Одно слово — вол!"
Свои идеалы, свои надежды мир и теперь складывал по образцу «старинного» порядка, но в своей настоящей жизни, и экономической и нравственной, он не только не подражал ему, но даже не без тонкости осмеивал тех, которые подражали или хотели подражать. Вот Трофим-то именно и был из этих хотевших подражать старине, и тут уж мир ставил его не высоко; и если не величал его вслед за Васильем Миронычем — «блажным», то все-таки, так сказать, обходил его, игнорировал, если употребить очень здесь подходящее иностранное слово, то есть "ни во что не ставил — любя", как я уж и сказал где-то выше.
У самого же Трофима предания, касающиеся собственно чисто практических отправлений былой общин-{68}ной жизни, как-то, невообразимо переплелись с религиозной и нравственной подкладкой этой жизни. Из этого сплетения получилось у него какое-то, для постороннего наблюдателя, чисто хаотическое мировоззрение. Как уж он в нем разбирался — положительно не могу понять. Думается мне, что и сам он не мог бы указать ясно и решительно границ своего оригинального мировоззрения. Не только границы, но и все-то оно было для него, несомненно, смутным, неопределенным, туманным, за исключением самого корня, основы, с которой сбить его было невозможно. Основа эта в его речах выражалась так:
— Мир — великое дело… чтоб, значит, сообчa… по правде… по-божьему… к примеру — всем чтоб вдосталь, без обиды… Все мы люди, все — человеки… Надо, все чтоб тихо… без озорства…
А вот, отправляясь от этой-то основы, от этого-то корня, он и забирался в невылазные дебри, которые, надо правду сказать, стоили ему много тяжелой умственной работы, хотя следов этой работы, как я уже сказал, на его лице заметно не было. Был он неграмотен, но в последнее время начал учиться. Учился почти тайком: где-нибудь в риге, в амбаре, осторожно выспрашивая при случае: "Как складываются эти буквы? Как выговаривается это слово?" — Это, конечно, я узнал уж впоследствии.
Еще черта. Он чрезвычайно неприязненно относился ко всякого рода новшествам, например к железным дорогам, ссудо-сберегательным кассам, земледельческим машинам, особенно хитрого устройства, и т. п.
Мне кажется, нечего и добавлять о том, практичен ли был Трофим в обыденной жизни. Практичным он не был. Жил бедно; хозяйство, несмотря на все его старание, шло у него с грехом пополам. На счастье, семья у него была небольшая: сестра Алена да вечно больная старуха мать. Жены у Трофима не было — умерла тому назад лет семь. Говорили, что была она баба распутная и гуливала шибко, с мужем же почти не жила, хотя где-нибудь в кабаке без слез, — может быть, и пьяных, — говорить об нем не говорила.
— Эх, зайчиков-то напрасно загубили? — мягким голосом говорил Трофим, когда я выходил из избы на крыльцо. {69}
— Небось тоже где ни на есть дружки остались, — продолжал он, с жалостью рассматривая заячьи морды, облитые кровью.
— Так, по-твоему, выходит, что и барана зарезать нельзя — тоже дружка останется! — засмеялся Михайло.
— Известно, ежели рассудить по-божески, ни след и овечку губить — все кровь в ей, как ты хоть…
— Как бы нам самоварчик оборудовать, Трофим? — прервал я его философию.
— Здорово будешь, Миколай Василич, — поклонился он мне, — что ж, эт можно — отчa чайку не попить… Аленушка! — закричал он сестре, наставь-ка самоварчик-то! Чайку Афросинь-Гавриловпа оставила ай нет? А то я к Василью Миронычу добегу.
— Есть, оставила, — ответила Алена и захлопотала над самоваром.
— Ну, вот и попьетесь! — заметил мне Трофим добродушно.
— Ну что, как, ребятишки-то учатся? — спросил я.
— Ничего себе: вникают помаленьку… как не вникать… Ну и то надо сказать — учит она как след… по совести… Не то чтоб как зря…
Мы вошли в избу. Трофим благоговейно перекрестился на икону, старательно обтер снег с лаптей и осторожно уселся неподалеку от двери.
— Что, мужики-то ваши все дома?
— Нет, малость какие дома-то, все больше в отлучке…
— Где же?
— Да иные работки поискать поехали, под условия, значит… Иные сено повезли на подторжье, овсишко, — благо путек… А то под извозы рядиться к Чумакову…
— Это ему куда же?
— В Козлов, кажись… Чугунка-то, ишь, не справляется возить-то, так он пшеницу гужом хочет доправить.
— Кто ж поехал рядиться-то?
— Петруха Булатов да Митяй Чиликин.
— Это они что же, для всей деревни ряду-то возьмут?
— Как же, дожидайся!.. Не те, видно, ноне времена, чтоб порадеть для мира-то… Ноне всяк себе норовит где ни на есть кусок урвать… а не то чтоб для мира!.. Это уж бабы проболтались про мужьев-то — куда поехали… А то и уедут таючись, никому не скажутся… А возьмут {70} там ряду да опосля и набирают в артель… поднес им там, аль деньгами положат что с себра, ну и примают…
Самовар скоро вскипел, и мы благодушествовали за ним втроем: я, Трофим и Михайло. Алена не показывалась из-за перегородки. Михайло сесть к столу не решился и пил чай, держа чашку в руках, что, вероятно, стоило ему немалых огорчений.
— А что, Миколай Василич, — говорил за чаем Трофим, — я так помекаю: времена ноне — самые что ни на есть развратные… Ты как полагаешь?.. Сказано — брат на брата, так вот оно и есть… Ну, купцы там аль господа в разврат пошли, это уж им такой предел положoн: сыспокон веку у них так водится, чтоб все в одиночку… сусед под суседа ямы копать… Ну, а наш-то брат, мужик, посмотришь… Ни тебе какого ни на есть согласья, ни тебе артельности… А уж я так своим глупым разумом думаю: коли мужику да ежели друг за дружку не стоять — пропащее дело… Что у него? У купца, как-никак, капиталы… у барина — земля аль жалованье какое полагается. А у мужика только и наживы, что недоимка да неотработка… Всякому свой предел положoн, ежели ты, значит, купец, ну — торгуй, барин — землей владей… А уж как ты хрестьянин, так хрестьянином и будь… Чтоб, к примеру, как Христос-батюшка повелел… Он, батюшка, претерпел — и ты терпи… Он за мир душеньку свою положил, и ты за мир стой… а не то чтоб какой кус урвал да один и сожрал… Ежели ты, будучи мужиком, хрестьянства от господа бога удостоен, так неежели тебе в разврат с миром идти… Я так полагаю…
— Да разве «хрестьянин»? Ах, Трофим, Трофим… Ведь мужик-то крестьянином зовется, а христиане, или, по-твоему, «хрестьяне», мы все одинаковы, и барин, и купец, и мужик…
— Нет, это ты не так, Миколай Василич! — упрямо перебил меня Трофим. Потому как Христос-батюшка терпел и за мир пострадал, так он и мужикам узаконил… Стало быть, они хрестьяне и есть… А ежели ж мужик от хрестьянства отбивается, ну, значит он Христу — раб лукавый… потому мир на мамону променял… И нет, я тебе скажу, греха тяжчее, как ежели мир продать аль супротив его возгордиться… Ах, сколь тяжек грех энтот!.. {71}
Вот, я тебе скажу, деды наши, ну, точно что крестьяне были… заправские… Все-то у них без обиды, все-то у них по правде, поровну… Беда ли какая навалится — весь мир стерпит ее, беду-то, сообчa… а не норовит, чтоб по-нонешному: я — не я, и деля не моя… Потому и беда, напасть какая, не иначе как от господа бога. И надо ее претерпеть… можа, бог веру нашу пытая, бедой-то… Всё от бога… Аль возьми ты, таперча, работу… какая была!.. Не нонешней чета… И барщина и своей-то невпроворот. А всё бог милослив — справлялись… А почему?.. Дружно все!.. Всем миром… Опять некруты, аль оброк, аль баловство какое, — ну, проворуется там кто аль еще как сбедокурит, — мир все рассудит… никого не обидит… И уж этого чтоб непокорства — ни-ни!.. В страхе жили, закон наблюдали как следует, по-хрестьянски… А теперь какой закон! — Один разврат… — Так, положим — мировой. Ну, может ли он мужика рассудить?.. Он судит по книжке, а мужику эфтого не нужно, мужику — чтоб по закону… Купца аль барина — ну, это так… это он может… А теперь возьми — мужик купцу по условью не отработал… сичас у него — клеть… аль корову с двора… Вот он, мировой-то! А рази это закон?.. Он сперва разбери, с чего мужик не отработал… Можа, ему не токма что работу сполнять, а хошь давиться, так в пору… А мировой эфтого понять никак не может… потому человек он чужой, сторонний… По письму-то он, можа, и зная, а уж хрестьянского-то порядка, мирского-то, и нет… Даром что мировой!
— Вот ты все мирового корить, — сказал я, — ну, а ваш-то, крестьянский суд-то лучше, что ль? В волости-то?
— Да ведь и я про то же, Миколай Василич… Что одно слово разврат… брат на брата… В старину, сказывают, и судов-то этих совсем не было… Вершили миром… чтоб, значит, по правде… по божьему… Вот те и суд весь… Вон у меня в запрошлом году дедушка помер, можа сто годов ему… так он что, покойник, порасскажет, бывало… У нас, говаривал, не токмa что начальство какое, судьи там аль сотские, у нас и староста-то только по званью был… А то все мир, старики… Как что положат, так тому и быть… А чтоб до суда там — и в жисть не доваживалось… Раз мертвое тело нашли; так мир-то {72} собрался и порешил: заседателю чтоб триста целковых… Тогда какие-то заседатели были, вроде как, к примеру, становой у нас… Разложили, с кого сколько, да и отвалили… Этим и отошли от суда… Вот как в старину-то!.. А ноне что… Ноне не токмa что застоять, а потопить норовит всякий… абы самому сухому из воды выбраться…
Трофим махнул рукой и сокрушительно вздохнул.
— Душу по нонешним временам загубить — плюнуть! — продолжал он после непродолжительного молчания, в течение которого грустно и вдумчиво смотрел куда-то в сторону. — Возьмем теперь хошь грамоту… Коли ежели с совестью, ну, так! — окромя спaсенья ничего… Ну, а с другой стороны — самое распропащее дело… Ты так рассуди — писарь!… Что он может?.. Он то и в остроге сгноит и в Сибирь сгонит… Самый погибельный человек!.. Аль опять купец — условье тебе напишет — разор один темному человеку… Он тебе там и неустойку… он тебе и штрах… А ты отдувайся… И, стало быть, по нонешним временам мужику без грамоты никак невозможно… Ну-ка, будь я грамотный-то: он меня в острог подведет, а я ему — не хошь ли, мол, рожна… он мне штрах проставит, а я ему — не лучше ли, купец, врозь… Вот оно какое дело!.. Аль миру подвох какой, — сичас грамотный человек разобрать это может… Аль по нонешним развратным временам — наставить в чем… от божественного там аль так из книжек… Все может!..
Ну только, говорю, и душу загубить уж так-то легко, так-то легко, а-ах!.. Вот, не в осуждение сказать, Василий Мироныч свово сынишку обучает… Куда он его прочит?.. Прямо, значит, мир распорушивать, кулачить… ишь, грамотному-то оно способнее, на мир-то плевать!.. Вот она душе-то и пагуба… А уж сказано: блажей жернов привесить на шею да утопиться, нежели малого ребенка сомущать, на грех наводить… Уж темному человеку, можа, по неразумию прощенье выйдет… такой, значит, ему предел положoн, чтоб, к примеру, грех сотворить, ну, а грамотному-то и горько… а-ах, как горько!..
Трофим тяжко вздохнул и задумался, а потом продолжал, впадая в чрезвычайно скорбный, как бы ноющий тон:
— И где ж это правда-то, правда-то делась, милый ты мой человек!.. Куда-то ни поглядишь: все-то тебе {73} грех… все-то тебе — содомушка… И как словно забыли, забыли, есть ли и божинька-то на небе… Тот грабит, тот разбойничает… И все, братец ты мой, какие-то холодные стали… словно железные они аль каменные… Господи ты мой, боже мой, аль уж и взаправду последние денечки пришли!.. Сын на отца… брат на брата… Народ болеет… нудится… Мир врозь пошел… Везде-то горюшко… везде-то смута… Аль уж спас милосливый разгневался на нас, окаянных? А-ах, милосливый, милосливый…
А иной раз так-то подумаешь, подумаешь, и кабыть радость какая на тебя найдет… Нет, милослив он, подумаешь… Не до конца прогневался… И зимушку дает по-прежнему… и жары ко времю посылает… и дождичка… Мы вон, было, и отчаялись, а он, ишь, благодать-то наслал!.. — Трофим указал в окно, за которым расстилалось широкое снежное поле, подернутое в то время розовым светом заходящего солнца. — Не забывает нас… А уж мы-то, окаянные, — закаменели… Нет у нас этого, чтоб стоять-то друг за дружку… Завет-то Христов забывать мы стали… Душу-то свою за мир не кладем… А он, батюшка, все дает… бери только с умом… И так скажу: придут времена, возьмемся и мы за ум… Душу свою соблюдай, — говорит милосливец-то, а то все тебе препоручу… И опять: коли ежели один праведник — целое царство помилую… Ну, вот ты и подумай: аль уж в крестьянстве праведника-то одного не найдется?.. Аль уж душа-то у всех сгинула?.. Аль уж не найдется ее, души-то… чтоб за мир, к примеру?..
Трофим замолчал в тихом раздумье.
А мне припомнилась степенная фигура Василия: Мироныча, его положительный, солидный разговор, его определенное, законченное мировоззрение… "Ведь вот от одного корня, — думалось, — из одной стороны, из одной среды, из одной деревни даже, при одинаковых условиях росли, одинаковые напасти испытывали… И вышло какое-то недоразумение… С одной стороны: "главное дело — свинья", с другой — «мир»… За кем победа? За кого "будущее"?.."
Михайло отирался полою полушубка, доканчивая чуть ли не двадцатую чашку. Из-за перегородки по временам выглядывало озабоченное лицо Алены. Она уж два раза {74} доливала нам самовар, и теперь, вероятно, замечала, не нужно ли долить в третий? Лицо ее ни разу не теряло ни своей строгой серьезности, ни задумчивости. Только раз она усмехнулась, когда Михайлу угораздило пролить на полушубок блюдечко с чаем.
Уехал я из Березовки, когда уж закатилось солнце, прогорела короткая зимняя заря и синее звездное небо повисло над снежной пустыней. Офицерши так я и не дождался. {75}
IV. Два помещика
Это было три года тому назад, в конце мая. Понадобилось мне продать четвертей сто овса. Обратился я с ним к купцам своего уездного городка, дают дешево; предложил жидам, в изобилии заполонившим городок со времени проведения железной дороги; надбавили, но все-таки мало. Я уж колебался и подумывал, не взять ли задаток, как вдруг совершенно случайно встретил одного благоприятеля, преподавшего мне совет — съездить с овсом в Даниловку, имение господина Михрюткина, так как там сильно нуждаются в овсе для конного завода и за ценой не постоят. Благоприятель, вместе с советом, дал мне и записку к какому-то Андреяну Лукьяновичу, не то приказчику, не то конторщику господина Михрюткина. Эта записка долженствовала служить мне некоторой рекомендацией и вообще оказать услуги. Андреян Лукьянович и мой благоприятель были знакомцы очень близкие и даже в некотором роде друзья, как оказалось впоследствии.
Получив записку, я тотчас же выехал из города, хотя было уже не рано: до захода солнца оставалось не более получаса. Даниловка отстояла от города верстах в двадцати, и мне думалось, что, переговорив вечером с господином Михрюткиным насчет овса, я успею к раннему утру попасть на свой хутор, где у меня начинался уже покос. Но предположениям моим не суждено было осуществиться, и мне пришлось ночевать в Даниловке. Дело в том, что когда мы, — то есть я и мой неизменный спутник, работник Семен, — подъезжали на парочке бойких лошадок к Даниловке, наступила уж настоящая {76} ночь, и притом ночь непогожая. Тяжелые тучи загромоздили и без того темное небо. Только на западе, где узкой белесоватой полоской тускло догорала вечерняя заря, не громоздились тучи, и от этой-то едва тлеющейся полосы еще можно было кое-что разглядеть в поле. Там и сям промеж туч искрилась ослепительная молния, иногда сопровождаемая едва слышным раскатом грома. Неподвижный воздух был пропитан какою-то душною, тяжелою сыростью. Ни малейшего дуновения ветерка не проносилось в поле: было тихо, как в могиле… Но тишина эта казалась какою-то тревожною тишиною: так и думалось, что вот еще мгновение — и разразится буря, хлынет ливень, раздастся страшный гул громовых ударов… Все словно замерло в каком-то напряженном, ноющем ожидании этой бури, этого ливня, этих раскатов грома… Дышалось тяжело и с каким-то неприятным усилием: боязливая, раздражающая тоска сжимала грудь. Даже лошади — и те бежали неохотно, поминутно отфыркиваясь и беспокойно прядая ушами.
Одни перепела не унывали. Их точно кто подзадоривал. Необыкновенно резкое и порывистое, словно захлебывающееся треньканье слышалось отовсюду, и чем ярче искрилась молния, и чем ближе раздавался рокот грома, тем порывистей и настойчивей становилось это треньканье…
Уж крупные капли дождя изредка начали шлепать по дороге, покрытой толстым слоем пыли, когда мы подъехали к широкому даниловскому пруду. Усадьба была на противоположном берегу, и чтоб добраться до нее, нам предстояло проехать по длиннейшей плотине, обсаженной по обеим сторонам старыми развесистыми ветлами.
Я никогда не был в Даниловке и теперь с любопытством вглядывался на ту сторону пруда. К сожалению, тучи, покрывавшие почти все небо, распространяли такую темноту, что не было никакой возможности хорошо рассмотреть усадьбу. Виднелись какие-то многочисленные здания, среди которых особенно выделялось одно, на самом берегу пруда, высокое и большое, с огнями в двух-трех окнах, — по всей вероятности, барский дом. Около этого дома смутно белелись еще какие-то домики, низенькие и маленькие, в которых тоже кой-где мигали огоньки. В стороне тянулись постройки, очень узкие и длинные {77} и уж без огня в окнах, — должно быть, конюшни. Вообще усадьба была, по-видимому, устроена на широкую, дореформенную ногу.
Проехав плотину и миновав мельницу, по колесам которой с тихим журчаньем переливалась струйка воды, как-то прокравшаяся из затворенной скрыни, мы поднялись на небольшую возвышенность, по направлению к тем скудно освещенным флигелькам, которые виднелись рядом с барским домом. Около каменной узорчатой ограды, загораживавшей усадьбу, окликнул нас сторож.
— Где живет Андреян Лукьяныч? — спросил я его.
— В конторе.
— А контора где?
— Да вам на что?
— Андреяна Лукьяныча нужно.
— Вы чьи будете?
— Свои. Где ж контора-то?
— Около хором. Вон огонек-то мигает!.. Вы к кому, к Андреяну Лукьянычу, что ль?
— К нему.
— Т-эк-с… По делу какому, ай как?..
— По делу, по делу. Ты, чем расспрашивать, проводил бы нас.
— Мне что ж, я пожалуй… Куда проводить-то, к самой конторе?
— Да. Ведь там живет Андреян-то Лукьяныч?
— Где ж ему опричь… Известно — там.
— Ну, туда и веди.
— Так бы и говорили! Значит, к самому надоть?
— Конечно, к самому…
— Ну, вот… А я, признаться, думал, ноне у него кухарка деверя в гости ждала, так не деверь ли, мол… Он у ней тоже великатный… Как ни приедет, все на паре… Так вы не сродни ей будете?
— Кому?
— Да Маланье-то?.. Деверь у ей у сакуринского барина в поварах живет…
— Фу, ты черт!.. Да веди ты, ради Христа! — вскричал я.
Перемена тона сразу подействовала: сторож уж без расспросов проводил нас к конторе. {78}
Андреян Лукьяныч был маленький сутуловатый человек, гладко причесанный, сморщенный, вертлявый, одет плоховато, но чистенько. В его голове и маленькой козлиной бородке кой-где пробивалась седина. Зеленоватые блестящие глазки хитро и вкрадчиво высматривали из-под рыжеватых реденьких бровей. И манеры, и выговор, да и самая наружность ярко обличали в нем бывшего дворового человека, по всей вероятности, «состоявшего» камердинером при барине в доброе старое время.
Прочитав записку моего благоприятеля, Андреян Лукьяныч сделался необыкновенно ласков и любезен. Приказал убрать лошадей, дать им корму, накормить Семена, меня же напоил чаем и угостил отличнейшей солянкой. На мой вопрос, когда я могу переговорить с господином Михрюткиным, он мне сообщил, что видеть, его можно завтра перед обедом, потому что он ждет к обеду какое-то «лицо» и все утро проведет в страшных хлопотах с поваром.
— Что же это так? — удивился я. — Или повар плох?
— Он не то чтобы плох, да внове еще, не привык-с. Ну, пожалуй, что и разиня маленько… Вот они-то, Егор Данилыч-то, и боятся… А уж они страсть как этого не любят, чтоб насчет кушанья что было плоховато… Всю жизнь, можно сказать, на это положили-с… И уж что другое прочее, а в этом смыслят-с…
Андреян Лукьяныч снисходительно и тихо засмеялся, лукаво щуря свои плутоватые глазки.
— И что ж, он каждый день так-то, в кухне?
— Ну, зачем каждый день-с!.. Но завтра, видите ли-с, дело-то совсем особливое: нонче еще с утра привезли им лососину да стерлядь, нарочно за тем в Воронеж посылали-с; ну, вот и боятся, как бы повар-то по своей глупости не изгадил-с…
— К чему же Егор Данилыч торжество-то такое затеял?
— Да гость-то — Карпеткин… Может, слыхали-с?.. Он хоть и помещик, и даже весьма состоятельный, но торгаш, каких мало-с… Ну, так Егор-то Данилыч норовят ему четырехлетков сбыть… жеребчиков двенадцать их будет-с… Изволили понять?.. А господин Карпеткин держит себя хотя и запросто, но поесть любит и в еде смыслит-с… Ну, Егор-то Данилыч и возымели намерение {79} обедом его размягчить… Только, кажется, напрасно они так думают, его этим не объедешь-с, — добавил Андреян Лукьяныч и опять тонко усмехнулся.
Надо прибавить, что, — вероятно, благодаря рекомендации моего благоприятеля, — Андреян Лукьяныч, по-видимому, не стеснялся говорить со мною о господине Михрюткине откровенно, хотя, несмотря на эту откровенность, и избегал упоминать о нем иначе, как во множественном числе, что, по его понятиям, означало высшую степень почтительности.
Ложась спать, на том мы и порешили, чтоб завтра часа в два сходить мне к господину Михрюткину. Андреян Лукьяныч ручался за хорошую продажу овса, и это, конечно, вполне помирило меня с маленьким промедлением.
Заснул я очень поздно, почти перед зарей; в приготовленной для меня постели оказалась целая бездна самых негостеприимных насекомых… Всю ночь напролет шел проливной дождь, сверкала и гремела гроза и слышался шум ветра. Впрочем, еще с вечера этого следовало ожидать.
Какой-то странный, до нелепости пронзительный крик разбудил меня. Я испуганно вскочил с постели, бросился к окну и распахнул его. Удивительная картина предстала предо мною… Солнце взошло уже высоко и с невероятным обилием заливало своими горячимы лучами все, что только доступно было глазу… Внизу, под той возвышенностью, на которой стояла усадьба, эти лучи, ослепительно сверкая, отражались в гладкой поверхности громадного, чистого пруда; веселая зелень безбрежных полей, расстилавшихся за прудом, молочно-белые постройки усадьбы с их красными и зелеными крышами, желтый песок дорожек, ведущих от барского дома к флигелям, — все это так и тонуло в веселом, ярко-золотистом море света… Дождя, лившего целую ночь, как не бывало. Только капли росы, кой-где сверкавшей в траве, да здоровая, благоухающая свежесть воздуха напоминали о нем. На бледно-голубом небе не виднелось ни одного облачка.
Шагах в двадцати от конторы, у дверей противоположного флигеля, из трубы которого тихо вился беловатый дымок, бестолково толпилась маленькая кучка на-{80}рода, как и всё вокруг, щедро залитая яркими солнечными лучами. Эта-то кучка, потонувшая в веселых, словно смеющихся, лучах жаркого майского солнышка, и удивила меня несказанно…
На первом плане выделялась маленькая тучная фигурка в старом, засаленном халате, в туфлях и кальсонах, с открытой лысой головой. Обеими коротенькими, но очень толстыми ручками фигурка эта беспомощно поддерживала свое объемистое брюшко. Распахнутый халатик открывал рыхлое нежно-розовое тело на дебелой шее и выпяченной груди, покрытой рыжеватыми волосками; лысая головка, с заплывшим и красным от натуги лицом, жалостливо перегнулась набок; длинные усы взъерошились и беспорядочными клоками топорщились в разные стороны; большой, широкий нос съежился и побледнел; на круглых, неподвижно уставленных в одну точку глазках сверкали обильные, градом катящиеся слезы… Громадные уши были красны как кровь, жирный затылок собрался в какие-то толстые сборки и тоже покраснел под коротко остриженными рыженькими волосиками… Выражение лица было замечательно. По своеобразнейшей смеси бешеной злости и глубочайшего отчаяния, растерянности и беспомощности оно было в состоянии и уморительно насмешить, и разжалобить человека…
Эта-то фигурка пробудила меня своим криком. Она то плакала, как ребенок, всхлипывая и захлебываясь, то разражалась чисто истерическими рыданиями, то как-то необыкновенно пронзительно и дико выкрикивала какие-то слова, не то жалобы, не то ругательства — разобрать не было никакой возможности, — то глухо и мучительно стонала, туго сжимая брюшко, неестественно перегиная стан и еще более выпячивая грудь.
Недалеко, от фигурки в халате, растерянно поникнув взором и машинально перебирая руками фартук, стоял повар, необыкновенно высокий малый, худой, как шест, и прямой, как стрела. Белоснежная фуражка без козырька, молодцевато надетая набекрень, чрезвычайно как не шла к кислому выражению его глуповатой физиономии с длиннейшим носом и испуганно вытаращенными глазами. Он стоял как вкопанный, не двигаясь с места ни на йоту… Из-за него удивленно выглядывал, старательно {81} ковыряя в носу, курносый румяный поваренок с громаднейшей взъерошенной головой и в белой, позамазанной на локтях, куртке. По другую сторону фигурки в халате замечательно толстая баба в зеленом платье, по-видимому ключница, тяжело отдуваясь, что-то объясняла, обиженно разводя руками. Она только что прибежала, и ее массивная подушкообразная грудь бурно колыхалась от усталости. За этой группой, ближе к кухне, застыл в неподвижной позе, с приподнятым топором, грязный кухонный мужик, заскорузлый и растрепанный, с недоумевающей усмешкой на лице, почти сплошь заросшем черными, как деготь, бестолково перепутанными волосами. С разных концов усадьбы, из флигелей, из конюшен, виднелись бежавшие на крик люди: кучера, конюхи, рабочие… Одним словом, хаос был полный, и солнышко приветливо заливало его яркими, горячими волнами света…
Когда я растворил окно, к рыдающей фигурке подбегал испуганный Андреян Лукьяныч.
— Батюшка, Егор Данилыч, что с вами? — еще издали кричал он.
"Вот тебе на! Так это сам господин Михрюткин…" — удивился я и поспешил отойти от окна, чтоб как-нибудь не сконфузить барина.
В ответ на тревожные расспросы Андреяна Лукьяныча сначала слышались прежние истерические, совершенно невразумительные выкрикивания, которые, по-видимому, положительно душили господина Михрюткина, но мало-помалу они становились менее бессмысленными, и, наконец, можно было разобрать прерываемые рыданиями слова:
— Ло… со… Лосо… си… на!
— Какая лососина-с, бог с вами… Опомнитесь, батюшка-барин! успокоительно восклицал Андреян Лукьяныч, заботливо подхватывая господина Михрюткина под руку, но тот сердито отстранил его и, помахивая платочком, опять отчаянно заголосил, немилосердно брызгая слюною в самое лицо Андреяна Лукьяныча.
— Ло-со-си… и-ну… у!.. По-о-од… ле… эц… разбойни… ик!.. Заре-за-ал… о-ох… за-а-рез… — И господин Михрюткин залился слезами.
Андреян Лукьяныч вмиг что-то сообразил. Он старательно обтер полою сюртука лицо и накинулся на повара: {82}
— Ты чем барина разгневал, а?
— Что ж, Андреян Лукьяныч… ежели, к примеру, лососина эфта…
Повар тяжко вздохнул.
— Ну, что лососина?
— Маленько не потрафил, признаться, — угрюмым басом проронил повар, старательно отирая фартуком немилосердно потевшие руки и все упорнее всматриваясь в землю.
— А!.. — вдруг взвизгнул, как ошпаренный, господин Михрюткин, подскакивая почти к самому лицу повара и просто обрызгивая его слюнями. А!.. Не потра-афил… грабитель…. мошенни-ик… не потра-афи-ил!.. Он… не потрафил!.. Подлец… Ограбил… осрамил… Морда-а… морда деревян… дер… вянная-а!.. Стерлядь-то ты в жарко… кое под-а-ашь?.. В жар… аркое?.. А?.. Изверг!.. А лососину раз… разварну… ую? А?.. Разварную ее подашь?.. У Михрюткина лососина разварная!.. а?.. Стерлядь-то… по… по-лудо… луд… пудовая, да изжарить ее!.. А… а-ах, ме… мер… мерзав… По-огу-би-итель!
Господин Михрюткин, вероятно, снова почувствовал весь ужас своего положения; он вдруг бешено схватился обеими руками за голову, хлопнулся оземь и заголосил истошным, чисто бабьим голосом… Этого, признаться, я уж не ожидал… Хохот, бешеный, неотступный хохот душил меня… Я закрыл окно и в изнеможении упал на постель…
Долго еще доносились до меня взвизгивания господина Михрюткина, в которых только и можно было разобрать: "Ло-со-си… и… на! Стер… лядь раз-ва-ар… арная-я!.. Под су-уд упеку-у!.. В остро-роге-е сгною!.. Полупудова-ая… я!.." Затем следовали вкрадчивые речи Андреяна Лукьяныча, угрюмое рокотанье повара и хрипливые реплики толстой ключницы. Наконец все смолкло. Я заглянул в окно. Около кухни никого не было; из ее трубы по-прежнему легкими беловатыми клубами вился дымок. Ничто уж не нарушало тишины, только откуда-то издалека доносились звонкие удары топора да переливистые соловьиные трели.
За сверкающей гладью пруда на неоглядное пространство тянулись поля с рожью. Рожь уже начинала колоситься и при малейшем дуновении ветерка колыхалась серебристыми волнами, то узкими, как змейки, то {83} широкими, как река… Иной раз, при взгляде на эти волны, казалось, что все они затканы какими-то матовыми, необыкновенно мягко светящимися лучами. Дорога, еще не просохшая от ночного ливня, черной бархатной лентой прихотливо извивалась на серебристо-зеленом фоне полей.
Андреян Лукьяныч, несмотря на свою сдержанность, ужасно хохотал, когда, успокоив господина Михрюткина, пришел в контору.
— С чего это он взбеленился-то? — спросил я, когда он отдохнул от смеха.
— Изволите видеть-с: они еще вчера с вечера приказали этому дураку Митьке, чтоб стерлядь была разварная, а лососина иным манером-с… Ну, кабы не гроза, они, может быть, и сами бы не проспали, наблюли за Митькой… А тут, как на грех, всю ночь гроза; грозы-то они страсть боятся: ишь, всю ночь на молитве стояли-с; ну и проспали. Митька-то возьми да и перепутай: лососину разварной приготовь, а стерлядь изжарь… Уж бог его знает, что ему втемяшилось в дурацкую-то башку… Ну, вот и все! А рыба-то на славу была… теперь хоть выбрось… Они прошлый раз у Карпеткина обедали, так их там какими-то рябчиками удивили… Ну, вот и они хотели рыбой-то поразить… Что поделаешь — судьба-с!
Андреян Лукьяныч опять покатился со смеху.
— На этот счет они у нас чудаки-с, — продолжал он, немного успокоившись. — В позапрошлом году так то-с… Были они в Москве, и выжеребка у нас без них производилась. А надо вам сказать, что у них самая что ни на есть любимая кобыла — Отрада. И все, бывало, ходит она холостая-с, а на эту-то вёсну оказалась жереба, да еще от жеребца-то дорогого, Петушка-с… И надо вам прибавить — ждали они от этой самой Отрады жеребенка страсть с каким желанием… Ну и ожеребила она, да еще ко греху-то конька, а он возьми да издохни-с… Вот выехали мы с наездником встречать их на станцию, — это они из Москвы прибыли-с… Ну, сейчас как встретили, первым долгом расспросы: "Что выжеребка?" А сами стоят так-то у столика да сигару курят-с… Ничего, говорим, выжеребка, слава богу, благополучна-с… "А Отрада как?" спрашивают… Наездник-то сдуру и вавакни: "Коня ожеребила", да тут же вслед: "Только конек ис-{84}харчился"… Гляжу я на Егора-то Данилыча, а они падают, падают… Сами беленькие сделались, точно платочек… Так уж мы его едва подхватить успели-с… Ну и что ж вы думаете? Кабы не доктор тут случился, пожалуй, и конец бы им был-с!.. Вот они какие-с…
— Что же он за чудак такой у вас?
— Да мнительны больно-с… Ну, признаться сказать, и жадноваты маленько… Раз тоже градом просо повыбило, так десятин с десяток-с, так что ж вы думаете — заболели!.. И все бы им чтоб прибыль, да урожай, да барыш, а до остального и дела нет-с!.. Вот божественны они — это точно-с!.. Только и тут, как вам сказать, — с расчетом… А то куда и божественность эта самая денется у них-с… Раз ведь, что, — и смех и грех… Засуха была; хлебa, почитай, совсем выгорели… Был я у них в доме-с… надо вам сказать, зала у нас как раз на углу — с трех сторон в ней окна… Ну, и соберись туча-с… страшная туча… И прямо к нашему полю идет-с… Гляжу, Егор Данилыч то к этому окну подбегут, то к другому… то на коленки станут перед образами, то лампадку зажгут… И ведь, чудаки-с! "Господи, восклицают, ведь семдесят тысяч целковых страдают у меня — в земле закованы; спаси… не дай погибнуть!".. Чего, чего не прибирали!.. И обеты давали: на церковь столько-то, нищим столько… Мало того — меня заставили молиться… "Молись, Андреян, приказывают, может твоя молитва скорей до бога дойдет, потому ты из простых…" Просто смехота-с… А туча-то тем временем возьми да и поверни в сторону… Так что тут было, я вам доложу-с…
Андреян Лукьяныч сокрушительно махнул рукой и затем докончил:
— Чистые богохульники стали! А потом опять плакать принялись…
— Да для кого он жадничает-то? Семьи ведь нету?
— Какая семья? Барыня померла… Теперь сынок один, в Москве учится у господина Каткова, ну и только-с…
Часа в три я отправился к господину Михрюткину. Господин Карпеткин тоже недавно приехал. Люди они оказались премилые… В Михрюткине я почти совершенно не узнал давешнюю визгливую фигурку в халатике; {85} теперь, он выглядел солидным, вполне приличным барином. Великолепнейший темно-синий сюртук, несомненно произведение Шармера или Сарра, облекал его невысокую, но осанистую фигуру; роскошное белье блестящей белизны красиво оттеняло его полное румяное лицо с длинными, слегка нафабренными и надушенными усами; скудные волосы были расчесаны волос к волосу; нежно-розовая лысина тщательно вымыта и вычищена. Одним словом, начиная с ног, обутых в изящнейшие лакированные ботинки, и молочно-белых, несколько пухлых рук, украшенных дорогим солитером и длинными розовыми ногтями, и кончая величественной мясистой головой и красивыми глазами, к несчастью положительно телячьими, — все носило несомненный отпечаток провинциального, если даже хотите — степного, сытого, самодовольного, недалекого барства. С головы до пят это был чистокровнейший, со-временнейший поместный дворянин, «господин» Михрюткин, созданный господом богом исключительно на жертву поземельным банкам и на разорение всевозмозжных общественных касс. Самый затылок, жирный и тяжело лежащий на прекрасно накрахмаленном воротничке рубашки, самый кадык двухэтажный, гордо подпиравший гладко выбритый подбородок Егора Данилыча, наконец самое тело его, белое, пухлое, рыхлое, сдобное, — все вопияло об одном: да, мы принадлежим, мы только и можем принадлежать господину Михрюткину, коннозаводчику и владельцу хотя и заложенного, но крупного имения, потомку длинного ряда таких же вылощенных, таких же сдобных поколений, целые века не знавших ни умственного, ни физического труда, целые века живших в одно только тело.
Господин Карпеткин был барин иного покроя. Сразу было видно, что это помещик, что называется, к обстоятельствам применившийся: жила и кулак. Зато он не отличался тою чистопородностыо, которой несомненно щеголял господин Михрюткин. Плебейская кровь деда или прадеда так и давала себя знать в наружности господина Карпеткина. Он был высок ростом, костляв, ходил сгорбившись, смотрел своими острыми зеленоватыми: глазами в упор, нагло и смело, почти не мигая воспаленными веками, имел замечательно большой нос, увенчанный аляповатым черепаховым pins-nez. Руки у него были ши-{86}рокие, мускулистые, с толстыми синеватыми жилами и красные от загара. По всей вероятности, он не носил перчаток.
На господине Карпеткине был тоже сюртук и, по-видимому, очень дорогой, но сидел он на нем отвратительно: на спине морщился, на груди отдувался, под мышками жал, что было очень заметно по беспрестанному подергиванью рук и по гримасе, блуждавшей во время этого подергивания на сером рябоватом лице господина Карпеткина. Его белье тоже не отличалось изяществом: оно хотя не было грязно, но зато и смято и скверно накрахмалено. Одним словом, по всему было заметно, что господин Карпеткин за своею наружностью не наблюдал и тела своего барского не холил. Да и холить-то его, пожалуй, было нерезонно: все равно, до той белизны и рассыпчатости, которою отличался господин Михрюткин, не дойдешь, — нужна для этого работа многих поколений, и господин Карпеткин, как человек несомненно умный, вероятно, понимал это хорошо.
Тут маленькое объяснение, хотя и не по важному поводу, но все-таки необходимое. Михрюткин и Карпеткин потому принарядились в сюртуки, что ожидались к обеду дамы: жена Карпеткина, приехавшая гораздо позднее мужа, и еще соседка-барыня, Бурдастикова, молодая вдова, страстная любительница лошадей, которые, — надо отдать справедливость господину Михрюткину, — были у него прекрасные. Барыня эта почему-то не приехала.
Когда я вошел к помещикам, они были в кабинете. Стены этой комнаты, выходящей окнами в тенистый старый сад, украшались портретами знаменитых рысистых лошадей, в золоченых овальных рамках, и большой картиной, изображавшей голую женщину в соблазнительной позе. Характеристично было то, что женщина отличалась невероятными формами, как будто эта-то невероятность только и могла расшевелить воображение рыхлых, рассыпчатых поместных дворян… На письменном столе громоздилось множество флаконов с духами, баночек с помадой, целая батарея щипчиков, пилочек, щеточек и тому подобных принадлежностей мужского туалета. Впрочем, была и чернильница, необыкновенно массивная, украшенная лошадиной головой из малахита; большая гербовая {87} печать тоже изображала голову лошади; наконец, пресс-папье состояло уж из целой лошади, превосходно сделанной из черной бронзы. Около письменного прибора помещался фотографический портрет великолепной серой кобылы, окаймленный изящной рамкой из темно-синего бархата. Это была любимица господина Михрюткина — Отрада. Среди стола величественно возвышалась толстейшая книга в красном сафьянном переплете, с надписью золотыми буквами: "Книга конного завода рысистых лошадей, артиллерии штабс-капитана Георгия Даниловича Михрюткина, при сельце Даниловке, Михрюково тож, Тамбовской губернии, *** уезда. Основан с 1818 года". Около книги покоились две дворянские фуражки с красными околышами и лакированными козырьками. Одна была точно с иголочки и походила величиной на решето, другая заметно поизносилась и отличалась незначительностью размеров. По этим фуражкам можно было судить, что голова господина Михрюткина была здоровенная, как котел, а Карпеткина — походила на клин.
При входе моем у помещиков шел очень оживленный разговор. Мое появление прекратило его, но после того как мы познакомились, разговор этот снова оживился. К сожалению, я не принимал в нем почти никакого участия, по своей полнейшей некомпетентности.
— Кролик, Кролик!.. Что вы говорите мне о Кролике! — горячился господин Михрюткин. — Дрянь и больше ничего!..
— Помилуйте, Егор Данилыч! Два императорских приза, медаль на выставке, девять призов коннозаводских, и вы называете это дрянью!
— А я называю дрянью-с! — отчеканил Егор Данилович тем тоном, который на мгновение напомнил мне утреннюю сцену. — Призы что? тьфу!.. А вы возьмите пор-р-роду-с… Вот это важно!..
— Что ж, и порода у Кролика чистокровная…
— Вот то-то и нет-с! — с азартом подхватил господин Михрюткин. — Вот в том-то и дело-с, что не чистокровная… Ха, чистокровная!.. Это у Кролика-то!..
— Чего ж больше желать, Егор Данилыч? — хладнокровно возражал господин Карпеткин, по-видимому, не особенно горячо принимая к сердцу предмет разговора. — Дед — Визапур, прадед — Любезный, прапрадед… {88}
— А материнская-то линия-с?.. — кипятился господин Михрюткин. Материнскую-то линию вы изволили забыть, Никанор Михайлович?..
— Что ж материнская?.. Бабка — Похвальная, полторы тысячи…
— Вот то-то и есть, батюшка! — видимо торжествуя, перебил Егор Данилыч. — А позвольте вас спросить: кто дед Похвальной-то этой?.. Красик!.. А у Красика бабка простой битюцкой породы-с… вот!
— Да ведь это сколько уж генераций прошло…
— Сто генераций пройдет, а уж порода себя окажет-с… Сто генер-р-раций!.. А то призы!.. Призы, батюшка, вздор…
— Помилуйте, Егор Данилович: один императорский — тысяча рублей, да второстепенные сколько!.. Это не вздор… нет, это не вздор-с!
Господин Карпеткин, выговаривая "тысяча рублей", как-то отчаянно поводил глазами и дергал носом.
— Вот такое-то отношение к деду и губит идею, многоуважаемый Никанор Михайлович, — несколько обиженно заговорил Егор Данилович, с каким-то особенным шиком произнося иностранные слова, — рубли-то эти, тысячи-то… Тут не в рублях сила-с — в принципе!.. А принцип в чем заключается?.. Единственно в одной только чистопородности… Вот-с!.. Вы взгляните — вот лошадь… (Господин Михрюткин пренебрежительно указал на один из портретов, висевших на стене). Чего в ней недостает? Шея ли, голова ли, ноги ли, или опять бедра, спина, грудь… Все хорошо! А вот ансамбля-то этого самого и нет-с… благородства-то, шику-то… А отчего? Оттого, что мать прабабки Любушки значится по книгам без породы-с… так и написано: не-извест-на-я… Да-с!.. Вот оно что, порода-то… А и бежала, и призы брала, и ценилась в четыре тысячи… Не-эт, батенька, порода — великое дело!..
— Я и не спорю, — отвечал господин Карпеткин, — но все-таки мне кажется, что вы преувеличиваете ее значение.
Господин Михрюткин, совсем было успокоившийся после своей длинной аргументации, теперь опять закипятился, и опять замелькали в его речах генеалогические подробности: {89}
"Дед — Любезный, родился от Скворчихи, а прадед — Быстрый, куплен был графом таким-то в «брюхе», и хотя отцом его и числится Непобедимый, но это не особенно достоверно, потому что Непобедимый в то время уже пал, так что чистопородность Быстрого, с отцовской стороны, подлежит сомнению, но что касается линии материнской, то она безупречна, потому что Непобедимый 3-й брат известного Визапура…" и т. д., и т. д.
В таких разговорах прошел у нас битый час. Наконец пришел наездник и почтительнейше доложил, что лошади готовы к выводке. Мы отправились в конюшню. Начали, разумеется, не с тех, которые предназначались к продаже, а с заводчиков, и затем уже перешли к продажным. Таков этикет.
Во время выводки никакого разговора о достоинствах или недостатках показываемых лошадей не было. Это считалось неприличным. Господин Михрюткин ограничился простым рассказом о происхождении каждой лошади, господин же Карпеткин в глубочайшем молчании и с чрезвычайной серьезностью выслушивал эти рассказы, иногда испуская многозначительное мычание и тщательно, со всевозможных сторон, осматривая выводимых лошадей.
Выводка производилась, как обыкновенно производится она в солидных конных заводах, владельцы которых выработали на этот случай целый кодекс приличий. Так, например, созерцаемая нами шла тихо, без торопливости, без гиканья и громких ударов кнута, при высокопочтительном и как бы торжественном молчании конюхов. Все противное этому называлось "дурным тоном", считалось неприличным, вульгарным, уместным разве на выводке барышника.
Когда мы по окончании выводки возвратились в дом и, в ожидании обеда, расположились на балконе, между Михрюткиным и Карпеткиным начался ожесточенный торг. Тут, к удивлению моему, выступили на сцену: и "маленький наливчик на левой задней ноге" у жеребчика, выводимого пятым, и "изложинка на спинке" у седьмого, и "бабочки высокие" у девятого, и "неприятная подлыжеватость" у десятого… Я просто никак не мог представить себе, когда господин Карпеткин успел подметить все эти недостатки и как он мог запомнить их… Всякому {90} свое. Вот, по моему мнению например, все показываемые лошади были прелестны, и даже разницы между ними я почти не находил.
После долгого торга, — во время которого лицо господина Карпеткина не раз из серого делалось красно-пегим, а глаза так и силились выскочить из орбит, господин же Михрюткин трагически колотил себя в грудь и пронзительно визжал, хотя вместе с тем немножко и подличал перед Карпеткиным, — они пришли, наконец, к соглашению, и Никанор Михайлович вручил Егору Даниловичу задаток, в получении которого почтительнейше попросил выдать ему "так, маленький клочок бумажки, для конторы".
Я тоже продал свой овес, при усерднейшем содействии Карпеткина, который ожесточенно приставал к Михрюткину, уговаривая его дать, мне требуемую мною цену. Впоследствии, при покупке у меня Карпеткиным десяти свиней, это, по-видимому беспричинное, содействие объяснилось… Предусмотрительный народ эти господа «применившиеся» помещики!
Во время нашего торга с господином Михрюткиным оказалось, между прочим, что он не знает, сколько обыкновенно весит четверть овса, хотя при всяком удобном случае выставлял себя как самого совершеннейшего сельского хозяина, обходящегося даже без управляющего.
— Все сам, батенька… все сам! — сокрушительно жаловался он мне, — и в поле, и на гумне…
Наконец приехала madame Карпеткина, и мы уселись за стол. Несмотря на отсутствие лососины и полупудовой стерляди, — отсутствие, про которое, вероятно, вспоминал и господин Михрюткин, потому что лицо его при взгляде на некоторые блюда не раз конвульсивно вздрагивало, словно от боли, — обед был очень хороший.
Madame Карпеткина, жеманная желтолицая барыня, с тонкими губами и темными меланхолическими глазами, давала тон разговору. Не знаю почему, она возомнила, что я охотник до чтения (так и выразилась) и вообще слежу за литературой. С этого и пошло…
— Вы получаете журналы? — спросила она меня.
— Получаю "Отечественные записки".
— Скажите, пожалуйста, что нового в последней книжке? {91}
— "Благонамеренные речи" Щедрина, роман Додэ, сатира Дженкинса…
— Фи, какая сушь все!.. Щедрин… Дженкинс… — пренебрежительно выставив нижнюю губу, протянула madame Карпеткина.
— Нет, ma chere, 1 про Щедрина не говори этого, — вставил господин Карпеткин. — Правда, он часто уходит, как это… Ну, в дебри, что ли, но все-таки пресмешные иногда вещи пописывает… От души похохочешь…
— Ну да, — важно произнесла madame Карпеткина, — все это смешно, весело… но чувства, чувства нет, mon ami…2
— Что ж чувство! — несколько обиженно возразил Никанор Михайлович. Чувства если — ищи у Сю там или у… у… как его? Ну, хоть у Скабичевского… Но согласись, ma chere, — продолжал он, — нельзя же одно только чувство… Мы — люди… Надо и посмеяться… Надо и отдохнуть от… от… треволнений!
Господин Карпеткин, с трудом подобрав это мудреное слово, важно отхлебнул хересу из большой зеленой рюмки.
— Наконец, что такое чувство? — добавил он. — Пустая и глупая шутка, как сказал… не помню, кто сказал… Смех — это я понимаю еще… для пищеварения там и прочее… но чувство?.. Не понимаю!..
Никанор Михайлович пожал плечами
— Ты вечно со своими… взглядами, — кисло улыбнувшись, отвечала madame Карпеткина, и, воспользовавшись наступившей тишиной, снова обратилась ко мне:
— Вот Авсеенко… наконец, Маркевич, граф Салиас, — медлительно тянула она, — это действительно писатели… Все так тонко подмечено… так художественно воспроизведено… Ах!.. Чародеи (Madame Карпеткина обольстительно улыбнулась, по-видимому, вспоминая что-то очень приятное). Самые сокровенные изгибы женского сердца… самые тайные мысли… всё, всё!.. И главное — прилично. Нет этих вечных мужиков, кабатчиков, вообще оборванцев…
— Ах, ma chere, какие же кабатчики — оборванцы! — с неудовольствием возразил господин Карпеткин. {92}
— Ну, все равно там… Грязь… вульгарность… Fi-donc!..1 Вообразите, — обратилась она ко мне, — недавно одна моя знакомая дала мне прочесть, что бы вы думали?
Madame Карпеткина загадочно сжала губу.
— Не могу угадать, — невольно улыбаясь, ответил я.
— Гле-ба Ус-пен-ско-го! — необыкновенно торжественно выговорила она, немилосердно растягивая слова. — Вообразите!.. Пьяницы какие-то там, лавочники, будочники… Ужас! И все это, знаете, грубо, аляповато, тривиально…
— Попович, должно-быть… — пробуркнул господин Михрюткин, яростно уплетая жареную индейку. Он вообще в разговор не вступал, да ему и некогда было. Всякого кушанья съедал он двойную порцию и после каждого такого приема долго отдувался и пыхтел.
— А по-моему, без этого тоже нельзя, — глубокомысленно изрек господин Карпеткин, допивая херес и расправляя усы, — разумеется, для барынь там Маркевич, Салиас… Но для нашего брата, сельского хозяина, положительно необходимо знакомиться со всеми этими Успенскими…
— Почему же? — удивленно спросил я.
— А позвольте вас спросить: вы знаете мужика? Егор Данилович знает мужика? Я знаю мужика? Душу-то его, подоплеку-то? Никто не знает. Не знает потому, что он, каналья, перед барином ее не выкажет, душу-то, а норовит все обманом… Мужик для нас, для господ — центральная Африка… Америка, еще не открытая… И мы ее никогда не откроем… Потому, повторяю, мужик груб, неблагодарен и перед барином всегда норовит казовый конец выставить… Ну, а пред каким-нибудь Успенским или вообще… поповичем он нараспашку!
— Но при чем же тут сельское-то хозяйство?
— А вот погодите! — все более и более оживляясь, говорил господин Карпеткин. Говорил он громко, отчетливо, точно отрубая каждое слово. — Я сельский хозяин. С кем мне дело иметь? С мужиком, — не так ли?.. Ну, а с кем дело имеешь, надо того знать, надо с ним пуд соли съесть, говорит старая пословица… А как я его узнаю? Войдите в мое положение… Соль-то эту он со мной есть {93} не станет, да, пожалуй, и я не соглашусь есть-то ее, потому что все-таки, как ни говори, а дедушка мой воеводой был… Как же я его узнаю, позвольте вас спросить?.. Вот тут-то приходит ко мне какой-нибудь Успенский или Решетов, да и докладывает: душа у мужика вот какая… я ее, дескать, до подлинности выворотил… Помилуйте-с, это орудие! — восторженно заключил господин Карпеткин, наливая новую рюмку хересу. — Я, признаться, в последнее время таки запустил себя, — начал он снова, — совсем от книг отстал, но с зимы непременно покупаю все эти книжонки, трактующие о мужике, и положительно засаживаюсь за них. Это необ-хо-ди-мо!.. Или возьмите другую сторону… Нужно мне на земском собрании какой-нибудь проектец провесть, а большинство-то от мужика зависит… Ну, что я тут, не зная и подоплеки-то его, говорить буду?.. Нет, а вот пускай он поповичу-то выложит ее, подоплеку-то, а мы и воспользуемся… Посмотрим, какая она такая есть… Да-с!
— Ах, Никанор, ты все с своей грубой, материальной точки зрения, томно возразила madame Карпеткина, грациозно смакуя мороженое, — но любовь, чувство… борьба… вот что нужно!
— Ах, отстань, матушка, с своей любовью! — грубо оборвал ее рассерженный господин Карпеткин, — не те времена нынче… Хорошо было о любви толковатъ бабушкам да дедушкам нашим, коли у них на носу ипотечных долгов не висело!.. Теперь не до любви… И вообще все эти нежные тонкости бросать нужно… все эти изящности, жантильности, идеальности… Рубль вот идеал!.. Есть он у тебя — вот и перл жизни, нету — прохвост!.. Лови, бери, не зевай, а не то какой-нибудь, кабатчик-оборванец (Никанор Михайлович произнес «оборванец» иронически) раньше тебя сцапает… И опять литература: учит она меня, как этот рубль заполучить, я ее уважаю, нет плюю!..
Обед кончился. Мы вышли на балкон, куда подали нам вино. Madame Карпеткина, очевидно разобиженная суждениями мужа, тотчас же после обеда уехала.
— Не-эт… это вы уж того, Никанор Михайлович… — лениво лепетал объевшийся господин Михрюткин, поводя вокруг осоловелыми глазами. {94}
— Что того? — грубовато спросил господин Карпеткин, пропустивший и на балконе малую толику хересу.
— Да насчет литературы… Возьмите хоть Дюма… Какая прелесть!.. Читаешь и не чувствуешь… страница за страницей… листик за листиком… Знаете, осенью затопишь эдак камин… закуришь эдак гаванну… возьмешь эдак мадеры хорошей и читаешь себе… "Три мушкетера" читаешь, или «Монтекристо» там… По-моему, нет выше наслаждения. (Господин Михрюткин сладко закрыл глаза и сентиментально перегнул головку.) Не все же польза, в самом деле!.. Надо, батенька, и идеалы!.. Идеалы — это такая вещь… Великая вещь!..
— Отстаньте вы со своими идеалами! — прервал его Карпеткин. — Вот я как наживу от ваших лошадей тысячи четыре — вот это идеал!.. А то — Дюма!..
Он пренебрежительно усмехнулся.
— Не-эт, батенька, без идеалов нельзя, — лениво мямлил господин Михрюткин, видимо страшно желавший соснуть. — Гаванна, камин… Мадера от Рауля и… Дюма. Д' Артаньян… Портос… Арамис… Нет, батенька… идеалы… это такая вещь… такая…
Он силился подыскать определение, но вдруг неожиданно и громко захрапел.
Солнце уже низко склонилось к горизонту. Его лучи принимали багровый оттенок. Пруд ярко алел под этими лучами. Поля казались морем пурпура. С полнеба покрывалось волнообразными, легкими, как вата, облаками. Они рдели от солнечных лучей жарким румянцем. Недалеко от балкона, в густом вишеннике, переливались страстные трели соловья; на окраине сада грустно ворковала горлинка. Откуда-то издалека доносилась унылая песня…
Отсвет от пылавшего неба падал прямо в лицо господину Михрюткину. Это лицо казалось необыкновенно довольным и добродушным. Легкая краска проступила на нем… Брюшко размеренно колыхалось; нос издавал слегка посвистывающее храпение; руки безмятежно покоились на жирных коленях…
— Ведь вы знаете, как он время проводит? — ехидно хихикая, обратился ко мне Никанор Михайлович. — Утром встанет, умоется, богу помолится непременно помолится, — повторил господин Карпеткин, как-то {95} насмешливо передернув усами, — и отправится по хозяйству… Войдет в свинятник, палкой в бок свинью толкнет и помычит глубокомысленно — ладно… Потом в конюшню пойдет, там ему маленькую выводку сделают… Иную лошадь обмахнет носовым платком, и если на платке окажется пыль — обругает, — ладно… Из конюшни в ригу: щипнет какую-нибудь девку потолще, неприязненно потянет носом воздух — и ладно… Там в кухню зайдет, повара поругает, а там и обед… Вечером придет Андреян Лукьяныч, явятся наездник, ключник, повар… Стоят у притолки… Барин чай пьет… И вы думаете, о деле у них разговоры идут? Ничуть не бывало… Еще с поваром что-нибудь похожее на дело скажет… А с теми — одни сплетни… Как попадья с дьяконицей подралась… как у фельдшера корова издохла… Мельник жене глаз вышиб… Девке Феклушке косу отрезали… Вот!.. Ну, а там и спать… день-то, глядишь, и прошел!.. Спи, младенец мой прекрасный, — смеясь обратился господин Карпеткин к господину Михрюткину, — баюшки-баю… Спи, наработался, теперь наша очередь наступила… Прошло твое времячко…
И мне в этих словах господина Карпеткина показался некий сокровенный смысл…. Действительно, прошло время господ Михрюткиных, думалось мне, глядя на пылавшее небо и залитую багровыми лучами даль, — один за другим исчахнут они с своими идеалами, с своими: традициями… Но кто же заменит их? Неужели господа Карпеткины?.. И грустно становилось на душе…
Уж вы, гусли, не гудите, Молодицу не будите… Ай люли-люли, не будите…вдруг шаловливо зазвенела песня в глубине сада.
Эх, люли-люли, не будите!.. Молодушка спит с похмелья Под калиновым кусточком… Ай, люли-люли, под кусточком… "Ай, люли, под кусточком!"— отозвалось далекое эхо.
— Ведь это девки в саду-то! — вскрикнул, плотоядно усмехнувшись, господин Карпеткин и, схватив фуражку, опрометью побежал с балкона.
Через полчаса я уехал из Даниловки. {96}
V. Мужичок Сигней и мой сосед Чухвостиков
Славные вечера бывают весною в нашей степной стороне!
Солнце уж низко. Пустынные поля словно облиты его мягкими, ласкающими лучами. Осиновые кусты и поросшие густым тальником окладины, разбросанные там и сям среди полей, подернуты золотисто-багровым светом. В сторону, противоположную закату, от них тянутся густые влажные тени. На далеком расстоянии друг от друга виднеются деревеньки, хутора, барские усадьбы. Кое-где сверкают кресты церквей и алеют каменные колокольни.
Нежно-голубое небо покрыто там и сям легкими как пух и словно пар прозрачными облаками, подернутыми то багряным, то светло-розовым, то золотисто-палевым румянцем. Какая-то светящаяся, беловатая полоса узкой чертою обнимает западный горизонт. На востоке этой полосы нет, там небо окрашено густой синевою, а над самым горизонтом протянулась хмурая, неприветливая кайма. Едва ощущаемое веяние прохладного, но еще мягкого и нежного ветерка слабо тревожит воздух, напоенный запахом свеже-разрытой земли, горьковатого осинника и молодой полыни. Иногда к этому исключительно полевому запаху тоненькая струйка воздуха приносит из ближайшей деревни запах парного молока, иногда потянет оттуда дымком, дегтем или свежим навозом, и с примесью этой-то едва уловимой струйки жилого запаха как бы живительней и благотворней становится запах полей. {97}
Тихо. Где-то во ржи, пока еще редко и лениво, отбивает свое «ва-вва» перепел. В сырой луговине, около окладины, скрипит дергач, посвистывают конюшки. Над маленькой кочковатой ложбинкой, заросшей в мокрых местах густыми купами молодого темно-зеленого камыша, вьется чибеска, пронзительно разрезая воздух своими острыми крыльями и печально оглашая поле рыдающим криком. Из-за дальних кустов чуть слышно доносится тоненькое, переливистое ржание сосунка-жеребенка.
Вдалеке маячится сгорбленная фигура пахаря, щедро облитая лучами заходящего солнца. Густые тени бегут от этой фигуры и тянутся длинною полосою по коричневой пашне. Вдоль полей широкой прямой лентою пролегла большая дорога, пестрея своими полосатыми верстовыми столбами. По дороге едет ямщик-обратный. Усталая тройка еле плетется, ямщик лениво мурлычет песенку, колокольчик медленно, словно нехотя, позванивает под высокой дугою; тени прихотливо двигаются за тройкой. По окраине дороги мелкими и частыми шажками бредет богомолка. "Садись, подвезу!" — кричит ямщик; богомолка молчит и прибавляет шагу. "Эх, ты…" — ямщик крупно ругается и вдруг дико вскрикивает: "Нну, голуби!.." Лошади поднимаются вскачь. Телега гремит, колокольчик уныло захлебывается, из-под колес поднимаются клубы пыли. Клубы эти от красноватых солнечных лучей кажутся темно-багровыми. Исполинские тени бегут вслед за тройкой.
"Возлe!.. возлe, окаян-н-ая…" — кричит пахарь и понукает лошаденку, спеша допахать полосу. "Возлe… возле-e"… откликается ближний лесок.
Солнце почти закатилось. Лучи его проникаются пурпуром и все делаются короче и короче. Тени почти сплошь заполоняют поля. Те светлые, покатые к западу, круговины, до которых еще достигают низкие горизонтальные лучи солнца, можно перечесть, — так их немного. В глубине востока, трепетно и неуверенно мигая, вспыхнула бледненькая звездочка. Небо синеет. Облака, тихо плавающие по середине неба, уж не отливают золотистым румянцем. Какая-то чахлая желтизна окаймляет их со стороны запада, да и та с каждой минутой потухает, уступая обычному бледно-серому цвету. Только над самым закатом рдеет еще, словно раскаленный уголь, {98} маленькое продолговатое облачко… Воздух становится холодноватым и влажным. Запах свежести усиливается. От ближнего поселка доносится мычание и блеяние возвращающегося домой стада, скрип отворяемых и запираемых ворот, звонкая ругань баб, громкое щелканье кнута и ноющие звуки жилеек.
В поле тоже не дремлют… Только чибеска умолкла. Зато перепела оглашают воздух неустанным треньканьем, дергач скрипит как оглашенный, конюшки переливаются взапуски, в маленьком степном прудке робко и мелодично квакают лягушки…
Мужик допахал полосу; перевернул кверху сошниками соху, посмотрел из-под руки на закат, обратясь к востоку медленно и размашисто перекрестился, ласково огладил тяжело дышавшую кобылу, и, с усилием взвалившись на нее верхом, поехал по меже к поселку.
Останемся одни среди поля.
Загораются звезды. Золотится заря. Неподвижен чудно прозрачный воздух. Ровною, необозримой пеленою уходят во все стороны поля, изредка перемежаемые кустами… Вдалеке поселки, хутора, усадьбы, с поразительной ясностью выступающие на голубоватом фоне мягких весенних сумерек…
Тишина… прохлада… простор.
От молодых всходов овса, от начинающих выколашиваться озимей, от рыхлой пашни, только что засеянной просом или вздвоенной под гречиху, от межников, поросших всякими травами и диким персиком, от зеленеющего пара, еще не вытравленного скотиной, от осиновых кустов, густо одетых вечно трепещущей листвою, от далеких сел и деревень — от всего этого безмятежного приволья веет какой-то мужественной и здоровой свежестью, все это возбуждает в вас какое-то умилительное чувство, — чувство мира и глубокого покоя…
На далекой колокольне бьют часы. Тягучие бархатные звуки сельского колокола торжественно и мерно, с какою-то медлительной плавностью, уносятся в глубокое поднебесье. Где-то чуть слышно дрожит тягучий отзвук… Дикие утки, словно ошалелые, пронеслись над самой землей, с каким-то тревожным визгом разрезая воздух. Заря чуть теплится… {99}
Ночь.
В один из таких-то благодатных весенних вечеров ко мне на хутор прикатил, в своей отчаянно дребезжащей таратайке, сосед мой и хороший знакомый Андрей Захарыч Чухвостиков. Я только что вернулся с поля, где у меня в тот день сеяли гречиху.
Но надо, я думаю, рассказать, что такое был за человек Андрей Захарыч.
Человек он был хороший. Происходил из бывших крепостных какого-то графа, у которого много лет служил управляющим. Когда громадное графское состояние с надлежащим шиком было истощено владельцем и в конце-концов разлетелось вдребезги от соприкосновения. с новыми порядками, Андрей Захарыч купил на сбереженные гроши неподалеку от меня сорок десятин земли, выстроил на этой земле уютный хуторок и зажил себе припеваючи. Был он холост, высок, страшно худ и костляв. Сохранял вечную угрюмость, хотя далеко не был флегматиком, курил асмоловский табак третьего сорта, говорил скороговоркой и без малейшей вдумчивости, во время разговора немилосердно хмурил свои густые брови и сурово вращал глазами, почти к каждому слову прибавлял «слово-ерс» и страстно, до изнеможения, любил сплетни. Впрочем, надо отдать ему справедливость, относился он к сплетням не как к пустому препровождению времени, а как бы к некоему государственной важности делу. Ничем нельзя его было так обидеть, как легкомысленным, смешливым отношением к сплетне. Он тогда до невероятности насупливал брови, ожесточенно чесал всегда плохо выбритый подбородок и в конце концов, глубоко нахлобучив свой бархатный, старомодный картуз, с немым достоинством удалялся от дерзновенного. Но зато не было для него и большего удовольствия, как если кто вдавался с ним в серьезное, основательное рассуждение по поводу той или другой сплетни. Он становился тогда важным и внушительным; строго и неукоснительно определяя одно за другим все свойства разбираемой сплетни, нередко ударялся даже в философию, и оставлял в покое эту злосчастную сплетню не иначе, как по извлечении из нее целого вороха более или менее мудрых (хотя всегда чрезвычайно лаконичных) умозаключений. Сплетни заменяли ему газеты, которые он терпеть не мог. Все, что {100} делалось в околотке, всегда первому и всегда во всех подробностях было известно Чухвостикову. По многим селам и деревням у него бывали специальные агенты, в большинстве случаев старики и старухи, которые, по мере накопления материала, приезжали и приходили к нему на хутор, где за вечно шипевшим самоваром и выкладывали всю подноготную.
Кроме этой слабости Андрея Захарыча (если только это слабость), он имел и еще две. Был привержен к охоте с дудочкой на перепелов и питал непреоборимую страсть к рыболовству. В известные времена года одна из этих трех слабостей (уж будем их так называть) непременно имела перевес в Чухвостикове, хотя и не заглушая двух остальных… Так, например, с осени и до весны особенно сокрушительно свирепствовала жажда сплетен, летом же перемежались и перепела и рыба. Впрочем, кроме июля, перевес был всегда на стороне рыбы. К несчастью, на земельке Андрея Захарыча вместо пруда находилось какое-то гнусное болото, и вот почему, начиная с весны и кончая осенью, он частенько-таки навещал мой хутор. У меня был хотя и маленький прудок, но зато чрезвычайно изобилующий карасями.
— Ну, батенька, — встретил я Андрея Захарыча, когда он входил в комнату, — ведь ловить-то сегодня некому! Один Михайло дома, да и тому сейчас приказал ехать в Березовку, повестить о пахоте.
— А Семен?
— Семен в городе.
— Ах ты господи, какая досада-с, — опечалился Андрей Захарыч, рассеянно здороваясь со мною, — а я, как нарочно, сегодня и Федьку своего не взял-с… Ах, какое горе-с!..
— Ну, вот…
— А-ах, ах! — Чухвостиков насупил свои густейшие брови и недовольно сморщил лоб. — А вы изволили слышать: у Вертаева-то конторщик сто тридцать два целковых потерял, да-с! — Тут на мгновение было оживился он, но, уже не дожидаясь от меня ответа, опять поник головою. — Ведь вот тебе горе-то-с, вот! — Он частыми шажками заходил по комнате, с нервной раздражительностью пощипывая щетинистый подбородок и беспрестанно поддергивая, почему-то вечно сползавшие, панталоны. {101}
— А священник-то Крутоярский, отец Вассиан, жеребца в Полетаеве купил-с, сто два целковых…
— Какой масти? — спросил я, вознамерившись разговором на любимую тему Андрея Захарыча отвлечь его от грустных мыслей.
— Вороной-с, правая — задняя нога в полвенца белая, — не задумываясь, ответил Андрей Захарыч и, вдруг обратившись ко мне, внушительно произнес: Вот я и думаю, Николай Васильич… Ежели взять с одной стороны пастырь-с… и ежели опять — стадо-с, овцы — по писанию. Ну, купил он там жеребца-с…
— Ну-с, так как?
Но Андрей Захарыч внезапно отвернулся, ожесточенно вздернул панталоны и, сокрушительно воскликнув: "Ведь кто это знал-с, кто это знал-то-с!" заходил по комнате.
— Это вы насчет жеребца? — участливо спросил я.
Он круто остановился и недоумевающе взглянул на меня, потом развел руками и опять заботливо зашагал по комнате.
— Зорька-то благотворная-с! — как бы поясняя, проронил он на ходу, и затем меланхолически добавил: — У Дурманина овцы колеют-с…
— Зараза? — коротко спросил я.
— Небрежение-с! — так же коротко, но с несомненным оттенком злорадства ответил Чухвостиков (он терпеть не мог дурманинского управляющего, страстного любителя газет, политикана и гордеца Семена Андреича) и затем, тяжело вздохнув, несколько укоризненно произнес: — Э-их, теплынь-то-с, теплынь-то матушка!..
Мне даже стало жалко Андрея Захарыча. Если бы была хотя маленькая возможность не посылать Михайлу в Березовку, я, конечно, предоставил бы его в распоряжение Чухвостикова, но дело в том, что посылать было нужно, необходимо. Сам я ловить рыбу не умел, а, между тем, для ловли бреднем непременно нужно двоих, то есть требовался еще один человек, помимо самого Андрея Захарыча… Одним словом, не представлялось никакой возможности устроить ловлю. Приходилось иными способами отвлекать гостя от удручающих его мыслей, и я попросил Анну подавать поскорее самовар. {102}
Менее чем через полчаса самовар уже клокотал на балконе, и Анна возилась у стола, расстанавливая посуду. При взгляде на Анну озабоченное лицо Андрея Захарыча вдруг оживилось, он как-то удивленно взмахнул бровями и даже, если не ошибаюсь, улыбнулся.
— С ней бы? — радостно обратился он ко мне.
— Чего? — удивился я.
— Рыбу, ежели-с…
Я не утерпел и засмеялся. Андрей Захарыч вдруг ужасно переконфузился, как-то чрезвычайно скоро перевернулся на одной ноге и стремительно вышел на балкон. Он, видимо, что-то сообразил. Это было заметно даже по тем враждебным взглядам, которыми он искоса окидывал Анну, как бы укоряя ее за тот прекрасный пол, к которому она имела глупость принадлежать.
Чай уж был налит, и от него тоненькой душистой струйкой вился беловатый нар.
Прямо перед балконом тянулся маленький садик, в котором, впрочем, кроме густого малинника да нескольких групп только что начинавшей зацветать сирени, ничего не было. За садиком тихо покоился прудок, отражая еще не прогоревшую зарю, глубокое, чистое небо да высокий и зеленый как лук камыш, с мертвою неподвижностью стоявший в теплом, безветренном воздухе. Часто гладкая как стекло поверхность пруда колебалась, и небольшие круги расходились по ней слоистой рябью: то играла рыба. Иногда даже над водой проворно мелькали серебристые, блестящие пятнышки…
Ничто не нарушало тишины. Только наш самовар монотонно тянул свои унылые, тихо звенящие песенки, да где-то чуть слышно турлыкала лягушка и печально стонала выпь.
Чухвостиков угрюмо молчал, от времени до времени недовольно оглядывая прудок.
— У Чумакова кобеля овчарного отравили-с, — брюзгливо, а отчасти даже и пренебрежительно произнес он, не поворачивая ко мне головы, и затем чуть слышно прошептал: — Эка ведь играет-то, эка плескается!..
— Не слыхать, кто? — полюбопытствовал я.
— Ванька Архипов, из Крутоярья, — задумчиво обозревая окрестности, ответил Андрей Захарыч, и вдруг опять оживленно, всем корпусом повернулся ко мне. {103}
— Вентеря есть у вас?
Мне просто горько сделалось. Я даже не решился сразу ответить… А между тем Андрей Захарыч не унимался: он уж порывисто вставал с кресел. Лицо его просветлело, и в суровых до того глазах засверкали ласковые искорки…
— С вечера ежели поставить-с, — чрезвычайно возбужденным голосом начал он, — а обaпол полночи…
— Да нету вентерей-то! — тоскливо отозвался я.
Андрей Захарыч опешил; он даже не нашелся, что сказать, — так сильна была у него уверенность в непременном существовании вентерей на моем хуторе. Лицо его окуталось мраком, глаза спрятались под сдвинутыми бровями…
— А верши? — каким-то упавшим и даже почему-то мгновенно осипшим голосом спросил он.
Я уж было, с решимостью отчаяния, собирался ответить ему, что и вершей нет, как вдруг совершенно неожиданно у балкона появился Михайло. Он застенчиво мял в руках шапку и бросал заискивающие взоры на Андрея Захарыча. Впрочем, отпечаток несомненного внутреннего довольства чем-то ясно был виден на его как бы смущенном лице. Я был отчасти рад, что он подошел к балкону в такую критическую для меня минуту, но вместе с тем и очень неприятно удивился, потому что предполагал, что он уже в Березовке.
— Ты чего же это не едешь-то до сих пор? — спросил я.
— Да я вот насчет рыбы все, — переминаясь с ноги на ногу, ответил Михайло, опять-таки умильно взглядывая на Андрея Захарыча, который при одном упоминовении рыбы вдруг весь распрямился и трепетно приподнял брови.
— Ну? — торопил я Михайлу.
— Ну, ну? — нетерпеливо любопытствовал Чухвостиков.
— Тут мужичок у нас ночует, — Сигней.
— Какой Сигней?
— Калинкинский. Он ноне-то не допахал, — ну, так и ночует…
— Зови, зови его, чего ж ты! — ужасно загорячился Андрей Захарыч, поспешно вскакивая с кресла и яростно поддергивая панталоны. Но Михайло, не обращая ни {104} малейшего внимания на его горячность, тем же ровным и чрезвычайно вразумительным голосом продолжал:
— Еще сын у ево, у Сигнея-то, Митрофан… Митрофаном звать… И только он, Митрофан-то, в Лущеватку уехал, за палицей… Палица-то сломалась у них… Пообедамши уехал…
— Ну, поговорил бы ему, Сигнею-то этому: рыбу, мол, ловить… Только сам-то поезжай, — прервал я Михайлу.
— Сей минут! Я уж говорил; он бредень сымает…
— Вот и отлично! Ну, ступай теперь.
Но Михайло все стоял.
— И только он лошадям мякинки просит…
— Пускай возьмет. Да поезжай сам-то скорей!
— Сей минут! — повторил Михайло, и затем печально добавил: — И штоб водки два стакана… потому — как вода… и, значит, кабы сын… эт Митрофан-то!.. А неежели мне, говорит, поштенному человеку… И опять, говорит, ломoта… Кабы ежели не ломoта…
— Все? — нетерпеливо спросил я.
Михайло разом остановился и, слегка вздохнув, сказал, что все.
— Ну ладно. Ступай в Березовку!
— Я — сей минут… Духом-с! — уже весело заключил он и быстро исчез. Немного погодя бойкий топот Копчика по твердо убитой дороге дал нам знать, что Михайло действительно скатает «духом» в Березовку.
Когда Андрей Захарыч напялил на свое тощее, костлявое тело костюм, специально предназначенный им для рыбной ловли, и мы подошли к тому месту пруда, от которого нужно было «заходить», мужичок Сигней уже сидел на корточках около бредня, раскинутого по отлогому бережку, и, старательно распутывая мотню, выкидывал из нее мелкие камешки, раковины, сухую тину и тому подобную дрянь, насорившуюся в прошлую ловлю.
— Эх, бреденек-то, господа поштенные, ста-ре-нек! — встретил он нас, неторопливо становясь на ноги и низко кланяясь.
Мужичок Сигней смотрел чрезвычайно симпатично. Седые кудри на голове, румяные, свежие щеки, сивая окладистая бородка, маленькие, слегка прищуренные глазки, тонкая и как бы насмешливая, но вместе с тем {105} и ласкательная улыбка, — все привлекало в нем. Только певучая речь его была чересчур уж льстива и вкрадчива. Правда, частенько сквозь эту вкрадчивость просвечивала ирония, но только опытный да опытный человек мог уловить ее: так незаметно змеилась она в ворохе льстивых фраз. Он был низенький, коренастый и необыкновенно широкоплечий.
— Старенек, господа поштенные, ста-ре-нек! — повторил он, медленно растягивая слова.
— Какой есть, — сказал я.
— Вот это ты верно! — как бы пораженный справедливостью моего замечания, воскликнул Сигней, — это уж какой есть… Не стать его теперь бросать-то…
— Ты — Сигней-то? — прервал его Чухвостиков, ежась и вздрагивая в своем чересчур легком костюме, в котором он походил на какую-то ощипанную птицу до нелепости громадных размеров.
— Мы будем, сударь ты мой, мы… А ведерку-то кто поносит? Аль уж ты рученьки-то свои белые потрудишь! — обратился он ко мне.
— Я.
— Ишь ты ведь, — с каким-то почтительным удивлением заметил Сигней и взялся за бредень. — Господи, владычица небесная!.. Ну-ко, благословясь… Ты уж, барин, первый-то заходи, — ишь, маленько быдто порослей меня будешь-то… Что поделаешь! не дал мне бог роста, не дал… Я уж от бережка похлопочу… Тоже ведь с умом надо… Постараюсь, постараюсь вашей милости… отчего добрым людям не послужить…
Рыболовы, осторожно ступая, зашли в воду и тихо потянули бредень. Андрей Захарыч как-то всхлипывал от холода, но удерживался и ни разу не вскрикнул; вода доходила ему по горло, а иногда и выше, и тогда он, порывисто захлебываясь, подпрыгивал и проходил на цыпочках глубокое место. Лицо его посинело и страшно вытянулось. Изумительно вытаращенные глаза с каким-то жадным любопытством и чрезвычайно сосредоточенно были устремлены на воду.
Мужичок Сигней шел от берега. Вода в редких случаях доходила ему до пояса. Он не переставал вести полушепотом разговоры:
— Тяни, сударь, глыбже… тяни!.. Растягивая бреде-{106}нек-то… растягивай его… Нижей ко дну-то пущай… И-их, молодец ты, как я погляжу!.. Вот и барин… что твой заправский рыбак… Наперед-то, наперед-то клони… так, так… Ну, теперь уж она наша!.. это как есть…
— Выволакивать, полагаю? — страстным полушепотом осведомился Чухвостиков.
— В усыночек-то,1 барин, в усыночек-то… Трафь в усыночек… так, так, так… Вот и барин! — одобрительно отзывался Сигней, возвышая голос и выволакивал бредень. Андрей Захарыч, чуть не бегом, тоже выносился с своим «крылом» на берег. Волна хлынула вслед за ними и разбилась мельчайшими брызгами. В мотне заблестела отчаянно трепыхавшаяся рыба. Андрей Захарыч, с радостной дрожью в голосе, требовал ведро. Я налил в него воды и поставил к бредню. Измокшие и перезябшие рыбаки с лихорадочной поспешностью выбирали крупных карасей и бросали их в ведро; мелочь пускалась обратно в пруд. Рыба, предназначаемая для ухи, грузно шлепалась о звонкие стенки ведра и беспомощно билась в тесном пространстве; пущенная же опять в пруд шаловливо ударяла хвостиком по его темной поверхности и моментально исчезала в глубине. Взбаламученная рыбаками вода подернулась маленькими волнами. Когда эти волны дошли до камыша и разбились в нем тихими всплесками, он вдруг как бы проснулся. Казалось — ветер пробежал по его темно-зеленой поверхности и встревоженно зашуршал молодыми, шероховатыми листьями.
Заря уж почти померкла, и на бледно-синем небе кротким, трепещущим светом загорелись звезды, когда мои рыбаки прекратили, наконец, ловлю. Совершали они ее большею частью в строгом и каком-то созерцательном молчании. Даже разговорчивый Сигней, и тот только изредка прерывал это молчание. Физиономии у обоих были чрезвычайно деловые и внушительные.
Об улове нечего и говорить: он был очень хорош, так хорош, что пришлось часть его пустить обратно в пруд. Подъехал и Михайло. Он заботливо развернул бредень по отлогой окраине плотины, когда Андрей Захарыч и Сигней почти бегом отправились переодеваться, а последний и, кроме того, получать выговоренные два стакана водки. {107}
Так как вечер был очень теплый, то уху решили и варить и есть тут же, около пруда, где на покатом бережку еще прошлым летом была вырыта для этой цели небольшая ямка. Михайло был мастер варить уху. Во всем процессе, рыболовства этот заключительный акт всего больше нравился ему. Надо было видеть, с какой важной серьезностью он чистил рыбу, клал в кипяток соль и перец, крошил туда лук и следил, во время кипения за пеной, которую аккуратно и с видимым наслаждением снимал уполовником… А потом многократное смакование ухи: солона ли, довольно ли луку, не мало ли перцу, — с каким сосредоточенным глубокомыслием совершалось это!.. Имел он и обычный недостаток всех великих мастеров: терпеть не мог, чтобы вмешивались в его дело. Хотя бы какое-либо замечание, насчет того, например, что недурно бы еще подложить перцу, было и справедливо, Михайло всегда недовольно щурился и складывал свои толстые губы в пренебрежительную улыбку. Впрочем, это бывало только тогда, когда замечание делал «барин», "своего брата" он попросту, без всяких изменений физиономии, обрывал самым грубейшим образом.
Когда рыба была уже перечищена и Михайло наливал в большущий чугун воду, пришли и рыболовы. Андрей Захарыч напялил на себя коротенький мерлушечий тулупчик, а мужичок Сигней одел позамасленный, но еще совершенно крепкий полушубок. Вслед за ними Анна принесла коврик, на котором мы и уселись с Чухвостиковым, молчаливо закурив папиросы. Вообще, под влиянием ли холода или почему-либо другому, Андрей Захарыч не пускался в разговоры. Лицо его, хотя и совершенно спокойное, носило на себе печать какой-то мечтательной задумчивости, глаза рассеянно были устремлены куда-то вдаль.
Сигней суетливо разводил огонь. Он раза два попытался было вмешаться и в самое приготовление ухи, но, получив рьяный отпор со стороны Михайлы, ретировался, не забыв при этом усмехнуться себе в бороду. Когда Михайло стал опускать в чугун здоровенных, еще не заснувших карасей, Сигней обратился ко мне:
— Ну-у, рыба у тебя, Миколай Василич!.. Вот уж рыба-а… Карасищев-то таких, я чай, и в Битюке по-{108}искать… Эка жисть-то, с водой-то матушкой! — он легонько вздохнул.
Я вспомнил, что в Калинкиных двориках не было пруда.
— Как это вы без пруда-то обходитесь?
— Колодези у нас, милый ты мой барин, колодези… Что поделаешь перебиваемся как ни то… Барская воля, чего ж с ей будешь делать… Угодно им, вот и сселили…
— Прежние-то места, кажется, хороши были у вас?
— Были-то они были… Это что говорить, хорошие места были, угодливые… Ну, только им виднее… Не способно, стало быть, нам, дуракам, жить-то там, вот и переселили. Им тоже своего терять не приходится… С чего же? Мы ежели теперь и без угодьев, все как-никак перебиваемой, пока бог грехам терпит… Все хлебушко какой ни на есть жуем!.. А баринок-то наш человек нежный… он вон и с угодьями горюет… Как тут быть-то!
— Вы, никак, не хотели переселяться-то, еще бунт, кажется, затеяли? спросил я.
— Было малость, — неохотно отвечал Сигней, — греха нечего таить было… Подурили маленько, признаться… Что ж, Миколай Василич, народ мы темный, глупый… Ох, глупый мы народ-то! (Сигней даже сокрушительно вздохнул и совсем прищурил свои маленькие глазки.) Учить-то нас вот как еще надо! вот как… Я в те поры еще толковал: бросьте, мол, мужики… ну, нет!.. Где уж нам!.. Где их милость указала, там и селись… Им виднее!.. То-то все гордыня-то наша… Дали волю, ослобонили, так нет, — мало… Ну, и спокаялись… Гордыней-то ничего не возьмешь, а ежели тихостью, смиренством, ну так… С барином завсегда можно обойтись, потому, барин он добрый и заслугу завсегда понимать может… А то бунтовать!
Я спросил Сигнея, где он пахал. На своем поле мне не случалось его видеть.
— Хе-хе, — приятно осклабился Сигней, — тут я тебе услугу сделал, Миколай Василич… Это уж как есть — услужил… Сват у меня есть, в Россошном, Григорий, — помнишь, может? (Я помнил Григория; раз, во время вьюги, он провожал меня к одному знакомцу.) Ну, вот!.. Своячина-то его за моим малым будет, за Митрошкой… {109} Вот мы и сваты… По-нашему, по-мужицки это… Он, сват-то… ну, не похвалюсь я им… что уж!.. (Сигней снисходительно засмеялся.) — Плоховат он, сваток-то мой… Это уж правду надо сказать — плоховат…
— Ты что же, пашешь, что ль, за него? — спросил я, вспомнив, что Григорий снял у меня под яровое две десятины земли.
— За него, Миколай Василич, за него, — одобрительно пропел Сигней, где уж ему, сватку-то, осилить, ну, я за него и стараюсь… Все кабыть не чужой… Да и тебе-то, признаться, послужить хотел, наслышаны мы про тебя-то, — он ласково заглянул мне в глаза.
— Мне-то какая тут услуга? — удивился я.
— А ка-ак же, — торжествующим тоном протянул Сигней, — ведь он убогий человек, сваток-то мой, Григорий-то… Ему не токмa что сымать — впору с своей душевой управиться, с земелькой-то… Ну, я его и ослобонил… Это прямо надо сказать — ослобонил… А то двадцать шесть целковых!.. Где ему… Бедняйший человек-то он, — сожалительно пояснил мужичок Сигней.
— Ты, стало быть, переснял у него землю-то?..
— Вызволил, Миколай Василич, вызволил… Что ж, бог с ним… пущай… Да и тебя-то, признаться, пожалел… Что, думаю, барину с ним вожжаться… Чего с него взять?.. Тут не то с ним хлопочи, не то с своими делами справляйся… Делов-то у вас не нам чета!.. Нам что? — Поработал денек-то, да и завалился спозаранку… А тут все подумай да приспособь: как, что… куда какую вещию произвесть… Мы ведь это тоже можем понимать! Другой вон скажет — жисть барину-то!.. А поживи-кось!.. У тебя сколько земли-то? спросил он у меня.
— Четыреста десятин.
— Вон! — с почтительным удивлением протянул Сигней, — легко вымолвить!.. Управься-ко с ей, с хaзиной-то с эстой… Произведи ее в дело!.. А нашему брату дураку что? — Знай соху да борону… Ах, грехи, грехи! — Он опять сокрушительно вздохнул и помахал головой.
— Теперь вот хошь покос взять… Мало его нешто у тебя? (мужичок Сигней вопросительно и участливо заглянул мне в лицо), — а тоже ведь надо и его устроить… Я все так-то думаю, думаю, — вот и барин!.. не легко тоже… Оно, пожалуй, раздай его, покос-то, нешто не раз-{110}дать?.. Тоже много таких, как сваток-то мой… А опосля и собирай!..
— Разве Григорий-то плутоват? — спросил я.
— Бедность-то его, барин, зашибла-а… Куда уж ему плутовать!.. Иной раз и рад бы по-чести, да ничего не поделаешь… Деться-то некуда… Ведь вот об троице тебе платить десять рублев, за земельку-то… Ну, где ему?.. Я-то, по благости господней, пока бог грехам терпит, смогу… А ему и тяжко.
— У меня застой не будет, — заговорил он после непродолжительного молчания, — хоть сейчас получай… Я ему и сказал: ну что ты, мол, сват, барина-то будешь гневить… Он ведь, барин-то, как ни то — пригодится… В гнев-то его вводить тоже не след… Ну и вызволил!.. Что уж… По душе!.. Пущай…
Мужичок Сигней с великодушнейшим видом махнул рукой и затем совершенно неожиданно добавил:
— А ты уж покосец-то у Яркиной окладииы уважь мне… Я уж тебе заслужу… Травка-то там хоша и не важная, ну, да нам, по мужицкому нашему обиходу, сойдет… Больше все ковылoк там-от… Дай бог, копен на двадцать!..
Покосец у Яркиной окладины никогда не давал меньше пятидесяти копен. Я сказал, что подумаю.
— Это отчего не подумать, — одобрительно протянул мужичок Сигней, подумать — первое дело… Только уж, Миколай Василич, ей-богу, без обиды… Думаю — как заехал я к тебе, вызволил из земельки-то эфтой, сватниной-то, так заодно уж… послужу… А мне кстати бы — близко покосец-то к посеву… Та-ак рядышком. Ты, может, видал?.. Как, поди, не видать… Ты чтой-то не больно барствуешь-то!.. Я позавчера куда тебе рань какую на рассев-то поднялся, а ты уж по полю-то бродишь… Это уж прямо надо сказать — хозяин!
Надо сообщить читателю, что одна из самых зазорных моих слабостей это страсть поспать… Хозяин я тоже плохой — сонливый и ленивый…
Уха уже несколько раз кипела, и Михайло объявил, что ее скоро надо есть. Анна притащила хлеб и посуду.
Над нами висела уж настоящая ночь, которая казалась очень темною от огня, острыми языками лизавшего стенки огромного чугуна с ухою. На траву ложилась {111} едва еще заметная роса. Прудок походил на громадную лужу чернил, окрашенную от берега багровым заревом нашего костра. Млечный Путь опоясал черный небосклон, звезды сияли уже не робко и трепетно, а с какой-то торжественной ясностью. С поля доносились задорные перекликанья перепелов. В неподвижном камыше что-то едва слышно шуршало. Влажная свежесть пропитывала воздух. Пахло водою и какой-то приятной затхлостью.
Я отправился в дом за папиросами и, воротившись к берегу, застал уху уже налитую в огромную чашку. Андрей Захарыч, наконец, вышел из своей странной задумчивости и вел с Сигнеем разговоры. Сигней солидно и не спеша уплетал уху. Михайло с какой-то ретивостью подсоблял ему.
Я сел поодаль от них и закурил папиросу (ухи мне есть не хотелось). Чухвостиков трактовал о вороном жеребце, купленном крутоярским батюшкой, отцом Вассианом.
— Ну, пастырь он, положим-с… По писанию ежели… — говорил Андрей Захарыч.
— Это уж ты как есть, — подтверждал Сигней, тщательно откусывая хлеб от огромнейшего ломтя и бережно отряхая этот ломоть над ухою, — знамо пастырь… Наставлять чтобы…
— Да… наставлять… — задумчиво произнес Андрей Захарыч, и затем оживленно добавил: — Теперь — жеребец, возьмем жеребца…
— Что ж — жеребец?.. Сто два целковых — цена небольшая… Так ежели будем говорить: четырехлеток он…
— Четырехлеток.
— Ну, продержит он его с год…
— С год…
— А там, глядишь, повел его в Толши 1…
— Монахи тоже! — язвительно воскликнул Андрей Захарыч и, не дав кончить Сигнею, вдруг горячо и часто заговорил: — Вот я и утверждаю-с… ну, пастырь он… Пример ему подобает подавать иль нет-с?.. Печаловаться, так сказать… чтоб души ежели… Потому, как ни говори, христианские они, крещеные… Наблюдение-то за ними {112} надобно-с, за душами-то!.. Ну, а он жеребца теперь… Ты говоришь, вот, — в Толши… Это мне повесть аль тебе там, ну так… Потому мы — миряне…
— Это уж как есть, что миряне, — довольно безучастно отозвался Сигней.
— Да… Ежели молебен, ну, свадьба там — это его… Это ему надлежит… Но не ежели жеребца-с… Потому, что же это такое, скажите на милость? — пастырь и… жеребец!..
Андрей Захарыч окинул Сигнея укоризненным взглядом, после чего тот поспешил ответить:
— Уж это что!.. известно — непорядок… Жеребец — ему холя нужна… Тоже зря-то всякий бы сумел… Купил да и поставил в хлевушок… Нет, а ты его наблюди-и!..
— Наблюди? — неуверенно произнес Андрей Захарыч, по-видимому слегка опешенный неожиданным оборотом разговора.
— А то как же! — как бы увлекаясь, воскликнул мужичок Сигней, — а ты думал, зря как?.. Нет — погодишь!.. С ей, с скотиной-то, тоже надо умеючи…
— Надо умеючи, — как-то тупо подтвердил Чухвостиков, почему-то тоже впадая почти в восторженный тон.
— Ну, а попу с эстим недосуг, священнику то ись, — продолжал Сигней, вот ежели ты, барин, заведешь коня-то — это так, это к делу… Потому человек ты сло-бодный, умственный… порядки знаешь… И по хозяйству все: как напоить, как овса засыпать аль резки… Чего тебе!.. Есть лошадки-то в откорме? — участливо докончил он свою реплику, окидывая заискивающим взглядом Андрея Захарыча.
Михайло подбросил дров на то место, где варилась уха, и костер весело затрещал, вмиг охватываясь сплошным огнем: дрова были очень сухие.
— Есть — трехлеток, — с довольным видом ответил Андрей Захарыч, по-видимому очень польщенный комплиментами Сигнея.
— Вот ишь! — одобрительно заметил Сигней, — битючок?
— Битюк.
— А где купил-то?
— В Мордове.
— Небось уж сам покупал-то, дорого не дал?.. Ишь, {113} барин-то не промах… Не обойдешь его… — снисходительно посмеивался Сигней, весь как бы проникнутый каким-то почтительным уважением к особе «непромаха-барина». Чухвостиков горделиво улыбнулся и важно приподнял брови.
— Недорого, — пренебрежительно проронил он, — семьдесят пять…
— В Толши поведешь?
— Туда.
— Эх, время-то многонько еще, — завздыхал Сигней, — почитай целое лето кормить-то!.. Овса одного, поди, прорва выходит. Уж я это знаю… Знаю я эту канитель-то… Тоже случалось, выкармливали… А овес-то! — три рублика анадысь на базаре…
— Свой у меня, — немного разочарованным тоном ответил Андрей Захарыч.
— Это иное дело!.. Известно, ежели деньги на выручку, продал его по три-то рублика… А уж коли не к спеху… — это ничего… Можно и жеребчиком потравить, можно… Все, глядишь, выручит к осени-то… Рублика два выручит, поди, за четверть-то? — бесхитростно спросил Сигней, и сам же ответил: — Как, поди, не выручить…
— Неужель три рубля овес-то? — совсем уже разочарованно спросил Чухвостиков, с явным признаком душевной истомы в голосе.
— Три рублика, три… Об этом что говорить… Десять с полтинкой, значит, будет, ежели по-старому, — на сигнации… Да-а, дорого-онек!.. Сигней участливо чмокнул губами и, обтерев ложку, отложил ее в сторону.
Появилось другое блюдо — вареная рыба.
Чухвостиков положительно затуманился. Я и забыл сказать, что он был-таки скупенек. Теперь его, по всей вероятности, мучила невозможность продать по хорошей цене те десять-пятнадцать четвертей овса, которые нужно было удержать для жеребца. Впрочем, мужичок Сигней не долго держал его в таком состоянии; задумчиво и печально съев две-три рыбки, он вдруг поднял голову и, с сожалением взглянув на Андрея Захарыча, благодушно произнес:
— Аль уж выручить тебя, барин?.. Уж одно к одному… Господа-то вы хорошие!.. Теперь Миколая Василича вызволил, уж и тебя… Нам бог пошлет… Найпаче {114} по душе старайся… а уж там… (Сигней не договорил, что «там», но с молодецкой пренебрежительностью махнул рукой) куплю я у тебя жеребчика-то, куплю… Хорош барин-то!.. Видно, уж надо ослобонить… Завтра прибегу, посмотрю… Не горюй… Я уж вызволю, не таковский человек… Мы еще, слава богу, покамест бог грехам терпит — в силе…
Андрей Захарыч сразу просветлел и как-то изумительно обрадовался. Я даже удивился этой сильной радости. Верно, ему уж до жадности захотелось тех трех рублей за четверть овса, которые, по словам Сигнея, охотно платят на базаре.
— Бач-к-а! — послышался с хутора грубоватый, немного охрипший голос.
— Митроха-а! — откликнулся Сигней.
— Где ты?
— Подь сюда-а!
— Ты уж, Миколай Василич, дозволь малому ушицы-то похлебать, обратился ко мне Сигней, — тоже сын ведь… Грубоват хошь парень-то, а все сын…
Я, конечно, дозволил "грубоватому парню" похлебать ушицы.
Митроха имел большое сходство с отцом, но сходство это ограничивалось только одной наружностью: он был такой же низенький, такой же коренастый и щекастый, у него были такие же маленькие, прищуренные глаза и насмешливые губы… Но отцовского духа, — духа лицемерия и лжи, не было заметно в его красивых чертах. Глаза его глядели не умильно и ласково, а вдумчиво и строго, на губах играла не подобострастная улыбка, перемежаемая лукавой насмешливостью, а одна только жесткая ирония. И речь его, в противоположность речи отцовской, не изобиловала мягкими тонами. Она была груба, безыскусственна и — что мне показалось тоже странным — даже дерзка, когда обращалась к отцу или ко мне с Андреем Захарычем.
Никому не поклонившись, он сел за уху.
— Купил палицу-то? — спросил его отец.
— А то как же! За ней ездил — стало быть, купил, — нехотя ответил Митроха.
— Стальные есть? — осведомился я.
— Всякие есть. По деньгам… {115}
— Что, говорят, в Лущеватке дьячок погорел? — полюбопытствовал Андрей Захарыч.
— А я почем знаю? Може и погорел…
Сигней сокрушительно развел руками и сладко произнес, как бы извиняясь перед нами:
— Грубоват он у меня, грубоват, господа поштенные…
— Не стать лебезить по-твоему, — буркнул Митроха.
Сигней только покачал головою и немного погодя ушел. Чухвостиков прозяб и тоже пошел в дом. Я остался докурить папироску.
— Эка отец-то у тебя добряк какой? — сказал я Митрофану.
— Добёр! — иронически ответил он, — привык в бурмистрах-то лебезить…
— Нешто он был бурмистром?
— Как же! Когда еще барские были, он пять лет ходил в бурмистрах… Так и пропадал в барских хоромах… Добёр!.. Теперь вот ему лафа-то отошла — барин сдал именье-то!.. А то, бывало, бесперечь к нему шатается — чаи распивать…
— А ты, должно, не любишь отца-то? — засмеялся я.
— Любить-то его не за что, — угрюмо ответил Митроха, — из-за него и так на миру проходу нет… Уж он всем намозолил глаза-то… Это еще, спасибо, у нас народ-то в достатке, в двориках… А то бы он покуражился!.. И то, никак, по окрестным селам должников завел… И диви бы чужие… Вот свата Гришку как околпачил!
— В земле? — спросил я.
— Вот в твоей-то. Ты ему сдал по тринадцати целковых, и чтоб десять рублей об троице… Чего еще! по нонешнему времени какая это цена… Так нет, батя-то мой и тут его принагнул… Задатку тебе Григорий четыре целковых отдал, так это уж от бати пойдет… А свату ничего!
Я просто руками развел.
— Да как же он все говорил — "вызволил, вызволил"?..
— Вызволит, как же, дожидайся!.. Таковский — чтоб вызволил…
— Ну, тебе, стало быть, не по нраву, что отец-то твой все норовит денег побольше зашибить? — спросил я Митроху. {116}
— А что мне в ней, в деньге-то!.. Кабыть нас много — я да он… По мне, абы с миром жить в ладу… А обижать-то так тоже не приходится… Я уж к ему приставал — отдели, мол… Не отделяет!.. Я, говорит, для тебя… А мне все равно как наплевать!.. Мужик — ну, мужицкое дело и сполняй… Знай свою соху!.. А он ведь норовит все как-никак к купецкому делу пристать… батя-то!.. Лошади, теперь — барышевать ими вздумал… Страмотьё!
Митрофан сердито замолчал.
— А тоже еще в уху встревать! — вдруг необыкновенно сварливым голосом проговорил все время упорно молчавший Михайло, — кабыть без него не знают, как ее сварить-то… Учитель нашелся! — он с негодованием плюнул и принялся собирать посуду.
Я пошел к дому. До меня все еще доносились возгласы Михайлы: "Старый черт, тоже два стакана водки… Ишь, невидаль, какая!.. "Ломoта его одолела… Барин какой выискался…"
При входе моем в комнаты я застал Андрея Захарыча опять за чаем.
— Эка мужичок-то важный-с! — встретил он меня.
— Кто?
— Сигней-то, мужичок-с!.. Почтительный да и доброжелательный-с… А ведь этого у них страсть как мало-с, чтобы почтения-то-с… Наипаче все грубостью промышляют-с…
— Да, почтительный и доброжелательный, — задумчиво произнес я, вспоминая иронический ответ Митрохи — "до-бё-р!"…
У крыльца послышался грузный лошадиный топот и грохот экипажа, а немного погодя в комнату ввалился Семен Андреич Гундриков, управляющий господ Дурманиных, тот самый политикан и гордец, который пользовался особенным нерасположением Андрея Захарыча.
— А я к вам ночевать ведь, — проговорил Гундриков, устремляясь ко мне с объятиями.
— Очень рад, — сказал я, искоса поглядывая на Андрея Захарыча, который, вдруг напустив на себя какую-то величественную важность, с немым достоинством ожидал приветственного обращения от вновь прибывшего гостя.
— А, здравствуйте, господин Чухвостиков! — свысока проронил Семен Андреич. {117}
— Мое почтение-с! — многозначительно отчеканил Андрей Захарыч, неистово вращая глазами, и затем язвительно добавил: — А у вас овцы колеют-с, Семен Андреич!..
— Вот как! — пренебрежительно протянул Гундриков, и, обратившись ко мне, затараторил: — А вы слышали новость? Гамбетта, представьте себе, сделал чрезвычайно обстоятельный запрос в палате депутатов, касательно того, что…
Но здесь мы остановимся, потому что господину Гундрикову я намерен со временем посвятить особый очерк. {118}
VI. Визгуновская экономия
Бушуют ли зимние свирепые вьюги, гремят ли молодые весенние грозы, зноем ли пышет летнее солнце, — люблю я тебя, родная природа…
Люблю — необозримую степную гладь, занесенную сугробами, мутное, низкое небо и тоскливое завывание метели, когда она буйно мечется и плещет холодными волнами в плотные стенки кибитки… Жалобно и прерывисто звенит колокольчик, пристяжные тревожно всхрапывают и жмутся к оглоблям, а ямщик лениво помахивает кнутом и чуть слышно мурлычет:
Не белы-то снежки Вo поле забелелися…Тепло в уютной кибитке. Клонит ко сну. Тихой вереницею плывут кроткие думы… Ласково реют милые образы… А вьюга гудит и гудит.
Люблю — весенний лепет тенистой рощи, заботливый гам грачей, мечтательные переливы иволги и серебристые трели соловья… поля и степи, одетые цветами, крик коростеля в лугах и звонкую песню жаворонка в высоком, синем небе… Люблю — теплые, долгие зори, кротко и тихо мерцающие в ночном небе, громкие песни, стоном стоящие над ближним селом и заунывным отзвуком замирающие вдали… И мечты и грезы…
И жаркое лето люблю я. Люблю, когда под знойным июльским ветерком сонливо шевелится и лепечет ржаное поле, сладострастно млеющее в раскаленном воздухе, а золотистые волны бегут и струятся по нем горячими бликами… Когда назойливо стрекочат кузнечики, редко {119} и лениво перекликаются перепела, слышится тяжкий лязг косы и в туманной дали дрожит марево…
Но когда наступит пора увядания, когда в похолодневшем небе загорится осеннее солнце, поблекнут поля и в лесах замелькает желтый лист, когда пышно зардеет рябина и с дальнего севера потянутся журавли, — тогда печальное, но вместе с тем и величавое великолепие степной природы заставляет забывать меня и дикий разгул метели "вo чистом поле", и торжественное ликование весны, и знойную пору лета…
Ясно и сухо. Сентябрьское солнце ярко пронизывает прозрачный и жидкий воздух. Оно уже не жжет это солнце, как жгло еще в августе, не разливает утомительного зноя, а только блестит и сверкает холодным, ослепительным сверканием. Небо, бледно-голубое и высокое, — безоблачно. Над полями ползет и волнуется паутина — признак установившейся погоды. Иногда, в полдень, где-нибудь на полускате, эта паутина кажется кисеей, сотканной из матового серебра; вечером, при солнечном закате, она походит на легкий мягко-золотистый туман. Сухой и неподвижный воздух полон какою-то крепкой прохладой и тем особенным, едва уловимым запахом увядания, который свойствен умирающей природе. При малейшем дуновении ветерка запах этот усиливается; тогда вам кажется, что в прохладном воздухе, вместе с тихим и ласковым веянием ветра, проносятся какие-то изумительно тонкие наркотические струйки.
Боже, как хорош этот осенний воздух!.. Правда, вместе с ним ваша грудь не вдыхает опьяняющего благоухания весенних полей и лесов; она не упивается «сытным» запахом поспевающей ржи — подобным запаху спирта — и медовым ароматом цветущей гречихи, которыми насыщен воздух раннего лета, но зато ни летнего зноя, стесняющего дыхание, ни проникающей весенней сырости вы не ощутите в нем. Едва заметный ветерок погожей осени, — ветерок, проносящийся по умирающим садам и лесам, по сухим, щетинистым жнивам и поблекшим степям, — вносит в вашу грудь одну только здоровую и крепкую свежесть, от которой вам становится легко и свободно, как птице…
То же чувство свободы (хотя и с примесью какой-то тихо щемящей тоски) еще сильнее и неотразимее обни-{120}мет вас, когда с какого-нибудь одинокого кургана пред вашими глазами во всем своем унылом и строгом величии развернется степная даль.
Пустынные жнивa, потопленные в золотистых лучах низкого солнца, бесконечными равнинами уходят во все стороны горизонта… Редко однообразный вид этих равнин перемежится яркой полосою веселых озимей, пестрым стадом, лениво разбредшимся по вольным кормам, — покривившимся стогом, сиротливо торчащим где-нибудь на краю окладины, или одиноким бакчевным куренем, в котором хозяин, юркий мещанин с подстриженной рыжей бородкой, жесткой как проволока, и в длиннополом «демикотоновом» сюртуке, поджидает покупателей на редьку и свеклу…
Все тихо и беззвучно. Не прощебечет малиновка, не зальется страстным треньканьем перепел, не рассыплется жаворонок серебристыми трелями… Редко-редко дикий и пронзительный клехт жадного коршуна, неподвижно реющего в небе, нарушит эту тишину, или неведомо откуда донесутся до вас мерные и торжественные звуки, подобные звукам трубы. То в страшной, почти недоступной глазу высоте протянули журавли… Но звуки слабеют мало-помалу… замирают… и опять все тихо… Иногда по гладкой, точно отполированной дороге проскрипит, пробираясь к ближнему базару, воз с рожью или просом, печально протянется мужицкая песня, оборвется сердитым "ну, ты, кляча!", и снова тихо… Сверкает небо. Золотится жниво. Блестит дорога.
Над деревнями стоит стон от мерных и частых ударов цепа. В барских ригах гудят молотилки и гремят веялки. Стаи голубей шумно «гуртуют» и хлопотливо перелетают по гумнам. Визгливые воробьи то и дело переносятся с обобранных конопляников к полуразрушенному плетню, на котором торжественно возносятся к небу мужицкие посконные штаны с заплатами на коленях и праздничная бабья рубаха, — а с плетня опять на конопляники. Крикливые скворцы темными тучами реют над камышом, производя шум, подобный шуму ветра. Оживленный говор, смех и ругань стоят в воздухе. В садах пышно дозревает рябина и нежная липа тихо роняет свои мягкие листья, устилая ими когда-то тенистые аллеи. {121} Солнце косыми лучами своими ярко и свободно пронизывает теперь эти аллеи и болезненно-желтыми пятнами переливается по облетевшей листве…
В такую погожую пору не сидится на хуторе, и я очень обрадовался, когда один из моих столичных знакомых попросил меня съездить в какой-нибудь из конских заводов, которыми так богата наша прибитюкская сторона, и купить для него хорошую «городскую» лошадь.
У меня домолачивали рожь. Мой неизменный возница, Михайло, в красной «французской» рубахе (как и подобает кучеру, привилегированному человеку в хозяйстве), с длинными вилами в руках, оправлял на омете солому, которую бабы втаскивали туда на носилках. Это занятие ему, видимо, нравилось. Да и немудрено: его красная рубаха часто исчезала в ворохе соломы, и тогда оттуда вырывался пронзительный бабий визг, слышалась крупная ругань и звенел здоровый, оглушительный смех, прерываемый веселыми возгласами: "Садани его носилкой-то, черта!.. Ошарашь его по спине-то!", после чего бабы сходили с омета, весело пересмеиваясь и оправляя сбитые на сторону платки, а Михайло, как ни в чем не бывало, усердно принимался за работу.
На мой зов он отозвался сердито и неохотно.
— Слезай-ка, слезай! — повторил я, — будет с бабами-то возиться!
Он медлительно слез с омета и, лениво переваливаясь с ноги на ногу, подошел ко мне, на ходу отирая рукавом обильно струившийся с лица пот. В его непокрытой, лохматой голове настряла солома, локоть рубашки был прорван, около уха виднелась свежая царапина; но, несмотря на такие несомненные признаки утомительной работы, лицо его добродушно ухмылялось.
— Чего вам? — спросил он.
— Подмажь-ка тележку да запрягай: в Визгуновку поедем.
Визгуновка — имение коннозаводчика Чечоткина.
Добродушное выражение сразу сбежало с лица Михайлы.
— В Визгуновку? — чрезвычайно серьезно протянул {122} он, делая недоумевающую физиономию и рассеянно опуская руку, которой только что размазал грязь на щеке.
— В Визгуновку.
— Это за Битюк, альник?
— Туда.
Михайло запустил руку в затылок и, после непродолжительного раздумья, с унылостью произнес:
— Ведь, почитай, сорок верст до Визгуновки-то!
— Пожалуй что и сорок, — хладнокровно ответил я. Он сокрушительно вздохнул и, взглянув на меня исподлобья, медлительно отошел к вороху мякины, около которого долго и пристально искал чего-то, сурово сдвинувши брови; наконец нашел какой-то темный предмет, сердито тряхнул им, отчего в воздухе появилось целое облако пыли, озабоченно повертел его в руках и, вероятно уверившись, что это точно шапка, глубоко надвинул ее на голову, не забывая в то же время обругать баб, носивших мякину, за то, что будто бы они спрятали шапку. После этого он направился к сараю, где стояла тележка. Но пробыл он там недолго. Не успел я перекинуть несколько слов с Семеном (моим старостою и ключником, и всем, что хотите), как Михайло, на этот раз уже причесанный (хотя все еще не умытый) и одетый в свой парадный дубленый полушубок, опять стоял около меня.
— Ехать некуда, Миколай Василич, — степенно и решительно доложил он мне.
— Как некуда, что ты городишь? — удивился я.
— Некуда-с… Дрожина одна не надежна.
Я было хотел рассердиться, но вовремя догадался в чем дело.
— Ничего, доедем.
— По мне как угодно… Воля ваша… Ну только дрожина вряд ли выдержит… Тоже дорога не близкая. Да и колесо заднее… — Михайло замялся.
— Ну, что же колесо? — нетерпеливо спросил я.
— Тоже, как будто… Спицы словно маленечко хрустят… Потронешь ее, колесо-то, ну, они и хрустят… — Он сделал рукою так, как будто потрогал колесо.
Я только было разинул рот, чтоб ответить, как Михайло, вероятно боясь моего возражения, поспешно добавил: {123}
— И опять — Орлик!.. Как на ём поедешь?.. Никак на ём ехать нельзя того и гляди раскуется… Дорога-то — камень!
— Приведи его сюда.
Михайло удивленно вскинул на меня глазами, и, сообразив, что медлить уже не приходится, частой, деловой походкой затрусил к конюшне.
Явился Орлик. Смотрел, смотрел я ему на подковы — ну точно сейчас из кузни…
— Где же ты нашел тут слабую подкову?
— А вот погодите… я — враз! — засуетился и зачастил Михайло: — эй, Наум! а Наум! — закричал он, — подержи-кось поди жеребца!
Наум, длинный и неуклюжий парень, поспешно бросил вилы, которыми подавал снопы, робко приблизился к Орлику и крепко вцепился обеими руками под самые уздцы, отчего смирный Орлик сердито взмахнул головой и попятился задом. Михайло торопливо скинул полушубок и, бросив его на землю, с озабоченным лицом подошел к Орлику, который все пятился и храпел. Наум, красный как рак, все крепче и крепче тянул его за повода.
— Эх ты, ворона, — презрительно кричал Михайло сконфуженному Науму, прямая ворона!… ишь, ручища-то растопырил… Чего заробел-то!.. У, сиволап, черт… Отпусти поводья-то… Что, у тебя руки-то отсохли, что ли!.. Эка, не справится…
Наконец, после долгой возни и ожесточенной ругани, Орлик успокоился. Михайло ухарски сдвинул набекрень шапку, и, отчаянно махнув рукою, как бы желая сказать: "Э, была не была! Двух смертей не бывать, одной не миновать", приступил к ноге Орлика. Орлик, разумеется, преспокойно дал поднять ее. Вообще он был чрезвычайно смирен, и если вызвал такие воинственные подходы со стороны Михайлы, то только благодаря бабам, глазевшим на всю эту сцену и простодушно удивлявшимся Михайлиной храбрости и отваге.
— Ну, где же тут слабая подкова? — спросил я.
Михайло, не преминув еще несколько раз обругать несчастного Наума, положил копыто лошади к себе на колено, долго и глубокомысленно ковырял это копыто и, наконец, озабоченно произнес, указывая мне на подкову: {124}
— Извольте поглядеть — вот, ишь, как стонилась!.. Чуть что перешибется, и сейчас в раковину… Вот извольте поглядеть!.. Тоже лошадь окалечить недолго… Как еще недолго-то! — враз… А опосля-то и жалко ее… Теперь ежели ехать куда, — как на ей поедешь?.. Одно слово искалечить! — и он, тяжело отдуваясь, опустил ногу.
Но — увы! — все его хитроумные подходы пропали даром. В тот же день мы выехали в Визгуновку, и ни дрожина, ни колесо, ни подкова не изменили нам во всю дорогу. Михайло злился. Всю дорогу он что-то ворчал и шептал, всю дорогу мрачно посматривал по сторонам и сердито дергал вожжой шаловливую пристяжную. Со мной он не сказал ни одного слова и, уж подъезжая к визгуновской усадьбе, красиво белевшей на гористом берегу узкой и чистой речки, угрюмо проронил:
— На барский двор держать-то?
Впрочем, это тревожное состояние духа не помешало ему с надлежащим шиком подкатить к конторе, безобразный фронтон которой указал нам какой-то кривой и лысенький человек, сидевший на мосту с удочкой.
У крыльца конторы нас встретил чрезвычайно расторопный старичок, низенький и сгорбленный, с густой серой щетиной на бороде и отвислых щеках, с клочками седых волос, аккуратно зачесанными на виски, и с огромною связкою ключей в руках. Он посмотрел на меня из-под руки, проворно снял высокий плисовый картуз, похожий больше на подушку, чем на картуз, и с достоинством поклонился.
— Дома управляющий? — спросил я, не вылезая из тележки.
— Управителя у нас нету-с, — старчески шепелявя, ответил старичок, подходя к тележке, — вам для какой надобности?.. Может, приказчик требуется? приказчик есть… А чтоб управителя — нет, нету-с.
— Ну, приказчик, — это все равно: мне нужно лошадь купить.
— Тэ-эк-с… — старичок сожалительно чмокнул губами. — Есть у нас приказчик, есть… Ерофей Васильев… Только теперь он в отъезде-с…
— Ах, какая досада! Как же быть-то? {125}
— А вы вот что-с! — заторопился старичок, суетливо запахивая свой длинный сюртук, по всей вероятности перешедший на его утлое тело с дебелого барского плеча, — вы прикажите лошадок-то на красный двор двинуть-с, там и кормочку им выдадут, а сами-то в контору пожалуйте-с…
— Да когда приедет-то он?
— Это вы насчет Ерофея Васильева изволите спрашивать? — осведомился старичок, почтительно покашливая и опять впадая в сожалительный тон, — а не могу знать… не могу-с… Да мы вот что-с, — снова оживился он, кучерку-то прикажите убрать лошадок-то, а сами-то извольте на гумно прогуляться… Я, пожалуй, и провожу вас до гумна-то, тут неподалеку оно, за садом… Там мы и спросим-с… Там сын приказчиков-то, Пармен… ну, мы у него и спросим…
Я согласился. Старичок торопливо забежал за угол конторы и, неистово махая картузом, закричал:
— Эй, Орех… Орех!.. Беги проворней… беги сюда, Орех!.. Э, какой ты, погляжу я на тебя…
На этот зов явился человек, действительно имеющий некоторое сходство с орехом.
— Проводи-ка ты, Орех, ихнего кучера на красный двор, — внушительно и строго приказал ему старичок, — пусть он лошадей-то под лопас 1 постановит, а декипажец хоть в жеребятник задвиньте… Он теперь пустой, жеребятник-то, вы в него и задвиньте. Да Евтею Синегачему скажи, чтоб овса дал… Да чтоб он, Синегачий-то, пусть не мудрил бы, скажи… Скажи, Пантей, мол, Антипыч, приказал… Слышишь?.. Ну, пожалуйте, сударь! — обратился он ко мне, и только что я успел вылезть из тележки, а молчаливый Орех — усесться на мое место, как неугомонный старик уже опять кричал:
— Анфиса, Анфиса… Пошли оттуда Симку-то!.. Посылай ее, шельму, проворнее… В конторе никого нету… Скажи ей, бестии, Пантей, мол, Аптипыч приказал…
— Пожалуйте, сударь, сюда!.. осторожнее, ишь ступеньки-то у нас… — И он предупредительно поддержал меня под локоть, когда я поднимался на высокое крыльцо конторы, — пожалуйте направо-с! — И, проводив {126} меня до двери, он опять выскочил на крыльцо и снова закричал сердитым, хриповатым баском:
— Эй, Кузька!.. не ты, Дудочкин, а Жучок Кузька… Кузька Жучок! куда пошел-то, оглох, что ли… Скажи Артему-караульщику, чтоб он за водой сходил… Слышишь?.. На самовар мол… Скажи ему, пускай к ключу сходит… а? слышишь, что ль? Пантей Антипыч, мол, приказал… Да пусть проворнее бежит-то!.. Да Симку там пошли из людской… Гони ее оттуда в шею, бестию!.. А?.. Гони ее!.. Эка непутевая баба!..
— Что вы так беспокоитесь? — спросил я Пантея Антипыча, когда он, отирая с лысины пот и тяжело отдуваясь, вошел в контору.
— Помилуйте-с, какое беспокойство!.. Что же это такое будет, ежели покупателя не привечать-с… Да вот с народом-то беда-с! — И он опять хлопотливо побежал на крыльцо, с которого долго еще доносилось до меня его старческое брюзжание, имевшее своим предметом все ту же "бестию Симку".
Наконец явилась и Симка, толстая и неповоротливая баба, с нахмуренными бровями и сердитым взором. Принес хроменький Артем-караульщик и воду из ключа, а через полчаса самовар уже кипел на столе и Пантей Антипыч наливал мне чай, цветом подобный черному пиву, а вкусом… Ну, бог его там знает, чему он был подобен вкусом. Старичок, помимо своей уважительности, оказался до крайности словоохотливым.
— Барин-то ваш не живет в имении? — спросил я.
— Никак нет-с. Наезжать изволит, а чтоб жить — нет, не живет-с… Ну, да сами изволите знать-с, что им за неволя-с!..
— Где же он живет?
— А вот изволите видеть — Ниция какая-то есть, ну, так в этой самой Ниции они и изволят иметь пребывание… Уж не могу вам доложить, город ли эта Ниция, или иное что…
— Неужели лучше ему там? — заметил я, — имение у него богатое, кажется…
— О господи ты, боже мой! — воскликнул старик, — богатейшая экономия-с… Ну, да-сами изволите посудить: заграница какая-нибудь там или наша глушь… Ведь тут медвежий угол, можно сказать-с!.. Ни соседства благород-{127}ного, ни чтоб развлечений каких… Как же можно-с!.. — Пантей Антипыч замолчал, кропотливо отгрызая сахар.
— Как положение вышло-с, так они и изволили отбыть, — продолжал он, допив блюдечко и аппетитно почмокивая губами, — прежде, конечно, не то-с!.. прежде и в деревне, можно сказать, та же заграница была-с… Ну, а теперь… Что делать-с!.. Теперь, ежели по-настоящему судить-с, так им и занятиев здесь нету…
— Как нет занятий?
— Да так-с… Хозяйство ежели — они в этом не могут… Службу проходить, вот как иные господа по земству, — тоже по их чину не приходится: они ведь тайный советник, все равно теперь как полный генерал-с! — Пантей Антипыч горделиво вздернул голову и с чувством собственного достоинства посмотрел на меня — знай-де наших!
— Вы крепостный были? — спросил я у него.
— Так точно-с. Как же-с! в старину дворецким состоял-с, — горько усмехнулся старик, — а теперь вот на старости лет пришлось ключи таскать, у кучера в подначале быть-с… Ведь Ерофей-то Васильев кучером езжал, конфиденциальным. полушепотом сообщил он мне, — гужеед, можно сказать, а вот подите-с!
Пантей Аптипыч сокрушительно вздохнул, нервно поправил свои виски и затем язвительно произнес:
— Вы вот извольте, сударь, поглядеть на него… Как был гужеедом-с, так и остался… Обнаковенно — наше дело постороннее-с, но ежели по-божески рассудить — совсем пустой человек-с!
— Чем же он пустой? — поинтересовался я.
— Да как вам доложить, — ну, и винцом зашибает, и… Да не так-с, не так-с!.. служить у господ надобно не так-с, — вдруг загорячился Пантей Антипыч, — он здесь приказчиком числится, а в Тамлыке у него трактир-с! Да еще дом купил на прошлой неделе… Разве это слуга?.. Сами посудите-с!.. Нешто так можно господам служить?.. Помилуйте-с!.. Нет, ежели служить-с, так служи: издыхай тут при месте… А то трактиры-с!..
Пантей Антипыч с негодованием выплеснул из стакана остаток чая и, после непродолжительного молчания, уже печально и тихо добавил: {128}
— Нет-с, нету по нонешному времени настоящего усердия к господам… Всякий вот норовит все себе да себе, а господа хошь по миру пойди, ему дела мало!.. Хошь по миру пойди!
Он грустно развел руками и опять поправил височки.
— Что же барин-то смотрит? — спросил я, снова направляя разговор на приказчика.
— Помилуйте-с, где же им!.. доносить ежели — ну, не всякий согласится… А самим и невозможно-с, чтоб досмотреть… Ну, и у барыни он в милости, Ерофей-то Васильев, это правду надо сказать, что в милости… В старину-то он с ними все кучером езжал-с, с генеральшею-то, вот они к нему и привержены-с…
Опорожнив самоварчик, мы отправились на гумно.
Богатая усадьба тянулась своими конюшнями, сараями и службами по крутому берегу реки; в конце усадьбы мрачно высился старый двухэтажный дом, с которого местами уж начинала обваливаться штукатурка; за домом раскинулся сад и, наконец, за садом, отделяясь от него маленькой ложбинкой, виднелось гумно, со всех сторон обнесенное плетнем. Огромная рига, длиннейшие амбары, бесчисленные скирды хлеба и ометы старой и новой соломы, — все доказывало, что "Визгуновская экономия" точно была экономия не бедная. За гумном опять протекала речка, а за речкою, на низком берегу, бледно-зеленою полосою тянулись крестьянские огороды и бурело своими растрепанными крышами село. Это и была Визгуновка. За избами села, стрункою протянувшимися вдоль реки, низкая почва опять повышалась, превращаясь в отлогие и круглые холмы. На одном из этих невысоких холмов приветливо белелась каменная пятиглавая церковь. Из усадьбы села не было видно, но от гумна виднелось далеко за село: сверкающими изгибами утекала вдаль речка; веселым изумрудом отливали окаймлявшие ее озими; за ними темнел лес, а за лесом на горке, точно стадо лебедей, красиво гнездилась чья-то барская усадьба.
Когда мы спускались в ложбинку, отделявшую гумно от сада, до нас донесся однообразно-протяжный и тихий говор. Мы подошли ближе. Задом к нам, за реденьким, оголевшим ивняком, сидел на корточках мужик и, медлительно размахивая рукою, в которой болталась трубка, {129} что-то рассказывал. Около него, покуривая трубочки, беспечно лежали, растянувшись на животах, слушатели. Их было человек пять. Они слушали с таким вниманием, что и не заметили нас. Пантей Антипыч, сгорбившись, как кошка, готовая броситься на добычу, приложил палец одной руки к губам, а другою указывал мне на мужиков, точно приглашая полюбоваться вопиющим безобразием. "Каков народец!" — как бы шептали его губы, сложившиеся в ядовитую улыбку.
— И вот, братец ты мой, — гнусливо тянул рассказчик, — барин в те поры и говорит Алешке: ну скрадь же ты, вор-Алешка, у меня жену…
— Жену!! — удивленно подхватили слушатели, невольно выпуская из зубов чубуки.
— Дда-а… А ты как думал!.. скрадь ты, говорит, у меня жену, — это барыню тоись, — обыкновенным разговорным тоном пояснил рассказчик и тотчас же опять перешел в гнусливый и протяжный «сказочный» тон, — а ежели, говорит, в случае, не скрадешь ты у меня жены, то не иначе как быть тебе в солдатах…
— А-ах, шут-те!.. — вырвалось у восхищенных слушателей.
— Как быть тебе в солдатах! — повторил рассказчик, очевидно очень довольный эффектностью своего повествования. — Что тут делать!.. Вот, братец ты мой, Алешка-вор, набрамшись, значит, смелого духу и ляпни барину: так и быть, скраду, говорит, сударь… послужу вашей милости… как мы есть ваши рабы, а вы — наши господа… Ну, барин тут опять зачал было сумлеваться, а Алешка-вор — одно слово — не сумлевайтесь, говорит, нам это нипочем!..
— Нипочем!.. Ах, раздуй-те горой! — восторгались слушатели, поплевывая сквозь зубы.
— Нам это нипочем… — самодовольно повторил рассказчик. — Ну, значит, и пошел тут, братец ты мой, вор-Алешка…
Но куда пошел вор-Алешка, осталось неизвестным… Мера Пантей Антипычева долготерпения переполнилась. Он ожесточенно хлопнул себя руками по бедрам и яростно накинулся на мужиков.
— Ах вы, дармоеды!.. Ах вы, живорезы окаянные!.. Мучители! — Пантей Антипыч хрипел и захлебывался. — {130} Вам деньги-то за балы платят, а?.. Вы думаете, они щепки, деньги-то?.. Щепки?.. а?.. Нет, они не щепки!.. Нет, не щепки!.. Ах, лодари вы этакие!.. Ах, идолы египетские!.. Господи ты боже мой!.. ведь это беда… ведь это разор!.. И чего там Пармешка смотрит… Чего он смотрит, собачий сын!.. А Минай-то, старый пес, прости господи… староста тоже… Ах ты создатель! вот грабители-то!.. Да они последнюю рубашку готовы с господ-то снять…
Мужики лениво поднимались, медлительно выколачивали о каблуки трубки, не спеша засовывали их за голенищи и затем уж, тяжело переступая, направлялись к гумну.
— Фу ты, братцы мои, значит и покурить уж нельзя? — хором оправдывались они, жалостливо и укоризненно растягивая слова, — кабыть мы от работы отлынивали али что… Мы, кажись, тоже… Затянулись вот, и пойдем… А без трубки — сам знаешь…
Мой спутник плюнул и махнул рукой, дескать: "э, пропадай все!" Его прошиб пот.
— Вот подите с этим народом-с! — горячо пожаловался он мне, — они рады пустить по миру господ-то-с… Им что!.. он протянул как-нибудь день, а четвертак ему подавай… Ах, дела, дела!
Он сокрушительно вздохнул и мрачно насупил брови.
Мы вошли на гумно. Там и сям — у скирдов, около ометов соломы, в амбарах и по всем сторонам риги — подобно пчелам копошился народ. Белые рубахи и шушпаны, яркоцветные платки и юбки — все это с веселой отчетливостью выделялось на солнце. Жизнь кипела. Говор и смех стояли над гумном. Шум ни на минуту не утихал. Разнообразные звуки причудливо смешивались и переплетались между собою… Из риги, подобно сердитому ворчанию раздраженного шмеля, доносился до нас рокот молотилки. Веялка стучала отчетливо и звонко. Белые и синие голуби хлопотливо реяли в синем, чистом как хрусталь воздухе, сверкая своими блестящими крыльями и шумно опускаясь везде, где замечали рассыпанные зерна. Порожние телеги гулко гремели из риги к скирдам и от амбаров к риге. Высоко нагруженные снопами подводы тяжко скрипели и, тихо раскачиваясь из стороны в сторону, медленно тянулись {131} к риге, в ворота которой еле-еле пролезали. Около огромного вороха пшеницы, золотистым конусом нагроможденной на широкой тоше,1 глухо стучала железная мера, которую широкоплечий, сутуловатый парень с расстегнутым воротом и вскосмаченной головою легко и проворно вскидывал на телегу, как будто это было перышко, а не тяжесть в добрые два пуда… На краю скирда, от которого только что отъехал воз с снопами, сидел, свесивши ноги в лаптишках, рыженький и, вероятно, «хозяйственный» мужичок, старательно исправляя погнувшийся рожок вилы; молоток, ударяясь по железу, издавал глухой, неприятно дребезжавший звук.
Из ворот риги длинным и высоким столбом вырывалась пыль, мелкими искорками блестевшая на солнце. За этой золотистой пылью смутно виднелись и беспорядочно двигались люди, проворно отрясавшие граблями и вилами вороха соломы, бесконечным потоком выползавшей из ревущего зева молотилки. Когда мы вошли в ригу, я первое время просто был оглушен… Угрюмый рев молотилки, щелканье кнутом, крики погонщиков и ржание лошадей беспорядочно перемешивались с звонким говором баб, скрипением въезжавших в ригу подвод с снопами, надоедливым грохотом веялки, лязгом грабель по деревянному полу, блестевшему как паркет, и однообразным шелестом соломы. Царствовала прохладная полутьма. Только в ворота да кое-где в расщелины ветхой крыши проникало солнце, рассекая полутьму косыми желтоватыми лучами, в которых крутилась и вилась мельчайшая пыль.
Нас встретил староста Минай, высокий старик с плутоватым взглядом, маленькой клочковатой бородкой и медлительными движениями. В руках у него белелась бирка с бесчисленными крестиками, на голове красовалась высокая шляпа с узенькими, сильно отрепанными полями. Мы поклонились. Пантей Антипыч тотчас же горячо и внушительно начал ему рассказывать про мужиков, которым мы помешали дослушать сказку. Минай, снисходительно улыбаясь и кротко наклонив на бок голову, терпеливо выслушивал его, нарезая на бирку новый крестик. Но когда Пантей Антипыч, кончив рассказ, {132} начал было читать ему нотацию за небрежение, он лениво выпрямился и с чрезвычайной сухостью произнес: "За всеми не углядишь… Не свят-дух!" На этот холодный аргумент горячий старикашка не нашелся что сказать, а только быстро пожевал губами и укоризненно воскликнул: "Эх вы — слуги!"
— Где же Пармен-то? Вот барину нужно, — сердито сказал он Минаю.
— А кто ж его знает, где Пармен? Гляди, с девками жирует…2 Что ему делать-то?.. Делов-то ему только, — вяло ответил Минай, отходя к бабам, стрясавшим солому.
Пантей Антипыч опять вскипятился.
— Ах он, прохвост этакий!.. да я его… да я ему… Разве его жировать сюда приставили, а?.. Ах он, щенок!.. Ему барское добро хоть пропадом пропади!.. Вот извольте полюбоваться, какие у нас, порядки-с! — ядовито обратился он ко мне и скорыми шагами направился в дальний угол риги, где в полумраке смутно краснелись бабьи платки и юбки, раздавался хохот и шум возни.
Я направился за Пантеем Антипычем. Но не успел он еще дойти до темного угла, как там раздались тревожные восклицания: "Дедушка Пантей! Дедушка Пантей!" и около стены быстро проскользнул в привод 3 высокий малый, в жилете и в выпущенной из-под него ситцевой рубахе. Пантей Антипыч его не заметил. Девки, точно спугнутые птицы, со смехом разбегались из угла. "Уляшка, Уляшка, — кричали они, — дедушка Пантей!" А дедушка Пантей, сдвинув на затылок свой подушкообразный картуз и широко распростирая руки, немилосердно гремел ключами, сердито ругался и шипел, как подмоченный порох.
— Где он, мошенник!.. Подайте мне его сюда… — кричал он, — подайте мне его, висельника!.. — и вдруг напускался на девок: — Ах вы бестии этакие!.. Ах вы шельмы! Аль вы на улицу, шельмы, пришли?.. а?.. на улицу?.. Игры затеяли? а?.. игры?.. Эх, нет на вас палки-то, погляжу я… Минай! Минай! — пронзительно закричал он, оборачиваясь в сторону Миная и гневно разводя {133} руками, — это твое дело, Минай… Чего же ты смотришь, Минай!.. Ай барские деньги щепки? а?.. Ай черепки они?.. а?.. черепки?.. Нет, они не черепки!..
Я в это время стоял около Миная.
— Эка старичишка какой балухманный, 1 — тихо сказал он, — вот балухманный-то!.. И что ему здесь нужно, старому… Сидел бы, сидел себе в конторе!
— Да ведь он ключник, как же ему сидеть-то? — спросил я.
Минай насмешливо скривил губы.
— Ключник! — произнес он. — Звание одно, что ключник… В амбарах-то у него помощник орудует, — Лукич… А он, сам-то, разве когда овса на конюшни отпустит… А то вот все больше бегает да в чужие дела встревает… вроде как собака какая… Ишь беду нашел — девки жируют!.. Все равно им сидеть-то, покуда носилки сготовят… Кабы за ними дело стояло, ну так… А гляди, как бы они старичка-то не сшибли! — засмеялся Минай, указывая мне на Пантея Антипыча, который все еще распекал хихикающих девок и тщательно осматривал темный уголок.
Вдруг он пронзительно и дико завизжал, совершенно неожиданно переходя от хриповатого баса к самому невозможному дисканту: "Ага! Попался, мошенник!.. Попался… По-го-ди-и" — и из-под рук у него выскочила прямо на солнце, к воротам, высокая статная девка, которую подруги, бывшие уже в безопасности, встретили дружным смехом и восклицаниями: "Что, Уляшка, ай попалась!" Минай помахал головою и, лукаво посмеиваясь, отошел в дальний конец риги, к веялке. Обескураженный Пантей Антипыч, убедившись, наконец, что ему под руку подвернулся не мошенник, а разве мошенница, с негодованием плюнул, и глубоко нахлобучив картуз, мелкими и частыми шажками выбежал из риги. В пылу гнева он забыл и про мою особу.
А я невольно загляделся на Ульяну. Она стояла у ворот и, отряхивая запыленный платок, тихо смеялась, в то же время сердито сдвигая свои узкие черные брови. Глаза из-под этих бровей глядели неприветливо. Их тем-{134}ный блеск строго и быстро мелькнул по мне, когда я стал было пристально смотреть на нее. Красивое лицо дышало надменностью. Щеки горели смуглым и крепким румянцем. Длинная темная коса грациозно свешивалась с маленькой горделивой головки. Встряхнув платок, она порывисто бросила его на руки какой-то бабе, небрежно оправила волосы, беспорядочными прядями свесившиеся на лоб и, быстро схватив носилку, с силою подпихнула ее под громадный ворох соломы. В это время подруга ее, маленькая и неловкая, с трудом воткнула и другую носилку. Ульяна ловко подняла на них добрую копну соломы, свободно встряхнула эту копну и стройно выпрямилась, немного откинув назад свою характерную головку. Я не мог достаточно налюбоваться ее смелыми и красивыми движениями.
— Ну, Химка, скорей… Чего там пропала! — нетерпеливо торопила она подругу, которая что-то копалась назади и все еще не поднимала носилок.
В это время к Ульяне подошел Минай.
— Что, бестии, попались! — с усмешкою произнес он.
Ульяна, не выпуская из рук носилок, громко захохотала. Зубы ее так и блеснули жемчугом… Строгие глаза совсем скрылись в тонких, лучеобразных морщинках. Все лицо внезапно осветилось какою-то плутовскою, подмывающею веселостью. Стройный стан ее заколебался под туго стянутой завеской; голова совсем закинулась назад… Минай тоже смеялся, добродушно оскаливая редкие, желтоватые зубы и самодовольно пощипывая свою сивенькую бородку. Наконец Химка управилась, и носилки поднялись. В воротах они встретились с тем парнем, который так ловко ускользнул от Пантея Антипыча. Ульяна опять раскатилась своим серебристым смехом. "Что, ай испужался?" — насмешливо крикнула она.
— Молчи, черт!.. Чего орешь-то… — досадливо остановил парень Ульяну, значительно мигнув бровями, и, оправивши свою растрепанную прическу, подошел ко мне. Я догадался, что это, должно быть, и есть приказчиков сын Пармен.
— Что вам будет угодно? — скорей несколько грубовато, чем почтительно спросил он у меня, тряхнув своими рыжеватыми кудрями, в которых кое-где желтелась солома. {135}
Это был крепкий, в своем роде красивый малый. Румяный, белозубый, с жидкими рыжеватыми усиками, ярко-пунцовым ртом и наглыми серыми глазами, он мог играть роль деревенского льва.
Я спросил его, скоро ли приедет отец.
— Да надо быть завтра к вечеру. А вам для чего он требуется?
Я сказал. Пармен как-то сразу стал почтительнее; видно, и ему известно было визгуновское правило «привечать» покупателя. Он предложил мне дождаться отца. По словам его, продажные лошади в заводе были.
Подумал-подумал я, да и решился остаться. Помимо предстоявшей возможности купить лошадь, меня еще интересовали и нравы "Визгуновской экономии".
Воротилась Ульяна с Химкой. При взгляде на них Пармен слегка было усмехнулся, но тотчас же опять поспешил напустить на себя подобающую степенность, вероятно вызванную моим присутствием. Эта степенность, по-видимому, ужасно смешила девок. Они украдкою все взглядывали на Пармена и визгливо хохотали, закрываясь рукавом. И чем больше хмурился Пармен, чем строже и серьезнее поводил он глазами, тем сильней и неудержимей раздавался их хохот. Наконец он не на шутку испугался быть скомпрометированным в моем присутствии…
— Не хотите ли пройтиться? — предложил он мне.
Я, разумеется, согласился.
Мы оставили ригу и, обогнувши гумно, вышли на выгон, тянувшийся от гумна к реке. Множество маленьких, безобразно сложенных кладушек загромождали этот выгон. Пармен пояснил мне, что здесь молотится гречиха. Мерный стук цепов гулко отдавался в чутком воздухе, вперемежку с отрывочным говором и грубым шелестом черной соломы. Около каждой кладушки был ток. Гречиху молотили — как объяснил мне Пармен — семьями, и не за деньги, а за мякину и солому. Кое-где, несмотря на тишину, стоявшую в воздухе, веяли, высоко подбрасывая лопатой «невейку». Тяжелое зерно частым и дробным дождем упадало с высоты, а темная и легкая мякина тихо относилась в сторону, где ее прямо и насыпали в телеги.
У одной из таких телег, наполненных мякиною, мы заметили небольшую толпу, странно размахивавшую руками и, по-видимому, горячо о чем-то рассуждавшую. По-{136}среди толпы неподвижно возвышалась какая-то изумительно длинная фигура, своей необычайной прямизною как бы подтверждавшая старую историю о проглоченном аршине. Кожаная жокейская фуражка вроде каски и прямоугольный нос, удивительно пространных размеров, придавали этой фигуре вид какой-то диковинной, важно нахохлившейся птицы.
— А ведь это Алкидыч бушует! — заметил Пармен, пристально всматриваясь в толпу.
— Кто это — Алкидыч? — спросил я.
— А вон длинный-то!.. Это конторщик наш.
— Что же он тут делает?
— А вот пойдемте к нему. Он тут над молотьбой надсматривает.
Мы подошли. В середине толпы, устало понурившись, стоял перед Алкидычем крошечный, приземистый мужичок, с выражением страшнейшей скуки на маленьком, худощавом лице. Он лениво, как сквозь сон, тянул одну и ту же фразу: "Как-нибудь невзначай, Алкидыч, ей-богу, невзначай…" И каждый раз Алкидыч важно и внушительно прерывал скучающего мужичка, восклицая: "Ефрем Алкидыч!", и затем внятно и с расстановкою, каким-то убийственно-деревянным тоном — тем тоном, которым так злоупотребляют провинциальные актеры в роли благородных отцов, — читал ему какую-то нотацию, с величественной строгостью размахивая правой рукой. В левой он держал табакерку и платок.
Около этих двух, по-видимому главных действующих лиц, тесно группировались второстепенности. У самых ног Алкидыча ковырял пальцем в носу пузатый мальчуган, лет девяти, с изумленно раскрытым ртом и высоко подсученными штанишками. Около мальчугана торчала чумазая девчонка с плаксивой миной на востреньком, усеянном веснушками личике и с мешковато спущенным рукавом рубашки… Из-за спины Алкидыча насмешливо выглядывал белоголовый парень с подслеповатыми, беспрестанно моргающими глазками, кривым носом и непрерывно двигающимися лопатками. Рядом с скучающим мужичком стоял старичок с пронзительным взглядом, попеременно устремляемым то на Алкидыча, то на мужичка, — с желтыми усами, засыпанными табаком, и с цепом в руках. За старичком толпились бабы с обиженными физиономиями. {137} Все это бестолково галдело и размахивало руками, хотя и не могло заглушить дубового Алкидычева баса. "Как же, рассказывай — невзначай!" — ядовито пищал косоносый парень, очевидно с сочувствием относившийся к Алкидычу и его суровой нотации. "Стало быть, что невзначай! — озлобленно кричали бабы, — аль мы воры какие… На что она нам нужна, гречиха твоя…" — "Известно, на что она вам, гречиха-то", — с серьезнейшим тоном подтверждал старичок с пронзительным взглядом. "А на кашу, да на блины, вот на что!" — возражал косоносый парень. "Ну, уж и на блины…" — робко заступался старичок, а бабы сулили парню всевозможные пакости. Неподалеку от толпы молодой малый, почему-то напомнивший мне Ульяну, в синей китайчатой рубахе с озабоченным и недовольным видом подметал ток. В полуразрытом возе с мякиной виднелась чистая гречиха.
— В чем дело? — вмешался Пармен.
— Ей-богу, невзначай, Алкидыч! — вяло произнес мужичок, по-видимому с трудом удерживаясь от зевоты.
— Ефрем Алкидыч! — внушительно поправил конторщик.
Мужичок внезапно оживился и хлопнул руками по бедрам.
— Поди вот! Точит тебя, да и шабаш!.. — воскликнул он, обращаясь к нам.
Обернулся к нам и Алкидыч. Слегка дотронувшись до козырька своей каски, он торжественно взмахнул рукою и с медлительной важностью произнес:
— Теперь позвольте вас спросить — есть ли у этого человека совесть?
— Да ты расскажи, Алкидыч… — начал было Пармен.
— Ефрем Алкидыч! — хладнокровно поправил конторщик, открывая табакерку.
— Ты расскажи, Ефрем Алкидыч, в чем дело-то? Алкидыч медленно и с достоинством понюхал табаку.
— Есть ли у этого человека совесть? — строго повторил он, пристально устремляя в пространство неподвижный взор свой, и, немного помолчав, грустно и вдумчиво произнес: — Я так полагаю — нет у него совести…
— Заточил в отделку! — с комичным отчаянием воскликнул теперь уже окончательно развеселившийся мужичок. {138}
— Ежели бы была у него совесть, — наставительно продолжал Алкидыч, возвышая голос и придавая ему патетическое выражение, — то ужели возмог бы он, так сказать, посягнуть на своих благодетелев?.. Ужели же…
— Да замолчи ты, ради Христа-а!.. Говорят тебе, невзначай! — умолял несчастный мужичок, которого, вместо смертельной скуки, стал теперь пронимать пот.
— Ужели же ты, — Алкидыч поднял палец к небу, — ужели ты утратил, так сказать, благодарность и возомнил поработать аггелам!.. Ужели…
— Да брось ты его, батюшка Алкидыч! — заступилась какая-то баба, горько подпиравшая ладонью щеку, как будто вот-вот собиралась заплакать.
Но тут случилось нечто совершенно неожиданное.
— Ефрем Алкидыч, каналья ты этакая! — громоносно воскликнул доселе невозмутимый резонер и, ухватив близлежавшую метлу, устремился за бабой. Эффект этой неожиданной выходки был поразительный. Весь выгон задрожал от хохота. Народ, бросивши работу, всецело занялся Алкидычем и несчастной бабой. Оглушительный гомон стоял в воздухе. "Держи, держи ее! — кричали со всех сторон. — Лупи ее по пяткам-то!.. Лупи ее, шельму… Швырком-то в нее, Алкидыч!.. Пущай в нее швырком-то!.. А-ах, братец ты мой… По пяткам-то, чудачина ты этакий, потрафляй!.. Трафь по пяткам… Го! го! го!.. вот так урезал! вот так звезданул!.. ай да Алкидыч!.." Мужики и бабы помирали со смеху. Мужичок, над которым обрушилась Алкидычева распеканция, смеялся громче всех; у него даже животик подергивало от смеха, и в глазах проступили слезы… Когда же все поуспокоилось и Алкидыч скрылся из вида, он глубоко вздохнул и, смахнувши рукавом рубахи пот с лица, воскликнул:
— Ну, братцы, умаял он меня!.. Вот так умаял…
— Да из-за чего у вас дело-то вышло? — спросил Пармен.
— Дело-то вышло у нас из-за чего? — добродушно переспросил мужичок, а вот из-за чего оно вышло, дело-то, друг ты мой милый… Вот видишь ты гречишку-то? — Он указал на гречиху, видневшуюся в возе с мякиной, видишь?.. ну вот, друг ты мой сладкий, Алкидыч, возьми эту гречишку-то самую да и найди… Нашел он ее, сладость ты моя, — мужичок легонько вздохнул, — Да и ну {139} меня точить, и ну… Уж он точил, точил… Аж в пот ударило! — Мужичок снисходительно засмеялся и опять смахнул с лица пот.
— Да как же попало зерно-то в мякину? — удивился Пармен.
Мужичок с недоумевающим видом развел руками.
— Как попало-то оно?.. А уж этого-то я тебе, друг ты мой любезный, и не скажу-у!.. Нечего греха таить — не скажу… Признаться, грешу я, голубь ты мой, на баб… Как сыпали они, ироды, мякину, так и гречишки туда как-нибудь шибанули… Ироды бабы!.. Всякой — не дело на уме, а тут-то что, прости ты господи мое согрешение! — Мужичок отплюнулся. Тираду свою, направленную против баб, он проговорил таинственным полушепотом.
Пармен приказал высыпать из воза гречиху. На это мужичок согласился с превеликим удовольствием и, усердно выгребая гречиху, повел такие речи:
— Чтой-то, я подумаю, подумаю, друг ты мой любезный, — и на какой ляд этих баб господь произвел!.. Только с ими склыка одна… Пра — склыка!.. Где бы мужику и не согрешить, ан, глядь, тут баба-то и подгадила… Сказано — ироды!.. ишь, вот Алкидыч: ведь он беспременно теперь на меня грешит… А я, вот те Христос, Ерофеич, хоть бы сном-духом!.. Ей богу!
— Уж будет тебе, батя, Христа-то дергать, — угрюмо отозвался малый в китайчатой рубахе, — кабы ты жил по правде, небосъ бы бабы не помешали… Ишь какой спасёный выискался!
Наш мужичок опешил и как-то растерянно заморгал своими умильными глазками. Но растерянность эта продолжалась недолго: он тотчас же оправился и стремительно накинулся на малого в китайчатой рубахе.
— Сын мне ты ай нет? А?.. Говори, ирод этакий!.. Говори!.. дребезжащим голоском кричал он, подступая к нему. Тот медленно отступал пред расходившимся стариком и мрачно посматривал на него исподлобья.
— Уколочу, Михейка!.. Слышишь?.. Уколочу, собачий сын… Я не досмотрю, что ты здоров… Я те в волостной выдеру… А?.. Ты оглох, что ли… оглох?… Говори, аспид!..
— Уйди, батька! — тихо и сдержанно ответил Михей, осторожно отстраняя сердитого мужика. — Уйди от {140} греха… Не срамись лучше!.. Ей-богу, не срамись… Все выложу!
Мы не дождались конца этой семейной сцены и отошли в другую сторону выгона. До меня уж смутно долетели слова Михея: "Отдели, коли не угоден, а покрывать я не согласен"… и злобное шипение старика: "Вот я те отделю в волостной!.. Погоди ужо, я те отделю…"
— Они вот все у него такие-то, дети-то, — пояснил мне Пармен, — у него тоже девка есть, Уляшка; так тоже с голой рукой не подступайся!..
— Да разве это отец Ульяны?! — воскликнул я.
— А вы нешто заметили ее? — усмехнулся Пармен. — Как же, как же, отец!..
Около одного тока нас остановил смуглый черноволосый мужик с бельмом на глазу и в щегольском картузе, ухарски надвинутом набекрень.
— Постой-ка, Ерофеич, — дело есть!
Мы подошли.
— Ну, припас я тебе, брат, кобеля-то!.. и-и кобель!
Он зажмурил глаза и значительно помотал головой.
— О? — обрадовался Пармен.
— Право слово!.. То есть такой, братец ты мой, пес… Такой… Кажись, весь свет произойди, такого пса не найдешь… Настоящий цетер…
— Ну?
— Ей-богу… Как он за утками, братец ты мой, хoдок!.. Уж так-то хoдок, так хoдок… А-ах ты… Просто беда — провалиться.
— Ты когда ж его приведешь-то?
— Да уж приведу, не сумлевайся… А только, брат Пармен, — уговор помни — чтоб два фунта порошку, да дроби! — фамильярно заключил он, похлопывая Пармена по плечу.
— Ну ладно, ладно… Есть из чего толковать!..
— То-то!.. Да уж и мякинки возок ублаготвори, Ерофеич… Пра!.. Я тебе не токма что кобеля… — Тут кривой мужик плюнул на руки и опять принялся молотить.
Когда мы, направляясь к усадьбе, проходили мимо гумна, над плетнем показалось некрасивое лицо Ульяниной подруги Химки.
— Придешь, что ль, на вечерушки-то, Пармен? — тихо спросила она. {141}
Сконфуженный Пармен косо взглянул на нее и ничего не ответил.
— Что же вы не отвечаете? — спросил я и затем добавил: — А хорошо бы посмотреть, какие такие у вас вечерушки…
Он недоверчиво посмотрел мне в лицо, и, уверившись, что я не шучу, оживленно промолвил:
— Что ж, это можно… Коли вам любопытно, мы вечерком туда сходим, — и он проворно побежал к плетню, от которого Химка уже успела отойти. — Химка, Химка! — закричал он ей вслед, — скажи, что вечером приду. Слышишь?.. Приду, мол…
— Ладно, скажу! — отозвалась Химка.
Пармен сразу повеселел и сбросил значительную долю своей степенности. По-видимому, моя готовность идти на вечерушки сильно подкупила его. Он уж не относился ко мне как к какому-нибудь буке, не прикидывался солидным человеком, а говорил и действовал, что называется, начистоту — без всякой чопорности выкладывал коренные" свои свойства.
Между этими свойствами нашлось одно и некрасивое: любил он прихвастнуть и похвалиться. Был, что называется у нас, парень бахвал.
— Ведь я, известно, так только спущаю, — говорил он, — а то ведь мне Пантей Антипыч да и дядя Минай — плевать!.. Да мне и черт с ними!.. Я ноне тут, а завтра, уж меня и поминай как звали!..
— Куда же вы денетесь? — полюбопытствовал я.
— Куда?.. А попрошу батеньку, он меня либо в трактир определит, — у нас ведь трактир есть в Тамлыке, — а если не в трактир, то к Анучкину барину в наездники отпустит… Меня уж туда давишь тянут, — триста целковых дают… А то Визгуновка!.. Только и свету что в Визгуновке…
Свели мы разговор на женский пол.
— Из девок у нас хорошо… Это нечего сказать — хорошо! — восхищался Пармен, — вот видели Уляшку-то?.. Хороша ведь, а? — любопытствовал он, и затем самодовольно произнес: — Полюбовница моя… Уж и стала она мне в копеечку!.. Ну, да черт с ней, зато и хороша… Хороша ведь, Николай Василич?
— Хороша, — согласился я. {142}
Когда стемнело, мы отправились в село. С нами еще увязался молодой купеческий приказчик из города Коломны, толстый краснорожий краснобай с сладкими ужимочками и кудрявой речью. Он принимал в Визгуновской экономии пшеницу.
Мы шли по саду. Было тихо. Опавшие листья мягко шуршали под нашими ногами. Сквозь голые деревья мигающим блеском светились звезды. Пармен шел вперед. Приказчик частыми шажками семенил около него и все осведомлялся заискивающим голоском: "А что, Пармен Ерофеич, ребяты деревенские, примерно, не зададут нам взлупку?.. Ась?.. Народ ведь необразованный-с!.."
Прошли сад; прошли и выгон за гумном; показалась речка.
— Тсс… — остановил нас Пармен и прислушался. За рекой слабо дрожала песня. — Ишь, дьяволы, у Малашки собрались! — с неудовольствием воскликнул он и, после непродолжительного молчания, обращаясь ко мне, пояснил: — Тётка Уляшкина, солдатка…
Малашкина изба стояла на огородах. Со всех сторон ее окружал густой тальник, а уж за тальником с одной стороны тускло синелась река, с другой темнелись избы села.
Когда мы вошли в избу, девки — их было человек десять, — распевая какую-то бесконечную песню, чинно сидели вокруг стола. Все занимались работой: кто шил, кто вязал варежки или чулки, кто мотал пряжу… На нас они не обратили ни малейшего внимания, и только хозяйка, круглая краснощекая баба лет тридцати, с ласковой усмешкой подошла к нам и предложила место недалеко от стола. Мы уселись. Приказчик, то и дело уснащая речь витиеватыми прибаутками и как-то волнообразно изгибаясь всем корпусом (что, по мнению всех вообще купеческих приказчиков, составляет несомненную принадлежность обворожительных манер), певучим голоском завел любезные разговоры. Впрочем, опасение насчет «взлупки», могущей воспоследовать от «необразованных» деревенских парней, кажется, еще не покидало его. По крайней мере он частенько и с видимой тревогой поглядывал на дверь, а когда она, вскоре по нашем приходе, неожиданно отворилась даже побледнел и подавился каким-то уж чересчур хитрым словцом. Но вошла Химка, и он успокоился, хотя {143} хитрого словца вспомнить уж не мог. Пармен тоже вступал в разговоры.
Не знаю, благодаря ли присутствию хозяйки или по иным причинам, но смею уверить читателя, что во всю ночь, проведенную нами на вечерушках, я не слыхал ни одного неприличного слова (хотя и были слова, неупотребляемые в печати, но это уж другое дело) и не заметил чересчур вольного движения. Чинность, правда, скоро исчезла, скоро послышались шутки, зазвенел смех, а после ужина, состоявшего из яичницы, появилось и вино. Но и вино не придало вечерушкам характер какой-нибудь беспутной оргии.
Девки пили мало и много церемонились: но зато ни Пармен, ни приторно-сладкий приказчик не унывали. Подсобляла им и Маланья. Работу мало-помалу оставляли. Ульяна первая со смехом забросила за печку свою варежку. Она была необыкновенно весела. Правда, отказалась от песен, которые одну за другой орали девки, но зато ее шутки, ее задорное заигрывание с приказчиком и ее рассказы про "дедушку Пантея" так и сверкали уморительным остроумием. Смех ни на минуту не переставал искриться в ее темных, загадочных глазах. Ей не сиделось спокойно: она то щипала сидевшую рядом с ней смиренную Химку, то бросала чем-нибудь в Пармена, с телячьим самодовольствием ловившего каждый ее взгляд, то, будто нечаянно, толкала приказчика… Но горе ему, если он эту шутку примет за серьезное!.. Раз он было попытался подумать так и соответственно с этим принял меры… Надо было видеть, каким гневным румянцем вспыхнуло лицо Ульяны и какой суровой надменностью переполнился ее взгляд, быстро и презрительно скользнувший по сконфуженной фигурке растерявшегося приказчика…
Но после этого маленького эпизода Ульяна притихла и опять принялась за какое-то вязанье. Лицо ее внезапно сделалось холодным и неподвижным. В глазах уж не сверкал насмешливый огонек. Тонкие губы строго сжались и недовольная морщинка прорезала крутой, упрямый лоб. Немного погодя она и совсем исчезла из избы. Я оглянулся: не было и Пармена.
Девки, как ни в чем не бывало, тянули песню. Одна Химка не пела. Ее некрасивое лицо, почти сплошь усеянное веснушками, было грустно. Глаза глядели с какой-то {144} печальной задумчивостью. Сахар-приказчик все потягивал винцо. Он, видимо, пьянел. Щеки его уподобились свекле. Глазки затянуло маслянистой влагой. Он все старался подтянуть девкам, но голос его, пронзительный и тонкий, выделывал какие-то совершенно не идущие к делу рулады. Девки смеялись, и он сам хохотал до слез над своею неумелостью (но хохотал опять-таки особенным галантерейным манером), впрочем уверяя, что "ежели да ему спеть какой ни на есть романец", то он лицом в грязь не ударит. Девки заинтересовались «романцем» и упросили приказчика спеть его. Приказчик недолго ломался. Он кашлянул и, галантерейно упершись в бока, затянул… Боже, что это было за пение!.. Он пел, или, лучше сказать, визжал, истошным бабьим голосом, выделывая с нечеловеческими усилиями поразительнейшие фиоритуры… «Романец» начинался так:
Выхожу я на дорогу, Предо мной, мы скажем, путь блестит И пустынник славит бога, И с звездами, скажем, говорит…Дальше уж следовала такая чушь, что даже Маланья слушала, слушала, да и плюнула: "Ведь взбредет же человеку такое на ум!" — досадливо сказала она. Над уморительным напевом девки много смеялись и тотчас же окрестили-певца «комарём», о словах же «романца» выразились так, что это де непременно что-нибудь божественное, ну и ничего бы, но скучно. Зато с единодушным хохотом и громким одобрением встречена была ими песенка, которой, неожиданно для всех, приказчик заключил свой «романец». Пропел он эту песенку бойко и очень недурно, но девичьи сердца были побеждены на этот раз не пением, а сюжетом песни…
Полюбил меня молоденький попок, Посулил он мне курятинки кусок… Мне курятинки-то хочется, А попа любить не хочется…Даже Маланья рассмеялась, а она вообще держала себя серьезно.
В избе становилось душно. Я вышел на крылечко. Ночь была темная и холодная. В высоком небе тускло мерцали звезды. В воздухе стояла мертвая тишина. Село спало. {145} Только из Маланьиной избы вырывался шум… Вдруг послышался тихий говор. Я прислушался.
— Ничего ты от меня не дождешься!.. Ты хоть не говори, хоть не приставай ко мне… — гневным полушепотом говорила Ульяна.
— Что ж ты меня водишь-то?.. За что ж ты меня тиранишь-то… Аль я тебе на смех дался! — укоризненно и горячо возражал Пармен.
— Кто над тобой смеется! — произнесла Ульяна уже более мягким тоном, никто над тобой не смеется… Ты сам тянешь… Я чем причиной! Говорю сватайся… Коли любишь, чего ж ты!..
— Кабы не любил, так мне наплевать бы, — угрюмо вымолвил Пармен.
— А я тебе сказала: не пойду опричь тебя ни за кого… Чего ж тебе еще!..
— Что ж мне теперь делать! — сокрушительно вздохнул Пармен.
— Что? — опять переходя в гневный тон, воскликнула Ульяна. — Ты вот славы-то небось сумел добиться!.. На эти дела-то тебя хватило!.. По всему селу уж ославили… На улицу стало выйти нельзя… Нет — чтобы язык-то попридержать!..
— Я, ей-богу… — смущенно залепетал Пармен.
— Не говори! — горячо и требовательно перебила его Ульяна. — Уж лучше не говори ты мне… Уж не бреши… не вводи во грех!
— Вот отсохни у меня язык… — попытался было оправдаться Пармен, но она опять не дала ему продолжать:
— Не божись!.. Кто Макарычу мельнику нахвалился?.. Не ты?.. Не ты, бесстыжие твои глаза?.. А тетушке Арине?.. У, так бы я тебя и разорвала, постылого!.. Когда-й-то я тебе полюбовницей-то приходилась, а?.. Аль забыл, сокол?..
— Лопни у меня глаза!.. — почти плакал Пармен, — чего ж мне пустое говорить… Что я, аль балухманный какой!.. С какой мне стати напраслину-то взводить… — и потом, видя, что Ульяна успокоилась, заискивающим тоном продолжал: — точно, говорил я тетке Арине…
— Ну, ну?.. — стремительно перебила его Ульяна.
— Ну, говорил я ей, что, — тетка Арина, говорю: я на {146} Ковалевой девке жениться хочу… а она — на Уляшке? говорит, — ну, я и сказал, что на Уляшке, мол… Только всей моей и вины…
Наступило молчание.
— Ты что ж, отцу-то не гутарил еще? — мягко спросила Ульяна.
— Нет еще… Вот погоди — покров придет, скажу… — затем послышался шепот, но я уж не мог его разобрать. Слышал я только звук легкого поцелуя, тяжелый вздох, видимо принадлежащий Пармену, и торопливое восклицание Ульяны: "желанный мой!.. и не говори, и не думай", — после чего ее стройная фигура быстро проскользнула мимо меня в избу. Пармен еще раз вздохнул, взошел на крыльцо, долго и пристально чесал в затылке и, наконец, сердито отплюнувшись, воскликнул: "Ах, нелегкая тебя обдери, дьявола!" Как он меня не заметил, уж не знаю.
Когда я вошел в избу и взглянул на Ульяну, меня поразила перемена, происшедшая в ней. В глазах ее светилась какая-то тихая и покорная унылость. Тоскливая печаль лежала на лице, которое так еще недавно поражало своим суровым и гордым очертанием.
В это время девки только было вознамерились, чуть ли не в десятый раз, затянуть неизбежные «охо-хо-шки» — одну из тех бессмысленных и пошлых песен, которыми возвестилось нашей глуши пришествие «цивилизации». Химка с неудовольствием прервала их: "Вы бы, девки, лучше какую старинскую", сказала она. "Не сыграешь! — возразили девки, — кто у нас тут старинскую-то сыграет: ты да Уляшка"… — "А тетка-то Маланья?" — произнесла Химка. Девки обступили Маланью: "ну, тетушка, ну, родимая, сыграй!" — приставали они к ней. Одна Ульяна оставалась неподвижна. Стали просить Маланью и мы, гости, спеть «старинскую» песню. Наконец она села около стола, картинно оперлась на руку и необычайно высоким голосом затянула:
Уж вы, ночки мои, ноченьки, Ночи темные, осенние.И на мгновение смолкла, точно чего-то ожидая… Ульяна в это время сидела рядом с ней. Она задумчиво перебирала бахрому завески. При первых звуках песни в ней что-то тревожно встрепенулось и дрогнуло… {147} Какая-то горячая бледность охватила ее лицо. Грудь тяжело приподнялась и опустилась. Я видел — в ней что-то загоралось и млело… Но она все сидела поникнув головою и, полузакрыв глаза, все перебирала завеску. В это-то время Маланья в каком-то ожидании смолкла… Все мы затаили дыхание и тоже ждали. Ульяна медлительно подняла голову, лениво обвела нас каким-то тупым и тяжелым взглядом, криво и болезненно усмехнулась и вдруг… прозвенел какой-то странный, слабый и тоскливый звук. Я вздрогнул и взглянул ей в лицо. С ощущением невыразимой муки она стремительно охватила руками голову и каким-то нервно звенящим, беспрестанно обрывающимся и падающим голосом протянула:
Эх… надоели… вы мне, ночи!… надоскучили…Другие подхватили, и полилася песня, горькая и унылая, как Русь…
Долго еще мы просидели у Маланьи, и под конец мне ужасно стало скучно. Пармен и приказчик все потягивали водку из толстых зеленоватых стаканчиков. Девки уж совсем перестали пить. Ульяна и Химка тотчас же после песни ушли домой. Пармен откуда-то достал гармонику и самодовольно удивлял своим искусством окончательно «рассолодевшего» комаря-приказчика…
Когда мы, наконец, отправились домой, над землею висел тот болезненный полусвет, который не знаешь к чему отнести, к ночи ли, или уж к утру. Но не успели еще мы пройти село, как восток слегка зарумянился. Было холодно. На траве и на крышах тускло серебрился утренник. Сельские петухи звонко будили свежий и крепкий воздух. Над рекой неподвижною пеленою висел голубой туман. От воды пахло острым запахом мочившейся конопли.
Пармен все приплясывал под гармонику, которую он захватил с собою. Приказчик коснеющим языком лепетал приговорки, с смешным усилием приподнимая отяжелевшие веки свои. Изредка он неопределенно улыбался и, усиливаясь многозначительно мигнуть бровью, восторженно восклицал: "у, девка!" — на что Пармен самодовольно ответствовал: "Что, ай хороша?" Но приказчик только безнадежно махал рукой, и тем разговор кончался. Было однако же заметно, что Пармен и его успел посвятить в свой мнимый секрет насчет Ульяны. {148}
Шли мы медленно, и когда достигли сада, то заря уж широко заполонила небо, звезды меркли и погасали. Ночной мрак стремительно убегал к западу. Все еще было тихо. Небольшая березовая рощица, составлявшая границу сада, точно дремала в неподвижном воздухе, печально поникнув своими поблекшими ветвями. Опавшие листья, которыми мягко была усыпана земля, покрыты были инеем. Они уж не шуршали под ногою…
Вдруг как бы отблеск пожара озарил нас. Я оглянулся. Из-за горизонта величественно поднималось солнце. Лучи его сверкающими иглами пронизывали воздух. Они еще не достигли долины, в которой раскинулось село, окутанное сизым сумраком, не достигли и реки, но кресты на церкви уж загорелись горячим блеском, та возвышенность, где стояли теперь мы, уже пламенела, озаренная красноватым сиянием, и тени трусливо убегали от нее к темному западу.
Легкий шорох пронесся по деревьям. Доселе неподвижная роща проснулась и задрожала свежею дрожью, насквозь пронизанная солнцем. Подобно мраморной колоннаде засеребрились стройные стволы берез, и горячим золотом засверкала их ярко-желтая листва под молодыми лучами солнца.
Река уж не дымилась. Голубой туман, стоявший над ней, при первых лучах солнца свернулся мягкими клубами, тихо поднялся и растаял в розовом небе. Теперь в берегах неподвижно пламенело растопленное золото.
Тишина все еще не нарушалась. Где-то на селе скрипнули было ворота и жидко заблеяли овцы, но чрез мгновение все опять смолкло, и мертвая тишина снова воцарилась в воздухе… А солнце заливало землю сверканием.
Я поздно проснулся. Ерофей Васильев еще не приезжал. В конторе, где отведена была мне квартира, никого не было, кроме караульщика Артема. Я пошел к реке. Там, на бережку, как и вчера, сидел с удочкой лысенький и кривой человек, указавший нам контору. Я подошел к нему.
— Бог в помощь!
— Много благодарны вашему здоровью, — поблагодарил меня рыболов. Он сидел без шапки, в каком-то халате {149} неопределенного покроя, подпоясанном грязной веревочкой. Ноги его были босы. На шее, темной как чугун, болталась какая-то оборванная тряпица, из-за которой сквозила голая грудь. Рубашки заметно не было.
Я разговорился с ним. Оказался он бывшим дворовым человеком, прошедшим, по его выражению, все огни, и воды, и медные трубы. Был он, в "свое время", и псарем и буфетчиком, играл в домашнем оркестре на валторне и ездил форейтором; под конец, все по той же чудодейственной "барской воле", определился было в портные, но и там оказался негодным, после того как сшил "барченкову учителю" брюки задом наперед. С тех пор он поступил в инвалиды, то есть получал с неукоснительной аккуратностью «мещину», лежал с утра до вечера на полатях в людской и с многозначительным кряхтением посвящал молодое дворовое поколение в прелести старинного «житья-бытья». Таким инвалидам пришлось плохо после эмансипации; хватил горя и мой рыболов. Из многообразных познаний его ни валторна, ни звонкий форейторский кнут, ни классическое "ату, ату его!" уж не подходили к складу новой жизни; не подходило к этому складу даже и портняжное ремесло, годное лишь на то, чтоб испортить брюки.
— Чем же ты живешь? — спросил я его.
— Живу-то? — переспросил он меня, — чем живу-то я? — с недоумением повторил он и, немного погодя, неуверенно произнес: — рыбу ловлю, вот… Ну, починить что… Это я могу, ежели починить, — оживленно добавил он и устремил свой единственный глаз на поплавок.
— Какая же ловля осенью? — заметил я.
— Ловля-то какая? — Он на мгновенье задумался. — Ну, ничего ловится… Вот вчера два карася поймал… Все глядишь… — Он не докончил.
В это время к нам подошел плотный и необычайно солидный мужик, в поддевке из обыкновенного крестьянского сукна и высокой новой шляпе. Он степенно и медлительно раскланялся с нами и спросил рыболова:
— Что, Лупaч, не бывал еще Ерофей-то?
— Нет, нет еще, не приезжал, — торопливо ответил Лупач, насаживая на удочку червя.
Солидный мужик, осторожно подобрав полы поддевки, присел около нас. {150}
— Что, Лупач, все ловишь? — снисходительно усмехнулся он.
— Ловлю все, — произнес Лупач.
— Хм… Лучше бы ты мне кафтан зачинил… Намедни поповы собаки расхватили… Ведь как, аспиды, располыхнули-то? — во!..
— Починю ужo…
— Почини, почини — это ты можешь… Что ж, почини, покровительственным тоном произнес мужик, небрежно поковыривая палочкою землю.
Мало-помалу завязался у нас разговор с солидным мужиком. Он все хвалил: и барина, и приказчика, и порядки экономические… "Одно слово простота!" — заключил он свою хвалебную речь. Я поинтересовался: хорошо ли живут мужики. Вопрос, видимо, затруднил его.
— Да как тебе сказать, — произнес он, пристально рассматривая свои громадные сапоги и старательно ощупывая их толстую кожу, только что смазанную дегтем, — нельзя сказать, чтоб хорошо… Нет, нельзя этого сказать!.. Известно, есть дворов пяток… это нечего говорить — есть… Ну, а то — плохо, правду надо сказать — плохо!
Я удивился, как при такой простоте экономических порядков все-таки плохо живут мужики.
— Это верно, что простота! — подтвердил мужик, — и из земли, и из кормов… И заработки опять… Одно слово — вечно бога молить!
— Не понимаю, почему вы плохо живете? — заметил я, — может, пьянство сильное?
— Нет, зачем пьянство… У нас этого нету… Ну, знамо, нельзя без того, чтоб не выпить лишнего — покров там, масленица, — а чтоб пьянства, нет — пьянства нету…
Мы замолчали.
— А вот видишь, милый ты человек, — окончив осмотр сапогов и слегка вздыхая, заговорил мужик, — как тебя называть-то?
Я сказал.
— Ну так вот, Миколай Василич, — дарёнка 1 у нас… Дарёнка, милый человек… С того и живем плохо, что {151} дарёнка… Улестил нас Чечоткин-то тогда… Это нечего таить — улестил… Вот теперь и каемся, да уж поздно… Близок локоток-то, ну — не укусишь его!
Он замолчал и, сняв шляпу, начал внимательно рассматривать ее подкладку.
— Мы — что!… Мы еще куда ни шло, — заговорил он, когда подкладка в подробности была исследована и шляпа опять надета на голову, — вот горши-то! — Он указал палочкой на Лупача.
Лупач съежился и учащенно заморгал своим глазом.
— Их у нашего Чечоткина никак тридцать семей было, братец ты мой… Так все и разбрелись как тараканы: кто куда!..
— Ну, не говори, Андроныч, — вдруг обиженно залепетал Лупач, — мало ли осталось!.. Евтей Синегачий остался, Пантей-ключник, Алкидыч-конторщик, Ерофей…
— Ну и наберется какой-нибудь десяток, — свысока решил Андроныч, — а то все по миру ходят…
Лупач опять хотел было что-то возразить, но в это время заколебался поплавок и всецело поглотил его внимание. Андроныч посмотрел, посмотрел на его сгорбленную, напряженную фигурку, на его ведерце, где одиноко плавал и плескался крошечный пискаришка, и, поднявшись на ноги, пренебрежительно произнес:
— Эх ты — горюша!
Я воротился в контору.
Ерофея Васильева мне не суждено было дождаться: к вечеру прибыл от него нарочный с письмом следующего содержания:
"Пармешка! Подлец Андрюшка с тарантаса на Крутом Яру меня зашиб. Вели ты, чтоб Евтюшка пущай ехал бы за лекарем… Пармешка! Минаю скажи — я приказал пшеницу молотить, ну только чтоб смотрел. И чтоб за мужиками Алкидыч глядел бы. Ну, Пантей пущай пшеницу купцу отпускает, а тебе мой приказ, чтоб ехать сюда в Крутоярье. Отец Ерофей Постромкин".
Три или четыре года спустя, в знойную июньскую пору, случилось мне, по дороге в Хреновое,2 остановиться {152} в селе N ***, покормить лошадей. Не успел еще дворник растворить ворота, а я — войти на крылечко, на котором восседала жирная дворничиха в сообществе какого-то рыжебородого мужчины, беспечно шелушившего подсолнухи, как вдруг этот самый рыжебородый мужчина воскликнул:
— Э, да никак старые знакомые!.. Так и есть!.. Аль не признаете? Пармен-то, приказчиков сын…
Я вгляделся и действительно узнал Пармена, но уж возмужавшего и отпустившего легонькое брюшко. Поздоровались мы с ним.
— Как же, как же! — радостно восклицал он, — лошадку еще никак приезжали купить… Как же!
— Вы зачем же здесь? — спросил я Пармена, в то время как дворничиха, тяжело отдуваясь и неуклюже поворачиваясь своим громадным телом, пододвигала мне скамейку.
— А питейное заведение здесь содержим, — самодовольно объяснил мне Пармен, — как же! Торгуем-с!..
— Да разве ваш отец уж не живет в Визгуновке?
— Это у Чечоткина-с?.. Нету-с, не живет… Они уж богу душу отдали…
— Кто?
— Да батенька… Ведь вы насчет батеньки изволите спрашивать?
В манерах Пармена, так же, как и в языке, замечалась теперь какая-то утонченная галантерейность, та самая галантерейность, которой некогда, на вечерушках, отличался купеческий приказчик из города Коломны. Откуда уж набрался этой галантерейности грубоватый Пармен — осталось для меня загадкою.
— Ну, и Визгуновка теперь уж не Чечоткина, — заявил он мне.
— Чья же? — удивился я.
— А Селифонт Акимыча Мордолупова, купца… К нему поступила-с…
— Продали, значит?
— Вона-с!.. Старик-то Чечоткин ведь помер, ну, а молодые и продали…
— На что же они продали?
— Усмотрели, значит, что доходов им мало-с… Мы ежели, говорят, капиталом будем владать, так капитал {153} и то пользительней для нас будет, нежели Визгуновка… Так и продали-с…
— Ну, у купца-то, у Мордолупова-то этого, разве больше даст Визгуновка?
— Помилуйте-с, можно ли равнять!.. Купец, он — прожженный!.. Он первым долгом теперь лошадей перевел, из конюшен винокурню выстроил, около сада роща была березовая — из ней свинятники нарубил, дом на маслобойку оборотил, а сам срубил себе хатку из липок, да и живет в ней… Помилуйте-с, разве можно купца равнять!..
Я согласился, что точно, — равнять его с барином нельзя.
— Теперь в саду беседка стояла каменная, — оживленно и с видимым одобрением продолжал Пармен, — ну, у барина она так бы, глядишь, и простояла до скончания веков… А у купца нет-с, не простоит!.. Он ее взял, беседку-то, да на кабак и оборотил… Какой ведь кабачнища-то вышел! — любо поглядеть… Да еще что! чудак он такой, Селифонт-то Акимыч, — статуй в беседке-то стоял, так он его возьми, статуя-то этого, да в кабак и поставь, ей-бо-гу… Так и стоит теперь около стойки! — Пармен захохотал и, насмеявшись досыта, с пренебрежением в голосе добавил: — А то барин!.. Где барину…
Я спросил, лучше ли живется народу с тех пор, как Мордолупов водворился в Визгуновке.
— Ну уж, я вам доложу, скрутил он их! — восторженно ответил Пармен. У них ведь дарёнка, у визгу-новских-то… Землишки-то, значит, малость, кормов и не спрашивай: — всё к нему да к нему… Так не поверите — куда вам барские, в сто раз хуже!.. Одними штрафами загонял-с… Корова зашла штраф, утка в речку заплыла- штраф, бабы по выгону прошли — штраф, траву потоптали… все штраф!.. Вы не поверите, захватит ежели — мужик лошадь поит в речке — и тут штраф: карасей, говорит, моих не пужай, потому рыба она квелая, со страху колеет…
Пармен так и прыснул со смеху.
— Ну и мужичишни избаловались, — преяебрежительно произнес он после некоторого молчания, — пьянство такое открылось, что боже упаси!.. Особливо как винокурню пустили… И не выходят из кабака! {154}
— Поневоле сопьешься! — протянула все время молчавшая дворничиха, вынимая из кармана новую горсть подсолнухов и бурно испуская тяжелый вздох, от которого швы ее зеленого платья с желтыми крапинами подозрительно затрещали.
Пармен свысока окинул ее презрительным взглядом, но ответить ничего не ответил.
— Да! — сожалительно крякнув, обратился он ко мне, — счастье Селифонт Акимычу, счастье… Ведь даровые ему работники-то… чисто даровые… А село здоровое, — они почитай что одни и посев ему уберут и на винокурне управятся… Только точно, — продолжал он после непродолжительного молчания, — уж больно он их нудит… Просто вздохнуть не дает… Гляди, лет через десять и работать будет некому, — ей-богу-с!.. Все испьянствуются да разбегутся кто куда… Ведь прошлую весну ударились было в Томскую, — семей двадцать двинулись… Мало тут с ними было хлопот-то Селифонт Акимычу?.. Тоже много было хлопот… Глядишь, кабы не становой, Капитон Орехыч, так бы и уперли… Народ оглашенный! — и, подумав немного, добавил: — Это точно, что он уж их больно скрутил!.. Все бы, нет-нет, да и вздох дать…
— Дворовые-то и теперь уж расползлись куда глаза глядят, — со смехом заговорил он, не без чувства собственного достоинства заглянув перед этим в часы. — Вы, может, помните Пантея Антипыча?.. Так старичок, ключником он ходил, — да еще Алкидыч, тоже старичок, — так уж они на селе в караулку определились… Значит, в церковные сторожа… Да это еще что!.. Там Лупач есть, тоже дворовый человек, так он даже удавился… Так, взял на кушаке да и удавился… А удавился, я вам скажу, с чего, так это просто удивленье: рыбу ловить ему не велели в речке… Мордолупов-то говорит ему: "Ты не смей, говорит, Лупач, ловить рыбу", — и прогнал, ну, а он возьми да и удавись… Вот они какие сaхары! — неизвестно для чего добавил Пармен и победоносно взглянул на дворничиху, которая с каким-то остервенелым упрямством истребляла подсолнухи.
В это время вышел на крыльцо дворник, худенький и зеленый человек, с большим ястребиным носом и серьгою {155} в ухе, и объявил мне, что готов самовар. Пармен засуетился.
— Николай Василич! вы уж ко мне… По старой памяти… Пожалуйте!.. Посмотрите наше хозяйство… Уж сделайте милость!
— Да, может, далеко?
— Помилуйте-с, рукой подать… Вот завернем в переулочек-то, оно тут и есть, наше заведение…Уж пожалуйте!
Я согласился.
Когда мы вошли в «заведение», в первой комнате, загроможденной многочисленными полками разноцветных ратафий и наливок, сидела молодая, дородная женщина, с красным, оплывшим от сна лицом и вздернутым носом, более похожим на пуговицу, чем на нос. Она лениво поглядывала в окно и щелкала подсолнухи.
— Акуля! Вели-ка самоварчик наставить, — сказал ей Пармен и, указывая мне на дверь, ведущую в другую половину избы, предупредительно произнес: Пожалуйте-с!
Акуля тяжело приподнялась, взглянула на нас сонным и вялым взглядом и, слегка поклонившись мне, утиным шагом поплелась из избы.
— Жена, — коротко объяснил мне Пармен, самодовольно улыбаясь.
Мы вошли в другую комнату, уж претендовавшую на некоторый комфорт. По крайней мере кисейные занавески и герань на окнах, комод и туалет, покрытые вязаными салфетками, а главное — огромная кровать с высоко взбитою периною, целой горой подушек и одеялом, составленным из разноцветных ситцевых клочков, ясно намекали на эту претензию.
— Вот и наше помещение-с! — объявил Пармен, усаживая меня на диван, в котором, по всей вероятности, вместо пружин были заложены кирпичи. Я покорился горькой необходимости и, проклиная злодея-обойщика, осторожно уселся, оглядывая «помещение».
— Пока бог грехам терпит — живем-с, — скромно вымолвил Пармен.
— Ну, как вы теперь?
— Вот торгуем-с… После батеньки, царство ему небесное, трактирчик остался, ну, трактирчик мы, признаться, продали, потому не стоит овчинка выделки… {156}
— Вы еще при отце женились? — перебил я историю нестоящей овчинки.
— Да как вам сказать… Сватались мы, точно, что еще при батеньке… Ну, уж а женились после… Значит, батенька уж были померши…
В это время в соседнюю комнату, собственно и называющуюся кабаком, тяжелой поступью ввалилась Акулина в сопровождении какого-то оборванного мужичка с темным лицом, излопавшимся от жары, и с волосами, сбившимися как войлок.
— Уж сделай милость, Тимофевна! — умолял он целовальничиху, судорожно теребя в руках лохматый треух и стараясь придать своему невеселому лицу умильное выражение.
— Я тебе сказала: хоть не говори! — лениво ответила целовальниичиха, опять усаживаясь около окна и принимаясь за подсолнухи.
— Хоть осьмуху! — не унимался мужик, — уважь, сделай милость… Теперь без осьмухи и не показывайся туда… Сделай милость, отпусти.
Акулина молчала; молчали и мы. На лице у Пармена блуждала довольная усмешка. Он внимательно наклонил ухо к стороне перегородки, как будто соловья слушал.
— Заставь за себя бога молить! — с истомой в голосе продолжал мужик, понемногу переходя из умилительного тона в тоскливый. — Тимофевна! Аль мы какие… Уж авось осьмушку-то… Ах ты господи! — мужичок ударил себя по бедрам, — авось как ни то отслужим… Вот те Христос, отслужим!
Акулина молчала, поплевывая подсолнушки. Мужичок дышал часто и тяжело. Изредка он с ощущением боли переступал ногами, как будто стоял не на холодном кирпичном полу, а на горячей плите. Тупой взгляд его как-то беспомощно озирал ряды разноцветных бутылок, ярко отражавшихся на солнце. Пот проступал на его висках и грязными струйками полз по лицу. Где-то на стекле однообразно звенела муха.
— Тимофевна! — опять воскликнул мужичок, с тоскою устремляя взор на неподвижную целовальничиху, — заставь бога молить… Сделл… милость… Осьмуху!.. Вызволи ты меня… Во как: хоть ложись да помирай! — Он указал рукой на горло. {157}
— Не воровали бы, ан и ничего бы не было! — хладнокровно отрезала Акулина, загребая где-то под стойкой горсть подсолнухов.
— Кабы воровали-то, Тимофевна, — горячо заторопился мужичок, видимо обрадованный тем, что наконец прекратилось угнетавшее его молчание. — Кабы воровали!.. А то у парнишки оглобля-то сломайся, он возьми да и выруби жердинку, — известно, малолеток… Ну, они его и сцарапали, караульщики-то… Теперь как ни бейся, а без осьмухи нечего к ним и глаз казать!..
— А он не руби в чужом лесу! — равнодушно возразила целовальничиха и тут же закричала в окно на кур: — Кышь, кышь проклятые, всю левкой потоптали!..
Мужичок понурил голову и молчал.
— У тебя девка-то дома? — беспечно спросила Акулина.
— Дома, дома, матушка, — слегка удивившись, ответил мужик.
— Ты пришли-ка ее, пусть она у меня замест кухарки поживет недели две…
— Как же это?.. — с недоумением возразил было мужик, но целовальничиха не дала ему продолжать.
— Она пущай у меня недельки две поживет, ну, а осмуху я уж тебе отпущу…
Пармен толкнул меня локтем.
— Ну, так уж и быть, наливай, видно! — после легкого раздумья сказал мужичок, почесывая в затылке.
— Только смотри, Федулай, деньги чтоб беспременно к Успленью, уж это как хочешь!.. — добавила Акулина, направляясь к стойке.
— О господи? Аль уж я… аль уж мы, прости господи, какие!.. восклицал Федулай, стремительно подхватывая кувшин, до сих пор стоявший около дверей.
Пармен восхищенно развел руками и, посмеиваясь, взглянул на меня.
— Орел-баба! — самодовольно произнес он, — с мужиками она — лучше и не надо!.. Любого купца за пояс заткнет.
— Откуда вы ее взяли? — осведомился я.
— С Липецка… Там у мещанина одного — кожами он торгует, шибай, значит… Ну, и не то что какую голую {158} взял, — с достоинством добавил Пармен, — триста целковых деньгами, салоп лисий, платок дредановый, три платья шелковых, перина… Все как есть! — справили хорошо.
— А ведь я, признаться, тогда думал, что вы на Ульяне женитесь! заметил я.
— На какой это-с?
— А помните в Визгуновке-то?
Пармен обиженно усмехнулся.
— Помилуйте-с! Как вы об нас понимаете!.. Разве это возможно-с, чтоб на простой девке жениться… Что это вы говорите такое… Это даже довольно смешно-с… Нешто я полоумный какой… — Он даже засмеялся над наивностью моего предположения.
— Ну, что с нею? Где она теперь? — спросил я.
— Да она померла… Еще в прошлом году померла… Хе-хе-хе! Занятная девка была-с!
— Померла! — воскликнул я.
В этой смерти мне уж почудилась драма во вкусе покойной памяти романтизма, с эффектными сценами ревности, проклятий и т. п., но — увы! — и здесь оказалась вековечная комедия. На вопрос мой, отчего умерла Ульяна, Пармен равнодушно ответил:
— А ей-богу, не могу вам сказать… Говорили тогда, что как, значит, бабы-знахарки трясли ее, ну и затрясли… Это ребенка вытрясают так, ежели роды трудные, — пояснил он мне, направляясь к двери.
— Да разве она была замужем?
— Как же!.. Муж-то у ней еще кочегаром теперь у Селифонт Акимыча, проговорил он на ходу, — так, плевый мужичишка… Что, Акуля, самоварчик-то наставили? — обратился он к жене.
— Закипает небось, — апатично ответила Акуля, и опять загребла полную руку подсолнухов.
Через час я выехал из N ***. Лошади еле плелись под палящими лучами солнца; горячая пыль клубами вилась по дороге и садилась на лицо; Михайло, распустив вожжи, уныло тянул бесконечную песню. "Ивушка, ивушка, зеленая моя… Что же ты, ивушка, не зeлена стоишь?" — любопытствовала песня, "или те, ивушку, солнышком печет? — солнышком печет, частым дождичком сечет?" — {159} предполагала она, и, не дождавшись удовлетворительного ответа с каким-то тоскливым ухарством оповещала знойную степь о том, как коварные бояре "срубили ивушку под самым корешок", как "стали они ивушку потесывати"…
А предо мною печально носился образ Ульяны. {160}
VII. Барин Листарка
Кому случалось в былые, дореформенные времена колесить крепостную Русь, тот, вероятно, примечал некоторую особенность в расположении дворянских убежищ. Богатые барские усадьбы с бесчисленными службами и домом-дворцом, воздвигнутым по плану какого-нибудь Растрелли, в свое время искавшего милостей помещика-вельможи, гордо и одиноко громоздились где-нибудь на возвышенности, царствующей над окрестностями, окруженные цветниками, садами и парками, и лишь в почтительном отдалении от таких усадьб тянулись бесконечными улицами многолюдные крепостные села с белокаменными церквами, широкой базарной площадью, а иногда даже и с пожарной каланчою. Поместья, принадлежавшие дворянству средней руки, с надворными постройками, более рассчитанными на солидность и прочность, чем на изысканность и щегольство, и господским домом с вечным мезонином наверху, обыкновенно ютились себе где-нибудь на отлогом полускате и отделялись от деревни, потонувшей в зелени ракит и в матовом золоте многочисленных скирдов, много-много что сквозной каменной оградой, на диво сложенной крепостными каменщиками, или узеньким прудом с навозной плотиной, усаженной развесистыми ветлами, и с водяной мельницей, неустанно гремевшей и брызгавшей колесом своего единственного постава и немилосердно пудрившей прохожих мелкой мучной пылью. Около таких поместий не зеленелись парки и английские сады с подстриженными деревьями и таинственными павильонами, не сверкали молочной белизною дебелые Венеры и Дианы и не звенели свежими {161} брызгами фонтаны с неизбежным тритоном и полногрудыми, до излишества, наядами… Дворянство средней руки не любило этих затей во вкусе рококо. Не выписывало оно соблазнительных, но дорого стоящих мраморных изваяний, не строило фонтанов, сочивших холодные водяные струйки устами сердитого нелюдима Нептуна и его многочисленной челяди, не уродовало ножницами пышной древесной листвы и не воздвигало, на страх и грозу крепостных девок, вычурных павильонов, изукрашенных скоромными картинами, зеркалами и фантастическими арабесками. Вековой запущенный сад, из конца в конец оглашаемый звонким соловьиным рокотом, пронзительным писком копчика и заунывным кукованьем кукушки, дремучий сливняк и вишенник, тысячи яблонь и груш, целые поляны малинника, смородины и другой ягоды, тенистые кленовые и липовые аллеи, березовые рощи с веселым блеском своих стволов и болтливым лепетом глянцевитых листьев, — вот что окружало поместье дворянина средней руки и, в первобытном изобилии, давало неисчислимые сорта мочений и солений, парений и наливок для его неприхотливого стола, а в случае надобности — объемистые пуки гибких розог для мужицких крепостных спин.
Эти поместья, так же как и усадьбы богатых тысячедушных бар, были раскинуты на довольно значительном расстоянии друг от друга, и только поднявшись на гористый берег какой-нибудь реки и окинув с него взглядом привольную низменную даль, протянувшуюся на десятки верст видимо глазу, вы могли бы счесть пять-шесть дворянских вотчин, подобно белоснежным лебедям улепивших там и сям полускаты берега. Самое пространство земли, примыкавшей к такому поместью или к такой усадьбе, и иногда достигавшее размеров немалого немецкого царства, обусловливало эту отдаленность друг от друга барских убежищ.
Зато так называемые во время оно «малодушные», то есть владельцы двух-трех и много десяти крепостных душ, гнездились в тесном соседстве. Едешь-едешь, бывало, смотришь-смотришь по сторонам — и вдруг с какой-нибудь возвышенности бросится тебе в глаза целая кучка тесовых, камышовых и иных кровель, замелькают частыми зелеными пятнами крошечные садишки, огороженные плет-{162}нями, сквозь которые свободно шныряют свиньи и поросята, засверкает тинистый пруд, заросший осокою и чапыжником, и зачернеются покоробленные мужицкие избенки, беспорядочной толпою обступившие домики с тесовыми, камышовыми и иными кровлями. Это и есть «малодушные». В подмосковных губерниях народ и теперь помнит этих «малодушных» под несколько презрительным прозвищем "поганых дворян". Чаще всего это были либо недоросли, с грехом пополам одолевшие дьячковскую псалтирь, либо писцы второго разряда, заручившиеся этим вожделенным званием в снисходительной предводительской канцелярии, либо юнкера и прапорщики в отставке. Вообще народ нечиновный. Это те самые предупредительные господа, которые в былое время смиренно терлись в хоромах каждого помещика средней руки, пользовались его кормами, а иногда и старым шлафроком с его плеча, выпрашивали, когда патрон находился в духе, четвертку пшенца, телочку на завод, щенка от борзой суки, возик сенца, — причем подобострастно целовали патрона в плечико и величали его «благодетелем». Это те самые развеселые люди, которые на званых помещичьих обедах и именинных балах так уморительно ходили на четвереньках и выплясывали трепака, в угоду хозяину и на потеху многочисленных подвыпивших гостей, так храбро глотали смесь уксуса с деревянным маслом, сгрызали зубами рюмки и с такими смешными ужимками подражали крику петуха, мяуканью кошки и хрюканью поросенка.
Те из «малодушных», которые не потешали таким невинным образом добродушного дворянства средней руки и не пресмыкались перед ним в чаянии сюртука с протертыми локтями или засаленной венгерки, — те невылазно жили в своих утлых домишках, иногда сами и косили и пахали наряду с мужиками и вообще образом и подобием мало чем отличались от собственных своих крепостных. Разве что кое-как выбритые подбородки да лохматые усы, спесивая важность в лице да зычный голос, с утра до вечера расточавший ругательства, выдавали их благородное происхождение. У иных же не было и этих признаков дворянского достоинства, и часто форейтор богатого барина, при встрече на узкой дороге с таким опростевшим дворянином, лупил его на все корки арапником, нимало {163} не подозревал, что лупит благородного человека, а не какого-нибудь мещанина-шибая или двоюродного дьяконского племянника.
Обыкновенно раз в три года, а иногда и реже, какой-нибудь милостивец, метивший в предводители, вез «малодушных» на свой счет на выборы, и тогда для них наставал великий праздник. Их плохо выбритые красные и оплывшие физиономии с буйно растрепанными усами и насаленными «серполетовой» помадой коками (есть такая помада), их венгерки и сюртуки военного и штатского покроя, с буфами в плечах и с талией на затылке, заполоняли все трактиры и кафе-рестораны невысокого разбора, а жадные рты с азартом истребляли целые горы классических котлет с горошком, невероятное количество поросят со сметаной и реки киевских наливок с запахом сургуча и сквернейших водок под громкими наименованиями тминной, полынной, анисовой и т. п. Улицы и бульвары губернского города оглашались тогда победным гамом их громких до нелепости голосов и пьяными возгласами о дворянской чести, благородстве и о готовности во имя этой чести и этого благородства каждому мимоидущему бить морду. Визг девиц двусмысленного поведения неумолчно стоял над городом во все время присутствования в оном одичавших по захолустьям мелких дворян. Полицейские чины сбивались с ног, круглые ночи объезжая притоны и дружески увещевая полчища этих захолустных рыцарей. В залах дворянского собрания пахло луком, сквернейшим табаком и сивухой… Но проходили выборы, допотопные сюртуки военного и штатского покроя бережно укладывались на дно сундуков до нового чрезвычайного случая, и «малодушные», кисло озирая неприхотливые домашние яства, с тоскою поглаживали желудки, отчаянно хватались за разбитые хмелем головы и с остервенением погружались в захолустные дрязги… А дрязги эти широким потоком одолевали их дворянское существование. Смежные поля и усадьбы, сварливые соседи, одуревшие со скуки и тоски, разоренные и вечно голодные мужики, ворующие все, что только попадалось под руку и что возможно было украсть, от гвоздя до гнилой подошвы включительно, визгливые барыни и барышни в козловых башмаках и ситцевых платьях; барышни, обожающие душку Пушкина и с замиранием {164} сердечным твердящие наизусть «Полтаву» и «Цыган», барыни с непобедимою наклонностью к щипкам, плевкам и мордобитию — все это страшно распложало ссоры и сплетни, брань и пересуды.
И ни с кем так безжалостно не поступил шестьдесят первый год, ни на кого не обрушился он с такой сокрушительной стремительностью, как на несчастных «малодушных». Подобно железной метле, прошла по их скученным усадебкам эмансипация и разогнала по широкому лицу земли русской горемык-владельцев. Почва из-под них как-то сразу ушла и ухнула в какое-то бездонное «далеко». Мужичишки, большею частью оказавшиеся "дворовыми людьми", расползлись как тараканы и разнесли по селам и деревням свой нищенский скарб и свои гнилые избенки. Богачи-помещики, в былое время возившие мелкого дворянина на выборы, поившие и кормившие его своими кухнями, не знавшими скудости, и своими неистощимыми запасами яблоновок, вишневок и сливянок, — сами сидели по своим домам с мезонинами в неприятном, предвкушении погибельных времен и с тоской измеряли взорами вновь открывшиеся перспективы всяческих неблагополучий. Нового сословия, с запросами на людей жующих стекло и ходящих на четвереньках, в то время еще не нарождалось. Земля… но ее было так мало, и притом она требовала обработки, обработка же в свою очередь вопияла о деньгах, известных «малодушным» больше по слуху. Приходилось разбегаться — и они разбегались. И куда-куда, не заносила судьба их победные дворянские головы с признаками и без признаков благородного происхождения на лице!.. От задних комнаток московских трактиров двусмысленной репутации и до щегольских передних новых судебных учреждений, от окрестностей Иверской часовни и до панелей многолюдных петербургских улиц вы могли бы встретить и видеть их, немытых и нечесаных, с пухом в волосах и с следами синяков под глазами… Низшие разборы железнодорожных должностей, вновь объявившиеся канцелярии мировых и земских и иных учреждений, реформы, потребовавшие переписки, переписки и переписки — все это, вплоть до наших дней и до пресловутого движения добровольцев в Сербию, — подобно омуту, впитывало в себя мелкого дворянина. А крошечные домишки с тесовыми и иными кровлями гнили и обруши-{165}вались и зарастали чертополохом; «забалованная» мелкодворянская земелька покрывалась сорными травами, порастала бурьяном и бобовником и за бесценок переходила в руки предприимчивых пионеров нового сословия. Так погибли «малодушные». И редко-редко кто уцелел из них до наших времен и усидел на старом пепелище. Такие уцелевшие обыкновенно применяются к новым порядкам, водворившимся в захолустьях после шестьдесят первого года, и тяготеют к "новому сословию". Они при случае и кабаки снимают, причем вешают на них вывески с надписью «ресторации», они и трактиры открывают, непременно с органом и мамзелью за буфетом (это в каком-нибудь селе Голодалове-то!), и заводят торговлю линючим ситцем да рукавицами, рыжеватым плисом да щегольскими трубками в оправе, натертой ртутью.
Но есть из них и такие, которых можно назвать закоренелыми. Эти хотя и с грехом пополам, но пытаются жить по старым порядкам и до последней возможности берегут свои дореформенные понятия и взгляды. Обыкновенно они не вовсе уже бедные и в старину обладали не менее как десятью душами, а ныне — пятидесятью десятинами земли. Они — любопытны, эти закоренелые. Они не любят показывать носа в люди и живут в своих насиженных норах безвыходно и безвыездно. Но вы можете видеть их на каком-нибудь избирательном съезде, где они присутствуют иногда в качестве уполномоченных от мелких землевладельцев (это обыкновенно в тех уездах, в которых "новое сословие" не проникло еще надлежащим образом в суть земских отправлений и все еще, в простоте душевной, считает их за времяпрепровождение, никакой выгоды не представляющее). Сидит такой закоренелый на высокой земской скамье, багровеет и задыхается от тугого старомодного галстука и с мучительной сосредоточенностью вслушивается в голос председателя. Но вот он услышал свою фамилию и, благоговейно шагая по шикарному земскому паркету, направляется к ящику. Там он бережно принимает шар из рук кротко и предупредительно улыбающегося председателя — и, либо мрачно и торжественно, либо радостно и застенчиво, кладет всем налево или всем направо: смотря по темпераменту. Кроме этого мерного и благоговейного хождения от скамьи к ящику и от ящика к скамье, кроме подобающих сжиманий лицевых {166} мускулов в пору опускания руки под сукно, — он неподвижен, подобно изваянию, и так же, как изваяние, нем. Пусть нестерпимо сжимает его шею жесткий, как дерево, галстук, пусть режет ему под мышками сшитый в незапамятные времена сюртук, пусть на багровом лице проступает испарина и сосед-купчина с засаленным животом толкает под локоть и таинственным полушепотом спрашивает: "Нет ли чего продажного?" — он не шевельнется и не промолвит слова.
В гласные такие закоренелые редко попадают, а если попадают, то являются лишь в те собрания, где предполагаются выборы. Тогда они изъявляют желание баллотироваться, всем другим претендентам кладут налево (несмотря уж на темперамент) и обыкновенно сами получают два шара из сорока, после чего с важным и угрюмым видом, не лишенным некоторой величественности, удаляются из залы и в тот же вечер выбывают в свои тихие палестины. Впрочем, несмотря на такую неудачу, они не унывают и баллотируются при всяком удобном случае и во все должности, где полагается жалованье и не требуется ценза, и, что замечательно, — баллотируются всегда безуспешно и всегда получают одинаковое количество неблагоприятных шаров.
Нужно прибавить, что на дворянских выборах теперь вы уж не встретите мелкого дворянства, ибо нет уже теперь таких горячих искателей почетного, но безвыгодного предводительского места, которые возили бы на эти выборы мелкого дворянина и до отвала кормили бы и поили его сомнительными деликатесами губернских трактиров.
Отставной писец второго разряда Аристарх Алексеич Тетерькин, более известный в нашем околотке под несколько двусмысленным прозванием "барина Листaрки", принадлежал именно к этому числу уцелевших и закоренелых мелких дворян. Его крошечное именьице (однако и не так уже чтобы слишком крошечное) отстояло недалеко от моего хутора. Был господин Тетерькин высок ростом, сед волосом, вдов и бездетен. Кроме ситцевого халата и нанковых штанов, никогда и ничего не надевал и только в парадных случаях, почти сверхъестественных по своей исключительности, заменял халат вицмундиром, сшитым {167} еще во время венгерской кампании крепостным самоучкою Эльпидифором.
Во время молодости своей Аристарх Алексеич, по его словам, находился в приятных отношениях к дому помещика Катай-Валяева, в торжественных случаях выхаживал «русскую» с крепостными метрессами этого помещика, и вообще занимал общество, в чем так преуспел, что раз даже, каким-то невиданным дотоле способом подражая свисту соловья, привел в восторг заезжего генерала, за что и получил великодушное генеральское спасибо с присовокуплением золотого дуката (генерал только что прибыл из Венгрии). Но времена переменчивы. По случаю какой-то неприятности, имевшей темную и невыясненную связь с появлением у одной из метресок шелковой юбки, Аристарху Алексеичу пришлось прекратить свои приятные отношения к дому Катай-Валяева, и прекратить после невольного, хотя и таинственного, путешествия на катай-валяевскую конюшню. С тех пор господин Тетерькин разучился свистать соловьем, утратил веселость своего нрава и привычку к общительности. Он раз навсегда надел на себя халат, натянул нанковые панталоны и засел в своем поместьице, где и женился и овдовел в свое время.
С шестьдесят первого года нелюдимость Аристарха Алексеича перешла даже в некоторую мрачность. Он почему-то возмечтал, напустил на себя великую важность и спесь, за что и получил от соседних мужиков прозвание "барина Листарки".
Эта спесь и эта склонность к уединению усугубились в нем с той поры, как, быв выбран уполномоченным в избирателъный съезд и пожелав баллотироваться в земские гласные, он получил один только шар из сорока двух наличных. Неизвестно, путем каких умозаключений, но "барин Листарка" пришел тогда к такому выводу, что только он один, Аристарх Алексеич Тетерькин, есть настоящий дворянин и благородный человек, сохранившийся во всей своей первобытности; все остальные были лишь прохвосты и проходимцы.
Вообще новое время пользовалось искренним его нерасположением (особенно усилившимся опять-таки со времени упомянутого избирательного съезда), хотя это же самое время, с своим возведением всякого дворянского {168} существования в нечто независимое и прочное (сравнительно, сравнительно, господа!), вероятно и содействовало укреплению возвышенных мечтаний в голове господина Тетерькина и воспитало в нем пылкое желание слыть барином.
От покойницы жены господину Тетерькину осталось несколько прочных воспоминаний, а именно: вышитый бисером по атласу кисет с надписью "друху мово серца", вязаная скатерть, покрывавшая пузатый комод, оклеенный неизбежной карельской березой и выложенный давно уже позеленевшею бронзой, и раскрашенный дагерротип, изображавший сочную толстуху с носом, наивно приподнятым к небесам, мужественными усами на оттопыренных губках и фиолетовым румянцем на лбу. Впрочем, несмотря на всю чарующую силу этих трогательных воспоминаний, господин Тетерькин все ж таки имел в качестве хозяйки кухарку Арину, изумительно грязное, косое существо, вечно безмолвствовавшее и как бы забитое, но твердо державшее в руках нос своего барина.
Время Аристарх Алексеич проводил однообразно. Летом он с самого утра влезал в свой вечный халат и, если погода была удовлетворительна, бродил по своим владениям, заходя в дом только лишь затем, чтобы выкурить трубку. Целый день его зычный голос, подобно трубе архангельской, гремел то в поле, то возле риги, более похожей на хлев, чем на ригу, то в саду. В поле он ругал мужиков, в риге — работника своего, смиренного и молчаливого старичка Архипа, в саду — девок, выпалывавших гряды. Драться он не дрался, но ругался ужасно (существовала легенда, что некогда и к драке он питал склонность, но в свою очередь был как-то побит и утих). Бывало, на заре едешь по своему полю, а уж с ветерком несутся густые басовые ноты: "да я тебя!.. да ты у меня!.. да я!.. да ты!.." (Если в это время случится около меня какой-нибудь мужичок, то он уж непременно заметит, тихо и снисходительно посмеиваясь себе в бороду: "Эка Листарка-то надрывается!") Несмотря на вечную ругань Аристарха Алексеича, мужики работать у него любили. Так как денег у него никогда почти не водилось, а если и случались они, так всецело уходили на чай и сахар, сапоги и табак (все остальное было свое, нанка же на штанах имела свойство носиться десятилетия), то работали {169} у него испольно. Впрочем, многим работать не приходилось; две или три семьи из ближней деревни так подладились к характеру господина Тетерькина и с таким смирением сносили его «барское» обхождение, что без всякой конкуренции выпахивали его земельку, свозили изрядную часть его хлеба на свои гумна и вытравливали своим скотом его маленький сенокос. Чтобы все это выделывать. благополучно, им только приходилось заручаться расположением косой Арины, любившей иногда выпить. Что же касается до Аристарха Алексеича, то, несмотря на видимую его неусыпность и всестороннее вникание в хозяйство, он ровно ничего не видел и ничего не знал. Если перед ним стояли без шапок, если умиленно молчали, когда он ругался, или подобострастно лепетали: "Виноват, сударь, простите", если называли его жалкий домишка «хоромами», его убогонького работника Архипа — "барским кучером", а дребезжавшую и некрашенную таратайку, связанную для прочности веревками, "барским тарантасом", — он был доволен и на все остальное махал рукою.
Зимою "барин Листарка" не выходил из комнаты и в неизменном своем халате, с вечною трубкою в зубах, сидел у окна на старом, продавленном кресле и не спускал упорного взора с окрестностей, занесенных сугробами. Тогда уж он не ругался, а только тяжко сопел, мрачно сосал длинный чубук свой (теперь уже нет таких длинных чубуков) и в известные промежутки сердито возглашал: "Арина, трубку!" На зов появлялась косая баба и, утирая грязным подолом заспанное лицо свое, подавала барину вновь набитую и раскуренную трубку, после чего опять удалялась к своим горшкам, а барин опять сопел и курил и неподвижно глядел в снежное поле, над которым то сияло солнце и сверкало ослепительное небо, то тихо тянулись печальные снеговые тучи и белыми звездочками сеял снег. Это молчание, сопение и курение в обычные часы прерывалось обедом из солонины, щей и каши, скверненьким чаем, имевшим способность настаиваться до черноты, подобной пиву, и пахнуть пареными березовыми вениками, и, наконец, тяжелым сном с безобразными сновидениями, мучительной отрыжкой, одурью и давлением домового.
Вообще однообразно проводил время господин Тетерькин. {170}
Я редко бывал у него. Надо сказать правду — он был таки утомителен, и только скука хуторская заставляла меня поддерживать с ним знакомство. Но случалось и так, что я посещал его и не раскаивался, ибо не без приятности проводил время.
Как теперь помню одно весеннее воскресенье. Стояла прелестная погода, и я вздумал проехать к Аристарху Алексеичу. Благодаря ли празднику или вообще нерабочему времени (сев уже окончился, покос же еще не начинался), но, подъезжая к усадебке Тетерькина, скрашенной развесистыми березами и цветущими яблонями крошечного садочка, я, вопреки обыкновению, не услыхал зычного хозяйского голоса, и только когда уже "барский кучер" Архип взял у меня лошадь и потащил ее к риге, а я направился к крылечку, — до меня донесся из «хором», могучий окрик Листарки: "Трубку, Арина!"
Поздоровавшись, и выразив подобающими восклицаниями нашу радость по поводу свидания, мы расположились с Аристархом Алексеичем на крылечке (которое, впрочем, он величал балконом) и не спеша начали тянуть чай, поданный нам косою Ариной в зеленоватых, толстых стаканах и на ржавом железном подносе какой-то доисторической формы. Прямо против крылечка зеленел густой муравою небольшой дворик, окруженный с одной стороны покосившимся амбаром и растрепанной ригою, с двух других — старым, полусгнившим плетнем. За двором, вплоть до горизонта, расстилалась и ходила сизыми волнами серебристо-зеленая рожь. Вообще место с балкона казалось пустынным и самая усадьба скучною. Но за домом этой усадьбы расположен был садик и протекала узенькая речка, окаймленная ракитами, и оттуда вид уже не казался пустынным: на противоположном берегу с добрую версту тянулось большое однодворческое село с голубою церковью, около самого садика ютилась деревенька бывших крепостных господина Тетерькина и его многочисленных соседей — «малодушных» дворян, следы существования которых давно развеяло ветром по чистому полю… Впрочем, не все развеяло: шагах в тридцати от усадьбы Аристарха Алексеича, возле дороги, прихотливой лентой извивавшейся по ржаному полю, каким-то чудом уцелел крошечный похиленный домишка, с гнилыми углами, провалившеюся, но когда-то несомненно тесовою, {171} кровлею и зияющими дырами вместо окон. Около этого жалкого остова, печально поникнув листьями, белелась старая береза, и корявая яблоня с прогнившей сердцевиной беспомощно распростирала полузасохшие ветви свои. Могучая рожь пышно разрослась на тучной почве и со всех сторон обступила и развалину и одиноко умирающие деревья. При взгляде на эти заброшенные развалины, затерянные во ржи, и на эти сиротливые деревья, как бы оплакивающие судьбу свою, невольно сжималось сердце и какое-то тоскливое чувство вползало в душу…
В этом домишке некогда прожигал жизнь Мухоморкин, владелец шести крепостных душ, в свое время переселившийся в известное лоно и оставивший достояние свое единственному чаду Митрофану. Митрофан же Мухоморкин, с петушиным видом расхаживая по вагонам в поддевке, отороченной галунами, и зычно командуя пассажирами богом забытого третьего класса, — вспоминал про отцовское достояние лишь в то время, когда богатый мужик-однодворец Костоглот привозил ему аренду, впрочем едва-едва хватавшую на погашение десятка порядочных ремизов в стуколке.
Аристарх Алексеич, широко распахнув на косматой груди халат свой и сосредоточенно сжав губами длиннейший чубук, глубокомысленным взором осматривал даль, плевался, выпускал прихотливыми струйками синеватый дымок и внушительно морщил брови.
— Что нового? — спросил он у меня отрывисто и важно.
— Да что нового. Вот земство еще по три копейки наложило.
Господин Тетерькин на мгновение вынул изо рта чубук, сердито сверкнул глазами и произнес:
— Грабеж и больше ничего.
— Да ведь оно на общественные нужды, любезный Аристарх Алексеич…
Аристарх Алексеич усиленно засопел и придал глазам вращательное движение.
— Оно на общественные нужды, — повторил я.
— Какие такие?
— На школы, на больницы…
— Школы! Больницы! Могу вам сообщить… — желчно и презрительно воскликнул Тетерькин и затем с угрюмым {172} хладнокровием добавил: Проходимцы с мужичишками съякшались и грабят.
— Кого же грабят? — удивился я.
— Дворян грабят, сударь мой! — выпалил Тетерькин.
— Помилуйте, какой же это грабеж? Отчеты…
Но Аристарх Алексеич окончательно рассердился, возвысил голос и забрызгался слюнами.
— А па-азвольте вас спросить, сударь мой, где эти самые распротоканальские отчеты ихние-с?.. Кто их видел, эти отчеты-с, па-азвольте полюбопытствовать?.. Я их не видал-с, могу вам сообщить… Я не имел чести их видеть… Понимаете — я!
Он указал на себя пальцем.
— Но позвольте… — попытался было я возразить, но мой горячий собеседник уже не внимал ничему.
— Я, сударь мой, дворянин и благородный че-а-эк! — кричал он, то возвышая голос до рева, то уподобляя его самому тончайшему писку, — я бла-ародный че-а-эк, сударь мой, и грабить себя каким-нибудь проходимцам не позволю-с, могу вам сообщить… Я… я… (тут господин Тетерькин слегка поперхнулся)… — Мы… мы… Мой отец… и я не позволю всяким мерзавцам… Не позволю-с, сударь мой!
Он круто остановился и постучал кулаком по своей мохнатой груди.
— Ведь вы же выбирали этих проходимцев и мерзавцев? — заметил я (перед этим Тетерькин был уполномоченным в избирательном съезде).
— Я! — басом возопил Аристарх Алексеич и с негодованием вскочил со стула. — Я!.. — повторил он дискантом и затем в каком-то изнеможении пролепетал: — Могу вам сообщить… Я выбирал Данилку?.. Я Акимку выбирал?..
— Да как же… — заикнулся было я.
— Нет-с, уж это извините-с! — с новой энергией прервал меня Аристарх Алексеич, — нет уж, сударь мой… Подлецов я выбирать не охотник, могу вам сообщить… Не имею этой привычки, чтоб подлецов выбирать!.. Я поповича Данилку Богословского не выбирал-с, смею вам доложить… Я мужичишку Акимку, ирода и прохвоста, не выбирал-с, а налево ему, архибестие, закатил… Я вора и пьяницу Ефимку не почтил выбором-с!.. Я ему, искари-{173}оту, черняка влепил… Это могу вам сообщить… Это уж увольте-с… Это уж мое почтение-с… Я не проходимец какой, смею доложить… Я… я… Мой отец… мы… я грабить себя не позволю-с… Да-с, могу вам сообщить!.. Я плюю-с… я дворянин… Да, и плюю…
Тетерькин действительно плюнул, но вдруг почувствовал утомление, вздохнул, сел и мало-помалу успокоился, хотя бровями все еще шевелил тревожно. Косая Арина принесла нам по другому стакану чая и на этот раз соблаговолила угостить вареньем, вероятно собственного своего изделия, ибо варенье, судя по ягоде, было из малины, но отзывало, черт его знает почему, ладаном и известным цветком «ераныо».
Мы молчали и думали каждый свою думу.
В саду лениво щелкал соловей и диким криком перемежала свои мелодичные переливы иволга. У крыши, черным грибом нависнувшей над амбаром, дружным роем копошились и чирикали воробьи. Старая, седая собака сидела на корточках среди двора и, сторожко приподняв одно ухо, с внимательной серьезностью прислушивалась к чему-то. Около риги бесцельно бродили куры, поковыривая носами кучки навоза. Моя кобыла, привязанная к саням, стоявшим недалеко от риги, флегматично жевала сено, а шершавый щенок, с довольным видом помахивая куцым хвостом, лизал сальные оси моих дрожек. Где-то за плетнем бестолково болтал индюк и робко перекликались индюшки. Ржаное поле то замирало в какой-то чуткой дремоте и неподвижно нежилось в голубом воздухе, то колыхалось, трепетало и разбегалось хмурыми волнами, и тогда шорох и шелест встревоженных стеблей ясно доносился до нас. В небе белыми и прозрачными космами недвижимо висели облака. Солнце, проникая сквозь эти облака, не сияньем и не блеском обливало землю, а каким-то матовым, мягко-желтоватым и, если можно так выразиться, тихим светом. Сладкий запах цветущих яблонь и зацветающей сирени, смешиваясь с горьковатым ароматом молодой березы и тонким благоуханием резеды, бог весть какими путями занесенной в садик Аристарха Алексеича, стоял в теплом и слегка влажном воздухе, заглушая даже запах тетерькинского чая.
Долго ли продолжалось бы наше молчание — не знаю, но ему суждено было прекратиться следующей сценой. {174}
Приземистый мальчуган лет девяти, в широчайших, но коротких портках и рубахе, подпоясанной ниже живота, вынырнул откуда-то из-за плетня и трусливой, спутанной рысцою направился к стороне риги. Громадная косматая шапка (вероятно, отцовская) свободно болталась на его головке и то и дело надвигалась ему на глаза.
— Эй, ты! Как тебя… Малый… малый! — оглушительно закричал Аристарх Алексеич.
Мальчуган остановился в некотором раздумье и, после минутной нерешительности, робкой поступью подошел к «балкону», сняв на ходу шапку и обнаружив глазенки, полные лукавства и вместе смущения.
— Знаешь, кто я? — спросил его господин Тетерькин, грозно насупливая брови.
— Ба-ари-ин, — пролепетал мальчуган, комкая в руках шапку.
— Барин! — иронически передразнил Аристарх Алексеич, и затем сурово добавил: — Как же ты, негодяй, осмелился по барскому двору в шапке идти, а? (он сделал ударение на словах "барский двор"),
Мальчуган молчал и почесывал одна об другую свои босые ножонки.
— Я тебя, каналью, спрашиваю? — повторил господин Тетерькин.
Мальчуган с озадаченной миной спустил рукав рубашонки, старательно высморкался в этот рукав и — молчал. Аристарх Алексеич долго и пристально глядел на него.
— Ты чей? — спросил он вдруг.
— Михей-ки-ин сы-ин, — дрожащим голоском произнес мальчуган и внимательно стал разглядывать свою громадину-шапку.
Аристарх Алексеич опять пристально и напряженно осмотрел его с ног до головы.
— Так ты Михейкин сын, а?
— Михейки-ин…
— Как же ты не видишь, барин сидит на балконе, а? Михейкин сын безмолвствовал.
— Как же ты, свинья, не замечаешь — сидит барин, и ты ломишься в шапке, а? — настоятельно повторил господин Тетерькин.
Опять безгласие, но прерванное тихим вздохом. {175}
— Балкон, барский дом, сам барин сидит на балконе — и ты, скотина, шапки не ломаешь, а?
Все мы с добрую минуту помолчали. Мальчуган порывисто вздернул штанишки и наклонил голову, отчего волосенки свесились ему на лоб и закрыли глаза.
— Так ты сын Михейкин? — снова спросил господин Тетерькин.
— Сы-и-ин…
— Хм…
Аристарх Алексеич подумал, сделал величественное мановение рукою и отрывисто произнес:
— Пшел вон!
Мальчуган радостно взмахнул волосами, сверкнул исподлобья темными глазенками, на этот раз уже не выражавшими смущения, и, с удивительной поспешностью перебирая пятками, скрылся за амбаром.
Спустя некоторое время по исчезновении Михейкина сына на дворе появился мужик, еще издалека снявший шляпу и подходивший к нам с подобострастной улыбочкой.
— К вашей милости, сударь, пришел! — сладко произнес он, низко и медленно кланяясь.
— Что такое? — важно спросил господин Тетерькин, глядя не на мужика, а куда-то в сторону.
— Да уж не оставьте, сударь, ваша милость… Вы наши отцы… — Мужик насмешливым и быстрым взглядом скользнул по моей фигуре.
— Что нужно?
— Мучицы бы мне, сударь. Мы и то так-то поговорили, поговорили со домашними: господи ты, боже мой, куда же мы опричь своего барина пойдем!.. Кем живем, кем дышим… — Мужик вздохнул благодарным вздохом и слабо кашлянул. — Ужель я к целовальнику пойду! — Нет, я не пойду к целовальнику, а пойду-ка я лучше к сударю-барину, говорю… Авось его барская милость не оставит, не откажет мне в мучице…
Аристарх Алексеич с чувством уверенного в себе достоинства слушал мужика, и слушал до тех пор, пока мужик в некотором изнеможении остановился. И, вероятно, льстивая мужикова речь была по душе господину Тетерькину, ибо вся фигура его как-то величественно напряглась, а лицо даже прояснилось сиянием. {176}
Когда мужичок остановился, господин Тетерькин покровительственно проронил (впрочем, все-таки не сводя своего взгляда с какой-то беспредметной дали):
— Муки тебе?
— Мучицы, сударь… Это точно, что мучицы! — с новой силою воскликнул мужик. — Уж сделайте милость — вы наши отцы…
Аристарх Алексеич затейливой спиралью выпустил дымок и, с подобающим глубокомыслием опять выслушав до конца подобострастную реплику мужика, крикнул:
— Арина!
Явилась Арина и, учинив своими косыми глазами некоторую перепалку с плутовским взглядом мужика, недвижимо подперла притолку и по своему обычаю спрятала руки под передник.
— Есть мука? — спросил ее барин.
— Как не быть муке, батюшка-барин… Муки — слава богу! — Арина говорила нараспев и слегка присюсюкивала.
— Дура-баба, — возразил Тетерькин, надменно передергивая плечами. Знаю — есть мука… Для барского стола, спрашиваю, хватит ли, а?
— Как, поди, не хватить… — Арина вскинула кверху голову и что-то пошептала. — Хватит, батюшка-барин…
— Хм… — Аристарх Алексеич забарабанил пальцами по столу. — Трубку!
Арина исчезла. Мужичок, поникнув головою, неподвижно стоял около балкона.
— Ну, как ты… Как тебя… — свысока проронил господин Тетерькин, что у вас там, как… Вольные вы… ну, как, а? мучицы?.. Жрать нечего, а?..
Мужичок встрепенулся и хотя не нашелся, что отвечать, но в почтительном тоне пустил: "Хе-хе-хе…"
— А? Вольные?.. А мучицы, а?.. Что? — Как тебя… сладко, а?
Мужичок, видимо, смекнул в чем дело; он опять насмешливо и быстро вскинул на меня глазами, и, погладив небольшую бородку свою, произнес:
— Уж это как есть!.. Это вы правильно, сударь, рассудить изволили.
— А? Правильно? — вдруг оживился Аристарх Алексеич и даже взор свой устремил в сторону мужика. {177}
— Чего справедливей! — подхватил мужик, — при господах, аль ноне… Тогда житье было, прямо надо сказать — рай.
— А? Рай? — все более и более оживлялся "барин Листарка". — А теперь мучицы, а?
— Знамо, уж времена пришли… Ноне ему в пору щелоком брюхо полоскать, мужику-то… Ноне он бесперечь без хлеба сидит…
— Без хлеба!.. — радостно воскликнул барин.
— Еще как без хлеба-то! — наставительно протянул мужичок. — По нонешним временам, прямо надо сказать — издыхать мужику: нет-те у мужика ни земли, ни покосу, ни скотины, чтоб…
— А? Ничего нет! — злорадствовал Аристарх Алексеич.
— Ноне у мужика одна нажива — вошь да недоимка…
— Недоимка? А?.. Ну, а прежде, прежде?
— Господи ты боже мой! Как равнять прежние времена… Тогда мне что, тогда я на барщину сходил, по домашности по своей управился что нужно, барину сделал угожденье какое да и завалился к бабе на полати. Только мне и делов!.
— На полати! Ну, а теперь как, а?
Мужичок безнадежно махнул рукой и засмеялся.
— Вчистyю ребятишки перевелись! — воскликнул он.
Арина принесла трубку и снова подперла своим телом притолку. Аристарх Алексеич некоторое время пыхтел молча.
— Так перевелись, говоришь? — наконец спросил он.
— В отделку застряли! — отвечал мужичок.
— Хм… Так мука есть, Арина?
— Как не быть муке, батюшка-барин.
— И для барского стола хватит?
— Хватит, батюшка-барин, за глаза хватит для барского стола.
— Но, а если я вздумал бы дать кому, то как, а?
— И дать ежели надумаетесь, то хватит.
— Хм… Сколько, Власий, тебе муки? — обратился он к мужику.
— Пять пудиков бы мне, сударь… Уж сделайте такую милость. {178}
— Да. Так пять пудиков тебе? Ну, а как прежде, при господах — как, а?
— Где же, сударь!.. Прогневили мы господа бога — это прямо надо сказать…
— А? Прогневили, говоришь?..
Листарка помолчал.
— Ну, дай ему, Арина, — наконец приказал он.
Арина моментально исчезла. Исчез и Власий.
— Вот! — поучительно заметил мне Листарка.
Я промолчал. В молчании прошло с добрых полчаса. Косматые облака стали мало-помалу расползаться, уступая место чистой и веселой синеве. Горячие солнечные лучи обильным потоком брызнули на поля и затрепетали на них сияющими волнами. Воздух был густ и мягок. Над горизонтом узкою лентой стояла какая-то беловатая, тусклая мгла. Дали были окутаны голубоватой дымкою. Парило.
В кустах сирени, точно ножницы в проворных руках артиста-парикмахера, стрекотала какая-то птичка. Соловей умолк; одна горлинка с иволгой наперерыв оглашали садик своими меланхолическими голосами. Лошадь моя, опустив уши, задумчиво поникла мордою и только изредка выходила из этой задумчивости, чтоб отмахнуться хвостом от назойливых, хотя и чрезвычайно маленьких мошек. Седая собака переменила свою наблюдательную позу и в сладком забытьи дремала, важно развалив брюхо. Шершавый щенчишка сидел около дрожек, глядел на колесо и смачно облизывался. Где-то гудели пчелы.
— Вот вы всё говорите, Аристарх Алексеич, у нас в земстве проходимцы… Не всё же проходимцы! Возьмем хоть Воронова — это уж дворянин настоящий.
— Воронов! Юрка! дворянин! — с пренебрежением воскликнул Аристарх Алексеич. — Могу вам сообщить!.. Нет-с, сударь мой… Настоящий дворянин, смею вам доложить, со всяким стервецом знакомства водить не станет… Юрке далеко до дворянина-с!.. У него, у срамника, мужики в кабинете садятся… Да-с!.. Могу вам сообщить!.. Вломится этак какой-нибудь грязный мужлан да и развалится и важничает, а Юрка ему водки подносит, лебезит перед ним, «вы» ему, стервецу, говорит, по отчеству величает… — Господин Тетерькин с негодованием отплюнулся, подавил некоторое волнение и затем уже продол-{179}жал: — Нет-с, далеко Юрке до дворянина… Вот покойник отец его, Антонин Рафаилович, — это точно был дворянин!.. Это настоящий дворянин был, смею вам доложить… К тому, бывало, купцы первостепенные не смели в усадьбу въезжать, а возьмет этак троечку, поставит за околицей, да пешечком-то, да без шапочки и бредет к барскому крыльцу… Вот это дворянин-с… Тот, бывало, не задумается: чуть не по нем — плетями! В кнуты!.. Розог!.. Вот это, могу вам сообщить!.. А то вы толкуете — Юрка! Юрке далеко до дворянина… Юрка — прохвост, сударь мой, а не дворянин…
Аристарх Алексеич важно всхрапнул, приосанился и строго взглянул на меня.
— Есть тут одна ррракалия — Семка Раков, — начал он, — мужичишка, могу вам сообщить, дрянь. Хорошо-с. Приказал я в прошлом году посеять просо. Посеяли. Поспело просо, приказал я нанять убрать его. Наняли. Наняли, смею вам доложить, негодяя Семку. Дали задаток. Отлично-с. Просо стоит… Ну, я, разумеется, спрашиваю: почему стоит просо? (Тетерькин внезапно рассердился.) Какие-такие причины!? - "Семка болен-с". — А-а, болен, нанять в его счет! — Приказал — наняли: семь рублей. Превосходно-с. Узнаю кто судья — Юрка судья. Великолепно. Прошу Юрку взыскать с Ракова двадцать рублей убытков и меня, господина Тетерькина, ублаготворить. Еду к нему сам… Понимаете ли — сам еду к этому протоканалье!.. Прошу… — «Нельзя». — Почему? — "Должны представить доказательства". — А мое благородное, дворянское слово? — "Не могу-с!.." — А? Каково вам покажется? Мне, помещику и дворянину, Аристарху Алексеичу Тетерькину — и вдруг: "Не могу-с!.." Дальше. (Чем больше сердился и входил в азарт Листарка, тем короче и выразительней становилась его речь.) Выхожу. Понятно, не простился. "Лошадь!" — Никто не откликается… То есть, понимаете — ни души. Лошадь стоит у ограды, был я в легком экипаже и кучера не взял. Вообразите положение! Кричу. Выходит из кухни какая-то бестия, в шапке, рожа красная и ряб. "Лошадь!" приказываю. Молчит… "Лошадь!" Что же вы думаете, этот мерзавец! — Тетерькин многозначительно замолчал и затем с расстановкой произнес: — "А поди да сам отвяжи", говорит… — Тетерькин спустил голос до слабого лепета: — А? Это, изволите {180} ли видеть, мне-то, барину-то, он осмелился… Можете себе вообразить… Я онемел. (Тетерькин с ужасом расширил зрачки и уподобил голос какому-то зловещему шипу.) Бегу к Юрке. Говорю, прошу, требую, наконец, наказать мерзавца. Представьте себе смеется! А?.. Я, дворянин и помещик, требую и, наконец, прошу — и он смеется!.. — Тетерькин с негодованием запахнул халат свой и, чуть не захлебываясь от сдерживаемого волнения, возгласил: — Трубку, Арина! — после чего укоризненно, хотя и с примесью некоторой снисходительности, сказал мне: — А вы толкуете — дворянин… Нет, он не дворянин, а хам-с!..
Он мрачно умолк и уж после долгого промежутка прибавил, безнадежно махнув рукою:
— Все они хамы, могу вам сообщить!
Солнечные лучи начинали донимать нас: они били нам прямо в лицо. Аристарх Алексеич предложил перейти в сад. Перешли. В саду около дома действительно была тень. Нам подала Арина старенький выбитый ковер, и мы улеглись на нем в прохладе. В саду было хорошо. Яблони, все сплошь разубранные пахучими нежно-розовыми цветами, вишни, точно обсыпанные пушистым снегом, густо-зеленая сирень, ракиты, верхушки которых приветливо румянило солнце — все это неподвижно млело и нежилось в душистом и жарком, как дыхание, воздухе. Пчелы с веселым жужжанием копошились в цветах и когда улетали с добычей, то сверкали на солнце и казались золотыми. В сочной и густой траве мелькали ярко-желтые одуванчики, серебрилась кашка и, подобно снежинкам, белелись лепестки цветов, опавших с яблонь. Суетливые мошки толклись здесь и там. Речка, еще не успевшая затянуться зеленью порослей, ясно и неподвижно сверкала сквозь ракиты. Соловей томно и тихо рокотал в углу сада. Облака почти сбежали с неба, и оно висело над ними светлое и ласковое.
Помимо пчелиного жужжания, соловьиного тихого рокота, воркования горлинки и мягких переливов иволги, изредка прерываемых криком, подобным крику дикой кошки, — все было тихо. Все казалось погруженным в сон. С того берега не доносилось ни звука: село словно вымерло. В двориках, видневшихся около сада, тоже все безмолвствовало, редко-редко какая-нибудь одуревшая со {181} скуки собака нарушала это безмолвие долгим и протяжным зевком.
Молчали и мы с господином Тетерькиным.
Случалось ли вам, читатель, в жаркий весенний день лежать на траве в цветущем саду, лежать и глядеть в необъятное синее небо? Случалось ли вам чутким ухом внимать едва заметному шелесту и шороху высокой и прохладной травы, слабо тревожимой роями красивых мошек и шаловливым дыханием ветра, ласковым и теплым, как веяние весны? Случалось ли вам до самозабвения, до отрешения от всего существующего упиваться влажно-душистым весенним воздухом и грустными звуками птичьих песен?..
О, как глубока и таинственно-величава безграничная небесная даль… Каким ласковым жаром и какой невозмутимой тишиною веет от нее… Трепещут ли под напором ветра гибкие ракиты, слабым ли шепотом отзывается трава тому ветру, звенят ли мягкие и упругие речные волны, ударяясь о берег, гудят ли заботливыо пчелы и бисерными переливами рокочет соловьиная песня, плачет ли кукушка и заунывно жалуется горлинка — необъятная высь вечно безучастна и вечно безмолвна.
Но берегитесь вникать в смысл этого безучастия и этого безмолвия. Не отравляйте красоты. Отрешитесь от мысли, едко разъедающей душу. Раскройте эту душу одной только мирной и тихой красоте и одной только этой красоте бесхитростно внимайте… Смотрите на синеву небесную, прозрачным морем повисшую над вами. Смотрите на это пышное и круглое облако, с торжественной тихостью плывущее по этому морю… Смотрите и любуйтесь. Вон острые и блестящие листья ракиты яркою зеленью вырезались, на лазурном фоне неба и слабо волнуются, колеблемые легким ветром… Вон бледный тополь задумчиво лепечет жесткими листьями своими и ослепительно заворачивает их серебристую подкладку в упор этому ветру… Вон молодая береза, радостная и ясная, как невеста, дрожит, и трепещет, и сверкает на солнце… Глядите и любуйтесь. Глядите, как светлы и нарядны эти яблони, подобно гигантским букетам украшающие сад и как бы живущие, как бы ощущающие негу своего существования… Глядите, как хорош этот частый, темно-сизый ви-{182}шенник, притаившийся под густым навесом цветов и твердых темно-зеленых листочков…
— Вот вы говорите — дворянство, — внезапно заговорил Аристарх Алексеич, и заговорил почти ласковым тоном, ибо и его дубовые нервы разнежились прелестью сада, — дворянство, могу вам сообщить, попитало. Где теперь дворянство, позвольте вас спросить? — Он задумался и затем добавил с грустью: — Нет теперь дворянства, сударь мой…
Соловей разразился бойкой и раскатистой руладой. Мы помолчали, послушали, и господин Тетерькин опять заговорил:
— Катай-Валяев, помню… Вина, повар, музыканты… Можете себе вообразить: тридцать человек музыкантов!.. И все сгинуло… В приятных отношениях был я с этим домом… То было дворянство. Представьте, рысаки были: львы, смею доложить… А сады, а парки, а оранжереи… Все прахом пошло!.. Борзых вспомню, гончих… Где все девалось, позвольте спросить? Господин Тетерькин даже с каким-то испугом вперил в меня глаза свои, но скоро оправился, махнул рукою и с какой-то тихою печалью воскликнул: Измельчал, сударь мой, наш брат дворянин, опаскудился, смею вам доложить, с мужичишками съякшался, хаму душу свою запродал… И сгинет, весь сгинет…
Он поник головою и задумался.
— Теперь еду я по селам. Там дом, там усадьба… Да ведь какой дом, какая усадьба, могу вам сообщить! Дом с иголочки, усадьба — полная чаша… Чей дом? — "Епифана Елдакимова". — Чья усадьба? — "Малахвея Евстигнеева…" — Тьфу!.. Кабатчики, шибаи, кошкодеры — в люди полезли… Брюхо растят, волосы маслом мажут, анафемы, в лице — румяны, одеты — чертом… А-ах ты… (Тетерькин крупно ругнулся.) Тоска и горе. Горе, могу вам сообщить, Николай Васильевич. Перенесть не могу. Мутит, сударь мой. Десять лет в храм не езжу-с! — Не могу, не выношу. Зазнались, сударь мой. Барина знать не хотят, шапок не ломают, подлецы… Какой-нибудь Малафейка-кабатчик рожу воротит, к амвону, бестия, лезет, просвиру ему, ракалии, на тарелке выносят. Не могу-с, сударь мой! Я дворянином жил, дворянином помру. Это могу вам сообщить. Что мне? — позвольте вас спросить… {183} Именье? — есть… Людей, которых вижу? — уважают… Церковь — ежели? — бог с ней. Я спокоен. Я чист, сударь мой, Малафейкиной рожи пакостной я не вижу, спесь его хамская у меня за глазами… Спесивься, анафема!
Аристарх Алексеич перешел в благодушный тон:
— Я — барин, барином и останусь. Это могу вам сообщить, сударь мой. Я своим не поступлюсь. Что мое — мое. Умру, схоронят — не будет барина. А пока жив — подлецу Малафейке не уступлю. Он у амвона стоит — стой, шельма, нога моя не будет в церкви… Он по селу гоголем расхаживает — ходи, анафема, я где и село стоит позабуду… Он, стервец, енотку напялил, он, каналья, слышу я, калоши заказал — плюю я на енотку и на калоши его плюю… Я в своем доме, сударь мой, в халате — царь.
Когда свечерело, мы отправились в поле. Узкая дорожка, с глубокими колеями и красноватой травкой посередине, вела нас вверх по отлогой равнине. Весело было проходить этой дорожкой. Кругом волновалось ржаное поле, однообразное как море, густое и прохладное. Развалины мухоморкинского домика, усадьба Листарки, дворики около сада — все это по самую пелену пряталось за высокой рожью, и только село за рекой, расположенное на высоком берегу, господствовало над окрестностями и виднелось как на ладони.
Вечер был прекрасный. Легкие как паутина облака собрались на западе и длинными, продолговатыми полосами протянулись над закатом, в упор заре, окрасившей их разнообразнейшими цветами, от нежно-розового до бледно-зеленого, от ярко-фиолетового до янтарного включительно. Воздух был прохладен и тих. Около дороги звонко перекликались перепела. С того берега доносилось мычание стада, и пыль, поднятая этим стадом, золотисто-румяными клубами стояла над селом.
Мы дошли по дорожке до межи и стали на ней. Рожь, окружавшая нас со всех сторон, то приникала под мимолетным ветром, и тогда шорох гибких стеблей встревоженно разносился в чутком воздухе, то вновь поднималась и недвижимо замирала в тонкой дремоте. {184}
Аристарх Алексеич одною рукой придерживал полу халата, другою величественно указывал мне на поле, отлогою равниною протянувшееся к его усадьбе.
— Все мое! — гордо произнес он. — Вот, смотрите — это рожь. Моя-с. За рожью пары — опять мои, сударь мой. Яровое тоже мое. Видите?.. Могу вам сообщить — жить можно. Смотрите — это усадьба. Вон сад, вон ракиты… Видите ракиты? (Я видел их.) А вон межа. Глядите на межу. От усадьбы к Мухоморкину дорожка пошла, — видите? Это и есть межа, сударь мой. Моя дача к самому его дому подходит. Теперь — вот межа — стоим на ней. Видите, а? Все мое!
Дружный ветер пронесся откуда-то и ринулся на поле, и рожь, точно подтверждая слова своего хозяина, одобрительно зашептала и зашевелилась и радостно наклонила свои бледно-зеленые стебли к нашим ногам. Трепетные волны расползлись по полю и зарябили его веселой рябью.
Лицо Листарки просветлело; вечно насупленные брови приподнялись, и самые глаза, всегда мутные и упрямо-напряженные, осветились каким-то привлекательным светом. Он все еще стоял в позе Марса-победителя и указывал рукою вдаль.
— Все мое! — повторил он. — Вон тополь… Видите — тополь?.. Сорок лет тому тополю. А береза? Смотрите, какая она… Вон белеет! Это молодая береза.
Он долго и неподвижно смотрел и на березу молодую, и на серебристый тополь, и на всю усадьбу; под конец жадно обвел глазами все поле, вздохнул от избытка чувств и опустил указующую руку.
На обратном пути нам встретились три мужика (мужики были из числа постоянных работников Аристарха Алексеича); все они еще издалека сняли шапки и при встрече с нами почтительно остановились и приветствовали господина Тетерькина «сударем». Это как нельзя лучше подействовало на господина Тетерькина. Преисполненный счастья, торжества и величия, возвратился он в свои «хоромы», и я не ошибусь, если скажу, что в тот вечер он особенно чувствовал себя достойным преемником настоящих, коренных дворян, вроде Катай-Валяева и Антонина Рафаиловича Воронова. {185}
Простился он со мной любезно, хотя и не упустил случая, вместо всей руки, подать мне три пальца, а вместо поклона — надменно выпятить грудь и сделать некоторое мановение бровями.
Отъехав на довольно значительное расстояние от усадьбы, я услыхал густой и важный бас Листарки, на добрую версту гласивший: "Спать, Арина!". {186}
VIII. Мои домочадцы
Прежде всего опишу Семена.
Вообразите себе малорослого человека с длинными руками, бесцельно и беспомощно болтающимися по бокам, с небольшим ястребиным носиком, слегка искривленным на конце, и прямыми, белыми как лен волосами, с кроткими, вечно задумчивыми глазами и безмятежным выражением лица, крошечного и сморщенного в кулачок, — это и будет Семен.
Впрочем, настоящее его имя было не Семен, но об этом — после.
Был он у меня не простым работником, но, по мере надобности, и старостою, и ключником. Первую из этих обязанностей, — обязанность старосты, — нес он плохо. Вы могли бы целый день следить за работами, где находится Семен в качестве начальника, и целый день не услыхали бы его голоса, и это даже тогда, если рабочие были неисправны. Обыкновенно Семен, заметив какую-либо неисправность в работе, тотчас же брал в руки метлу или лопату, или другое соответствующее орудие, и, вместо того чтоб приказывать, кропотливо возился, заглаживая эту неисправность своими руками. Но бывали и такие работы, в которых невозможно было вступаться самому (например пахота) и самому исправлять упущение, происшедшее от лени или недосмотра рабочих. Тогда Семен, после долгих колебаний, подходил к самому носу неисправного работника и втихомолку просил его "как ни можно стараться".
Вообще не по душе ему была должность старосты, и если он с грехом пополам сносил ее, то лишь благодаря {187} тому, что я и не требовал от него большего усердия, а только рассчитывал на одну его, действительно замечательную, честность.
Но обязанность ключника нес он с любовью. Весною по целым дням, бывало, возится в прохладном амбаре: там подметет, там законопатит пол, там подмажет его глиною. Придет лето — еще больше хлопот. Нужно принимать хлеб с тока, нужно отпускать его на грохота, а с грохотов снова принимать и пропускать на сортировку… Тогда ключнику много работы. И отпуск и приемка требуют счета и меры. И вот Семен с неукоснительным вниманием чертит стены закромов кабалистическими знаками, означающими воза, четверти, пуды, и является ко мне вечером с целой охапкою бирок. Кроме счета, есть и еще занятие: после каждого воза чисто-начисто подметать коридор, отгребать зерно в закроме и гонять из амбара голубей, то и дело влетающих туда поживиться обильным кормом. Осенью, а иногда и зимою, тоже большие и приятные хлопоты Семену: отпуск хлеба купцам, наблюдение за весами, зашивание кулей и, опять-таки, начертание кабалистических знаков.
В амбаре он чувствовал себя дома: говорил громко, двигался смело, делал все без колебаний и раздумываний. Но все это заменялось полнейшею нерешительностью, когда Семену приходилось вылезать из амбара на свет божий и идти на ток наблюдать за молотьбою. Надо было видеть его в ту минуту, когда к нему подходили и спрашивали: не пора ли стрясать, не довольно ли уж чисто вымолочено? Он терялся, мямлил, с нерешительностью мял в руках солому и рассматривал колосики, и в конце концов выражал свою волю таким неопределенным и сконфуженным лепетом, что молотильщики безнадежно махали на него рукою и уж руководились в своих действиях собственною своею совестью. Если они решали «стрясать» — Семен не противоречил, но с тоскою ходил по току и тогда лишь забывался, когда попадались ему под руки грабли. Тогда он старательно перетрясал ту солому, в которой ему думалось найти зерно, каждый плохо перемятый колос тщательно и со вздохом обивал о ручку грабель и вообще по мере возможности старался наверстать кажущееся упущение. {188}
Кроме молотьбы (молотьбу я подразумеваю — цепами и телегами, но не машиной), особенно ненавидел Семен полку. Иметь дело с несколькими десятками баб и девок, обыкновенно склонных к насмешкам над начальником и вообще к озорству и непослушанию, было для него сущим наказанием, и случалось даже так, что когда неизбежно приходилось идти на полку, у Семена внезапно «схватывало» живот, и он с страшными стонами залезал на печку, с которой сходил уже тогда, когда опасность проходила и надобности в нем совершенно не оказывалось. Эта конфузливость выражалась в нем только в роли начальника, старосты. В остальное время он если и не был чересчур разбитным человеком, то и не смотрел растерянным.
Впрочем, надо добавить, что вообще компании он не любил, а если уж приходилось быть в народе, то больше отмалчивался и слушал, на вопросы отвечал односложно и, при первом благоприятном случае, удалялся куда-нибудь в глухой уголок хутора, где либо посиживал себе одиноко, либо копался над какой-нибудь работой. С особенным старанием избегал он разговоров шумных и ругани, безучастно выслушивал строго деловые; но если заходила речь о каких-нибудь отвлеченных материях или рассказывалась сказка — он любил послушать, а когда предмет уже чересчур увлекал его, то и сам пускался в рассуждения, обыкновенно краткие и простые, но всегда высказанные не на ветер, а с убеждением и, что называется, от души. Чувствовалось, что рассуждения эти, на первый раз как будто и избитые, — не заимствованы и не унаследованы с тупой машинальностью от отцов и дедов, а выработаны и добыты самостоятельной мыслью.
Отличительною чертой Семенова характера было смирение и какое-то невозмутимое спокойствие духа. Исключив те случаи, о которых я уже говорил выше, вы не подметили бы на его лице следов каких-либо волнений житейских, горя, тоски, скуки и т. п. Лицо его было всегда безмятежно и кротко, взгляд — ясен и тих, движения — плавно-медлительны, речь — нетороплива и проста. А между тем, претерпел он столько, что, кажется, сам дивно терпеливый Иов опешил бы. Судите сами. Была у Семена большая семья, имелось порядочное хозяйство, и даже водились две кладушки старого хлеба, что, как известно, служит уж доказательством почти богатства (разумеется, {189} крестьянского). Семья не знала, что такое «недоимка», "неотработка", «голодуха» и тому подобные неизбежности крестьянской жизни. Но все это сразу рухнуло и рассыпалось прахом… В семидесятом году свирепствовала холера: из Семеновой избы в одну неделю вынесли пять гробов. Остались в живых Семен с женою да их сынишка, мальчик пяти лет. В семьдесят первом году попрел весь хлеб в поле, а какой успели свезть на гумно — погнил и пророс на гумне. У Семена он попрел в поле. В семьдесят втором году, в одно летнее и, по обыкновению, прекрасное утро, к Семену в избу принесли мальчика с проломленным черепом и разбитой ключицей: был в ночном, скакал на лошади (это семилеток-то!) и упал. История не редкая. Не успели похоронить не в меру шустрого мальчугана и не успела мать, убитая горем, оправиться от «сполоху», выразившегося нервным трясением головы и частыми истерическими криками, случился пожар: «баловались» конокрады односельцы, приговоренные «миром» к высылке в Сибирь. Семеново хозяйство сгорело дотла. Семен все крепился. Путем каких-то нечеловеческих усилий сбил он денег на избу и уж поставил ее: "Только бы жить!", по его выражению, но тут судьба уж окончательно его подкузьмила: жена тосковала, тосковала да и сбежала к купеческому приказчику. Тогда Семен собрал «старичков» и торжественно отказался от земли, которую находчивые «старички» тут же, на сходке, и пропили целовальнику на три года.
И, несмотря на все это, Семен сохранил безмятежность духа необыкновенную. Часто я задавал себе вопрос: что противопоставляет этот утлый человечек своей беспощадно суровой доле? Откуда у него эта беспечальная улыбка, эта мягкая светлость взгляда? — и не мог решить этого вопроса.
Он носил свое горе в себе, тихо и бережно, и не любил делиться им с людьми, не любил толковать о нем, подобно многим горемыкам, которые и самое горе-то свое забывают в пылу жалоб и сетований. Но если ему неизбежно приходилось говорить с вами о своих напастях, — безмятежность не покидала его, и вы не могли бы заметить в его голосе ни капли горечи.
Мягкий и теплый тон его простой до наивности речи, его медлительные движения, полные какой-то важной {190} значительности, его открытое лицо все это я бы назвал величавостью… Но, боже мой! — маленький, плюгавенький мужичок с ястребиным носиком, желтой бородкой клинушком и низким лбом, и… вдруг величавость!
Еще черта. Самое последнее, что занимало его в этом мире, — это собственная его особа. И если она его хоть сколько-нибудь занимала, то исключительно лишь потому, что интересы ее часто соприкасались с чужими интересами. Так, он был очень чистоплотен, но это совершенно не означало, чтобы он любил чистоту. Он сменял рубашку не потому, чтобы ему было приятно заменить ее свежей, а потому, что "люди осудят, если ходить в грязной". Рубашка — пример резкий, но таков он был во всем. Я могу представить любопытный случай, как нельзя более рекомендующий его равнодушное отношение к своей особе. Нанялся он на хутор без меня. Когда я приехал, мне сказали, что нового работника зовут Семеном. Семеном я его и звал. Года три спустя получаю я за № 11475-м бумагу следующего содержания:
"Арендателю Батурину, Николаю Василичу.
От О-го волостного старшины.
Отношение.
Как мы наслышаны, проживает на вашем на хуторе на Грязнуше (в скобках стояло: "на Вашего Высоко-Благородия!") крестьянин Ксенофонтий, государственный крестьянин О-ой волости, богородицкого сельца, Турманов (в скобках повторено: "Ксенофонтий"), но как у нас есть правила на счет недоимщиков, чтоб не застаиваться недоимкам и чтоб отдавать в случае на заработки. И как у нас такие правила на счет недоимщиков, и мы покорнейше просим вас (в скобках опять было прибавлено "ваше высоко-благородие", но на этот раз уж не с восклицательным, а вопросительным знаком), как мы наслышаны про Ксенофонтия Турманова, государственного крестьянина села богородицкого… (Затем следовало несколько точек, а уж после точек явственно и крупно было начертано другою рукой) взыскать 7 руб. 41 3/4 коп. и немедля прислать".
Внизу было подписано страшно изломанным почерком (это уже третьим):
валасъноi сътыръшыня эфървмъ горъздкын· {191}
А пониже этой ужасной подписи бойко размахнулся и закрутил залихватскими завитушками:
"Исправляющий должность помощника волостного писаря, посельный писарь Калистрат Барабанщиков".
Не успел еще я вникнуть в смысл «отношения» о каком-то неведомом мне Ксенофонтии и налюбоваться образцовым слогом административной бумаги, как вошел Семен.
— Ты что, Семен?
— Да я насчет бумаги тут…
— Какой бумаги?
— А вот из волостной-то привезли.
— Да разве ты Ксенофонт?
Семен слегка улыбнулся.
— Ксенофонт-то я, Ксенофонт…
— Вот чудак! С какой же ты стати Семеном-то зовешься?
Семен почесал затылок.
— Что ж, кабыть не все одно… Как ни назвал — все едино. Семен так Семен. Важности в этом мало.
Я развел руками, и с тех пор начал было называть Се-мена его настоящим именем, но так как оно чересчур хитро, то мало-помалу я и опять стал называть его по-прежнему, да и он на Семена откликался скорей, чем на Ксенофонта…
Семен не был привержен к церкви. Говел он в пять лет раз, у обедни бывал очень редко, попа уважал плохо, — одним словом, был в этом отношении как и все мы, грешные. Этим я хочу сказать, что нравственные его понятия, как бы на первый раз ни казались построенными на евангельском учении, которое он, как человек неграмотный, мог слышать только из уст дьяконских, — в сущности сложились совершенно независимо от церкви. Почва была в собственной личности его, мягкой и кроткой, верно дала жизнь путем бесчисленных и якобы убедительных примеров, из которых следовало, что необходимо одно — терпеть, ибо ничего не поделаешь… И вот из этого-то зерна, соединенного с такою-то почвою, и вырос диковинный и, кажется, чисто русский цветок — «смиренномудрие». Говорю, церковь тут была ни при чем. Впрочем, если хотите, она дала Семену терминологию: бог, {192} грех, терпение и тому подобные словеса часто встречались на языке Семена.
Но пусть не подумают, что Семен, с равнодушием относясь к церкви, относился к ней и критически и вообще не был религиозным. О, это не было так. Он был религиозен, но его религиозные понятия как-то двоились. Одни были унаследованы им от среды и приняты на веру, как нечто несомненное и необходимое, но ничуть не интересное и даже как бы постороннее. Другие, смутные и неопределенные, почти бессознательно назревшие где-то там, в глубине души, но очень важные и, главное, — живые. Все формальное, наружное и, наконец, даже и важное, но воплощенное в обряды, — все это относилось к первым. Все таинственное, недосягаемое, но величественное и могучее принадлежало к другим. У него был бог, которого он не мог объять своею мыслью, к которому он даже не мог приблизиться, но, что несомненно, ощущал его в себе, а может быть, им одним лишь и жил. Я не стану уверять, что бог этот был строго православный бог, и, всего вероятнее, живи мы в стародавние времена, Семен отведал бы за него батогов, но несомненно, что бог этот походил на того скорбного бога, который "под ношей крестной исходил, благословляя, край долготерпения".
Я где-то уже сказал, что любил Семен быть наедине с самим собою. К этому добавлю — любил он почасту и подолгу засиживаться в каком-нибудь укромном уголку. Случалось мне иногда наблюдать за ним в такую пору: сидит как изваяние, без слова, без движения, но лицо осмысленно, и глаза, неподвижно устремленные вдаль, по-прежнему ясны. Это, впрочем, случалось с ним только весною и летом, и притом в хорошую погоду. После таких созерцаний он особенно был тих и кроток. Все лицо его проникалось тогда выражением какой-то нежной ласковости и светилось мягкою радостью. Такое выражение остается иногда на лице, когда долго слушаешь болтливый лепет милого ребенка и насмотришься на его наивно-веселое личико. Казалось, поля и небо, на которые с такою пристальною мечтательностью глядел Семен, заменяли ему этот невинный ребяческий лепет.
Вероятно благодаря этому частому и любовному общению с природой, Семен лучше всякого барометра угадывал изменения в погоде. Форма и расположение облаков, {193} звезды и месяц, цвет неба при закате и восходе солнца, шум ветра и полет птицы — все служило ему для предсказания. Если прибавить к этому его уменье «заговаривать» кровь, «отчитывать» червей, «нашептывать» нитку, то весьма понятным будет то уважение, которым пользовался Семен в околотке и благодаря которому все величали его «Иванычем», а не Семеном и не Ксенофонтом.
Была одна страсть, у Семена: любил он слушать песни; и не новые, большею частью и по содержанию и по напеву нелепые, а хорошие, старинные песни. Раз на базаре пропоил он последний полтинник какому-то забулдыге, который песня за песней пропел ему и "Степь моздокскую", и "Поле-полюшко турецкое", и "Не белы-то снежки в поле забелелися", и «Сторонушку», и много других славных старинных песен.
Однажды был у меня приятель, великолепно читавший Кольцова. Только мы принялись было с ним за чтение, вошел с каким-то вопросом Семен и, получивши ответ, вышел. Прошел час, другой… Вдруг я услышал шорох в соседней комнате. Посмотрел — вижу, Семен стоит неподвижно среди комнаты и с глубочайшим вниманием слушает…
— Больно хороши песни, — сказал он мне с обычным выражением ласковости и долго повторял после: — Вот — песни!
По соответствию ли с собственным своим положением, или по чему-либо другому — более всего ему понравилась "Измена суженой", и уж гораздо после — в другом месте и в другое время, я слышал, как он пел своим гнусливым и скрипучим голосом:
Пала грусть тоска тяжелая На кручинную головушку… Мучит душу мука смертная, Вон из тела душа просится…Выдалось как-то летом мочливое время. Целую неделю шел дождь. Наконец выступило солнце и разогнало тучи по краям неба. Стало тепло. Освеженные поля и деревья весело заблестели на солнце. Тонкий пар тянулся от земли к небу. Влажный воздух насыщен был ароматом трав и запахом приятной затхлости. {194}
Был вечер. Я ходил по гумну и, увидав Семена, остановился. Он сидел на высокой канаве и, облокотившись на колени, задумчиво глядел вдаль. Прямо перед ним лежал пустырь, поросший бурьяном и полынью, дальше зеленелись и бурели поля, а за полями закатывалось солнце. Пар прозрачной и тонкой пеленою стоял над горизонтом. Солнечные лучи, пронизывая этот пар, окрашивали его в золотисто-зеленый цвет. В этом фантастическом, зеленоватом море, дрожавшем, подобно мареву, толпились и млели розовые, голубые и багровые облака. Они то плыли как лебеди, тихо и плавно, насквозь проникнутые горячим золотом, то громоздились, подобно крепостным башням, то хмурились и синели, то расползались и таяли, как тает снег под весенними лучами… Наконец одно облако превратилось в густую тучу и синим треугольником заслонило солнце. Лучи расползлись из-за тучи и беловатым снопом ударились в бледно-голубую высь, целым морем багрянца брызнули на млеющие в закате облака, а вокруг синей тучи зажгли ярко-огненную кайму, извилистой струею отделившую бледное и чистое небо от выпуклой и густой синевы. Нежнейшие оттенки зеленого, янтарно-розового и мягко-голубого цвета широкими, незаметно сливающимися полосами повисли над закатом. Даль, подернутая легкими волнами испарений, искрилась и трепетала.
Семен что-то произносил нараспев. Я подвинулся ближе. "Ах ты, поле мое, полюшко…" — пропел он и смолк. "Ах ты, поле мое, полюшко-раздолье!" — и опять что-то запел вполголоса и опять смолк, не спуская взгляда с зари и с поля. И долго еще до моего слуха доносилось: "полынь горькая травушка…", "поле-полеваньице…" Долго эти слова прерывались каким-то задумчивым молчанием, и, наконец, когда закат начал потухать и синеватые тени побежали по полям, загорелись звезды и потускнели дали, Семен уныло запел. То, что я расслышал и что разобрал из этого пения, передаю:
Ах ты, поле мое, полюшко, Раздолье… А и кто ж тебя, полеваньице, Забросил… Полыном ли, горькой травушкой, Засеял… {195} Что полынь ли, горькая травушка, Уродилась А и все то поле-полеваньице Покрыла… Ах ты, доля моя, долюшка Гореванье… Что и нет-то, нету у детинушки Семейки, А и нет-то, нет у молодца Талану…Был он крайне незлобив. Помню, по какому-то делу приехал ко мне тот самый приказчик, к которому сбежала жена Семена. Когда этот приказчик выходил из дома, лошадь подвел ему Семен. Приказчик насмешливо прищурился и произнес: "А, старый знакомый, здорово! — Свояки мы с ним", — пояснил он мне, нахально усмехаясь. Я с любопытством взглянул на Семена. Он слегка и, как показалось мне, снисходительно улыбнулся, снял шапку и самым благодушнейшим образом приветствовал приказчика. Мало того — когда тот сел, Семен заметил какую-то неисправность в сбруе, остановил приказчика, поправил неисправность и радушно произнес: "Ну, теперь с богом, Филипп Макарыч!" А когда Филипп Макарыч, жирно посмеиваясь и молодцевато передергивая поджарую кобылу свою, закричал ему: "Что ж, поклониться Марье-то?" — Семен ответил ему: "Отчего не поклониться, поклонись коли…" и сам засмеялся добродушным, ласковым смехом. "Слаба ведь она, баба-то! объяснил он мне по отъезде приказчика, — с нее и взять нечего: корм у него сладкий, спи вволю, вот она и позарилась… Известно — баба!"
Опишу еще одну особенность Семена. Был он страшно труслив и робок перед начальством и вообще перед всяким человеком с околышем на фуражке. Несколько раз брал я его кучером и вдоволь натерпелся с ним горя. Бывало, увидит он чуть еще не за версту красный, зеленый или иной околыш, а то так и просто белую летнюю фуражку, и спешит сворачивать с дороги на пашню, на болото, — куда пришлось… Несмотря на все мои старания, от этого страха перед околышем отучить его я не мог. Иногда рассудок ему как будто и говорил: "Э, не велика важность — околыш!" — а рука, помимо воли, дергала вожжи, направляя лошадей на кочки и рытвины, и суетливо схватывала с головы шапку, чтобы отдать честь ка-{196}кому-нибудь исправляющему должность помощника волостного писаря Калистрату Барабанщикову или младшему помощнику старшего архивариуса при уездной дворянской опеке, личному дворянину Иосафату Поползновенскому… Случилось как-то — был Семен на базаре для покупки двух поросят и имел неосторожность купить этих поросят у той торговки, у которой только что торговал их "помощник помощника исправляющего должность секретаря при мировом съезде" (ей-богу, есть такая должность!). "Помощник помощника" нрава был горячего, да к тому же, по близости своей к Фемиде, мнил себя в безопасности, а потому и закатил бедному Семену две или три изрядные оплеушины. Боже мой! Сколько трудов и красноречия потратил я, убеждая Семена жаловаться мировому судье! Но Семен жаловаться не согласился. Одно упоминовение суда, полиции и других краеугольных учреждений наводило на него уныние, и трепет, и желание как можно скорей улизнуть в глубь и темноту своих милых амбаров, в поле или на канаву за гумном и всецело отдаться там отрадному чувству безопасности. Терпеть и бояться — в этих словах заключалась вся его жизнь, хотя прошу не забывать, что боялся он только «околыша» и всего того, что, по его мнению, неразрывно связано с этим околышем.
Старик Наум, каждую уборку хлеба пребывавший на моем хуторе, по его собственному выражению: "Для смотрения за порядком", — был ходячею противоположностью Семена. Чинный, степенный, неторопливый, охотник порассудить и поговорить — он так и просился в комедию времен Екатерины, чтобы в качестве убеленного сединами и умудренного опытом Здравомысла и Правдолюба направлять на путь истины различных вертопрахов и изрекать на поучение райка мудрые словеса.
Как сейчас вижу я дедушку Наума, когда он, внимательно выслушав самый незначительный вопрос, глубокомысленно задумается, "уставив браду" в землю, важно расправит эту бороду (окладистую и седую) и, наконец, возговорит… Но не подумайте, что возговорит он — значит ответит на вопрос просто и ясно, как ответил бы Семен. О нет, дедушка Наум не таков! — прежде всего он со {197} всевозможных точек обсудит предмет вопроса, изложит историю этого предмета и его значение в жизни нравственной и общественной, наконец перейдет к своему мнению о предмете… Одним словом, говорит, говорит, унизывает, унизывает речь свою бесчисленными "к примеру" и «вестимо» и остановится лишь тогда, когда вы его убедительно попросите остановиться или когда измученные слушатели один за другим удалятся. Впрочем, последнее не всегда останавливает дедушку Наума, и он часто доканчивает свои рассуждения на поучение пустынным полям и безучастному небу.
Как видите, он был философ, но, боже мой, какой невыносимый философ! В его длиннейших речах вам никогда бы не удалось подметить малейшей пытливости мысли: начиная от тона его, всегда самодовольно-важного и не допускающего возражений, и кончая теми истинами, которые излагал он почти в виде афоризмов, — все было строго закончено, загнато в известное пространство (очень тесное) и загорожено непроницаемым частоколом. Да я и уверен, что дедушка Наум, пускаясь в свои рассуждения, вовсе не за процессом мысли гнался, а разве за процессом речи. На Руси не редки такие чудаки.
Как бы то ни было, обсуждать и рассуждать было страстью дедушки Наума, и он, подобно пауку, опутывал паутиной своих бесконечно длинных речей все, что ни попадалось ему под руку, — дрянная ли мошка, которой и цена-то грош, или великолепная зеленая муха. Ждали ли в самоскорейшем времени светопреставления, появлялись ли новые сведения насчет кисельных берегов и медовых рек, проходили ли слухи о девичьем наборе для заселения реки Амура, открывались ли в близкой перспективе крупные поборы самоновейшего изобретения, — дедушка Наум, с обычной своей деревянной невозмутимостью, неуклоннно рассуждал и о светопреставлении, и о кисельных берегах, и об Амуре-реке, и насчет поборов — всему уделяя ужасное количество слов и одинаково важное внимание. С таким же беспардонным обилием извергал он эти слова и с такой же значительностью пускался в рассуждения, когда дело шло и не о таких чрезвычайных материях, как река Амур, а просто шел толк о Панфиловой новой корове или о куриных яйцах, проданных теткой Ариной в последний базар. {198}
Жил дедушка Наум зажиточно (недаром носил окладистую бороду). Имел он большую семью, которую держал в ежовых рукавицах. Сыны его были тихие и робкие ребята, для которых мановение серых отцовских бровей равнялось ретивой ругани такого даже важного начальства, как, например, письмоводитель станового. Невестки деда Наума так были вымуштрованы, что при свекре не смели рта разинуть. И тех и других он поколачивал. Особенно доставалось бабам. "Напрасно ты их бьешь", — как-то сказал я ему, когда он, по возвращении из дому, в длинном монологе заявил мне, что "дома у него было не все в порядке" и что баб он "маленечко потрепал". "А как же ее не бить? — глубокомысленно возразил он, поглаживая бороду и важно отстанавливая ногу в громадном сапоге, — как же ее не бить, бабу-то? Бабы нельзя не бить. Без битья, это прямо надо сказать, с ней никак невозможно. Баба — она ехидная. С ней ежели по кротости, к примеру, — она съест. А вот поучил ее малость…" — и пошел, и пошел. Впрочем, младшую свою невестку красивую, но дурковатую бабу Степаниду — он не бил и даже частенько жаловал ее то новым платком, то котами. "Степка у меня — золото!" — бывало, хвалился он, и действительно баба здорова была на работу; но зато мужу ее, вялому и длинному малому, с воспаленными глазками и светлыми волосами, сбитыми в колтун, более других братьев доставалось затрещин и встрепок.
Я редко встречал такого врага всякого рода новшеств, каким был Наум. Против железных дорог и «цыгарок», железных плужек и картузов, молотилок и «вытяжных» сапогов — он восставал с одинаковым озлоблением. В старину все, по его мнению, было лучше: табак не курили, а нюхали, если же кто и курил, то в трубке; молотить — молотили цепами, отчего и солома была лучше ("едовитее") и чище вымолачивалось зерно; пахали господские земли хотя и сохами, зато вовремя, да и пахали-то так, что теперь и плугой не вспашешь, ибо лошади мужицкие были тогда хорошие и сытые.
Я любил в разговоре с ним заводить речь о старине. "Теперь возьмем, к примеру, сапог, — бывало, толковал дед Наум, — нонешний ли сапог или старинский. Нонешний что? — подборы высокие, кожа тонкая, выглядит щеголевато, а, глядишь, через год и подметки разбились. Так, {199} шваль-сапог! Нет, прежний, к примеру, сапог был, — это, прямо надо сказать, сапог! Кожу на него поставишь толстую, подошву подгонишь — дерево деревом… Так ему износу нету! У меня раз — что я тебе скажу — десять годов носились сапоги! Вот какие были сапоги. А ноне что — ноне, прямо надо сказать, присловье одно, что сапоги, а на самом-то деле, ежели, к примеру, разобрать хорошенько да порассудить, — они и не сапоги…"
И, подобно новым сапогам, на все новое глядел он свысока и презрительно. Если же заходила речь о такой новизне, которая уже неоспоримо была хороша, тогда Наум, не представляя против нее никаких доводов, напирал только на то, что "в старину" и без этого жилось хорошо, а теперь, с "эстими новшествами-то бесперечь зубы на полку кладут".
Несмотря на то, что Наум никогда и ничего ни важного (по смыслу), ни особенно умного не говаривал, он все-таки пользовался авторитетом на сельских сходках. Бывало, галдит-галдит эта сходка, ругается-ругается охрипшими голосами, но стоило только подойти деду Науму и заговорить — все тотчас же смолкало, и он беспрепятственно изрекал свое длинное слово, по обыкновению, несмотря на всю свою многозначительную отрывочность, не имевшее никакого практического значения. Но сходка внимательно и серьезно выслушивала это бестолковое слово и, уже выслушав, снова принималась за свое галденье, из которого в конце концов и вылупливалось — ими же весть какими путями — изумительно ясное и простое решение, разумеется ничего общего с словесами дедушки Наума не имеющее.
Надо сказать, что славу деревенского мудреца и возможность беспрепятственно изрекать свои рассуждения даже на сходке дедушка Наум приобрел, в некотором смысле, кровью.
Дело было в шестьдесят первом году. Получился манифест, прочитался, более или менее бестолково, полуграмотными сельскими попами с высоты амвона — и, разумеется, либо окончательно не уразумелся, или понялся в так называемом "превратном смысле". Обитатели деревни Волохиной (однодеревенцы дедушки Наума) манифест совсем не поняли и в простоте душевной даже рукой махнули, решив: "Что-де прикажут, то и будем делать", — {200} народ был забитый. Но тут-то и стяжал лавры мудреца дед Наум. По его почину мужики раздобылись где-то манифестом, собрались вечерком в Наумовой избе и заставили читать манифест отставного солдатика Карягу, имевшего претензию на знание азбуки вплоть до складов. Каряга читал, не обращая ни малейшего внимания на точки, запятые и тому подобную мелочь; ночник трещал, разливая мигающий, дымно-багровый свет; громадная толпа, до невозможности загромоздившая избу, с страстным напряжением слушала «волю». Царило глубокое молчание, изредка прерываемое вздохами и осторожным покашливанием в руку. На печи слабо всхлипывала, вся преображенная радостью, столетняя старуха, мать Наума, тщетно унимаемая внучатами. У стола сидели старики, с важной и сановитой серьезностью внимая Каряге. Все были мокры от пота, красны от духоты и от мучительных усилий уразуметь волю.
И, вероятно, прочел бы Каряга манифест, никто бы по-прежнему его не понял, и решение волохинцев отдаться на благорасположение начальства осталось бы в силе. Но тут-то дед Наум и стяжал славу мудреца.
— Стой, Каряга, стой! — закричал он Каряге.
Все вздохнули и притаили дыхание. Каряга остановился.
— Читай, к примеру, сызнова.
Каряга высморкался и начал:
— "Полагаемся и на здравый смысл…"
— Нет, не это место ты читаешь, — опять остановил Карягу дед Наум.
Каряга обиделся.
— Какое ж, по-твоему, — ты говори толком, а то я возьму да и наплюю, возразил он.
Взволнованная толпа напала на Карягу. Он смирился и уже с покорностью обратился к Науму:
— Кое же место читать? "Полагаемся и на здравый смысл…"
— Стой, обожди малость, Каряга, — сказал Наум и, помусолив указательный палец руки своей, ткнул в бумагу: — Попытай отселе, к примеру.
Внимание толпы напряглось до степени невозможного. Народ, по неподвижности своей, казался иссеченным из камня. Даже обезумевшую от радости старуху, и ту {201} уняли. Все замерло в какой-то истоме, и только треск ночника да сверчок где-то за печкою тревожили тишину.
— "…Что законно приобретенные помещиками права…", — на каждом слове спотыкаясь и останавливаясь, тянул Каряга.
— Вот-вот! — встрепенулся дед Наум и даже приподнялся с лавки. Лицо его осветилось торжеством. — Читай это место, Каряга…
— "…Пользоваться от помещиков землею и не нести за сие соответственной повинности", — прочитал Каряга.
— Слышите, старики? Пользоваться, к примеру, а повинностей, чтобы никаких… Это надо прямо сказать.
Изба дрогнула от радостного гула.
— Ну-ка, промахни еще, к примеру.
— "Пользоваться от помещиков землею…" — промахнул Каряга.
По избе пронесся трепет.
Решили прочесть еще раз весь манифест. Каряга было заупрямился, но ему, во-первых, прибавили полштофа к договоренной цене, а во-вторых, посулили разные неприятности, и дело уладилось. Начал он опять читать, а мир — упорно вникать в суть читаемого; дошли и до знаменитого «места»… Вышло одно и то же, кроме того, что Каряга еще яснее и вразумительней провозвестил: землей от помещиков пользоваться, а повинностей за землю не нести. Торжествующая толпа радостно загудела и уж почти не дослушала конца манифеста. Дедушка Наум сразу вознесся выше лесу стоячего.
Следствием всего этого в Волохиной если и не вспыхнул бунт, то воцарилось недоразумение. Мужики на барщину ходить перестали, об уставной грамоте забыли и думать, а беспорядочно слонялись по улицам и ждали: «енарала».
Но генерала они не дождались, а прикатил к ним исправник Горбылев, который, по своему обыкновению, еще далеко до деревни возопил нелепым по своей пронзительности голосом и вопил до самой станичной, 1 а у станичной произнес речь с подобающим обилием непечатных выражений и сильных слов. Речь мужики выслушали, как {202} оно и следовало, в почтительном молчании, но на требование исправника выдать чтеца отвечали отказом. На их счастье, Каряга струсил и по своей собственной воле предстал перед ясными горбылевскими очами.
— Ты чтец?
— Точно так, ваш-скаародие.
Бац, бац.
— Один читал?
— Точно так, ваш-скавродие! — пролепетал бедный Каряга, стараясь сохранить равновесие и по-прежнему держа руки по швам.
Бац, бац.
С лица Каряги текла кровь, и глаза его глядели тоскливо, но он все держал руки по швам и сохранял равновесие.
— Толковал кто?
— Наум, ваш-скавродие! — отвечал окончательно испуганный солдатик.
— Подать сюда Наума!
Подали Наума. Он попытался было, яко змий, уловить пылкого администратора мудростью и длиннотою своих рассуждений; но, увы, на его несчастье, администратор ненавидел только две вещи: объяснения, которые он называл грубостью, и возражения, почитаемые им дерзостью. Не успел дед Наум произнесть и слова, как на его голову вылился сокрушительный поток различных более или менее некрасивых изречений. Поток этот заключился каким-то совершенно нечеловеческим рыканием, подобным рыканию ретивой собаки, когда она, бешено громыхая тяжелой цепью и кровожадно оскалив зубы свои, мечется и рвется и лает до хрипоты в горле, отстаивая интересы своего хозяина. После рыкания последовало краткое и как бы изнеможенное междометие, а за междометием произошло то обстоятельство, которое и дало мне повод сказать, что дед Наум славу деревенского мудреца и возможность беспрепятственно тянуть канитель даже на сходке приобрел, в некотором роде, кровью.
Недоразумение, разумеется, тогда же испарилось: мужики на барщину пошли и вообще оказали послушание "мирным увещеваниям" исправника Горбылева (так значилось в его донесении губернатору), но и до сих пор, в глубине своей мужицкой души, они уверены, что дед Наум {203} пострадал невинно и манифест именно им, мужикам, отдавал всю помещичью землю без всякой с их стороны повинности.
С этих-то пор во всех тех случаях, где требовался так называемый «говорок» — в качестве ли поверенного от мира в судебных делах или в объяснениях с барином и начальством по какому-либо мирскому делу, — всегда избирался Наум. К нему же прибегали односельцы за всевозможными советами, а когда случалось у кого горе, то, хотя и не требовалось горемыке совета, он все-таки шел к деду Науму и рассказывал ему про свое горе. И дед принимал важную осанку, степенно разглаживал свою бороду и битые часы толковал на ту тему, что лошадь-де, как ты ее ни поворачивай, все будет лошадь, а корова, опять-таки как ты ее ни верти, все же останется коровою.
Кроме таких вопиющих истин, прибегающие к Науму ничего не получали, но уходили от него обыкновенно довольные. Я думаю, не так дедовы слова действовали на них, как его осанка, важная и внушительная, его многозначительный и невозмутимо-ровный тон. Впрочем, может быть, действовали и слова, но не в силу вложенного в них смысла, а благодаря бесконечному обилию этих слов, — обилию, действительно усыпляющему нервы.
Однако некоторые однодеревенцы, больше из молодых и, по крестьянскому понятию, легкомысленных, дерзали называть иногда дедушку Наума «пустоболтом» и «дуботолком», а когда он изрекал свои глубокомысленные реплики, то смеялись втихомолку. Но, во-первых, этих дерзких было немного, а во-вторых, и они восставали против ораторского значения дедушки Наума робко и неуверенно, ибо любит русский человек процесс речи и, невольно даже, почитает людей, обладающих даром хотя бы и не умного, но важного и обильного словоизвержения.
Как бы то ни было, но если бы вы приехали в деревню Волохину и спросили бы первого встречного: "Нет ли, мол, у вас человечка присмотреть за порядком на хуторе?" — вам сейчас бы ответили, был ли тот встречный взрослый мужик или баба, подросток или старик: "А это уж ты ступай к деду Науму, — кроме Наума у нас нету таких людей", и вы ехали к Науму и действительно убеждались, что за порядком у вас на хуторе смотреть он может, ибо собственное его хозяйство было в отличнейшем порядке. {204}
Если Семен относился к природе с каким-то теплым чувством, похожим даже на некоторое благоговение, то дедушка Наум относился к ней уж прямо бесхитростно. Он не остановился бы с невольным восхищением перед багряным морем заката, не стал бы умиленно глядеть на звездное небо. Все это интересовало его иногда, но настолько, насколько обещало или могло обещать прямой, непосредственной пользы. По его мнению, и закат и восход солнца были устроены господом богом лишь для того, чтобы замечать по ним, вёдро ли, дождь ли будет на следующий день. Для того же то ровным, то мигающим светом светили звезды. Иного значения природа не имела для дедушки Наума. Сад был ему дорог лишь плодами. Степь — своим богатым девственным черноземом. Лес — годностью на ту или другую хозяйственную поделку.
Эта черствая черта (если она черствая) особенно выдавалась в нем, когда ему приходилось быть вместе с Семеном. "Эка зорька-то благодатная!" умиленно скажет тот. "Это что толковать, — подхватит дед Наум, — заря ничего: теплая, в одной рубахе, к примеру, и то хоть куда, и для яровых ежели, то хорошо". — "Гляди звездочки-то, звездочки-то перекатываются, ровно молонья… Эка мудрость-то, господи батюшка, подумаешь!" — с благоговением произнесет Семен. "Перекатываются-то они перекатываются, это точно, — подтвердит дед Наум, равнодушно взглядывая на сверкающее небо, — а вот дождичку бы надоть: по звездам-то, гляди, засухе быть…" И всегда так.
Впрочем, несмотря на такую разницу во взглядах, Наум уважал Семена и признавал его за особо одаренного от господа человека. "Ему дано, говаривал он, — он и хромоту в лошади может вылечить и червей заговорить. А за то дано — человек он правильный и совесть в ем есть. Это прямо надо сказать".
Если Семен кротостью и смирением напоминал робкого голубя, а дедушка Наум походил на резонера фонвизинских комедий, то Михайло (несколько уже известный читателю) имел несомненное сходство с героем, сказок русских Бовою. Подобно этому богатырю, был он и могуч, {205} и румян, и если королевич Бова любил потеху — "возьмется ли за руку — рука прочь, ухватит ли за ногу — нога прочь", то и Михайло не пропускал ни единого живого существа без того, чтобы не сотворить этому существу звонкого подзатыльника или оглушающей затрещины. Для чего это выделывалось, он и сам не мог объяснить, — так, уж характер такой был у человека.
Дед Наум поклонялся брюху и на весь мир божий смотрел с точки пригодности этого мира для насыщения телесных вожделений и уплаты оброка; Михайло же боготворил кулак, а мир почитал ареною для кулачного боя, в котором тот и умен, тот и достоин уважения, кто раскровянил более физиономий и своротил на сторону скул. Человек, не обладающий кулаком, подобным молоту, по мнению Михайлы стоил лишь плевка. Сочувствие его было всегда на стороне силы. Кто кого одолел, тот и прав. Впрочем, надо прибавить, что справедливость он признавал за той только силой, которая и его собственную превосходила. Разумеется, все, что я говорю о силе, относится к силе физической.
Одним словом, взгляд Михайлы на жизнь граничил с первобытностью. Это давало ему возможность никогда и ни над чем не задумываться. Что превышало его мыслительные способности, на то он без долгих томлений махал рукой. К этому относилось все то, к чему не было никакой возможности применить теорию кулака.
Как и все силачи, Михайло не имел большого ума, был страшно добродушен и терпелив, но уж раз если засучал кулаки, то стремительно разрушал все препоны и останавливался лишь на той из них, в которую упирался лбом.
Работник был он великолепный и если обыкновенно ленился, когда работал один, то на виду, "на людях", ворочал так, что пыль стояла в воздухе. Его честолюбием было быть первым везде, где требовалась сила мышц. Надо было видеть, с каким, пожалуй что и величественным в своем роде, задором шел он во главе косарей и с каким могучим размахом косы валил под корень высокую рожь или густую траву.
Но зато совершенно пасовал он, когда приходилось ему выразить словом какую-либо мысль (однако не чересчур уже первобытную). Тогда он и мямлил, и переступал с {206} ноги на ногу, и с яростью расчесывал затылок. Бестолковостью он вообще мог потягаться с дедушкой Наумом, и если тот выражал эту бестолковость многословием, то Михайло достигал того же невразумительным мычанием и ни к селу ни к городу не идущими бессвязными и запутанными речами.
Теперь позвольте, читатель, представить вам моего работника Якова.
Всего вероятнее, что и Наума и Михайлу, а пожалуй даже и Семена, случалось не раз встречать вам. Но встречали ли вы такую перелетную птицу, каков был Яков, — сомневаюсь. В том веке всевозможных пут и регуляторов, в котором имеем мы счастье обитать с вами, люди, подобные Якову, становятся чистейшим анахронизмом.
В течение каких-нибудь пяти лет нанимался он ко мне по крайней мере десять раз. Придет, проживет два-три месяца и, глядишь, является смущенный и нахмуренный.
— Что ты, Яков?
— Воля ваша, Николай Васильич, разочтите!
— Что так?
— Да уж так… Служить больше не могу. (Глаза при этом устремляются куда-нибудь на угол печки.)
— Может, обидел кто?
— Как можно, чтоб обижать! Никто не обижал.
— Что ж, разве пища плоха?
— Нет, что ж, пища как следует — пища лучше желать нечего. (Лицо Якова делается все более и более тоскливым.)
— Ну, значит, работы много? — допытываюсь я.
Яков снисходительно усмехается.
— Помилуйте, какая работа! Аль мы не работывали… Только воля ваша разочтите!
Я рассчитывал его и потом узнавал, что он отправился либо в Ростов, или куда-то на Кавказ, или на Волгу. Спустя полгода, редко год, снова являлся мой Яков на хутор и опять нанимался, и опять повторялась прежняя история, с тою только разницею, что я уж без всяких расспросов отдавал ему деньги, да и он привык ко мне и уж не конфузился, а только усмехался во все лицо и предупредительно сообщал, что он теперь идет «потолкаться» на {207} Кубань или еще куда-нибудь к черту на кулички. Бывало и так, что он круглый год проживет в нашем околотке: месяц у меня, месяц у моего соседа, потом у другого моего соседа, затем опять у меня. Казалось, бес какой-то в нем крылся и не давал ему засиживаться на месте.
Трудно сказать, что именно влекло его к странствиям. "Эх, закатился бы теперь в Астрахань!" — скажет он, бывало, и по обыкновению сплюнет сквозь зубы. "Да что ж там, в Астрахани-то?" — спросят его. "В Астрахани-то что? вызывающим тоном переспросит Яков и затем опять повторит: — Что в Астрахани-то?" — и затем уж либо крепко и скверно изругает ни в чем неповинного собеседника, либо промолчит и с шиком отплюнется.
Большею частью всегда так оповещал он о тех краях, в которых приходилось ему бывать. Впрочем, иногда это выходило у него и пространнее. Так, раз рассказал он всей компании, собравшейся в кухне, как жил он в Царицыне у купца и какая у того купца была ляда-лошадь: "Ты ее стегнешь, а она задом!" — или опять, как жил он во Владикавказе, тоже у одного купца: "Так у него куфарка была, братцы мои, — семь пудов тянула!" А на вопрос: "Вот жил ты на Кавказе, видел горы, черкесов видел, ну, каковы те горы, и что за народ черкесы?" — "А что ж, горы ничего, большие горы есть, и черкесы опять — как не быть черкесам, на то — Капказ", — ответит Яков и тотчас же опять свернет разговор на какую-нибудь «куфарку», весившую семь пудов. Впрочем, иногда, если уж слишком расчувствуется, то покачает головой и скажет: "Эх, места есть, братцы, я вам скажу, — привольные есть места!" и замолчит в раздумье, а через час уж опять рассказывает, как он с купцами к «башкирцам» ездил, и как там одна башкирка в него врезалась, "старая-престарая, а строга".
Кстати, о женском поле. Яков питал к этому полу какое-то необъяснимое пренебрежение. По мнению дедушки Наума, битьем да строгостью из бабы все-таки можно кое-что сделать небесполезное. Яков же шел дальше — он прямо почитал ее пятым колесом в телеге. Бить ее, по его мнению, конечно, следовало, "на то она баба", но ожидать от этого битья чего-либо путного было напрасным трудом. И, как нарочно, это-то презрительное отношение и влекло к нему баб. А он если и снисходил до близких отноше-{208}ний с ними, то лишь очень ненадолго. И боже избави его избранницу каким-нибудь образом дать заметить эту близость посторонним, — Яков немедленно колотил тогда неосторожную, отбирал у ней свое белье и платье, отданное для починки и мытья, и с достоинством покидал беднягу на произвол судьбы.
Одною из жертв его жестокости была кухарка Анна. Это была солдатка чумазое, забитое существо, в вечном безмолвии, прерываемом одними вздохами, возившаяся с утра до ночи около печки. Она питала к Якову нечто вроде любви. По крайней мере в его присутствии она разглаживала вечные свои морщины, меньше охала и вздыхала и даже иногда улыбалась. Конечно, он третировал ее как нельзя хуже, но, кажется, в конце концов стал поддаваться ее упорному и немому обожанию.
Несчастный случай все испортил. Вздумалось как-то Анне приготовить своему возлюбленному сковородку грибков, конечно секретно от других обитателей хутора. Задумано — сделано. В одно воскресенье, не успели еще обедавшие в кухне разойтись из нее, Анна и преподнесла Якову в виде десерта смачно шипящую сковородку. Все, разумеется, успели заметить это и намотать себе на ус. Надо было видеть гнев Якова. Сковорода с грибами стремительно полетела в радостно улыбавшуюся физиономию несчастной Анны, а через четверть часа Яков стоял уже около притолки в моей комнате и обычным своим тоном произносил:
— Воля ваша, Николай Васильич, — пожалуйте мне расчет.
Однажды все мои домочадцы собрались на канавке за хутором. Тут же, около них, поместился березовский мужичок Аким, который хотя и пришел за спешным делом (занять печеного хлеба на ужин), но тем не менее посиживал себе на канавке. Дело было летом. Знойный день угасал. Еще не остывший воздух, пропитанный запахом сжатой ржи, был сух и неподвижен. Алая заря тихо мерцала на краю неба. В голубой высоте с радостным трепетом вспыхивали звезды. Был праздник. В полях стояла тишина.
— А у нас позавчёра странник проходил, — произнес Аким. {209}
Все молчали.
— Говорит: трясение скоро будет, — добавил Аким.
— Как — трясение?
— А так, значит… Земля затрясется.
Молчание. Одна Анна тяжело вздохнула.
— И еще, говорит, голод. Ужастенный голод, говорит, будет в ваших местах.
— Это когда же?
— А уж там понимай когда… Ему что! Он сказал… а уж ты понимай.
Опять замолчали.
— И глад, говорит, и трус, и мраз.
— Это что же означает?
— А то и означает, что… — рассказчик запнулся. — Ну, прощайте, произнес он, торопливо поднимаясь, — мне уж ко двору пора, небось ждут… и, отойдя шагов на пять, добавил: — И земля, говорит, будет у вас совсем неродимая, вроде как солонцы теперь…
По уходе Акима с добрых четверть часа все молчали в какой-то задумчивости, и только одна Анна простонала раза два: "О-ох, грехи наши тяжкие!" Было тепло и тихо. Тени все гуще и гуще опускались на землю, но не приносили с собой ни сырости, ни прохлады. Небо на западе алело, зеленело, синело и все как бы уходило дальше и дальше от земли.
— Нет, я чтобы теперь, — внезапно рассердился Михайло, — взял бы я теперь этого странника самого, да по шее бы, по шее…
— Ну, не говори, — задумчиво возразил Семен, — странник тут ни при чем. Тут господь насылает… Тут одно — терпи. Вот что, друг ты мой. А странник что… Он в стороне… Тут господь, стало быть, прогневался…
— Это за что же? — полюбопытствовал Михайло.
— А он уж там знает, батюшка, за что. Твое дело — терпеть. Голод ли там, аль опять трясение какое, ты все должен претерпеть.
— Эта пач-чиму же? — не унимался Михайло.
— Потому. Зря тебя не тронут, а ежели есть такое попущение — значит, за дело, за грехи. Вот почему.
— Терпеть, — скептически произнес Михайло, — за грехи?.. Не-э-эт… Он еще что-то хотел добавить, но {210} сжал кулак, сердито потряс им по воздуху и ничего не добавил.
— Вестимо — грехи, — важно вымолвил Наум, поглаживая бороду, — без греха нельзя. На то и человек, чтобы грешить. Ну, и господь… господь знает, за что наказать, за что помиловать. Теперь, странник говорит: "Земля неродимая". Это опять, я тебе скажу, от господа. Всяко бывает. В Матренском клину, я еще помню, чернозем был. Теперь — солонцы. Все от бога. А что насчет грехов, к примеру, это опять верно: как не быть грехам. — Наум глубокомысленна помолчал. — Или опять — «мраз». Это, так надо полагать, мороз. Не иначе как мороз. Что ж, морозы бывают. Это он опять правильно: как не бывать морозам.
Наума все выслушали внимательно, но ответить ему — ничего не ответили.
Помолчали. Заговорил Яков:
— Да уж оно и видно — к тому идет!.. Год от году. Я, как в позапрошлом году в Царицыне был, так там тоже странничек один… Или опять в Астрахани раз… Все, говорит, тлен! А то в Тифлисе я жил у армянина — тоже кобель был ужастенный… — Яков не договорил и молодцевато сплюнул.
— А по-моему одно — по шее ихнего брата! — мрачно произнес Михайло, намять ему бока ежели хорошенько да всыпать чтоб, — он и знай!.. А то мра-аз ("мраз" он протянул чрезвычайно пренебрежительно). Их много таких, шляющих-то… Нет, кабы ежели отодрать его, паскуду… Разложить бы, да горррячих чтоб… Небось бы!.. Я раз тоже в Улитиных двориках ночевал… Но пристали ко мне мужики и ну… и ну… Особливо один… Кэ-эк я его полысну! Он — с ног… Другой!.. Кэ-эк я его садану — морда во!
— Вспухла? — сочувственно воскликнул Яков.
— А ты думал как? Дай-ка я тебе засвечу, небось вспухнет! — в скобках ответил Михайло и потом обычным тоном продолжал: — Ну, третий… Так я их тут, братцы мои, перешил… А наутро выезжаю — хозяин за поводья. "Тебе чего?" — "За ночевку деньги". — "Деньги?" Кэ-эк я его… А то терпеть! Михайло самодовольно поглядел на свой здоровенный кулачище и, вероятно вспомнив подробности побоища, весело засмеялся. {211}
Опять никто ничего не ответил. Помолчали. Яков опять заговорил:
— А я так полагаю — на новые места!.. Удаляться на эти самые новые места, и шабаш!.. Теперь ежели на Белые-Воды аль к Капказу… У, хороши есть места!.. Аль опять на Дону… Я как в Ростове был, тоже проходил по местам-то, вот места!.. Аль Кубань ежели взять… Эх, закачусь по весне на Кубань! (Он вздохнул и сплюнул.) А ежели не в Кубань, так к башкирцам ударюсь, с купцами… Вот опять места!
— Места, что говорить, места есть, — внушительно заговорил Наум. Только захотеть — места найдутся. Как не быть местам… (Он немного помолчал.) — Теперь, ежели захотел ты, к примеру, сейчас тебе пашпорт и — с господом. И какой пашпорт опять: на три ли там месяца, аль полугодовой. А то есть и такие, что на год. Всякие есть. Теперь взял ты, к примеру, пашпорт и с богом… Как не быть местам!.. Местов много.
— Тоже вот в остроге ежели насчет местов… — хотел было сострить Михайло, но не договорил и фыркнул. И, вероятно, смех этот почли легкомысленным, ибо опять никто ничего не сказал.
Помолчали.
— Пытались на эфти на новые места-то… — робко и неуверенно произнес Семен.
— А то нешто не пытались-то… — подхватил Наум, — вестимо, пытались. Тоже, пытались так-то, да и назад. Это что говорить. Это точно, что пытались. Снарядятся, к примеру, поедут, да и назад. Да. А то как, гляди, не быть местам!.. Места есть.
— А на мой згад, живется тебе ежели, ну и живи, — возразил Семен. Господь с ими, с местами-то!.. Пущай их… А ты, ежели накажет тебя господь, — терпи… вот! Живем, покуда бог грехам терпит! И помрем… И здесь помрем, и на Кубани ежели, — все помрем! Конец один.
И все дружно поднялись, чтоб идти ужинать. Только Михайло встал медлительно и, вставая, сердито бормотал: "Больше ничего, как по морде… Взять бы да хорошенько!.. Небось бы… А то этак-то, пожалуй, всякий…" {212}
IX. Серафим Ежиков
Стоял февраль.
С самого крещенья держалась ясная погода, без ветров и метелей, с крепкими, сердитыми морозами. Глубокий снег, первоначально напавший в ту зиму еще до введенья и обильно подновляемый во все филипповки, ни разу не сгонялся паводками и теперь, скованный ноздреватым настом, мирно покоился на полях. Благодаря отсутствию ветров, снег этот покрывал землю ровною, слегка волнистою пеленою; даже вокруг жилищ не было сугробов. Дороги, не заносимые подземкою и не заметаемые метелью, были превосходны. Сани не ныряли по ним, как по волнам бушующего моря, и даже ночью путник не мог бы сбиться с них, ибо отчетливо чернелись на сером фоне зимней ночи правильные ряды соломенных вешек, еще не разнесенных бурею по степи и не поникших под напором бешеных снеговых волн. Небо не завешивалось мглою и не закрывалось хмурыми тучами, но с неутомимой яркостью синело и сверкало. Зори не погорали, зажигая небо зловещим багрянцем и, подобно пожару, пылая над пустынными снегами, но кротко и тихо сияли, нежно окрашивая и степь и небо приветливым румянцем и предвещая все ту же постоянную погоду на завтра. Днем ослепительно блистало холодное солнце. По ночам высыпали бесчисленные звезды, тускло мерцал Млечный Путь и светила голубая луна, обливая молчаливые поля меланхолически-сказочным сиянием.
Но постоянной погоде этой близился конец, и на сретение, второго февраля, по небу забродили робкие тучки, а в морозном воздухе повеяло мягкостью. Вечером, {213} подавая самовар, Семен доложил мне, что наст ослаб и не только человека, как прежде, но и собаки не сдерживает проваливается.
— Неужель оттепель будет?
— Беспременно будет. Спокон веку вокруг сретенья отпускает.
— Верно ли это?
— Уж это будьте спокойны. Спокон веку примечено: "сретенские оттепели"… как же!
На следующий день пушистый иней покрыл деревья и крыши, и хотя мороз снова покрепчал и сурово знобил лицо, но тучи на небе сгущались, поднимался ветерок, а на реке, без всякой причины, выступила из проруби вода, желтоватым пятном расплывшаяся под снегом.
— Ну что, Семен, нет ли еще каких примет? — спросил я.
Семен донес мне, что собаки целое утро катались по снегу, петухи кричали в совершенно необычное для них время и рамы в кухне заплакали.
— Быть погоде! — утвердительно заключил он и с настойчивостью пригласил Михайлу дней на пять заготовить корму.
Четвертого, в день чудотворца Кирилла, с самого раннего утра потянуло оттепелью. Влажный ветер медленно гнал с юга длинные вереницы тяжелых туч. Темная синева протянулась по кругозору и повисла над лесами и деревнями. Дороги и тропинки пожелтели. Снег уже не резал глаза сверкающей белизною, как то бывает в яркий солнечный день, но отдавал мягкими, теплыми тонами.
К полудням ветер усилился; теплое дыхание его становилось резким и пронизывающим. Тучи сплотились в какие-то туманные клубы и все ниже и ниже опускались над полями. Синий цвет их окраин сначала уступил место темно-сизому, почти черному, затем и этот цвет стушевался, и небо стало одна сплошная мутная мгла. Синева над горизонтом час от часу таяла и сливалась с серою мглою; лишь узкая темноватая полоска, остаток этой синевы, упрямо обняла дали и не сливалась с тучами, не поддавалась им.
Леса и деревни как будто придвинулись к хутору и получили какую-то неведомую в морозный день явственность и теплоту колорита. Молодые ракиты на плотине, {214} оттаяв от снега и вчерашнего инея, сиротливо распростирали по ветру свои гибкие красноватые ветви. Камыш, точно обмытый талым ветром, бурыми волнами разбегался по вершине и с какой-то неприятной сухостью шуршал своими безжизненными стеблями.
Семен и Михайло торопливо носили корм с гумна и из риги на двор. Анна заботилась о топливе. Лошади шумно фыркали в конюшне. Воробьи с суетливым визгом копошились под пеленою амбара. Галки бестолково перелетали по крышам, садились на трубы и хрипливо кричали, обращая открытые клювы в упор ветру.
Непогода близилась.
К вечеру еще ниже свесились тучи над полями. Казалось, стоило бросить шапку кверху, и она застряла бы в тучах. Повалил мокрый, пухлый снег. Дали сначала завесились метелью, как будто кисеею, затем потонули в мутном, медленно зыблющемся море, сквозь которое только смутно синели леса и чернелись поселки. Но скоро море это сгустилось и, споспешествуемое наступающею тьмою, покрыло непроницаемой завесой и дали, и леса, и деревни. Хутор остался лицом к лицу с снежною бездной, тихо, но неудержимо падающей с неба.
Когда стемнело, ветер превратился в бурю. Он загудел и заиграл с снежинками, закрутил их вихрем, понес подземкою. Мертвенно-тихое поле проснулось: заревело и застонало. Началась пурга.
— Нну-у, разгулялась погодка! — воскликнул Семен, через силу добравшийся из кухни до дома, и долго кряхтел и отплевывался, протирая лицо, обивая сапоги и очищая одежду от липкого снега.
Действительно, загуляла погода шальным, безобразным разгулом.
Семен напоил меня чаем, напился сам и, накинув на плечи полушубок, отправился было затворять ставни. Но буря воротила его, и уж натянув полушубок в рукава, он снова отправился бороться с нею. И долго он возился с дверями и гремел железными затворами ставень. Мне слышно было, как вьюга буйно вырывала из его рук ставни, порывисто хлопая ими по стене, и в то время, когда он усиливался притворить их, она, словно поспешая, ударяла в стекла непрерывными волнами звенящего снега. Когда же, наконец, удалось Семену затворить {215} ставни, звенящие звуки превратились в глухой и смутный, слегка завывающий шум, на который утлые доски ставень отвечали жалобнейшим скрипом.
— Диво творится! — с некоторым даже ужасом объявил мне Семен, тяжело отдуваясь и отряхаясь от снега. — Зги божией не видно в поле! — добавил он, отдохнувши, и, влезая на лежанку, с сокрушением произнес: — Упаси господи злого татарина…
Я сел за книгу, но читать мне не хотелось. Я встал и стал ходить по комнате. Что-то смутно волновало меня, повергая не то в тоску, не то в какую-то нервную тревогу. Слабое пламя свечи, печально бросавшее круглый отсвет на белый потолок, треск половиц под моими ногами, непрестанный лязг маятника и тень, тихо двигающаяся за мною, смутный шум вьюги за стенами и легкое поскрипывание ставень — все это уносило меня в какой-то щемящий мир мечтательных грез и сказочных представлений…
Я ходил, и думал, и вслушивался в дикие стоны вьюги.
И казалось мне, что «диво» воочию встает предо мною и бушующее поле открывает мне свои тайны.
Мне казалось — я вижу, как в тихое море падающего снега с неведомых высот ринулась буря и прихотливо закрутила это море исполинской спиралью… Снежинки сначала тихо и неуверенно, затем все быстрее и быстрее затолклись и заиграли в круговороте… Буря ширится, наполняя пространство диким завыванием… Буря захватывает уже не версты и не десятки квадратных верст, а целые области своею бешеною пляской и вместе с тем несется вперед по безграничному степному простору с безобразной, одуряющей быстротою… Кажется, нет силы, способной противостать ей и бороться с нею… Но есть эта сила. Сила эта — постоянный ветер, не утихающий в нижних слоях атмосферы. По мере того как буря свирепеет, — он усиливается. Буря кружит снежную бездну, вертит и буровит ее, — ветер мечет ее из стороны в сторону, разрывает в клочья и из правильного, бешено толкущегося круговорота превращает в какую-то воющую, бесформенную мглу… Буря сердится, плачет, гудит… Буря борется с ветром, страшно терзает и крутит несчастные снежные волны… Пространство уподобляется ис- {216}полинскому котлу, в котором с ужасным гулом клокочет и с неба летящий и вздымаемый от земли снег. И вой разъяренных зверей чудится в том гуле, и стоны озлобленные, и вопли человеческие, терзающие душу… — То — вихрь. То его буйно-унылые песни стоят над полем.
Иногда буря осиливает, и тогда и дико ревущую мглу и воющие вихри весь бешено зыблющийся, безграничный, бессмысленный простор крутит и вертит она в одном исполинском хороводе…
То жалобно, то буйно стонет и рыдает поле…
Стихла буря. Подобно клочьям разодранной овчины, повисли тучи над полем. Кое-где промеж туч засветились туманные звезды в голубой синеве. Заредели хлопья снега. Смолкла адская музыка пурги, словно отдыхая от разгула. Лишь подземка, тихо, но беспрерывно скользя, наметая сугробы в ложбинах, громоздя бугры вокруг жилищ, а на дороге — ухабы, нарушает тишину, вдруг вставшую над полем.
А даль насылает новые тучи. Угрюмая тьма снова обнимает небо, и снова снежное море потопляет степь, а буря, словно спохватившись, крутит это море, мечет его во все стороны, рыдает, стонет и голосит… Вот ворвалась она в осиновый лесок… Тронула покрытые гололедицей сучья, зашатала корявые деревья… Стон и шум поднялись по лесу… Словно вопль целого сонма грешников вырвался оттуда, — вырвался, заклокотал надрывающими диссонансами и слился в общем безумном хоре тоскующего, буйно рыдающего ада…
…И казалось мне — я вижу, как ринулась буря на утлые хаты поселка… Завертелась, закружилась она вокруг бедных хат. Взгромоздила сугробы по пелены, зазвенела в маленькие закоптелые оконца оледеневшим снегом, растрепала крыши и понесла по бушующему простору охапки черной, прогнившей соломы… Ударила дерзким порывом в церковную колокольню и заворотила церковную железную крышу. Крыша загрохотала, подобно далеким раскатам грома, и печальным похоронным перезвоном звякнули колокола… Звякнули и замолкли, а буря пронеслась в поле и заплясала и заплакала там пронзительным плачем… "Бесова свадьба", — говорит народ про погоду и с суеверным ужасом внимает ее песням. {217}
Все живое приникло в страхе: зверь в сугробах и лесах, человек в жилищах, подобных сугробам…
…Я вздрогнул и взглянул в окно. Ставень распахнулась и хлопнула, и хрипло загремела на железных петлях. Вьюга, подобно косматому чудищу, лезла в стекла и сердито лизала их. Я взглянул на часы: стрелка приближалась к двенадцати. Хлопнула с визгом в другой раз ставень; затрещала непрочная рама. Буйно метнулся ветер в трубу и заголосил там, точно баба над покойником.
Я подошел к окну и прислонился к стеклам. Мутная бездна угрюмо глядела оттуда на меня.
Мне почудился стук. Я прислушался: ничего, кроме Семенова храпа да завывания вьюги. Но какое-то неопределенное беспокойство овладело мною. Я подошел к передней и снова прислушался. Немного спустя стук раздался явственно и торопливо.
Я разбудил Семена и окликнул: "Кто там?" В ответ послышался какой-то крик, почти заглушенный ветром, и снова посыпались удары в двери. Несомненно, за дверьми был человек. Семен отворил вход в сени, я распахнул дверь в комнаты. В сенях завизжала ворвавшаяся буря, заскрипел снег под ногами Семена; в комнаты сначала бросилась студеная струя, сильно заколебавшая пламя свечи, бывшей в моих руках, а затем ввалилось что-то белое и холодное. Это белое шумно вздохнуло, испустило какой-то неопределенный возглас и стремительно бросилось на коник. Это белое был человек, укутанный в некоторое подобие тулупа и с громадным треухом на голове. С ног до головы он был занесен снегом.
— Шабаш!.. Хоть издыхай!.. — отрывисто произнес он и уставил на меня мутный взгляд. — Говорю, хоть издыхай! — настоятельно повторил он и в изнеможении закрыл глаза.
— Ты чей? — спросил я.
— Лесковский, — ответил он, вяло поднимая веки и с каким-то удивлением снова устремляя взгляд свой на меня.
— С каких Лесков?
— С Малых.
— Откуда едешь?
— С города.
— Один? {218}
— С учителем.
— С каким учителем? Где он?! — вскрикнул я в ужасе.
— В санях.
Семен выскочил на двор.
— Чей учитель?
— Лесковский. Серафим Миколаич.
— Что же он не слезает?
Мужик захохотал.
— Нейдет!
— Что так?
— Сумлевается.
— В чем?
— Насчет ночевки сумлевается.
— Как сомневается?
— Так. Допреж, говорит, спросись поди…
Мужик опять захохотал, но вдруг схватился за ногу и вскрикнул:
— Ой, — зазнобил, ой-ой!.. Ах, леший те… а-ах!..
Я взглянул на его ноги, они были в худых лаптях и рваных холодных онучах, обвязанных пеньковыми обрывочками.
Дверь снова отворилась, и в ней опять показалось что-то белое.
— Извините, ради бога… Необходимость… По необходимости… Не обеспокою ли?.. — говорило оно. Голос дрожал и прерывался.
Мужик опять захохотал.
— Все сумлевается! — подмигнул он мне и преспокойно стал совлекать с себя какое-то отрепье и взбираться на лежанку.
— Мне хошь околевай теперь! — воскликнул он, — и мерин пущай околевает, и ты… Околевайте все, — мне теперь все едино!.. Я вот ногу ознобил…
И он стонал, прерывая стоны руганью, и в то же время лукаво кивал мне на учителя, смеялся и хватался за ногу.
Семен побежал прибирать лошадь. Я принялся разоблачать учителя. Он весь дрожал от стужи, но стыдливо отстранял от себя мои руки.
— Вы уж, пожалуйста… — лепетал он, — пожалуйста, не беспокойтесь… Не нужно бы… право, не нужно бы {219} хлопотать… Я бы в избу… Нам бы в избу с ним… Выпил он немного… холодно… Простите… Я, право, не знаю… Мне бы в избу…
— Куда вам в избу — здесь ночуете.
— Ах, право бы, не надо… Зачем здесь!.. Мы здесь намараем… Беспокойство вам… В избу бы… Мы утречком бы завтра… Не взыщите… Чем свет бы… Не хлопочите, сделайте милость!..
— Нет, уж меня колом отселе не выпрешь! — заявил мужик.
Серафим Николаич с каким-то усилием засмеялся, и снова сконфузился, и смущенно залепетал:
— Право, мне совестно… Вы уж простите его… Архип Лукич, ты уж не дебоширь, пожалуйста… Видите, выпил он… Согревает оно, знаете ли… Есть научные данные… Алкоголь… Вам, вероятно, известно?.. Холодно, знаете!.. Видите — одежда… рубище… Мне вот можно не пить… Я одет…
И снова попытался засмеяться, и снова переконфузился. Все это время он что-то начинал расстегивать, что-то развязывать, но руки его не действовали. Наконец я убедил его не препятствовать мне и начал производить раздевание. Из покровов на нем только и было солидного, что валенки; все остальное могло быть носимо только по необходимости. Ватное пальтишко, увязанное большим женским платком, достигало лишь до колен (колени эти страшно дрожали). Дешевая барашковая шапка была глубоко надвинута на лицо. Кроме шапки, лицо это скрывалось и поднятым воротником, из-за которого торчала судорожно дрожавшая бородка, сплошь забитая инеем.
Он все же не переставал проситься в избу и извиняться за беспокойство. Насилу убедил я его, что никакого беспокойства он мне не причинит и доставит лишь одно удовольствие.
По совлечении платка, пальто и иных верхних одежд учитель оказался маленьким, узкогрудым человечком в «твиновом» пиджачке и в ситцевой, достаточно уже позаношенной рубашке. Отрекомендовался он мне Серафимом Ежиковым. Лицо его было не без приятности. Правда, лицо это не было красиво, и черты его скорей поражали безобразием, чем правильностью, но от этого безобразия веяло глубокой симпатичностью. В разговоре он {220} часто и внезапно краснел, причем лицо его получало выражение чрезвычайно приятной застенчивости и какого-то совершенно девичьего целомудрия. Часто также пытался он предупредительно улыбаться и смеяться каким-то как бы заискивающим смехом, но только пытался, ибо ни улыбки какой следует, ни смеха у него не выходило; его темные глубокие глаза при этих попытках постоянно оставались серьезными и даже грустными.
Впоследствии заметил я, что стоило его оставить самому себе, то есть не занимать его разговором, не угощать и вообще не утруждать галантностью обхождения, — он весь преображался: лоб его тогда мучительно стягивался морщинами, на всем лице замирала тоскливая гримаса и худые прозрачные пальцы нервно щипали реденькую русую бородку. Казалось, какая-то упорная мысль постоянно буровила его голову.
Пока вскипел самовар, Ежиков, едва только обогревшись, все возился с ногою Архипа. И снегом и вином он растирал ее, и успокоился лишь тогда, когда убедился, что опасности нет ни малейшей. Архип вообще разыгрывал при этом некоторого идола. Снисходительно посмеиваяеь, протягивал он ногу и все подмигивал мне на учителя, как бы приглашая полюбоваться на подобного чудака. Казалось, Архип делает Ежикову великое одолжение, позволяя растирать свою ногу. Помимо высокомерной снисходительности и насмешливого подмигивания, лицо Архипа выражало полнейшее равнодушие. Только раз соблаговолил он изъявить некоторое неудовольствие: это когда Ежиков начал растирать ногу вином. "Эхма! — воскликнул тогда Архип, тоскливо взглядывая на вино, — в нутро бы мне ее, водку-то!" — и еще долго спустя после растирания с негодованием повторял: "Экую прорву винища извели зря!.. Ведь обдумают канитель: божьим даром ноги поливать…"
Когда подан был самовар, мне все-таки удалось внушить Ежикову некоторую бесцеремонность: он уже почти не отказывался от чая и с заметным удовольствием выпил несколько стаканов.
— Зачем вы в город-то ездили? — спросил я его за чаем.
— Знаете ли, — уведомление было от управы…
— Это насчет чего же? {221}
Он несколъко замялся.
— А видите ли: наставникам некоторое вознаграждение полагается…
Слово «вознаграждение» произнес он после стыдливого колебанья.
— А! так за жалованьем, значит, ездили?
— Да, да… С одной стороны, это верно… Невозможно, знаете… (Он как бы оправдывался.)
— Что же, получили?
— О да!.. Оно, видите, не совсем получили… Я, например, не получил… Но некоторые получили… и даже многие получили… Очень многие! — добавил он поспешно и таким тоном, как бы просил у меня извинения за гг. раздавателей «вознагражденья».
— Каж же это вы-то?
Ежиков покраснел.
— Право, не знаю, как вам сказать… Впрочем, оно, пожалуй, и понятно… Даже очень понятно!.. Я, знаете ли, опоздал несколько. Другие успели, приехали вовремя, ну, а я опоздал… Согласитесь сами, нельзя же ждать!
— Денег, стало быть, недостало в управе?
— Да, но видите… Видите, это такое дело… такое… Нужда везде… Как хотите — обременительно!.. Очень обременительно… Вы знаете, ведь на них очень много наложено… А была засуха… Они называют это недород (он застенчиво улыбнулся)… Это, знаете ли, все нужно… обсудить бы нужно… Налоги там… Вообще… — тяжело!.. — Он вдруг заволновался и вскочил со стула, но тотчас же опять уселся, не преминув и на этот раз покрыться стыдливым румянцем.
— Из города вы рано выехали? — переменил я разговор.
— А нет, не очень рано… Да вот… — он задумался, — да, да, метель уж была, и порядочная-таки была метель…
— Зачем же вы в такую погоду выезжали?
— А как вам сказать… Это надо объяснить, видите… (Он окончательно переконфузился.) Овес, знаете, и притом опять пища… О пище тоже необходимо объяснить… Ужасно неудобно в городе!.. и так, знаете ли… ужасно все дорого!.. Да, очень дорого. Ну, я, видите, не успел в управу… Другие успели… Очень многие успели!.. Многие ужасно нуждались… О, как нуждались!.. Знаете ли, {222} Венчуткин есть, Михей Иваныч… Он семинарист, из учительской семинарии… Жена у него больная такая, слабая, дети… Очень маленькие дети!.. Ну, и ни копейки… а?.. О, ужасно нуждались Венчуткины!.. И вдруг, что же? приезжает, знаете ли, Михей Иваныч, — он, впрочем, пешком пришел, но это все равно… итак, является он, ему прямо за три месяца… (Нам за три месяца не выдавали… но это неважно!..) И так за три месяца, — это с чем-то тридцать шесть рублей… И, вообразите, прямо-таки тридцать шесть рублей и получил!.. О, он ужасно теперь счастлив… И все это очень удачно, знаете… — Глаза Серафима Николаича засветились чисто детской радостью. Говорил он торопливо и часто задыхался от волнения, особенно сильно овладевавшего им во время разговора о чьей-либо нужде или о каком-нибудь горе.
— Ну да, так вот видите… (я ровно ничего не видел и только смутно догадывался, что из города выжил Ежикова голод)…выехали мы, и вдруг буря эта… Знаете ли, у Кольцова есть… — как-то необычайно просияв, неожиданно воскликнул он и задыхающимся голосом продекламировал (голос его при напряжении оказался каким-то нервно звенящим и как будто надтреснутым):
Выходи ж ты, туча, С темною грозою Обойми свет белый, Закрой темнотою… Молодец удалый Соловьем засвищет, Без пути, без света Свою долю сыщет…После этого для меня неожиданного порыва Серафим Николаич тотчас же смутился и низко нагнулся над стаканом, но не утерпел и, улыбнувшись детски-востор-женной улыбкой, снова заговорил:
— Не правда ли, сила какая?.. Тут, знаете ли, есть что-то… Ужасно гордое что-то есть!.. И главное — могущественное… О, это главное!.. Видите ли, это не Байрон… Там немудрено, знаете: он на уровне многих знаний стоял… Там, видите ли, стон какой-то, озлобление этакое… А тут такое… такое непосредственное… и свежее… Чувство тут, а не сплин… Конечно, не сплин!.. Я, знаете ли, о чем… здесь ведь народ вносил и… и это {223} очень важно… Не правда ли?.. Именно, именно весь народ, а не философия… не… не… ну, да не Система Натуры и не Руссо… Видите ли, я много думал…
Но что думал Ежиков, осталось на этот раз мне неизвестным, ибо он как-то взглянул на меня и окончательно переконфузился: я смотрел на него во все глаза, недоумевая, где бы слышать сельскому учителю о Руссо и о Системе Натуры.
С этого момента Серафим Николаич как будто спохватился и ушел в свою скорлупу. Получая неохотные и очень неопределенные ответы на все мои выспрашивания, я понял, наконец, что стесняю гостя, а потому без дальних промедлений предложил ему спать. Спать он с охотой согласился, но при укладывании опять изъявил себя церемонным человеком, ибо долго отказывался от подушек и одеяла и долго уверял, что подушку ему заменит пальто (все еще мокрое), а вместо одеяла он "легко удовольствуется пиджачком…"
Наконец мы улеглись — только что пробило три часа. Вьюга по-прежнему мела, и гудела, и завывала в трубу.
Наутро, когда я проснулся, до меня прежде всего донесся опять-таки шум вьюги. Погода не утихла. Из окон, полузалепленных снегом, лился скудный, сумрачный свет.
Я взглянул на диван, где спал Ежиков — его там не было. В печке с веселым треском горели дрова; в комнате было свежо и легко. На столе уже кипел самовар. На дворе громоздились сугробы и непроницаемым саваном кружилась метель.
Не успел я одеться, как услышал из передней голос Ежикова:
— А? Право, как бы-нибудь… Я думаю, можно бы… Право, Архип Лукич…
— Не мудри, — кратко отозвался угрюмый Архипов голос.
— Помилуй же, как это можно: приехали и будем объедать… Ты пойми, Лукич, нельзя же так!.. Ворвались и будем проживаться!..
— Не мудри, сделай милость. {224}
— Ах, какой ты, Лукич… Я, право, не знаю… У меня, знаешь… как бы тебе объяснить… У меня… ведь не успел я в управу, знаешь…
— Успеть-то ты успел!
— Как же успел… Что ты, Лукич!
— Успеть-то ты успел, — невозмутимо повторил Архип, — а рохля ты, вот что я тебе скажу…
— Чудак ты!.. Ах, какой ты чудак!.. Ты видел: успели которые получили…
— Ты в управу ходил? — уже с сердцем спросил Архип.
— Ну, ходил…
— Секлетаря видел?
— Ну что же — видел…
— Секлетарь просил с тебя три целковых?
— Ах, Лукич…
— Нет, ты мне скажи: просил?
— Ну, просил…
— Просил! — передразнил Архип и с пренебрежением добавил: — Ну, рохля ты после этого и есть!
— Ах, как ты не можешь понять!.. Пойми — нельзя так… Нельзя, и я не мог… Ты какой-то чудной, Архип Лукич… Как же это так взятку… Это подло ведь… Это ужасно подло, и я тебе сколько раз говорил…
— Ну ладно, ладно — завел канитель… — снисходительно перебил Ежикова Архип.
Они помолчали немного.
— Так как, Лукич, право, ехать бы нам, а? — опять заговорил Ежиков.
— Чудак ты, паря, погляжу я… Ты глянь за окно-то, видел?
— Несет немного…
— "Несет"? Эх ты!.. Ты посмотри-ка-сь, избу-то видно ихнюю?..
— Что ж, что избу… По ветру бы как…
Архип помедлил ответом и, помедлив, вдруг воззвал, возвышая голос:
— Миколаич!
— Что?
— Ты в тепле?
— Ну?
— Я в тепле? {225}
— Ну?
— Живот в приборе? (Под «животом» Архип, вероятно, подразумевал своего мерина.)
— Ну?
— Хозяин малый приятный?
— Ну?
— Ну, и не мудри.
Ежиков опять что-то стал возражать.
— Мы где? — опять спросил Архип.
— Ну, на Грязнуше…
— На Грязнуше?.. А Лески где?
— Что ж, по ветру, я думаю…
— Нет, ты мне скажи: Лески где?.. Сколько от их ворот, вот что, милый ты человек, мне скажи…
— Пятнадцать, семнадцать…
— Хватай выше!
— Ну, двадцать, наконец…
— Хватай выше!
Наконец помирились на двадцати двух верстах.
— Ну, ты и молчи, — наставительно заключил Архип, — сделай ты милость, помолчи!.. И я тебе прямо, Миколаич, скажу: вот видишь, сижу я на печке, в тепле, а Иваныч, ихний работник, за кулешом пошел… И нахлебаюсь я этого самого кулешу да опять на печку и залезу… И скажи ты мне тогда: "Архип! вот тебе осыпучая деньга — ступай в Лески". Ну, и как ты полагаешь, какой мой ответ будет?.. (Архип немного помолчал.) А возьму я вот эдак-то, милячок ты мой, да на другой бок и перевалюсь… (Послышалось некоторое шуршание, как будто и в самом деле Архип повернулся на печи) — вот тебе весь мой ответ!
— Да как же, Архип, ты не хочешь понять, — умоляющим голосом возразил Серафим Николаич, — как ты не хочешь понять, что нам придется… даром все это!.. Заплатить, знаешь ли, надо…
— Что ты толкуешь, толкушка! — вдруг горячо и убежденно воскликнул Архип, — нешто в таком разе берут деньги… Чудачина ты… Тут произволение!.. Мы не зря как… — А еще ученый!.. Эх!.. Ты прямо так и так: Миколай, мол, Василич, я ежели простою у вас какую малость, вы считать ефтого не могите, потому — планида и все {226} такое… — и с выражением полнейшего презрения добавил: — А еще учили вашего брата!
Ежиков стремительно выбежал из передней. Он был сильно взволнован. Виски и щеки его пылали румянцем, и на лбу мелкими каплями выступил пот.
Мне нет нужды посвящать читателя в те переговоры, которые имел я с Ежиковым по поводу его болезненной деликатности. Скажу только, что между нами было решено приехать мне как-нибудь в Лески и прогостить у него ровно столько же дней и ночей, сколько пробудет у меня он… На этом компромиссе Серафим Николаич успокоился.
Установивши наши отношения, мы засели за чай, Архип, уже успевший нахлебаться кулешу, тоже был приглашен. Он поместился у притолки и с неутомимым усердием истреблял чашку за чашкою. Но, истребляя чай, он в то же время не уставал вести разговоры. И я заметил, что эти разговоры его велись им с ехидной целью: сконфузить, пристыдить учителя и, пожалуй, позабавить меня, выставляя на вид его особенности, уморительно смешные и странные, по мнению Архипа. Он как бы давал мне представление. И, само собою, в представлении этом играл роль воплощенного благоразумия, неизмеримого по своему превосходству над «малодушием» Серафима Николаича.
Так, между прочим, получилось следующее представление.
— Миколаич! — воскликнул Архип с обычным своим угрюмым лукавством.
— Что тебе, Лукич?
— Стосковались, поди!
— Кто?
— А "брать"-то!
Ежиков моментально вспыхнул.
— Ты, барин, поди не знаешь братьев-то наших? — обратился ко мне Архип.
Я, разумеется, изъявил недоумение. Серафим Николаич пылко и невнятно запротестовал.
— Помолчи, Миколаич, — остановил его Архип и, многозначительно помедлив, снова обратился ко мне: — …А вот, к примеру, ежели мне жрать нечего, скотина какая была — подохла, подани стали, и самый я что ни на {227} есть отёрханный мужичишка… И ежели я, к примеру, изобижен кем, аль опять вздерут меня в волостном за какие ни на есть художества… Что, аль сказать? — спросил он Ежикова, с уморительным простодушием стягивая кверху свои лохматые брови.
— Да полно тебе… Ах, Лукич… Ах, да не слушайте его… Он ужасный… Он ужасно все понимает…
— Ты погоди ужахаться-то… Что, аль стыдно перед барином?.. Не-эт, милячок, мне эти "брать"-то вот где сидят! — он патетическим жестом указал на затылок. — "Архип, становь самовар!.. Архип, беги за водкой!.. Лукич! Лупи с пальтецом к целовальнику… Архип Лукич! Тащи к яму часики под заклад… У Фомки корова издохла!.. У Макарки кобылу увели… Митрошку за подань всписали…" Не-эт; они, брат, браты-то эти…
Ежиков что-то снова торопливо и возбужденно заговорил.
— Остынь, — хладнокровно перебил его Архип, — остынь, Миколаич, не закипай понапрасно… Ты мне вот что лучше скажи: ты кто? мужик? ай не мужик?.. У тебя родители из каких, а?
Ежиков смущенно и молчаливо глотал чай.
Архип обвел его высокомерным взглядом и снова обратился ко мне.
— Нет, вы спросите у него… — предложил он мне и, многозначительно помолчав, произнес громко и торжественно (не без примеси некоторой гордости): — Енарал у нас родитель-то, а родительница что ни на есть самая великатная енаральша!..
Прошло несколько минут не совсем легкого молчания. Серафим Николаич с упреком поглядел было на Архипа, но видя, что тот ровно ни малейшего внимания. на него не обращает, в смущении обратился к своему стакану. Я тоже чувствовал некоторую неловкость. Только Архип, как ни в чем не бывало, тянул свой чай, отдувался и пыхтел, обливаясь чуть ли не десятым потом. Он, кажется, даже и не заметил нашего конфуза.
Речи свои Архип до сих пор произносил (как я уже и сказал) с каким-то угрюмым и, если можно так выразиться, важным лукавством. Но вдруг он неожиданно поставил на пол блюдечко с чаем и разразился самым искренним, самым подмывающим смехом. Мы тоже не {228} могли не засмеяться, глядя на него, и смеялись с добрую минуту. Наконец, с трудом подавляя шумную веселость свою, Архип воскликнул:
— Миколаич!
Тот отозвался.
— Помнишь Миколу-то летнего?
— Ах, оставь, оставь, пожалуйста, Лукич!.. — с ужасом вскрикнул Ежиков и даже вскочил со стула. Но на Архипа это нимало не подействовало. Он удовольствовался только тем, что саркастически заметил ему: "Что, ай не любишь?" и затем, обращаясь ко мне, продолжал:
— Летось на Миколу, сижу я в избе — он у меня хватеру-то держит… (Архип кивнул на Серафима Николаича, который порывисто шагал по комнате и от времени до времени пытался остановить некстати откровенного рассказчика.) Ну, сижу я, братец ты мой, — только хвать — алёшка… 1 "Господин Серафим Миколаич здесь?" — спрашивает… "Нет, нету здесь господина Серафима", говорю. "Где ж они?" — "С ребятишками на леваду пошли". А уж дело к вечеру. "Тебе на что, говорю, господина Серафима?" — "А мамана ихняя приехамши, енаральша…" Как так!.. Я схватился с коника, бежать!.. Бегу я, братец ты мой, вижу этак у задворка карета… Ах, дуй-те горой!.. Я на леваду… Вбежал я на леваду и только вижу, лежит этот самый господин Серафим на брюхе и с ребятками канитель разводит…
"Ты что ж это, друг любезный, — говорю ему, — мать твоя енаральша и все такое, а ты тут с мужицкими ребятишками проклаждаешься!.. Ты как же это, а?.." Ну, нечего сказать, потазал 2-таки я его… Так что ж ты думаешь? — упирается… Скажи ты, говорит, мамане, выбыл, мол… Есть, говорит, такое мое желание маману эту не видать… А?.. Штукарь, тоже… Нет, говорю, уж это ты не привередничай, милячок, а ступай-ка Варвара на расправу… Ну, делать ему нечего — пошел. Только шел, шел я за ним, да на задворок и забеги. Забег я на задворок, глянул в карету — пуста… Я в избу. Только вошел я в избу, глядь, самая эта его мамана-енаральша… вроде {229} как на карачках!.. Алёшка мечется вокруг ей, в мурло ей чего-то тычет, а она только, братец ты мой, лапками перебирает… Ну, думаю, оказия!.. "Ты что, — кричу на него (Архип опять кивнул на Ежикова), — аль ошарашил чем ее?" Промеж нас бывает это: иной раз так-то сынок маменьке гвоздя отрубит, что любо-два… (в скобках пояснил он)… Ну, нет, не видно, чтоб ошарашил: ни шворня чтоб, ни узды… А так, кулаком ежели — не способно ему: ишь, он квелый какой! а мамана эта из себя баба хоть куда… Ядреная баба!.. Только малость годя очнулась… Очнулась она, и пошло у них тут, я тебе скажу… И пошло, и пошло!.. Он ей слово — она двадцать, он-то по-нашински, она черт-те по-каковскому норовит… Чесались, чесались… ах, пропасти на вас нету!.. — Миколаич! — воскликнул Архип после краткого молчания и, не получив ответа, добавил: — Серчаешь? ну, пущай!..
— Ну, какой ты, Лукич!.. вовсе я не сержусь… Но я не знаю, как это… Я ведь, помнишь, просил тебя… Это, право же… да, это не… не… ловко!.. И мне ужасно совестно… Вы непеременно меня извините, Николай Василич — и я не знаю, какой он… Это… это ужасная наивность… О, поверьте… и вы непременно, непременно извините меня…
Всю эту тираду Ежиков произнес с необычайной горячностью. Нужно заметить, что в его речи были некоторые слова, на которые он напирал с особенной настойчивостью, повторяя их по нескольку раз кряду и беспрестанно возвращаясь к ним.
Пока Ежиков говорил, Архип степенно допил свой несколько остывший чай, а допив, с таковой же степенностью попросил новую чашку, и затем уже снова перебил Серафима Николаича:
— Нет, я об чем, Миколаич… Скажи мне в ту пору эта самая твоя мамана: "Архипка! имеешь ты к сыну моему заблудящему подверженность?" Имею, мол. — "Ну, крути ты его, друга любезного, вожжами и тащи ты его в карету — есть такое мое намерение к енаральству его оборотить…" И взяли бы мы тебя, сокола, с ейным алёшкой под микитки!..
— Вот слушайте его! — вдруг рассердился Ежиков, — вы не знаете, что такое… Ты не знаешь, что такое «енаральство»… Это… вертеп… Это… это ложь и разврат… Ах, {230} право, как это все… — Он с тоскою махнул рукой и уж исключительно обратился ко мне: — Видите! Вот смотрите на него… Год! Целый год живу с ним… Говорю ему, читаю… И вдруг является карета, и он за эту карету мерзкую, за поганые эти гербы… О, вы не поверите, как это ужасно… Он знает меня, знает — не могу я «енаральствовать»… О, он знает, что я живу им, Архипом, что я дышу Фомою, Макаром… Он знает это, но является «енаральша» с своим «алёшкой», с своей каретой, со всем своим подлым, чужеядным престижем, и он готов силой водворить меня в этот омут… Он, видите ли, готов "вожжами меня скрутить"… и скрутил бы… О, непременно, непременно бы скрутил… И вы не знаете, как это все ужасно…
— Ведь он от любви… — возразил было я.
— Ах, не это, не это… — с тоскою воскликнул Ежиков и мучительно наморщил лоб свой, — о, не это!.. Видите ли, они… я не знаю… Но, они не понимают… Именно — не понимают… Вот что ужасно!.. (Тут, опустив голос свой почти до шепота, он как бы с некоторой болью повторил: "ужасно, ужасно"…) Я знаю, что "от любви"… Я знаю, любя он желал бы моего водворения в эту отравленную среду, где дармоедство — доблесть, а труд позор… Знаю, ибо среда эта — идеал и Архипа, и Фомы, и Макара… И вы вдумайтесь в это слово: идеал (слово это Ежиков произнес с расстановкою), и затем с злобой добавил: — О, дармоедство, возведенное в куб, еще бы не идеал!.. Но я не об этом… Но это пустяки… Главное — обойдутся они без меня!.. Вот что главное… И знаете ли, это очень жалко… То есть, вы понимаете, я не о себе говорю, я говорю: обойдутся они без интеллигенции-то, и так обойдутся, что даже и пустоты-то не восчувствуют после нее… Вы говорите: «любят»… Но, боже мой, не любви надо, но нужно непременно, чтоб ценили они… ценили б меня, но не любили… Без любви я обойдусь… да, я обойдусь без любви! (Последнее Серафим Николаич повторил с раздражительной настойчивостью и как бы оспаривая кого-то.) Но без цены… Без цены я не могу жить, ибо она, цена эта, есть единственный мой raison detre…1 О, единственный raison detre! {231}
Он внезапно замолчал и впал в задумчивость, но вскоре снова воскликнул:
— Главное — обойдутся они без меня… Исчезни я из Лесков, и лесковцы пожалеют меня, как Миколаича, но не пожалеют во мне ничего, кроме «Миколаича»… О, это главное!.. Вы не поверите, как все это… Да, да, все это ужасно и… тяжело… Вы спросите вот у него, чтo я в деревне?.. Ну, слросите-ка!.. Он вам и скажет: "Душевный человек"…
Архип на мгновение оторвался от блюдечка с чаем и насмешливо скривил лицо. Но Ежиков ничего не замечал: засунув руку за борт своего пиджачка, он другою с нервическим беспокойством пощипывал свою бородку и то присаживался на кончик стула, то нетерпеливо вскакивал с него и быстрыми шагами мерил комнату. Взгляд его глубоких глаз был тускл и рассеян. И, казалось, не на вас он был устремлен, а куда-то внутрь, где с мучительным упорством следил за развитием какой-то тяжелой мысли.
Вьюга с неутомимым постоянством била в окна, металась и шумела. Сугробы, видимо, возвышались. Самовар едва заметно звенел однообразным, надоскучным звоном.
— О, поймите же, — продолжал Ежиков, — что мне вовсе, совсем не нужно это милое качество "душевного человека"… Что такое "душевный человек"? Тряпка ваш душевный человек… Ну да, тряпка!.. Но допустим — я тряпка… пускай так… Это он верно насчет "пальтеца"-то сказал, и этого бы по-настоящему делать не следовало… Но есть же во мне что-нибудь, кроме-то тряпки? Есть же!.. и притом нечто неизмеримо важнейшее, чем все мои тряпичные свойства… О, неизмеримо важнейшее!.. Деревня бедна, да?.. Голодуха, дифтерит и проч., и проч… О да, деревня очень бедна!.. И это ужасно важно, необыкновенно важно… Да, важно. Но видите ли, тут возникает вопрос, что важней — то ли, что у Макарки хлеба нет, или Макаркина вера, что солнце "в лунки" 1 на ночь прячется, и что власть какая-то мифическая {232} завтра землю переделит, и к нему, Макарке, барский яровой клин отойдет (может быть «завтра», а может быть и не завтра, а через неделю, через год, через десять лет, наконец! — в скобках заметил Ежиков, — и эту неопределенность времени, вы заметьте… Вы не забудьте, что мне незачем навoзить мой десятинный надел, ибо завтра, сегодня даже, к моим услугам целый барский «клин»… О, вы это заметьте и не забудьте!). Итак, что важнее?.. Человек-тряпка — (они называют это "душевный человек") — заложит «пальтецо» и накормит Макарку, а Макарка набьет брюхо да опять насчет «лунок» мечтать примется… О, я знаю, что я подлость говорю, презирая Макаркино брюхо… Вы простите и извините меня… Непременно извините… Но все это вздор… Вы понимаете меня?.. О, конечно, понимаете!.. Макаркино брюхо очень важно, чрезвычайно важно… Но с другой стороны, оно галиматья… Или не так: оно важно, видите, но в сравнении с «лунками» оно ничтожно… Именно, ничтожно. — Ну, вот теперь и скажите. "Душевный человек" — будем называть, как они — кроме того, что Макарку накормит, положим, имеет еще целый запас всяческих знаний, для деревни просто драгоценных: и об «лунках», и… о прочем. Все, до чего додумалась наука по части «лунок», все, что выработали самые здравые человеческие отношения (это по части барского ярового клина) — он предлагает деревне… И не думайте, чтобы деревня пренебрегала этим запасом… О нет, иначе я бы не жил… Но, боже мой, — в конце концов Макаркина сытость (временная, заметьте, ибо «пальтецо» у меня одно) — составляет мое реноме, а мнения всех этих Коперников, Галилеев и Ньютонов насчет «лунок»… О, за эти мнения я прослываю «блаженным», или нет, виноват, мужички благодушны… не «блаженным», а «блаженненьким». (Серафим Николаич желчно рассмеялся.) Знаете ли, как я думал о них, об их бедноте… О, я не знаю… Я ночей не спал… Ах, помните «Мцыри» ("юнкерского поэта", — заметил он в скобках и опять желчно засмеялся).
…Я эту страсть во тьме ночной Вскормил слезами и тоской… Она, как червь, во мне жила, Изгрызла душу… {233}— Но это все вздор! — внезапно заключил он и внезапно же вспыхнул до корня волос, — и это неважно… И вообразите! — с новою силой воскликнул он, увлекаясь своею мыслью. — Все, к чему я готовился, все, чем я запасался с неутомимым рвением, все, для чего я бросил гимназию с ее Кикеронами и Саллюстиями (у нас почему-то произносили не Цицерон, а Кикерон), с ее ранжиром и тупоумнейшим фарисейством — все это оказалось совершенно ненужным… Все эти там физики, астрономии, все эти — заметьте, элементарные — понятия о боге, о правде, о свободе, все это, повторяю, оказалось самым чистосердечнейшим балластом… Впрочем, я уж говорил это… Знаете ли — я повторяюсь… Но это вздор, и вы простите… Ну, и что же? Ну, и не будь во мне тряпичных свойств (заметьте, чисто природных), не таись во мне качеств "душевного человека", и не сопровождайся эти качества ежемесячным двенадцатирублевым бюджетом (это в море-то, — что я говорю! — в бездне-то народных нужд…), деревня даже не узнала бы: друг ли я ей, враг ли… И вот, смотрите теперь: первейший мой благоприятель, Архип Лукич, водворив меня посредством вожжей в «енаральство», когда-нибудь за косушкой пожалел бы обо мне, о "господине Серафиме" (о, непременно бы пожалел!), но никогда бы и не вспомнил о том запасе знания, который исчез из деревни вместе с исчезновением господина Серафима… Знаете ли, это что-то такое… такое нелепое и такое даже ужасное, что я не знаю… не знаю… Простите я повторяюсь… Но… и извините, пожалуйста.
Ежиков вдруг смутился и, как провинившийся школьник, опустился на стул.
Архип все время преспокойно тянул чай (боже, сколько он опорожнил чашек!), отдувался и отирал платком пот, изредка насмешливо покачивая своею огненно-рыжей головою. После того как Серафим Николаич умолк, он шумно и наскоро высосал последнюю каплю чая с блюдечка и произнес, обращаясь ко мне:
— Насчет лунок — это он верно. Народ глуп. Народ сказывает, что за морем лунки накопаны, одна подле другой, и на закате и на восходе… Вот в эти лунки солнце и хоронится на ночь. Знамо, брешут! {234}
— Это верно, что брешут, — согласился я, — как же солнце может прятаться в лунки, коли оно наутро совсем с другой стороны выходит?
— А уж это планида! — развел руками Архип.
— Что за слово такое! — с негодованием вскрикнул Ежиков и, как ужаленный, вскочил со стула, — ну, что это за планида, скажи, сделай милость?
— Вона! известно что — произволение!
На этот раз развел руками Ежиков.
— Вы ведь что думаете, — обратился он ко мне, — ведь он говорит теперь: "Народ глуп", — но знаете ли, я положительно уверен, что сам он в эти «лунки» верит и ничем вы его с них не собьете… О, ни за что не собьете!.. И это, знаете, просто ужасно… Ужасно!.. — Он опять скорыми и частыми шажками заходил по комнате и порывисто задергал свою бородку…
Архип не сразу ответил. Он сначала встал, степенно помолился, поблагодарил "за чай, за сахар" и, уж выходя из комнаты, небрежно проронил:
— Уж как ты там хошь, Миколаич, а земле тоже вертеться не приходится. Это уж прямо надо сказать. Это ведь, паря, не веретено!..
Впрочем, Архип не придавал, по-видимому, особого значения солнечной системе, ибо разговор о ней поддерживал вяло. Далеко не с таким интересом, как вопрос о «братьх» и «енаральстве».
— Видите, видите! — возмущался Серафим Николаич неуважением Архипа к авторитету "Коперников, Галилеев и Ньютонов".
По уходе Архипа и после того как Ежиков почти совершенно уже успокоился, я полюбопытствовал узнать, в чем же видит он raison detre своего проживания в деревне, если деревня эта остается совершенно чужда ему, как вместилищу "драгоценных знаний".
— Как бы вам сказать… — ответил он, — как ни грустно признаться, но только роль капли, долбящей камень, дает мне мир с моею совестью… Только роль капли. О, это не романтично, знаете, и от этой капли до белой лошади красавца Лафайета и до красивых шелковых знамен очень далеко, но, видите ли, вся суть-то пока в этом… О, слова нет, это тяжело, ужасно тяжело, но это и единственный путь наш… И, знаете ли, у этого сухого и как {235} бы невыразимо прозаичного пути есть своя подкладка, которая пожалуй что и любому поэту дала бы богатую тему!.. — Ежиков оживился и заблестел. Помирить народ с "детьми бича", расширить его мысль, просветить его разум и, главное, снять повязку с его глаз, научить его различать врагов от друзей своих… о, это, знаете ли, такая задача, такая… И задачу эту именно нам, интеллигенции, необходимо, неизбежно надо выполнить… И необходимо отучить народ судить о нас либо как о барах, либо — о блаженных шутах каких-то, о каких-то немцах с русской речью — вот что необыкновенно важно!.. И этот путь — единственный путь наш… Это медленный путь, вы скажете? О, несомненно медленный, я знаю, и это ужасно, но все-таки неизбежно… Я погорячился недавно и наговорил о них много злых вещей… Это, видите, опять-таки нельзя иначе, это, знаете ли, плоть и кровь во мне говорит, но не разум… О, нисколько не разум!.. Когда я злюсь на них — во мне говорит романтик, который скучает иногда без шума развеваемых по ветру знамен и без видимого разгрома враждебных бастионов… И это неважно… Пусть… пусть я не вижу следов копотливой работы… И не увижу… Разум и совесть мои говорят мне: "Да, капля долбит камень…" И я долблю… И вы замечайте прогресс: нынче меня, как колебателя основ, мужики крутят вожжами и преподносят господину становому приставу (и не подумайте — за что-либо «важное» крутят, о нет, — просто за «лунки»… и скручивание за "лунки"-то я именно и подразумеваю), — а завтра уже не крутят, а зовут «блаженным», послезавтра, еще уступка — меня величают «блаженненьким»… И придет день… О, непременно придет! — восторженно воскликнул Серафим Николаич, и народ сердцем своим широким полюбит "кающегося дворянина". И полюбит не за «душевность» его — этак-то он иногда и помещиков своих любил и от этого избави боже, — а именно за знание и за честность… За честность полюбит, и это главное!
Ежиков замолчал и долго рассматривал своими близорукими глазами пробу чайной ложечки, но вдруг порывисто бросил эту ложечку и снова заговорил:
— Да и куда идти нам, если не в деревню?.. Чем лечить нам нашу "больную совесть", — ибо, что ни говори, а совесть-то у нас больная… Я не знаю, знаете ли… Уже-{236}ли гнездышки сооружать наподобие Молотова? Или в лямку к кулаку идти — к железнодорожнику, фабриканту, крупному землевладельцу?.. И я даже недоумеваю… служить ли вы нас по акцизу пошлете или толочь воду в качестве "господина товарища прокурора"?.. Или не земцем ли, скажете, подвизаться?.. (Ежиков иронически скривил губы)…на побегушках у его превосходительства. Да и помимо побегушек — случалось ли вам бывать в уездных земских собраниях? Случалось? Ну, не казалось ли вам, что собрания эти подобны столпотворению вавилонскому: дворяне по-английски «чешут» (как говорит Архип), купцы — по-китайскому, а мужики в свою очередь по-зеландски норовят… Впрочем, мужички-то большею частью знаки вопрошения изображают… Ну да, так вот видите, и земцем как-то как будто совестно… О, я не говорю… я не гоню так-таки непременно всех в деревню… я только уверяю, что нужнее-то всего мы именно в деревне, и там, только там, наше настоящее место! То есть оно, видите, ступай, пожалуй, и в земцы, но уж не ломай из себя Гамбетт микроскопических, а смирись и приникни к самой черной, к самой что ни на есть низменной земле, и тогда, пожалуй, будет благо…
— Все это так, милейший Серафим Николаич, — возразил я, — и ваша подъяремная работа «капли» действительно заслуживает всяческого уважения, но вот вопрос: урядники-то?
— Что ж урядники, — задумчиво произнес Ежиков, — ведь, ежели по совести-то говорить, основ-то мы не колеблем… А потому я, знаете ли, думаю: что ж урядники… — Он замолчал и поникнул головою, но вдруг взглянул на меня и рассмеялся: — А ко мне уж наведывался, знаете, какой-то отставной юнкер Палкин, — сказал он, — и даже Милля у меня проштудировал!.. Прямо так-таки во всей сбруе вломился и первым долгом за Милля… Боже, каких трудов стоило ему выговорить: «У-ти-ли-та-риа-низм»!
— Ну и что же?
— Заподозрил! — смеясь, ответил Ежиков.
— Ну, и подлежащим порядком?
— О да: к господину становому приставу.
— А господин становой пристав?
— К господину начальнику уезда. {237}
— А господин начальник уезда?
— Оказался знающим грамоту.
— Стало быть, «ослобонили» Милля?
— О нет — отобрали.
— Как же это? — удивился я.
— Нашли, видите, неуместным сочинение "господина Милля" в библиотеке сельского учителя и порекомендовали "вместо неуместных господ Миллей" поревностней штудировать "Золотую грамоту" господина Ливанова.
— Как? эту… "Золотую грамоту"?
— Эту… "Золотую грамоту".
— Ну, а Палкину что?
— Ему за усердие, знаете, три рубля… впрочем, без пропечатания в "Губернских ведомостях". Но, видите, надо оправдать их, — голое невежество, знаете… и притом ужасно изломаны они!.. О, ужасно изломаны! Впрочем, Палкин исчез-таки. Вздумал он, знаете, на престольном празднике "устав о предупреждении и пресечении" пропагандировать, ну, и само собою, во всеоружии: с шашкой и револьвером. Ну и, разумеется, сломал голову.
— Тоже "без пропечатания"? — засмеялся я.
— О да, разумеется!.. И вообразите, только "отставлен"!.. Ну, что толковать об этой мерзости! Все это, знаете, и смешно и возмутительно… Серафим Николаич с пренебрежением махнул рукой.
Но спустя четверть часа он снова возвратился к этой теме, и на этот раз уже не со смехом, а с сокрушением.
— Да, это чрезвычайно важно, — сказал он, — и знаете ли, какая великая, непростительная ошибка будет все это…
— Что? — спросил я, не совсем поняв Ежикова.
— Все это… — рассеянно ответил он. — Я не знаю, но сколько муки и горя натворит все это… Заслонить деревню от струи, которая в сущности-то и неудержима, оградить деревню от простых, добросовестных работников, о, это великая ошибка!.. И, знаете ли, куда бросится эта стремительная «живая» струя, если загородить ей доступ в деревню, если не дать ей возможности сослужить немудрую службу в деревне, — службу в качестве пионеров цивилизации, настоящей, неподдельной цивилизации, и во всяком случае не той, про которую говорил Потугин… О, я не знаю, но я мучительно чувствую эту {238} новую дорогу… Мрак и кровь, гибель и мука нестерпимая… Ужасно, ужасно!.. И что всего хуже — ведь и некуда больше… По совести, некуда!.. Знаете, сказка есть такая, самая простая, мужицкая сказка… И вот в сказке-то этой едет по дороге богатырь… Едет он, видите ли, и достигает перекрестка. На перекрестке столб и надпись: "Поедешь направо тебе смерть, поедешь налево — коню смерть…" А в коне-то, между прочим, и вся суть!.. Так, знаете ли, вот наподобие богатыря этого мне и поколение наше представляется…
Он оперся пылающим лбом на руку и с печалью задумался.
— И вот еще вы заметьте, — вдруг прервал он молчание и снова с какою-то злобой рассмеялся, — курьез заметьте: целое поколение насильно поделать романтиками, насильно поставить идеалом этому поколению апофеоз «марсельезы» (есть такая картинка романтика Дорэ), вытравлять урядником скромный и серенький идеал "капли, долбящей камень", — чем не курьез и чем не смех?.. О, я не знаю, как все это… — Он внезапно остановился, помолчал и уже в совершенно ином, бодром тоне добавил: — Но будем надеяться и не покладать рук!
— Будем долбить камень? — сказал я.
— Будем долбить камень, пока нам позволят, — твердо ответил Серафим Николаич.
— А не позволят?
— Тогда… тогда разобьем головы наши об этот камень.
— Ради того, что с Архипом спорить об «лунках» стало невозможным?
— Ради того внутри и ради «конечных» идеалов снаружи.
— На что же двойственность-то, этого я не пойму?
— О, нет двойственности! Совсем нет… Но, видите ли, это я вам говорю так ясно и так… ну, правдиво. Большинство этого вам не скажет… О, ни за что не скажет!.. Большинство поставит вам такую веху, до которой пожалуй что и в тысячу лет не доберешься. Оно дорого ценит свои головы, и это понятно, — но в душе, но сердцем своим, «нутром», как выразился бы Архип, именно о «лунках» оно только и хлопочет… И ничем вы меня не разуверите в противном… О, ничем не разуверите! {239}
Я допустил нескромность: спросил у Серафима Николаича, что, если его-то лично «вытравят» из деревни… Он долго не отвечал и, казалось, колебался, но когда ответил, был бледен и как бы сконфужен тем, что говорил. Вот что он ответил мне:
— Видите ли, я не знаю… Чрезвычайно трудно, знаете ли… И я никогда не думал об этом… О, никогда не думал!.. Но если… Если, вы думаете, будет это, я, мне кажется… Не знаю, но я разбил бы себе череп… И вы не думайте (он подхватил это очень живо), — и вы не подумайте, что я прав… О, конечно, неправ… Но знаете ли… я ужасно… ужасно… не люблю романтизма!
— Но вы сами романтик! — воскликнул я.
Мы в тот день обедали, еще и еще пили чай, толковали о том о сем и между прочим о литературе. Взгляды Ежикова на литературу были не без оригинальности. Ко всему в литературном мире он относился, памятуя деревенские интересы. Правда, интересы эти заставляли его иногда делать и ошибки и даже несправедливости. Это особенно случалось, когда он не мог найти прямой и непосредственной связи известного литературного произведения с деревней и ее интересами. Так, например, не одобрял он антологию и, несмотря на присутствие несомненной эстетической жилки, не находил капли хорошего в Щербине. Любимейшими его поэтами были Кольцов и Некрасов (впрочем, он не называл их «лучшими» поэтами, а величал "симпатичнейшими"). Пушкина за «Онегина», "Капитанскую дочку" и многие мелкие пьесы он боготворил, но пренебрежительно отзывался о его сказках и называл красивою побрякушкой и «Цыган» и «Полтаву». Вообще все то, в чем целостно отражался дух народный, он почитал высоко. В этом у него даже замечалось что-то как будто и славянофильское. Так, декламируя пьесу Пушкина "Зимний вечер" и до умиления восторгаясь первыми двумя строфами, а особенно этим местом:
…Что же ты, моя старушка, Приумолкла у окна? Или бури завываньем Ты, мой друг, утомлена, Или дремлешь под жужжаньем Своего веретена? — {240}он чрезвычайно смешно и пылко вознегодовал на последние строфы пьесы и упорно доказывал, что выражение поэта:
Выпьем, добрая подружка, Бедной юности моей, Выпьем с горя; где же кружка?не свойственно народу русскому. "Это место пьесы, — толковал он, прямо переносит меня куда-нибудь на берег Немецкого моря или в Норвегию какую… Как выговоришь "где же кружка?", сейчас тебе пиво мерещится, а за пивом колбаса или ячменная лепешка…"
Иностранную литературу он понимал и ценил, но как-то холодно, и только к Шекспиру да Гетеву «Гецу» питал большую склонность. Байрона ненавидел, не любил Гюго да и вообще французов, помимо Беранже, но высоко ставил Ауэрбаха и Брет-Гарта. Особенно ауэрбаховские деревенские рассказы да первую половину романа "На высоте" любил он. Мне кажется, то свежее и здоровое миросозерцание, которое разлито и в лучших вещах Ауэрбаха и в рассказах Брет-Гарта, особенно привлекало Ежикова. Вероятно, по этой же причине восхищался он скучнейшим романом Шпильгагена "Немецкие пионеры". Самая натура, как мне казалось, тянула его к свету и здоровью; все больное в мысли и даже все мрачное, все пессимистическое просто как бы пугало его, и он с каким-то ужасом от всего этого отмахивался руками. Вследствие этой-то врожденной склонности своей о многих произведениях литературы он не мог говорить равнодушно, а говорил с искреннею злобой и даже дрожанием в голосе. Такое негодование возбуждали, например, в нем произведения Достоевского. "Он, злодей, жилы из себя тянет, — говорил про него Ежиков, с медленным наслаждением наматывает их на руку да и разглядывает в микроскоп… Извольте-ка сопутствовать ему в этой работе!" Без нервной дрожи не читал он и байроновской «Тьмы», а Эдгара Поэ так просто проклинал.
По философии взгляды его были не особенно определенны. Несомненно, впрочем, то, что он не совсем сочувствовал позитивистам; мне даже казалось иногда, что он не прочь и от Гартмана, но во всяком случае, без гартмановских мрачных выводов. Впрочем, вернее сказать, {241} что по части философии в нем была-таки путаница. Мне думается даже, что и воззрения деревни не остались без воздействия на его философское мировоззрение. Недаром известное переложение Пушкиным молитвы великопостной ("Отцы-пустынники и жены непорочны") вызывало в нем какое-то, пожалуй даже и наивное, восхищение, и я уверен, не одно только эстетическое наслаждение заставляло проникаться его голос умилительной теплотою, когда он декламировал:
…Владыко дней моих! Дух праздности унылой, Любоначалия, змеи сокрытой сей, И празднословия не дай душе моей; Но дай мне зреть мои, о боже! прегрешенья, Да брат мой от меня не примет осужденья, И дух смирения, терпения, любви И целомудрия мне в сердце оживи…Вообще, в нем ничто не напоминало «нигилиста». Ни сапоги выше Шекспира, ни лягушку выше Пушкина он не ставил. Всему он отводил свое место: и Пушкину, и лягушке, и Шекспиру, и сапогам. И даже мало, что Пушкину, он даже Фету уделял почетное место (а это ли не ересь!), и если был к нему равнодушен, то только за космополитизм, который опять-таки, вопреки Базарову, терпеть не мог. "Сердцем я его не переношу, — жаловался он мне, — и это очень, очень жаль, ибо последнее-то слово все-таки «космополитизм»!
Мало того — Фета не отрицал, он даже шел дальше… Он не отрицал, а любил и опять-таки уделял почетное место пейзажу — просто голому, бестенденциозному пейзажу с полем на первом плане, с ивой и озером на втором. Он еще дальше шел: он восторгался «Дианой» Гудона, хотя и осуждал в ней некоторую аппетитность. (Впрочем, восторгался он в статуе собственно не античной богиней Дианой, а красотой без отношения ко времени.)
Но давая всему этому свое особое место, он в то же время говорил: этим не время заниматься, это для нас роскошь и баловство, это отвлекает от дела, и т. д. В этом замечалась сознательная суровость к себе, к своим инстинктам цивилизованного человека, но отнюдь не отрицание и не злоба. Так, он с каким-то комическим сокрушением признавался мне, что не может расстаться {242} с Пушкиным и продать копию с пейзажа Мещерского; "хотя часто и часто следовало бы продать" — добавлял он.
Вьюга во весь день не утихала. Сугробы до такой степени возвысились под окнами, что вечером оказалось невозможным закрыть ставни.
Вечером разговор у нас с Ежиковым не возобновлялся. Он разыскал в моей скудной библиотечке какую-то еще не читанную им книгу и не отрывался от нее часов до четырех ночи, читая даже в постели.
Наутро я проснулся в обычное время, но, к удивлению моему, в комнате было еще темно. Я укрылся поплотнее и уже вознамеревался снова заснуть, как вдруг часы нежданно и негаданно пробили восемь. Я зажег спичку и посмотрел на карманные: и на них стрелка близилась к восьми.
В комнате царила какая-то подозрительная тишина. Эта тишина угнетала. Только в трубе едва слышно гудела вьюга. Я огляделся. В одно из окон проникала узкая полоса света. По мере того как глаза мои привыкали к полумраку — дело объяснялось. Нас замело снегом! Снег голубоватой массой прилег к стеклам, не пропуская в комнату ни шума вьюги, ни света. Как я уже и сказал, только в одно окно, как бы украдкой, проникал день. Я подошел к этому окну и долго с напряжением вглядывался в кусочек стекла, не занесенный снегом: за этим стеклом крутилась и вилась непроницаемая метель. Какое-то жуткое чувство обнимало меня, комната казалась мне склепом. Мне казалось, что еще мгновение, — и я задохнусь в этом склепе. Грудь моя как-то ныла и болела тоскующей болью. Среди глубокой тишины, прерываемой только безмятежным дыханием спящего Ежикова, часы как-то особенно твердо и сухо отчеканивали такт.
И я вздохнул с радостью, когда в сенях послышался какой-то стук и раздались голоса Архипа и Семена. Я наскоро оделся и вышел к ним.
— Ну, оказия! — встретил меня Архип, а Семен немедленно подтвердил со вздохом: — Уж точно что оказия.
К счастью, дверь на крыльцо отворялась внутрь. Ко-{243}гда мы отворили ее, перед нами оказалась гладкая снежная стена. В верх этой стены ударили лопатой, — мягкая глыба грузно упала вниз и разбилась мельчайшею пылью. После нескольких таких ударов на нас хлынул свет и до слуха нашего донесся гул погоды. Снег, заслонявший дверь, нам, стоявшим в полумраке сеней казался голубым.
Через час сообщение с избою было возобновлено и от окон отрыты сугробы; в печах затрещали дрова, и ярко-медный самовар весело заклокотал на столе
Ежиков все еще спал. Так как о поездке в Лески нечего было и думать, ибо погода несла, кажется, еще пуще, чем вчера, — я и не стал будить его. Стали мы пить чай вдвоем с Архипом.
— Ну что, Архип, — сказал я, желая навести разговор на вчерашнюю тему, — как "браты"-то, ждут вас?
Архип усмехнулся, но, к удивлению моему, иронического отношения к учителю на этот раз не выказал.
— Человек-душа, — сказал он, — миляга-парень!.. Небось нам не нажить такого, шалишь… Это такой… он, брат, последнюю рубаху рад с себя спустить — абы на пользу.
— Ну, и любят его в Лесках? — опросил я.
— С чего не любить, — любят. Только известно, какой наш народ, — народ оголтелый. Где бы пожалеть человека, а у нас этого нету. У нас этого нет, чтоб по совести. У нас всякий норовит рубаху снять. Народ бессовестный.
Мы некоторое время пили чай в молчании.
— Вот ономнясь было, — вымолвил Архип. — Есть у нас мужик Вавилка. Вавилка Балабон. Ну, и помри, значит, у этого у Вавилки баба. Ну, чего тут толковать еще? Померла, и шабаш. Ан — нет. То-то народ-то у нас, говорю, бессовестный. Пришел Вавилка к Миколаичу, сидит да ноет. Миколаич книжку читает, а он ноет! Уж он ныл, ныл… ах, пропасти на тебя нету… Ну, и что ж ты думаешь? Ничего этот Вавилка не просит, а только об корове… Ноет об корове, и шабаш! Осталась от бабы-то девчонка, от грудей, значит, ну, а коровы у Вавилки нету… Фу, будь, ты проклят!.. Ну, ныл он так-то, ныл, Миколаич взял часики да к Архаилу (кабатчик)… — Архип помол-{244}чал и затем с негодованием воскликнул: — Что ж ты думаешь, ведь купил Вавиле корову!
Он опять немного помолчал и, помолчав, с жалостью добавил:
— Так и страдает теперь без часиков.
— Вот насчет земли еще! — внезапно вспомнил Архип.
— Какой земли?
— А куляевской. У Куляева у барина земля в сдачу ходила. Ну и ходила она, брат ты мой, вразброд, в розницу; все в розницу ходила. Только, значит, Миколаич и говорит старикам: "Старики, говорит, берите вы куляевскую землю, чтоб сообща, — я как ни-то обстараюсь". Ну, порешили взять сообща. У Миколаича с Куляевым барином дружба, он и обстарался. Страсть хлопотал!.. Ну, сняли. Хорошо. И только, брат ты мой, первый год посеяли мы всем миром, в одну запашку, как на барина, бывало, севали. Посеяли всем миром, все как след, по совести… Миколаич и земли под ногами не чует — рад!.. Ну, только, — сказано, народ бессовестный, — как пришли, значит, подушные, Архаилка выкатил, выходит, десять ведер да задал деньгами, ему и отошла куляевская земля.
— Как отошла?!
— А так: права передали.
— Стало быть, из подушных уж он вас выручил?
— Из подушных выручил, как же!..
Архип опять немного помолчал, а затем продолжал:
— То-то народ-то бессовестный. Миколаич что? Миколаич человек расейский. Он как хлопотал, а они замест того… Архаилу!
— Да ведь нельзя было иначе?
— Это насчет подушных?
— Да.
Архип глубокомысленно подумал и, подумавши, отвечал:
— Можно бы. Можно бы так: взять с Архаила с этого за кабак, за приговор, да в подушное и оборотить.
— Ну, и что же не сделали так?
— Загвоздка вышла. У нас сыспокон веку заведено деньги за кабак — на пропивку. Как придет Покров, — на Покров мы их и порешаем. {245}
— Стало быть, поэтому и передали землю?
— Ничего не поделаешь. Тоже надо и бога помнить. Батюшка Покров винцо любит. — Тут Архип как бы спохватился и совсем неожиданно добавил: Оголтелый народ!
— Так все и согласились кабачные деньги пропить, а землю на подушное?
— Ну нет. Какие непьющие, те рук не давали. Тоже ловки…
— Ну, я бы на вашем месте оставил землю!
Архип исподлобья посмотрел на меня и с горячностью ответил:
— Я тебе говорю, народ-то наш… — Он загнул крепкое словцо. — Как стал Архаилка про землю: то да се… Малый — пес! Ну, и старики за ним: "Как ты ее, то ись, сообща будешь, ты пашешь на одре, а я на мерине, ты косишь с оттяжкой, а я по совести, у те поясницу схватило, а я за тебя ворочай…" И так еще толковали: "Как будем аренду сбивать? Сосед завиляет — ты плати, сват запьет — у тебя голова с похмелья…" Вот и расползлись.
— Ну, что же Серафим Николаич?
Архип с сокрушением махнул рукою.
— Извелся! Я так и думал, в запой войдет. Пуще всего Архаилка его убил… И чем ведь убил, пес! — пустяковиной убил… Шла у нас толковня на сходке про землю про эту. Только идет у нас эта толковня, и вдруг видим мы, начал нас Миколаич ругать. Ругательски почал ругать! И так он этим стариков пронял — старики даже застыдились… Застыдились они и только, видим мы, стали сбиваться:… Дальше — больше… Глядь — Архаилка: "Аль вы ополоумели, старики, говорит, разуйте глаза-то! Кого вы слушаете!.. Ты лучше, Миколаич, чем про землю, про гром да про молонью расскажи нам, дуракам, альбо про месяц!.." Как тут, брат ты мой, грохнем мы!.. — Известно — глуп народ.
— Чему же вы засмеялись?
— А смеялись-то мы делу. Миколаич говорил как-то про грозу: тучи, говорит, вроде как на манер ружья заряжены, и с того гром. Туча с тучей столкнется — молонья. — Архип снисходительно и тихо засмеялся. — Ну, и про месяц опять… Да много кой-чего наплел! — Архип {246} махнул рукою, как бы обессиленный наплывом смешных воспоминаний.
— Ну, засмеялись вы… — напомнил я.
— Ну, как грохнули мы сдуру-то, он возьми и уйди со сходки. Так-то, брат ты мой, его проняло — пришел я ко двору, а он без памяти. Насилу фершелок отходил!
— Долго ли человека обидеть! — глубокомысленно добавил Архип после некоторого молчания.
Ежиков все еще спал, и в ожидании его пробуждения самовар долили.
— А выживут! — внезапно произнес Архип.
— Кого выживут?
— А его, Миколаича.
— Откуда?
— От нас, из Лесков.
— Кто же его выживет?
— Архаилка выживет, — с непоколебимой уверенностью сказал Архип. — Он ему нож вострый, Миколаич-то. Ну, он его и выживет. Человек — пес!
— Ну, вот еще, — усомнился я, — как так ни за что ни про что выжить человека?
— Ни за что ни про что?! — пылко возразил Архип, по-видимому задетый за живое моим недоверием. — Нет, ты Архаилку не знаешь!.. Нет, Архаилка, брат, подведет!.. Это уж не сумлевайся — не таковский!
— Как же он подведет?
— Архаилка-то? оченно просто! — и с азартом олицетворяя гневного и ехидного Архаила, Архип воскликнул: — Первым ты долгом мужика не внушай! Как ты так можешь мужика внушать!.. И опять — застойка! Нешто это порядок, за мужика застаивать, а? Аль ежели молонью взять — разве это порядок? Аль опять — переделу не бывать, внушаешь… Как это возможно?.. И как это возможно насчет переделу, а? — Архип победоносно взглянул на меня и, несколько успокоившись, добавил: — А ты говоришь, не выживет! Еще как выживет-то — единым духом… Архаил — он пес!
Наконец проснулся Ежиков. Он живо оделся и сконфуженный вышел к нам.
— Батюшки, как я заспался! — восклицал он. — Извините, сделайте милость!.. Такая книга интересная, и так долго не засыпал я… {247}
Мы рассказали ему эпизод с сугробами. Он ужаснулся и заскучал. Его, видимо, тянуло в Лески. Он не раз подходил к окнам и тоскливым взором всматривался в погоду. Но погода была такова, что он даже не решался заговаривать с Архипом о поездке.
И во время чая и после чая, когда Архип удалился уже в переднюю, Ежиков перекидывался с ним краткими словами, для меня часто совершенно непонятными. "Что-то Андрейка теперь делает?" — спросит Ежиков. "А что ему, небось лаптишки плетет либо книжку читает", — ответит Архип, и мягкая улыбка осветит скучающее лицо Серафима Николаича после Архипова ответа… "Добыл ли работы Фома?" — с живейшим беспокойством проронит он немного спустя. "У Журавлева добудет!" — успокоивает Архип, и опять тянется молчание, и опять за молчанием следует отрывистый вопрос: "не то ожеребилась кобыла у Пахома?.." или: "починили ли полушубок Михейке?", или: "ах, кто-то Федосею условие с Архаилкой напишет!.."
День длился. Вьюга завывала. Семен вздыхал, а Ежиков уже и окончательно затосковал. То и дело подходил он к окнам и напряженно оглядывал мутное небо. Если о чем говорил он, то говорил рассеянно и скучно, постоянно срываясь со стула и измеряя комнату беспокойными шагами.
Во время вечернего чая Архип сердито кряхтел, исподлобья наблюдая за Ежиковым и, против обыкновения, был неразговорчив.
Наутро, чем свет, он разбудил Ежикова. Встал и я. Ежиков торопливо одевался при свете сальной свечки, трепетно мигавшей тусклым огоньком своим в руках Семена. Погода утихла. Серафим Николаич упрямо, отказался от чая, который мог бы быть готовым через час. Его как бы подмывало что-то и гнало. Лицо его светилось радостным возбуждением, и пальцы чаще, чем когда-нибудь, дергали бородку. Он дружески расцеловался со мною, не отказался от шубы, предложенной ему на дорогу, и убедительно просил меня приехать к нему.
Я вышел проводить его на крыльцо. В синем небе еще не погасли звезды. С востока наплывал желтоватый и как бы холодный рассвет. Вокруг хутора и далеко за ним беспорядочными волнами громоздились сугробы. Си-{248}неватые тоны облегали поле. Из избы курился дым, высоким столбом омрачавший небеса. Морозило. Ветер затих. Дали хмурились.
Дороги не было и следа. Путники мои тронулись целиком. Шершавый Архипов меринок, то утопая в сугробах выше колен, то неуверенно ступая по насту, медленно тянул грузные сани, в которых сгорбившись, сидел Ежиков и сердито нахохлившись Архип.
Я долго смотрел им вслед. Я смотрел до тех пор, пока и фигуры путников, и меринок, и грузные сани не слились в одно общее черное пятно и не потонули в угрюмой сумеречной дали.
Вослед им болезненным, бледно-янтарным блеском загоралась заря. {249}
X. Земец
Соблазнительные дорожки пробегают иногда по нашим полям. Едете вы от села до села по торному, обыкновенному пути и с негодованием примечаете, что путь этот как-то необычно колесит и забирает влево, а между тем то и дело попадаются едва проторенные дорожки, по-видимому прямо ведущие к цели. Правда, дорожки эти почти сплошь заросли полынью и кашкой, и глубокие колеи едва заметны в цепкой и густой траве; правда, пристяжные ваши беспрерывно путаются в высокой ржи, буйно обрамляющей узкий проезд, и то и дело приникают к аппетитному овсу, но зато так заманчиво и так, по-видимому, близко сверкает впереди знакомая колокольня, что вы забываете все неудобства заглохшей межки и едете, едете… Но вот колокольня передвинулась налево, вот она и совсем потонула вдали, вот снова сверкнула девственной белизною на голубом небе, но сверкнула уже совсем в неподобающим месте, а коварная дорожка кружит, и виляет, и змеится по полю, и ведет вас в неведомое пространство. И в душу вашу мало-помалу вкрадывается тревога, и зло разбирает вас на глухую дорожку, и с невольной жалостью думаете вы, как бы это было хорошо, если бы не сворачивали вы с торного, обыкновенного пути. Наконец вы с отчаянием замечаете колокольню далеко сзади. Всякая уверенность покидает вас. А полынь и кашка слабо трепещут под колесами вашего экипажа, пристяжные шаловливо срывают колосья, кучер ваш недовольно ворчит, и сумрачное небо лукаво ползет, и хмурится, и загорается звездами… {250}
Вот по такой-то дорожке ехал я под вечер одного погожего июньского дня, пробираясь в знакомую мне усадьбу. По расчетам моим, усадьбе этой, отстоящей от Грязнуши верстах в двадцати, давно бы уж следовало зазеленеть своими кровлями и забелеть каменными стенами своих флигелей и конюшен, а между тем дорожка бежала себе да бежала без конца, прихотливо извиваясь вокруг кустов и окладин, круто взбегая на холмы и спускаясь в пологие долины. Ясно было — я заблудился. Вечерело. Солнце медлительно опускалось за холмы. На поля ложилась роса. Свежая сырость проникала воздух.
Местность предо мной расстилалась совершенно незнакомая. Какие-то стога чередовались с полем, засеянным гречихой; степь, усеянная копнами, перемежалась синими кустами; неведомые колокольни белелись там и сям… И чем дальше бежала дорожка, тем более и более уставала добрая заводская кобыла, запряженная в мои дрожки, тем все таинственнее и страннее казалась мне окрестность. Солнце село. Слабая заря погасала тихо и кротко. В темном небе задумчиво светились звезды. Беспредельное поле, изборожденное тенями, уплывало вдаль, незаметно сливаясь с небесами. Запах сырости переполнял недвижимый воздух. Роса обильно мочила мое пальто. Мертвая тишина царила окрест. Только в далекой и неопределенной темноте иногда слышались смутные голоса и от времени до времени раздавалось звонкое лошадиное ржание.
А дорожка привела меня к лощинке и пропала. Я слез-с дрожек, оглянулся… Кобыла моя тоже подняла голову и даже фыркнула от преизбытка недоумения… Но путь наш не прояснялся перед нами. Перед глазами нашими была лощинка, из глубины которой тянуло кислым запахом болотной, растительности; далее виднелась пашня, едва отделявшаяся своею чернотою от темной зелени лощинки; еще далее темнел какой-то холм, круто вздымавшийся на фоне бледной зари… и ничего более. Я сел и поехал целиком. Колеса неспокойно затрещали по кочкам. Мимолетный ветер зазвенел в камыше. Где-то, у самых ног лошади, дерзко и дробно затрещал перепел. Я унывал. Я уже раздумывал найти копну или стожок и заночевать около них, но в это время в темноте сверкнула искра и веселое пламя длинным языком облизало {251} небо. Я поехал на огонь. Ехать было тяжело и неудобно: кочки сменялись пашнею, пашня неоднократно перемежалась бобовником и полынью. Огонь оказался не близко. Добрую версту пришлось потрудиться моей кобыле. Но у огня был народ, и я утешился. Молодые безусые парни сосредоточенно сидели на корточках и варили кашу. Их было трое. Я спросил, далеко ли до Перхотина (знакомая мне усадьба). Было далеко. Я назвал село, ближайшее к усадьбе. И село оказалось совершенно в противной стороне.
— Но где же я?
Мне назвали местность, отстоящую от Перхотина в добрых десяти верстах. Продолжать путь нечего было и думать; приходилось ночевать. Но ночевать в поле мне не хотелось: было сыро и неудобно. Да к тому же, надо правду сказать, безусые парни были куда как неприветливы, и на приветствие мое и на вопросы отвечали они неохотно и сурово. Лица их являли вид мрачный и решительный. Ни один из них не захотел облегчить, моего положения. Ни один не поинтересовался ни откуда я, ни кто я. Ограничились только тем, что обвели недоброжелательным взглядом фигуру мою, облеченную в куцое пальто, и мою заводскую кобылу. Они неподвижно сидели у костра, я уединенно ежился на дрожках. Но тут из темноты вышел какой-то старик. Узнав в чем дело, он важно и многозначительно подошел ко мне и подал руку.
— Вы чьи будете? — спросил он.
Я сказал.
— А едете куда?
Я и это объяснил.
Оказалось, старик знал владельца Перхотина.
— Они гласные, — произнес он и затем добавил: — И я гласный. Гласный Онисим. Может, слыхали? Не-эт? Ну, не знаю, — меня все господа знают. Я Онисим.
Он помолчал. Я поглядел на Онисима. Глазки его, которым он старался придать выражение важной снисходительности, по временам глядели с явным подобострастием. Желтоватая борода степенно опускалась на грудь. Сморщенный носик смотрел внушительно.
— Я — Онисим, — повторил он и ухватил бороду в кулак. — Как же! Меня господа знают. Я гласный… — и, как будто спохватившись, добавил: — Вот, на пахоту при-{252}шел. Насчет порядка, например. Ребяты молодые, я и слежу; нельзя!.. Я вижу, — я все вижу. У меня ежели огрех — я проберу, ежели сошник сломан — клочку задам, пахота мелковата — выволочку. Хе-хе-хе… Я не люблю этого. Меня и господа знают.
— Ну чего, старик, врешь? Чего врешь!.. — брезгливо воскликнул один из ребят; другие неопределенно усмехнулись.
Старик пропустил мимо ушей восклицание, но на усмешку внимание обратил.
— Смейтесь, смейтесь, — обидчиво сказал он и внушительный носик его внезапно поникнул плачевно, — смейтесь… Меня господа почитают, а вы смеетесь. Меня, может, сам исправник… я, может, с самим Назар Назары-чем… Мне, может, сам Митрофан Семеныч летось… Что ж, смейтесь! И старик, как мне показалось, даже всхлипнул от огорчения.
Молодые ребята помолчали немного и, помолчав, вяло произнесли:
— Что ты, дедушка!.. Аль мы как… Нешто мы не понимаем!
Старик горделиво приосанился.
— Эх, собачьи вы, собачьи дети! — в шутливом тоне воскликнул он и затем, обращаясь ко мне, прибавил кратко: — Внуки мои.
Я присел к ним и закурил папиросу.
— Уважьте и меня, старика, — произнес Онисим, — избаловали господа люблю табачок. Это турецкий? Эх, люблю я турецкий табачок!
Я дал ему папиросу, и он важно зажег ее. Внуки усмехнулись не без презрительности. Вообще относились они к Онисиму странно: то как будто негодовали на него, то снисходительно над ним посмеивались. Он старался не замечать этого. Вместе с тем, он до последней возможности отвлекал мое внимание от внуков. Когда же неуважение внуков явно обострялось и уже окончательно грозило потрясти Онисимов авторитет, он плаксиво поникал носиком и беспомощно обижался. Тогда внуки смирялись.
Между прочим, Онисим спросил меня: не гласный ли я и не ихнего ли уезда. Оказалось, что не гласный и уезда иного. Тогда в его почтительном обхождении со мной зазвучала покровительственная нотка. Деликатное {253} вы, которым беспрестанно угощал он меня, чаще и чаще стало заменяться фамильярным ты…
— Ты знаешь Марка Панфилыча, мирового? — говорил Онисим, — ну, он мне друг. Как ни приеду, сейчас это — чаю, водки и пошла писать. Барин добрый. Ну, и я для него… Я для него большой приятель, прямо надо сказать. А предводителя знавал? Митрофана Семеныча? И он друг. Барин большой, а меня почитает. Не токмо что чай там аль иное что, обедать с собой саживал. Мужик я, а он саживал. Важный барин. И детки у него — важные детки: мужик я, а они понимают — гласный!.. Всякий почет мне. На это у них строго.
Тут он торопливо бросил папиросу и хотел было подняться, но поглядел на меня и нерешительно сказал:
— Митюх! Окороти-ка мерина-то, ведь это он на господские луга попер…
Митюха, коренастый малый с рябым и сонным лицом, не спеша повернул свою толстую шею и, взглянув туда, где едва белелся серый мерин, проронил сквозь зубы:
— Небось не объест, — луга-то у них, знаем, какие…
— Он небось у нашего брата луга-то оттягал!.. Пора их, дьяволов, обничтожить!.. Их не токмо луга, самих бы, чертей… — хором подкрепили внуки Митюху.
Онисим хотел что-то сказать, но развел руками, плюнул и побежал за мерином.
А мне хотелось решить вопрос, бесконечно интересовавший меня.
— Нет ли близко жилья тут ночевать бы мне? — спросил я.
— Жилья как не быть — есть… Жигулевка есть… — нехотя ответил один из ребят после некоторого молчания.
— Так не проводит ли меня кто-нибудь из вас, а? Я бы заплатил.
Парни снова помолчали, и уже несколько спустя один из них нерешительно произнес:
— Кто ее знает, как проводить-то… Темень, волки ее ешь…
— Небось дед проводит; он рад, — насмешливо подхватил другой, — ему ежели подлизаться: — он провалиться готов! Его хлебом не корми.
— Падок до господишек, — кратко отозвался третий и посмаковал кашицу. {254}
— Что ж, пущай! Человек он преклонный, пущай его! — произнес первый в более благодушном тоне и затем закричал навстречу Онисиму:
— Дедушка! Проводи вот барина в Жигулевку! Он угощенье тебе поставит… Он говорит: заплачу… Ступай!
— Эх вы! — с пренебрежением отозвался Онисим. — Ребята вы молодые, а чуть что — дедушка! Я, брат, провожу!.. Я не токмо в Жигулевку, я куда хочешь провожу… Только я в Жигулевке ночую. У целовальника ночую. Он меня знает. Он летось у Марка Панфилыча ноги целует, — в острог ему выходило, а я с барыней сижу да чаек попиваю, хе-хе-хе!.. Он меня почитает.
Мы собрались. Онисим солидно и крепко подтянул кушак и степенно расправил бороду. В его руках очутилась щегольская яблоневая палочка. Подошед к дрожкам, он важно и медлительно сел сзади меня и многозначительно произнес, поглаживая бороду:
— Ну, слушайте, ребята: вставать раньше. День жаркий, зорькой самая пахота. Ты, Васька, подвои опусти: мелка у тебя борозда. Опусти подвои. Сивой кобыле под седелку стельку подложи. Да палицы-то поберегайте! Палицы стальные, вы их и поберегайте. Ну, жеребчишка пускай борону затылком таскает — ему способней затылком ее. Лошадь она молодая, нужно ее поберегать!
Внуки с явным нетерпением внимали внушениям Онисима. Один даже воскликнул: "Э, уж будет бы…" — и присовокупил к тому еще довольно едкое словцо, но Онисим до конца сохранил невозмутимость.
— Я подойду ужо! Послежу… Старайтесь! — серьезно заключнл он свою реплику.
Мы тронулись и внезапно очутились во тьме. Кобыла недовольно фыркнула. Колеса беспокойно запрыгали по пашне. Онисим осенил себя размашистым крестом и внушительно крякнул.
— Никак нельзя без страху! — сказал он, когда уж мы далеко отъехали от костра.
Я промолчал.
— Без страху по нонешним временам никак невозможно, — повторил он настоятельно.
— Отчего же?
— Народ ноне стал отчаянный. Ноне такой стал народ — не подходи к нему. Зверь народ. Ни совести в них, {255} ни страху. Вы вот, позвольте посмотреть, внуки мои, — известно, я слежу, я наблюдаю, — но только, не будь меня, тебе бы пришлось бы в поле заночевать. Малый молодой, он об чем теперь думает? Ему было бы одно теперь: как-никак барина изобидеть. Я вам про себя скажу. Меня господа знают. Заехал как-то ко мне мировой. (Я житель хороший; я принять могу; кабы не далеко, я бы тебя принял, — далеко.) Ну, заехал он, а Васька идет мимо, — шапки не ломает, а? Я говорю ему после: "Что ж ты, говорю, Васька, об себе думаешь, что ты шапку, собачий сын, не ломаешь?.." — Эх, лучше и не говорить!..
И Онисим тяжко вздохнул.
— Никакого уважения нет! — продолжал он немного погодя. — Отец ежели духовный — вроде как наплевать ему; купец — купцу и названья опричи нет, как аспид толстопузый… Что же это такое?.. Ну, это, положим, так; ну, положим… Потому насчет ежели благородства, этого нет у них… Но возьмем теперь господина. Как же это так? У иного, может, чинов сколько, а? И как же это шапки не ломать, а? — Он несколько подумал и затем добавил грустно: — Отчаянный народ!
Мы выехали на межу и поехали шагом. Тьма теперь прояснилась перед нами, и глаза свободно отличали холмистую поверхность земли от неба.
— Я вот вам про себя скажу… — начал опять Онисим, на этот раз впадая в несколько умиленный тон. — Я гласный. Я гласный, а во мне этого нет, чтоб зазнаваться, например. Я знаю — господину я нужен. И я уважаю. Ты посмотри теперь в земстве на меня. Я смотрю. Как чуть поднялся ежели Назар Назарыч, я уж понимаю, я встал. И опять я наблюдаю. Я, например, вижу, куда господин клонит. Господин говорит, а я слежу. А проговорил он, я встану и говорю, например… "Господа гласные, говорю, так и так"… А господин рад. С того мне и почет от господина. Я, брат, к какому барину ни приеду, мне везде почет. А почему? — Потому: нет во мне гордыни этой. Не занимаемся мы этими делами. Я так рассуждаю: ну, гласный я. Ну, и захотел ежели я мировому там аль Назар Назарычу неудовольствие какое сделать. Это я могу, чтоб неудовольствие, дело это нехитрое. Ну, а после того? После того прямо я вроде как оглашенный. Не токмо мне почету тогда, али в хоромы к себе, али там {256} ручку протянуть, — напротив того, каждый меня по шее может съездить. С нашим даже удовольствием засветит по шее!.. Везде ум. Я вот веду свое дело, и меня почитают. Ты вот погляди: приедем мы теперь к Михею, — целовальник вот в Жигулевке, — ты погляди, как Михей завертится. А отчего? Оттого — господа меня знают. Гласный гласному рознь. Я, брат, какой гласный? Я прямо за господами наблюдаю. Услугу им ежели, это прямо Онисим. Ты вот погляди — выборы подойдут. Онисим-то мужик, а Онисима на руках носят. Иного, может, барина к Назар-то Назарычу не пустят, а Онисиму первое место. И я это знаю, я верен. Через мои руки, может, тысячи прошли, а я верен. А то есть такие из нашего брата: придет в город, отсидит как на барщине, например, и попрется не солоно хлебавши. Это дураки. Есть еще и из писарей. Из писарей, те, как-никак, в члены норовят. Хорошие тоже есть ребята — важно угощают!..
Тут дрожки наехали на что-то и прыгнули. Онисим остановился. Но, помолчав немного, он снова продолжал:
— Ты не гляди — мужик я. Я, брат, в город приеду — не выхожу от господ. Ноне к одному, завтра к другому. Так и хоровожусь, как на празднике! Люблю я это… Эх, хорош обиход господский! — Онисим даже сплюнул от восхищения. — Теперь, взять еду у них ежели — эх, важная есть еда!.. Аль опять водки поднесут, например…
И он замолчал в раздумье. Вдали замелькали редкие огоньки и глухо залаяла собака.
— Жигулевка! — объяснил Онисим и, как-то странно пожевав губами, произнес, умиленным тоном: — А что, хотел я вас спросить: водка есть нальешь ее, так иголками она, иголками… Знаешь, в ключе иной раз? Так тебе и выворачивает, так и выворачивает, например… Ты знавал такую водку?.. Я пивал. Летось Марка Панфилыча выбрали в мировые, он меня этой водкой угостил. Шесть целковых она! И сладка, брат… Эх, сладка, пропасти на нее нету!.. — И Онисим опять сплюнул.
Мы миновали сонную деревушку и подъехали к кабаку. В кабаке тоже собирались спать. На нашу просьбу отворить двери вышел с фонарем в руках босой и полураздетый Михей. Это был ражий чернобородый мужик с толстым лицом цвета раскаленной меди и с раздраженным взором. Впрочем, он, тотчас же как узнал Онисима, {257} переполнил взор этот благосклонностью. Мы вошли. Полногрудая Михеева супруга проворно юркнула за перегородку, придерживая высоко оголенной рукою распахнутую сорочку. В комнате пахло водкой и однообразно трещал сверчок. По чистому сосновому столу задумчиво бродили тараканы.
— Узнал? — проговорил Онисим, влезая в избу и ища глазами икону. Хе-хе-хе… Я самый. Где Матвеевна-то? Пускай идет, пусть поблажает старику; скажи ей: гласный, мол! Онисим.
— Слышу я, дядюшка. Дай прибраться, выйду! — отозвался из-за перегородки свежий женский голос.
— То-то. Выходи, лебедка. Я старик, а баб уважаю. — Он обратился к Михею: — Ну, Михей, приятеля вот к тебе приспособил: успокой. Не знаешь? Это барин с Грязнуши. Ты ему давай всего — он заплатит. Он барин важный. Он друг мне. Заблудил.
Михей зажег фонарь, взял ключи и скрылся. Ласковое ржание моей кобылы донеслось до меня. Затем заскрипели ворота, и гулко загремели дрожки, въезжая на двор. Я поглядел в окно: тень Михея прихотливо колебалась и переступала исполинскими шагами. Лучи фонаря проникли под навес и ярко мелькали там, освещая порой равнодушную морду коровы, порой — пегий круп лошади. Немного спустя к нам вышла супруга Михея. Она повидалась с нами и захлопотала около самовара. А через полчаса все мы сидели за столом, пили чай и тянули вишневку. Онисим даже успел зарумяниться. Он был в превосходном расположении духа. И сам Михей и Михеева жена Матвеевна, красивая баба с заигрывающими манерами, очевидно ухаживали за ним.
— Он у нас — сила! — говорил Михей. — Он у нас по уму по своему, прямо надо сказать, министр. Он, может, сколько мировых поставил на своем веку, сколько членов произвел…
— А ты как думал? — бахвалился Онисим, изрядно разнеженный наливкой. Я, брат, человек ничего себе, например. Я, брат, мужик. А которые господа замест отца меня почитают, — это ничего. Пущай! Мы видали, например…
— Уж ты, дядюшка, ума палата. Знаем мы, как господа-то за тобой увиваются. Чай, Онисим-то на весь {258} уезд гремит! — поддакивала Матвеевна, до соблазнительной близости пригибаясь к старику.
— Что ж, не правда разве? — возразил старик. — Разве Онисиму нет уваженья, например? Ну-ка, скажи, Михей, как Онисиму нет уваженья? Ну-ка в острог тебе выходило, кто тебя отстарал? А?
— О господи… — в преизбытке чувств воскликнул Михей и, моментально скрывшись, возвратился с маленькой бутылочкой «тотинского» в руках. Ни слова не говоря, а изображая в лице своем одно немое достоинство, он с треском откупорил бутылку и наполнил стакан, стоящий пред Онисимом.
Лицо Онисима изъявило восторженную радость. Устремив на шипящий стакан блистающие глаза, он как-то смешно шевелил бровями и восклицал в восхищении:
— Ишь, ишь играет!.. Иголками, иголками!.. Эк ее разбирает… Эк ее… Ах, дуй те горой!.. — и затем с наслаждением выпил.
Михей и еще налил ему. Лицо Михея являло вид скромного великодушия. В красивых глазах его супруги светилось умиление.
Я захотел спать и попросил указать мне постель. Ее приготовили под навесом двора. Там было славно и прохладно. Запах свежести и дегтя, смешанный с ароматом молодого сена, переполнял воздух. В глубине двора кобыла моя хрустела овсом и от времени до времени шумно фыркала. Где-то однообразно жевала свою жвачку корова. В вышине петух иногда хлопал спросонья крыльями и тотчас же засыпал снова. Сквозь отверстие в крыше виднелось небо. Тихое и темное распростиралось оно надо мною. Яркие звезды горели в нем важно и задумчиво. А в избе горел огонек, и Онисим заплетающим языком говорил:
— Я свое дело веду тонко, — меня господа замест отца, например…
Рано утром я выехал из Жигулевки. {259}
XI. Криворожье
— А поедемте-ка мы с вами в Криворожье, — сказал мне однажды сосед мой, Семен Андреич Гундриков, — есть там у меня мельник знакомый, человек, я вам скажу, скотоподобнейший! Так вот к мельнику к этому…
Я согласился, и мы отправились с господином Гундриковым в Криворожье.
Стояла засуха. Недели три как уже не было дождя. Солнце с убийственной жгучестью палило землю; на знойном небе целыми днями не показывалось ни одного облачка. В раскаленном воздухе пахло гарью. Хлеба выгорали. Налив ржи приостановился на половине, и в тощем, бледно-желтом колосе уже подсыхало сморщенное, изможденное зерно. Яровые стали. Овсы, не поднявшись еще и на пол-аршина от земли, уже поблекли и начинали желтеть. Просяные поля уныло отливали своими бледно-зелеными преждевременно выметавшимися кистями. Мурава на выгонах и отава на покосах высохла наподобие какой-то щетины и подернулась неприятной желтизною. Паровые поля, выбитые скотиной, уж не зарастали вновь травою: только колючий татарник да корявый бурьян кое-где разнообразили эти поля, высохшие, как камень, и пыльные, точно столбовая дорога.
Мы выехали не рано, и жара была страшная. Неподвижный воздух, проникнутый нестерпимой жгучестью, томительно стеснял дыхание. Горячее безоблачное небо тусклым и тяжелым сводом распростиралось над землею. Вдали хмурыми синеватыми тучами стоял зной, и заманчивой полосою струилось марево. Дальние поселки и кусты, охваченные этим маревом, казались островами, пла-{260}вающими в волнистом, чудно-изменчивом море. Выжженные солнцем нивы печально стлались по равнинам, широко разбегавшимся вокруг нас. Невесело было глядеть на эти нивы… Редкая, порыжевшая рожь не поникала к земле тощим своим колосом, как поникает она в пору урожая, а как-то вяло и беспомощно устремлялась кверху и, при малейшем дуновении ветерка, металась во все стороны, путалась и ломалась. Яровые изобиловали бурьяном и полынью.
Стада, кое-где попадавшиеся нам навстречу, еще более усиливали тоскливую неприглядность полей. Коровы с осунувшимися боками и ребрами, выпиравшими из-под кожи наподобие обручей, уныло и беспорядочно бродили, тщетно разыскивая корм и печально оглашая воздух жалобнейшим ревом. Овцы с каким-то тупым и бессмысленным равнодушием сбивались в тесные кучи, изо всех своих сил напирая друг на друга и наполняя тишину тяжким сопением. Редко около стад виднелся пастух. Казалось, и пасти-то голодающий скот находили излишним.
Впрочем, раз мы заметили и пастуха. Он лежал возле межи, в значительном отдалении от своего тоскующего стада, и безучастно оглядывал окрестность. Когда экипаж наш поравнялся с ним и треск колес достиг до его слуха, он лениво повернул голову, обвел нас каким-то как бы осоловелым взглядом и снова устремил этот взгляд в скучное пространство. Он был сед и худобою уподоблялся скелету.
Серая пыль толстым слоем лежала по дороге. За экипажем нашим пыль эта вилась целой тучей и, вероятно, издали мы представляли некоторое подобие вихря. Иногда пыль вздымалась к небу и настоящими вихрями, невесть откуда налетавшими на сонное поле. Тогда высокие серые столбы быстро крутились и ходили по дорогам. Это придавало печальным равнинам особый характер какой-то пустынной и мрачной величавости. Под суровым веянием такой величавости человек умаляется. Сила стихий кажется ему роком. Самонадеянность покидает его.
Тяжело было. Язык сохнул; пот обливал тело; ноги и руки отказывались служить. Иногда неподвижный воздух колебался и тихий ветер волновал зной. Тогда, {261} казалось, по лицу пробегала огненная струя и вас обнимала адская температура.
Встречались нам деревни. Обыкновенно, несмотря на время, свободное от полевых работ, они поражали пустынностью. Въезжая в них, казалось, въезжаешь на кладбище. Мертвая тишина, стоявшая на улицах, особенно способствовала этому уподоблению. Все живое как бы приникло где-то. Правда, иногда на завалине сидела какая-нибудь воплощенная дряхлость, а около изб копошились ребятишки. Воплощенная дряхлость встречала и провожала нас мутным взором, в котором только и выражалось, что тупое и какое-то неопределенное равнодушие. Ребятишки почти не интересовались нами и, вопреки всякого обыкновения, не травили нас собаками. Даже собаки, и те бродили по улицам с какою-то покорною унылостью и если брехали, то брехали как бы по привычке, нехотя и рассеянно.
Кабаки были пусты. У одного — мы видели толстопузого кабатчика, отиравшего пот с красного лица своего красным ситцевым платком и со скорбию озиравшего приникшую деревню; у другого — худенькая и костлявая целовальничиха сушила на солнце рожь, то и дело подбегая к околице и с каким-то беспокойством оглядывая пустынную улицу. Она, вероятно, боялась воров. Только у дверей третьего кабака увидали мы потребителя. Опираясь руками о притолку двери и широко расставив ноги, он обратил к полю лицо, по которому, мешаясь с пылью, ползли слезы, и пьяным, нескладным голосом орал песню, перемежая ее то руганью, то упреками кому-то. Среди гнетущей тишины, царящей oкрест, песня эта казалась чем-то странно-диким и наводила на душу невыразимое уныние.
И жара, и поля, сожженные солнцем, и невеселые встречи, — все это ужасно утомляло. Я не раз раскаивался в поездке. Семен Андреич тоже сидел возле меня если не грустный, то мрачно сосредоточенный и вообще недовольный.
Но вы еще не знаете Семена Андреича. Пока мы жаримся на палящем июньском солнце, пока вздыхаем и молчим и с тоскою озираем скучные равнины, бесконечной пеленою бегущие нам навстречу, я познакомлю вас с ним. Он не молод, имеет лицо, подобное груше, и под-{262}бородок, подпираемый несколькими этажами слоистого жира. Он широк в кости, приземист и смотрит ясно. Эта ясность порою конфузит. Неприятно ощущать в человеке отсутствие недоразумений. В Гундрикове недоразумений не было. Это была замечательная голова. Он давно еще, в незапамятные времена своей юности, подвел итоги, вывел баланс, устранил всевозможные «иксы» и теперь поживает себе, ничем не смущаем.
Он коллежский асессор и любит, чтобы на адресах величали его "вашим высокородием".
В практической своей жизни он подчиняется судьбе. Это успокаивает. Обыкновенно он не силится уразуметь факты, он их только констатирует. Околевают ли у него овцы, дохнут ли дорогие заводские лошади, пропадает ли пшеница, он на все на это наклеивает подлежащие ярлычки и сдает в архив. На практике ум его не ведает обобщений. Каждый факт, имеющий место в практической, обыденной жизни, представляется ему фактом уединенным и беспричинным.
Он любит нюхать табак и нюхает очень хороший. Когда нюхает, то не чихает, а как-то особенно внушительно поводит носом. Впрочем, он и вообще внушителен. Движения его медлительны и плавны. Это, однако ж, не исключает способности его горячиться. В противность плавным и медлительным движениям, говорит он и не плавно и не медлительно. Мера гороху, просыпанная на лист железа, дает некоторое уподобление его речи.
Он — управляющий гг. Дурманиных. Гг. Дурманины живут за границей. Они довольны Гундриковым. Гундриков не ворует (то есть не ворует нагло). Гундриков хотя упорно отрицает интенсивное хозяйство, зато, не гоняясь за журавлями в небе, крепко держит в руках синицу. Дурманинские мужики по его милости на малом наделе. Кроме того, их окружают господские земли. Видали ли вы мышонка в когтях у кошки? Гундриков справедливо полагает, что при таких условиях интенсивное хозяйство излишне. Оно требует затрат и лучших климатических условий. Вместо этого баснословно дешевым трудом он возделывает трехполку.
Как и подобает коллежскому асессору — он горд. За вечным отсутствием гг. Дурманиных спина его закаменела. Поклоны его были величественными поклонами. {263} Пожатие своей руки, в простоте, душевной, он считал милостью. Другой мой сосед, Чухвостиков, величал его Навуходоносором. Чудак!
Впрочем, Семен Андреич справедлив. С его стола не сходят судебные уставы 1864 года (в роскошном переплете и с надписью золотом: Правда и милость да царствуют в судах). Все, что он делает, делает он не иначе, как на основании надлежащих статей. Он любит точность. Он не берет лишнего, но берет по закону. Если в условии с мужиком помещена неустойка в пятьдесят рублей, он довольствуется пятидесятью. "Я люблю правду", — говорит он в таких случаях. Это мирит его с тем, что он имеет привычку называть своею совестью.
Семен Андреич считает себя хорошим человеком. Он даже добр. Сынишка его в классической гимназии, а у дочурки имеется француженка с легитимистским направлением. Он вдовый и нанимает экономку.
И однако как теоретик он — фантазер. В противность его обыденным понятиям, факты в теории обобщаются у него с поразительным легкомыслием. Вот почему проекты, один другого нелепей и один другого затейливей, кружат его голову, чуть только он отрешится от действительности. Проекты преимущественно касаются политики. В свободные минуты любимым занятием Семена Андреича бывает раскрашивание географических карт. Пером на белой бумаге он обводит силуэт Европы и Азии и затем произвольно проводит границы государств. Россию он окрашивает в желтое (цвет рублевой бумажки). Желтая краска простирается на картах Семена Андреича от Пекина до Константинополя. Семен Андреич патриот и не жалеет желтой краски. Но он скупится на синюю. Синяя означает немцев. Немцев он не любит. Немцам было тесно на его картах. Стиснутые между долиной Шпрее и Рейном, бедняги задыхались. Густая желтизна заполоняла их придунайские, галицкие и познанские угодья. Эта желтизна доходила вплоть до Берлина. "Все это наше исконное", — говорит Гундриков и ссылается на победы императрицы Елизаветы.
К французам он благоволит. Им он отдает все — от Альп и до моря, от Рейна до Пиренеев. "Пущай их!" — благодушествует он, а когда доброту его устрашают коммуной, то грозно хмурится и тычет указательным пер-{264}стом на синюю неметчину. В неметчине он олицетворяет будочника.
Турок почти вовсе отсутствует на картах Семена Андреича. Только после тщательных наблюдений вы могли бы заметить зеленый треугольник, изображающий Турцию. Треугольник этот величиною не превосходит блоху и ютится где-то в глубине каменной Аравии, позади ярко желтеющей Палестины.
И, между тем, фантастичность политических помыслов Семена Андреича не исключала ясности. Принципиальная сторона раскрашивания не затемнялась недоразумениями. Как правда и совесть воплощались для Гундрикова в такой-то статье "Устава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями", так равно и фантазия его имела строго и, главное, однообразно установленные пределы. "Все нам: нам моря и реки, нам Прагу и Константинополь", — вот что составляло практическую подкладку Семен-Андреичевой фантазии и служило ей пределами. Повторяю, и здесь для него не существовало недоразумений. Вопрос казался ему ясным, наподобие годового конторского отчета.
Надо отдать ему справедливость, он имел чутье. Он был немножко славянофилом. Он один из первых оценил "Новое время". Я помню его радость по этому поводу.
…Но возвращусь к рассказу.
Итак, я молчал, а Семен Андреич сидел возле меня мрачно сосредоточенный и недовольный. Уж на половине дороги, когда мимо нас бежало просяное поле, страшно скудное и страшно поросшее сорными травами, спутник мой встрепенулся и нарушил молчание:
— Да. Так я вот и говорю… (он до сих пор ничего не говорил) все так-то у нас!.. Австрия ежели претерпевает, мы ее выручаем, Францию тоже выручаем, а вот страдает свой брат, мы и ухом не ведем…
— Это вы насчет чего же? — спросил я, несколько удивленный темою разговора.
— А насчет славян все… Вы не поверите: сердце болит!.. Помилуйте-с, страдают, гибнут, дерутся, а мы… Мы молчим!.. Скорбит, Николай Василич, скорбит душа моя…
— Что же нам, по-вашему, делать?
— Нам-с? Хе-хе… Дела наши простые-с… Дела наши очень даже незамысловатые должны быть-с. Глядите {265} сюда, я вам сейчас это объясню. Вот Дунай, смотрите! — Семен Андреич выставил свое жирное колено и многозначительно похлопал по нем рукою. — Это будет Дунай. Теперь ваше колено пускай означает Константинополь. Вот Австрия. Вот Азия. — Гундриков указал на козлы, где восседал кучер Григорий, и на край тарантасного кузова. — Отлично-с. Теперь представьте себе армию в восемьсот тысяч человек. Представили? Очень хорошо. Делим эту армию надвое: пятьсот тысяч отдаем Черняеву, триста — Комарову. Не забывайте, что это Дунай, подтвердил Гундриков, хлопнув по колену. — Теперь соберите вы все восемьсот тысяч в один стан…
— Где же?
— Ну, где-нибудь, ну, положим, в земле Войска Донского; это будет земля Войска Донского, — он указал на конец своего прекрасно вычищенного сапога. — Я, разумеется, за идею. Масса, так сказать, должна быть вдохновлена. Итак, я всепокорнейше обращаюсь к Иван Сергеичу и к Алексей Сергеичу. Действуйте, Иван Сергеич и Алексей Сергеич! — говорю я… И тот и другой набирают массу славянофилов и прибывают в стан. Там уж повсюду, знаете ли, хоругви, эстрады ("вышки" — в скобках перевел Семен Андреич), колокола, крики «ура» и «живио». Прекрасно. Начинаются речи. Идея проникает солдатские организмы. Представьте себе, армия движется одним чувством идти и умереть. Пользуюсь моментом. Эйн, цвей, дрей, налево кругом, ма-арш!.. Не забывайте, что это Дунай, — еще раз напомнил мне Гундриков, указывая на колено. — Армия идет, Комаров идет, Черняев идет, Иван Сергеич и Алексей Сергеич говорят речи, музыка гремит "Славься сим Екатерина" (непременно "Славься сим", — настоятельно повторил он), — хоругви развеваются по ветру, солдаты ликуют… Дунай! Черняев перешагнул, Комаров в резерве. Турки бегут. Австрия разбита (о, эта Австрия большая каналья). Славяне освобождены. Акт присоединения торжественно совершается в святой Софии. Иван Сергеич — наместник Болгарии, Алексей Сергеич — сатрап Македонский… Помилуйте-с, превозвышенные дела!
Пекло так сильно, что мне и возражать не хотелось. Я промолчал. А между тем Гундриков горячился. Он за-{266}сел на любимого конька и теперь летел на нем, не смущаемый жарою.
— Помилуйте-с, что же это такое! — восклицал он. — Двадцать лет, целых двадцать лет мы сидим дома… Ведь у нас совсем и слава извелась… Да, положительно перевелась слава. Что мы, в самом деле, или уж взаправду мужицкое царство? Нет, не мужицкое мы царство, а царство военное-с, и на этой точке стоять должны твердо…
— Что же по-вашему — воевать?
— Воевать! — воскликнул Семен Андреич. — Всенепременно воевать!.. С нашим народом да не воевать? Помилуйте-с… С нашим народом и дел других подходящих нету, кроме как воевать… Представьте себе, что такое наш народ? Да железо, кремень, устой гранитный!.. Вспомните, что Наполеон о солдате-то нашем сказал? а!.. А вы толкуете…
И, помолчав, продолжал даже с некоторой сладостью:
— Нет, Николай Василич, наш народ знать надо-с!.. Ох, до тонкости нужно знать наш народ!.. Суворовы, Филареты, Погодины, — это, батенька, не шутка. Наполеон говаривал, что-де поскребите русского, татарин будет. Нет, брат, поскреби-ка его, попытайся — ан и увидишь, герой в нем сидит… В каждом русском, в каждом мужике сиволапом герой сидит!..
В это-то время мы поравнялись с тем кабаком, у дверей которого пьяный мужик орал песню.
— Вот вы глядите на него, — указал мне Гундриков, — пьян до того, каналья, на ногах чуть держится, а дайте-ка вы ему штык в руки да закричите "ура"? — он вам не токмо турка, черта протурит в Азию… Ведь чем он дорог, русский человек? Простотой своей, батенька, дорог. Теперь возьмите вы солдатскую точку зрения. Представьте вы солдата-немца. Хорош солдат-немец, да привередлив больно. И елку ему, шельме, устрой, и сапоги с подметками предоставь, и колбасой его, ракалиона, начини… Совсем неподходящий человек!.. Ну, и представьте себе — француз. Француз тоже прихотливый человек. А ведь нашему-то чем меньше жратвы давать, тем он ядовитей становится!.. Соли у него нет — порохом солит, мяса нет — конину кушает. Сухарь ежели с песком у него — он храбр, а ежели окончательно гнилой — он еще храбрее. Вот ведь чем дорог-то он, русский {267} человек, — логикой-то своей он дорог! Совсем необыкновенная у него логика. Так с этаким человеком да не воевать — помилуйте-с!.. Я и говорю: воюй, покуда не изнежился он, покуда сапог да колбасы не запросил… и это пуще всего!..
И на этот раз не возразил я Семену Андреичу.
— Или опять, говорят иные, немец умен, — продолжал он, как бы внутренне раздражаемый моим молчанием, — о господи ты боже мой! а русский-то — или вы забыли? Представьте себе сметку русскую, представьте вы изворотливость нашу, наше знаменитое "себе на уме"!.. Да недалеко нам за примером ходить, возьмем мы в пример вот мельника этого, к которому едем, человек он скотоподобнейший, а такую штуку удрал — Ньютон позавидует…
— Какую же штуку?
— А простую штуку. Вот ныне у нас как есть настоящий голод, а в прошлом году родилось просо. Представьте вы себе: ничего не родилось-одно просо родилось. Ну, и начал он по осени просо это скупать. Больше ничего, как скупать! Дела все бросил, а одно — скупает просо и шабаш. Ну, и дешево скупил. А нынче с весны пшено стал работать. Штука простая. Ну, и представьте себе, что он с этого проса нажил?
Гундриков смерил меня торжествующим взглядом.
— А двадцать пять тысяч, батенька, нажил, да еще, пожалуй, десять наживет. Вот оно как… У других мельницы стоят — работы нету, а он прошлогоднее просо рушит себе полегоньку да сплавляет в Москву. Больше и делов у него никаких нет — рушает и сплавляет. Штука простая… Пятьсот рублей от вагона берет!.. Так-то, батенька вы мой. Вот какие у нас народы!..
Он помолчал в некотором раздумье, но затем снова как бы спохватился:
— Да его ли одного взять… А Чумакова, Праксел Алкидыча, вспомните, министр ведь, положительный министр. Да все они министры, — в каком-то восхищении воскликнул Гундриков, — и не кулаками обзывать их, а именно министрами… Какой он кулак, помилуйте-с! Он умственный человек. Он, ежели дать ему простор, Бисмарка за пояс заткнет… Он, ежели ему удержу нету, не {268} токмо Турцию, всю Европу в катух оборотит. Он и немца вашего выжмет, это будьте спокойны!..
Тут Семен Андреич снова как бы спохватился и голосом, даже звенящим от радости, произнес:
— Да вот опять недалеко ходить — Малафейка кабатчик. Я вот вам расскажу про этого Малафейку! Повадилась к нам берлинская немчура ездить свиней скупать. Ну и, представьте себе, влез к этой немчуре Малафейка в доверие. Переводчик у них есть, а местов они наших не знают: где свиньи, где что… Малафейка их и водит по местам. С них за комиссию рубль, с продавца за комиссию два. Ну и повел он дело это так оборотисто, что берлинцы-то ездить к нам перестали, а Малафейка землю купил да по второй гильдии записался. Вот оно как бывает, батенька, а вы говорите — немец! Далеко немцу до нашего брата серячка…
Для деликатности я почел, наконец, долгом помычать. При некотором желании мычание это могло быть принято и в смысле одобрительном. В этом последнем, по всей вероятности, принял его и господин Гундриков. Он сладко и свободно вздохнул, расправил колено, изображавшее Дунай, и в виде заключительной сентенции произнес:
— Ну, я и говорю, дайте вы этому самому Малафейке простор, разрешите вы ему распоясаться, представьте себе: распоясался Малафейка — так он вам не токмо Махмутку-султана, Меттерниха, если бы жив был, с костями слопает.
Наконец мы приехали.
Собственно Криворожьем называлось село; мельница же, куда мы и держали путь наш, была за селом у большого широкого пруда. Благодаря ли влажности, непрерывно проникавшей воздух около воды, но, подъезжая к мельнице, мы, как бы по уговору, испустили радостный вздох. Посреди спаленных нив и тоскливых деревень с полузасохшими ракитами мельница казалась каким-то раем. Густые купы ветел окружали ее со всех сторон и длинным рядом тянулись по плотине. Красные крыши мельничных построек весело выделялись среди сочной и темной зелени этих ветел. Вода подступала к самым постройкам и, горячим блеском сверкая на солнце, под тенью густой листвы отливала изумрудом. Здесь и там, {269} около берегов и посередине пруда, с сонной неподвижностью зеленел камыш.
На мельнице было тихо. Только вода из скрыни, с каким-то меланхолическим журчанием падая на колесо, нарушала эту тишину, да изредка в одном из амбаров глухо стучали толкачи, через долгие перерывы тяжко низвергаясь в ступы.
Не было видно ни души. Правда, при нашем въезде на двор мельницы и при дребезге нашего экипажа высунулась какая-то голова из дверей одного амбара и загремела цепью лохматая собака, но голова снова спряталась, а собака, погремев цепью, отчаянно зевнула и опять скрылась в свое логово.
Тень старых, развесистых ветел скрывала весь двор мельницы. Было свежо и даже несколько сыро. Мы с наслаждением вдыхали этот прохладный воздух, который нам, пекшимся на солнце в продолжение добрых двух часов, казался истой благодатью.
— Ла-за-арь! — наконец воскликнул Гундриков, не вылезая из тарантаса.
Никто не ответил на громкий возглас. Семена Андреича даже зло разобрало.
— Лазарь! Черт! Парамоныч! — закричал он. На этот раз из амбара вылез человек, весь обсыпанный мучною пылью. Он лениво почесал лопатками спину, оправил ремешок на спутанной голове и не спеша пододвинулся к нам.
— Вам кого? — вяло осведомился он. Независимый вид его и совершенное отсутствие какой бы то ни было почтительности почему-то рассердили Семена Андреича.
— Представьте себе, спрашивает, а? — обратился он ко мне, гневно разводя руками, и затем закричал: — Черта нам, дьявола нам нужно, понимаешь, а? свинья, — кому говоришь, кого спрашиваешь? Лазарь где? Где Лазарь?
Пыльный человек слегка подтянулся, но особой предупредительности не обнаружил.
— Это, то ись, вам Парамоныча надоть? — спросил он.
— Да, то ись, Парамоныча нам, — саркастически ответил Семен Андреич, еле сдерживая негодование.
— А Парамоныч в роднике сидит, — равнодушно ответствовал пыльный человек. {270}
— Купается?
— Чай пьет.
— Вот свинья! — сорвалось у Гундрикова.
— Зачем же его в родник-то занесло? — спросил я.
— Жара, от жары спасается.
— Ну, а супружница где?
— Устинья Спиридоновна?
— Да.
— И Устинья Спиридоновна в роднике.
— И она чай пьет?
— И она кушает.
— Ах, дуй вас горой! — плюнул Гундриков и полез из тарантаса.
— Стало быть, и она в воде? — спросил я.
— Как способней. Больше на бережку.
Успокоенные этим "больше на бережку", мы расспросили, где родник, и, отдавши Григорию необходимые инструкции, отправились туда. По уходе нашем со двора мельницы там послышались голоса. Я остановился и прислушался. Один из голосов принадлежал бабе и, видимо, был встревожен.
— Мартишка! — взывал он торопливой скороговоркой, — ай управитель приехал?
— А шут их тут! — флегматично ответствовал пыльный человек, оказавшийся Мартишкой.
— У, оморок!.. Из себя-то пузат?
— Пузо — ничего.
— Сердит?
— Серчал. Ругается здорово.
— Ну, он и есть. Ахти мне окаянной — утятина-то у меня перепрела!.. Куда поперся-то?
— К роднику,
— Один?
— Двое.
— А-а-а… Кто же другой-то буде?
— А шут их тут…
— Какой он из себя-то — рыжеватый? — горячо подхватил бабий голос.
— Рыжеватый-то он рыжеватый.
— Длинноватый?
— Тоже как будто есть… {271}
— Ну, знаю, знаю. Это дьякон с Лущеватки! — затараторила опрометчивая баба.
— Еще чего? — угрюмо оборвал Мартишка бабу и затем, посулив ей некоторую неприятность, медленно поплелся в амбар. Его, видимо, разозлило легкомыслие бабы. Впрочем, не доходя до амбара, он остановился и в свою очередь покликал ее:
— Степах!
— Чего тебе?
— Так перепрела, говоришь?
— Утятина?
— Утятина.
— Ох, перепрела!
— Тэ-эк…
Они немного помолчали.
— Степах! — произнес Мартишка, вдруг ниспуская голос свой до тонов слабых и мягких.
— Ну?
— Ты ее тово… Волоки-ка ее в амбар.
— Утятину? — удивилась Степаха.
— Утятину…
— Ах, нечистый тебя расшиби!
Послышался тихий, раскатистый смех. Степаха, захлебываясь этим смехом, еще раз в изнеможении повторила: "Ах, нечистый тя… Ишь что обдумал!.." и затем все смолкло.
Родник, где утешался чаем Лазарь Парамоныч, отстоял от мельницы минут на пять ходьбы. Кругом скрытый густыми деревьями, он долго был не виден нам. Мы шли, шли по бережку ручья, вытекавшего из-под мельничных колес и, наконец, стали в тупик.
— Откликнись, Лазарь, где ты? — несколько раз взывал Гундриков, и, кажется уже на пятый возглас, Лазарь откликнулся. Руководимые откликом этим, мы тотчас же пришли к роднику. Оригинальная картина предстала пред нами. Родник был превеселое место. Вообразите вы полукруглую котловину, примыкающую к ручью. Берега этой котловины круты и обрывисты, и только внизу, у самой воды, окаймлены пологой почвой, усеянной свежею травкой и цветами. Песчаное дно котловины, выше колена покрытое дивно прозрачной водой, белизною подобно снегу и мягкостью напоминает бархат. Громадные белые {272} камни, похожие на стволы, лежат в воде. Из-под них стремительно бьют ключи. Кругом котловины зеленеют молодые кудрявые дубки, а противоположный берег обступают густые ивы.
На одном из камней, рассеянных по котловине, ярко сверкал самовар. Мужская фигура, скрытая водою по грудь, спокойно сидела на песчаном дне и с аппетитом попивала чай. Это и был сам «скотоподобнейший» мельник Лазарь Парамоныч. Все изгибы его тела, пышного и рыхлого, как тесто, ясно обозначались в прозрачной воде. Толстые лохматые ноги, жирные складки около бедер, круглые выпуклости груди, плечи, подобные подушкам, гладкая, салом заплывшая спина — все это лезло в глаза с какой-то первобытной бесцеремонностью. Лицо было достойным продолжением остального. Оно имело какой-то бабий облик и даже поражало своим благолепием. В нем было что-то херувимское. Пышные щеки, теперь подернутые синевою, но вне воды несомненно румяные, маленький голубиный носик, волнистая светло-русая бородка, красиво посеребренная сединою, такие же красивые серебристо-русые кудри на голове и, наконец, кроткие, сладко-задумчивые глазки, — все привлекало в нем. Прибавьте к этому мирную и как бы младенческую улыбку, почти не сходящую с полных, женоподобных уст Лазаря Парамоныча. Присовокупите к сему голос его, нежный и плавный, его вкрадчивый и как бы рассыпчатый мелкий смех, и вы, конечно, с негодованием отринете то уподобление скоту, которое любил пускать в ход господин Гундриков, толкуя о свойствах криворожинского мельника.
Супруга Лазаря, расположившись на травке, вязала чулок. В противоположность мужу, она была худа и костлява. Черты ее длинного матового лица выражали энергию. Глаза, осененные густыми бровями, смотрели умно и строго, но в складках толстых губ замечалось добродушие.
Увидав нас, она не спеша отложила свой чулок и пошла к нам навстречу. "Дитятко-то мое тешится!" — с снисходительностью сказала она, здороваясь за руку с Гундриковым и низко кланяясь мне.
— Ах, старые вы черти! — восклицал Семен Андреич. — Что ты, Спиридоновна, повадку-то даешь ему? {273}
— Уж обычай у него таков, батюшка Семен Андреич, — отшучивалась мельничиха.
Лазарь радостно, но без наглости гоготал и, наливая новую чашку, убеждал и нас последовать его примеру.
— Обычай-то обычай, да обычай-то бессовестный, — не одобрял Гундриков.
— Ох, жара-то истомила, сударь, — отозвался Лазарь в тоне почтительной фамильярности, — а уж в ключе-то то ли не благодать… Полезайте-ка за компанию… У меня, как жарынь, первое дело — в воде чай пить. Страсть помогает!
— Ну, пей, пей! — благодушно согласился Гундриков, — дотягивай самовар-то, мы тут на бережку посидим! — и, обращаясь ко мне, добавил: Ведь ишь обдумал, каналья, а толкуют, русский комфорту не понимает…
Устинья Спиридоновна поспешно уходила.
— Куда ж ты, мать?! — закричал ей Лазарь.
— Ну, уж не твоя-то печаль, — возразила она, — ты вот дохлебывай чай да веди господ-то.
— Ну, ну. Эх, министр ты у меня, баба! — одобрительно посмеиваясь, произнес Лазарь. — Ведь мы вас, сударь, часа два поджидаем, — заметил он Семену Андреичу.
Теперь только я понял, почему у Степахи утка перепарилась. Мы были гости не случайные, а жданные.
Наконец Лазарь поспешно проглотил остатки чаю и вышел из воды. Семен Андреич познакомил меня. Разговор тотчас же перешел на жару, на засуху. Лазарь оделся; одеваясь, поговорил, пожалел "черный народ", который, по его словам, "отощал, почитай что в отделку"; затем тщательно провел маленьким роговым гребешочком по волосам головы, осторожно расправил бородку и, дав нам докурить, пригласил на мельницу.
Но хрустальная вода родника соблазнила нас. Мы решили искупаться. Лазарь одобрил наше решение и, упрекнув в давешнем упрямстве, предложил приготовить на камне самоварчик. От самовара мы отказались. Лазарь был так предупредителен, что хотел снова раздеться и лезть с нами в воду, но Семен Андреич великодушно отклонил эту предупредительность. Мы стали купаться вдвоем. Несмотря на то, что вся почти котловина была открыта солнцу, вода в роднике была очень холодна и {274} казалась ледяною. Она даже щипала тело. Подивился я «обычаю» Лазаря пить в такой воде чай. Но освежало купанье действительно отлично. Оно как-то стягивало мускулы, делало их терпкими. Голова свежела. Дышалось легко. Энергия возбуждалась настойчиво.
На мельнице ждал нас обед. Стол, накрытый грубой скатертью, стоял в маленькой, но прохладной комнатке, открытые окна которой выходили на двор, темный от тени ветел. Иногда по листве этих ветел пробегал ветерок, и тогда легкий шум проникал в комнату. Тонкая струйка воды, сочась по колесам мельницы, издавала серебристый меланхолический звук.
Мы сели за стол и в торжественном молчании ожидали появления яств. Желудки наши, возбужденные купаньем, казалось, чутко готовились к восприятию этих яств. Лазарь с нетерпением потрясал коленом. Наконец дверь распахнулась, певуче заскрипев на своих давно не смазанных петлях, и в ней показалась мельничиха. Добродушное выражение ее губ, казалось, усугубилось, строгие глаза светились ласковой величавостью. За ней появилась кухарка (после я узнал, что это и была Степаха). Благоговейно держала она в своих толстых, до локтя заголенных руках огромное дымящееся блюдо. Жирные щеки ее дрожали от какого-то внутреннего напряжения и пылали подобно раскаленной меди. Из маленьких, заплывших щелочек выглядывали готовые засмеяться глаза. Масленые губы корчили степенную улыбку. Белоснежная завеска так плотно облегала пышную грудь ее и круглые, мягкие плечи, что казалась натянутой через силу.
— Просим покорно дорогих гостечков хлеба-соли откушать! — церемонно возгласила Устинья Спиридоновна и отдала нам по глубокому поклону.
Мы с подобающей чинностью засели за стол. Обед начался и длился целых два часа.
Уже не помню, с какого блюда начался этот обед. Не могу сказать с точностью и о том порядке, в котором появлялись блюда последующие, им же не было числа. Помню одно, — что все подаваемое было чрезвычайно вкусно, хотя и чрезвычайно же обременяло желудок. Но аппетит наш, поощряемый радушием хозяйки, не унывал. Теперь, припоминая разнообразнейшие блюда, имевшие место в обеде нашем, я только одному удивляюсь, — ужели всем {275} блюдам этим делали мы честь? А это было так. За курятиной холодной следовали гусиные полотки, за ними горячая буженина, потом поросенок под сметаной, и все побывало в желудках наших. Не унывали мы и перед лапшой из курицы, и перед лапшой молочной, и перед супом из потрохов, и перед щами из свежины. Жареный гусь, жареный поросенок, жареная индейка не имели претензий обижаться на нас. Была честь и блинцам, жирным, горячим блинцам с холодною сметаною. Ели и круглый пирог с земляничным вареньем. Кушали и нежные розанки.
Изо всей этой массы съедобного как сейчас помню жареного поросенка. Это было какое-то чудо кулинарного искусства. Жирное и белое, как кипень, мясо этого чуда имело какое-то подобие сливок. Дивно зарумяненная корочка так искусно была зажарена, что хрустела на зубах наподобие бисквита. Нежность и сочность, хрупкость, соединенная с мягкостью, и красота как бы наливных и слегка подрумяненных боков — все очаровывало в поросенке. Но этим еще не кончалось. В жирном и горячем нутре его хранилась каша, и что это была за каша! Предварительно поджаренная на сковородке и смешанная с мелко изрубленной гусиной печенкой, она вся насквозь была проникнута вкуснейшей и ароматнейшей влагою. Во рту она таяла…
Буженина тоже отличалась невероятными свойствами. Когда открыли то подобие кастрюли, в котором покоилась буженина эта, то из нее хлынуло нечто до того подмывающе-аппетитное, что вожделения желудков наших напряглись до последней степени.
С уткой вышло недоразумение. Дело в том, что вместо ожидаемой утки появился гусь. Утка пропала. По этому поводу у мельничихи с Степахой были в соседней комнате какие-то объяснения. Мало того, даже вызывался туда сам Лазарь. Но утки все-таки мы не видали. Лик Степахи являл смущение. Вероятно, она окончательно перепарила утку. Оказалось не то; но об этом после. После жаркoго дела были в таком положении: дыхание спиралось, в желудке чувствовалась невероятная тяжесть, взгляд становился неподвижным и рассеянным, в голове воцарялся туман. {276}
Но впереди предстояло еще испытание. Перед нами появились кипы тонких ноздреватых блинцов. При виде этих кип у меня сначала настойчиво поднялось было негодование. Но, убежденный хозяйкой, посмаковал я один блин и… оказались не блинцы, а блаженство. Представьте себе тончайшее кружево из нежного подрумяненного теста, насквозь пропитанное душистым сливочным маслом… И вот это-то жирное, жгучее кружево опускалось в холодную, как лед, и густую, как варенец, сметану. Впечатление получалось поразительное. Кипа таких кружев, добравшись до рта и передав подлежащим нервам невероятную смачность свою, казалось, сама собою лезла дальше; а в это время рука, как бы повинуясь инстинктам прожорливого желудка, тянулась за новой кипой.
Ели мы трое. Устинья Спиридоновна не садилась и в том и время проводила, что угощала нас. Но зато угощала мастерски. В лице ее на меня повеяло чем-то как бы древнерусским. Весь ее добродушный, располагающий облик, ее умное и кстати сказанное слово, ее настойчивая, но, несмотря на настойчивость, не надоедливая ласка, — все это как нельзя более и как нельзя лучше способствовало и аппетиту нашему и великолепному расположению нашего духа. Зоркий глаз ее неусыпно следил за нашими тарелками. Стоило лишь на мгновение задуматься вам над горою жирного гуся с капустой или над доброю третью круглого пирога, как уж она вмиг появлялась около вас и, с добродушной улыбкой на ясном лице, с меткой и как нельзя более идущей к делу пословицей, уговаривала-таки вас не смущаться ни перед гусем, ни перед пирогом. И вы действительно не смущались. Не смущались, ибо видели, что речи Устиньи Спиридоновны не заказные речи, а именно душевные, искренние. Казалось, вся ее душа переселялась в одно желание: обкормить нас до невозможности.
Я уже сказал, что она напомнила мне собою что-то древнерусское. В ней действительно было пропасть того, что славянофилы называют исконными свойствами народа русского. Начиная от лица ее, простого, но и в самой простоте своей величавого, начиная от ее незамысловатого костюма из синей китайки и грубых, с медными шпильками котов, все обличало в ней эту исконность. С тягучей {277} и важной интонацией речь ее, пересыпанная образными уподоблениями и бесчисленными пословицами, так и переносила вас в какую-то новгородскую глушь, где в чистоте и неприкосновенности и по сих пор, может быть, цветут еще святорусские идеалы.
Если Устинья Спиридоновна наблюдала за пищей, Лазарь Парамоныч не оставлял без внимания вино. После каждой перемены рюмки наши аккуратно наполнялись, и в них то рубином сверкала вишневка, то желтела янтарная рябиновка. Наливка, как и все, была превосходна. По густоте она походила на ликер, но без приторной сладости последнего. Прозрачна была, как слеза, и крепостью уподоблялась хорошему токайскому. Но, вероятно по причине ужасного количества истребленной нами пищи, наливка эта плохо действовала на наши головы. Совсем не то было с Устиньей Спиридоновной. Заметно, она любила выпить. А так как пила она вровень с нами, с тою только разницей, что мы ели, а она нет, то к концу обеда ее и разобрало. Но это, впрочем, выказывалось лишь несколько преувеличенным радушием да какой-то особенной певучестью тона.
— Ох, уж и кушайте вы, дорогие гостечки, приневольтесь собою… причитала она, подсаживаясь то ко мне, то к Семену Андреичу и устремляя на нас преувеличенно ласковые взоры. — Не пожалуйтесь про нас домашним: "Зазвал-де Лазарь гостей глодать костей…"
— Довольны, Спиридоновна, довольны! — отвечали мы.
— Гость доволен, — хозяин рад… А вы все-таки приневольтесь, милые… Вот ребрышко-то! Кашка-то!.. Крылышко-то!
— Сыты, Спиридоновна, сыты!..
— Против сытости не спорим, а бесчестья на хозяина не кладите… Ох, не кладите, гостечки, бесчестья!.. Лучше ж вы нашу речь послушайте: приневольтесь, скушайте!.. Коли пировать, так не мудровать… То-то вот горе-то наше: больше мы рады, чем запасливы… Не обессудьте, гости дорогие: повинна я вам, старая кочерга, душой-то бы рада, да приспеть-то уменья нет… К пище-то вы приобыкли к господской, к напиткам-то дворянским, а у нас, у мужиков, одна еда: жарено да парено…
Вообще, подвыпивши, мельничиха обнаружила некоторое поползновение к комплиментам, на которые и мы, {278} конечно, не скупились; да и нельзя по совести нельзя было скупиться.
Обед почти не прерывался посторонним разговором. Все, что мы говорили, имело непосредственное отношение лишь к съедобному. Только опять-таки к концу обеда этот невольный церемониал почему-то смягчился, и сама строгая блюстительница его, Устинья Спиридоновна, навела речь на предметы посторонние. Дело пошло с того, что Лазарь, с немалою скорбию, посетовал на засуху, но и посетовал лишь потому, что она, засуха эта, лишала его крупных барышей, ибо по ее милости вода спала и мельница почти перестала работать. Мельничиха и договорить ему не дала.
— Ох, не скупись, ох, не поддавайся жадoбе, Лазарь, — горячо и настойчиво заговорила она, — али не упомнишь, откуда произошли? Из смердов ведь произошли-то мы… В старину ведь так бывало — лаптишек не хватало… Три кола-то вбито да небом покрыто — вот и жилье… Платья, что на себе, бывало, а хлеба, что в себе… Прямо сказать: жили в тоске, а спали на голой доске, пили квас и квас хлебали, с крохи на кроху переколачивались… Ерзнул бы, бывало, по лавке, хошь в старой однорядке, да и той не было!.. Ноне, слава великому господу, живем припеваючи… одна, рука в меду, другая — в патоке… Сообразись, Лазарь, али в чем недостача у нас! Дом — чаша полная! Али почету нету — вся округа шапки ломает… Чего еще? Теперь одно, Парамоныч, держи свой порядок крепко, на корысть не падай… Старые люди говаривали: мамон гнетет, так и сон неймет… И опять я тебе скажу: лучше жить в жалости, чем в зависти!
— Да я разве что… — оправдывался мельник. — Я только одно говорю: то не извоз, коли в путину на кнут не заработаешь…
— Не морочь! — даже с сердцем вскрикнула Устинья Спиридоновна, но затем, помолчав немного, снова в трогательном тоне продолжала: — Эх, Лазарь, не о хлебе едином…
— Будет сыт человек, — добавил Гундриков, поспешно проглатывая кусок пирога. Он все время не сводил сладостного взора с мельничихи.
— Вот видишь ты, не о хлебе едином сыт… Не об воде заботься, милый, — заботься о бедных; при сытости помни {279} голод, при богачестве убожество… Так ли я говорю, гостечки дорогие? — обратилась она к нам и даже прослезилась немного.
— Так, так! — закричали мы, а Лазарь, как бы приведенный в смущение, поник головою и едва слышно лепетал:
— Да разве я… О господи!
— Мы теперь пируем вот! — все более и более приходя в пафос, продолжала речь свою Устинья Спиридоновна, — а гляди, в Криворожье с голоду корчатся… Давно ведь там: чего ни спроси, всего ни крохи… Ведь по правде-то, в селах стало только и ходу, что из ворот да в воду — ни задавиться, ни зарезаться нечем… Известно — голь мудрена и без ужина спит… А все бы и об ней надо подумать, об голи-то. Голь вздыхает — сытому отрыгается…
— Да разве я что… О господи… да я хоть сейчас! — восклицал Лазарь, все возвышая голос, и вдруг вскрикнув как бы поющим от какой-то внутренней боли голосом: — К черту барыши, без барышей век промаемся! — прежестоко ударил по столу кулаком.
Произошло замешательство. Но Устинья Спиридоновна сделала строгий выговор Лазарю, и Лазарь утих. Он, видимо, смирялся перед женою. Она как будто подавляла его. И когда все успокоилось, она снова начала:
— Достатков у нас хватит: маленькая добычка, да большой бережь — век проживем; а ты вот, Лазарь, чем об воде-то печалиться, послал бы малую толику отцу Кипру, он бы, отец-то Кипр, и роздал по бедняйшим. Не хвались серебром, хвались добром, говорит пословица. От честной наживы бог жертву любит, милый ты мой… злато-серебро сумой у нас не пахнет — все накоплено вольным торгом да честным трудом… Не обмерено, не обвешено, с росту не награблено! — Все последнее Устинья Спиридоновна произнесла, видимо, для нас, и произнесла с гордостью.
Обед кончился прямо умилительной сценой: подвыпивший Лазарь, воскликнув: "Правда твоя, баба моя сердечная, Устинья Спиридоновна!" распахнул поддевку и, выхватив из бокового кармана туго набитый бумажник, вынул оттуда две сторублевых. {280}
— Пусть идут к отцу Кипру! — сказал он, причем и глаза и лицо его изъявили какое-то беззаветное молодечество. — Зови Мартишку, пусть везет к отцу Кипру… Мы за этим не постоим!
Явился Мартишка.
Лазарь подошел к самому лицу Мартишки и, шелестя перед его носом деньгами, сказал:
— Вот видишь две сотельных? Гляди сюда: вот одна, вот другая… Теперича садись ты на буланого и катай к отцу Кипру. Духом скатай! Подашь ты отцу Кипру деньги и скажешь: Лазарь, мол, Парамоныч поклон тебе шлет, слышишь? Это первое дело. Второе дело, жертвует, мол, Лазарь Парамоныч от своего богачества на убогих две сотельных и чтоб не иначе, как через отца Кипра. Понял?.. Да ты гляди на меня, аль рожу-то тебе свело!.. Хе-хе-хе… У меня, голубь ты мой, дельце до тебя малое есть — посчитаться бы нам надо с тобой, ну, да уж катай в Криворожье, ужо сочтемся…
Лазарь Парамоныч, с какой-то милой ехидностью, ткнул несколько смущенного Мартишку в живот и, передав ему деньги, проводил его.
Мы с Семеном Андреичем были поражены. Не знаю, заплакал ли я, но по лицу Гундрикова текли слезы. Он в каком-то немом восхищении хлопал глазами и прерывающимся шепотом произносил:
— О, вот они, исконные начала… О, вот они, доблести святорусские… Вот где родник неумирающей самобытности… О, Русь святая! Какое сердце не дрожит… — и при этом шелковым фуляром, изображающим карту Европы, отирал раскаленные щеки.
По уходе Мартишки он не вытерпел. Проглотив наскоро пук блинцов и опрокинув в рот свой чуть ли не десятую рюмку холодной вишневки, он тяжело приподнялся и, с усилием опираясь на стол, изъявил желание произнесть «здравицу». Мы, по примеру оратора, тоже выпили, а выпив, в почтительном молчании стали слушать.
— Честнaя хранительница правды русской! — несколько путающимся языком возгласил Гундриков, обращаясь к лицу Устиньи Спиридоновны, — твоими устами вся исконная, вся самобытная Русь возглаголала!.. В твоем сердце широкое сердце земли русской сказалося!.. {281} (Устинья горько плакала, утираясь передником.) Сгинет с лица земли накрахмаленный немец; до срока исчезнет субтильный француз; прахом пропадет поганая туретчина; но ты, святая Русь, превечна пребудешь!.. Живо слово русское, ибо мы внимали ему здесь вот, во всей его силе и во всей красе его… Живо горячее русское сердце, ибо здесь же воочию совершилось перед нами то, что мы именуем деянием, присущим палящей любови большого брата русского к меньшому брату русскому… К тому меньшому брату, коего цвет и краса женщин русских (Семен Андреич торжественным жестом указал на рыдающую мельничиху) так красноречиво уподобила смердам…
В это время оратору точно кто дал шпоры. Внезапно воспрянув и внезапно же возвысив голос до степени крика, он, всецело обратясь к мельничихе, в благоговейном тоне акафиста возговорил:
— О ты, подъявшая дух наш на высоту исторической задачи нашей!.. О ты, указавшая смысл и значение устоев наших!.. О ты, воплощенная правда земли русской!.. О, нашу самость и нашу здравость в духе единения совокупившая… О, проникновенно проникшая в недра духа русского… Ты… ты… ты…
Но тут Гундриков настоятельно уставил палец правой руки своей на согбенную фигуру Устиньи Спиридоновны и вдруг разразился рыданиями.
Эффект произошел неописуемый. Мы с Лазарем, не щадя животов наших, кричали "ура!" и, наполняя опустевшие рюмки душистой наливкой, воздвигали их… Воздвигая же, чокались и целовались и снова будили тишину, парившую окрест, заздравными кликами. Устинья Спиридоновна, неоднократно восклицая: "О, чтоб тебя, Андреич, — уморил!", смеялась и плакала и обнималась с сияющим Гундриковым. Степаха, просунув в дверь голову свою, сияла не менее Гундрикова и по временам испускала смех, подобный ржанию.
Утомленный гамом и криком, я вышел на воздух. На дворе стояла тишина. В развесистых ветлах играл ветер, и они с важною задумчивостью лепетали листами своими. Водяная струйка с неустанным постоянством журчала по колесам и тихо звенела, ниспадая.
По возвращении моем в комнату я заметил, что взаимная приязнь собеседников еще более разгорелась. Мель-{282}ник и мельничиха сидели около Гундрикова. Мельничиха обнимала его, а мельник угощал наливкой. Гундриков усиливался сохранить свое достоинство и потому как-то уморительно морщил лоб свой и старался вызвать на лицо многозначительное выражение, но, вопреки усилиям этим, сладкая улыбка то и дело растягивала его губы, придавая лицу несколько дурковатый вид.
— Знаем мы господ-то! — подобострастно говорил Лазарь, смакуя наливку и приглашая к тому же Семена Андреича, — знаем мы их достаточно… Вот Гуделкин, Ириней Маркыч — он-те не то что подоброхотствовать — он русского языка не понимает. Ей-богу!.. Мужик ему говорит, а он не понимает… И он ежели мужику заговорит — мужик его не понимает. Так разве это возможно? С мужиком живи, так живи не как немец… Я вам, сударь, без лести буду говорить: настоящий вы человек!.. С мужиком ли, с купцом ли-вы все свои… Об вас ведь иных и речей нет, кроме как великатных…
Гундриков уподоблялся коту, которого щекочут за ушами.
— Ну, нельзя того сказать… Это ты, Лазарь, может быть, и преувеличиваешь, — для приличия возразил он.
— Ветром море колышет, молвою народ, — подхватила Устинья Спиридоновна, — молва не по лесу ходит — по людям… Нам что? Мы люди тебе приятные — спроси у чужих, у сторонних…
— Ну и что же? — с самодовольной улыбкой поинтересовался Гундриков.
— А и то же — все одно скажут: свой человек, Семен Андреич, свой, расейский.
— А я вот ономнясь мужичка встретил, — произнес Лазарь. — Ты чей? говорю. «Дурманинский». — Кто у вас нaбольшим? спрашиваю. "Семен Андреич". Хорош человек? (Я-то как будто не знаю.) "Такой, говорит, человек — душа; ежечасно бога, говорит, молим за ихнюю милость… Им живем, им дышим, говорит…"
— Я что же — я рад… Я все, что могу… Я русский народ люблю, охорашиваясь, сказал Гундриков и отпил немного наливки.
— Да уж, мало у нас таких управителев, как ты, сударь! — сказал Лазарь, в пылу чувств заменяя подобострастное вы не менее подобострастным ты: — хозяйскому {283} добру печальник первый… Мне тоже вот Чумаков говорит ономнясь: "Голова, говорит, господин Гундриков; за этакой, говорит, головой не токмо Дурманиным, Шереметеву прожить можно".. Вон оно что!..
— Что ж — я по мере сил… Я совесть свою берегу… Я рад… окончательно разнежился Гундриков.
— А уж и паны-то твои чудны, Андреич, — с соболезнованием подхватила мельничиха, — ты бьешься, ты ночей не спишь, ты об добре об ихнем печалишься, — а они живут себе припевают, да об радетелях своих забывают… Ни от них ласки, ни от них угождения…
— Ну, как же так — я доволен… я рад… — возразил несколько опешенный Семен Андреич.
— Хе-хе-хе, — в мягком тоне пустил Лазарь. — Это уж, сударь, нечего бы толковать… баба-то она хоть и баба, а попала в самую центру. Не по твоим заслугам тебя ценят. Твоя заслуга — прямо скажу, не рублевая заслуга, а тысячная.
Семен Андреич пожал плечами. По-видимому, ему и самому начинало казаться, что заслуги его в должной мере не оценены.
— А я тебе на этот случай притчу, сударь, скажу, — продолжал Лазарь, и не то что какую житейскую притчу, а прямо от писания — божественная, значит…
Мы, разумеется, изъявили желание послушать притчу.
— Жил, скажем мы, — начал Лазарь, — на свете хозяин — в Рассее ли, ино ли где, не знаю, — ну, и нанял, значит, эфтот хозяин управителя своему дому. Жестокосердый попался управитель! Ну, и по своему жестокосердию первым долгом поналег он на хозяйских должников. Прямо надо говорить должникам от него житья не стало. И проценты ему подавай и работу ему исправляй — все. А чуть какой не исправен, сейчас это в яму его. Одним словом, аспид и василиск… Ну, и был, стало быть, у хозяина другой управитель. Тот как делал? Призовет тебе должника и спрашивает: "Что ты хозяину должен?" — "Сто пудов масла", говорит. "Давай сюда расписку". Тот даст расписку, а управитель в ней и напишет: "Не сто пудов, а семьдесят должен человек этот". Так и с другим. Призвал одного, призвал другого всем долги поспустил. Ну, только много ли, мало ли времени прошло, посогнали управителей с местов. И доброго согнали, и сроптивого {284} согнали. Ну, и стал, скажем мы, сроптивый бедствовать — и не то что как, а просто главы не знал где преклонить. А другой добрый-то, значит, не токмо сыт был — капитал приобрел немалый, потому всякое ему угожденье от должников и всякое приятство воспоследовало. Вот она, притча какая!.. Так что сказано, сам господь доброго управителя-то одобрил — добрый ты раб мне, говорит…
— Представьте себе, ведь именно есть такая притча в священном писании, — оживленно произнес Семен Андреич, обратясь ко мне, и даже просиял, — но в этом переложении народном она еще какой-то особый, мудро-практический смысл приобрела… Это даже трогательно!..
— Как же не мудрость, — сам господь одобрил! — подтвердил Лазарь и затем неожиданно добавил: — Вот и ты, сударь, следуй… Копи не деньги, друзей копи!..
— Не держи сто рублей, держи сто друзей… В поле пшеница годом родится, а добрый человек всегда пригодится, — поддержала мужа мельничиха и умильно поглядела в осоловелые Семен-Андреичевы глаза.
— А я что же, я всегда готов. Я рад… — сказал Семен Андреич, — вы вот друзья мне и просите чего хотите… (Он внезапно побагровел и изъявил в лице своем застенчивое великодушие.) Спиридоновна, хочешь, подарю телку? Сейчас подарю… Я готов… Телка тирольская, а я ее подарю…
— Ты вот что, сударь, — перебил его Лазарь, — телка телкой, а Кабановку мне сдай… Честью я тебя прошу: сдай Кабановку.
— И Кабановку сдам!.. — куражился Семен Андреич, — и телку подарю, и Кабановку сдам… Я все сдам!.. Веришь, Устинья?
— Ах ты, мой батюшка, да кому же нам и верить-то, как не твоей милости! — ответила Устинья.
— Да. Я говорю и отдам… Мне что Дурманины!.. Дурманины мне — тьфу!.. (Гундриков с особенной настойчивостью плюнул).
— А вот Гуделкин, Ириней Маркыч, — тонко заметил Лазарь, — давно бы он, говорит, Кабановку сдал, да правов у него таких нету… Есть, говорит, ему на то запрет — это насчет Кабановки-то…
— Гуделкин?! Ириней?! — пренебрежительно воскликнул Гундриков, как-то странно скосив брови, и затем, {285} придав и тону своему и выражению своей физиономии строгую официальность, произнес: — Лазарь Парамоныч, не угодно ли сейчас же вот у этого стола снять в арендное содержание Кабановскую пустошь?
— Триста двадцать десятин будет-с? — почтительно и тоже официально осведомился Лазарь.
— Триста двадцать.
— В трех полях-с?
— Да.
— На двадцать лет изволите сдавать?
— На двенадцать.
— Ценою как-с?
— Семь рублей.
— Хе-хе, — шутить изволите-с.
— Чего ты, Лазарь, беспокоишь Андреича, — с упреком заметила Устинья Спиридоновна, — стало быть, ты умом-то обносился… Не видишь, Андреич для шутки речь повел… Где виданы такие цены!.. Известно, коли правов ему господа не дают, — как ее сдать!..
Гундриков вознегодовал.
— Что ты говоришь такое!.. Как ты так можешь рассуждать! Ты баба и больше ничего…
— Ох, баба я, кормилец, баба… — смиренно согласилась мельничиха.
— Какая твоя цена, Лазарь? Говори скорей, я вам докажу!.. Я докажу Гуделкину!.. Представьте себе: прав я не имею! Ах, вы…
Дело с Кабановской пустошью покончилось очень скоро. Не далее как через десять минут перед Гундриковым появился лист бумаги, на котором он и начертал нетвердою рукою: "Сдал я, Гундриков, Кабановскую пустошь гг. Дурманиных купцу Лазарю Парамонычу Новичкову, ценою по пяти рублей десятина и задатку пятьсот рублей получил…"
— Друг, — в восхищении воскликнул Лазарь, спрятав расписку Гундрикова в карман, — вовек не забуду твоей услуги!.. Жена! Шипучки…
А Устинья Спиридоновна сокрушалась:
— Ах я дура, дура… Ведь сумлевалась я в тебе, Андреич, ох, сумлевалась!.. Не чаяла я, сколь в тебе силы много…
Гундриков самодовольно улыбался. {286}
Принесли «шипучку». Это оказалось «тотинское». Мы выпили. Тотинское хотя, по своему обыкновению, и отдавало свеклой, но жажду утоляло превосходно.
— Ну, друг, еще одно дельце! — сказал Лазарь после тотинского.
— Проси чего хочешь, — великодушествовал Гундриков.
— Вызволи, сударь, до конца — поддержи нового хозяина!..
— Проси — все дам.
— Ох, немалая просьба…
— Проси говорю! — уже настоятельно и как бы с сердцем повторил Семен Андреич.
— Кабановские мужики в петле у тебя…
— Это правда, — самодовольно заявил Семен Андреич.
— Я прямо скажу: ты и царь им и бог…
— Это правда. Я доволен. Я народ русский люблю, он господ своих почитает, — высокопарно заметил Семен Андреич и погладил себя по животу.
— Ах, как и не почитать-то, вас, голубчиков, — с умилительным вздохом произнесла мельничиха, — вами, голубчиками, свет держится… Что звезды на небе, то бояре на Руси…
— Оборудуй же ты, сударь, дельце, — продолжал Лазарь, — возьми ты у меня деньги, а под работу кабановских мне найми… Я знаю их — народ они закостенелый.
— Народ закостенелый, а меня послушают.
— А тебя послушают… Ты господин ихний… И ты до поры до времени об аренде скрой, пущай их не знают… А придет время, мы и объявимся… хе-хе-хе!..
— О, я их сожму! — бахвалился Гундриков, — я им гривну за лето дам, и ту возьмут… О, я их умею завлечь!.. Я бужу в них исконные чувства русского человека… Я ищу в них струны и нахожу…
Снова появился на сцену лист бумаги, и на нем снова начертал расписку Семен Андреич… Из расписки явствовало, что он обязывается нанять кабановских мужиков для работ на пустоши Кабановской и нанять не дороже цены такой-то, для чего и взял он у Лазаря Парамоныча Новичкова денег столько-то.
И эта расписка потонула в объемистом бумажнике мельника. {287}
Не успели мы досыта наговориться о сделке и не успел еще Лазарь поведать нам всех предположений своих относительно пустоши, а Гундриков посоветовать ему, какой системы держаться с мужиками кабановской деревни, как возвратился Мартишка. Лазарь, высунувшись в окно, спросил у него, сдал ли он деньги, и затем, обратясь к нам, с тонкой улыбкой предложил:
— А что, господа, — есть такое мое намерение камедь устроить?..
— Что ж, устрой… Устрой, это нас позабавит, — снисходительно согласился Гундриков.
— Это насчет утки? — догадалась Устинья Спиридоновна и прибавила: Утку ты мне отмести, Лазарь; Степки чтоб не было, а Мартишку пробери. Хорошенько его, пса, пробери!..
Лазарь позвал и Степаху и Мартишку. Оба они предстали перед нами смущенные.
— Ты жарила ноне утятину? — простодушно спросил мельник.
Та трепетным от волнения голосом ответила, что жарила.
— Где же она?
— Перепарилась.
— Так… Ты чего ж смотрела?
— Их милость дожидалась… — указала Степаха на Гундрикова. По мере того как допрос продолжался, голос ее крепчал. В нем даже начинало появляться раздражение.
— Куда же ты дела перепаренную-то?
— Куда… куда! собакам отдала!..
— Ах ты, песье мясо!.. Так и отдала?
— Так и отдала.
Лазарь обратился к Мартишке.
— Ты, голубь, давно дома был? — с прежним простодушием спросил он.
— На прошлой неделе был, — угрюмо ответил Мартишка.
— Ржи до новины у домашних хватит?
— Куда-те! с Егория покупают.
— С Егория… А едят сытно? Разносолы большие у них? {288}
Мартишка не отвечал. Он, видимо, уразумел, к чему клонились расспросы Лазаря… Лазарь многозначительно помолчал, не спуская язвительного взгляда с лица Мартишки, и вдруг разразился руганью. Ругань была артистическая. В ней было упомянуто и о неблагодарности людской, и о подлом людском лицемерии, и о скверных свойствах Мартишкиных, и о свойствах его родителей, и об мошенническом поползновении всей вообще голи объедать добрых людей… Было упомянуто и о двух сотенных, только что пожертвованных Лазарем на эту самую неблагодарную голь.
Мартишка молчал и стоял понурившись. Волосы его свесились на лицо. Вся фигура как бы оцепенела в смущенной неподвижности. Степаха все более и более озлоблялась, но, не дерзая протестовать громко, ограничивалась сердитым шепотом.
— Я добряк, — вволю наругавшись, сказал Лазарь, — я тебе на выбор даю: либо вот бог, а вот порог — и ползи по миру, либо — говори правду… Говори, ел нонче утятину?
Наступило тягостное молчание. Наконец Мартишка легонько вздохнул и пробормотал:
— Было малость…
— Степашка приносила?
Мартишка взглянул на нее исподлобья и, взглянув, ответил:
— Она…
По лицу Степахи выступили пятна. Она с негодованием плюнула и повернулась было к двери, но Лазарь собственной своей особой загородил ей дорогу.
— Стой, голубушка, — сказал он, — не спеши, дай нам на красу твою налюбоваться…
Степаха осталась. Она походила на волчицу, попавшую в тенета… Устинья Спиридоновна, с выражением полнейшего безучастия, прибирала остатки обеда.
— С какой стати она тебя утятиной потчевала, а?… Пауза.
— Говори, голубчик, говори прямо… Сгоню — с голоду издохнешь, настоятельно повторил мельник. Но на губах Мартишки точно замок висел.
— Полюбовницей, что ль, доводилась тебе?
Снова последовало тягостное молчание. {289}
— Эй, Мартишка, — сгоню!.. доводилась?.. — каким-то шипящим голосом произнес Лазарь.
— Доводилась… — последовал смущенный ответ.
Лазарь внезапно повеселел.
— Хе-хе-хе!.. Плут же ты, погляжу я на тебя…
— Чурило! — кротко отозвался Гундриков.
Степаха прерывисто дышала, но молчала. Изредка она с ядовитой ненавистью останавливала взгляд свой на спокойной фигуре мельничихи.
— Ну, и когда же вы спознались? — продолжался допрос.
— С Красной горки…
— Хе-хе-хе… Травку, значит, почуяли, корма вольные!
— Что же, ты к ней, Чурило, ходил, или она к тебе ходила? — вмешался Гундриков и плотоядным взглядом окинул жирную Степаху.
Мартишка молчал.
— Открывайся, Мартишка, — вмешалась и мельничиха, — попал, брат, в собачью стаю, лай не лай, а хвостом виляй!..
Но не успел еще Мартишка с обычной своей угрюмостью доложить, что "она к нему ходила", как Степаха с разъяренным видом бросилась на мельничиху и вцепилась ей в волосы… Мы остолбенели. Гундриков первый нашелся. Несмотря на колебание, ощущаемое им в ногах, он бросился к Степахе и, крепко схватив ее поперек туловища, оттащил от мельничихи. Мельничиху подхватил под мышки Лазарь.
Она была неузнаваема. Весь ее почтенный и даже умилительный облик исчез бесследно, и пред нами бешено металась женщина без всяких признаков «исконности». Впрочем, образный язык не покинул ее и в таком состоянии. Лишенная возможности вцепиться в физиономию соперницы, она сулила ей такую бездну напастей, что становилось жутко. Тут были и пожелания, чтоб бедную Степаху "свило да скорчило, повело бы да покоробило, перекосило бы с угла на угол да с уха на ухо"; тут и выражалась надежда, что Степаху "затрясет лихорадка, возьмет лихая болесть" и она от той болести "ни питьем не отопьется, ни сном не отоспится"; тут на несчастную бабу призывался и гром, которому предстояло разразить {290} ее голову, и «родимец», от которого требовалось «затрясти» ее, и «вихорь», которому поручалось «разнести» ее кости вплоть до синего моря…
Нельзя сказать, чтоб и Степаха унывала. Если ругань ее уступала ругани мельничихи в образности, то, кажется, превосходила ее выразительностью. Степаха преимущественно склонялась к биографии. По ее словам, «Устюшка» была "подлая тихоня", которая "на людях богу молится, а в потемках черту свечку ставит…" Не было ехиднее мельничихи никого на свете, по словам Степахи. Она будто бы и ей всю штуку из ревности подстроила: Лазарь-де Парамоныч к ней, к Степахе, «приставал», а Устинья проведала… У Лазаря-де и борода с той поры поредела…
Понятно, все эти разоблачения казались нам несообразными. Но Устинью Спиридоновну они уязвили глубоко. Под влиянием злобы, а отчасти, может быть, и хмеля, она разрыдалась и порывалась даже рвать на себе одежду. Ее увели и уложили спать. Степаху тоже увели. Ее заперли в кухне. Лазарь хотел продолжать «камедь» и предлагал Степаху высечь. К чести Семена Андреича нужно сказать, что он положительно воспротивился этому. Мало того, он даже настоятельно просил выпустить Степаху; но Лазарь на это не согласился: он все-таки, кажется, не переменил своего решения высечь беднягу…
…Тусклые звезды уже мерцали на небе, когда мы пустились в путь. Было тихо. Росы не было, и ночной воздух казался душным. Линия горизонта смутно обрисовывалась на западе. Таинственная тьма покрывала равнины,
Но тьма эта внезапно рассеялась. Вдали вспыхнул пожар, и кровавое зарево зловещим румянцем окрасило небо. Искры заметались и затолклись над заревом, и поля осветились фантастическим светом.
Чем-то ужасным и вместе величественным повеяло на нас от картины этой, от этого мрачного, как бы нахмуренного неба, от зловещего зарева и печальных полей, на которых отражение этого зарева трепетало тихими волнами.
Тишина, стоявшая в поле, казалась грозной и как бы предшествующей чему-то страшному… {291}
Григорий как-то усиленно чмокал и дергал вожжами. Он спешил. Но он не возвышал голоса, как не возвышают его в присутствии покойника. Он пугливо озирал окрестность и шептал в благоговейном ужасе: "Эка полыхает-то, подумаешь!" Под влиянием этого ужаса он как-то странно съежился и приник к вожжам.
Господин Гундриков был не в духе. Перед отъездом он спал, и лицо его было смято. Пожар не произвел на него впечатления. Он с самого Криворожья часто и глубоко вздыхал и нетерпеливо ворочался на месте. Иногда он испускал многозначительное кряхтенье; иногда ругался чрезвычайно зло и энергично, но к кому обращалась ругань, было неизвестно.
Я сначала подумал, что несчастный мучается похмельем. Это предположение оказалось ошибочным: Семен Андреич никогда не испытывал похмелья. Наконец, проехав добрую половину пути, он высказался несколько яснее:
— Ах, рракальи!.. Во-о-от!..
— Кого это вы?
Он промолчал, испустив раздирающий вздох, и затем со скрежетом повторил:
— Нет… каковы рракальи?..
— Да кто же?
— Да эти архидьяволы!.. Ах, подлецы…
— Не пойму…
— Да эти… мельники!.. А? По пяти рублей десятина… нет, каковы мерзавцы?.. Пять рублей, а?.. А эта святоша-то, Устюшка-то, а? Ах, шельма… представьте себе, Марфу Посадницу разыгрывает, а? Какова?.. Ах вы…
И до самого дома ругался Семен Андреич, бестрепетно нарушая торжественную тишину полей, озаренных пожаром. {292}
XII. Жолтиков
Случалось ли вам, господа, быть в лесу в пору ранней весны? Все напоминает еще о суровом зимнем царстве. Глаз проникает далеко в глубь леса. Корявые деревья, подобно остовам, мрачно протягивают обнаженные сучья свои, по которым то и дело пробегает звонкий весенний ветер. Черные пни и серый валежник в печальном беспорядке громоздятся здесь и там. Толстый слой поблекших листьев вяло шелестит под ногою. В оврагах синеет снег. В ложбинах с холодным сверканием бегут ручьи, обрамленные голыми берегами. Все повержено в какую-то меланхолическую тишину. От этих суровых дубов, недвижимо распростирающих узловатые свои сучья, от этих стройно сверкающих берез, в глубоком молчании столпившихся на краю вершины, от этих покоробленных осин и жидкого орешника с остатками желтой лапчатой листвы, слабо трепещущей на темных лозах, — веет какою-то щемящей печалью, свойственной всему, что носит следы разрушения… Но стоит, вам пристальней вглядеться в это царство запустения и смерти, стоит вам выйти на опушку да оглянуть голубую даль, стоит вам глубоко вдохнуть воздух, звенящей струею перебегающий по мертвым деревьям, — и та печаль, которая, может, еще за минуту угнетала вас, заменится иным чувством, — жизнь обвеет вас могучим своим дыханием. Эту жизнь ощутите вы и в запахе, несущемся от леса, — в запахе, в котором с чарующею прелестью соединены затхлый аромат увядания и крепительная свежесть воскресающей природы. Эта жизнь повеет на вас и в переливах горячего света, который нет-нет и скользнет жидкими пятнами по стволам деревьев и по кустарнику перелеска; нет-нет и осве-{293}тит приникшую в тайном ожидании глушь, как бы вызывая к пущему напряжению скрытые в ней жизненные силы… И силы эти с неустанным постоянством проникают каждую былинку, каждую лозу кустарника. Едва заметные розовые почки пестреют на липе и черемухе. В ветвях бледной осины повисли нежно пушистые червячки. Орешник усыпан темно-красными ростками. Там и сям, как бы украдкой, вылезает травка, пронизывая своим упругим острием толстый слой прошлогодней листвы. Теплые, сочные тоны выступают сквозь шероховатую кору деревьев, и самый дуб как будто поступился суровым своим видом. Горький запах, распускающейся березы стоит в воздухе. Какие-то птички звонко пищат и бойко мелькают вдоль перелеска. Смеющийся луч прихотливо перебегает по деревьям, нагоняя улыбку на угрюмых великанов леса… Где-то за лесом звенит и булькает шаловливый ручей. Воздух прохладен и ясен… Вы слушаете… смотрите в каменной неподвижности… и чувствуете, как в груди вашей, сладостно стесняя дыхание, ширится что-то невыразимо хорошее; как что-то бодрое и здоровое разливается по вашим жилам, кровь стучит, и страстная жажда жизни обнимает все ваше существование.
Не знаю почему, но время, переживаемое нами с конца пятидесятых годов, всегда мне казалось похожим именно на это пробуждение созидающей природы. В воздухе холодно, и ласковое веяние весны еще часто перемежается морозами, а между тем страстное жизненное напряжение ощущается повсюду. Почки и ростки настойчиво проникают сквозь толщу всяческих нагноений, так щедро уготованных нам скорбной нашей историей… Несомненно, разумеется, что много этих почек безвременно погибнет, а из иных пышно расцветет чертополох, и страстное жизненное напряжение произведет между прочим и крапиву… Несомненно — выползут на свет божий и такие продукты, что, подобно Oxalis'у tropaeoloides, 1 до известной поры пребудут не без пользы, а затем сойдут в былку и, без зазрения совести, станут истощать почву. Но то уж дело будущего считаться и, проклиная почву, вырастившую дрянь, подводить итоги… Нам, со-{294}временникам, приходится лишь констатировать и, заручившись каменным сердцем, с одинаковым хладнокровием обонять: пакость возникающую и безжалостно убитую морозом полезность.
Я на этот раз, минуя пакость, от которой, право, задыхаешься, и обходя с обычною нашему брату писателю осторожностью полезность, безвременно убитую морозом, займусь родом средним и представлю благосклонному читателю тот едва возникающий на нашей почве Oxalis tropaeoloides, который до поры до времени пожалуй что и полезность с успехом заместит. Я разумею российского чистокровного рантьера, и притом рантьера с следами недавних мозолей на руках — рантьера-выходца.
Еще не так давно между деятельным русским купечеством средней руки очень были редки люди, исключительно живущие на проценты с капитала. Жажда непрестанных стяжаний была велика в том сером человеке, который воистину горбом своим сколачивал капиталец. Такая несложная операция, как простое получение процентов, ему претила. Ему была непонятна идея капитала, входящего в русло, получающего неподвижную форму. И тысячником и миллионером он знал одно стремление — наживу, и один путь для этой наживы беспрерывную практику, беспрерывную игру ума и мускулов. Пассивное выжидание «сроков» и «граций» было не в натуре вчерашнего пахаря или прасола. Этот терпкий, вечно промышляющий человек как бы боялся всякой минуты, свободной от коммерческих козней, и был прав, разумеется, ибо в большинстве эта свободная минута неминуемо сопровождалась для него мрачным призраком угнетающей тоски и отчаянного запоя. Кроме тоски и запоя, нечем было пополняться его досугу. Правда, бывали и тогда исключения из общего правила. Но если вчерашний прасол находил себе дело, помимо вечной погони за приумножением, и особенно если дело это заключалось хотя бы в самой робкой попытке проникнуть в таинственную область «теоретических» интересов, — на него смотрели как на блаженного. Кредит такого блаженного иногда падал с невероятной стремительностью, и, разумеется, падение это служило поразительным примером непригодности для купечества каких-либо интересов, помимо интересов кулаческих. {295}
Так было недавно. Но что бы ни твердил обычай, всеразлагающий прогресс делает свое дело. Усугубляя авторитет коммерческих козней и доводя до степени даже неудержимого бешенства стремление к наживе, он, вместе с тем, и из области интересов теоретических кое-что облекает престижем. Вчерашняя «блажь» сегодня становится чем-то похожим на дело. Вчерашняя перспектива запоя и невероятной тоски сегодня обещает времяпрепровождение, полное невинных приятностей. И вот как выразитель этого нового взгляда на "свободную минуту", проникает сквозь кору невероятной скудости купеческого мировоззрения новый росток — рантьер-выходец. Тип продукта этого еще смутен. Его покрывает еще некий туман. Но он, несомненно, возникает. Он крепится жуткими новостями дня. Он тонкой отравой сочится в нелепом строе дикого кулачества. Он медленно, но непрестанно разъедает основы исконного мировоззрения, доселе господствующего в «рядах» и лабазах. Повторяю, он, подобно молодому Oxalis'у tropaeoloides, приносит пользу и, вероятно, еще много принесет ее, доколе в свою очередь не обратится в черствую былку и не войдет в роль «волчца», что в конце-то концов все-таки неизбежно.
…Все это прочтите, читатель, вместо предисловия. Теперь же простите за него и перейдемте к делу.
Одну из зим пришлось мне как-то, вместо хутора, провести в маленьком уездном городке. Квартиру снял я у купца Жолтикова. Протас Захарыч Жолтиков торговлей не занимался, и деньги у него частью лежали в банке, частью ходили по рукам за умеренные проценты. Жил он с сестрою — старой девой весьма почтенного калибра и недалеких способностей. Квартирка моя отделялась от хозяев тонкой тесовой перегородкой. Таким образом, я был невольным свидетелем интимной жизни Жолтиковых, а они — моей, разумеется. Но нас это не стесняло, ибо государственные тайны не угнетали душ наших… Сестра, — имени ее я, право, не знаю, ибо любезный братец не величал ее иначе как «клуша» и "бревно", — с раннего утра принималась за хозяйство, то есть хриповатым басом ругалась с кухаркой, что-то скребла, {296} что-то мыла… В результате к двенадцати часам получался обед. Брат тоже с раннего утра уходил из дому и до самого обеда слонялся по лавкам и лабазам. К обеду он приходил обыкновенно нагруженный новостями (преимущественно политического свойства), которые и сообщал сестре в промежутках недовольного брюзжания по поводу подгорелой котлетки. Изрядно отдохнув после обеда, он снова брал в руки свою великолепную грушевую палку и отправлялся на базар; вечером же, за шипящим самоваром, снова происходило выгружение новостей, перемежаемое руганью на несчастное «бревно».
Протас Жолтиков человек был сердитый. Его понурое лицо с ввалившимися щеками и глазами, сердито и настойчиво устремленными на вас, носило на себе вечные следы желчного раздражения. Говорил он самые любезные вещи с видом крайнего недовольства и, объясняясь вам в своей дружбе, метал на вас самые враждебные взоры. Городок свой он всегда бранил, и бранил с неизъяснимой беспощадностью.
Но скажу несколько слов о городке. Он был в той же степной стороне, где и хутор мой, и, по обычаю всех степных городков, ни оживлением особым, ни особой привлекательностью не отличался. Зимою дикие степные вьюги заносили его сугробами; осенью в нем свирепствовала невылазная грязь и на площадях стояли лужи, похожие на озера, летом непрестанно клубилась горячая пыль…
Жизнь в нем — тоже по обычаю всех степных городков — сочилась вяло и тоскливо. В клубе вечно винтили и дулись в рамс, в определенные дни перемежая карты дружным топотом неуклюжих ног под звуки скрыпиц, сдирающих кожу, и до остервенения ревущего контрабаса. В «рядах» в томном вожделении покупателя передвигали шашки, смаковали новости и слухи и до изнеможения опивались чаем. В канцеляриях отчаянно скрипели перьями, сладко мечтая о наградных к празднику и об имеющихся соорудиться на эти наградные розовых галстуках и полосатых панталонах.
Так проводил время мужеский пол. Дамы, по своему обычаю, больше сидели дома и тоже проводили время без особенного разнообразия. Более бонтонные из них штудировали Золя и перелистывали Маркевича, восторженно говорили об изящных предметах с такими же {297} бонтонными дамами, болтали с горничными о новостях околотка и важно рассуждали о преимуществах тройного рюша перед двойным и о превосходстве бахромы "с плюмажем" над бахромой простою… Дамы менее бонтонные спали и ели, пили чай и пили кофе, жевали шоколад и икали… а в промежутках играли "в носки" с горничными, заводили невинные интрижки со щеголем-писарьком из полицейского управления, сплетничали и мечтали о новой «ротонде» к празднику. Те и другие в определенные дни съезжались в клуб, толклись в кадрили и порхали в польке, кружились в вальсе и — нечего греха таить — иногда бегали и в мазурке. Все это дамы более бонтонные выполняли с манерой явной и пренебрежительной снисходительности, а дамы менее бонтонные — с явным же и даже несколько восторженным восхищением.
Глухие улицы жили на свой лад. Там дамы смутно еще подозревали о существовании рюша. Туда еще не проникала ротонда. Там велись горячие речи не о свойствах того или иного «мениардиса», а о «новой» моде, вышедшей на платки из берлинской шерсти. Там смена башмаков ботинками вызывала еще серьезные дебаты и старый вопрос о шиньонах заставлял трепетать сердца. Там кавалеры не винтили и не танцевали мазурку, а в будни обдирали кошек, в праздник же собирались у соседа и «стучали» по маленькой. Только на вечеринках меланхолический «чижик» поднимал их в пляс, и тогда, с исступленными жестами и напряженным выражением лица, они отхватывали с жеманными девицами «кадрель».
В этих улицах сплетни и слухи с особенной настойчивостью будоражили фантазию обывателя. Часто эта фантазия, — бог весть коими путями соприкоснувшись, с какой-нибудь пустейшей телеграммой "международного агентства", еще год тому назад где-то и кем-то прочитанной по складам и сообразно этому усвоенной, — облекала ее каким-то мистическим характером. И телеграмма, воздвигалась до степени туманных и таинственных идеалов, в которых, бесспорно, сочилась и несомненная поэтическая струйка, но которые в конце концов все-таки поражали непроходимой наивностью.
Так вот какой город всегда бранил Протас Жолтиков и изливал на него свою горькую желчь. {298}
Но за всей этой бранью мне всегда чудилась если не любовь, то жестокая привычка. Протас Жолтиков бывал и в Москве, ездил однажды и в Питер, а в пору своей молодости не раз посещал низовые города, — и везде-то ему претило, везде казалось ему скучным, отовсюду тянуло в свой городок.
Я всегда с любопытством ждал обычного возвращения Протаса из лавок. Дома его ждал обед. Обыкновенно первое блюдо проходило в молчании, прерываемом обычными комплиментами по адресу «бревна» и смачным чавканьем губ. Затем начинали прорываться новости.
— В Харькове процесс интересный… — угрюмо и отрывисто говорил Протас. Сестра издавала какое-то неопределенное междометие. Но Протас и не ожидал от нее отзыва. Немного погодя он снова бросал словечко:
— Доктора убили… — и затем с такими же перерывами продолжал примерно в таком роде:
— Женин любовник убил…
— И поделом!..
— Сам стар — жена молодая…
— Купил, так любови не требуй…
— Тело закабалить легко…
— Душу не опутаешь…
— Душу не закабалишь, а озлобить — озлобишь…
— Захотели нравственности!..
— Вы кабалу-то прежде похерьте…
— Все прогнило насквозь…
Эти краткие словеса с сердитым шипением заедались щами, а за щами следовала новая серия отрывистых сообщений.
— Шульц уволен…
— Третьим отделением управлял.
— Давно пора…
— Оно и "третье"-то уволить бы…
— Кошмары-то изготовлять будет бы…
— Пора бы свету-то…
И все в этом роде.
Все подобные новости Протас вычитывал из газет, по его настоянию не в одном экземпляре получаемых в «рядах».
Иногда за перегородкой происходило некоторое оживление. Это было обыкновенно вечером. У Жолтиковых {299} появлялось постороннее лицо. Это лицо поражало смиренностью тона и предупредительностью выражений. И тогда завязывался следующий разговор.
— А слыхали, Протас Захарыч, счастье-то нас посетило?.. — умильно говорил посетитель.
— Какое счастье? — с обычной угрюмостью осведомлялся Протас.
— А такое, значит — особая комиссия устроена. — Чтоб, значит, расходы по царству сократить… Оченно подымают газеты эту комиссию…
Протас насмешливо фыркал.
— Ты это в какой газете вычитал?
— Да балуюсь, признаться… такой-то, — тут посетитель называл газету.
— Нашел газету!.. Ты ее брось… Там только перепечатки да насчет славословий ежели… А насчет славословий ты лучше псалтырь Давыдов купи…
— Э-э… А я ведь, признаться, полагал не так, чтобы насчет перепечатки… — смущенно лепетал посетитель.
— Нам славословия-то не нужны, — не слушая его говорил Протас, — ты нам дело подавай… Ты нам трезвый взгляд, чтоб… Ты проследи, как комиссии-то бывшие работали да какой от них толк был, да потом и хвали… Да про Европу-то нам расскажи: какие такие в Европе комиссии заседают насчет эфтого… А канитель-то не разводи…
— А я, признаться, полагал — хорошая газетина, — настаивал посетитель.
Но Протас уж окончательно сердился.
— Тебе что от газеты-то требуется? — в упор спрашивал он.
Посетитель еще более приходил в смущение.
— Как что требуется… Мало ли делов от нее…
— Ну, да что, что, что?..
— Первое — бумага, чтоб… Ну, и слова ежели покрупнее… аль опять статейки, к примеру…
— Бумага!.. Слова!.. Статейки!.. — с неизъяснимой пренебрежительностью восклицал Протас, — много ты смыслишь… Газета — тот же человек, понял? Первое дело, ты за что Назара Аксеныча почитаешь? (Назар Аксеныч — местный торговец «панским» товаром, человек замечательно честный.) За правоту, говоришь?.. Да, за {300} правоту, за честь, за слово — раз что сказал отрезал… То же и газета… Вон я получал газету — ноне одно, завтра два. Семь пятниц на неделе. Так разве я должен ее уважать?.. Я взял на нее да наплевал!..
— Э-э… — удивлялся посетитель.
— Ты вот говоришь, комиссию в газете хвалят. Вот прямо уж видна неосновательность. Как так, ничего не видя, хвалить?.. Ты посуди теперь: к нам исправник новый едет, с какой бы это стати ты его хвалить стал бы?.. Увидишь, хорош ежели — похвалишь. Так и комиссия… А без дела ежели хвалить — это уж прямо значит на ветер лаять…
— Э-э… А я ведь полагал: нехай ее… Мне абы побаловаться, да на обертку… К примеру, икры ежели в нее… Оченно она способна для икры!..
Протас сердито фыркал, чем окончательно приводил в смущение собеседника. Наступала пауза.
— Значит, стало быть, не одобряете вы мою газету?.. — робко осведомлялся собеседник после некоторого молчания.
— Не одобряю, — сухо ответствовал Протас.
— И, значит, другую ежели б, то — ничего?
— Как знаешь, — столь же сухо произносил Протас.
— Ну, так уж и быть, — в заигрывающем тоне восклицал посетитель, разорюсь на другую… Куда ни шло!.. Только ты уж, Протас Захарыч, надоумь меня…
Протас еще несколько минут выдерживал характер и упорствовал в сухости, но, наконец, смягчался.
— "Молву" выпиши… — вещал он.
— Питерская?
— Питерская… А из московских ежели — "Русские ведомости"; да смотри, не спутай — боже тебя избавь «Московские» выписать. Вперед говорю, на двор ко мне тогда не показывайся!
— Э-э… Что же так? — спрашивает опешенный посетитель.
— А все одно, ежели в «Раздевай» будешь ходить да с кабатчиком Аношкой дела водить… Вот что!
Посетитель моментально усваивал суть, ибо зазорность кабака «Раздевая» понимал ясно. Успокоенный, он несколько минут тянул чай молча и затем задавал такой вопрос. {301}
— Ну что, Протас Захарыч, хотел я тебя спросить насчет чумы эфтой, от бога ли она — вроде как за грехи, — или так?
— Чума?.. Чума — единственно от нашего брата… Ты на Волгу езжал? Ватаги видел? Ну вот. Чума, известно, болезнь. Да болезнь-то не барская. Сморится народ голодом, обнудеет как «парш» и дохнет. Земли у народа нет. Хлеба у народа нет. Кабак без призора. Податей — гибель. Его и берет чума… Карантины, говоришь? Это вроде оцепки. Карантины — хорошо. Только не чума, так иное что. Чумы нет, тиф есть (Протас произносил "тип"), тифа нет — дифтерит есть. Плесень в гнилье не переведешь…
— Так бог тут — вроде как ни при чем?
— Ни при чем.
Опять длилась пауза. А за паузой снова вопрошал любознательный посетитель Протаса Захарыча:
— Протас Захарыч! вот война теперь была: как она, за что?.. Ишь, говорят, болгаре-то богачеи, а мы за них животов лишались?
— За свободу война была. (Протас опять коверкал слово и произносил "слобода".) Есть у тебя богатство, да свободы нет, ты — вроде как пень дубовый.
— Какая ж такая свобода?
— А коли паша какой-нибудь у тебя не висит на загривке да коли начальство не помыкает тобою, вот и свобода. Захотел ты ежели сказать какое слово — говори без опаски: в кутузку не попадешь; задумал какие ни на есть порядки описать — пиши, запрету не будет, — вот свобода. Есть над тобой одна голова: закон, — ему покорствуй; дела свои разводи сам, детей учи по своей воле, богу молись — по своей совести, порядок наблюдай по своему разуму — вот свобода.
— Тэ-эк… Значит, вроде как бы у нас теперь?..
— Вроде как бы… И у нас настоящей нет. Не токмо у нас — немцы «всамделишной» не завели. А мы-то, еще погодим… Мы-то еще отроки…
— Как же это так: теперича у самих, чтоб настоящей свободы — нету, а другим добывать ходили?
— Доброта наша. Оченно мы даже добры. Мы не токмо соседям свободу доставали, мы в старину, бывалоче, отнимать ее ходили… Что лупишь очи не смыслишь?.. Венгерец захотел венгерцем быть, а мы ходили его {302} бить за эфто… Мы били — австрияк вешал. Вот доброта-то наша какая!
— Значит, и теперь по доброте?
— Значит… Мужика-то у нас гибель, да мужик-то голодный, куда его девать? — вот ноне его венгерец жрет, завтра турка… Глядишь, в какой-нибудь Курской и посвободнело… Теснота ведь там…
Разговор переходил на мужика и его положение.
— Без мужика — пропадать, — говорил Протас. — Мы кем держимся? Мужиком. Баре кем держатся? — Мужиком же, казна — опять мужиком. Вот оно какая история! Мужика надо держать в сытости. Нам рука, если мужик сыт, и казне рука. Только барам да посевщикам не рука. Сытый мужик им гибель. Ну, только мужика променять на господ никак невозможно. В нем сила. И его надо вызволять. Теперь земли у мужика мало, — надо его сселить. Надо казенные участки мужику сдавать. Ты говоришь, купцы чем жить будут? Не сомневайся богатый мужик купцу жить даст. С богатым мужиком и купцу и попу — всем лафа. Пьянствует он, говоришь? Пьянствует… А видал ты, чтоб зажиточный мужик в кабаке сидел? Нет, не видал. Пьянство дотоле, пока голод. Будет достаток, будет гульба, а не пьянство. Школы, говоришь, зря заводят? Зря. Грамота мужику не к делу. Грамоте учат, а читать не дают. Азбучку выучил, забросил азбучку, да и читай Францыля Венециана, а Францыля Венециана купить надо, а в доме соли нету… Не к делу грамота. Ты видал, как цепных собак кормят? Одной рукой хлеб суют, другой — палку, — пес-то пасть на хлеб разинет, а кормельщик псу не верит, думает — кусается, да палку ему вместо хлеба-то… Понял? Ты вникай. Вникай, говорю, я без дела врать не стану. Мужик с казной в прятки играет. То казне мужик медведем кажется, то казна мужику… Своя своих, значит, не познаша. А нет доверия — нет дела. Ты Ерофеичу доверяешь?.. Как не доверять, говоришь, приказчику? Так вот доверяешь ты, он тебе и слуга. И он в тебя верит. Ты его в прошлом году в Царицын за икрой послал, а расчет подошел, он не усумнился керосину купить. Значит, он в тебя верил, и с того вам обоим польза.
— Ах, век я не забуду этого керосина, — оживлялся посетитель. — Жду я, братец ты мой, Протас Захарыч, эту {303} самую икру, и вдруг — ах ты калина-малина! — керосин припожаловал… Ну что ж, — я Ерофеичу ни слова. Я знаю, он без расчета не купит. Другой бы хозяин закапризился, а я ничего. Так и вышло: тыщу целкачей от керосина-то осталось!.. Как одна копеечка, тыща целкачей. Промысловый человек Ерофеич!..
— Не доверяй ты Ерофеичу, — он бы не посмел. Твоя прямая польза — а он ее не сделал бы…
В конце вечера, когда даже деревянная сестра сокрушительно начинала зевать, посетитель осторожно сводил речь с тем политических на иные. Ему требовались деньги. Он посылает Ерофеича в Москву. Ему хотелось бы прибавить товару в лавке. В банке он не желал бы кредитоваться. Но он мог бы предложить полпроцента выше банкового.
Протас обстоятельно выведывал свойства предприятия, осторожно смаковал степень достояния, имеющегося у посетителя, затем писался вексель, и требуемая сумма выкладывалась из железной шкатулки. Отказов почти не бывало, ибо посетители не шли к Жолтикову зря, а предварительно разузнавали степень его доверия к ним.
Обыкновенно, провожая должника, Протас не забывал, как бы в виде шутки, повторить ему: "Смотри же, выписывай "Молву"-то!.."
Так как кредитом у Протаса пользовались почти все лавочники, то и немудрено, что в рядах и лабазах получалось много разнообразнейших изданий либерального характера. И каждое утро аккуратный Жолтиков, сердито шмыгая ногами и брезгливо фыркая носом, перечитывал большую часть этих изданий, а затем сыпал желчные комментарии на прочитанное, излагая их в обычной своей форме кратких афоризмов. Он ничего и никогда не хвалил. Он неустанно осуждал «мероприятия». Со злобой встречал "благие начинания". Раздражительно оповещал о компромиссах и уступках. К каждому светлому явлению, случайно попадавшемуся на страницах газеты, он примешивал острый яд вечного недовольства и вечной недоверчивости. Надо было видеть, какая улыбка змеилась на его изможденных устах, когда он трактовал о подобном явлении… Зато явления противоположного характера вызывали в нем какое-то мучительное удовольствие. С мрачным наслаждением он посвящал своих слушателей {304} в ужасы голода и безурядицы, варварства и бесчеловечия, в прелесть отношений глупых до жестокости и жестоких до глупости предприятий… Тогда скрипящий голос его дрожал и прерывался от какого-то внутреннего злорадства. Сверкающие глаза получали вид неизъяснимого презрения, и на желтых щеках выступал багровый румянец.
Споров он не любил, да и не мог спорить. Он для этого был слишком раздражителен. Посвящая своих почитателей в тайны либерализма, он не терпел от них возражений. Впрочем, в иное время он не мог избегнуть споров. Тогда вся фигура его являла вид замечательный. Презрительно прищуренные глаза наполнялись ядом; на искривленных губах блуждала недобрая улыбка; костлявые пальцы нервно сжимали палку; во всем теле пробегал видимый трепет, и какое-то лихорадочное дрожание обнимало колени… Он был страшен. Он язвил противника, он отягощал его массой унизительных предположений и иронических намеков; он с каким-то захлебывающимся шипением вонзал в него ядовитые остроты… Не было меры, пред которой он остановился бы, чтоб только уколоть, осмеять противника.
Понятно, что ему приходилось больше проповедовать, чем спорить. Авторитет его в «рядах» был велик. Скептицизм преуспевал во мнениях краснорядцев и бакалейщиков. Многое и в общественной жизни и в политической вызывало двусмысленную улыбку на их лица. Молодежь особенно упражнялась в вольнодумстве. Хлесткие фразы были в ходу. Особый род щегольства состоял в том, чтобы в каждом факте обрести тень.
Разумеется, все это великолепно уживалось с злостными банкротствами и иными предприятиями в коренном русско-торговом духе. Область слова строго разграничивалась с областью дела. В этом отношении и сам Жолтиков был мнений «практических»: "Говорить — говори, — толковал он, — а дело помни!"
Были в рядах и «белые». Либералы именовали их «просвирнями». К ним редко заходил Протас. Но они тоже получали газеты. Политическая мысль, во всяком случае, росла и зрела. Ратуя против либералов, «белые» однако ж усвоили себе известную высоту мировоззрения. Они уж различали «направление». "Московские ведомо-{305}сти" и «Гражданин», "Современные известия" и "Новое время" они уж сознательно противополагали иным органам. Если и были некоторые колебания, то лишь относительно "Нового времени".
"Белые" были строгие консерваторы. Не только великим постом и филипповками, но даже и петровками они соблюдали сухоядение. Многие из них воздвигали колокола, а один даже целый храм соорудил (он банкротился шесть раз). Ходили они в длинных сюртуках и волосы стригли в скобку. Мазались деревянным маслом и избегали куренья. Сапоги преимущественно носили дутые и блестящие. Протаса почитали фармазоном.
Я сначала редко бывал у своих хозяев. Но потом некоторые причины заставили меня участить свои посещения. Принимали они меня всегда одинаково. Всегда к моему приходу подавался самовар и на столе появлялось ежевичное варенье. И затем Протас начинал сердито излагать мне новости дня, а деревянная сестра неподвижно устремляла совиный взгляд свой в неопределенное пространство. Я выпивал чай и откланивался. Протас тыкал мне свою руку и раздражительно шмыгал ногами; сестра напряженно кривила лицо, изображая улыбку, и визит мой кончался. У них было мрачно и веяло скукой. Но скрипящий голос и желтое лицо Протаса, деревянная неподвижность и совиный взгляд сестры как нельзя более подходили и к мраку этому и к этой скуке. Даже носастый щегол в проволочной клетке и необыкновенно косматые растения на окнах не вносили диссонанса в общий характер квартиры, ибо щегол был мрачен и серьезен, а растения походили на решетку тюрьмы. Голые белые стены и меланхолические генералы, пестревшие на этих стенах, тоже являли вид печальный.
Иногда помимо посещений деловых, образец которых я представил читателю выше, к Жолтиковым заходили и гости. Я непременно присутствовал при этом. Подавался тот же вечный самовар, и то же вечное ежевичное варенье появлялось на столе. Самовар шипел, сестра тупо глядела вдаль, гости с важной медлительностью тянули чай, а Протас говорил и говорил… Все разговоры совершались на одну тему. Все прогнило. Нет ни совести, ни {306} чести. Мужик одичал и спился. Администрация достигла степени невменяемости. Дворянство утратило всякое чувство нравственного долга. Купечество развратилось и насквозь проникается противообщественными вожделениями. Идеалы меркнут. Финансы гадки. Долги растут. Кредит падает. Земли расхищаются. Дифтерит губит девять десятых крестьянских детей. Церковь бездействует. Пожары, голод и кабак свирепствуют по всему пространству Великой и Малой и Белой России… Гимназии плодят идиотов. Университеты порабощены. Интеллигенция отсутствует. Печать в оковах. Ужасный призрак «отделения» витает над умами. Честная мысль цепенеет.
Гости дружно поддакивали, мрачно хмурили брови и пили чай. Когда же Протас умолкал, выступали на сцену подмывающие сообщения. Один сообщал, что в соседнем уезде становой перепорол целую волость; другой — что такой-то «батюшка» не берет за свадьбы менее двадцати, рублей; третий — что помещик Карпеткин распродал имущество целой деревни "за неотработку"; четвертый что в селе Ольхах повымерла третья часть населения, пока спохватился приехать доктор… И до бесконечности. Горе и скорбь до того переполняли атмосферу, что чувство положительной беспомощности, казалось, безраздельно овладевало нами. Тьма окружала нас со всех сторон. Ни одна струйка света не пронизывала угнетающей тьмы. И Протас с мрачным самодовольством упивался этой атмосферой отчаяния. С неизъяснимым видом многозначительного торжества терзал он нервы слушателей. Но наступала пауза, и Протас смягчался. Широкий и светлый луч внезапно пронизывал ужасную тьму. Не о струйке, но о потоках ослепительного света говорил Протас… только в приложении к будущему. В противоположность многим отрицателям, он имел и нечто положительное. Это «положительное» заключало в себе универсальное средство против всех зол, по мнению Жолтикова. И когда с видом важной решимости он сообщал своей аудитории ту степень свободы, которая, по его мнению. необходима, аудитория дружно подхватывала заветное словечко и хором разражалась успокоительными возгласами. Мрачные лица прояснялись. Напряженное воображение входило в русло… А Протас сидел как жрец и сверкающим взором обводил гостей!.. {307}
И тогда темы политические уступали место узкожитейским. Велся разговор о банке, о директорах банка, о голове, о полиции, о ценах на рожь и овес, о «жидах», заполонивших торговые пункты… И тут уже речи не было о либеральных принципах. И «жиды», и рожь, и исправник трактовались с точки зрения исключительно местной, купеческой, и только. Правда, и здесь иногда прорывалась хлесткая фраза, но роль этой фразы была уж откровенно декоративная. У жолтиковских гостей было два масштаба: один для государства, другой для их тесного круга.
Но это не вносило разлада в их души. Над ними витало благодатное отсутствие логики. Личность с легким сердцем противополагалась ими государству. В теории государство казалось им врагом, но на практике они взывали к нему, как к силам всемогущим, и, конечно, если бы ощущали в нем плоть от плоти своей, — совершенно успокоились бы. Раздражение, ими испытываемое, большею частью было искусственным, напускным раздражением. Правда, известная степень его имела несомненную почву. Это — та степень, которая вызывалась неудобствами непосредственными. Все же то, что возбуждалось по рефлексии, было непрочно. Вот почему так легко совершался у чайного Протасова стола переход от вольнодумства к господину Кокореву и заграничный метр в руках заменялся отечественным аршином.
Бывали в числе гостей люди и с более развитой логикой. Мне особенно памятен один. Он был единственным сыном того самого купца, который после шести удачных банкротств воздвиг церковь. Он ходил тайком к Жолтикову. Это был юноша лет девятнадцати, бледный и стройный как тополь, с мягкими чертами лица и мечтательным взглядом. Он больше всех молчал, но, кажется, и более всех внимал речам Протаса. Интересно было смотреть на его чутко-внимательное личико, когда Протас, подобно Мефистофелю, изливал свой яд на все и на вся. Такая истома в то время отпечатлевалась на этом личике, такая внутренняя мука зажигалась в темных глазах юноши, что было больно. Но когда Протас предъявлял свою рецептуру и, как шарлатан на ярмарке, сулил золотой рай от одного только слова "эврика!", лицо юноши загоралось восторгом и какая-то тайная решимость напрягалась в его взгляде… Юношу звали Харлампием. {308}
Аудитория расходилась поздно. Кроме чая, ничего не подавалось. Я и позабыл в свое время сказать о чрезвычайной скупости Протаса. Несмотря на весьма-таки кругленький капиталец, он ограничивал себя во всем. Для чего он копил деньги, — не понимаю. Думал я сначала, что он, соответственно своему либерализму, уделяет из них на нужды граждан. Ничуть не бывало. Когда ходила по городу подписка на стипендию одному юноше, без всяких средств добравшемуся до третьего университетского курса, а на третьем курсе схватившему голодный тиф, — Протас подписал менее всех. На библиотеку для города он тоже пожертвовал только четвертак. Были и еще случаи.
…К концу зимы Харлампий особенно часто стал посещать Протаса. Он все по-прежнему молчал, в благоговейном восторге внимая речам Жолтикова. Только раз, каким-то непонятным для меня процессом, он доведен был до степени относительной беззастенчивости. Как сейчас помню, это было в начале марта. Солнце уже сильно пригревало, и среди дня на дорогах стояли лужи. В воздухе веяло чем-то мягким и вместе раздражающим. Дали особенно просветлели. Голубые леса резкой чертою обрамляли снежное поле… На дворах теплился навоз и хлопотливо кудахтали куры… В такую пору какая-то тоска сладко стесняет грудь и заманчивая даль мучительно зовет к себе… И тогда Харлампий беспрерывно прерывающимся и дрожащим от внутренней тревоги голосом произнес перед Протасом что-то вроде исповеди. У него изболела душа и изныло сердце. Отцовский деспотизм и семейное лицемерие измучили его. Ему претят и кажущаяся строгость морали, и колокола, и молебны, и двусмысленные торговые предприятия. Аромат деревянного масла и восковых свечей захватывает ему дыхание. Ложь, что проникает все дела и все помышления родных и близких, истомила его. Ему противна обстановка. Его волнуют грешные мысли. Ему мерещится таинственная даль и влечет к себе что-то неведомо страшное…
Я и теперь без тоски не могу вспомнить эту исповедь милого юноши. Это было днем. Протас был один в своей комнате. Щегол издавал меланхолический писк. Косые солнечные лучи умирающим блеском скользили по скучным стенам. Протас молчал, а юноша говорил, и говорил… {309} Он с какой-то лихорадочной торопливостью обнажал свою душу. Голос его то звенел напряженным звоном надтреснутого стекла, то переходил в глухие рыдающие ноты. Наконец он замолчал. Наступила и длилась добрые пять минут невыразимо тяжелая пауза. Тогда заговорил Протас. С бессердечием хирурга наносил он удары самым «сокровенным» юноши. С опытностью мастера начертил он картину будущих его отношений к семье и к обществу. Двоедушие, глубокий внутренний разврат, необузданно извращенная воля, грабеж, называемый торговлей, дешевое умиротворение совести посредством иконостаса или оклада на икону, угнетение бедняков, скудость мысли, узкие до пошлости интересы — все входило в эту картину, заполоняя ее непробудной тьмою.
Каждый штрих, намеченный Харлампием в его исповеди, Протас с каким-то беспощадным наслаждением растравлял ядом самых необузданных представлений. Харлампия погружало в отчаяние настоящее. Протас представлял ему будущее. Он терзал его молодую душу с непоколебимой настойчивостью. Он безжалостно срывал перед ним завесу с той роли, которую невольно даже обязаны изображать и отец Харлампия и подобные ему. Он представил их как язву, разъедающую государственный организм; как казнь египетскую, ополонившую ужасом сердца народа. Народ, по его словам, был труп, в котором безвозбранно свили себе гнезда гады, подобные его отцу. В тоне Протаса уже не слышались обычные брюзгливые ноты, голос его не скрипел и не прерывался раздражительным фырканием. Какой-то внутренний жар проникал этот голос крепким звуком меди, и сердитая брюзгливость тона заменилась важным и величественным гневом. Он походил на пророка.
Я не дождался конца сцены и ушел из дому. Возвратившись, я застал у себя Протаса. Лик его представлял воплощенное торжество.
— Слышали? — с нескрываемым видом самодовольства спросил он.
Я сказал, что слышал.
— Вот они, времена! Отец — миллионер, а сын-то вот оно что… Единственный ведь сын. Что совесть-то означает: в дебри пролезать начала! {310}
— Так-то оно так, да вы, кажется, чересчур уж растревожили юношу — не сделал бы он чего?
— Чего сделает — мальчик. Ему бы по-настоящему с указкой сидеть. Письма не умеет написать… А что затеет ежели, — у отца и плеть есть. У них ведь это просто. Тьма! Застой! Рутина!
Несмотря на то, что Жолтиков, по-видимому, не придал важности моим предположениям, его все-таки посетило некоторое беспокойство. Все сумерки он проходил одиноко в своей комнате, угрюмо напевая "Святый боже". Самые шаги его, необычно тяжелые, изобличали беспокойство. А улегшись на сон грядущий, он долго ворочался, не засыпая, и даже неоднократно кого-то здорово обругал.
На другое утро, не успел еще Жолтиков уйти в обычную свою экспедицию, как нежданно-негаданно явился Харлампий. Я видел его, когда он прошел по двору. В длинных сапогах и в полушубке, с маленькой сумкой под мышкой, он имел вид человека, собравшегося в путешествие. Радостно взволнованное лицо его горело застенчивым румянцем. Широко раскрытые глаза блестели подобно глазам сокола.
Протас, очевидно, не ждал его. Когда он произносил обычное приветствие, голос его являл некоторую сухость. В нем даже трепетали явно неприязненные нотки.
— Проститься к вам пришел, Протас Захарыч… — возбужденно заговорил Харлампий, по-видимому не примечая в Протасе особого настроения духа.
Тот был поражен.
— Как проститься? Что такое? Что ты задумал? — вскрикнул он как уязвленный.
— Еду. Пущусь на счастье… Авось добьюсь чего-нибудь в Питере!
— В Питере! Ах, безумный… Ах, беспутный ты… Николай Василич, слышите вы? Идите сюда, остановите безумца… уговорите его!.. Он пропадет… Он погибнет… Он убьет отца!
Я поспешил к ним. Юноша, еще недавно казавшийся таким радостным, имел вид печальный. С каплями слез, застывших в красивых глазах, бледный и смущенный, он как-то растерянно смотрел на Протаса. Его мешочек сиротливо покоился на полу, у дверей. {311}
А Протас порывистыми шагами измерял комнату и в необычайном беспокойстве потирал руками. Взор его полон был злобы и смущения. Пренебрежительная усмешка искривляла губы.
— Представьте, уйти хочет! — встретил он меня. — Уговорите его, убедите… Растолкуйте ему, что он осёл… Скажите ему — негодяй он… Как! — убить отца… убить мать… Почтенных людей… уважаемых в обществе!.. Скажите ему это… Спасите его, дурака!..
Юноша разразился рыданиями.
— Сами же вы, Протас Захарыч… Сами же вы вечно говорили… Я жить хочу… Я не могу больше… Я учиться хочу… Я в университет желаю! сквозь слезы восклицал он.
— Олух!.. Глупец!.. Я говорил ему!.. Я его научал!.. Дубина ты этакая, — я разве тебя учиться посылал… Куда ты годишься?.. Ты двух слов грамотно не напишешь… А! в университет захотел!.. Ах ты, оглобля… Ах ты, дубина еловая… Какие же ты права-то имеешь? Где у тебя документы — покажи!.. А? Он жить хочет… А отец с матерью не хотят жить?.. А торговля станет, а убытки через тебя, мерзавца, а?.. Это ты ни во что не ставишь?.. Ты теперь на, чей это счет в Питер собрался?.. Какие-такие у тебя капиталы? а?.. У отца наворовал?.. А отца уморить хочешь… Болва-ан, тебе уж двадцать лет, болва-ну-у… Тебе уж отца-старика пора переменить… Проститься!.. Ах, ты… Да знаешь ты, что тебя в полицию бы по-настоящему… У-у-у… — и в бессильной ярости Протас затопал ногами.
Действие этой реплики было поразительное. Харлампий с каким-то неодолимым вниманием устремил странно неподвижный взгляд на лицо Протаса. Он, казалось, следил за движением его губ. Изумленно расширенные глаза его изображали ужас… После сумасшедшей выходки, закончившей необузданную реплику Протаса, он вдруг как бы спохватился. Мелкие слезы брызнули из его глаз. Он стремительно вскочил со стула, схватил свой мешочек и, пролепетав что-то невнятное, выбежал из комнаты.
А Протас долго не мог успокоиться. Долго он ходил по комнате, изливая мне свои жалобы.
— А? — каков!.. Еще не обокрал ли отца-то!.. Вот положение… Ей-богу, за потатчика прослывешь!.. Не чаял, {312} не гадал, в уголовщину влопался… Я говорил! — передразнил он Харлампия, — ведь этакий болван!.. Я говорил вообще… Я говорил о политике, — а он вот куда метнул… Каков олух!.. Да нет, этого нельзя оставить, надо к отцу бежать… Очень легко влопаешься!.. Влопаться оченно даже удобно… Ах, ты… Вот щенок-то!..
Он наскоро оделся и действительно направился к отцу Харлампия.
Не знаю, что происходило там и какими именно мерами укрощали некстати предприимчивого юношу. Но весной, в конце апреля, он все-таки убежал от отца. Пребывание его долго оставалось неизвестным. Уже много спустя узнали про него, но тогда было поздно: ни домой, ни даже в университет возвратить блудного сына было невозможно…
Весною же неожиданно переселился в "сени мирные" и Протас Жолтиков.
Переездка моя на хутор затянулась, и последние дни Протаса прошли передо мною во всей их безжалостной поучительности. Умирал он в мае. В комнату, где лежал больной, непрестанно врывалось солнце и проникал сладкий аромат сирени. В соседнем саду неугомонно щелкал соловей. До самых последних дней Протас лежал в мрачном молчании, терпеливо принимал лекарство и без раздражения сносил присутствие сестры. Когда у постели его собирались знакомые, он просил их говорить много и долго и с особенным удовольствием слушал. Сначала его стесняло солнце и утомлял яркий блеск майского неба и запах сирени, но потом он приказал придвинуть постель свою к окну и целые часы пребывал в каменной неподвижности, внимая звукам, несущимся в открытое окно, жадно вдыхая аромат сирени и подставляя желтое лицо свое, с резкими, угловатыми чертами, ласковому солнечному лучу. Настроение его казалось спокойно мрачным.
Но в одну ночь это внезапно изменилось. Быстро последовали припадки ухудшения. Болезнь с неумолимой настойчивостью стала разрушать изможденный организм. Мрачное спокойствие покинуло Протаса и заменилось отчаянием. Он то в каком-то слепом бешенстве изрыгал проклятия, то малодушествовал и трогательным шепотом произносил молитвы. Умирая, он потребовал, священника. Но отойти с миром не довелось ему. Когда жизнь уже {313} окончательно потухала в нем и предсмертный холод начинал леденить члены, пароксизм бешенства овладел им. Неестественно сильным движением он приподнялся с подушек и со стоном и скрежетом зубовным потрясал иссохшею рукою, кому-то грозя, кого-то проклиная… Упал он уже безжизненный…
А солнце до конца не изменило ему. В час смерти оно обильно и щедро заливало светом его комнату. В открытое окно, с торжественной медлительностью, вплывали звуки далекого благовеста. Легкий ветер нежным шорохом разбегался по кустам сирени, и соловей разливался серебристыми трелями.
Деревянной сестре досталось пятьдесят тысяч. {314}
XIII. Поплешка
…Лошади устали и пошли шагом. Я откинул воротник шубы и огляделся. Кругом распространялась снежная степь. Кусты там и сям выделялись на ней серыми пятнами. Был сильный ветер, и несла подземка. Растрепанные тучи быстро бежали по небу. Из-за туч, неверно и трепетно, светил месяц. Прихотливые тени мелькали вдоль дороги. Дали то озарялись молочным блеском, то покрывались клубами свинцового мрака. Торжественный гул ветра доносился из кустов. Колокольчик звенел редко и уныло.
На перекрестке поравнялись и затем потрусили за нами убогие дровнишки… Взъерошенная лошаденка в веревочной сбруе, тяжело отдуваясь, торопливо переступала маленькими ножками. Она беспрестанно вздрагивала всем своим худым телом и при малейшем шорохе вожжей пугливо вздергивала голову.
Из дровней выскочил мужичок. Неизвестно для чего ударив кулаком бедную лошаденку, он побежал с нею рядом, вслед за нашими санями. Трепетный свет луны иногда скользил по нем фантастическими пятнами, иногда озарял его явственно и резко. Мужичок поражал убогим своим видом. Одежда его, начиная с шапки и кончая онучами, была одно сплошное лохмотье. Утлые руки болтались вяло и беспомощно. Тонкие, как спички, ноги копотливо переступали по снегу, спотыкаясь и заплетаясь друг за друга. От всего существа его веяло какой-то слабостью и уничижением.
Он на бегу поклонился мне, и по его лицу, в этот миг освещенному луною, расплылась неопределенная улыбка. {315} Он, видимо, очень озяб. Сжатые губы его дрожали, сморщенное в кулачок лицо было бледно. Отсутствие всякой растительности на этом лице придавало ему какой-то бабий вид.
— Чей ты? — спросил я.
— Ась?.. — торопливо отозвался мужичок и побежал рядом с моими санями, от времени до времени хватаясь за задок.
Я повторил вопрос.
— О-ох, чей-то я?.. Вот уж и не умею тебе, матушка, сказать… Чей, чей… — в каком-то раздумье повторил он, — допрежь барские были… Козельского барина, с Козельцев… — и добавил поспешно: — Козельский я мужичок, матушка, козельский… Поплешкой меня звать. Отца — Викторкой, меня — Поплешкой…
— Что же это за имя? — удивился я, — может, дразнят тебя так?
— Нет, зачем дразнить, — настоящее званье: Поплешка. 1
— Чуднoе имя.
— Ох, правда твоя, матушка, — чудён у нас поп… Самовластительный, гордый поп. Это что — Поплешка, — у нас Бутылка есть… Ей-же-ей, матушка, Бутылка!.. Мужик как есть во всех статьях, — и видом, и все, а — Бутылка… О, самовластительный поп. Допрежь того, вот что я тебе скажу, матушка: барин у нас мудёр был. Такой мудрый барин, такой мудрый… Тот, бывало, не станет тебя Иваном аль Петром звать, а как пришли кстины, так и велит попу либо Аполошкой, либо Валеркой кстить… А то вот еще Егешкой кстили. Мудрый был барин!.. Ну, барин перед волей помер — поп замудрил: Поплешка да Бутылка, Солошка да Соломошка, так и заладил…
— Ну, а кроме-то имен ничего себе поп? — поинтересовался я.
— Он ничего себе… В кабале мы у него, матушка! Как лето придет, он нас и забирает: того на покос, того на возку, того на молотьбу… Поп гордый, поп богатый. Поп не то чтоб спуску давать, а всячески в оглобли норовит нашего брата. Свадьба ежели — три десятины ему {316} уберешь; кстины — полнивы; молебен — свезешь ему десятину; похороны ежели — молоти десять дён… Человек тяжелый, немилосердый человек.
— И давно он у вас?
— А давно уж, матушка… Меня кстил, а мне вот двадцать пятый год идет…
В это время луна осветила Поплешку, и лицо его показалось мне очень старым.
— Да ты старик! — невольно воскликнул я.
— А ты как думал, — с некоторой гордостью произнес он, — я женат седьмой год, у меня вон трое детей, матушка, да два дитенка померли летось…
— Ну, вы и не жаловались на своего попа? — спросил я после маленькой паузы.
— На отца Агея?.. Нет, не жаловались, — и, внезапно придя в веселое расположенно духа, добавил: — Хе-хе-хе… А поди-ка пожалуйся на него… Попытайся-ка… Он тебе, брат, таких… Он тебе таких засыпет!.. Нет, нет, матушка, жалоб чтоб не было. Поп он гордый, не любит жалоб.
— Мы довольны, — заметил он после некоторого молчания, — поп он жестокий, а мы им довольны. Он вызволяет нас. Работаешь ему — он рад. Он работу помнит — придешь к нему, сейчас он тебе водки… Добрейший поп!.. Кабак-то у него свой, — таинственным полушепотом добавил он, — попадьин племянник в нем. Племянник — попадьин, а кабак — попов! — И мужичок с лукавством прищурил правый глаз.
Мы помолчали несколько минут, в продолжение которых мужичок, проворно переплетая своими ножками, раза два подлетал к лошадке и бил ее кулаком по морде, причем сердито и отрывисто крякал.
— За что ты ее?
— Э… одер!.. — неопределенно произнес мужик и неизвестно почему рассмеялся жидким, тщедушным смехом. Впрочем, несколько годя, как бы в оправдание, прибавил:
— Замучила, ляда…
— Откуда ты едешь?
— Хутор тут есть, матушка, — оттуда. Чумаковский хутор-то.
— Зачем же?
— Хомуточка, признаться, на шейку добывал… {317}
Поплешка снова рассмеялся.
— Какого хомуточка? — не понял я.
— А работки бы мне. Работки ищу.
— Ну что же, взял?
— Э, нет! Не дали, матушка. Скуп стал Чумаков-купец, не дал работки.
Он несколько помолчал.
— Да, признаться тебе, матушка, бедовое их дело, этих купцов… Знамо, я так рассуждаю — скуп купец. Но только и наш брат мудрен стал… Ты теперь возьми меня вот: лошаденка у меня одна, и тут… — мужичок с какой-то детской злобой замахнулся на лошаденку, отчего она так вся и шарахнулась в сторону, так вся и затрепетала, — работник я один, бабу ежели считать хворая она, ребятишки малы… Вот я летось взял у Чумакова косьбу, а пришло дело, меня и с собаками не отыскали… Ох, мудрен ноне народ стал!
— Отчего же ты не косил?
— Косить как не косить… Косить-то я косил, да только у другого… Другой позверовитей… Другой взял меня прямо из клети да и поставил на полосу: коси, хошь издыхай…
— Да как же ты это?..
— Эка, матушка!.. У двух-то по зиме взята работа, а то еще наемка была — прямо на деньги. Тут взят задаток. Да попу еще… А там сама собой своя нивка осыпается… Бедность-то наша, сокол мой, непокрытая!
— Что ж, и все такие бедняки в вашем селе?
— Ну, нет… Есть дюже поскуднее… Вот у Бутылки, у этого, опричь двух овец, и скотины нету — должно ноне на подушное пойдут. Есть и еще мужички… Есть и такие — окромя рубахи и портков ничего нету… Ну, те уж в батраках. Ох, плохие, матушка, есть жители…
— Что же у вас — земли мало?
— Маловато, маловато. Да мы ее, признаться, и не видим… Раздаем мы землицу-то. Есть у нас такие мужички, — нечего сказать, богатые мужички, они нас выручают: землицу-то за себя берут, а нам деньгами… Много раздают денег.
— Но чем же вы кормитесь?
— Кормимся-то чем? Ох, трудно, матушка, по нонешним временам кормиться… Страсть как трудно!.. Работкой {318} мы больше кормимся… Заберем, бывало, по зиме работку и кормимся. А то опять землю сымаем, у купцов сымаем, у господ… Как хлебушко поспеет — платим за нее. Хорошие деньги платим!.. — И мужичок добавил с легким вздохом: — Ох, трудно кормиться, матушка!
А спустя немного продолжал, впадая в таинственный тон:
— Ты вот что скажи, матушка, купцы-то что затевают… О, великое дело затевают купцы!.. Я вот поехал, признаться… Прошу работки, а Чумаков мне в окно кажет: "Смотри, говорит, Поплешка… Вы у меня, говорит, Поплешка, душу вынули своей работой, — шабаш теперь!" И смотрю я, матушка, в окно и вижу: сметы нет сох наворочено… Сохи, бороны, плуги, телеги… "Это что же, говорю, означает, Праксел Аксеныч?" — "А то, говорит, означает — будет вас бaловать-то… Наберу теперь батраков и шабаш… Мы вас, говорит, скрутим… И я, говорит, завожу батраков, и иные купцы заводят, и господа сох понакупили…" О-ох, хитрый народ купцы!.. "Как же нам-то, говорю, Праксел Аксеныч? Ну, мы в батраки, а детки-то?" Смеется… "Обойдетесь… говорит. Мы, может, говорит, и фабрики заведем — всем работа найдется, не робейте…" — Вот оно что, матушка!.. Робость, какая робость… Робеть нам нечего, но только и хитрый же народ эти купцы! — добавил Поплешка.
— Как же вы теперь жить-то будете без земли и без работы?
— А уж не знаю, как жить… По миру ежели… Да плохая тоже статья стала. Обнудел народ, немилостивый стал, строг… Ходят у нас по миру половина села ходит… Только плохо… А вот я тебе, матушка, скажу: хорошо это купцы удумали — батраков заводить. Заведут себе батраков — как важно работа у них пойдет! Народ — купцы — строгий, хозяйственный народ!..
— Вы-то чем жить будете, вы-то?
Мужичок промолчал.
— Что вам-то делать? — настоятельно повторил я.
Но мужичок снова не ответил и неожиданно вымолвил:
— Хорошие есть места на Белых Водах!
— Ты почему знаешь?
— Ходили некоторые. {319}
— Что же, там и остались?
— Э, нет, — воротились. Не способно, матушка… Земли там свободной не стало. Придешь — гонят. Купить ежели — достатков не хватает… Воротились.
— Вот урожаи опять, — помолчав, произнес он, — оченно стали плюхи урожаи. С чего это? — и, не дождавшись моего ответа, сказал: — А с того, матушка, нечем нам стало работать… Ни навозу у нас, ни лошадей… Ледащий мы народ.
— Ну, надеетесь же вы на что-нибудь, ждете же чего? Чего вы ждете? Ну, чего вы ждете?
— Может, нарезка какая будет… Может, насчет земельки как… — робко и неуверенно предположил Поплешка.
— Да если вам и дать-то еще земли — вы небось и ее мироедам отдадите…
Поплешка подумал.
— Ежели прямо вот как теперь — отдадим, — сказал он решительно, — нам один конец — ее отдать… Потому, насчет пищи у нас недохватка. Большая недохватка насчет пищи. Ежели так будем говорить: нарежь ты мне теперь, ну, хоть бы три сороковых, — прямо бы я их Зоту Федосеичу заложил. Куда как нужно тридцать целковых!.. Это тридцать, матушка, ежели не подохнуть… А там окромя еще: там долгов за мной более двух сот — вот за одра за этого шестьдесят целковых Зот Федосеич считает, — с ненавистью указал он на лошаденку, — там недоимки семнадцать, там скотинёнки надо! — и, как бы охваченный наплывом непрестанных нужд, он с безнадежностью воскликнул: — Э, нет, и нарежут ежели, то не поможет!.. Умирать нам, матушка… Один нам конец — умирать!
И переполнив тон свой назидательностью, продолжал:
— Я тебе расскажу — знаменье тут было. В селе Тамлыке вот… Вот, матушка, слышат люди — плачет ктой-то под престолом в ихней церкви… Поговорили с попом, тот и бает: надо покараулить, говорит… И сел на ночь в алтаре. Только, матушка, сидит он, и вдруг o-полночь приходит белый старец. "Что ты, говорит, сидишь, — это попу-то, — ты хоть не сиди, я тебе ничего не скажу, а скажу я, говорит, отроку или отроковице…" Думали-думали — посадили на другую ночь отроковицу. Ну, сидела-{320}сидела эта отроковица и заснула. Только слышит, кто-то будит ее, смотрит — белый старец. "Скажи ты народушке, говорит — и говорит таково грозно, — быть беде до исходу… Быть беде до исходу, быть голоду до пяти годов… есть народушке друг друга…" И пропал. Вот оно что, матушка, вот о чем надо поразмыслить. Аль опять тебе порассказать: у мужика на копнах птицы говорили. Где, не знаю, но только в округе. Он подкрался и слышит говорят… Одна птица большая, белая, другая поменьше и вроде как с красниною. И говорят они человечьим языком. "Ой, много беды на свете! говорит меньшая птица, людское горе что море стало…" — "Это не горе, горе впереди, — отвечает большая птица… — И такое горе, что супротив татарщины али француза вдвое боле!… Много, говорит, беды впереди…" Вот оно что, матушка!.. И вид у птиц вроде как звериный, очи светлые, и нос широкий…
Он опять замолчал. Колокольчик монотонно позвякивал под дугою. Шумел ветер. Тучи нескончаемой вереницей бежали по небу. Свет месяца бросал на них янтарный отблеск. Безграничная степь расстилалась oкрест.
— Народ болеет, матушка! — неожиданно воскликнул Поплешка. — Дюже болеет народ… Так болеет — даже ужасно!.. Ребятишки теперь это — валом валят бедняги… Захватит горло, заслюнявеет, и готов миляга. Квёлый народ. — Али теперь болесть дурную взять — и нет тебе двора, и нет тебе семьи, где бы без ней… Насквозь изболели!.. Али горячки… Э, трудные времена, матушка!.. Такие-то трудные, такие-то горькие времена — беда!
— Но что же вы будете делать! Что вас ждет-то впереди! — подавленный ужасным простодушием Поплешки, воскликнул я, но он повторил: "Горькие времена!" и замолк в раздумье.
— Может, урожай хороший будет? — старался я ослабить угнетавший меня призрак грядущей беды.
— Урожай?.. — как бы спросонья отозвался мужичок. — Э, нет, матушка… Посылай бог урожаю, давно урожая не было, ну, только нам это плохая подсоба… Увязли мы, сокол мой… Так увязли, так увязли… И родится ежели — отберут у нас хлебец-то… Зот Федосеич отберет, отец Агей отберет, в магазей отсыпят, на подушное продадут… А долги-то? мало их, матушка, долгов… {321} Ох, нет у бога такого достатка, чтоб народушко вызволить… Изболел народ, истомился…
И он внезапно каким-то дрожащим, дряблым голоском затянул: Господи сил с нами буди…
А меня охватила какая-то неизъяснимо мучительная тоска. Под наитием этой тоски и снежное поле, и трепетный свет луны, и быстро убегающие тучи, и шум ветра в лесу — показались мне чем-то до ужаса унылым… Душа проникалась суеверным страхом. Слабенький голосок мужичка принял в ушах моих какие-то торжественные ноты и слился с могущественными аккордами ветра.
…Лошади рванулись и побежали. Колокольчик зазвенел надоскучным звоном. Я оглянулся назад. Отставший Поплешка кропотливо трусил около своей лошаденки, от времени до времени угощая ее ударами кулака. В небе клубились тучи. Сумрачные тени мелькали вдоль дороги. Печальная степь убегала в смутную даль… Подземка мела. Серебристая пыль струилась над сугробами…
Тоска… тоска!.. {322}
XIV. Липяги
Однажды в мае велел я заложить Орлика в дрожки и отправился в Липяги. Я еще ни разу не был в Липягах. Владельцы этого имения познакомились со мною недавно. Впрочем, и самое знакомство это до того оригинально, что я расскажу о нем читателю.
Был март месяц, и начиналась ростопель. Лог, около хутора моего, тронулся и образовал опаснейшие зажоры. И вот в одну из этаких-то зажор, в один тусклый и сумрачный полдень, застрял тяжелый и неуклюжий барский возок. Ко мне на хутор прибежал кучер, по пояс мокрый, и «Христом-богом» просил помощи. Вместе с этим просил он и захватить с собою какого-либо «средствия», ибо барыня, находившаяся в возке, по его словам, «сомлела». Взял я «средствие», захватил с собою ребят и лошадей и отправился к логу. Истерический и, по правде сказать, чрезвычайно визгливый женский голос еще издалека призывал на помощь. Кучер заявил, что барыня очнулась, потому кричит она… Я принял к сведению.
Спустившись в лог, мы увидали такую картину. Лошади сидели по шею в снегу, насыщенном водою, и от времени до времени прядали ушами и недовольно фыркали. Возок глубоко врезался в зажору и точно заклеился… В окне возка, пытаясь вылезть, застряла толстая барыня и теперь, что есть силы упираясь руками в рамки окна, кричала благим матом. Толстое лицо ее, сильно покрасневшее от натуги, являло вид неизъяснимого испуга и было смешно до крайности… Ее с самого начала высвободили и, рыдающую и дрожащую всеми членами, увезли на хутор. Но в возке еще оказалось существо. Это был {323} низенький и худенький мужчинка в огромной медвежьей шубе и в картузе с желтым уланским околышем. Кучер объяснил мне, что это барин. Впрочем, и сам барин не замедлил отрекомендоваться мне, лишь только ступил на твердую почву. Звали его Марк Николаевич Обозинский. По своем освобождении из возка он неоднократно горячо и порывисто жал мне руки, но говорить почти ничего не говорил и только иногда, разводя руками, в какой-то рассеянности произносил: "Вот!.." Впрочем, он совершенно не был испуган, но вообще казался странным. То долго и недвижимо стоял он на одном месте, упорно устремляя взгляд свой в пространство, то ни с того ни с сего начинал суетиться, топотал ножками, горячился, плевался и изъявлял неудержимое стремление к действию… Имел он, разумеется, чин штабс-ротмистра в отставке, и ему принадлежали Липяги.
Когда, высвободивши, наконец, из зажоры возок и лошадей, мы с Марком Николаевичем приехали на хутор, барыня уже успела несколько прийти в себя и сидела за чаем, который, с грехом пополам, наливала ей кухарка моя Анна. Она объявила мне, что зовут ее Инной Юрьевной, что она урожденная княжна Чембулатова, и затем, что она до гроба, до гроба не забудет моей услуги… Тут воспоминание о зажоре снова разволновало ее, и с нею снова сделался легкий истерический припадок. Марк Николаевич в присутствии супруги держал себя неуверенно и робко жался около стенки. Но ему, бедному, все-таки пришлось испытать бурю. Оправившись от припадка, Инна Юрьевна стремительно напустилась на него. Она разразилась градом упреков. По ее словам, он был злой, неблагодарный человек, — человек, который в грош не ставит ни ее спокойствия; ни здоровья… Он был бы рад, — патетически восклицала она, всплескивая руками, — был бы рад довести ее до гроба, чтобы с еще большею наглостью, с еще большею бессовестностью тунеядствовать, убегать от дела и разорять дочь… О, она знает его идеалы!.. Она знает — ему бы строить да строить церкви, лежать бы да молиться, да беседовать с попами… О, зачем она, княжна Чембулатова, не пошла за шибая, за кулака, она была бы счастлива, она была бы несомненно счастливей, чем за этою хилою отраслью древнего рода… Но пусть он знает, что назло ему она будет жить, {324} будет жить для дочери, для милой своей Любы, и на всю его злобу к ней, на всю ненависть ответит только презрением… Да, презрением! — И с Инной Юрьевной снова сделался легкий истерический припадок.
Марк Николаевич был в полном смущении. Он то растерянно семенил маленькими своими ножками и разводил руками, то жалобно восклицал, обращаясь к жене: "Ах, матушка!.." и затем произносил недоумевающее свое "вот!..", уже неизвестно к кому обращаясь. Эта нерешительность, эти смешные и робкие манеры отставного штабс-ротмистра, кажется, еще более раздражали madame Обозинскую. Она была готова отравить несчастного своими взглядами и, вероятно, только мое присутствие сдерживало ее от еще более откровенных излияний… Я понял это и удалился. Но поняли, должно быть, и меня, ибо тотчас по уходе моем барыня утихла и попросила к себе Анну. Через час меня позвали, и я не узнал Инну Юрьевну. Хотя следы недавнего раздражения все еще были заметны на ее чрезмерно полном лице, но уж тени неприличной экспансивности она не позволяла себе. А между тем Марк Николаевич был тут, и манеры его, несмотря на усилия, все по-прежнему были робки и нерешительны. Правда, обращалась с ним Инна Юрьевна с холодностью и иногда даже бросала на него пренебрежительные взгляды, но и только. Она вошла в свою колею вполне приличной дамы. Приветливая, но вместе с тем и сдержанная улыбка не сходила с ее полных, густо румяных губ. Манеры поражали мягкостью. Французские слова уснащали речь.
Предо мною она рассыпалась в тысяче обворожительных фраз. Она никогда не забудет, чем обязана мне. Я ее осчастливлю, если приеду к ним в Липяги. Марк Николаевич тоже будет очень рад, (Марк Николаевич раскрыл рот и хотел изъяснить что-то, но только и успел, что растерянно улыбнуться.) Для них не будет более дорогого гостя. И она удивляется, как не знакомы они до сих пор со мною.
— Вы, конечно, знаете наше имение?
— О да, я знаю Липяги.
— Вы знаете, как летом там хорошо… Река, сад, дом — надеюсь, не без удобств… И мы вас просим, убедительно просим вас посетить наше убежище… Не правда {325} ли, вы приедете?.. Марк Николаевич тоже вас просит… (Марк Николаевич кланялся и, смущенный, шептал что-то. Он уже снова успел забиться в уголок.) У нас бывают, — продолжала Инна Юрьевна. — Мы имеем порядочное общество… (Французские слова я перевожу.) Мы познакомим вас. У меня дочь, Люба, Любовь Марковна, дитя еще, но она читает… Она уже не стеснит, не может стеснить развитого человека… Вы, надеюсь, останетесь довольны нашим домом… — И затем опять перешла к дочери: — О, я большая либералка!.. Я понимаю весь вред этих институтов там… Люба моя счастлива: я взяла ее из третьего класса и сама (на этом слове она сделала легкое ударение), сама составила ее воспитание… Вы понимаете, как это трудно у нас в России!.. Мне приходилось самой учиться, самой повторять старое, давно позабытое, и притом, ах мой бог, как учили нас в наше темное, безрассветное (она снова сделала ударение) время!.. "Мы все учились понемногу…" знаете?.. Конечно, я читала, я путешествовала, я была в Англии — ах, милая, милая Англия! — и я довольна!.. Вот вы увидите. Вы увидите, что это за милое, что за развитое дитя…
Инна Юрьевна немного важничала и вела разговор, несколько уж чересчур разнообразя интонацию. В мое отсутствие она успела переодеться и теперь, уютно расположившись в углу моего дивана, красиво драпировалась в складки своего дорожного платья, сшитого из той «простенькой» материи, которая так больно кусается, преображенная в чудо изящности француженкой модисткой.
Марк Николаевич все время разговора нашего что-то такое бормотал себе под нос, вероятно изображая в лице своем тоже собеседника; когда же Инна Юрьевна остановилась на мгновение, он настойчиво и неоднократно произнес, обращаясь ко мне:
— Рад, рад, рад… Прошу… тово… Просим… а?.. Я от души, тово… И Люба…
Пока прошел, наконец, злополучный лог, протянулось три дня. Эти три дня Обозинские прожили на моем хуторе. Оказалось, ехали они из Воронежа, где в местном отделении одного поземельного банка «перезакладывали» Липяги. Поехали же мимо хутора моего по совету Марка Николаевича, который как-то вспомнил, что тридцать лет тому назад он, тоже в ростопель, ехал по этой глухой {326} дороге и проминовал ее благополучно, между тем как дорога большая и в то время изобиловала зажорами… Вот почему и вылилось на несчастного столько упреков.
Хуторское житье чрезвычайно понравилось Инне Юрьевне. Новая, еще никогда ею не изведанная обстановка; глушь и тишина кругом; скромное, неприхотливое хозяйство — все приводило ее в восторг. Как институтка времен венгерской кампании, восхищалась она, наливая кофе из посудины, доставшейся мне чуть ли еще не от деда моего, ветерана двенадцатого года, или прибирая волосы перед зеркалом, все размеры которого не превосходили ладони… Грубые, некрашенные полы; разнокалиберная мебель; отсутствие ковров и обоев на стенах; ярославское белье на столе, хлеб без корзины и ножи с деревянными ручками — все это казалось ей превеселой идиллией, сценой из "Германа и Доротеи"… Нет сомнения, пресыщенная барыня так и выглядывала изо всех этих восторгов. Что касается Марка Николаевича, то он с утра до вечера спал как сурок, а добрую половину ночи молился и читал акафист "Сладчайшему Иисусу".
Вот история моего знакомства с Обозинскими.
…Итак, я отправился в Липяги.
Ольховки да Березовки, Поддубровки да Осиновки, изобилующие в нашем краю, несомненно свидетельствуют о дремучих дубровах и темных лесах, имевших место в нынешней степной стороне еще в недавние времена. И ныне вы можете встретить старожилов, которые расскажут вам, как на месте теперешних буераков в Березовке высился стройный белый лес, а в Ольховке росла «здоровенная» роща там, где теперь сочится зловонное болото и жалобно рыдают чибески. Не то Обозинские Липяги. В Липягах лес, давший название усадьбе, еще уцелел и радушно принял меня под свою ароматную тень. Правда, он был не велик, но почтенный объем деревьев говорил о его долговечности. Веселые птицы порхали и пели в его веселых душистых листьях, и ласковый ветер шаловливо трепетал в них. Было в нем и тихо и таинственно. Просека, на которой, переплетаясь, сводом висели ветви, вела к усадьбе. А усадьба, по обыкновению, сидела на пригорке и смотрелась в реку. Место было вообще хорошее и веселое. За домом и флигелями, по-видимому недавно покрашенными и недавно же принявшими особенно {327} праздничный вид (я вспомнил о ссуде, тоже недавно взятой), зеленелся и белелся цветущий сад, широко раскинутый по склону пригорка и по отлогому берегу реки убегавший далеко. За рекой расстилалась однообразная даль, зеленели луга и смутно чернелись деревни. В стороне от усадьбы весело и стройно воздвигалась белая церковь, окруженная свежим выгоном, а из-за церкви беспорядочно выглядывал поселок. Он едва был виден теперь за ракитами своих гумен и за липами леса. В другую сторону, и тоже далеко от усадьбы, желтелась барская рига, чернели и краснели крыши хозяйственных построек. Их было много, но уже издали они казались лишенными того праздничного вида, которым щеголяли постройки надворные. Мне даже показалось, что один, — амбар не амбар, но что-то вроде амбара, — зиял продырявленной крышей, и самая рига вопияла о починке.
Но перед домом все так и блестело исправностью. Тщательно взрыхленные клумбы, в которых теперь всходили цветы, были обложены сочным и пушистым дерном. Дорожки между клумбами усыпаны песком, и на дворе ни соринки… Густая сирень заслонила фасад от дороги и служила живой изгородью.
Весьма приличный лакей, в ливрее тоже очень приличной, ввел меня в светлую залу и оттуда, по надлежащем докладе, проводил к барыне. Инна Юрьевна предстала предо мною свежая и величественная. Комфортабельно расположившись в темном уголке будуара, на козетке, вокруг которой вились растения и цвели розы, она казалась и молодой еще и красивой. Прелестное платье (опять из «простенькой» материи) великолепно облегало ее полные формы, где нужно — ниспадая складками, и где требовалось — напрягаясь подобно парусу, вздутому ветром. Кончик щегольской туфли лукаво и не без намерения, конечно, выглядывал из-под платья. Лицо Инны Юрьевны, несмотря на свою полноту, поражало интересной бледностью. Слегка подведенные глаза обнаруживали томность.
Она полупривстала мне навстречу и, с обворожительной улыбкой подавая руку, рассыпалась в благодарности. Тут только заметил я господина весьма благообразной наружности, удобно поместившегося на низеньком кресле близ трельяжа. Инна Юрьевна познакомила нас. {328}
— Друг и будущий муж моей дочери, Сергий Львович Карамышев, — с некоторой гордостью произнесла она.
Я слышал нечто о Карамышеве и теперь с любопытством поглядел на него. От него веяло благовоспитанностью. Начиная от пробора в густых и темных волосах, начиная от безукоризненного белья и простого, но изящного костюма из великолепной китайской материи и кончая узким носком матовых ботинок и розовыми ногтями на продолговатых пальцах удивительно белых рук, все изобличало в нем чистокровнейшего джентльмена. Его бледное лицо, обрамленное небольшою, тщательно выхоленною бородкой, поражало тонкими, правильными чертами и было очень красиво. Правда, монокль в глазу и постоянная, несколько натянутая улыбка придавали этому лицу вид надменности, но вы тотчас же забывали об этом, лишь только раскрывались уста господина Карамышева. Тогда плавно и мягко, с какой-то сочной и ласковой интонацией, очаровывали ваш слух великолепно закругленные периоды, красиво составленные фразы и удачные, выразительные слова. Он говорил, как бы рисуясь своим мастерством, как бы вслушиваясь в звуки своего голоса, и говорил, избегая галлицизмов, избегая французских и английских слов, а напротив, реставрируя красивые архаизмы, напирая на них… Когда же неизбежно приходилось произнести ему иностранное слово, то он произносил его не иначе как с гримасою легкого неудовольствия.
— Вот мы спорим здесь, — обратилась ко мне Инна Юрьевна, — поддержите меня, пожалуйста, мсье Батурин… Сергий Львович такой недобрый: шагу не уступает мне, а между тем, ах, как я права, как неотразимо права!
— "Блажен кто верует — тепло тому на свете!" — серьезнейшим образом возразил Карамышев и, с благосклонной улыбкой обратясь ко мне, продолжал: Инне Юрьевне угодно оспаривать значение дворянства в деревне и опровергать возможность для этого класса крупной роли. Так как, по мнению Инны Юрьевны, дворянство должно служить токмо целям культуры, — и это весьма справедливо, — то оно и должно будто бы, сообразно с этим, идти туда, где служение этим целям более возможно, — так кажется Инне Юрьевне, — то есть в столицы и вообще в крупные центры. Там служить, образовывать {329} изящную бюрократию, поддерживать салоны, давать направление искусству… и все так далее, в этом же роде.
— Ах, непременно, непременно, мой милый Сергий Львович, иначе — как это говорится? — наша песня споется… Что деревня? Вы не поверите, как трудно, как невозможно почти, жить здесь порядочно… И притом, кто нас окружает — кулаки, попы, целовальники!.. А между тем, средства нужны, и их неоткуда взять… Ах, вы говорите: ра-ци-о-наль-но-е хозяйство… Бог мой, идите вы с Марком Николаевичем и смотрите на весь этот наш рационализм… Все, все есть! и плуги там, и веялки, и скоропашки, все, все… Ну, и что же? — ничего. Наши милые мужички все это поломали, все испортили, все поворовали… О, вы не знаете, как все это тяжело; вы большой идеалист, Сергий Львович, вы поэт… Но поживите здесь, и вы увидите… Я помню, — я тоже идеальничала… О, я думала облагородить деревню, превратить ее в то, что она есть в этой милой, милой Англии… Я думала встретить здесь людей, чутких к цивилизации, я думала встретить здесь сословие… И что же! (Инна Юрьевна горько всплеснула руками) я нашла здесь дикарей… Все, что было пообразованней, поизящней, все, что одарено было более благородными инстинктами, — все бежало отсюда, бежало в министерства, в гвардию, за границу… Я одна, как видите, борюсь до конца… И что же? Вот уже старухой (она кокетливо оправила платье) прихожу к тому же: бежать, бежать и бежать отсюда…
Всю эту реплику Карамышев выслушал очень сдержанно и только два раза позволил себе не без тонкости улыбнуться.
— Какое же ваше мнение? — обратился я к нему.
Он немного помолчал и затем ответил с серьезностью:
— Мое мнение таково. Наше сословие весьма недальновидно поступает, устремляясь в бюрократию. Я, конечно, не сословные интересы имею в виду, предполагая так, но интересы вообще государства. Мы важны тем, что мы единственные носители культуры. Составы нашего государственного организма несомненно жизненны, но согласитесь, они грубы; исключение составляем мы. И вот потому-то мы должны, наконец, получить наше значение. Служа в департаментах и министерствах, вращаясь при дворе и в гвардии, мы значение это только утрачиваем. {330} Это, впрочем, только мое мнение. Я допускаю службу, как школу, и затем домой, господа!.. В земство, в приход, в деревню!.. Пора, наконец, схватиться за ум. Наши земли расхищены, наше влияние уничтожено, наши статуи и картины проданы с молотка, — нам пора вернуть это. Нам пора занять подобающую нам роль, — роль просветителей и вождей народа. Эта роль принадлежит нам по праву. Мы должны, наконец, образовать… джентри; мы должны создать провинцию; должны сотворить настоящее, истинное европейское… self-government!1 Школы, больницы, приюты, суд, полиция, все это должно, наконец, принять истинно просвещенные формы и проникнуться нашим цивилизующим влиянием. Пусть не Колупаев с одной стороны и не нигилист с другой несут свое воздействие деревне, а люди благородной традиции, люди-преемственной и просвещенной культуры. Польза народа, с одной, и высшее развитие культурных стремлений, с другой стороны, — вот наше правило и вот, несомненно, наше знамя.
— Ах, все это мило, все это хорошо, все это очень красноречиво, но… поэзия, поэзия! — восклицала Инна Юрьевна.
— Боже мой, все спорят… Да когда же будет конец! — раздалось в дверях. Я обернулся и очутился лицом к лицу с девушкой лет шестнадцати, высокой, стройной, одетой скромно и со вкусом. Инна Юрьевна торжественно и снова с некоторой гордостью заявила мне, что это дочь ее Люба, и затем познакомила, нас. Люба осторожно скользнула по мне пристальным взглядом и обратилась к жениху:
— Надеюсь, ваше красноречие иссякло, наконец, и вы пойдете со мною полоть резеду, — произнесла она своенравно.
Madame Обозинская укоризненно поглядела на нее, но та только нетерпеливо тряхнула головкой.
— Полоть не пойду, — снисходительно усмехаясь, отозвался Карамышев, но сопровождать вас рад, mademoiselle.
Люба почему-то вспыхнула, сделала низкий реверанс перед женихом и стремительно вылетела из комнаты. {331}
— Ах, как еще молода! — с кроткой улыбкой произнесла Инна Юрьевна, как бы извиняясь за дочь.
Я видел, как бледное лицо Карамышева подернулось румянцем и как оживились его темные глаза в присутствии Любы. Он принужденно попросил извинения у Инны Юрьевны и, хотя степенничая, но все-таки и поспешая заметно, вышел вслед за девушкой.
— О, молодость, молодость! — счастливо вздыхая, воскликнула madame Обозинская по уходе Карамышева, и затем поспешила посвятить меня в свои "маленькие тайны" (как выразилась).
— Вы знаете Карамышева? Знаете, богатое такое имение Большая Карамышевка? Это его. Богач, очень образованный, очень развитой молодой человек… Представьте — камер-юнкер, блестящая карьера, связи, и вот идеи эти, идеалы… Ах молодежь, молодежь!.. Но что делать — я мать (тут она снова повторила, что она большая либералка), я не могла победить сердце и согласилась… Конечно, Люба еще молода, — и только благодаря домашнему воспитанию она знает еще что-нибудь… О, она много читает!.. Но пройдет год, — мы условились ждать, — и, я уверена, она сумеет поставить себя в любом салоне… О, у ней моя кровь!.. Вы замечаете — она очень неровна, но не правда ли, как это хорошо, что нет в ней этой институтской выправки, этой, этой… бездушной светскости, о которой, помните, так зло и так справедливо отозвался Лев Толстой… Я предпочитаю маленькую нервность, маленькую небрежность — это придает что-то такое пикантное… Не правда ли?.. О, я не говорю, что всегда в большом обществе, например в великосветском салоне… Но вы ведь позволите причислить себя к близким-близким знакомым нашим, не правда ли?.. — и потом быстро переходя к другой теме: — ах, мы скоро обедаем, не хотите ли пройти в свою комнату? О, ваши милые, простые комнатки, как я помню их!.. Цел ли ваш исторический кофейник?.. И ваше миниатюрное зеркало?.. Как я была счастлива, как мы вам обязаны!.. Но простите мне, старухе (она опять кокетливо улыбнулась), я ужасно болтлива… Это признак дряхлости, говорят?.. Будьте добры, милый Николай Васильевич, позвоните… вон около вас сонетка… человек проводит вас. И приходите в столовую. Мы обедаем по «гонгу» — по-английски, {332} как видите… Я надеюсь, вы погостите у нас… Как, только сегодня!.. О нет, мы не отпустим вас… Вы еще не видали Липяги… Марк Николаевич будет очень рад… Он тоже большой хозяин… Хотя, конечно, душу-то хозяйства составляют другие… (Она скромно и сострадательно улыбнулась.) Он добрый, он милый, но вы не поверите, какой отсталый, какой рутинер… Вот вы увидите, он вам покажет там…
К столу появился и Марк Николаевич. В белом костюме из пике, в свежем белье и светлом галстуке он выглядел естественнейшим ком-иль-фо. Мне он чрезвычайно обрадовался.
— А я хлопочу, хлопочу все… а?.. — зачастил он, неизвестно для какой надобности отводя меня в уголок, — утром в поле, днем в поле, в поле, в поле… а?.. сев, тово… Просо, тово… и гречиха… Хлопочу все… — и все неотступно жал мне руку и заглядывал в глаза.
Кроме лиц, уже известных читателю, к обеду явился Исаия Назарыч, бывший помещик трех душ, а теперь бедняк страшнейший и в душе ужасный собачник. Впрочем, держал он себя с примерной скромностью и, очевидно, стыдился и неуклюжего сюртучка своего из какой-то сквернейшей материи лимонного цвета, и своего смятого белья, и огромных волосатых рук, непристойно вылезавших из более чем коротких рукавов. Он явно церемонился и почти ничего не ел. Кусочек котлетки (старательно очищенной от шпината) и ложки три супу, вот все, что решился он скушать, хотя я уверен — голод его разбирал сильный. Вероятно, он считал неприличным наедаться. Инна Юрьевна не замечала его. Господин Карамышев обращался к нему с преувеличенной любезностью. Марк Николаевич, кроме своей тарелки, кажется ничего не видел и ни о чем не думал. Ел он так, что у него за ушами пищало… Люба как будто скучала и явно чем-то была недовольна. Держала она себя с какой-то холодной педантичностью и до жестокости прилично. Глаза ее были тусклы и безжизненны… Но к концу обеда это настроение внезапно преобразилось. Игривая усмешка засветилась на ее губках. В глазах, теперь уже глубоких и темных, загадочным лучом промелькнуло какое-то своенравное ухарство… Лукаво сдвинув свои тонкие брови, она набрала целый ворох пирожного Исаие Назарычу и прелюбезно вступила {333} с ним в разговор. Она спросила его, решился ли он, наконец, сделать предложение купчихе Свинчуткиной и узнал ли, отчего у ней такая неприличная фамилия, и осведомился ли, так же ли она будет обтягивать живот, как обтягивает теперь… ("Фи!.." — протянула Инна Юрьевна, а Карамышев сделал легкую гримасу.) Она спросила, здоровы ли его собаки, как поживает Звонок, как поживает Задорка? Зажила ли нога у Стрекозы и есть ли щенята у Жигуньи?
Исаия Назарыч, при обращении к нему Любы, неожиданно побагровел и вспотел, но вместе с тем и повергся в неизъяснимое блаженство. С горячностью заявил он о благополучии собак своих, о числе щенят у Жигуньи, о достоинстве кобеля, отца этих щенят, о преуспеянии его дивного голоса (Исаия Назарыч питал преимущественную страсть к гончим). О купчихе Свинчуткиной заявил он, что еще не решился и что вообще намерен терпеть до конца… Насчет живота заявил негодование, а насчет фамилии — думает, что от свиньи. Говорил он спешно, захлебываясь и волнуясь, и имел нехорошую привычку уснащать речь свою словом «понимаете» и такими эпитетами, как «гнида», "вша" и т. п. Выходило и забавно и неприлично немножко. Инна Юрьевна морщилась, от времени до времени устремляя на дочь беспокойные взгляды. На губах Карамышева играла снисходительная улыбка. Благовоспитанные лакеи, торчавшие за нашими стульями, скромно потупляли свои взоры…
После обеда мы перешли на балкон. Оттуда вид был прекрасный. Внизу расстилался газон, окаймленный жимолостью и сиренью, далее расходились аллеи акаций и берез, за ними благоухали куртины цветущих яблонь и высокие дубы толпились сумрачно, а там дремали ивы, синелась река и далеко убегала низкая, однообразная равнина.
Было поздно, и солнце склонялось к западу.
Люба вышла из столовой снова расстроенная. Мы еще не успели пообедать, как она, нечаянно скользнув по нас взглядом, нахмурилась и круто оборвала разговор свой с Исаием Назарычем. Сергию Львовичу, подошедшему к ней, она отпустила какую-то резкую французскую фразу, и он, передернув плечами, как только умеют у нас передергивать штаб-офицеры да разве еще камер-юнкеры, в {334} недоумении отошел от нее. А она, схватив под руку блаженствующего Исаию, увела его в сад и серьезно и тепло с ним заговорила. До нас долетело несколько слов из этого разговора. Люба осведомлялась, где теперь дочь Исаия Назарыча и чем она живет, и сколько детей у нее, и есть ли возможность дать этим «несчастным» детям воспитание. Оказалось, что дочь Исаии Назарыча брошена мужем, отставным ремонтером, и бедствует где-то, изображая экономку, что дети находятся в полуразрушенной усадьбе деда, где только и имеется, что три смычка гончих, и затем ни хлеба, ни денег. Исаия Назарыч изъяснил это Любе немного застенчиво, немного плаксиво, но, несомненно, был растроган ее участием, ибо нос его покраснел и глаза слезились.
Вскоре Люба оставила его (он потрусил к Марку Николаевичу "по хозяйству") и присоединилась к нам. Инна Юрьевна, сжавшись, точно кошечка, нежилась в глубоком кресле и болтала, — болтала неутомимо. Речь ее преимущественно касалась дикости здешних нравов, отсутствия эстетического воспитания в местном обществе, неразвитости и т. д. Отсюда она перешла к Англии (Англию она частенько-таки тревожила), — к высокообразованному английскому дворянству, к типу "приличного человека", выработанного английской культурой, к английской нравственности, скромности и т. д. Когда она была в Англии, мать ее, княгиня Чембулатова, гостила с ней в одном почтенном семействе около Брайтона. Она провела там рождественские праздники… Ах, как там было весело и как прилично! И как молодой сквайр Эди ухаживал за ней!.. И какой порядок, какое довольство везде!.. Чистенькие коттеджи, благовоспитанные фермеры, развитые пасторы, крупный и красивый скот… И плющ, плющ, плющ!.. — и затем перенеслась в Италию. О, она так давно, так давно не была там! Она спрашивала Карамышева, сохранила ли теперь эта милая страна свою милую, милую оригинальность — своих lazzaroni 1, своих оборванных монахов, своих дерзких и назойливых, но, боже, — каких живописных, уличных мальчишек… "Ах, к этой прелестной Италии и рубище и ханжество идут как нельзя более! — восклицала Инна Юрьевна. — Я не могу себе представить {335} горячего итальянского пейзажа без какой-нибудь поразительно яркой процессии, без кармелита в деревянных сандалиях, без важного и недоступного оборванца…" — И она печально вздохнула, когда Сергий Львович заявил ей, что и там цивилизация и порядок входят в свои права, а средневековая ветошь исчезает, и что даже Неаполь далеко уже не тот, чем он был при Бурбонах, не говоря о Риме, о Флоренции и иных городах Италии северной. Произнес это господин Карамышев опять-таки важно и даже с некоторой долей педантизма. А Инна Юрьевна, услыхав слово «Неаполь», в каком-то сладостном полузабытье воскликнула: "Ах, Неаполь, Неаполь!" и затем расслабленно пролепетала:
— Помните эту прелестную Киаию, эти чудные ночи над морем, над Везувием, эти восхитительные виды… Море плещет, озаренное луною… Город спит… В фантастической дали белеет Сорренто… Силуэт Капри синеет на зыбком горизонте… Везувий задумался и величественно курится… Ах, Неаполь, Неаполь!..
Карамышев, с стаканом кофе в руках и на губах с сочувственной улыбкой, внимал отрывочным воспоминаниям Инны Юрьевны, от времени до времени пополняя их собственными. О, он помнит Италию. Там только усвоил он себе порядочный взгляд на жизнь. Только ее антики и картины, ее древности и фрески определили ему суть этой жизни и помогли проникнуть в эту суть: могущество и неизбежность преемственной культуры. Только там он вдумался в историю Медичисов и уразумел секрет междусословных отношений. Только там, говорил он, — положение низших классов, голодных и босых, но все-таки счастливых, дало ему понять, что всегда, если аристократия благосклонна к народу, народ заплатит признательностью, и что во всех революциях не столько виноваты дурные страсти, сколько высшее сословие. Он сказал «мы», и это «мы» настоятельно подчеркнул. Инна Юрьевна многозначительно сжимала губы, кивала головкой и поддакивала, изредка вставляя и свои, несколько наивные, замечания. И затем перешли к искусству. В этой области Инна Юрьевна больше ограничивалась восторженными восклицаниями, говорил же Сергий Львович. Слегка коснувшись тех галерей, которые посетил он в Италии, с особенным чувством похвалив "горячие краски" Тициана и {336} "трагическую силу" Микель-Анджело, отдав должное ярким картинам Поля Веронеза и картинам Рафаэля, он сначала перенесся в Париж, где указал на Венеру Милосскую, как "на дивное выражение классических понятий о красоте", и затем, сочувственно скользнув по Торвальдсену и по грациозным идиллиям Ватто, по шаловливому Грёзу и «величественному» Давиду, перешел к Германии. Здесь упомянул он мрачного Рембрандта, которому, в виде контраста, противопоставил Рубенса. Философически заметил при этом о вечной борьбе двух начал, — жизни и смерти, радости и горя, комизма и трагедии, и в картинах Рубенса и Рембрандта указал выражение этих начал… Потом коснулся благородной простоты Вандика и затем уже рассказал о Сикстинской мадонне. В ней он видел идеал будущего — красоту уравновешенных страстей, идеал, в котором все лучшие свойства человеческой природы соединились не для борьбы, а для гармонии, для разумного наслаждения жизнью… Отсюда он перешел к Гете. Он проанализировал автобиографию "великого старика", его "Римские элегии", его "Ифигению в Тавриде", его "Германа и Доротею", и затем, резюмируя взгляды этого старика на жизнь, на призвание человека, сопоставил "Римские элегии" с известной пьеской, переведенной Лермонтовым, выразив, что в последней он так же уразумел философию смерти, как в первых — философию жизни… Тут, отчетливо скандируя, но просто и естественно, он прочитал нам: "Горные вершины спят во тьме ночной…", допустив легкую и едва заметную теплоту в последнем стихе, отчего трогательное обращение поэта:
Подожди немного — отдохнешь и ты… вышло особенно выразительным.К этому он прибавил, что, разумеется, не осмелился бы цитировать Гете не в оригинале, если бы русская литература "не имела счастья" обладать таким роскошным переводом, как перевод Лермонтова. Упоминовение о Лермонтове подало ему повод перейти к русской литературе. Весьма высоко поставив Пушкина за "Каменного гостя" и снисходительно простив ему «Цыган» и «Полтаву», он указывал нам пьесу за пьесой из мелких стихотворений пушкинских, в которых, по его мнению, были соблюдены тенденции творца "Каменного гостя", и затем небрежно {337} упоминал о пьесах характера противоположного. К первым он, между прочим, причислял и "Подражание Данту", причем звучно и не без приятности продекламировал 3-й отрывок этих подражаний, с особенным ударением произнося:
…И гладкая гора, Звеня, растрескалась колючими звездами… а потом прочел нам известный сонет: Поэт, не дорожи любовию народной, Восторженных похвал пройдет минутный шум…как ярко выражающий, по его мнению, ту идеальную гармонию страстей, которая и в Мадонне дрезденской, и в поэзии Гете, и в монологе летописца Пимена является предтечею будущего общественного строя, а теперь воплощением лучших культурных стремлений.
Тут Инна Юрьевна заметила, что если это так, то он в одном ей кажется неправ — уравновешивая, в своем идеале будущих человеческих отношений, элементы, он забыл отдать преимущество элементу «любви». Любовь, выраженная "римскими элегиями" и донной Анной, чересчур чувственна, чересчур одностороння и, если можно так выразиться, слишком уж антична… Что же касается мадонны, то здесь любовь и вовсе уж какая-то… сухая, отвлеченная… На это Карамышев глубокомысленно заметил, что, изображая идеалы будущего в смысле строгого уравновешивания страстей, он только новейшим научным теоремам подчинялся, по которым гармония всяческих отправлений есть первое условие счастья. Он сам очень хорошо сознает, что идеалу этому недостает некоторой нервозной прелести ("пикантности!" пролепетала Инна Юрьевна) и, между прочим, преобладания «романтической» любви. Но всего вероятнее, что прелесть-то эту ощущаем мы благодаря только нездоровому состоянию нашей «психики»; потомки же наши весьма даже легко примирятся с отсутствием этой «больной», ненормальной прелести… Тут Карамышев задумался и, окинув мечтательным взглядом Любу, вздохнул.
— Да, — произнес он, — разум одно, а нервы другое. Нет спора, прелестна фетовская "Диана", — эта "чуткая и каменная дева, с продолговатыми, бесцветными очами"… {338} Прелестна эта строгая простота и ясность античного идеала и, по-моему, идеала будущего, но сладкая неопределенность, но нега и мучительная страсть, жутко захватывающая сердце, но робкое желание и легкие, как грезы, надежды в поэзии того же Фета очаровывают меня, несомненно, сильнее. Помните:
…Сестра цветов, подруга розы, Очами в очи мне взгляни, Навей живительные грезы И в сердце песню зарони…Тут уже нет первобытной ясности и простоты, тут ощущения утончаются и переходят в нечто почти неуловимое, но вместе с тем этою-то кажущейся неуловимостью, смотрите, как говорят они сердцу, смотрите, с какой ласковой мечтательностью затрагивают они самые сокровенные струны в нашей душе и какие нежные ноты вызывают из этих струн… Или вспомните это:
Мы одни; из сада в стекла окон Светит месяц…Что тут такое? Да ряд неопределенностей, сладко и жутко волнующих вашу душу… Ряд мимолетных, но жгучих впечатлений, ряд изменчивых ощущений, тонких до фантастичности… И все это полно трепетной прелести, то робкой, то мятежной!.. Все это, если хотите, нездорово, как нездоров и весь Гейне, которого поэзия до замечательности верно определена вот этими стихами Аполлона Николаевича Майкова:
…В туманах замки, песен звуки, Благоухания цветов, и хохот, полный адской муки…но вместе с этим, представляя в нашем современном понятии «красоту» красоту тонких нервных ощущений, — все это составляет неотъемлемую принадлежность культуры. И не я, разумеется, отрекусь от этой «принадлежности», от этих благоухающих романтических цветов, которых, конечно, потомки наши не увидят и будут тем и счастливы и несчастливы… И он опять мечтательно поглядел на Любу.
А Люба недвижимо стояла у колонны и смотрела вдаль, вся озаренная пламенеющим закатом. Дума ли {339} какая обняла ее молодую душу, вставали ли пред нею неведомые нам перспективы, — не знаю. Но чутко замерла она в каком-то томительном ожидании, пронизывая пространство внимательно-сосредоточенным взглядом. Полураскрытые губы, как будто воспаленные, как будто жаждущие какой-то живительной, освежающей струи; горделиво приподнятая головка, вокруг которой грациозно обвились темно-русые косы; бронзовая неподвижность смелого и строгого профиля, — все в ней напоминало одну — из тех античных статуй, о которых с таким благородным пафосом трактовал Сергий Львович. И разве что тихо и неровно волнующаяся грудь девушки, с едва заметными очертаниями, да ее почти детские, немного даже угловатые плечи, да тоска в ее напряженном взгляде, тоска, так не свойственная творениям «уравновешенной» Эллады, — нарушали это сходство и портили иллюзию.
Почувствовав на себе упорный взгляд Карамышева, она обернулась, вздохнула глубоко, причем крепкий румянец охватил ее щеки, и лениво подошла к нам. Кротко уселась она у ног Инны Юрьевны и понемногу вступила в разговор. Она тоже любит литературу, но Гете ей не нравится, он ей кажется холодным, себялюбивым стариком;
Гейне же… О, Гейне она боготворит!.. Но зачем Сергий Львович обходит ту сторону его поэзии, где он исключительно только ратует за несчастного, за обделенного судьбою, за обиженного, вот как этот смешной, но милый Исаия Назарыч, как эти бедняки там, в своих гнилых жилищах (она указала в ту сторону, где едва виднелась деревня). Разве это «нездоровая» поэзия?.. Ведь помнит же, вероятно, Сергий Львович то место, где поэт в каком-то безотрадном отчаянии восклицает:
Отчего под ношей крестной, Весь в крови, влачится правый? Отчего везде бесчестный Встречен почестью и славой? Кто виной? Иль силе правды На земле не все доступно?..и разве это «нездоровая» поэзия?.. Эти-то горькие вопли! Эти-то стоны сердца, переполненного скорбью!
Голосок Любы, робко и наивно напряженный, плохо владел декламацией, но, несмотря на то, впечатление от этой декламации получилось трогательное. Дело в том, {340} что всю свою душу покладала странная девушка в эти стихи, и они в ее устах походили именно на "вопли горькие и стоны сердца, переполненного скорбью"… И опять возвратилась к участи внуков Исаии Назарыча. Мне кажется, что сцена за обедом, где самый этот Исаия Назарыч, благодаря ей, был выставлен в несколько смешном виде, не давала ей покоя. И в этом Карамышев оказал ей услугу. С деликатною мягкостью определив вышеприведенные мотивы гейневской поэзии мотивами рассудочными, и, следовательно, истинному искусству не присущими, и мимоходом заметив, что состояние "бедняков в гнилых жилищах" далеко не так тяжко, как кажется, ибо они и не подозревают о том «требовательном» аршине, которым мы измеряем счастье, он перешел к вопросу об "этих несчастных детях" и дал слово Любе, что устроит их судьбу. По его словам, у него была возможность дать им казенное воспитание, дочь же Исаии Назарыча поместить кастеляншей в одно, тоже «казенное» заведение. Надо было видеть радость Любы… Подарив жениха обворожительной улыбкой, — от чего тот, несмотря на всю свою олимпийскую сдержанность, вспыхнул как мальчик, — она, вместе с тем, вся расцвела и как бы преобразилась. Наступила новая, еще незнакомая мне, полоса в состоянии ее духа. Внезапно сделалась она ровна и любезна. Инна Юрьевна теперь могла бы гордиться ею: манеры ее приобрели ту безукоризненность и мягкость, соединенную с солидностью, о которой так жадно мечтают яростные представительницы "хорошего тона". Образ гордой и непреклонной девушки, с вечной тревогой в глазах и движениях, исчез бесследно, и пред нами болтала, — правда, сдержанно, но все-таки болтала, — очень «приличная», очень «воспитанная» великосветская девица.
Правда, сквозь всю эту сдержанность, сквозь всю эту бонтонную и любезную болтовню иногда мелькало что-то затаенное, что-то странное, — не то пытливое, не то недоверчивое… Иногда казалось, что в душе этой девушки, с такими восхитительными аристократическими манерами и с таким великолепным аристократическим воспитанием, неотступно возникают и мучительно запутываются в неразрешимый узел те "проклятые вопросы", о которых говорит поэт… Но это только «иногда»… {341}
Новая полоса, набежавшая на Любу, придала и новый характер нашей беседе. Из ней быстро испарился «философический» тон… Знаете ли, господа, что такое значит приличный «салонный» разговор? О, это премудреная вещь! Скользить по предметам, не углубляясь в их сущность; передавать факты, отнимая у них излишнюю мрачность, если они мрачны, и сглаживая серьезность, когда они претендуют на нее; осторожно и остроумно злословить; весело и наивно разносить сплетни; забавно говорить о трагедии и глубокомысленно разбирать оперетку; мельком отзываться о политике и всесторонне о бале графини Эн-Эн…
И мы упражнялись в этом до тех пор, пока синие сумерки не облегли небо и из-за горизонта огромным огненным шаром не выкатилась луна. Тогда в дверях освещенной залы черным силуэтом появилась пред нами крошечная, сморщенная старушка и объявила, что чай готов. К чаю явился и Марк Николаевич в сопровождении Исаии Назарыча. Оба они были истомлены и, заметно, потрудились порядком.
Я привык ложиться рано. Не удалось мне пересилить себя и теперь: глаза слипались, и голова становилась тяжелою. Я дождался конца чая и ушел в свою комнату. Окна этой комнаты выходили в сад, и из них был виден балкон, весь опутанный плющом. Свет лампы неверной и трепетной полосою проникал туда из залы, пробегая по зелени яркими пятнами.
Я не успел еще заснуть, как все общество, среди которого были и Марк Николаевич с Исаией, высыпало на балкон. И долго там звучал смех, искрились сигары и слышался непринужденный разговор. Разговор этот уже не походил на тот скучный и томительный, в котором мы упражнялись до чая. Очевидно, настроение снова изменилось. Даже Исаия Назарыч, и тот в полутьме балкона сделался как-то необыкновенно развязен и, торопливо взвизгивая, преподносил обществу анекдот за анекдотом. Анекдоты были наивны, но к ним явно относились с благосклонностью. Инна Юрьевна снисходительно смеялась. Карамышев самоотверженно поддерживал общее оживление и, совершенно игнорируя "хороший тон", хохотал сочным, самодовольным баритоном. Даже Марк Николаевич хихикал. Но всех радостнее, всех веселее была Люба. {342} Смех ее так и трепетал в тихом ночном воздухе, звонко оглашая окрестность и вызывая звонкое эхо. Она всему смеялась: и наивным анекдотам Исаии Назарыча, и хохоту Карамышева, и милой веселости maman, и хихиканию Марка Николаевича…
Мне почему-то стало и горько и досадно. Неприязненное чувство шевельнулось во мне к девушке, у которой, как мне казалось, семь пятниц на неделе… С этим чувством я и заснул.
Неприятное ощущение какого-то странного, фосфорического света пробудило меня. Я открыл глаза. Вся моя комната была залита ярким голубым сиянием. Воздух, благоухающий и прохладный, веял в открытое окно. Я вспомнил, что забыл опустить стору на этом окне, и подошел к нему. Дивная, фантастическая ночь предстала передо мною. И сад, и река, и дали — все было озарено лунным сиянием. Группы берез, ярко белевших сквозь неподвижную листву, и густые аллеи акаций, яблони, унизанные цветами, и сумрачные узловатые дубы, смутно переплетаясь тенями и очертаниями сонных ветвей своих, вставали в этом сиянии подобно сказочным дивам. Неподвижная река, гладкая как разлитое масло, ясно отражала небо и темные купы ив, задумчиво склонившихся над нею. Даль неопределенно и таинственно мерцала, потопая в серебристом тумане. Стройная колокольня поднималась как привидение, закутанное в саван. Было тепло. Полная луна стояла высоко. Торжественно распростертый небосклон сиял звездами. Тишина была мертвая. Все как бы приникло в каком-то дремотном очаровании… А между тем чуткий воздух как будто ждал, как будто жаждал звуков. Шорох падающего листа, подточенного насекомым, нечаянный всплеск воды в реке, слабый крик перепела в далеком поле, — все это ясно доносилось до моего слуха, наполняя душу томительным чувством какого-то жуткого и тревожного ожидания…
Но вот слабый гармонический звук вырвался из открытых окон залы и медленно затрепетал в благоухающем воздухе… Кто-то заиграл на рояли. Кто-то засмеялся и патетически воскликнул:
Дитя, как цветок ты прекрасна, Светла, и чиста, и мила… {343}Звеня, пробежали по клавишам руки, и затем то ясные, то замирающие аккорды переполнили воздух и потянулись в нем задумчивою вереницей. Я слушал тоскливо… Мелодия росла и развивалась. И чем далее росла и развивалась она, чем более ширились и трепетали печальные аккорды, тем глубже и глубже уносился я в какой-то фантастический мир, тем неотступней и неотступней заполоняли мою душу странные грезы и мучительно-приятные ощущения… Было мгновение, когда что-то невыносимо жуткое овладело мною и грудь заныла сладостно и больно… Глазами, полными невольных слез, обвел я и сад, и реку, и дали, — и чудные призраки возникли в моем воображении: во всем своем фантастическом величии встал передо мною "лесной царь". Я видел его зеленые кудри, дико разметавшиеся по деревьям, я видел его страшные очи, сверкающие огнем, и жадно распростертые руки, я слышал его голос, полный мольбы и страсти, и звонкий хохот его русалок-дочерей… И в серебристом тумане волнующихся испарений летел предо мною, как вихрь, измученный всадник, и бледное дитя судорожно цеплялось за гриву…
Но аккорд оборвался на половине и задрожал жалобной нотой. На балконе послышались шаги…
— Доволен? — произнес голос Любы.
— О, моя дорогая!.. — восторженно ответил Карамышев.
— Пойдем же в сад, и будем ходить, ходить… Ты любишь ходить?.. Ах как я люблю говорить "ты"!.. Если бы я могла, я бы всем, всем говорила «ты»… Не давай мне руки, я не люблю ходить под руку — ведь иду с тобою рядом… Будь доволен… — и запела на мотив из "Прекрасной Елены":
Будь доволен, будь доволен, будь доволен…
— О, как хороша ночь!.. Но противный соловей, что же молчит он, что он думает?.. Несчастный, ему, верно, скучно!.. А вам не скучно, Сергий Львович?.. Нет?.. Ах, как я рада…
Они прошли под моим окном. Она — плотно завернутая в плед, с приподнятыми как бы от озноба плечами и с руками, сложенными на груди, он в пальто и шляпе, сдвинутой на затылок. {344}
— А мсье Батурин, вероятно, спит, — с какою-то лихорадочной поспешностью щебетала Люба, — не правда ли, какой он странный?.. И он ужасно дико на тебя смотрел!.. Это тебе не нравится?.. О, я вижу, что тебе не нравится… Ну что ж, ты бы не излагал диких мнений!.. А знаешь — я тебя ужасно, ужасно не люблю… Зачем ты так ставишь высоко своего противного Гете, своего Фета и унижаешь других… Вот видишь, я тоже не люблю Гете и Фета не люблю… А Гейне мне нравится, и Некрасов нравится, и Фрейлиграт нравится… О, ты хитрый, ты «уравновешенный», ты не хочешь, чтобы кто-нибудь выворотил твою изящную душу, а твое античное сердце заставил бы страдать… Ведь правда? Скажи, скажи…
Сергий Львович замедлил шаги.
— "Я знаю, гордая, ты любишь самовластье…" — смеясь произнес он.
Люба внезапно рассердилась.
— Я не шучу, — строго сказала она, — я говорю с вами очень серьезно… Мне это нужно… Мне жить с вами, Сергий Львович… Я хочу вас знать… Я имею это право… Что вы? Кто вы?.. Вы знайте — я не хочу быть салонной дамой… Не хочу, не хочу!.. — воскликнула она сквозь слезы, и затем, все более и более волнуясь, продолжала: — Я давно вижу, что все это не так… Вы мне клетку золотую готовите… Вы презираете народ, а я читала, я знаю, я «Miserables» 1 читала, я читала газеты… Они — несчастные, — они голодные, а вы… про Фета распеваете… Вы меня не обманете — я уйду, я убегу к ним, я насмотрюсь на их голод, на их гнойное рубище… А вы оставайтесь с своим Фетом и любите другую!..
Карамышев опешил. Он, видимо, не ожидал ничего подобного. Всю дрожащую, всю потрясенную от сухих рыданий, он привлек к себе Любу и нежно усадил ее на скамью. Она не сопротивлялась. Она беспомощно поникла своей головкой к нему на грудь, и он, с ласковой осторожностью, гладил ее волосы. Из густого куста сирени вдруг ясно и отчетливо зазвенела соловьиная песня.
— О, моя дорогая, светлая девушка, — мягко говорил Карамышев, слабо сжимая Любу в своих объятиях, — у тебя славное, горячее сердце… Но отчего же ты не {345} хочешь быть разумной?.. Знаешь ли ты, что много наша бедная родина потеряла людей, у которых все было в сердце, да, в сердце, и ничего в разуме… Ты говоришь, кто я?.. Дитя, я просто честный человек. Я человек, несущий на себе злобу дня, но дня сегодняшнего… Ты не понимаешь меня? Нет?.. Слушай же! Нас много теперь, много блестящих гвардейцев, много подававших надежды дипломатов, много надменных чистокровных львов, понявших, наконец, тщету паркета и мишурность парадной выправки. Мы вспомнили, наконец, наши «вотчины», наших бедных крестьян, отданных в жертву Колупаевым, наше земство, пожранное администрацией… И мы воротились домой. Ты понимаешь меня?.. Домой, это значит к земле, к нашим корням, к земщине, к деревне… Мы не будем строить фаланстеры; мы не будем ратовать за общину — это допотопное, варварское учреждение. Мы обойдемся без Добролюбовых и ему подобных метафизиков… Мы насадим свою культуру, без вмешательства господ нигилистов. Ты, голубка, говоришь, что, кажется, я озлоблен против нигилистов? Порядочный человек не может быть «озлоблен», дитя; он может только глубоко и сознательно ненавидеть. Ты хочешь подробностей? Изволь, любознательная головка… Итак, мы не строим фаланстеры. Вместо того мы созидаем больницы и школы, мы представляем интересы крестьян в земском собрании, мы образовываем сплоченное и просвещенное дворянство, мы поддерживаем церковь… Одним словом, как я недавно сказал твоей maman, мы создаем «провинцию». И тогда вообрази режим: крестьяне благоденствуют, снимая у нас земли по образцу английских фермеров, культура представлена в каждом околотке образованным помещиком, правосудие безвозмездно отправляется настоящим, «истовым» юристом в лице того же помещика, церковь облагорожена постоянным воздействием того же помещика, полиция на уровне своего призвания, ибо и она под руководством того же помещика… Вот наши идеалы!.. Сознайся же, милая моя девушка, что не о чем тебе плакать, — он тихо и робко прикоснулся губами к ее затылку, что счастье народа гарантировано и рвать свое сердце из-за этого, право же, неразумно!..
Люба долго молчала и, наконец, полуприподнявшись, пытливо посмотрела на Карамышева. {346}
— И суд, и полиция, и церковь — все помещику, говоришь? — спросила она.
— То есть не помещику, а под его воздействием, — возразил Сергий Львович.
— И тогда противные кулаки исчезнут — говоришь?
— Непременно исчезнут, дитя мое.
Она радостно захлопала в ладоши.
— Ах, как я рада!.. Ты знаешь, и у нас в деревне есть кулак, толстый, красный такой… И зовут его, представь себе, До-ри-ме-донт До-ри-ме-донтович… Как тебе это покажется!.. Скажи пожалуйста, у всех у них такие ужасные имена?
— Чем же ужасное — музыкальное имя, — сострил Карамышев.
— Ах, не остри, не остри, пожалуйста!… - с какою-то болью воскликнула девушка и, помолчав немного, робко спросила:
— А эти… нигилисты?
— И нигилисты исчезнут, — ясно и просто ответил он.
— Куда же вы их?
— На Сахалин, моя голубка.
Люба слегка отклонилась от широкой груди Сергия Львовича.
— Стало быть, они ужасные люди?
— Ужасные, моя дорогая.
— И их нельзя жалеть?
— Нет, моя радость, они не стоят жалости.
Она глубоко вздохнула.
— Скажи — они не признают… Шекспира?
— То есть, видишь ли, дитя мое, у них теперь система: они не только Шекспира — все отрицают: собственность, брак, религию; но, с другой стороны, как будто и не отрицают.
— Как же это? — широко раскрывая глаза, спросила Люба.
— О, они теперь далеко уже не так наивны! Прежде, друг мой, наглость их была так велика, что они сами во всеуслышание величали себя нигилистами, теперь не то, — теперь их именуют «интеллигенцией» (слово это Карамышев произнес не без презрительности), как будто существует какая-либо интеллигенция помимо нас… {347}
— Ну, как же ты говоришь — на Сахалин, — в недоумении сказала Люба, значит, всю эту интеллигенцию на Сахалин?
— Значит, душа моя.
— Но ведь это масса…
— Это будет жертва, но жертва неизбежная. В Испании в одно прекрасное время выслали всех жидов.
— И нельзя никого оставить? — уже взволнованно и сквозь слезы допрашивала Люба.
— Некоторые сами останутся — те будут наши, — ответил Сергий Львович и затем, с некоторым беспокойством, добавил: — но ты напрасно волнуешься, дитя, они не стоят этого…
Люба стремительно вскочила со скамейки.
— Нет, стоят, стоят!.. — в чрезвычайном раздражении вскричала она. — Я сама знаю… С Федей Лебедкиным я росла вместе, и я его знаю, и я люблю его… А он нигилист, он сам говорил мне, что он нигилист… И Шекспира он отрицает, и искусство, и Пушкина… Он еще в гимназии со всем этим разделался и говорил, что это хлам… и он хороший, я люблю его!..
— Но, дитя мое… милая, дорогая… — успокаивал Любу Карамышев: — вот какая ты нервная, какая тревожная. Успокойся, голубка… Очень может быть, что господин Лебедкин и прекрасный молодой человек…
— Он очень, очень… прекрасный!..
— Но очень может быть, что он уже и не нигилист теперь… Где он? Кто он?
— Он теперь в академии… он медик и он очень восхищается ана… томией… он уже скоро год как не писал мне… но я его очень… очень люблю! — вся подергиваясь от сдерживаемых рыданий, отвечала Люба.
Сергий Львович снова хотел ее притянуть к себе, но она отстранилась от его объятий и, по самый подбородок завернувшись в плед, села в уголок скамьи. Мне было видно ее сосредоточенное личико, омраченное задумчивостью. Ее глазки печально смотрели из-под заботливо сдвинутых бровей.
А соловей в каком-то исступлении звенел и рассыпался серебристыми трелями, то легкими и веселыми как мотыльки, то заунывными и страстными… Люба слушала, и лицо ее мало-помалу прояснилось. Заботливые морщинки {348} на лбу сглаживались; губы принимали знакомое уже мне выражение: игривое и несколько насмешливое; глаза засветились… Наконец она глубоко, всею грудью, вздохнула и поднялась со скамейки. Карамышев последовал за нею. Несколько минут они шли молча.
— Ты читал "Шаг за шагом?" — неожиданно спросила Люба.
— Нет… — слегка, удивившись, ответил Карамышев.
— А я читала.
И затем в молчании прошли несколько шагов.
— И "Мещанское счастье" не читал? — снова спросила она.
— Я не читаю подобного рода книг, — с достоинством ответил Сергий Львович.
— А я читала… Я и "Трудное время" читала, — добавила она, как бы подзадоривая Карамышева.
Карамышев пожал плечами.
— И знаешь, я думаю, что ты не совсем прав, — настаивала Люба.
— Почему же ты так думаешь, моя дорогая?
— Да уж так… Думаю.
И затем снова запела, пародируя Менелая из "Прекрасной Елены":
Все помещику, все помещику, все помещику…
и шаловливо делая па на кончиках своих ботинок.
Карамышев и смеялся и недоумевал.
Около балкона Люба внезапно остановилась и обратила лицо свое к Карамышеву.
— А знаешь — я, может быть, и не буду твоей женою! — пресерьезно произнесла она.
Он отступил в недоумении.
— Да. Очень может быть, — продолжала она, и вдруг лицо ее явило вид неизъяснимого волнения, — и даже вот что, — заторопилась она, — я возвращаю вам ваше слово, мсье… (Она сделала низкий реверанс и еще более побледнела, еще более заторопилась.) Я не могу быть вашей женою… Я не разделяю ваших убеждений… Я не считаю вас "честным человеком", мсье… Au revoir! 1 — и быстро исчезла в дверь залы, мрачным пятном зиявшую посреди {349} стен, освещенных луною. Мне показалось, что она бросилась в пропасть…
Карамышев долго стоял как пораженный громом. Потом произнес какое-то проклятие (к удивлению моему, на французском языке) и быстрыми и неровными шагами заходил около дома.
— Какая дичь! какая дичь! — восклицал он, жестоко ломая руки. — Дитя, ребенок… и заразилась, заразилась… — и затем, в отчаянии схватив себя за голову, простонал: — О, как я люблю ее!
Я закрыл окно и лег спать.
Наутро Карамышев был бледен более обыкновенного. Хотя улыбка и теперь не сходила с его губ, но она казалась уже явно насильственной. Говорил он мало и вообще являл вид несколько оскорбленного достоинства. Та надменность, которая иногда прорывалась в нем и при спокойном состоянии духа, теперь выражалась особенно ярко.
Люба сказалась больною и не вышла к завтраку. Когда об этом объявили, Сергий Львович слабо и неопределенно улыбнулся. После завтрака он уехал. Инна Юрьевна подозвала меня к окну посмотреть на этот отъезд. Четверик великолепнейших серых рысаков, толстейшее чудовище на козлах, шикарнейшая венская коляска — все как нельзя более гармонировало с благородным обличием господина Карамышева. Небрежно натягивая светлую перчатку, сел он, почтительно поддержанный человеком в ливрее, небрежно откинулся к задку, небрежно и сквозь зубы произнес: «Пшол» и скрылся в облаках сияющей пыли. Инна Юрьевна сделала ему ручкой и, вся восхищенная, отошла от окна.
Не знаю почему, но дурного расположения духа в Карамышеве она не заметила. Впрочем, и вообще она не отличалась наблюдательностью.
После отъезда Карамышева Люба вышла. Лицо у ней было желтое и несколько сурово сосредоточенное. Глаза поражали тусклостью и были как-то неприязненно сухи. Одета она была, казалось, еще проще, чем вчера. Синее платье из какой-то плотной материи и без всякой отделки, — совсем не по сезону, как, вероятно, и заметит моя взыскательная читательница, — узенький и жесткий стоячий воротничок, прелестно, оттеняющий смуглую жел-{350}тизну шейки, свободно распущенные косы, — вот и все. Но эта простота ужасно шла к ней. Она в ней казалась особенно крепкой, особенно смелой и непреклонной. На вопрос матери, чем заболела она, Люба ответила что-то неопределенное и, взяв какую-то работу, уселась около раскрытого окна. А Инна Юрьевна завела было обычную материю об искусстве, об Англии, но как-то необыкновенно быстро переменила фронт и незаметно перешла к сплетне. Она спросила, знаю ли я, отчего madame Карицкая разошлась с своим мужем, и на отрицательный ответ подробно рассказала мне, отчего она разошлась. Затем выступили на сцену балы помещика Китайцева, на которых, по мнению Инны Юрьевны, бывает всякий сброд и для тостов, вместо шампанского, подают донское. Потом коснулась дела Макаровых, которые так много и так безрассудно проживают, а между тем водят детей в ситцевых платьишках и стоптанных башмаках… Все это было утомительно и скучно. Я попытался завести разговор с Любой. Но она отвечала мне сухо и односложно. Я уж начал жалеть, что согласился остаться на сегодня… На мое счастье, пришел Марк Николаевич и пригласил меня пройтись по хозяйству.
Лишь только ступили мы на гумно, лишь только потянулись пред нами амбары да скотные дворы, сараи да конюшни, как повеяло на нас мерзостью запустения. Усадьба, теперь спрятанная в зелени сада, казалась иным царством. Там все блестело свежестью красок, новизною и порядком, здесь разрушалось, обваливалось и зарастало чертополохом. Гнилые плетни вместо стен, дыры вместо кровель, щели и развалины, — все это отовсюду лезло в глаза, производя самое угнетающее впечатление. Я остановился в недоумении…
— Как, как находите?.. — по своему обыкновению заспешил Марк Николаевич, подхватывая меня под руку. — Сюда вот, тово… идите сюда!.. Вы этого нигде не встретите… а? нигде не встретите… Я вот сейчас вам, тово… — И он привел меня к каменному сараю. Одна половина дверей в этом сарае сорвалась с петель и лежала на земле, другая же плохо, но все еще держалась. Мы вошли. Сумраком и затхлостью повеяло на нас. Пыльные солнечные лучи косыми столбами пробивались в круглые крошечные окна. Я огляделся. В сарае громоздился целый {351} хаос. Плуги Овербека и плужки Рансома, американские сохи и английские экстирпаторы, немецкие бороны и шведские сеноворошилки, сеялки и веялки, зернодробилки и зерносушилки, катки и валики, — все это, покрытое толстым слоем пыли, воздвигалось своими ножками, ручками, лемехами и зубьями. Беспорядок был ужаснейший… Плужка лезла на веялку, сеноворошилка цеплялась за экстирпатор, борона стремилась к зерносушилке… Солнечные лучи прихотливыми пятнами мелькали там и сям… Мы стояли и смотрели молча. Наконец Марк Николаевич обратил ко мне лицо свое и, как бы рекомендуя мне весь этот хлам, развел руками.
— Вот!.. — сказал он.
Затем привлек он меня к густому бурьяну. Среди бурьяна этого возвышалась каменная постройка, брошенная менее чем на половине; вороха извести, уже испорченной, конечно, лежали там и сям, — по ним пробивалась свежая травка, — размокший и почти рассыпавшийся кирпич громоздился грудами… Мы подошли к этим руинам, и Марк Николаевич снова развел руками и снова, как бы рекомендуя мне руины, произнес свое: "Вот!.."
— Что же это? — с удивлением спросил я.
— А?.. Это завод, тово… завод мыльный… Это все уж обдумано… Да, да… вот как поступит урожай в продажу, опять строю, опять, опять… а?.. Это превыгодная вещь… У меня есть тетрадки… там все это, тово, знаете… а?
— Но, извините за нескромный вопрос: вы же недавно получили ссуду? рискнул я полюбопытствовать.
— А?.. Ссуду?.. Ссуду получили — шесть тысяч… Это точно, тово… Но дом, прислуга, ремонт… долги были… а? Все теперь приведено в порядок… Все в порядке теперь… Церковь обелил… тово… обелил… А это уж у меня в тетрадках там… Три тысячи нужно… И это превыгодная вещь… а?.. Не правда ли?
Я пожал плечами и ничего не ответил. В это время нам подали шарабан, и мы отправились в поле. Я думал хотя там отдохнуть от беспорядка, назойливо преследовавшего нас с самых границ усадьбы, но, увы, — ошибся. И в поле та же распущенность, та же заброшенность встретили нас. Сорные овсы, низенькая и реденькая рожь, паршивенькая пшеница — вот что расстилалось огромными нивами в одну сторону от межи, по которой мы ехали. {352} А между тем за межой густая рожь буйно и шумно расходилась сизыми волнами и овсы отличались замечательной чистотою…
На пару валили навоз. Мы подъехали туда. Изнуренные клячи торопливо давали нам дорогу. Мужики в грязных рубахах низко кланялись… Но пашня не была разбита на клетки, и навоз сбрасывался где ни попало. На одной десятине вы могли бы насчитать четыреста кучек, на другой не было и сотни… Между кучками бродили чахлые, оборванные овцы. Мы увидали вдали всадника, и Марк Николаевич принялся махать ему своим картузом с желтым уланским околышем. Всадник подъехал. Это оказался молодой, безусый щеголь в венгерке и ярких голубых штанах.
— Приказчик, — кратко объявил мне Марк Николаевич.
Приказчик удовлетворил некоторым расспросам барина; сказал, что и овес и пшеницу необходимо следует полоть, но что девок тоже необходимо «пригнать» для этого с Битюка, потому что «здешние» избаловались… При этом физиономия его выразила что-то вроде того оскорбленного достоинства, которое утром так поразило меня в благородном лице Карамышева. Потом объявил он нам, что в усадьбу сейчас проехал шумиловский барчук.
— Федя?.. — радостно встрепенулся Марк Николаевич и затем, объяснив мне, что это сын старой его знакомой и даже приятельницы, мелкой помещицы Татьяны Глебовны Лебедкиной, быстро направил лошадь к усадьбе.
— Хороший, хороший малый… — отрывочно сообщал он мне дорогой, доктор будет… а?.. на втором курсе теперь… на втором, на втором… Я рад, тово… рад… а?.. Я очень рад!
О хозяйстве Обозинский и сам не говорил, да и мне совестно было заводить речь. Притом же и ехали мы шибко и усадьба была недалеко. Проезжая мимо церкви, Марк Николаевич приостановил лошадь, обнажил свою маленькую и круглую, как репа, голову, всю покрытую жесткой седой щетиной, и широким, размашистым крестом перекрестился. Я вспомнил упреки, когда-то обращенные к нему Инной Юрьевной… {353}
Все общество мы застали на балконе. Инна Юрьевна небрежно полулежала в своей любимой позе и несколько кисловато улыбалась. Люба сидела, как-то глубоко потопая в большом кресле, и без слов сияла, полураскрыв губы и не сводя радостных глаз с Лебедкина… А Лебедкин, как будто и сконфуженный, как будто и смущенный чем-то, расположился, однако же, в непринужденной позе и то хмурил сердито брови свои и складывал губы в презрительную улыбку, то весь расплывался в каком-то блаженном состоянии и невольно усмехался счастливым смехом.
Настроение вообще было несколько натянуто, и появление наше состоялось как нельзя более кстати. Инна Юрьевна оживилась и тотчас же изменила кисловатую свою улыбку на обычную благосклонную; Лебедкин тоже оправился и, перестав уже смеяться беспричинно, а также и складывать чересчур уж презрительно губы, весь ушел в какую-то сухую, явно неприязненную сдержанность. Впрочем, ни Марк Николаевич, весь расцветший и с особенной настойчивостью расточавший свои ни к чему не идущие "а?.." "вот…" и «тово», ни Инна Юрьевна, с любезной снисходительностью старавшаяся «обласкать» молодого человека, — не замечали в нем этой неприязненной сдержанности. Только Люба, к которой Лебедкин относился почему-то особенно вежливо и непременно с присовокуплением ядовитого «слово-ерса», кажется, поняла это. По крайней мере после одного из таких вежливых обращений она вся вспыхнула, на сиявших глазах ее вдруг задрожали слезы и счастливое выражение лица заменилось грустным… А взгляд Лебедкина, скользнувший по ней в это время, изъявил какую-то мстительную радость. Впрочем, с этих пор он стал к ней заметно мягче и даже «слово-ерс» почти отбросил, с особенной настойчивостью употребляя его только в разговоре с Инной Юрьевной.
На вопросы, к нему обращенные, Лебедкин изъяснил, что заехал он в Липяги на перепутье и то только потому, что ужасно захотелось ему повидать Марка Николаевича. (Старик весь озарился широкой улыбкой, а Люба еще больше затуманилась; Инна же Юрьевна, с пренебрежением — впрочем, едва заметным, выставив нижнюю губку, произнесла: "Ах, с вашей стороны это очень мило…") Затем Лебедкин добавил, что ему «ужасно» необходимо поспешить "к своей милой, бедной, хорошей маме, — к той жен-{354}щине, которая одна, только одна во всем свете его любит…" Тут голос его задрожал отчего-то, и он, вероятно разобиженный этим обстоятельством, пребольно укусил себе губы… Потом он объявил, что экзамены у них ныне кончились рано, и что он весь май пробыл на практике у знакомого доктора в селе Медведице, и что знает теперь, каковы "все эти господа аристократы…" Здесь Лебедкин с ненавистью сверкнул глазами и даже зубами скрипнул.
— При чем же тут аристократы?.. — обиженно и недоумевая спросила Инна Юрьевна.
Объяснилось, что Медведица принадлежала графу Л * и по его милости так была обделена наделом, что бедствовала страшно и невообразимо.
— Тут аристократия при том-с, — задыхаясь от негодования, восклицал Лебедкин, внезапно покинувший всю свою сдержанность, — что у нее связи-с… что она пронюхала чутьем своим подлым, в чем дело, и играла наверняка-с… Еще манифест не вышел, а этот паршивец крестьян на волю отпустил и в знак благорасположения своего буераки им пожертвовал… О, благодетели… — И он не находил слов, чтоб заклеймить эту ненавистную ему аристократию. Весь охваченный чувством какой-то мстительной ярости, он то приводил нам корреспонденцию и судебные процессы, то раскапывал устные предания и материалы "Русского архива", то перетрясал историю и мемуары, и отовсюду с величайшим злорадством восстановлял возмутительнейшие факты. Он представлял аристократию везде, где бы ни вздумалось ей проявить себя: в политике, в семье, в религии, в науке, и каждое такое проявление клеймил грузом проклятий и ядовитейшими уподоблениями. В политике — по его мнению — она была всегда двоедушна и жадна, глупа и безжалостна, и потому только нигде не имела очень-то прочного и очень-то сильного влияния, что при страшном аппетите отличалась самой жалкой трусостью и подлостью без всяких границ. Тут он мастерски выхватил два крупных факта из русской истории — замыслы верховников при Анне Ивановне и происки крепостников во время освобождения крестьян — и, подкрепив их добрым десятком фактов маленьких, великолепно обобщил все это… Картина вышла мрачная до трагизма. {355}
И затем перешел к семье. Здесь он, снедаемый каким-то злобным восторгом и особенно ядовитый, особенно иронизирующий, так и напустился, как ястреб, и на Вронского из "Анны Карениной", и на самого Каренина, и на Ирину в «Дыме» (особенно на Ирину…), и на Элен из "Войны и мира"… Беспощадно разоблачал он "всю эту показную мораль, всю эту яркую шумиху многозначительных фраз и дел красивых, всю эту мишуру импонирующей обстановки и титулов, звонких до наивности; золотом расшитых мундиров и костюмов, цена которым голод и нищета целых губерний…" Под всем этим блеском, под всем этим «одуряющим» престижем, он, как бы торжествуя, как бы захлебываясь от наслаждения, указал нам язвы и раны, гной и рубища. И он не удовольствовался Россией и современным состоянием общества. Для его ума, явно раздраженного, и для его явно же озлобленного сердца это было мало. Он бросился к Риму времен упадка, он коснулся Италии эпохи Борджиа и Медичисов, он перебрал вельможество Англии в пору войн Алой и Белой Розы, он не забыл «гнусный» двор Людовика XIV и кавалеров времен революции, топтавших трехцветную кокарду — и отовсюду темною тучей нависали над нами пороки и преступления несчастной аристократии, ее неумелость, ее двуличие, ее безверие наряду с ханжеством, и затем, как угрожающий призрак, воздвиглись трагические перспективы: "Общая деморализация и общая гибель роковой исход всяких аристократических влияний".
— Но уроки… — слабо вставляла Инна Юрьевна, очевидно возмущенная до глубины души пламенными нападками Лебедкина на аристократию.
— Для нее не существует уроков! — кричал Лебедкин. — Никогда и ничего не выносила она из них-с!.. Это будьте покойны, сударыня. (Да, он сказал "сударыня"…) При Карле Десятом она устроила «белый» террор… При Карле Втором английском и дураке Якове натворила мучеников… В Италии ограбила народ и продала его… В Польше погубила свободу… У нас, с каждым новым бунтом голытьбы, распространяла крепостное право… — тут он перешел преимущественно к аристократии русской. — А теперь о чем все они мечтают! воскликнул он, задорно надвигаясь на Инну Юрьевну, — да об «сословии» мечтают-с… О старинном режиме думают… Да ре-{356}жим-то этот чают с вариациями-с!.. Ведь у них цел ультиматум-то тысяча семьсот тридцатого года… Ведь если республиканцы французские к принципам восемьдесят девятого года вожделеют, так наши-то князья да графы год семьсот тридцатый лелеют в сердцах своих, и даже который из них азбуке плохо научен, и тот смакует "совет верховный"… Знаем мы их достаточно-с!.. Все эти господа очень даже понятны нам-с… Идеальчики-то их известны до подлинности: похерить интеллигенцию да закрепостить ее латинянам, водворить благонравие да наводнить государство назидательными книжками "О добром помещике и признательных мужичках"… Смекаем-с, сударыня!.. (Инну Юрьевну коробило). Им ведь так бы хотелось: одна сторона — нехай, дескать, лапоть первобытный, а другая — карета с гербом на дверцах, — низ и вершина, значит единение и совокупление, а все, что в середке-то, — пусть к черту на кулички отправляется… Вот то-то заблагоденствовали бы… То-то праздник бы велий восчувствовали в сердцах своих… О, благодетели… — И опять распространился в проклятиях.
Лебедкин был привлекателен. Коренастый и смелый, с смуглым выразительным лицом и с мрачным огнем в глазах — он напоминал одну из тех восторженных фигур, которыми переполнена известная картина Густава Дорэ "La Marseillaise".1 Говорил он хорошо, хотя, может быть, и чересчур страстно, и во всяком случае совершенно не в том роде, в котором отличался Карамышев. Очевидно, когда говорил — Лебедкин не думал о форме речи, она выливалась у него бурной и отчасти беспорядочной импровизацией. Инне Юрьевне ни страстность эта, ни это несколько вульгарное красноречие явно не нравились. Несмотря на бездну такта, имевшегося в ее распоряжении, она частенько-таки морщилась и с плохо скрываемою досадою от времени до времени перебивала Лебедкина и даже иногда пожимала плечами.
Зато Марк Николаевич был в полном восхищении… С каким-то судорожным наслаждением сосал он сигару свою и все смотрел в глаза Лебедкину, все поддакивал ему, очевидно ровно ничего не понимая из его речей. Люба же Люба была вся внимание. То грустное {357} выражение, которое так еще недавно я заметил на ее лице, теперь уступило место иному, если и не счастливому, то во всяком случае радостному. Казалось, то, что проповедовал Лебедкин, как нельзя более совпадало с собственными ее думами, и теперь она радуется, слушая, как думы эти — смутные и почти инстинктивные, — так хорошо, так неотразимо убедительно формулируются. Она не говорила ничего; она сидела молча, но все существо ее, как бы до последнего нерва, было проникнуто и сочувствием и уважением к Лебедкину… А он… О, он по-прежнему был сдержан с ней и вежлив, и даже почти игнорировал ее, — хотя все, что говорил с таким жаром, говорил несомненно только для нее… Это прорывалось наружу до наивности ясно. И особенно желчные нападки на Ирину (в "Дыме") и струнка личного раздражения, заметно звучавшая в его страстных филиппиках против «аристократии», и какая-то странная мятежность духа при взгляде на Любу, — все изобличало Лебедкина. А Люба ничего не замечала. Все уколы и уязвления Лебедкина не касались ее. С какою-то веселой сосредоточенностью она за одним следила — за развитием лебедкинской мысли; одному жадно внимала — тем фактам, которые Лебедкин так искусно, так выразительно группировал; одним упивалась — теми выводами, которые вытекали из этих фактов… И вся озаренная какой-то детской улыбкою удовольствия, кивала своей грациозной головкой, когда эти выводы казались ей особенно удачными, особенно неотразимыми.
Но вскоре вмешалась в разговор и она…
Дело в том, что Инна Юрьевна, тщетно перебирая аргументы против Лебедкина, — аргументы и потому еще не имевшие успеха, что Лебедкин не слыхал их, невежливо заглушая нежный голосок Инны Юрьевны своим громогласием, — выбрала, наконец, удачный момент и воскликнула:
— Вот вам аристократ: Сергий Львович Карамышев!.. Богач, камер-юнкер, дядя министр, а посмотрите на него: живет в деревне, строит больницы, основывает приюты, заводит школы!.. Ну-ка, укажите мне на ваших демократов… Что они выстроили? Что они основали? Где воздвигли школы и приюты?.. Отвечайте мне, молодой человек. {358}
При упоминовении Сергия Львовича с Лебедкиным сотворилось нечто странное. Злобно сощурив глаза и язвительно искривив губы свои, он, позабыв всякие приличия, вскочил со стула и комически расшаркался перед Инной Юрьевной.
— О, что касается господина Карамышева, я умолкаю, сударыня! иронически воскликнул он. — Я благоговею перед сим воплощением всяческих приличий… Я умолкаю… Я тем более умолкаю, что чувствую, чем движетесь вы, восхваляя господина Карамышева… Я уважаю родственные чувства, Инна Юрьевна!
И сел, тяжело переводя дыхание.
Но Инна Юрьевна на этот раз не осталась в долгу.
— Да? — протянула она, с пренебрежением окидывая взглядом Лебедкина, начиная с косматой головы его и кончая ногами в высоких сапогах. — Вы слышали, конечно… Я очень счастлива, но не потому «восхваляю» Сергия Львовича… А вы правы: он очень приличен, и несомненно принадлежит к порядочному обществу… Но что делать! ему дали воспитание…. — И она вздохнула сострадательно.
Лебедкин как нельзя более почувствовал жало… Весь бледный и с хрипотой в голосе, он уже было начал: "Конечно, я не имею чести принадлежать к приличным людям"… И творец знает, чем бы все это кончилось, как вдруг, к общему удивлению, пылко и горячо заступилась за него Люба.
— Ах, maman, не говори о Карамышеве! — начала она, нервно хмуря свои тонкие брови и выпрямляясь в своем кресле. — Он очень образованный, очень богатый и даже, может быть, очень хороший человек, но уж совсем, совсем не общественный человек!.. Милая мама, — он ведь страшный эгоист… Разве он что-нибудь ставит выше своего-то спокойствия? Ах, не умею я тебе это объяснить, но он большой, о, большой эгоист!.. И все они такие… И ты не сердись, мама… Федя действительно очень кричит, но ты прости ему — он прав… Он ужасно, ужасно прав, мама… И знаешь, я сама всегда так думала… Ты сердишься?… Милая, милая мама, как мне жаль тебя!.. Но он прав, он прав….
И она в волнении подошла к матери и крепко, так крепко, что та вскрикнула, обняла ее. А с лицом {359} Лебедкина состоялось преображение. С первых слов Любы он выразил недоумение, потом улыбнулся широкой, радостной улыбкой и затем как-то внезапно утих и просветлел. Он даже подошел к Инне Юрьевне и с каким-то искреннейшим порывом попросил простить ему, "бесшабашному студенту", его "неприличное поведение". Инна Юрьевна с некоторой сухостью, но все-таки простила.
Кстати подоспел и обед. Надо отдать справедливость Лебедкину, аппетитом он обладал хорошим. И винегрету из дичи, и супу a la reine, 1 и шпинату с яйцами, и цыплятам a la tartare 2 — всему сделал он подобающую честь. А уписывая все это, рассказал о том, чем кормят "их братию" в греческих кухмистерских да на чухонских хлебах в Петербурге… Люба почти не ела и либо с жалостью смотрела на Лебедкина, либо пододвигала ему вино, или салат, или иную принадлежность еды… По всей вероятности, ей представлялось, что он ужасно голоден. Лебедкин чувствовал это и был признателен. Относился он теперь к Любе если не с грустью некоторой, то все-таки просто и мягко. Да и вообще отбросил всякую язвительность. Теперь в нем и узнать было нельзя того растрепанного оратора, который так еще недавно и с таким яростным пафосом громил аристократию и даже чуть было не поругался с хозяйкой дома… Лев спрятал свои когти и смиренно надел намордник.
Когда подали десерт, разговор уже принял совершенно спокойный характер и был именно таков, каким ему и следовало быть с самого приезда Лебедкина. Мы спрашивали, а Лебедкин рассказывал. Он рассказал нам про свои занятия, про своих профессоров, из которых одного молодого терапевта боготворил, припомнил два-три анекдота тоже про одного профессора, сурового анатома, посвятил нас в таинства студенческих отношений к обществу и к инспекции, затем рассказал, как в прошлом году провел он вакации в Симбирске в одном «аристократическом» семействе (упомянул это уже без всякой злобы…) и почему не мог писать оттуда (это на вопрос Любы). На вопрос же Марка Николаевича, куда думает выйти доктором — в полк ли или в земство, ответил с маленьким вздохом, {360} что и сам еще не знает, да и вообще иногда думает бросить академию и перейти в университет на юридический… Там привлекает его политическая экономия, философия права и особенно изучение бытовых форм, влиявших на это право… Теперь же все это приходится хватать урывками и часто без достаточной солидности. Затем добавил, что и эти знания, разумеется, нужны ему не сами по себе, а как средство, как возможность проникнуть в суть социальных отношений и угадать, наконец, где истинный путь к спасению народа… Люба при этом долго и внимательно посмотрела на него, но сказать ничего не сказала. Марк же Николаевич глубокомысленно произнес: "А-а?.." и важно нахмурил брови.
После десерта Лебедкин и Марк Николаевич с Любой ушли в сад, мы же с Инной Юрьевной остались на балконе.
— Ах, как меня фрапирует всегда этот… господин студент, — произнесла она, кокетливо указывая мне место около своего патe, — вы знаете, я большая либералка, — но бог мой, — ведь это же ужасно!.. Все должно иметь границы, не правда ли?.. Но здесь нет их… И представьте себе контраст: Сергий Львович и… господин Лебедкин… Один — приличный, изящный, благовоспитанный, и этот… miserable!.. 3 О, порода, милый Николай Васильевич, очень, очень значит! — и, вероятно вспомнив, что и я не блистаю породой, быстро подхватила: — конечно, развитие, воспитание, — это много… Но согласитесь, не все же так счастливы… (Она улыбнулась очаровательно.) И в общем я права… Вы знаете… мать его поповна и вышла за подьячего какого-то… Впрочем, сами вообразите — какой-то Лебедкин!.. Ах, я, конечно, не допустила бы в свой дом этого оригинального молодого человека, но видите, тут особые обстоятельства… — и наклонившись ко мне, лукаво прошептала: мамаша — старая пассия Марка Николаевича… Ну, и вы понимаете — я не могла… Тем более с Любой он вместе учился, вместе брали уроки… Все на наш счет, разумеется… Но надо отдать справедливость, он очень помогал ей… Знаете, принцип этот педагогический — со-рев-нование — так, кажется?.. Но он очень, очень меня фрапирует! {361}
Вечером, когда зажгли огни, все мы собрались в зале около рояля. Люба не была музыкантшей, но играла очень мило и с душою. Инна Юрьевна пробыла недолго в нашем обществе. Прослушав в мечтательной позе вальс из «Фауста» да полонез Шопена, она глубоко-глубоко вздохнула и удалилась. По ее словам, она и устала ужасно, и хотелось ей на сон грядущий прочитать "прелюбопытную статью" в английском «Атенее»… А музыкальный вечер продолжался и после нее. У Лебедкина оказался недурной баритон. Сначала пропел он под аккомпанемент Любы "О поле, поле", а потом, сев на ее место и довольно неуклюже обращаясь с клавиатурой, скорее проговорил каким-то трагическим речитативом, нежели пропел: "Есть на Волге утес"… Для Любы пьеса эта была новостью, и прослушала она ее с глубоким вниманием, а прослушав, только и сказала, что она помнит ее, что это было в журнале, но что она не подозревала за ней такой трагической силы… В ответ на это Лебедкин объявил, что есть пьесы, обладающие и еще большим трагизмом, и тут же пропел некоторые из этих пьес. Люба, выслушав пение, печально поникла головкой и как бы застыла в грустном раздумье, но затем, гордо выпрямивши тонкий и гибкий стан свой, подошла к роялю и смело и быстро взяла торжественный аккорд.
Вперед, без страха и сомненья!..произнесла она своим нервным и странно звенящим при напряжении голоском и, ласково оборачиваясь к Лебедкину, сказала: "Не правда ли?" Лебедкин ответил ей светлой улыбкой и даже с пафосом воскликнул:
Смелей! Дадим друг другу руки…но как будто вспомнив что-то, внезапно сделался мрачен и замолк.
Марк Николаевич преспокойно спал в своем кресле, сладко посвистывая и похрапывая. Около полуночи ушел и я в свою комнату. А молодые люди, оставив в зале спящего Марка Николаевича и горящие свечи на рояле, ушли в сад, над которым висела белая теплая ночь.
Эта ночь не походила на вчерашнюю, но она была хороша… Небо теперь не было ясно, и деревья не давали резкой тени. Свет луны, проникая сквозь тонкие белые облака, ровным пологом покрывавшие небосклон, озарял {362} землю не фосфорическим голубым блеском, а мягким молочным сиянием. Какое-то нежное и едва уловимое трепетание теней в саду, какие-то смутные переливы света и слабое мерцание лоснящихся листьев на деревьях придавали всей окрестности вид тихий и мечтательный. Но в этой тишине и в этой мечтательности было что-то раздражающее… Веяние какой-то тоскливой и душной страстности, казалось, тонкой, неуловимой отравой носилось в теплом, резко благоухающем воздухе…
И соловей был уже не один сегодня. Из куста сирени под моими окнами, из аллей акаций, из далекой купы берез, из леса за домом — отовсюду неслась соловьиная песня. Ночь была настоящая «соловьиная» ночь. Я слушал, обвеянный чарами этой ночи… Чуткий воздух переполнялся звуками, робкими и нежными, как будто замирающими в какой-то тоскливой истоме, как будто изнывающими от мольбы и страсти… А когда эти печальные звуки таяли и задумчиво угасали в кратких и однообразных фиоритурах, смело раздавался мелодический посвист, и трель, звонкая как серебро, ясная и чистая, точно хрусталь, далеко разбегалась над окрестностью. Я слушал, и тихая грусть обнимала мое сердце…
…Послышался разговор. Я взглянул в окно: Люба выходила из глубины сада рука об руку с Лебедкиным.
— Милый ты мой, — в каком-то умилении говорила она, — так оттого-то ты хмурил свои страшные брови и бранился с maman… О, как я рада!.. Значит, ты любишь меня, значит, ты не считаешь меня барышней и пустой, пустой девчонкой?.. О мой дорогой, как я тебе благодарна… И ты только поэтому не говорил мне «ты», да?.. Скажи, скажи, мой хороший… Но ты теперь будешь со мной по-прежнему?.. Но ты ведь любишь свою Любу… Скажи же, ученый человек, филистер, бука…
— Но как же ты так вдруг отказала этому… кабальеро?.. Сумасбродная ты головка, с чего же у вас разлад-то пошел? — с радостным трепетом в голосе спрашивал Лебедкин.
— О, пошел у нас разлад давно еще, дорогой мой — месяц, два, но я все молчала, все я сомневалась, милый, все я думала, что я глупая-глупая девчонка, а он — папа непогрешимый… Ты знаешь, я ему очень, очень верила… {363}
Лебедкин нетерпеливо пожал плечами.
— Бедный ты мой, ты сердишься… Да, я очень верила ему… Ты его не знаешь? О, он может нравиться! Ах, не хмурься, пожалуйста… Он красив, он гораздо красивей тебя, и он очень образованный!.. Повтори, повтори, что ты сказал? "Где вам, дуракам, чай пить"… Ах ты, бука, бука! Но тут вот этот Сахалин, вот эти нигилисты, и я все, все поняла… Ты знаешь, иногда темно-темно… и вдруг зарница осветит, и вдруг все до последней былиночки станет ясно… Так вот и со мной такое приключилось… Ах, милый Федя, мне, право, нравились его идеалы… И главное, представь себе, Колупаевы исчезнут!.. Ты говоришь: "Откуда он Колупаева вытянул?" О, он любит Щедрина… Он говорит, что Щедрин великолепен… но мне, представь, мне положительно не советует читать… "Он неприличен", говорит… Но я ушла в сторону… Итак, Колупаевы исчезнут….
И они скрылись за поворотом аллеи. А когда, спустя четверть часа, снова показались под моими окнами, говорил уже Лебедкин.
— …"Пока солнце взойдет — роса глаза выест", — ты бы ему так и ответила, паршивцу… Вон в Медведице две трети в безнадежных болезнях обретаются да девять десятых с сумой странствуют… А ребятишки в дифтерите да во всяческом гное дохнут… И это еще не беда, а то беда, — тупеют все, руки опускают, в кретинов превращаются… То беда, что население вырождается быстро и неотразимо… Ну-ка, принцип постепенности приложи-ка тут… Через десять лет и встретишь "поле, усеянное костями" да чертополох. А ведь Медведица не одна, у нас целые области подобны Медведице. Вот оно что. Это я об одной стороне их идеальчиков толкую, а другая-то и речей не стоит… О, благодетели, — "в народ" пустились!.. О, волки в овечьей шкуре!.. О, фарисеи!.. Нет, Люба, этим лендлордикам нашим мало одного презрения — для них нужна и ненависть… Ах вы, культурные люди!.. Ах вы носители цивилизации!..
— Но, милый мой, что же делать, что же делать?!..
Я не разобрал ответа Лебедкина, ибо они опять скрылись в глубине сада и уж долго спустя появились у меня под окнами. {364}
— …Ты не знаешь, как тяжело мне иногда, как больно… — с тоскою говорила Люба. — Я всегда одна, всегда… Иногда дум так много, и так заноет сердце, и так мучительно хочется плакать, а пойти не к кому, сказать некому… Maman, она — милая, но она — ты знаешь — отсталая она… Papa… О, дорогой мой, я иногда очень, очень плачу… Я читаю урывками… Читаю газеты… я «Miserables» читала и, знаешь, проболела даже… О, как горько и как хорошо!.. Но помнишь, с тобой мы читали, помнишь "Мещанское счастье", "Трудное время" и еще, еще? О, я все помню… Теперь уже нет у меня таких книг… Ах, хорошее было время!.. Знаешь, милый, отчего бы вечно, вечно не в детстве?.. Помнишь, этот чудак monsieur Raoul… Как он мучил нас своими противными глаголами и как смешил своим русским языком… О, как смешил!.. А этот математик Чупков, длинный как шест и сухой, сухой… Скажи, ты не забыл извлечения кубических корней?.. — и грустно прибавила: — Я все забыла, все…
Голосок ее замер за деревьями. А когда снова достиг он до моего слуха, она спрашивала Лебедкина: все ли по-прежнему отрицает он Шекспира?
— Не Шекспиру черед теперь, — уклончиво отвечал Лебедкин, — другие задачи наши, Люба, другие надежды и стремления…
И он горячо стал развивать перед ней эти задачи, эти надежды и стремления свои… Они опустились на ту скамью, на которой вчера еще сидел с Любой Карамышев. Теперь Люба доверчиво припала к плечу Лебедкина и слушала, — слушала неотступно… А он в резких и сильных чертах обрисовал ей положение народа… Его малоземелье, его болезни, его голод и нищету, его экономическое рабство, которое наименовал более тяжким, нежели рабство крепостное, — все это вставало перед девушкой наподобие исполинских духов тьмы, безнаказанно терзающих светлый гений народный. Гений же этот, по словам Лебедкина, был велик… «Богатую» народную поэзию — песни, былины, сказки; «великолепные» бытовые формы — общину, артель, «выть» ("выть" — это грандиознейший задаток социалистического строя!" — воскликнул он); «широкие» понятия о собственности и «здравые» аграрные идеалы ("которые и не снились буржуазным экономистам"); «трезвое» миросозерцание и образный {365} язык, меткие пословицы и «мудрое» обычное право, — ничего не забыл Лебедкин, определяя величие этого гения. И, по его словам, достаточно было снять с него оковы, как он воспрянул бы и посрамил мир… И когда Люба наивно заметила, отчего же не снять эти оковы, отчего не освободить этого несчастного великана с такими «грандиозными» задатками, — он вскочил с скамьи и, восторженно поднимая руку, произнес, что пришла, наконец, пора этого освобождения, пришло время великому народу стряхнуть с себя путы, и что на них, на интеллигенции, лежит святая задача помочь этому…
— Народ давно ждет нас, — патетически восклицал он, — он истомился… Его зов уже начинает замирать от напрасных ожиданий… И не нам медлить… Мы бросим наши семьи, наших отцов и матерей и пойдем к нему, к великому страдальцу, в его ранах забыть свои раны, в его несчастиях схоронить свои…
Тогда Люба бросилась к Лебедкину и крепко, со слезами на глазах, обняла его. Он опустился в изнеможении… А она, вся трепещущая, вся дрожащая от неизъяснимого волнения, как будто колючим ознобом обнимавшего все ее молодое, гибкое тело, порывисто восклицала:
— Я пойду с тобой… О милый, не бросай меня здесь… Я жить хочу… Я хочу идти вместе с тобою, вместе со всеми вами… Я не могу терзаться и плакать бесплодно… О мой милый, не покидай меня!..
Он ничего не ответил. Он только в каком-то трогательном умилении поднял лицо свое к небу, — и особенно выразительны были юные, но уже строгие и резкие черты этого лица, — и затем горячо и быстро поцеловал Любу.
И долго сидели они в каком-то полузабытьи: он — задумчиво и медленно целуя ее руки, она — доверчиво склонившись к нему на грудь.
А соловей звенел над ними жалобно и страстно. {366}
XV. Идиллия
Есть у меня статский советник знакомый. Имя ему громкое — Гермоген; фамилия — даже историческая в некотором роде — Пожарский. Ко всему к этому, он крупный помещик и, как сам говорит, до самоотвержения любит мужичка.
О, любовь эта причинила много хлопот статскому советнику Гермогену… Так, например, когда не издыхало еще крепостное право, Гермоген, благодаря этой любви, был некоторое время даже под опекой. Вам непонятно это? Вы тут не видите логики? О, это только на первый раз как будто оно и действительно непонятно… — Дело в том, что Гермоген так старательно следил за благосостоянием мужичков своих и с такой настоятельностью внушал им правила экономической и душевной благопристойности, что дал повод сопричислить себя к сонму помещиков, "злоупотреблявших своим правом". Кроме того он, поглощенный мыслью о присовокуплении благородного элемента к мужичковой простоте, не оставлял втуне «права» primae noctis… 1 Все это, как я и сказал, повело за собой опеку. Это было, разумеется, в 1856 году. Он покорился и стих, погубив в груди чувство справедливого негодования.
В пору губернских комитетов, памятуя нежность Гермогена к мужичку, его призвали. Комитету он дал тон. Комитет проектировал: майораты — раз, патронатство — два, и, в-третьих, ограничение наделов усадьбами. Гермогена вместе с проектом отправили в Петербург. Там, {367} в комиссиях и в салонах, в вельможеских приемных и в гостиных великолепных львиц, об одном просил он слезно, об одном неотступно молил — не обездоливать мужичка, не покидать его на волю судеб, не лишать его благодетельного воздействия помещика, не давать его в жертву «красным» — Ростовцеву и K°… Он молил: "Уразумейте же, наконец, алчбу и жажду мужичкову — дайте ему поле для самостоятельности, поручив самому отправлять государственные повинности, как и подобает полноправному сыну отечества; пробудите в нем самодеятельность, воздвигните перед ним идеал упорного и настойчивого труда, пусть он действует motu proprio 2 (Гермоген питал страсть к латыни), но вместе с тем все эти высокие проявления мужичковой души урегулируйте воздействием помещика… Не упраздняйте нашего родного, краеугольного принципа семейственности: "Вы наши отцы, мы ваши дети", — не опустошайте души народной, не рвите исконной связи благородного дворянства с его добрым, благодарным мужичком. Крепостное право — зло, и я сознаю это, вещал Гермоген, проливая токи умилительных слез, — и я благословляю молодого императора… Зло оно тем, что развращает мужичка отсутствием идеалов экономических, что приучает его смотреть на жизнь как на блюдо, полное яств, которым, что бы он ни делал, конца не будет… Итак, освободите его, дайте ему усадьбу и широкое поле… самодеятельности. Но не отнимайте от него вместе с этим идеалов нравственных. Пусть новые экономические его идеалы непрестанно облагораживаются, непрестанно смягчаются нынешними нравственными. Пусть образ "доброго помещика", образ "ангела-барыни и барышни-благодетельницы" не испаряется из благодарной мужичковой души и вечно умиляет ее, вечно располагает к добру и трудолюбию… А для этого вооружите помещика атрибутами и судьи, и старшины, и начальника". В противном случае он, конечно, вызывал призраки "крестьянской войны" и «Пугачевщины», а дальше — всеобщей анархии и всеобщей гибели, и грозил этими призраками несчастной России.
И в конце концов снова пострадал: ему посоветовали исчезнуть из Петербурга, и притом, по старой памяти, {368} исчезнуть в баснословно краткий срок. Он исчез, разумеется. Он снова покорился, затаив в душе горькое чувство обиды и томительную гражданскую скорбь.
И вот, в глуши, в деревне, в своем пустынном Монрепо, — Гермоген предвосхитил Щедрина, — он смиренно изобразил Цинцинната. С заступом в одной руке и с пером в другой неустанно трудился он на пользу отечества. Он всю Россию наводнил брошюрами. Эти брошюры печатались и у Брокгауза в Лейпциге, и у Каткова в Москве, и в Берлине, и в Дрездене, — и начинались всегда одинаково: "Блаженнейшей памяти императрица Екатерина Великая, от неизреченных щедрот своих соблаговолив пожаловать благородному дворянству всемилостивейшую грамоту 21 апреля 1785 года…", а кончались: "Не обижайте мужичка, не отгоняйте его от помещика, не тревожьте его идеалов… Памятуйте ужасы французской революции, злодейства Пугачевщины!" Кроме брошюрок этих, сочинял он статьи и рефераты, трактаты и докладные записки. Но, увы, лавры не венчали старика на литературном поприще… Брошюры его не раскупались, и он почти силой навязывал их своим знакомым и даже рассылал по адресам, собранным из календарей. Все это стоило денег. Что касается до статей — даже редакция самого крепостнического издания непрестанно отвергала их, изобличая Гермогена в безграмотности. Рефераты Гермогена повергали непременных слушателей в уныние и сон, трактаты — гнили, а докладные записки в благодушные минуты сановники цитировали для развлечения, как во время оно Телемахиду и оды Хвостова.
И было время, когда Гермоген упал духом, — «ослаб», по его выражению. Но тут подоспела работа «освобождения», и он забылся в ней от литературных треволнений мятежных, отдался этой работе всею своею душой. С утра до ночи слонялся он с мужичками по полям, с утра до ночи задавал им пиры и произносил медовые речи. И в конце концов уставная грамота благополучно сошла у него с рук, а мужички очутились "на даренке". Гермоген успокоился. И когда в присутствии всех дворян околотка благодарные мужички поднесли ему серебряное блюдо с хлебом-солью (блюдо сам Гермоген и на свои деньги заказывал у Сазикова), он вздохнул отрадно и, пожимая мужичкам крепко руки, прослезился. {369}
После же уставных грамот наступило царствие Бутенопа. Гермоген и Бутенопу дань уплатил. Он даже из Саксонии рабочих выписал и настроил великое количество немецких фургонов… Впрочем, на этом и сел, ибо вовремя уразумел тщету заграничного труда. Саксонцы разбрелись из Монрепо оборванные и голодные. Гермоген возвратился к исконной первобытности, к трехполке, и к своим, в то время уже обнищавшим на «даренке», мужичкам.
А время текло; почва зрела все это время, и вот в одно прекрасное утро Гермоген Пожарский снова очутился на горе стоящим. Снова воспрянул он, и помолодел, и не стихает уже до сей поры, а напротив, как бы остервеняется и усугубляет свою ревность. Дело в том, что он очутился земским гласным.
И он окончательно предался мужичку. При первом же дебюте своем он заявил об этом земскому собранию ясно и решительно и поднял свое знамя с умилительной торжественностью. Весь трепеща от волнения, с дрожащими коленками и с бакенбардами, мокрыми от слез, он прерывающимся голосом произнес свою исповедь. Он говорил:
— Ныне отпущаеши раба твоего!.. Дожил я, господа гласные, до часа, коего вожделела и многие-многие лета тщетно и томительно ожидала душа моя… Дожил я, господа гласные, до той минуты, коей величие стесняет дух мой и старческое мое сердце заставляет трепетать в некоей сладости!.. — Я стою теперь и мыслю: за что пострадал я? за что претерпел я? за что на поприще и помещика и советодателя был посрамлен я и выметен совместно с плевелами?.. Стою, и мыслю, и воссылаю провидению благодарение. Ныне доспел тот час, в который я, немощный, удрученный летами старец, посрамлю кичливых врагов моих и докажу им, что я и мужичок, — простой православный мужичок и я, представитель древнего рода Пожарских, — тело и дух, воля и действие, следствие и причина… В духе исконных помыслов мужичковых и в духе мужичковых смиренных воззрений вся моя жизнь происходила, на рубеже которой стою теперь… И меня закидывали грязью, меня заушали, меня на всех распутиях вменяли к крепостникам и к врагам народа… Sic transit {370} gloria mundi!1 — Теперь же что мы видим! — Мы видим в половине собрания нашего мужичков. Одни из них претерпели двойное избрание, двойную почесть: почтены должностью старшин волостных и обязанностью гласного, другие — по достатку своему, по своей сметливости и здравомысленности, по своей приближенности к властям, суть цвет деревни, ее соль — и среди них я, коего предки памятуют Иоанна Калиту, а некоторые из них доводились свойственниками самому знаменитому спасителю отечества — князю Дмитрию Михайловичу Пожарскому… (Это Гермоген соврал.) Я вожделею к ним, они ко мне вожделеют. Я верую в здравость идеалов ихних, они верят в мои идеалы. До сей поры все это могло казаться гадательным. Пусть же теперь предстанет воочию единство наше и пусть изменники-либералы посрамятся!.. Они буйствовали, эти исчадия, они злословили, они торжествовали победу, но они забыли мудрое латинское изречение: finis coronat opus!2
И Гермоген не ошибся. Сразу стал он угоден мужичкам. Поднималось ли предложение усилить медицинскую часть назначением докторов и акушерок, Гермоген вставал и говорил кротко:
— Мы, полагаю, и без того обременены… (Мужички кивали головами.) Мы и без того отягощены поборами… (Мужички поддакивали.) — А в болезни против воли божией не пойдешь… (Мужички благоговейно соглашались.) — От смерти никакой доктор не вылечит, — продолжал он. — Притом же, простые мужичковы болезни очень успешно исцеляют и простые мужицкие бабки. Много даже и таких видим примеров, что бабки вылечивают болезни, над которыми становились в тупик знаменитейшие доктора. Я знаю много таких примеров. И я полагаю, что доктора мужичку не нужны, ибо это только излишняя тягота. Что же касается акушерок, то об них смешно и говорить, — всякая старуха в деревне великолепно поможет роженице. И притом небезызвестно, что все они безбожницы и нигилистки…
И мужички восторженно гудели: "А-ах, верно, братцы… Правда твоя, барин, правда, батюшка Гермоген {371} Абрамыч… Не надо лекарей… Не хотим кушерок… Нет на то нашего согласия!.." — и предложение блистательно испарялось.
Проектировалось ли расширение народного образования, и тут Гермоген тянул в унисон с мужичками. Начинал, разумеется, снова о тяготе поборов и затем продолжал так:
— …К чему мужичку грамота? — Пахать? — Он без нее может… Условие написать? — Напишут в волости… Молитвы читать? — В церкви прочитают… А кроме того, что мы видим? — Видим мы — грамотный зазнаётся, грамотный не почитает родителей, грамотный привержен к кабаку и к различным художествам, наконец, грамотный ударяется в раскол и самую душу свою повергает в ад… А между тем в евангелии мы читаем: горе тому, кто соблазнит единого от малых сих, легче бы ему повязать жернов на шею и утопиться…
И мужички снова кричали: "А-ах, исполать тебе, батюшка барин!.. Исполать тебе, Гермоген Абрамыч!.. Не желаем училишшев!.. Не надо грамоты… Нет на то нашего согласия, чтоб ежели, к примеру, маладенцев сомущать!.." — И снова торжествовал статский советник Гермоген Пожарский.
И вот он стал силой. Он гордо величал себя «народником» и в сопутствии мужичков своих вершил все земские дела по рецепту "мудрости исконной и смиренных народных воззрений". Но надо отдать ему справедливость: за колебанием этих «воззрений» наблюдал он тонко, и когда что-либо новое назревало в них, то уступал и подлаживался под это новое и обессиливал его — если оно было неприятно — подвохами, но отнюдь не ломился на рожон, как то свойственно наивному медведю. Так в последние годы уступил он в вопросе школьном, почуяв на этот счет некий поворот во мнениях своих мужичков, вдруг возомнивших, что "без грамоты по новейшим временам — пропадать", — и школы выросли как грибы. Но вместе с тем Гермоген втерся в училищный совет и ковал свои подвохи непрестанно и из школьного дела вытравлял всякую жизнь, всякие попытки на серьезность. Дело в том, что, уступив мужичкам наружно, в душе он все-таки веровал, что школа для них гибель. А он так любил их!.. Теперь восстановлю наружность Гермогена. Это, впро-{372}чем, не трудно. Вообразите вы глаза совы, нос стервятника, губы и бородку козла это и будет Гермоген. В соответствии с этим и душевные его свойства изображались. В присутствии юбки напрягался в нем козел; когда приносился запах поживы — оживал стервятник; веяло мраком — поднималась сова… И ко всему к этому прибавьте сладкий голос, тихие ужимочки, смиренное опускание взоров, крепкое пожимание рук.
Меня он любил, и мы были с ним знакомы.
Так вот этого самого Гермогена, этого самого статского советника и отчаяннейшего народолюбца встретил я в конце масленицы у соседа моего, помещика Иринея Гуделкина. Встретил я его и по обычаю поспорил.
— Народ беден, — говорю.
— Народ счастлив, — говорит.
— Народ озлоблен, — говорю.
— Народ благодушествует, — говорит.
— У него нет просветителей! — горячился я.
— Тех, которые есть, — предостаточно, — возражал Гермоген.
— Они сами невежды…
— Но они смиренномудры и не заносчивы…
— Но народу, помимо смиренномудрия, нужны знания…
— Символ веры и начатки катехизиса.
— Но ему нужен пример и новая постановка идеалов…
— Он и без примера доблестен, и с идеалами исконными счастлив. — И опять:
— Но он озлоблен, развращен…
— Он кроток и благодушен.
И не знаю, как долго длился бы диалог этот, если бы Гермоген круто не оборвал его следующим предложением:
— Да чего лучше — примерчик на сцену. Вы знаете: errare humanum est, 1 а примерчик великое дело. In facto…2 Я всю жизнь за примерчик. — Вы с вашим батюшкой приходским знакомы, конечно. С отцом Вассианом?.. Ну, так вот-с заутра, в субботу-с, я обещал почтить его дом. Это, понимаете, польстит ему и подымет его в глазах товарищей. Ну, я и рад. Законоучитель и пастырь {373} стада своего он отменный, и я почту. Вот приезжайте, и увидите. Увидите идиллию. Увидите мужичка в веселии, увидите незатейливых, но смиренномудрых и кротких наставников мужичковых… Там будут несколько учительниц, — вы знаете, я стараюсь по возможности мужчин заменять девушками. Понимаете, из духовного звания этак, сиротки, сиротки… И тогда решим, по мудрому правилу древних: sine ira et studio…3
Я согласился, и Гермоген, уже не оспариваемый, развивал свои мысли насчет достаточности наличных просветителей.
— Вы изволите говорить: "Несостоятельны они", — напротив, об одном ежечасно помышляю я, об одном забочусь, не слишком ли состоятельны… Очень и очень нужен зоркий глаз, чтобы не допустить развращения. Тут вечно нужно помнить правило: si vis pacem para bellum…4 Вот косо я гляжу на тамлыцкого батюшку: ряска у него на манер пальмерстона, поясок шелковый, воротнички наружу, и мне это сомнительно. Я слежу, конечно… Я предотвращу заразу… Я уж говорил владыке, но боже упаси… И тем более — нет соревнования. Вот недавно был случай в Лесках — учитель, сынок генеральский… Уж прямое дело!.. — Нет-с, погодим, посмотрим… Отлично посмотрим. Доставляет урядник — книжку отобрал, Милля!.. Чего еще? кажется, предостаточно?.. Нет-с, погодим. Отлично. Чем же кончается?.. А тем, что наставник коммуну начинает проповедовать, общинную обработку земель, общинное достояние… А? как вам это кажется?.. И вы не поверите, даже тогда — даже тогда! — мне, старику, немалых стоило настояний удалить явного, ничуть даже не замаскированного социалиста… Ох, трудна обязанность быть на страже непосредственности мужичковой!.. — Или вот еще недавно совершилось событие. Это уж в Красном Яру, у отца Вассиана. Поступает туда учитель. Рекомендации достаточные… Но, понимаете, есть в нем что-то… Однако допустил я его. Учит месяц, учит другой… Спрашиваю отца Вассиана, что? как? не замечаешь ли, как будто пахнет, а?.. И что же вы думаете: "Есть, говорит, ваш-ство, всенепременнейше, говорит, припахивает чем-то"… Понимаете — в одно слово… Слежу… "Как, спраши-{374}ваю, насчет Мак-Магона мыслите, господин наставник?" Понимаете, издалека… Ну, и сразу, сударь мой, он душок пустил. "Думаю, говорит, я, что Мак-Магон вроде как преступник, потому — нарушитель конституции", и все такое… Quod demonstrandum est…1 Но, однако, виду я не подал… Проходит время, разузнаю сторонкой — сбивает мужичков Нила Ерофеича, — хороший такой, богатый мужичок, — в гласные не избирать… А? каков?.. Наматываю на ус и жду. Приходит новый год. Доносят мне: красноярскому учителю "Отечественные записки" пришли… Как, "Отечественные записки"!.. Ну, тут уж я его, голубчика, и допек! — И вот теперь я спокоен. В Красном Яре учительница у меня вдова, предушевная бабенка, хе-хе-хе… В Лесках — сиротка одна из духовного звания… Помните нашего божественного Пушкина:
Мне стала известна, И как интересна, Сиротка одна…И лик Гермогена осклабился козлиной улыбкой.
Наутро я приказал Михайле запрячь в санки «Орлика» с «Копчиком» и отправился в Красный Яр к отцу Вассиану. Был пасмурный, но тихий денек, не холодный, но и без оттепели.
Еще не доезжая до Красного Яра послышался нам беспорядочный масленичный гул, особенно поражавший после мертвой тишины, как и всегда обнимавшей снежное поле. При въезде в село этот гул оказался просто оглушительным. Вдоль широкой улицы, разделявшей село на две почти равные половины, ярким, разноцветным потоком тянулись сани с разряженными девками и бабами, двигались толпы ребятишек и парней, летели тройки и пары… Песни, крики, нестройные разговоры, хрипливая ругань, лязг кнутов, звон бубенчиков, отчаяннейший визг гармоник — переполняли воздух каким-то сплошным завывающим стоном. Яркая безвкусица одежд, диковинное разнообразие упряжек и саней, бестолковейшее сочетание неизъяснимой нищеты и сытого довольства — все это резало глаза и до одури кружило голову. Там бабы в шелках и парчовых душегрейках тесною кучею громоздились на дровнишках, которые через силу тянула худая, как скелет, {375} лошаденка, с боками, изнизанными кнутом. Здесь степенной рысцою трусил до невозможности раскормленный жеребец в сбруе, испещренной медными бляхами, с хозяином в дубленом полушубке и в окладистой бороде и с жирной хозяйкой. Рядом бежали городские санки с волоокими купчихами из соседних хуторов; за купчихами опять, напрягая все жилы, летела кляча, понукаемая оглушительным хохотом и дикими возгласами доброго десятка здоровеннейших мужиков, переполнивших санишки… За мужиками стремились ребятишки, как пчелы улепившие глубокие розвальни. Зипунишки с отцовского плеча и рваные шапчонки не мешали им ломаться, подобно пьяным, и орать во все горло невозможные песни… И опять сани за санями, козырьки за городскими, дровни за розвальнями, мужики за бабами, купчихи за ребятишками, парни за девками… Бабы бестолково топтались в санях, визгливо оглушая улицу глупейшими плясовыми песнями и отчаянно размахивая руками. Девки чинно восседали по бортам саней и, уткнувши физиономии в рукава шубеек, пересмеивались, шелушили семечки и в свою очередь орали песни. Мужики либо шумно и бестолково галдели и пускали в ход пресквернейшие уподобления, либо тоже заводили песни охриплыми голосами… Все это, не исключая ни чинных девок, ни даже важных купчих в лисьих салопах, было либо совершенно пьяно, или близилось к тому. Казалось, самый воздух насыщен был хмелем, и в нем с какою-то бесшабашною пьяною удалью звенели колокольчики, гремели бубенчики и развевались вплетенные в гривы алые ленты и яркие платки в руках плясуний.
Посреди села, около кабака, на котором гордо развевался совсем еще новенький красный флаг, волновалась бесчисленными платками и смушковыми шапками, кичками и треухами огромная толпа. Шум над этой толпой висел неописуемый. Ехать мимо нее приходилось шагом и даже время от времени останавливаться. Я поневоле слушал, и смотрел, и любовался на «идиллию».
В одном конце толпы девки пронзительными голосами отхватывали песню про то зазорное обстоятельство, как:
Купи-ил кузнец… Купи-ил кузнец… Купил Дуне сарафан, сарафан! Купил Дуне сарафан, сарафан! {376}А за что купил — следовали неудобнейшие, нахальнейшие пункты.
В другом конце с каким-то нечеловеческим ожесточением ругались, разнообразя ругань до гнуснейшей виртуозности и подкрепляя ее отвратительными соображениями о нравственных свойствах восходящего колена. На сугубую мерзость этой ругани, казалось, конкурировали, ибо всякое преуспеяние награждалось одобрительным хохотом предстоящих.
Там два кулачные бойца, в разодранных рубахах, с рукавами, засученными до локтей, усердно сворачивали друг другу скулы и, обливаясь кровью, лезли друг на друга как исступленные. И вокруг них радостно гоготали и подзадоривали зрители.
Здесь посреди седых бород и старческих кудрей рокотало что-то и вовсе неизъяснимое… По крайней мере я ничего не понял в этом рокоте, и уж Михайло, настоятельно прислушавшись к нему, с широкой улыбкой объяснил мне, что судят вора. Из сплошной галды вырывались следующие восклицания:
— Ах ты, такой-сякой!
— Не-эт, это ты врешь… вррешь…
— Сват он мне, ай нет?.. Нет, ты скажи, скажи-и… (Этот голос был особенно пронзителен и дребезжал подобно пиле, брошенной в воздух опытным покупателем на ярмарке.)
— Одно слово — ведро… Ведро, и шабаш!
— Облопаешься!
— А-ах, дьяволa вы… — И-их, да кабы взодрать, и взодрал бы… Ведрро, и шабаш! — Нет, хомут на яво по-настоящему… — Первое дело хомут!.. — Притянуть бы вожжами к телеге, да в кнутья бы!.. Ого-го-го… Не воруй!
— Ведь сват он мне — рассудите вы, старые дьяволa!
— Становь, становь ведро-то!.. Робя! розгачей ему… — Хомут, хомут на шею да по селу… — Боже упаси, чтоб прошшать…
— Да ведь жрать-то ему нечего, черти!.. Лопать-то ему… Рассудите, чего ему лопать-то! а? — усердствовал пронзительный сватов голос.
— Нет, по скулам ихнего брата!… - Ай за волосья… — Чего-то розгачей, одно слово! — Горячих штоб… — Вед-ррро!.. {377}
Но внезапно шум этот прервался громким возгласом:
— Старички поштенные! Нил Ерофеич едет…
И вся кучка среброголовых старичков, с длинными палочками в руках и с патриархальными бородами, спешно направились к середине улицы. Там остановились козырьки, запряженные жирным жеребцом, и из них, важно покряхтывая, вылез к старичкам толстый сивый мужик. И только вылез он, снова поднялся шум неописуемый. Впрочем, в шуме этом теперь уже превозмогали не грозные и не укоряющие ноты, а мягкие и подобострастные.
— Э, Нил Ерофеич! Благодетель!.. — слышались голоса. — Старичков-то, старичков-то не забывай… — Рады мы масленице-то матушке, голубчик ты наш!.. Кости-то наши старые разгулялись… — Водочки бы им… душенька-то пить запросила, Ерофеич!.. — Угости, поштенный человек!.. — Мы кабыть стоим по заслуге-то по нашей… — Мы для тебя вот как — всей душой! — Ты вот старшина теперь — доходишь срок, опять постановим… — Старички не выдадут… — Старичок — ты ему угоди, а он выручит! — Это как есть… — Ты не гляди, что на тебя недочет взвели… — Нам это все единственно как наплевать… — А ты думал как, — известно, наплевать! — Семьсот рублев деньги для волости невелики… — Как еще невелики-то… — А мы завсегда рады уважить хорошему человеку… — С миру по нитке — голому рубаха!
И в сопутствии солидно шествовавшего впереди Нила Ерофеича все потянулись в открытые двери кабака, широкою пастью зиявшие за народом. А спустя несколько минут выскочил оттуда раскрасневшийся, подвыпивший старичишка с огромной лысиной и закричал на весь народ:
— Эй, православные! ведите сюда свата Аношкиного, — мы его, вора, в хомуте малость поводим… для потехи!
И народ с радостным хохотом подхватил призыв к «потехе» и мгновенно выделил из себя человек шесть, спешно направившихся за Аношкиным сватом. Готовился самосуд.
Мы тронулись далее и, проехав кабак, увидали следующую сцену. Маленький, тщедушный мужичонко, без сапог и шапки, отбивался от высокой носастой бабы, озлобленно тянувшей его за руку. Мужичонко едва держался на ногах и, конечно, не осилил бы с бабой, если бы его, в {378} свою очередь, не тянули к кабаку два здоровенных и тоже сильно подвыпивших мужика. У бабы, от неимоверных усилий стащить мужичонку, съехала с головы кичка, и растрепанные волосы спустились на злое, испитое лицо. В ее глазах стояли слезы, осипший голос дрожал и прерывался.
— Окаян-ный!.. — причитала она, — без просыпу третий день… Пропойца!.. Жена без хлеба-а… Идол!.. Оглашенный!.. Совести-то в вас нету-у… Душегубы!..
— Пущай!.. Пущай, говорю… — сладко усмехаясь, бормотал мужичонко, вырываясь из ее рук. — Я сказал, и пущай… Я сказзз…
— Кум! что ж ефто за порядки! — укорительно вопил один из тянувших мужичонку сзади и усердно подхватывал его под мышки.
— Ломани ее хорошенько, дьявола, по сусалам… Чего она! — кричал другой, пыхтя от напряжения.
— Глахфер… Глахфер… не трошь… Слышь?.. Ослобони, говорю… томно закрыв глаза, тянул мужичонко.
Но Глафира не пускала. Она точно замерла в одной отчаянно-мучительной позе: пальцы ее впились в руку мужа, на синеватом лице загорелся багровый румянец, длинный неуклюжий стан, покрытый одною только рубашкой, судорожно вздрагивал от непосильного напряжения.
— Иди-и, погибели на тебя нету!.. иди, родимец! — истерически кричала она; и эту группу, с хохотом и прибаутками, обступили подзадоривающие зрители.
Лицо тщедушного мужичка вдруг преобразилось. С него не сошла добродушная, расплывчатая и несколько ленивая улыбка, но глаза как-то мгновенно раскрылись, и в них замелькал какой-то не то задорный, не то просто насмешливый огонек.
— Ты чаво? Ты чаво?.. — зачастил он, быстро подвигаясь к лицу Глафиры. — Ай дать? Ай дать?
— Стрекани, стрекани ее по морде-то!… Стрекани подюжей!.. Чего она… Ишь, прилипла, подлец!.. — серьезно убеждали мужичонку окружающие, но он снова раскис и снова бессвязно лепетал умильным голоском:
— Ей-богу, по одной… Однова дыхнуть!.. косушку куда ни шло… Глахфер!.. Не замай… Ей-богу же, по косушке! {379}
А мужики снова вырывали его из оцепеневших рук бабы и тянули к кабаку, тяжело сопя от усилий.
Разрешилась эта сцена совершенно неожиданным пассажем. Из кабака вдруг нежданно-негаданно выскочил коренастый растрепанный мужичишка и, быстро подбежав к Глафире, ни слова не говоря, ударил ее по уху. Та пронзительно вскрикнула, оторвалась от мужа и как сноп повалилась в снег, окропив его тонкою струйкой крови. Мой Михайло даже крякнул от удовольствия.
— Ловко!.. Вот так звезданул! — произнес он.
Немного спустя Глафира поднялась и, на ходу повязывая кичку и размазывая по лицу кровь, направилась к порядку, оглашая улицу жестокой бранью и проклятиями. Зрители покатывались со смеху. Мужики торжественно, хотя и с заметной торопливостью, вели к кабаку Глафирина мужа, который мягким и дребезжащим голоском, по-видимому, на что-то жаловался. Мужичок, ударивший Глафиру, услужливо поддерживал его под руку и радостно выкрикивал:
— Первое дело — в морду! Они из эстого страсть как жидки… бабы эти!
— Чего способней! — хором подхватили остальные товарищи Глафирина мужа. — Не иначе как в морду… Прямое дело!.. Чтоб значит сразу ее… остолбить!.. Особливо изнавесть 1 ежели…
Не доходя до дверей кабака, все четверо вдруг затянули песню. К ним тотчас еще присоединилось человек пять, и в кабак повалила уже целая толпа. Песня нескладными звуками неслась из дверей кабака:
Э-их мы по Питеру…
Мы по Питеру, братцы, гуляли,
По трактирам, братцы, кабакам…
Э-их много денег…
— Тоже и у них есть ухватка, — вдумчиво заметил Михайло.
— У кого?
— А у баб. Она тебя, то ись, ежели проникнет теперича… Одно слово дух вон!.. Тоже хитрый народ…
А мужичок, ударивший Глафиру, выскочил из кабака {380} и, высоко вознося над головою дрянные сапожишки, закричал на всю улицу:
— Эй, народ православный!.. Кому есть охота Митрошкины сапоги вздеть!.. Четверть водки да два ратника 1 просит Митрошка!.. Митрошка весну почуял — без сапог желает оставаться!
Мы двинулись далее.
— Это уж ты как хошь, дядя Митяй, а осьмуху выволакивай! — слышалось в кучке, обступившей седенького и дряхлого старикашку.
— Знамо, осьмуху…
— Чего уж — по совести!
— Как есть что по совести…
— Тоже на мир плевать не приходится!..
— Пора и совесть знать…
— Заедаться-то кабыть не к делу…
— Уж девятый год, почитай, пастухом-то ходишь!
— Пора бы миру-то и отблагодарить…
— Взять-то кабыть негде мне, кормильцы… Негде взять-то ее, осьмуху-то… — с тоскливым смирением шамкал старикашка, робко поводя по толпе своими выцветшими, слезящимися глазами.
И опять:
— Нет уж, дядя Митяй, подноси… Раскошеливайся… чего уж! — Почитай, девять годов ведь… — Хлеба-то мирского ты тоже немало пожрал… Совесть-то, ведь она зазрит. — Как есть зазрит! — От ей тоже не убежишь, от совести-то… — Не-эт, врешь!.. — Не таковская!.. — Выволакивай, выволакивай осьмуху!.. — Тоже, брат, мир-то объедать не приходится!..
С другого конца села к кабаку валит еще толпа девок. Под звонкие удары заслонок перед этой толпой ломались две бабенки, неистово потрясая платками и как-то неестественно выворачивая груди. Девки орали во всю мочь:
Охо-хошеньки, хохошки, Надоели нам картошки… Нам картошечки приелись, Ребятенки пригляделись… Охо-хо хо, охохошки, Отходились мои ножки По красн-ярской по дорожке… {381} Вы скажите Миколашке Записалась я в монашки… Хоть в монашках жить я буду, Миколашку не забуду… Вы подайте стакан чаю Я по миленьком скучаю… Вы подайте стакан рому Я поеду ко иному… Вы подайте папироску Я воспомню про Федоску… Охо-хо-хо…Мы уже почти миновали шумную, разноголосую улицу и повертывали на сравнительно пустынную площадь, в глубине которой виднелся опрятный поповский домик, как вдруг из ближайшего переулка раздался могучий окрик: "Стой!", и лихая тройка вороных, как вкопанная, остановилась около наших саней. Михайло тоже сдержал лошадей. Тройка была впряжена в широкие, обитые яркоцветным ковром сани. Сбруя на лошадях звенела бесчисленными бубенчиками и весело сверкала крупными и мелкими бляхами. Два серебряных колокольчика под вызолоченной дугою мелодично позвякивали каждый раз, когда горячий коренник-иноходец с огромными огненными глазами сердито вскидывал свою горбоносую голову. Поджарые пристяжные, красиво искривив шеи свои, жадно глотали снег, нетерпеливо взрывая его копытами. Глаза их налились кровью, из горячих ноздрей клубился пар, с удилов большими желтоватыми клоками падала пена.
В санях, откинувшись к задку, небрежно полулежали три дамы. Я знал из них лишь одну — сдобную супругу отца Вассиана. Смазливая рожица другой, с наивно приподнятой губкой и восхищенными глазками, и смуглое лицо третьей, с каким-то горячим, жадным и пронзительным взглядом, — не были мне знакомы.
Посреди них помещался волостной писарь с огромнейшей гармонией в руках и вертлявый фельдшер с золотым pince-nez на нервном, вечно дергавшемся носике. Кроме того, в глубине саней виднелась еще фигура, хотя и в великолепной скунсовой шубе, но уже совершенно пьяная. Видом фигура походила на купчика, — но я совершенно не знал этого купчика. Зато хорошо знал и помнил того, который правил лошадьми и так молодецки крикнул "стой!" {382}
Сжимая в левой руке небольшую смушковую шапочку, распахнув лисью поддевку, из-под которой алела шелковая рубаха, опоясанная серебряным поясом, он раскланивался со мною, сдерживая правой рукою бешеную тройку. Он правил стоя, немного откинувшись назад от усилия сдержать горячившихся коней. Его маленькую окладистую бородку занесло снегом и подернуло инеем; слегка прищуренные глаза блистали диким, своенравным огоньком; волосы, остриженные в кружок, беспорядочными прядями свешивались на упрямый невысокий лоб. На красивом лице горел пышный румянец. От всей его невысокой, но статной и крепкой фигуры так и веяло здоровьем и какою-то отчаянною, ни перед чем не останавливающеюся удалью…
Это был Сережа Чумаков, или, если хотите, Сергей Пракселыч, — блудный сын богача-купца, которому принадлежало в нашем околотке около десятка тысяч десятин земли с пятью хуторами и с неисчислимой массой крупного и мелкого скота.
— Гуляем, Николай Василич!.. — ухарски закричал он мне, оскаливая свои зубы, белизною подобные снегу. — Просим милости в гости — на Аксеновский хутор… Завсегда с нашим удовольствием, потому — сами теперь хозяева!
Кавалеры разразились смехом. Дамы взвизгнули… Я еще не успел ответить Сереже, как вдруг он гикнул неестественно диким голосом, и тройка бешено рванулась, обдав меня целой тучею снега. Колокольчики залились каким-то захлебывающимся, то ноющим, то смеющимся звоном… Кавалеры выкрикивали во всю глотку: "Жги!.. Дай любца!.. Иде-о-о-ом!.." Дамы хохотали. Гармония оглашала улицу плясовыми нотами. Сережа свистал и издавал какие-то совершенно неподобные, почти истерические восклицания… Издали эти восклицания можно было принять за рев тоскующего от страсти зверя.
Катанье торопливо съезжало с дороги, по которой неслась тройка, пешеходы опрометью бежали к избам, песни на мгновение смолкли, даже пьяный гул толпы, волновавшейся перед кабаком, стих немного… А тройка неслась по улице, неистово заливаясь своими колокольчиками. Коренник-иноходец, высоко вздернув голову, мерно и как бы не спеша раскидывал свои сухие, неуклюжие ноги, держа {383} в строгой неподвижности длинную и прямую спину. Благодаря этой неподвижности спины он казался плывущим. Пристяжные, отчаянно закрутив шеи, несли свои характерные донские головы около самой земли; они скакали во весь опор и все-таки едва успевали за коренником. Только по этой безумно быстрой скачке пристяжных можно было вполне понять и оценить ту изумительную силу бега, которой обладал чумаковский иноходец…
Вероятно встревоженные криком Сережи, из той избы, против которой мы останавливались, стремительно выскочили пять или шесть пьяных мужиков. Добежав почти до самых саней моих, они внезапно остановились, еле сдерживаясь на колеблющихся ногах, и вдруг несказанно злобными голосами возопили вслед тройке. Они грозно потрясали руками в воздухе и сердито сжимали кулаки… Они неистово засучивали рукава рубашек и, бестолково перебивая друг друга, посылали Чумакову целый град проклятий и угроз. Тщетно бабы, выскочившие вслед за ними, тащили их обратно в избу… Особенно усердствовал один, необыкновенно сухопарый мужик с вострой сивенькой бородкой. Он широко растопырил нетвердо стоящие ноги свои, и, подхватив обеими руками живот, что есть мочи кричал по направлению к тройке:
— Сволочь!.. Своло-очь!.. Погоди, ужо!.. Пого-оди!..
И кричал долго и упорно, все более и более возвышая голос, уже начинавший хрипеть. Лицо его покраснело от натуги, бессмысленно уставленные в одну точку глаза подернулись кровяными нитями.
Кончилось тем, что, наконец, сами товарищи наскучили этим неистовым криком и поволокли сухопарого мужика в избу. Но тут не обошлось без маленькой потасовки, ибо сухопарый добровольно идти не хотел, а, повалившись на снег, даже отбивался ногами, продолжая возглашать уже сипло и неудобовразумительно:
— Сволочь! сволч…
— …Ох, девушка — Сережка Чумаков гуляет! — тараторили две необыкновенно шустрые и подвижные бабенки, поравнявшись с моими санями. Они, видимо, спешили "на улицу", к кабаку. Одна хлопотливо запахивалась в белоснежный шушпанчик, другая то и дело оправляла красные отвороты корсетки, широко отложенные на впалой и узенькой груди. {384}
— Ишь его нелегкая-то носит! Того гляди — задавит кого…
— Какие это бабы-то с ним?
— Аль не узнала? Одна-то попадья наша, а другая учительша новая, Моргуниха, а уж еще-то я и не скажу — чуть ли из Лесков какая…
— Ишь вихрются, подумаешь!
— Уж и не говори… Чистые суки!
Отец Вассиан был шустрый человечек. Худой, длинный, носастенький, он вечно сгорал какой-то неутомимой жаждой порицания и вместе с тем был хлопотлив и непоседлив. Широкие рукава его замасленной ряски вечно раздувались от движения непокойных рук, деловое выражение не сходило с лица, язык не умолкал ни на минуту.
Он мне обрадовался и тотчас же с гордостью сообщил, что ждет "его — ство" (так величал он статского советника Гермогена). Жидкие волосы его были на этот раз обильно политы маслом, новая ряса гремела как коленкор, движения более чем когда-либо были беспокойны и порывисты.
За мною стали и еще подъезжать гости. Приехал тщедушный попик из Больших Лесков, отец Симеон, — низенький, костлявый, с язвительной улыбкой на устах и с задорным пунцовым носом. Припожаловал отец Досифей из Кутайсовки, — тучное страшилище с литавроподобной октавой, львиной гривой на голове и осовелыми очами. С ним прибыла и «матушка», женщина тоже обширная, но под впечатлением тяжелого Досифеева взгляда постоянно находившаяся в каком-то столбняке.
Вообще гостей набралось достаточно. Были еще два-три попа с супругами в желтых и зеленых платьях — я их не знал; был красноярский дьякон, родственник отца Вассиана, смиренное и забитое существо, к тому же изрядно подвыпившее. Он все держался в сторонке и, видимо, робел. Кроме духовенства присутствовали: местный лавочник, темный и почтительный человек, и дебелый купец-хуторянин с супругой, похожей на французскую булку, затем вернулся с катанья и Чумаков с компанией.
Сдобная Лизавета Петровна (супруга отца Вассиана) тотчас же вступила в свои права и бойко забегала по комнатам, немилосердно гремя своими туго накрахмаленными юбками. {385}
Гости понаехали как-то вдруг. Не успевал еще раздеться и разгладить перед зеркалом смятую физиономию один, и не успевали еще хозяева радушно перекинуться с ним обычными в этих случаях фразами о здоровье, о семье, о погоде, — как на дворе снова раздавался скрип саней, и в переднюю вваливался новый гость, и хозяева опрометыо спешили к нему навстречу и с приятными улыбками вводили его в залу.
И после первых приветствий каждому гостю не без гордости сообщалось, что ожидается приезд "его — ства". Это производило сенсацию. На многих лицах известие вызывало благоговение, на иных — испуг, на других — мимолетное чувство зависти.
Но время текло, а "его — ство" не появлялся. Это, наконец, начинало беспокоить отца Вассиана. Он уже с явным нетерпением подбегал к окну всякий раз, как мимо домика проезжали чьи-либо сани, и всякий раз отходил от окна, тревожно покусывая тонкие губы и слегка бледнея. А отец Симеон, с обычною ему тонкостью подметив эти маневры, процедил с видом ядовитейшего смирения:
— Замешкались, однако, его — ство… Уж будут ли?.. Не ошиблись ли вы, отец Вассиан?
Все мы — мужчины — собрались в зале. Дамы тараторили в гостиной, где между прочим стояли и клавикорды, где-то по случаю приобретенные отцом Вассианом.
Но настроение среди нас явно было натянутое. Ожидание "его — ства" как-то необычайно напрягало все наши нервы и делало их совершенно нечувствительными для всяких других ощущений. Пробовали мы говорить о погоде — и замолкали; о "Епархиальных ведомостях" — тоже замолкали… О новостях околотка — и тут замолкали. Одним словом, совершенно ничего не удавалось. На отца Вассиана даже жаль смотреть было, — весь он вспотел и покрылся какими-то багровыми пятнами.
Это настроение оживил было отец Досифей. Когда на столе появились бутылки — известная водка "железная дорога", историческая «дрей-мадера» с вечным запахом жженой пробки, семигривенный херес и еще какие-то таинственные сосуды, — и поднос с закусками, — чахлые сардинки, бойко отдававшие деревянным маслом, заскорузлая паюсная икра, селедка с луком и еще какая-то таинственная коробка, — отец Досифей изъявил отважность, {386} достойную римлянина: он без приглашения хозяина (на ту пору уже окончательно пришедшего в смущение) и сам подошел и других пригласил решительным мановением руки к соблазнительной батарее. И все сразу повеселели и воспрянули духом.
Но на грех и тут отец Вассиан испортил дело. Догадало отца Досифея взять какую-то крохотную бутылочку (из числа таинственных сосудов), а отца Симеона — протянуть руку к таинственной коробке, и отец Вассиан вскочил как ошпаренный и с ужасом в широко раскрытых глазах закричал:
— Отец Досифей! Отец Симеон! Что вы делаете — ведь это для "его — ства"!..
В бутылочке оказалось шестирублевое fine champagne 1, а в коробке маринованная осетрина. Конечно, отцы тотчас же, и даже с некоторым испугом, оставили и осетрину и дорогое вино, но тем не менее вопль отца Вассиана как-то неприятно подействовал на всех нас. Казалось, какое-то угнетение посетило наши души.
Но бог милосерд, и широкие пошевни показались, наконец, на улице. Это ехал Гермоген Пожарский. Все общество залы, толкаясь и оттесняя друг друга, присыпало к окнам. Лица являли неизъяснимое волнение. Отец Досифей покраснел, подобно пятаку из старой меди; отец дьякон был бледен, как мертвец; у отца Симеона дрожали губы, а у одного иерея судорожно косило уста. Даже купец с лавочником, и те струхнули. Что касается Сережи Чумакова, то он в сопровождении писаря и фельдшера скрылся еще заблаговременно, и, конечно, не из опасения его — ства, — он был не из пугливых, — а просто для иных каких-либо целей.
Дамы походили на стадо овец, возмущенное бурею. Они беспорядочной толпою скучились посреди гостиной и в каком-то наивном ужасе, казалось, не знали, куда им деть руки и ноги свои. Хорошенькое личико лесковской учительницы окончательно уподобилось телячьей рожице; кутайсовская матушка оцепенела; купчиха изумленно вытаращила очи; лавочница в каком-то беспокойном изнеможении раскрыла рот… Одна Моргуниха, эффектно обтянутая черным кашемировым платьем, по которому {387} вилась толстая золотая цепь от часов, сидела невозмутимо и с некоторой иронией оглядывала дам своими черными горячими глазами.
Хозяева, разумеется, выскочили навстречу многозначительному гостю и еще на крыльце приветствовали его отборнейшими словесами. В переднюю Гермоген явился, осторожно поддерживаемый отцом Вассианом с одной стороны и Лизаветой Петровной с другой. Лик его изображал благосклонность. Освобожденный от шубы с помощью отца Вассиана с супругою и некоторых из гостей — особенно усердствовал отец Симеон — он, наконец, появился в зале. И внезапно повеяло на нас благоуханием тонких духов… Безукоризненный пластрон гермогеновой рубашки украшался орденом. Его розовая лысина великолепно лоснилась. Седые баки умиляли своим благородством. Гладко выбритое лицо было величественно. Старческое тело облекал изумительный фрак от Тедески.
Он сначала приятно улыбнулся всем нам, — что при желании можно было принять за любезный поклон, — а потом, важно нахмурив брови и сделав взгляд свой взглядом строгим и внушительным, к каждому батюшке подошел за благословением и каждому батюшке звонко поцеловал руку. Это целование привело бедняков в большое смущение. Отец Досифей даже сделал было явное уклонение, но получил за то замечание от его — ства, замечание мягкое, но вместе и неприятное:
— Я не вам, отец, целую десную вашу, а пастырю церкви нашей святой, произнес Гермоген.
Зато уж отец Симеон отличился. Придав лицу своему умиленно великопостное выражение, он благоговейно возвел очи горе и внятным, певучим голоском протянул: "Во имя отца и сына…"
По совершении этой церемонии Гермоген снова осклабил лик свой благоприятной улыбкой и обратился к отцу Вассиану:
— Ну что же, отче, — сказал он, — помни правило древних: ede, libe, lude… 1 Разрешите, святые отцы… — и, подошед к столу, выпил, соблаговолив пригласить к этому и остальных. Все в благоговейном молчании последовали примеру Гермогена, и все после выпивки {388} кротко крякнули. (Только отец Досифей рявкнул было, но отец Вассиан пронзил его уничтожающим взглядом.) Тут Гермоген повидался и со мною.
— А! Ну что, скептик, — игриво произнес он, — наконец-то вы воочию убедились… Видели мужичков? Видели, как эти добряки беззаветно отдаются мирному веселию?.. Видели, как они, так сказать, ликуют и, так сказать, ощущают негу своего существования?.. И вот, посмотрите теперь на воздействователей… Я уверен — размягчится сердце ваше… Есть, конечно, плевелы, но мы с божией помощью… — И он внезапно сел, вероятно по старческой рассеянности позабыв про дам, в жуткой тревоге ожидавших его в гостиной…
— Ну, садитесь, отцы… Потолкуем… He ex professo, 2 а bene placito 3 потолкуем… хе-хе… не забыли латынь, отцы?
— И по доброй воле и по обязанности ежечасно благожелаем испить млеко беседы вашей, ваше-ство! — произнес отец Симеон, сладко заглядывая в гермогеновы глаза.
— Так потолкуем же!.. — Ну, что сосед ваш из Тамлыка, отец Симеон, признаюсь, беспокоит он меня…
Отец Симеон грустно вздохнул.
— Положа руку на сердце, ваше-ство — как пастырь и служитель алтаря не могу сообщить ваше-ству ничего утешительного… — И, помолчав немного, продолжал: — носится, что и святую литургию отправляют отец Пимен неудобовразумительно — без благости и с поспешением, — и чай вкушает прежде даров освященных, и… изучает богоотступного филозофа Прудона…
— Прудона! — в ужасе протянул Гермоген и затем патетически воскликнул: — Quosque tandem!..4
Пронеслось краткое молчание.
— Отцы! — с мольбою и сокрушением заговорил, наконец, Гермоген: — к вам обращаюсь… Вы первые ответствуете за души паствы вашей… Храните их от хищения… Смотрите зорко… Рыскает зверь, иский кого поглотити… Присылаются народные учителя, определяются учитель-{389}ницы и акушерки, назначаются волостные писаря и фельдшера — блюдите за ними… Посещают ли храм, соблюдают ли посты, отметаются ли новейших богопротивных наук, как помышляют о семье и собственности, питают ли бешеную склонность развращать мужичков неистовыми теориями, — все вы должны ведать, за всем наблюсти. Не брезгайте ничем: святое дело не токмо искупает, оно награждает всякое прегрешение. Привлекайте прислугу, расспрашивайте, разузнавайте, разведывайте, пытайте, грозите отлучением от святых даров, налагайте эпитимии, приказывайте, научайте, следите… и благо вам будет. А главное, помните — первый поступок подозрительный, первое благожелательство неразумных мужичков к искомому субъекту, — ех ungue leonem, ex auribus asinum… 1 нигилиста же, добавлю я, по неистовой страсти распалять мужичкову привязанность узнаешь, — и немедля ко мне! Во всякое время дня и ночи памятуйте, что я, Гермоген Пожарский, стою на страже неусыпно и ежечасно взываю: Quos ego!.. 2 — И Гермоген поднялся во весь рост, и сделал величественное мановение рукою, и снова опустился на стул.
По отцам как бы ветерок прошел: все они в умилении изогнулись и дружно загремели новыми своими рясами. Все они моментально вскочили с своих мест и снова моментально же опустились на оные.
Протекло краткое молчание. А по молчании рявкнул и сконфузился звуков собственного своего голоса отец Досифей.
— Говорите, говорите, отче, слушаю я вас, — с приятностью ободрил его Гермоген.
Отец Досифей смущенно кашлянул в исполинский свой кулак, густо покрытый желтыми волосами.
— Оно, конечно, ваше-ство… оно, разумеется… — невразумительно загудел он, мрачно скосив брови, — оно, ваше-ство, всякое дело ко времени благопотребно… И, конечно, всякое благопреуспеяние… Оно благожелательно, ваше-ство, ваше-ство!.. Обаче, говорит святой отец…
Отец Симеон дернул его за рукав рясы. Лик отца Досифея изъявил мучительную скорбь. {390}
— … Но тем паче оно благополезно… Всякая ревность взыскана да будет… И опять в он же день, говорится, ваше-ство, в писании… — Отец Досифей окончательно уперся лбом в стену.
— Отец Досифей любвеобильные чувствия наши к ваше-ству желательствует изъяснить, — поспешно подхватил отец Симеон, — все мы, смиренные иереи, пылаем к вам, ваше-ство… Вы, ваше-ство, наша защита и покров… Наши чувствия, ваше-ство, питаются любовию к отечеству и к вам, ваше-ство! И в вечном благодарении ваше-ству мы не скажем в пылу ревности нашей… — И отец Симеон щегольнул латынью: — Мы не скажем: hic haeret aqua, 3 ибо с помощию священносодействия… тьфу, не то!.. Ибо с помощию благосодействия вашего, ваше-ство, никакое препятствие не стеснит нашего поприща… и не остановит, так сказать, живой воды пылкости и любови нашей!
Отец Досифей, может быть, и действительно хотел сказать именно то, что изъяснил отец Симеон, но тем не менее он мрачно нахмурился и даже презрительно усмехнулся, когда торжествующий отец Симеон кончил.
А Гермоген с явной благосклонностью пожал руку отцу Симеону, отчего тот, весь изогнувшись в подобострастной позе, как бы растаял. Остальные отцы изъявили зависть.
— Осмелюсь донести ваше-ству, — деловым тоном произнес один из них, замечаю я в наставнике нашем некоторое блуждание мыслей и неодобрительный либерализм…
— А откуда вы, отче?
— Из Бердеева, ваше-ство.
— А, из учительской семинарии там… Помню, помню, имею уже в виду, но вам очень, очень благодарен! — И Гермоген пожал ему руку… — О, я слежу, отцы…
— Я, ваше-ство, тоже проследил одного, — стыдливо заявил и зарумянился еще один батюшка, подслеповатый и белокурый, как младенец, — хитроумен он и суемудр… По пяткaм и средам употребляет от животных теплокровных… Кроме того, продерзостно рассуждает…
— Отлично, отлично… Кто же он?
— Фельдшер Игнатов. {391}
— А, жаль, не мое ведомство. Но я запишу, запишу… Блюдите, отцы, на вас надежды отечества покоятся!
Вдруг встал и подошел к Гермогену купец-хуторянин.
— А что ежели, Гермоген Абрамыч, такая штуковина, — бесцеремонно произнес он, ударив своей лапой по столу, — приходит ко мне вдруг малый, и вдруг говорит: я тебе, говорит, денег за землю не отдам, потому ты пес и больше ничего как кровопивца… — То как это? по какой части, а? — Я так полагаю — он из умышляющих!
Отцы, жестоко огорченные неприличным поведением купца, тесно окружили его и, наперебой осыпая укоризнами, оттеснили туда, где он сидел доселе. Купец несколько сконфузился, хотя и не переставал произносить вполголоса:
— Нет, каким же манером "кровопивца"?!
А Гермоген выпил еще рюмочку fine champagne и поднял глаза на двери гостиной. И как будто целый рой соблазнительнейших представлений пронесся пред стариком. Государственное выражение его физиономии вмиг заменилось каким-то сладостным напряжением. Лик его внезапно подернуло маслом, губы оттопырились, ножки согнулись и задрожали, взгляд раскис и переполнился нежностью.
Он спешно направился в гостиную. Дамы подобострастно расступились. Он остановился среди них и, в какой-то млеющей истоме растопырив руки, произнес, обращаясь ко мне:
— "Incidit in Scyllam, qui vult vitare Charibdim… 1
и тотчас же пояснил: — Все вы прелестны, сударыни, все прекрасны… На что «сударыни» жеманно улыбнулись. (Они, не исключая на этот раз и Моргунихи, стояли.)
А Гермоген кропотливой походочкой подошел к юной лесковской учительнице. Та покраснела как пион, неловко присела перед Гермогеном и почтительно поцеловала его руку. Гермоген нежно потрепал ее по щечке, игриво ущипнул двумя перстами ее подбородочек, пощекотал беленькую шейку и, наконец, расслабленно пролепетал:
— Декольтировочку… декольтировочку, душенька… Пусти декольтировочку… Плечики, шейка, бюстик у тебя… {392} во-о-осхитительно!.. Но декольтировочка, декольтировочка!.. Знаешь, платьице этак… С разрезцем, с разрезцем…
Гермоген даже губы облизал.
А от нее перешел к Моргунихе, жадно приник к ее пальчикам и, как бы раскисший от какого-то знойного томления, как бы истязуемый какими-то беспокойными ощущениями, поместился с нею на диване. Он и хихикал, и дрожал, и таял близ нее. А она играла своими взглядами, точно японец шарами, и пронизывала ими бедного старика.
Я подсел к ним. Гермоген несколько устыдился.
— "Nihil humanum a me alienum puto…"2 — как бы оправдываясь, сказал он.
Но вскоре он вспомнил, что ему необходимо ехать (он отправлялся с визитом к графу NN), еще раз с каким-то засосом облизал пальчики Моргунихи, еще раз ущипнул лесковскую учительницу, снова покрасневшую как пион, смачно расцеловался с Лизаветой Петровной и, испросив у отцов общее благословение, скрылся. И хозяева и гости проводили его до самых саней.
После отъезда Гермогена с добрый час тянулось еще то взволнованное состояние нашего духа, которое причинилось нам его присутствием. Мы смаковали его речи, дивились его простоте и благородству обхождения, восторгались его «ученостью» и латынью и завидовали отцу Вассиану. Отец же Вассиан летал точно на крыльях и не чаял границ своему блаженству.
Дамы изъявляли удовольствие свое непрестанными восклицаниями. Гермогенова любезность повергла их в совершеннейший восторг. Его комплименты вспоминались ими с лукавой улыбкой, его заигрывание возбуждало умиление… А Моргуниха сразу воздвиглась на пьедестал и принимала жертвы. Ей преподносили сладкие любезности, ее посвящали в маленькие свои тайны, ей поверяли тайные помыслы свои. Еще бы! сам "его — ство" изволил целовать ее руки, сам "его — ство" изнывал перед ней и, видимо, строил ей куры.
Но Моргуниха стoит, чтобы описать ее подробно. Ее нельзя было назвать красивою, она даже была скорее {393} дурна, но от всей ее фигуры веяло чем-то таким, что неизбежно влечет к себе некоторых. Это «что-то» не было симпатичностью, которой непременно присуща какая-то теплота — мягкая и вместе успокоивающая, — нет… Оно влекло к себе не успокаивая, а раздражая, притягивало не отрадной, тихо и мирно нежащей теплотой, а чем-то знойным, возбуждающим и, если хотите, острым. Да, именно — острым, в смысле едкого, смешанного с каким-то болезненным удовольствием, ощущения.
Она была довольно большого роста, скрадываемого легкой сутуловатостью. Смуглое лицо ее было очень выразительно. Крупные алые губы, широкие черные брови, глаза, подобные спелым вишням, — все придавало этому лицу характер какой-то страстной и беззастенчивой чувственности. И когда это господствующее свойство напрягалось в ней, вам становилось страшно, вам чудилось в ней что-то хищное, присущее зверю… Черные зрачки ее глаз расширялись тогда и вспыхивали каким-то жадным и вместе зловещим огнем; бледные щеки загорались темным румянцем; полуоткрытые губы, казалось, покрывались кровью и нервно трепетали едва заметным трепетом, плечи вздрагивали, словно от озноба…
Я с ней скоро познакомился… Говорила она порядочно; без претензий на особое развитие, но ясно и толково. Впрочем, по некоторым фразам, иногда вырывавшимся у ней, было заметно, что людей она видала много и разнообразного пошиба, речей слыхала довольно, в том число и так называемых «передовых», хоть суть этих речей ею и не затрагивалась серьезно. Скорей, она скользила по этой сути. Да и вообще в области «передовых» воззрений ограничилась только двумя-тремя скептическими, но легкомысленными фразами. Видно было, что скептицизм этот не только не продуман ею, но даже и сказался-то почти против ее воли, может быть отчасти и ради особого щегольства. Во всяком случае, когда я, придравшись к какой-то вольнодумной ее фразе, стал было приставать к ней, она отделалась шуткою, по-видимому совершенно не придавая значения ни своему вольнодумству, ни моей придирчивости. Но это легкомысленное вольнодумство казалось в ней почему-то органическим… Надо добавить, что касалось оно вопросов преимущественно нравственных и далее этого не шло. {394}
— Что это вам вздумалось с ребятишками возиться? — спросил я ее.
— Да как вам сказать… - она на минуту задумалась, — деться мне некуда… делать нечего…
Говорила она медленно и часто делала паузы.
— Как же так?
— Да так… С отцом мы в ссоре. Мать тоже как-то… — она немного затруднилась подыскать выражение, — чуднo ко мне относилась… Средств никаких… вот вам и все! А с ребятишками — нетрудно… Ну, свобода тут… Народ простой, притязаний нет у них… — Она лениво усмехнулась.
— Можно бы, мне кажется, повыгодней место найти?
— Оно конечно… и я, может быть, брошу это… Но ведь образование надо какое-нибудь… Вы знаете — я в институте не кончила… Спасибо, этот-то случай вышел!.. Я ведь пыталась и прежде в учительницы-то… Ну, экзамен требовался… А, тут как-то так… шутя!.. Гермоген Абрамыч пристал, пристал… Вы знакомы с ним?.. Я и решилась… — Она улыбнулась не без лукавства и затем продолжала: — Это все комедия, конечно. Какая грамота, и на что она им… Да и Гермоген Абрамыч говорит то же самое… Но знаете, берешь деньги и как-то совестно иногда… Ну, долбишь им, задаешь там из Ливанова, из других… время и тянется себе… Ах, правда, иногда очень скучно!
— Вы бы читали.
— Да признаться, не люблю я читать-то: все выдумано, вздор все… бедность, несчастия, страдания какие-то — ну, к чему это!.. И притом все мужик, мужик, мужик, — ведь это вредно, наконец!.. Вот французские романы еще ничего, да и то что-то нет теперь интересных… А уж русские — такая все сушь, такая тоска!.. — И она засмеялась.
Я спросил ее, где она жила прежде, чем занималась.
— Чем занималась-то я? — возразила она. — Вот уж, право, не сумею сказать… Мы в Петербурге прежде жили: папаша служил… Ну, там и замуж вышла, за чиновника в штабе… Потом он умер… Папаша вышел в отставку… Я в Петербурге пожила еще года два… Пробовала в телеграфистки, в акушерки думала… Потом в учительницы… Тут приехала сюда — у отца домик в городе, — подвернулся Гермоген Абрамыч и… вот! {395}
— Невесело показалось вам от Петербурга? — спросил я.
— Да-а… — протянула она, — разумеется… Там гулянья, театры, маскарады… ну, и общество, — папаша, когда служил, доходов получал много, и мы открыто жили… Бывало, какие люди не съезжались!.. пикники, музыка, офицеры… Буфф, Берг, Александринка… — И она погрузилась в приятную задумчивость.
— Ну, а здесь?
— Ну, здесь, понятно, — дичь. Отсталые понятия, безобразные шляпки, глупая мораль. Обедни, посты… О, вы не поверите, как вся эта чушь ошеломила меня тогда!
— Но вы привыкли — Гермоген Абрамыч ведь очень нравственный и очень религиозный человек…
— О, да, он очень нравственный и очень религиозный! — с ясным оттенком насмешливости воскликнула она и лукаво сдвинула свои густые брови.
От Моргунихи я подсел было к лесковской учительнице, но от этой уже окончательно не добился никакого толку. На все вопросы мои она отвечала с такой первобытной односложностью и при этом так немилосердно и неестественно пищала и таким загоралась ярким румянцем, что становилось совестно.
— Вы в духовном училище воспитывались?
— Да-с…
— Давно кончили курс?
— Нет-с…
— У вас есть матушка?
— Да-с…
— А отец и братья?
— Нет-с…
— Вы любите свое занятие?
— Да-с…
— И много у вас учеников?
— Нет-с…
— Меньше, чем у прежнего учителя?
— Да-с…
— Отчего же?
Но она так беспомощно и так тоскливо пролепетала: "Не знаю-с" и с такой слезливой миной оттопырила свою губку, что мне стало ее жалко, и я поспешил отойти от нее. {396}
А впечатление Гермогенова визита остыло, наконец, и вскоре совершенно улеглось. Пированье мало-помалу разгоралось, принимая все более и более интимный характер. Графин с водкою наполнялся все чаще и чаще. Речи становились оживленнее. Разнообразные улыбки осветили возбужденные лица. На двух ломберных столах закипела стуколка. Клавикорды открылись, и одна матушка не без приятности пропела под их старческие звуки "Приди в чертог ко мне златой…" Волостной писарь сыграл на своей великолепной гармонии нечто из "Мадам Анго" (как сам объяснил). Моргуниха с шиком исполнила игривую арийку из "Герцогини Герольштейнской" и даже пошевелила бедрами на манер m-lle Жюдик. Все шло прекрасно.
Тесные комнатки были переполнены дымом и звуками. Там кричали "пас!", здесь — "стучу!", в одной стороне слышалось "по рюмочке, господа!", в другой — трепетал мотив игривой песенки. Получался хаос, но хаос, приятно раздражающий нервы.
Кроме поющих и играющих, было и еще довольно народу. Те пили, курили и говорили. Я ходил и слушал и тоже выпивал от времени до времени…
В углу гостиной сидели две матушки и говорили какую-то чепуху о том, что становой нашел у бывшего лесковского учителя, Серафима Ежикова.
В другом углу отец Вассиан сетовал на пакости некоего отца Вавилы, пастыря соседнего прихода. Сетования эти мрачно выслушивались отцом Досифеем, который только и делал, что издавал глубокомысленное мычание, тяжело отдувался, размашисто расчесывая свою громадную рыжую бороду крошечным роговым гребешочком, и неодобрительно посматривал по сторонам. А около отцов стоял и тоже сетовал отец дьякон. Он — как и подобает маленькому человеку — изъявлял свои чувства чрезвычайно скромно: деликатно подкашливал в рукав ряски и умильно поддакивал. Отец Вассиан говорил очень грустным и медлительным голоском, как бы тяжело скорбя о брате своем по Христе, то есть об этом самом отце Вавиле, хотя я доподлинно знал, что таких врагов, как отцы Вассиан с Вавилой, не скоро встретишь в подлунном мире.
— …Вот я говорю — жалостливо тянул отец Вассиан, — позволительно ли так ронять сан? Ну, у всякого слабости, это что толковать — "несть человек еже не согре-{397}шит", но, с другой стороны, согласитесь сами: служитель алтаря и — алчен… Ведь это, как хотите, — соблазн!
— Не подобает, — густо промычал отец Досифей.
Отец дьякон кашлянул в руку и заискивающе вскинул подобострастные глазки свои на отца Вассиана.
— Вот позавчера тоже старушка одна ко мне приходила, — таинственным полушепотом продолжал отец Вассиан, трагически вылупляя свои воспаленные глазки, — не хоронит!.. Дай три целковых!
— Гм!.. — удивился отец Досифей, неистово вонзая гребешок в густые волосы бороды.
Отец дьякон опять кашлянул, на этот раз уже с явным неодобрением.
— Ну, разве это дозволительно? Разве это приличествует сану иерея? — с ужасом воскликнул и приподнял брови отец Вассиан. (Увы! — он сам не брал за похороны меньше трех рублей.) — Пятый день покойник-то в караулке лежит… Посудите сами!..
Отец Досифей сокрушительно потряс бородой и возвел очи горе, как бы призывая господа бога в свидетели своего сокрушения (у него, год тому, весь свадебный поезд ночевал в церкви, за неимением у жениха тех двадцати рублей, которые просил с него за венчание отец Досифей). Отец дьякон тоже не оставил изъявить свои чувства: он так негодующе кашлянул, что даже привлек общее внимание.
— …Крысы покойнику-то ухо отгрызли!.. — ужасающим шепотом добавил отец Вассиан, как бы в изнеможении от скорби и негодования.
После чего все трое, с надлежащей серьезностью во взорах и солидностью в движениях, направились к заветному столику.
Дамы тоже не забывали выпивать и с каждой рюмкой «дрей-мадеры» становились все развязней и веселее. Жена отца Досифея даже покушалась было затянуть "Во лузях", но было вовремя остановлена каким-то иносказательным телодвижением отца Досифея и снова поверглась в столбняк. С тех пор она уже не издавала ни звука и целый вечер сидела с полуоткрытым ртом, в который, как в воронку, сливала «дрей-мадеру».
Моргуниха уселась около одного из ломберных столов и оживленно беседовала с Чумаковым и фельдшером. Раз-{398}говор ее теперь лился быстро и порывисто. В ее блистающих глазах и в лице, разгоревшемся от вина, начинало напрягаться то чувственно-задорное выражение, которое и было отличительным признаком всего ее существа.
Близость Моргунихи, по-видимому, опьяняюще действовала на ее собеседников. Впрочем, выражалось это опьянение не одинаково. Фельдшер окончательно раскис и, изобразив из своего лица одну сплошную приторно-сладкую улыбку, неистово подергивал кончиком своего нервного носика и откалывал комплименты один другого забористей. Чумаков держал себя угрюмо, и необычность его настроения можно было заметить разве только по глазам, иногда метавшим на соседку плотоядные молнии, да по тому сосредоточенному и как бы хладнокровному азарту, с которым он ставил громадные ремизы, покупал "в темную", играл на десятке, а иногда даже и без козыря, и пренебрежительно разбрасывал по столу крупные кредитки. Всему этому, мимоходом сказать, очень радовался один из партнеров Сережи, хитроумный отец Симеон. Беспрестанно потирая о полы полукафтанья вечно потевшие руки свои, он с крайним смирением и аккуратностью, и каждый раз с легким вздохом, впихивал кредитки в маленький засаленный кошелек, стараясь при этом изобразить на лице своем нечто как будто сожалительное. Глаза только выдавали его: в тонких, лучистых морщинках, которые окружали их, гнездилась восторженная, еле сдерживаемая радость.
Наконец Чумаков не выдержал. Он внезапно побледнел, порывисто встал из-за стола и объявил, что играть больше не будет. Надо было видеть состояние отца Симеона! Он ужасно перетревожился, весь как-то засуетился и испуганно засеменил ножками. Беспорядочно торопясь и волнуясь, он начал доказывать Сереже, что на очереди еще два ремиза и что поэтому игру оставлять «бесчестно». В его необыкновенно скрипучем и беспомощно дрожащем голоске ясно послышались слезы, его желтоватые глазки усиленно заморгали и заблистали каким-то словно фосфорическим светом, во впадинах щек показалось судорожное подергиванье… Самое слово «бесчестно» он почти выкрикнул, горячо и требовательно. Казалось, еще мгновение, и он разразился бы рыданиями. И обычное смирение его и присущую ему кроткую язвительность все на этот {399} раз превозмогла какая-то жгучая, беспокойная жадность. Но Чумаков посадил за себя купца-хуторянина, и отец Симеон, скрепя сердце, стих.
— Что же вы бросили? — спросил я у Сережи.
— Э, ну их… — Он энергично махнул рукой, — давайте-ка выпьем лучше!
Мы выпили. Чумаков явно находился в возбужденном состоянии. Он ерошил свои волосы и был бледен.
— А, какова, черти бы ее подрали! — шепнул он мне.
Я выразил недоумение.
— Да эта… черт!.. Моргуниха!.. Зажигательная, бестия…
Он даже зажмурился и зубами заскрипел, а затем продолжал:
— Что значит столичная-то штучка! Ведь вот наши девки, посмотришь, обыкновенные, страсть хороши есть… Иная просто дьявол-дьяволом!.. А ведь этого нет вот — чтобы одурманивало тебя.
Он подумал, пожевал сардинку и снова заговорил:
— Я полагаю — от бессовестности это от ихней… Ведь наши девки что? Ей ежели рубль, так она овечка… Очень они даже бессовестны! Нет у них, чтоб жестокости этой… А ежели иная и закобенится — родные приспособствуют. Это, я вам доложу, такой народец!.. Я вот вам расскажу, случай со мной был. Прошлым, стало быть, летом девчоночка тут одна объявилась, — так, ежели не ошибиться, малолеток еще. Ну, и — ничего не поделаешь!.. Уж я бился, бился с нею… Вы не поверите — пищи лишился… Замуж ее, дуру, обещался взять… Ничем не проймешь!.. Закаменела!..
И немного погодя загадочно посмотрел на меня и произнес:
— Ну и что же?
— Ну и что же? — повторил я.
— А то, что все дело-то опять-таки в деньгах стояло. Матери всучил четвертную, она мне ее сама привела, на хутор… Пять верст ночью перла!.. Препоганый, я вам доложу, народ… Ей корову там нужно было купить, так вот из-за коровы… подите вы с ними!.. Ну, и напарил я ее с этой коровой, — с добродушным смехом добавил Сережа, — поля-то у нас сумежные, она раз и попадись ко мне в загон… так я с ней семь целковых слупцевал! {400}
А потом помолчал и снова продолжал:
— Нет, скучно теперь. Вы знаете — я смерть этого не люблю, чтоб без запрета мне все. Ну, какое удовольствие?.. Вот прежде так бывало: ходишь, ходишь около девки-то, так даже тоска тебя засосет… Народ был крепкий, настойчивый. Бывало, мужик-то князем на тебя смотрит! Мужик был хлебный, тучный. А нонче… уж так они опаскудились, так опаршивели — смотреть тошно!.. Нет, не люблю я этого!.. Я тятеньке прямо говорю: мне это не по душе… Согласитесь сами, какое я могу получить здесь удовольствие?.. Ты дай мне мужика-зaворотня, ты мне предоставь такого, чтоб от него разбойником шибало, — это я понимаю. Переломить его, загнать в свою веру… Вон брат Липатка тятеньке пишет — приеду, говорит, не иначе как фабрику заводить, — мне это не по душе!
— А где теперь Липат Пракселыч?
— Да все в Англии в этой. Таскается там, вынюхивает… Нет, не люблю этого!
И он решительно опрокинул в рот рюмку с "железной дорогой".
А по прошествии еще малого времени эта "железная дорога", в совокупности с «дрей-мадерой», окончательно всех возмутила. Ломберные столы были оставлены. Публика беспорядочно слонялась по комнатам, пила и говорила, пела и славословила. Один из батюшек присоседился к клавикордам и, многозначительно нахмурив брови свои, подыскивал указательным перстом мотивы «Херувимской». Писарь, поместившись среди дам и особенно томно устремив глаза в пространство, подпевал и аккомпанировал им на гармонике "Славься, славься…" Фельдшер тончайшим дискантом затягивал:
Уймитесь, волнения страсти…и все просил Моргуниху подтянуть ему.
— От вас одной, мадам, я ожидаю истинного понятия, — говорил он, потому, сам получил образование и могу понимать…
А когда Моргуниха уже окончательно присоседилась к Чумакову, он надулся. Но, впрочем, Лизавета Петровна скоро утешила его — она явно с ним кокетничала и даже ухаживала за ним. {401}
Отец дьякон отчего-то впал в тяжкое раздумье, и после нескольких минут этого раздумья, прерываемого частыми и сокрушительными вздохами, необыкновенно трогательно и умиленно затянул хриповатым баском:
На ре-ка-ах ва-вило-он-ских…Отец Симеон, старательно придерживая рукою карман полукафтанья, в котором покоился плотно набитый кошелек, подхватил своим жиденьким, гнусливым тенорком:
Се-до-охом и пла-ка-хом…Отец Досифей, уставив на певцов меланхолический взор, с каким-то свирепым ожесточением расчесывал свою бороду, покушаясь в иных местах умилительного канта пустить в дело и свой литавроподобный бас. Отец Вассиан, расположившись в уединенном уголке залы, загроможденном шубами и салопами, смиренно внимал пению и проливал токи горьких слез. Он едва был виден из-за шуб.
А писарь заиграл трепака. Играл он мастерски. Из гармонии полились такие подмывающие, такие ухарские звуки, что так и тянуло в пляс. Чумаков вмиг очутился в одной щегольской рубахе своей и, сделав молодецкий «выход», во время которого оттеснил публику к стенам, пустился выделывать дробь. Плясунов таких я редко видывал. Недаром, как говорили, он заплатил за выучку большие деньги какому-то цыгану, замечательному искус-нику по этой части. Но когда Моргуниха, взяв в правую руку платочек, выступила на середину комнаты, с вызывающей усмешкой передернула бедрами и соблазнительно шевельнула грудью, он просто превзошел себя. Ноги его выделывали нечеловеческие па, все тело превратилось в какой-то трепещущий, необыкновенно подвижной аппарат. Запекшиеся уста издавали буйные клики, глаза пламенели, плотоядное выражение застыло на горячем лице, растрепанные волосы прониклись влажностью…
Лизавета же Петровна под шумок окончательно завладела фельдшером. Она и притопывала ножкой, и подергивала аппетитными своими плечиками, а вместе с тем горячо сжимала фельдшерскую руку и выразительно приговаривала в такт музыке: {402}
Перед мальчиками Хожу пальчиками, Перед милыми друзьями Хожу белыми грудями…Кончик фельдшерского носа отчаянно дергался, а сам фельдшер, искоса посматривая в сторону отца Вассиана, подхватывал коснеющим языком:
Уж вы, серые глаза, Режут сердце без ножа… Ах, карий глаз, Не подглядывай ты нас…Впрочем, отец Вассиан давно уже сладко похрапывал, приютившись за шубами.
Отец Досифей угрюмо смотрел на пляску. Отца дьякона покинуло, наконец, уныние, тяготевшее над ним во время пения канта, и он весь сиял, как ярко вычищенный поднос. С большим интересом следил он за пляскою, видимо доставлявшею ему громадное удовольствие. Глаза его расширились и светились лучистым блеском.
Отец Симеон тоже утратил свое благолепие. Сильно навеселе, он конвульсивно подергивался, то вспрядывая, то приседая, то жмуря глаза, то, открывая их, все смотря по тому, какой тон музыки достигал его слуха: просто ли подмывающий, или подмывающий до неистовства. Казалось, он вышел в первый раз купаться и то окунался в холодную как лед воду, то опять из нее выскакивал. Однако карман полукафтанья держал крепко.
Пьяный купец-хуторянин сидел в сторонке и, многозначительно поднимая к носу палец, в недоумении восклицал:
— Нет, каким же теперича манером "кровопивца"?!
Оставив пированье в полном разгаре, я кое-как разыскал Михайлу и отправился домой.
По селу все еще бродили пьяные. От кабака неслися песни, и откуда-то с окраины села достигал до нас отчаяннейший вопль:
— А-ай, батюшка… А-ай, пустите душу на покаяние!.. Карра-улл…
Когда мы выехали за село, долго еще какой-то беспорядочный, назойливо звенящий гул стоял в ушах моих. Голова кружилась. {403}
Но угрюмая и как бы несколько печальная тишина чистого поля, наконец, успокоительно подействовала на мои нервы. Пьяные лица, бешеные возгласы, пронзительное пение, ухарский топот трепака и залихватские звуки гармоники — все это уплывало от меня, исчезая в каком-то мутном тумане. На смену им тихая, но вместе и ноющая грусть овладевала мною…
Хмурое без просвета небо, хмурое поле, необозримой пеленою уходящее в хмурую даль… Погоняй, погоняй, Михайло! Скорее в теплую и уютную тишь родного хутора, где нет ни бессмысленного людского разгула, ни величавой тоскливости хмурого поля, а есть только одна, обыкновенная, тихо и не спеша сосущая сердце скука… {404}
XVI. Иностранец Липатка и помещик Гуделкин
Прекрасной души человек был Ириней Гуделкин! Великолепнейшие чувства беспрерывно питал он! Великодушнейшее имел он сердце! И, ко всему к этому, благоговел перед всем прекрасным. Так, например, цвета он уважал не иначе как нежнейшие. Если на нем были панталоны, — они поражали своим палевым отливом; ежели красовался галстук, — он мерцал подобно слабому отблеску поздней зари; сюртучок — отливал искрой по светлому полю. Да и все, что окружало Иринея Гуделкина, носило на себе отпечаток какой-то кроткой и меланхолической изящности. Его домик на манер швейцарского шале с одной стороны и рейнского замка с другой; его миниатюрные конюшенки и оранжерейки, подобные картинкам на лакированных китайских подносиках; его причудливая мебель, драпированная материей нежнейших рисунков; его затейливо исполосованный ножницами садик — все навевало какую-то сладкую негу и повергало вас в тихую и немного приторную истому.
И характер этой милой извращенности распространялся даже на мужиков, работников Иринея. Все они, как на подбор, щеголяли в палевых и голубых рубашечках, лепетали расслабленными и нежными голосами и умывались чисто. Даже собаки в усадьбе Иринея брехали без присущей им грубости, а мягко и деликатно. Самый воздух, витавший над усадьбою, казалось, был переполнен сладостью и задушал ласковым своим благовонием.
Любил я посещать Иринея! Особенно хорошо бывало у него, когда грубая действительность уже чересчур дерзко и аляповато расшевелит твои нервы. Тогда раскрашенные {405} построечки Иринеевой усадьбы, чистый, усыпанный песочком дворик, палевые рубашечки и благоприятные лица рабочих, яркое озеро среди садика и ярко раскрашенный на нем ялик повергали вашу душу в неизъяснимую теплоту. И теплоту эту усугублял сам хозяин. Чистенький, светленький, кроткий, он, блистая свежестью белья и, костюма, сверкая золотом запонок и шикарнейшей цепочки, благоухая тончайшими духами и свежей розой, вдетой в петличку, ласково произносил умиротворяющие речи, мягко и красиво связывал изящные фразы, тихо и плавно лепетал о поэзии, о любви, об искусстве, — о бедрах Венеры Милосской и о лядвиях Бельведерского Аполлона… И душа ваша, истерзанная жестокой суетою, умиротворялась, согревалась, успокаивалась под наитием этой сладкозвучной атмосферы и в конце концов засыпала, как котенок в горячей печурке. Было хорошо, и приторно, и сладко.
Как вероятно и представил себе читатель, Ириней был чистоплотен. Ни как растет хлеб на его нивах, ни как пашут эти нивы и убирают их — он не знал. Для этого был у него человек, Макарыч, — честнейшее и глупейшее существо. Сам же Ириней вечно витал в мире изящнейших представлений и фантастичнейших построек. Чистоплотен он был даже до того, что своими на диво выхоленными руками не прикасался ни к кредиткам, ни к иным каким-либо денежным знакам. Это было дело Макарыча. Ириней же читал книжки, перелистывал кипсэки, перебирал портфели с гравюрами, вел деликатнейшую переписку с двумя или тремя друзьями, людьми высокопоставленными в художественном мире, делал от времени до времени экскурсии в места, известные своею живописностью, и каждый двунадесятый праздник (о наступлении которого докладывал ему Макарыч) устраивал пиршество своей деревне, причем всегда, с лорнеткой в одной руке и с розаном в другой, лебезил около живописных крестьянок.
В нашем краю у Гуделкина не много было знакомых. Соседи по большей части не соответствовали его идеальным представлениям, ибо чересчур уже блистали отсутствием манер. И он был одинок.
Благодаря ли этому, но однажды в его поведении проявилась странность. Явное беспокойство проявилось в его {406} характере. Поступки потеряли свойство невозмутимости, художественное самообладание покинуло, его. Я, подобно многим, стал было в тупик перед таким настроением Иринея, но случай все объяснил мне. Однажды вошел я в кабинет Гуделкина и не застал его. По столам и стульям были разбросаны листы. На каждом было начертано:
Россия погибает!!! Но отчего погибает, вот вопрос. — От недостатка культуры-ссс!
Далее следовали точки.
Было ли то начало какого-либо глубокомысленнейшего трактата или праздное времяпрепровождение оставило здесь следы свои, но для меня стало ясным Иринеево поведение. Его заполонила гражданская скорбь.
Немного спустя он, однако, утешился. Было заметно, что русло им обретено. И он величественно потек по этому руслу. Он, начал насаждать культуру. По-прежнему чуждаясь знакомств с людьми своего класса, он выказал настойчивое стремление к сближению с мужичками. Он перечитал всего Григоровича и вообще все то, что считал идущим к делу, и, во всеоружии проникновения, занялся простонародною душою. Он старательно доискивался в этой душе каких-то струн, которые именовал культурными, и с упорством будил в простолюдинах инстинкты, которые называл благородными инстинктами. Для этого он раздавал мужичкам гравюры иностранного изделия, наделял их цветочными семенами, выписал в местный трактир гармониум, изображавший арии из "Лучии Ламермурской", и вообще поощрял красоту во всех ее видах… И кроме всего этого, объявился филантропом. По-прежнему устраняясь от сути хозяйства, он щедро расточал милости свои всем крестьянам околотка. Он воздвиг больницу, нанял фельдшера, устроил школу, расширил размеры пиршеств, задаваемых крестьянам, ссужал их и хлебом, и деньгами, и лесом. И при всем этом соприкасался с мужиком лично. Он не упускал случая поговорить с лапотником о благодетельности культуры, причем иногда вводил этого лапотника даже в дом свой, где и обращал его внимание на удобство люстр и красоту обоев, заставлял его щупать корявыми пальцами шелковые драпри и тюлевые гардины, приглашал любоваться прелестной копией с Гольбейновой Мадонны, и вообще поставляя ему на вид предпочтительность культуры над свинством {407} и первобытностью. И мужики как бы сознавали прекраснодушие Иринея: не было пределов их почтительности и уважения к нему. У них даже выработался особый ритуал приветствий и чествований Иринеевой особы. Понятно, это умиляло великодушного Иринея и как нельзя более поощряло его к новым великодушнейшим поступкам.
Вот этот-то рьяный насадитель культуры подъехал однажды к крыльцу моего домика и, грациозно выскочив из прелестной венской колясочки, запряженной парочкой прекраснейших вороных лошадок, восторженно воскликнул:
— Новость! Новость! Новость!
И затем предложил мне немедленно одеваться и немедленно же сопутствовать ему.
— Но куда, Ириней Маркыч? — недоумевал я.
— И вы не знаете? О, неужели же вы не знаете, что новый, совершенно же новый человек объявился на Руси, и человек этот в десяти верстах от вашего хутора?!.
— Да кто же такой?
— Чудо! Представьте себе: купец, а не рыгает; голову стрижет; чай кушает внакладку; сюртук, вообразите, из английской материи и сшит в Лондоне; говорит по-английски за-аме-ча-тель-но!..
— А, значит Липатка Чумаков приехал!
Ириней несколько оскорбился, но затем тотчас же и осклабился.
— Именно Липатка. И вообразите, как приличен, как умен, как дальновиден… Я в восторге! Представьте вы себе хитроумного великороссиянина в лондонском сьюте — ведь это шик, батюшка… И теперь у них в семье испытываешь чистейшее наслаждение. Главенствует, знаете ли, коренастая эта фигура патриарха Праксел Алкидыча. Затем приличнейший иностранец Липатка, и потом уже великодушнейшая, широчайшая натура — это сын младший Сергей. Восторг что такое! Я их так и представлю: ум, воля и чувство. Европейский ум, руководимый железной волею и непрестанно смягчаемый чувством. Ах, одевайтесь же, и поедем!.. Вы знаете — в душе я художник и лентяй. Красота идол мой, и в этом отношении человек я античный… Но боже мой, воображение мое теперь переполнено предприятиями!.. И вы не догадываетесь, поче-{408}му?.. О, ужели же вы не понимаете, — не хотите понять, — что Русь теперь спасена!..
— Но каким же образом, Ириней Маркыч?
Но он не ответил на мой вопрос. Преследуемый какой-то неотвязной мыслью, очевидно увлекавшей все его внимание, он в волнении бегал по комнате и, нетерпеливо натягивая перчатки восхитительного сиреневого цвета, говорил:
— О, вы не поверите, сколько грандиознейших проектов! Мы, совместно с фирмою "П. А. Чумаков и сыновья", совершенно преобразовываем Дмитряшевку… Что значит Европа и что означает ум!.. Вы знаете меня, и, конечно, знаете, что никогда и ни на что не посягнул бы я ради выгоды. Утилитаризм мне претит. Но я побежден. Я побежден принципом. Липатка развернул передо мною вереницу принципов. Каждое предприятие, каждый проект, каждая затея коренятся у него на почве, и почва эта — культура… Культура-с! — вот оно, батюшка, словечко! — и он снова многозначительно повторил: — культура! Ах, этим он меня совершенно, совершенно обворожил!.. — Одевайтесь же, едемте, послушаете… Вы знаете, до сих пор я думал, что я плохой патриот, но теперь я, наконец, чувствую в себе сердце гражданина: варварское тело матушки России обновлено теперь, и обновлено Липаткой… Предприятия! Предприятия!..
Наконец я оделся, и мы отправились к Чумаковым.
— О, я давно твердил: Европа, это все! — говорил по дороге Ириней, ни на минуту не уставая от своей восторженности. — Чем покорил я сердца всех простолюдинов в окружности, как не Европой, — ибо сознайтесь же, что филантропия продукт европейский и что гуманностью я обязан опять-таки одной только Европе. Ведь вы знаете, как крестьяне меня обожают. История Проспера и Калибана вечно повторяется. Я давно говорю: влейте в наши одряхлевшие жилы Европу, и мы спасены…
— Но народ устойчив в своей старине, — возразил я.
— О, пустое! — воскликнул Ириней. — Ведь я же убедил моих работников говорить друг другу «вы», ведь они же спят у меня на простынях, ведь мой староста Лука Петров развел же настурции в своем огороде… Э, батюшка, народ — это глыба, из которой мы, европейцы, вольны изваять Аполлона. И тем более наш народ! Ведь давно {409} известно, что крестьянин наш чистейший космополит. Как он индифферентен к религии, как равнодушен к национальности и вместе склонен к восприятию чуждой культуры, — это давно доказано. И это трюизм, разумеется…
— Но трюизм ли?.. — попытался было я возразить, но Ириней был уже в полном экстазе: он отчаянно замахал руками и возвысил голос.
— И я, как чистый, как совершеннейший европеец, приветствую Липатку, кричал он, — приветствую потому, что в лице Липатки культура непосредственно соприкоснулась с народом… Купец тот же народ и посеет культурные свои свойства непременно в народе же…
— Но большого ли достоинства эти свойства?..
— О, я, конечно, вижу Липаткины недостатки, и я в свое время подавал проект… Липат односторонен, Липат позитивист, Липат прямолинеен. Я подавал проект: брать восьмилетних мальчиков и на государственный счет воспитывать их за границей: в Англии, в Германии, во Франции… Затем довершить воспитание художественной экскурсией по Италии, по музеям Дрездена, Мюнхена, Парижа, и человек, в истинном значении этого слова, готов. Человек европеец! — многозначительно воскликнул Ириней и многозначительно же поднял палец, а затем помолчал и с покорностью добавил: — но меня не послушали!
— Но это в сторону! — немного погодя с новою силой продолжал он. — Я все-таки, подобно еврею, одряхлевшему в ожидании, приветствую Липатку: он мой мессия. Он провозвестник культуры на Руси, и это слишком много… Я в последние годы много думал о нашем положении. Я много думал и пришел к тому, что да, действительно мы погибаем… Но отчего погибаем, вот вопрос! — Ириней снова поднял палец.
— Отчего же? — спросил я.
— Погибаем мы от недостатка культуры-с, уважаемый мой. Наводните Россию культурой, и она спасена. По-моему, так: взять и все поколение воспитать за границей. И еще я думал устроить колонии. Среди крестьян, знаете, поселить англичан, немцев, ирландцев даже, и пускай они воздействуют. Вообразите пустыню и среди пустыни оазисы. Это, впрочем, все проекты. У меня очень много проектов…
— И вы подавали их? {410}
— Меня не слушали. Но это ничего не значит: культура шествует! Что такое Липатка, позвольте вас спросить? Липатка — пророк. Липатка и сьют это знамение-с. Прибавьте к этому обширнейший ум, коммерческое образование… Я только теперь ведь понял, какой я в сущности пентюх… Спора нет, и моральное воздействие насаждает культуру, но путь-то этот путь медленный, быстрый же проводник культуры совсем не филантропия и не воздействие-с…
— Но что же, Ириней Маркыч?
Ириней таинственно улыбнулся.
— Предприятия, предприятия… — прошептал он, грациозно прикладывая палец к губам, но не утерпел и, серьезно сдвинув брови, добавил: — Мы заводим фабрику.
— Как фабрику?! Фабрику здесь, в Дмитряшевке?!
Он ничего не ответил. Он только с видом торжества кивнул головою и заботливо стал застегивать пуговочку правой перчатки. Вдали показался и скоро вырос перед нами чумаковский хутор.
Чумаковский хутор изобличал в хозяине и образцового дельца и крупного капиталиста. Ничто не напоминало здесь каких-либо прихотей. Ни раскрашенных яликов на пруду, ни затейливых башенок и мезонинов, ни китайских беседок и романтических гротов вы бы не встретили тут. Но зато все, что вы видели, было крепко, хорошо, пригодно для хозяйственных целей. Два гумна с бесчисленными скирдами, подобно крыльям, облегли немногочисленные постройки. На каждом из этих гумен пыхтели паровики и многосильные молотилки переполняли воздух тяжким стенанием. В длинном и превосходно выстроенном амбаре, с дверями, распахнутыми настежь, не прерывалась бесконечная вереница скрипучих возов. В стороне, под крепким и свеженьким тесовым навесом, словно артиллерийские орудия на смотру, вытянулись красивыми рядами жнейки, сеноворошилки и сеялки. Недалеко от пруда белелась, зияя редкими окнами, новая трехэтажная зерносушилка с целою системою деревянных красных труб на железной крыше. Скотный двор, — здание тоже новенькое и, по-видимому, необычайной крепости, — занимал место за сушилкой. Флигель для рабочих, баня и кухня тоже отличались и новизною и солидностью. Но особенно щеголяли этим хозяйские дома. Их было два, и отделялись {411} они друг от друга узеньким, но чрезвычайно светлым и чистым прудом. Оба были из стройного соснового леса. Их недавно выкрашенные кровли ярко и приветливо зеленели издалека. И оба домика издали чрезвычайно походили друг на друга. Но приближаясь к ним, вы замечали различие. Один отличался целомудреннейшей первобытностью и даже не имел навеса над простыми сосновыми дверями, другой, не говоря уже о навесе, бил в глаза положительным европеизмом. На гладко отполированных дверях его сверкала медная доска с именем владельца. Из притолки скромно выглядывала перламутровая пуговочка электрического звонка. Сквозь зеркальные стекла окон прихотливо извивались ветви дорогих тропических растений и пышные гардины красиво распростирали искусно драпированные складки.
Мы подъехали к этому домику. На доске сияющие буквы вязью изображали Л. Чумаков. Двери нам отворила краснощекая горничная в шиньоне и белоснежном переднике. Липатка отсутствовал: он находился на гумне. Горничная тотчас же послала за ним какого-то мальчугана в куртке и зеленых штиблетах, а нас пригласила в комнаты. Там нас встретила совсем уже подлинная цивилизация. Зал с паркетным полом и гостиная, устланная пушистым ковром яркого цвета, обильно украшалась изделиями европейской промышленности и произведениями искусства европейского. На стенах висели картины в золотых рамах, по преимуществу все жанр да альпийские и рейнские пейзажи. По углам белелись статуи — Диана с гордо приподнятым ликом, стыдливая Афродита… Бронзовые фигуры рыцарей красовались на камине.
Вообще все, что ни встречало нас в апартаментах Липатки, обнаруживало в хозяине привычки просвещенного человека. Об этом вопияли и высокие зеркала в рамах самоновейшего вкуса — тонких и округлых, — и механическое венское фортепиано, и мебель… А когда мы вошли в кабинет Липатки, то изысканные привычки эти предстали пред нами и вовсе воочию. Широчайший мраморный умывальник с целой коллекцией мыла, щеточек и различных притираний; пилки, ножницы и флаконы на резном ореховом туалете; комфортабельнейшая кровать; и вместе с этим целая прорва всяческих приспособлений для письменных занятий: тут можно было писать лежа, там сидя, {412} здесь — стоя… И все-таки вы сразу замечали, что обиталище это, столь удобное для писания, не вмещает в себе какого-либо узкого бумагомарателя. Здесь пахло практиком. Монументальный письменный стол, занявший чуть не половину Липаткиного кабинета, был завален образцами пшеницы и проса, счетами, накладными, прейскурантами, квитанциями, экземплярами "Хозяйственного строителя", и "Земледельческой газеты", приходо-расходными книгами… Чернильница изображала локомобиль, пепельница — соху, пресс-папье — мужика за плугом. Над столом в бронзовых лапах торчали телеграммы и письма из Ростова, Москвы, Петербурга, Риги, Кенигсберга и других торговых пунктов, с означением цен на хлеб и на иные продукты степного хозяйства.
С видом жестокого самодовольства водил меня Ириней по обиталищу Липатки. Каждая мелочь, имевшая здесь место, казалось, досконально была ему известна.
— Ну, как скажете: чья берлога, купеческая-с? — то и дело спрашивал он меня, самодовольно поглаживая седую бородку свою a la Henri IV. 1 И после каждого такого вопроса я, разумеется, принужден был стыдливо опускать очи мои долу.
— И это в год-с! Один только год прошел, и вы посмотрите, что здесь!.. Ведь прежде вы знали чумаковский хутор: флигель да изба да амбары… И вдруг такое, можно сказать, превращение!.. О, Европа, Европа!.. — И Гуделкин мечтательно вздыхал и, весь сияющий каким-то тихим и теплым, но чрезвычайно радостным светом, неутомимо бродил по комфортабельным комнатам.
— И всего привлекательней: все ведь это коренится на принципе! восклицал он. — Это не есть одна только дурь, одно эстетическое порывание исключительной натуры, это есть довершение цикла-с… Вот идите сюда и любуйтесь, — он подвел меня к ореховому шкафу, сквозь зеркальные стекла которого ясно блестели золотые заглавия внушительных томов: — Вот почва… Вот вам божественный Мальтус, вот красноречивейший Леруа-Болье, вот Гарнье, Курселль-Сенель… здесь обстоятельный Мак-Кулох, тут серьезнейший Буханан… Это его любимейшие. Но вот и старики: Сей, Смит, Рикардо… А тут, на нижней {413} полке, как он говорит, для курьеза собраны: Прудон, Милль с «примечаниями», Лассаль… И вы не подумайте что-нибудь — все это проштудировано-с! Ах, как приятно иметь дело с принципиальным человеком… Или вот посмотрите сюда, — и он, подхватив меня под руку, быстро подвел к ночному столику и, опустившись на колени, в каком-то детском восторге начал показывать мне его устройство, — смотрите… Ну, не прелесть ли!.. Вот вам одна необходимейшая вещь… вот другая… третья… Что за удобство! Что за простота!… Обратите внимание… О, Европа, батюшка… — и он даже захлебнулся от умиления.
Но Липат не появлялся, и нетерпеливый Ириней повлек меня к гумнам.
Гумна эти, как я и сказал, можно было уподобить крыльям, облегшим хутор. Подходя к тому, где находился Липатка, мы влезли на вал, высоко поднимавшийся вокруг скирдов, и остановились в восхищении… Далеко вокруг синела степь. Там и сям пестрели по ней гурты, выдвигались кусты, круглые как шапки… Хутор, брошенный среди этой бесконечной равнины, казался особенно веселым и особенно живописным. Даль замыкалась волнистыми очертаниями старых и почти уже исчезнувших курганов… И над всем этим простором, захватывающим дыхание, тихо и торжественно опрокинулось теплое, яркое небо.
Липатку мы нашли у локомобиля. Он внимательно следил за манометром и от времени до времени выпускал пар. Молотилка внушительно ревела, выбрасывая из своего замысловатого нутра непрерывную массу соломы, источая зерно, чистое и желтое, как воск, переполняя воздух пылью и мякиной. Большое колесо локомобиля важно и равномерно колыхалось. Пар свистел пронзительно и дико. Народ копошился с граблями, вилами, лопатами, мешками… Однообразный гул далеко разносился по окрестности.
Я с невольным и, признаюсь, большим любопытством осмотрел Липатку. Невозмутимый среди суеты, шума и лязга, с пышно надутыми щеками и гордо приподнятым челом, он походил на идола. В течение добрых пятнадцати минут он не сделал иного движения, как только прикасался к рукояти рычага, и не издал звука, помимо отрывочных и кратких приказаний, исполнявшихся с изуми-{414}тельной поспешностью. Наружностью он мало походил на россиянина. Его тучную и крепкую фигуру обтягивала засаленная и, может быть, чересчур узкая кожаная куртка, на манер тех, которые неизбежно напялены на любом машинисте из немцев; голову покрывала фуражка, опять-таки несомненного заграничного фасона: круглая, с пуговкой наверху и с огромнейшим козырьком. Сапоги до колен, панталоны в обтяжку, наподобие гусарских чикчир, и серые шведские перчатки довершали костюм. Лицо Липатки тоже носило заграничный отпечаток. В нем как-то странно соединились: английское высокомерие, французская бородка и немецкий стеклянный взгляд… Русское же происхождение отозвалось только толстым и добродушным носом, напоминавшим луковицу. А щеки казались искусственно вздутыми, так они были пухлы.
Когда он, наконец, приметил нас и пошел к нам навстречу, то и походка оказалась у него под стать остальному. Ходил он важно и медлительно, точно павлин. Да и вообще держался так, как будто при всяком смелом движении рисковал рассыпаться.
Впрочем, раскланиваясь с нами, он этим риском пренебрег. Поклон вышел низкий и глубокий, и жирная спина его изогнулась смело и решительно. Это производило приятное впечатление.
— Я должен покорнейше извиниться перед вами, почтеннейшие господа, говорил Липатка, округлым жестом снимая и снова надевая свою странную фуражку и с приятностью выпрямляясь. Говорил он плавно и медленно, как бы услаждаясь звуками чистого и ровного своего баса. — Я получил извещение о вашем приезде своевременно, но локомобиль оказался несколько неисправным, и я должен был — как мне это ни грустно — сделаться неаккуратным.
А Гуделкин неотступно наблюдал за мною. Во всей его фигуре так и напряглось восторженное настроение.
— Что? Каков? — шептал он мне, — это ли не европеец?
Мы пошли по направлению к хутору.
— Где же Праксел Алкидыч? — спросил Гуделкин.
— Папаша?.. Он по некоторым делам направился в местный уездный город. Впрочем, он будет иметь {415} удовольствие сегодня же вечером видеть вас. Вы, конечно, осчастливите меня — ночуете?
Ириней, по совете со мною, ночевать согласился. Поравнявшись с валом, мы снова не утерпели, чтобы не взойти на него и не полюбоваться на окрестность. Солнце, склоняясь к закату, потопляло степь в ярком розовом сиянии. Кровли хуторских построек празднично блестели, как будто покрытые лаком. Тени от зданий улеглись на траву густыми и длинными пятнами. В воздухе было тихо. Грохот молотилок скрадывался высокими скирдами и доносился до нас слабо и гармонично. В далеких гуртах мелодично звенели колокольчики.
— Что за прелесть эта степь! — восклицал Ириней, беспрестанно прикладывая к глазам изящную свою лорнетку.
— Место очень обширное, — глубокомысленно заметил Липатка и еще пуще надул щеки. — Место очень обширное, но требует агрикультуры, — добавил он немного спустя и важно провел ладонью по правой щеке.
— О, разумеется! — подхватил Ириней, — это прелесть, но это — дичь!
— Все это я подниму плугом и посажу свекловицу, — изрек Липатка.
— Паровые плуги, технические приспособления, машины из Англии? радостно защебетал Ириней.
— Будут-с. Но насчет паровых плугов я имею несчастье быть с вами несогласным, Ириней Маркыч: при той цене на труд, которая существует на нашем рынке и которой, в виду неравномерных отношений между спросом и предложением, не грозит возвышение — паровые плуги, к сожалению, являются совершенно нерациональными и ненормальными, или, лучше сказать, анормальными.
Ириней несколько озадачился.
— Но ведь это последнее слово науки, Липат Пракселыч! — чуть не с ужасом воскликнул он.
Липат снова с достоинством провел ладонью по щеке.
— Совершенно точно изволили выразиться. Но прежде чем эксплуатировать последние выводы науки, мы должны сообразоваться с положением нашего рынка, многоуважаемый Ириней Маркыч, с нашими экономическими и климатическими особенностями… Имею честь представить вам пример: наш битюцкий плуг сам по себе очень не со-{416}вершенен, но для поднятия новины нет надобности заменять его другим, ибо он, благодаря известным экономическим факторам, представляется наиудобнейшим и наирациональнейшим.
— О да, разумеется! — согласился Ириней и, обратясь ко мне, вполголоса добавил: — Не говорил ли я вам… Чистейший профессор!.. Нет, Европа, батюшка… — И он значительно нахмурил брови.
— Стало быть, и сахарный завод устроите? — спросил я Липатку.
— Устрою-с. Вообще Иринею Маркычу известны мои взгляды насчет капиталистического воздействия… Я буду иметь честь развить эти взгляды… Дело прежде всего в том, чтобы уподобиться странам просвещенным. И смею думать, что некоторым образом и до известной степени я постиг секрет этого уподобления.
— О, Липат Пракселыч совершенно постиг этот секрет! — воскликнул Ириней и крепко пожал Липаткину толстую руку.
Но развить «взгляд» на этот раз Липатке не довелось. Он вспомнил, что нужно закусить и переодеться. Мы против закуски ничего не имели. А когда пришли в дом, в столовой уже ждал нас самовар, и длиннейший стол был заставлен яствами. Стеклянные колпаки над блюдами, пикантные приправы, острые маринады и затейливые консервы с английскими ярлыками и столу придавали чужестранное обличье. Мальчик в зеленых штиблетах суетился около тарелок. Горничная разливала чай. В ее обращении с Липаткой примечалась близость. По всей вероятности, она была настоящей хозяйкой. Но Липатка и с ней держал себя строго и непреклонно и на ее фамильярности хмурил брови. Ему это, видимо, претило. Чтобы образумить ее, он даже возвысил тон. Но Гаша (так звали горничную) понимала его туго.
Наконец, извинившись за свое «холостое» хозяйство и пригласив нас к столу, он удалился в кабинет, откуда добрые четверть часа доносилось до нас шумное фырканье и отчаянный плеск воды. А спустя немного он появился перед нами совершенно преобразованным. Заскорузлая внешность машиниста-немца заменилась теперь полнейшей безукоризненностью. Вместо замасленной куртки его фигуру облекал щегольской костюм песочного цвета, на {417} ногах очутились лаковые ботинки, на блистательном пластроне батистовой рубашки засверкали золотые запонки. И помимо костюма произошло изменение: его щеки надулись пышнее; движения получили большую округлость и совершались медлительней; чело приподнялось выше и являло вид достоинства окончательно уничтожающего; жидкая бородка топорщилась веером и благоухала английскими духами…
За столом не произошло большого разговора. Липат вкратце сообщил нам о своем вояже по Англии и Германии, о заграничных фабриках и чудесах заграничной промышленности, о великолепных свойствах тамошнего рабочего выносливости и терпении, о выставках и грандиозных складах в лондонском Сити… Но когда мы закусили и вышли гулять, Липатка повел разговор длинный и значительный. Обстановка как нельзя более способствовала этому разговору. Дышалось легко и вольно. В желудке ощущалась благоприятная сытость. Солнце только что закатилось, и прохладный воздух был неподвижен и ясен. Тени ложились медленно. Маленькие круглые тучки ярко пламенели над закатом… Мы шли навстречу этому закату. В наши лица бил мягкий золотистый свет. Узкая дорожка, прихотливо извиваясь вдоль ложбинки, по руслу которой тихо и мелодично журчал ручей, вела нас к далеким курганам.
Липат с достоинством опирался на толстую трость с набалдашником из слоновой кости и, тяжело и важно отдуваясь, говорил неумолчно. В сером плаще с огромнейшей пелеринкой, в серой широкополой шляпе — он мне напоминал моль. А Ириней восторженно семенил ножками, играл лорнеткой и издавал одобрительные восклицания.
— Позвольте иметь дерзость предложить вам один вопросец: принадлежите ли вы к числу русских, желающих возвысить свое отечество до Европы и ради этой благотворной цели не щадящих никаких средств? — спросил меня Липатка, когда мы только что вышли из дома. И с этого вопроса, вызвавшего нерешительный ответ мой: "Принадлежу, но частию…", началось его словоизлияние.
Именно — словоизлияние. Он не говорил, а наводнял ваш слух непрерывным и скучным ручейком обстоятельнейших словес. Длиннейшие периоды, затейливейшие предложения, витиеватейшие фразы размеренно шество-{418}вали друг за другом, бесцветные как вода, сухие и безжизненные. Я не решусь, конечно, досадить читателю подлинной Липаткиной речью, но суть этой речи настолько все-таки интересна и настолько поучительна по своему воздействию на моего приятеля Иринея, что стоит ознакомления.
Липатка исколесил всю промышленную Европу из конца в конец и пришел к тому выводу, что культура для России необходима.
— Не говорил ли я! — воскликнул Ириней.
Но Липатка думает, что водворена эта культура может быть лишь тогда, когда современный крестьянский строй упразднится.
— Непременно упразднится! — с видом гордости воскликнул Ириней.
Это трудно. По мнению Липатки, "нужно в эту массу всяческого невежества и стародавнейшей рутины вбить железный клин, который массу эту мог бы расколоть сверху донизу…"
— Великолепнейшая образность! — в скобках заметил Гуделкин.
Этот клин — фабричное производство.
— Вот оно! — произнес Гуделкин, толкнув меня в бок.
Фабричное производство обособит личность, разовьет в народе культурные идеалы…
— Замечаете? — не унимался Ириней.
…Возбудит соревнование. И, в конце концов, посредством разложения варварской общины, — место которой, конечно, в земле кафров каких-нибудь, выделит индивидуализм, совершивший столько чудес в Западной Европе. Вот, по мнению Липатки, единственный путь для водворения культуры…
И затем он перешел к частностям; он начертал картину края, в котором, вместо первобытной эксплуатации "даров природы", вместо жалкой сохи и не менее жалкого плуга, воцаряется машинное производство. Фабрики и заводы перемежаются фермами и полями с интенсивным хозяйством. Все продукты получают на месте окончательную обработку: лен вывозится в виде полотна, семя — в образе олеина, кожа поступает на чемоданы и лаковые пояса, из собачьих шкур выделывается лайка, тимофеева трава вывозится в виде бычьего мяса, мука и просо вго-{419}няются в свинью… Мужик щеголяет в ситцевой рубашке, при постоянном желании приобрести полотняную (это "постоянное желание" Липатка подчеркнул), бабы носят козловые ботинки и мечтают о шагреневых ("мечтание" тоже подчеркнул). Фабриканты заводят школы. Дети бегают в кумаче и хором поют славословия. В избах появляется олеография, и лампа вытесняет «гасницу». Агрикультура свирепствует и производит баснословные урожаи. Община разрушается. Из ее оков, великодушно расторгнутых капиталистом, выползают на свет божий таланты, способности, дарования… Частные хозяйства процветают благодаря машинному производству и наплыву батраков. Но батракам дают жирные щи и кормят их по праздникам пирогами… Купец облачается в сьют и штудирует Леруа-Болье. Дворянин служит искусству и прообразует собою предмет для назидания. Ликующие чувства господствуют и производят гражданственные поступки. Все благополучно.
Мы добрых три версты отошли от хутора, когда, наконец, Липатка умолк и с сознанием собственного своего великолепия важно закурил сигару. Курганы были недалеко. Мы взошли на один из них и остановились. Сесть было невозможно: появилась роса. Но отдохнуть и стоя было приятно. Кругом широко разбегалась степь. К востоку она исчезала, незаметно сливаясь с синим небом; на западе замыкалась лесом и рекою. Это все была чумаковская степь. Битюк, светлый и тихий, неподвижно алел сквозь просеки, явственно отражая сонные ветви орешника и молодых кудрявых дубков. За Битюком шли луга, низкие и пологие, а за лугами темными и волнистыми уступами громоздился гористый берег.
День угасал. Тучки, еще недавно пламеневшие так ярко, теперь пожелтели как янтарь и сиротливо повисли в бледном небе. Сумерки надвигались быстро и настойчиво. В вышине загорались звезды. Золотистое сияние зари медленно умирало. Гуртовщики развели костры. Тихие огоньки замелькали в окнах хутора. В сонном хуторском пруду и эти огоньки и высокие, ранние звезды отражались ясно и мечтательно.
Мы долго стояли и смотрели в глубоком молчании на окрестность, заполоняемую сумраком. Наконец Липатка бросил сигару и торжественно поднял свою трость. {420}
Место обширное, но требует агрикультуры! — воскликнул он и затем распространился в мечтаниях. Все, что доступно глазу, он распашет под свекловицу. Около пруда выстроит сахарный завод. На Битюке устроит лесопильню. Разыщет торф в своей даче. В Дмитряшевке откроет фабрику крестьянских мануфактурных изделий. ("Да, да… непременно фабрику!" лепетал Ириней, обнимая взором потускневшие дали.)
— Мы революционеры! — в пафосе восклицал Липатка, и его растопыренный плащ с пелериной, подобной крыльям, странно выделялся на палевом фоне заката, — мы революционеры, но революционеры тишайшие… Вместо крови у нас золото, вместо марсельезы — грохот машины, вместо мерзкой и отвратительной гильотины у нас — конторка из ясеневого дерева… Но наша революция будет подействительней многих… Те несли разрушение, мы успокоение несем… Те проповедовали самоотвержение, мы же одного только желаем — себялюбия, и на этом одном камне воздвигнем здание…
И снова повторил, что необходим "железный клин". Это сравнение ему, видимо, нравилось. А когда Ириней разомкнул, наконец, уста свои и робко заметил, что ему кажется необходимым и моральное воздействие, он объяснил, что воздействие это непременно будет. Оно пойдет рука об руку с капиталистическим. Богатство располагает к благодушию. И вот отсюда полная готовность помочь бедняку. Богатство же достижимо только при машинном производстве. Тогда только и искусство может процветать. Картинные галереи, коллекции редкостей, драгоценные произведения скульптуры, обширные библиотеки и музеи — все это мыслимо только при накоплении. Философия состоит в том, что машинное производство, выдвигая на сцену индивидуализм и возбуждая страстную погоню за личным благосостоянием, вместе с тем содействует «накоплению», а, следовательно, и вящему развитию культурных поползновений. В этом вся штука. Идеалы вгоняются механически: хочешь не хочешь. Порядок вещей ясен и логичен, как простое извлечение кубического корня.
Когда мы возвращались, с хутора послышалась песня. Унылым и протяжным стоном повисла она над степью и оборвалась вдали жалобным эхо… {421}
— Экие песни глупые! — проворчал Липатка, обрывая речь.
— Монотонные песни, — добавил Гуделкин.
— Дичь! — произнес Липатка.
— Глушь и необразованность, — сказал Ириней, внезапно разгорячился и закричал: — Нет, вы представьте себе — выписал я им гармониум: «Лучию» играет… а!.. Ну, привыкай же, наконец!.. Ведь и там горе общечеловеческое, можно сказать; но вместо того нет же там однообразных завываний… Помните спор с флейтой? — Он на мгновение закрыл глаза и в истоме произнес: — Ах, Патти, Патти!..
Песня прозвенела долгой и скорбной нотой и печально замолкла. Вместо нее, где-то в степи, бойко и дробно задребезжали жилейки.
— Что за звуки! Что за мотивы! — в отчаянии воскликнул Ириней.
Липатка с достоинством погладил ладонью щеку.
— Мнение мое таково, — изъяснил он, — негодование бесполезно. По моему мнению, действование имеет несомненное предпочитание перед выражением чувствований. При надлежащем развитии индивидуализма, что, в свою очередь, возможно только при господстве капитализма и при его воздействии на экономический и этический строй гражданственности… — И он досказал, что личность, развивши свои способности в борьбе за существование и отведавши культурных благ, непременно разовьет и эстетические свои вкусы, и тогда переход от «Лучинушки» к "Лучии Ламермурской" явится неизбежным.
— Да, да, да! — в каком-то сладостном изнеможении лепетал Ириней, пораженный Липаткиной логикой и несказанно осчастливленный этим поражением… — Да… именно — неизбежным!.. Именно — разовьет эстетические вкусы…
— Вы извольте вообразить себе вашу Дмитряшевку в периоде капиталистического производства, — вещал Липатка, — тщетно теперь воздействуя на мужичков благородными поступками своими, прямо для вас убыточными, вы тогда, одним присовокуплением капиталов ваших, согласно закону накопления, водворите в Дмитряшевке Европу. Каждый мужик будет знать тогда, во что ценится его труд, приложенный в такой-то пропорции, и как ве-{422}лико благосостояние, купленное ценою такого труда. Каждый увидит преимущество познаний и обособленности. Каждый будет стремиться к этому… Я имел уже удовольствие докладывать: мужик, надевая каждодневно ситцевую рубашку, каждодневно же о полотняной мечтать будет. А в этом мечтании есть уже зачаток беспрерывного преуспеяния. Революционные стремления в мужике неизбежны. Нужно поработить их и утилизировать. Необходим баланс. Но в том и состоит задача культурных людей… Нужно отнять от этих революционных стремлений характер стихийности; нужно обходить их, дифференцировать, формулировать во образе мирной, единоличной борьбы за существование. Не запряги мужика в ярмо культуры — он, смею изъяснить, самую культуру эту растреплет наподобие ветхой, продырявленной тряпки, и от России-матушки останется пшик!.. — И Липатка дунул на кончики своих пальцев.
Дело было ясно как день.
Когда мы пришли, старика Чумакова еще не было. Липат усадил нас в уютной гостиной, приказал подать туда бутылочку «шартреза» и заставил мальчика в штиблетах вертеть ручку рояля. Сам он с обычною вежливостью извинился и ушел в контору рассчитывать рабочих. Мы остались одни. С высокого потолка светил нам розовый фонарь; в открытые окна глядели звезды, и степной воздух непрерывной струею вплывал в комнаты; причудливые листья растений тихо колебались от этой струи и производили слабый шорох; обворожительные звуки вальса из «Фауста» медленно и мелодично замирали…
Ириней окончательно разнежился. Забравшись совсем с ногами на мягкое канапе и обстоятельно смакуя зеленоватую влагу «шартреза», он наяву отдался грезам. Вместе с тем отсутствие Липатки как будто придало ему бодрости. При нем он не дерзал на многое: Липаткины познания его подавляли. Но теперь… О, как преобразуется Дмитряшевка, когда они заведут в ней фабрику. Он дает деньги и землю для постройки, Липатка применяет свои знания. Дивиденд пополам. Правда, Дмитряшевку придется заложить для этого, и он думает это сделать в обществе взаимного поземельного кредита — это самое солидное, но зато какие несомненные выгоды и какая великая польза!.. Главное польза!.. (Тут он сладостно {423} зажмурил глаза и медлительно втянул в себя ликер, после чего прищелкнул языком и снова налил полрюмки.) Он так рад, что не бесследно прошла его жизнь! Он так счастлив, что, в пору всеобщей сумятицы и всеобщей апатии, ему доведется указать путь многострадальной России, — путь верный и прямой. Вместо мрака — свет, и даль окаймлена лазурью. И он снова отпил из своей рюмки и, разводя рукою в такт меланхолического вальса, развернул предо мною картину будущей России. Беленькие домики, асфальтовые кровли, зеленый плющ, розы и георгины в палисадниках, тучные стада, краснощекие поселяне… И светлые крылья культуры, как крылья ангела, реют над бесконечными русскими равнинами. Скорбные песни исчезли, их заменили арии. Пастухи, вместо жилеек, играют на кларнете. Грациозные хороводы пляшут под звуки флейты. Грохот бесчисленных машин сливается в одном грандиозном ритме и с самых ранних лет приучает крестьянское ухо к музыкальности. И водворяется золотой век…
А розовый свет фонаря все так же мягко и фантастично обливал комнату, оставляя в полумраке стены, обитые малиновым трипом… Причудливые листья чужеземных растений все так же размеренно и странно колыхались и лепетали, цепляясь друг за друга… Мечтательные звуки вальса все так же вплывали к нам грациозною толпою и так же печально угасали… Липатка пришел поздно. Он сообщил, что папаша приехал, но несколько не в своем виде, и, посидев немного, удалился, пожелав нам спокойной ночи. Тут же, в гостиной, приготовили для нас постели. Свежее белье с тонким запахом сена, прохлада и тишина скоро на нас подействовали: мы заснули. Я видел во сне белые домики с остроконечными аспидными кровлями, видел длинные листья странных растений, колеблющихся важно и размеренно. Фантастическое солнце било в глаза розовым светом, и печальные звуки «Фауста» уплывали вдаль рыдающей вереницей…
Не знаю, сколько спал я — меня разбудил Ириней. Я взглянул на него и вскочил в испуге. Бледный свет проникал в окно и озарял его лицо, искривленное скорбью и гневом. Он крепко сжал мою руку и сказал:
— Тише… смотрите и слушайте!.. {424}
Я придвинулся к окну. На балкончике горела лампа с матовым шаром и разливала вокруг свет, подобный лунному. Около столика, накрытого салфеткой, сидели Чумаковы — Липатка и Праксел. Старик тяжело наклонился над столом, тыкая неверной рукою в тарелку с селедкой и беспрестанно икая. Он был в ситцевой рубахе, подпоясанной ремешком, и в неуклюжих валеных сапогах. Широкая спина его выпукло обозначалась сквозь тонкий ситец. Перед ним возвышался графин с водкой и две рюмки. Липатка, без сюртука и жилета, сидел напротив отца, непринужденно посасывая сигару, и от времени до времени, с присущим ему достоинством, поглаживал свои пухлые щеки.
— Дока ты у меня, Липатка… дока, пес тебя слопай! — заплетающимся языком говорил старик. — Ну только не заносись, прямо говорю… не заносись…
Последовала пауза и медленное искание селедки.
— Ты сын мне, а? Как ты насчет этого понимаешь?.. — продолжал старик, поймавши, наконец, кусок селедки и с угрожающим видом потрясая им в воздухе, — а?.. Сын… И поэфтому поступать должoн!.. — Он икнул и перекрестил рот. — Ты как понимаешь? Покоряйся!.. Ты знаешь: отцам да повинуются, а? Это где показано?.. В писании, дура-ак, в писании…
Он поникнул головою и вдруг прослезился.
— Алипат Пракселыч!.. Друг!.. Я ведь понимаю, я все понимаю… Ты думаешь, как я есть мужик сиволапый и поэфтому самому понятиев лишен?.. Не-э-эт, голубь, я понимаю… Я могу… Я все могу! Все могу! — внезапно возопил он благим матом и жестоко ударил по столу кулаком, но затем тотчас же стих и продолжал умиленно: — Ежели баринишку этого опутать… Гуделку этого!.. (Иринея передернуло) так это довольно даже обнаковенно… Но наипаче старайся протурить его с наших местов!.. Друг!.. Я еще вo каким махоньким понимал ихнего брата… И с того произошел!.. — Он горделиво приосанился. — И ты не заносись… Ты отцу кланяйся: отец не оставит, отец на путь наведет… Разве я не понимаю нонешних делов? Ошибаешься, друг… Оченно даже я их хорошо понимаю… Вникаем, голубь… Мы мужики, а вникать — вникаем!.. И прямо я тебе скажу: нонешние дела — дела зазвонистые. Ты это понимай… Имей опаску, говорю… {425} Я ведь недаром в немецкие-то земли заслал тебя, капиталец-то уходил изрядный… Ты это чувствуй!..
Он выпил, утерся рукавом и, все более и более впадая в назидательный тон, продолжал:
— Наипаче не прошибись, говорю… Времена опасные… Времена такие — в лесу светлей!.. — И, заметив легкую улыбку на лице Липатки, рассердился. Ты думаешь, старик пьян?.. Ты полагаешь, старик зря мелет?.. Врешь, Липатка!.. Я в своем доме хозяин!.. — Он попытался подняться, но не смог. Ты что — ты щенок! Как об тебе понимать, а? Ты чей?.. Где твои капиталы?.. Что по Неметчине-то гулял, это еще не штука… Не шту-ука, малый!.. А ты покажи-и… Ты нам на де-еле… Какие такие твои расчеты, а? Выкладывай… А мы и обсудим нашим мужицким разумом… — Он спесиво разгладил бороду и важно развалился. — Мы и разведем!.. Мы серые… Мы глупые… а ты умник!.. Ну-ка, умный… Выкладывай… Ты как насчет фабрики полагаешь?.. Не-ет врешь, не пья-ян… — И сердитым движением руки он отстранил и рюмки и закуску.
Липат посмотрел на свои выхоленные ногти.
— Я имел уже честь… — начал было он.
— Чево-о? — брезгливо остановил его отец, — ты мне, брат, не финти!.. Ты брось выкрутасы-то эти, я ведь не Гуделкин… Ты начистоту мне выкладывай: ум-то у меня мужицкий, прямой!.. — И он решительно выпрямил свою широкую спину и положил на стол крупные волосатые руки.
Ириней сделал мучительную гримасу.
Липат несколько оживился.
— Вы, папаша, довольно неравнодушны…
— Не финти, говорю!.. — настоятельно и грозно повторил старик.
И благодаря ли этой настоятельности, но Липат действительно перестал финтить. Кратко и сжато обрисовал он старику положение дел. Народ бедствует и голодает. Земли истощены. Население прибывает и дробит наделы. На миру идет разладица. И самый раз дать мужику работу. Он пойдет за всякую дешевку, особливо зимою. Работник он не чета немецкому: нет в нем привередливости, не запросит он лишнего четвертака на сосиски, не устроит стачку, не будет хлопотать о сбавке рабочих часов. Чело-{426}век он выносливый и терпкий. Да к тому же, можно будет и уряднику отвести квартиру на фабрике. Все страху больше. А между тем сбыт тоже обеспечен. В земледельческой полосе фабрик совсем нет, а потребность в ситцах растет. Краснорядцы богатеют. Народ балуется. Щегольство одолевает всех. Труд дешев. Начальство благоприятствует.
И чем больше говорил Липатка, тем опускалась все ниже и ниже спесивая голова Праксела и тем ласковей и добродушней становился его лик.
— Так, так… — лепетал он сладостным шепотом, умиленно поглядывая на Липата, — так… утрафил… попал… дока, пес тебя слопай!..
А Липат не унимался. Он оживился, и глаза его заблистали, язык утратил свою деревянность и работал с живописностью… Он настоятельно указывал отцу на необходимость расширить дело, завести сношения с Лондоном и Кенигсбергом, устроить в Воронеже контору с английской обстановкой молчаливыми писцами и накрахмаленным кассиром, — придать фирме европейское обличье, затеять в степях интенсивное хозяйство, нанять батраков, упразднить отрядные наемки… Он, рядом убедительных и простых фактов, доказывал отцу, сколько теряется оттого, что нет непосредственных сношений с иностранными фирмами и что всякий продукт лезет за границу в первобытном виде. И когда Праксел, ошеломленный цифрами, отуманенный смелыми предположениями Липатки, обругал его и обозвал «ветрогоном», тот даже разозлился. "Вы слепцы!" — кричал он. — Весь край можно бы заполонить и опутать одной сетью. Деньги — пустое: они всегда найдутся. Нашлось бы дело. Банки затрещат от английских стерлингов и немецких марок, если только отец послушает Липатку. Дворянство издыхает, мужик путается; начальство благосклонствует… Трудно вообразить более подходящее время! Нужно скупать землю, брать ее на аренду, заводить фабрики, устраивать конторы для ссыпки хлеба, открыть широкий кредит господам помещикам…
— Не миллион — десятки миллионов запляшут по нашей дудке!.. восклицал Липатка.
И старик теперь уже не прерывал его. Он потирал руками и беспомощно хихикал. Липаткины грезы неодолимо {427} встали пред ним и до конца заполонили его мужицкое воображение. И когда Липатка кончил, он только произнес: "Выпьем, Липатушка!" — и смачно расцеловал великолепное свое детище.
— Ну, а как же, Липатушка, Гуделку нам вытравить? — сказал он после выпивки, плутовски прижмуривая осоловевшие глаза.
Липатушка только усмехнулся.
— Кредитец ему открыть, — ответил он, — кратковременные ссуды… И притом Иринею Маркычу, по всей вероятности, надоест фабричное дело, а ликвидировать его — опять нужно капиталец. Дело простое — борьба за существование!
— Хе-хе-хе… хорошее ты слово сказал, Липатушка!.. Не возьму я его в толк, а хорошее оно слово… Вот словами-то ты его этими одолевай… Лясами-то!.. Господин — в нем прежде всего струна есть… И как ты его за эту за струну дернешь — бери голыми руками… Дается он… Оченно даже хорошо дается!.. Ох, падки господишки до ляс!.. Ежели по совести говорить, баба да лясы — весь живот ихний… — И он погрузился в мечтание. — А что, Липатка, бабу бы ему… а? Гашку бы…
Липат отрицательно покачал головой.
— О? Не примет, думаешь?.. Ну, как хочешь. А хорошо бы… Я тебе вот что скажу, Липатушка! — Старик наклонился к сыну и таинственно заговорил: Востра была к этому делу мать твоя покойница, царство ей небесное. — Он благоговейно перекрестился, — и-их, угар была баба!.. Бывало, так опутает моргнуть не управишься!.. Графчика раз приспособила… Эх!.. Выпьем, упокой господи ее душу!.. — И тоном авторитета добавил громко и внушительно: Больше из книжек их осаживай… Осаживай из книжек, и шабаш!.. Тебе бог дал — действуй… — И затем усмехнулся пьяной улыбкой. — Ах, Гуделка, Гуделка!.. Ведь ишь фабрикант выискался… Фу ты, ну ты!.. Ну-ка, выпьем, Липатушка… Вижу, произошел ты у меня… Исполать, детинушка! — И после некоторого молчания добавил: — А что ежели фортуплясы запустить?..
Но Липат отговорил его, представляя на вид наше сонное состояние. Старик махнул рукою. {428}
— Ну ладно!.. Обдери их совсем… Пусть дрыхнут… — и добавил со смехом, — мы их еще рано освежуем!..1 Явлюсь к ним ужо — пословоохочусь…
Иринея била лихорадка. Уткнувшись лицом в подушку, он щипал короткие свои волосики и ругался. Старика Чумакова, уже окончательно рассолодевшего, увели спать. На балконе остался Липатка. Долго сидел он и неподвижно смотрел на небо. (В небе ходили тучи и редкие звезды мигали тускло и трепетно.) Наконец самодовольно выпрямил стан и, закинув жирные ноги свои одна на другую, важно воскликнул:
— Гаша!
На этот зов явилась горничная. Остановившись у порога, она спрятала руки под передник и вымолвила робко:
— Что прикажете, Алипат…
— Говорите "сударь", — внушительно прервал ее Липатка.
— Что прикажете, сударь, — повторила Гаша.
— Замечаю я в вашем поведении несообразности…
— Я, кажись, ни в чем не повинна, Алипат Пракселыч…
— Зовите — «сударь». И я не досказал — вы молчите, — в скобках заметил Липат. — Замечаю несообразности. Сегодня за столом вы мне осмелились сказать «душечка».
Он вперил в нее тяжелый и пристальный взгляд.
— Ей-богу как влюблёмши в вас, сударь…
— Молчите. Вы — горничная. Ваше поведение я не одобряю.
Гаша внезапно обиделась.
— Что ж вы попрекаете, — заговорила она, всхлипывая и глотая слезы, ежели я родила, так окромя греха вам, Алипат Пракселыч…
— Ну, ну… — поспешно возразил Липат и, скорей шутливо, чем грозно, заметил: — Я тебе сказал — «сударем» зови! — но тотчас же снова напустил на себя важность: — Не кукситесь. Подите разденьте меня… И обратите внимание: ваши манжетки сегодня необыкновенно грязны. Я терпеть не могу грязных манжеток. {429}
Он тяжело поднялся и подошел к Гаше, снисходительно потрепав румяную ее щечку. Нужно было полагать, что этим он изъявлял прощение. По-видимому, так поняла это и Гаша: она подобострастно поцеловала жирную Липаткину руку и отерла слезы.
— Каков гусь!.. — сказал мне Ириней.
— Европеец, — заметил я.
— Н-да, европеец… — саркастически произнес Гуделкин и порывисто завернулся в одеяло.
Наутро приятель мой являл вид печальный. Его бородка a la Henri IV торчала без всякой бодрости. Лицо осунулось и пожелтело. И вообще он походил на воробья, мокрого и сконфуженного. Отказавшись от завтрака и чая, он приказал подавать экипаж и на все разговоры Липатки отвечал односложно и сухо.
Погода соответствовала скверному состоянию Иринеева духа. Дождь пошел еще ночью, и теперь над степью плавали скучные, серые тучи. Мокрые галки торчали на крышах. Густая черная грязь прилипала к колесам экипажа. Лошади тяжко сопели и обливались потом. Даль хмурилась. Рев молотилок отдавался глухо и тоскливо. Хутор казался мрачным.
Ириней, завернувшись в плащ по самый подбородок, печально выглядывал из-под шляпы. Он походил на Гамлета.
Когда чумаковский хутор скрылся из вида, я заговорил. Но Ириней не ответил мне. Только спустя добрых полчаса он в каком-то раздумье произнес, медленно и горько:
— Какая же это культура, наконец?
— Вы насчет чего? — осведомился я.
Он помолчал, по-видимому что-то соображая, и затем повторил:
— Нет, какую же культуру подразумевал этот — гусь?
Я пожал плечами. Иринея вдруг как бы осенило.
— Помилуйте! — воскликнул он, — это не культура, а разбой… Естественнейший разбой!
И после этого опять поник и пребывал долго в грустном молчании, а затем внезапно воспрянул и, с скорбной улыбкой на устах, произнес:
…К чему упрек? Смиренье в душу вложим
И в ней затворимся — без желчи, если можем… {430}
Тучи плакали и нескончаемой вереницей тянулись над степью.
Немного спустя Гуделкин заложил-таки Дмитряшевку. Но он не завел фабрику — он устроил крестьянам блистательный обед, на котором, говорят, была даже спаржа, и укатил в Швейцарию. Там, в Vevey,1 проживает он и доныне. {431}
XVII. Офицерша
Я только что пришел с гумна, где у меня домолачивали гречиху (дело было в сентябре), и садился за самовар, сиротливо звеневший на столе, как ко мне в комнату вошел известный уже читателю березовский мужик Василий Мироныч. Совершив с обычною своей степенностью крестное знамение и солидно поздоровавшись со мною, он вдруг хлопнул по бедрам руками и воскликнул:
— Оказия, братец ты мой!
Тут только я заметил, что степенность, соблюденная Василием Миронычем при входе, была напускная: он явно был возбужден, и лицо его являло вид недоумевающий.
— Оказия, — повторил он, принимаясь за чай.
— Что такое?
— Учительша у нас замудрила!
— Офицерша?
— Она. Так то есть замудрила — помирай! Ребятишки от рук отбились.
— Учит плохо?
— Чего плохо — в отделку бросила…
— Как бросила?
— Кинула, и шабаш! Никак не учит…
— Что же это?..
— Подивись.
— Ну, делает она что-нибудь?
— А ничего не делает. Лежит ничком, только и делов от ей…
— Больна?
Василий Мироныч развел было в недоумении руками, но затем поправил волосы и решительно добавил: {432}
— Замудрила.
— Не пойму… — сказал я.
— Замудрила, — повторил он настоятельно и, вынув клетчатый платок, старательно отер им лоб.
— Отчего же ей мудрить-то?
Василий Мироныч подумал и сразу утратил решительность.
— Диво!.. — произнес он. — Мы уж ходили, ходили вокруг ей… И так понимали; испорчена-то она: бабку приводили. Бабка поглядела, поглядела плюнула. И умоляли-то ей: неладно, мол, ребятишки без призору… И попрекать принимались: такая ты сякая, мол… ты, мол, деньги получаешь, ты уговор, как-никак, соблюдать должна, а не то что… И так говорили: ежели, мол, насчет прибавки — не постоим, получай, дело твое мы видим… Хошь убей — колода колодой! Ах ты…
Он сердито и скоро допил из блюдечка чай и, допив, снова начал:
— Думали так: ругать ежели… Пронять ее, оборвать… Хоть бы сердце-то она сорвала, думаем уж, осерчала бы на нас… Да признаться, и самих-то зло разобрало — суди сам: лежит человек, и хоть бы слово, тоже ведь люди мы… Тоже ведь, какие ни на есть, а не вроде как собаки, например…
Василий Мироныч как будто оправдывался и в пылу этого оправдания начал даже негодовать. Я прервал его:
— Ну?
— Пробовали. Рванет это ее, рванет… Ажно передернет всю иной раз затрепыхается словно птица, и опять пласт-пластом!
Он помолчал.
— Ума решилась. Бросить ежели, плюнуть — жалко! Первое дело — деться ей некуда; отец-то идол ведь во всех статьях… Другое — баба душевная… Мальчонок-то у меня какой? — вершок в ем. — Василий Мироныч многозначительно посмотрел на меня и, переполнив тон свой благоговейностью, добавил: — Пишет! Расписки пишет… Запись ведет!
— Да с чего же это с ней? — спросил я.
— Ума не приложим. Так жалко нам, так жалко… Ты подумай — даровая, почитай!.. А уж с ребятишками {433} вникала… Эх как вникала, сердешная! И Василий Мироныч тяжко вздохнул.
— Мы к тебе, — сказал он немного спустя, вставая и кланяясь низко.
— Насчет чего?
— Развяжи узел.
— Какой?
— Насчет офицерши.
— Да что же я-то сделаю?
— Тебе виднее… Темный мы народ-то! Мы ведь вроде как слепцы теперь: бродим ощупью да спотыкаемся… Уважь, проведай ее! Может, у ней, правда, болесть какая, — дело ваше барское, мудреное, нам, дуракам, и невдомек, глядишь… Аль обида ей от кого — дуроломы ведь мы, остолопы… Мы ведь радостью рады человека-то остолбить!.. Речи-то наши известны: от слова от одного осатанеешь… Приезжай! Мы, как-никак, услугу твою попомним… Ежели дохтура ей, так мы не токмо что — городского приспособим… А уж обиды ежели — храни бог! Прямо говорю: глаз не показывай такой человек… Так исполосуем такого человека — сесть станет невозможно. Вот!
И благодушное лицо Василия Мироныча внезапно изобразило сухую и жесткую злобу.
Я обещал.
Но прежде чем рассказать о поездке моей в Березовку, нужно, я думаю, сообщить вам о том, как состоялось знакомство мое с офицершей. Слушайте же.
Был март. Солнце стояло высоко и сильно пригревало. На полях показались проталины. Среди дня с крыш обильно падали капели и по тропинкам сочились ручьи. Снег пожелтел. Сугробы медленно опадали. Дороги тянулись по полям грязными лентами. Дали приблизились и засинели явственно и резко. На дворах курился навоз, переполняя воздух крепким и пряным запахом. В деревнях хлопотливо кудахтали куры, и петухи звонко оглашали окрестность торжественным своим пением.
Странное это время, читатель! Все обновляется, все готовится к жизни, а между тем какая-то тихая печаль непрестанно и томительно преследует вас. В ушах — звон, {434} нервы как-то расшатаны и болезненно чутки, сердце сжимается тоскливо… Как будто кто-то неведомый зовет вас. Вы не усидите в комнате, куда так тепло и так приветливо заглядывает мартовское солнце, вам скучно, вас тянет оттуда. Но в поле, лицом к лицу с воскресающей природой, вас обнимает грусть. Мягкие тоны, облекающие поле, мечтательное журчание ручейков, даль — голубая и влажная, ясное солнце, светящее тихо и задумчиво; теплый и талый весенний воздух, сладко стесняющий дыхание, — все это щемит ваше сердце и переполняет вашу грудь какою-то мучительною негой. Вам иногда кажется, что кто-то умирает вокруг вас кроткою и безмолвной смертью. Вы как будто расстаетесь с чем-то близким и родным, и бесконечная жалость проникает все ваше существо… И голубая даль неотступно манит вас к себе. Вам хочется суеты, шума, движения… Вам мерещится толпа, жизнь… А вокруг та же мертвая тишина, то же солнце, ясное и ласковое, тот же раздражающий воздух.
Так вот, когда солнце светило уже особенно ярко и тепло и особенно грустно мне было на моем хуторке, вокруг которого звенели многочисленные ручейки и гибкие ракиты колебались тихо и размеренно, я проехал в березовскую школу. В ней шли занятия. Насквозь пронизанная кроткими солнечными лучами, она была переполнена ребятами. Мне, вошедшему туда прямо с поля, где мертвое безмолвие и глубокая тишина прерывались лишь слабым лепетом ручьев, сбегавших в ложбины, показалось там шумно и весело. Но в шуме замечалась стройность. Самая школа не походила на обычные патентованные школы. Все в ней было первобытно. Парты и скамейки отсутствовали; стены не украшались картинами из священной истории, в углу не воздвигалась неизбежная черная доска, исполосованная мелом. Книжек у ребят не было. Письменных принадлежностей тоже не замечалось у них. Толпились они беспорядочно и без всякого страха. Иные из них сидели на полу; иные занимали лавки или стояли; некоторые же забрались на печку и бойко выглядывали оттуда живыми и смышлеными глазенками. Все наперебой возглашали названия букв. (Как и всё в школе, метод был первобытный: ребята хором кричали: Глаголь! Мыслете! Твердо!). Посреди толпы стояла женщина, маленькая, худая, с тонкими угловатыми плечами и впалой грудью. Это {435} и была офицерша. Вся в лучах яркого солнца, она как бы сияла. Блаженная улыбка лежала у ней на губах. Огромные глаза смотрели восторженно. Слабый голосок нервно напрягался и дрожал, переполненный чувством радости и веселого, чисто детского торжества. Поза — простая и важная (она высоко поднимала руку с картонной буквой), светлые волосы, беспорядочными прядями свесившиеся на лоб, темный румянец, проступавший на худом и некрасивом лице, скромный серенький костюм, ниспадавший свободными складками вокруг ее хрупкого тела, — все в ней было привлекательно. Она неудержимо влекла к себе. Бесконечная доброта, выступавшая в ее взгляде, умиляла.
Она не обратила на меня внимания до тех пор, пока кончились занятия. Тогда мы познакомились. Вся она, казалось, была переполнена счастьем. Ребята привыкли к ней и понимали быстро. Скоро вся эта толпа будет читать, будет вносить свет в гнилые избушки, полные мрака и смрада. Душа офицерши, чистая и ясная как хрусталь, не поддавалась никаким опасениям. Глаза смотрели вперед смело и наивно.
Мы говорили с ней долго и открыто. Да иначе и нельзя было: она не понимала фальши. Надо было видеть, как изумленно открывались ее глаза и какое недоумение изображалось на лице ее, когда она убеждалась, что ей намеренно говорят неправду. И это даже тогда, если неправда преподносилась в виде шутки. Свои мечты, свои поступки, мысли и намерения свои — ничего она не скрывала. Все с полнейшей искренностью сообщила она мне, лишь только увидала, что школа меня интересует и что мне не чужды интересы "высшего порядка" (как несколько книжно выразилась).
Она много натерпелась горя. Жизнь недаром наложила на нее какой-то страдальческий отпечаток, резко выступавший, чуть только она переставала говорить о школе и о теперешней своей деятельности. Тогда блаженная улыбка сбегала с ее губ, и они принимали то выражение скорби, которое столь свойственно русским крестьянкам; глаза померкали, румянец уступал место болезненной бледности, вся она как-то сжималась и делалась жалкой и беспомощной.
Во время разговора нашего такая перемена совершилась с ней, когда она отрывочно и неполно сообщила {436} мне свою биографию. Вот эта биография. Училась она в институте, но курса там не кончила. Затем попала в родительский дом, где чахлая мать, тонная и нервозная, и здоровяк-отец, плут и пройдоха, довершили ее образование. Мать внедряла романтическую сладость и в сотый раз заставляла ее читать «Амалат-Бека», отец убеждал сколачивать копейку и ловить жениха с капиталом. Капиталист не явился, но в деревню пришла рота. Молодой офицерик, с легким сердцем проскользнувши по растрепанным книжкам журналов, преподнес девушке, обезумевшей от лжи и тупости родительской, самовернейший рецепт от всевозможных бедствий. В заключение увлек ее… Отец проклял «негодницу», мать умерла от огорчения, соседи прозвали ее офицершей. Мало-помалу она привыкла к этой кличке. И она была счастлива: завеса открывалась перед нею. Свет бил в глаза. Бесконечные перспективы любви, добра, свободы неудержимо влекли к себе.
Это продолжалось недолго. Денщики растаскали хорошие книжки на «цыгарки», и вместо блистательных перспектив для девушки наступили бесконечные переезды. Из Тамбова полк переходил в Белев, из Белева в Муром, из Мурома в Елец, и повсюду попойки, карты, мелкие волокитства, вечные разговоры о производстве, о порционах, о шагистике… Тоска заедала ее пуще и пуще. Она училась в винт — и бросила. Пробовала пить — и не могла. К счастью, она родила, и ее покинули. Ребенок у ней умер. Измученная, изломанная, разбитая и больная, она возвратилась к отцу.
Отец в то время успел уже спустить на каких-то предприятиях именьице свое и теперь, наученный опытом, обнаглевший и дерзкий, держал трактир. Хриплый орган играл в нем арии из «Травиаты» и привлекал публику. Трактир торговал бойко. С утра до ночи слышались в нем нестройные речи, пьяный бабий визг, дребезг посуды и проворное шмыгание половых. Запах сивухи и пара, овчинных тулупов и сырости, каплями сочившейся с потолка, отравлял воздух.
Здесь-то поселилась офицерша. Отец указал ей место за буфетом. И насмотрелась она, налюбовалась за этим буфетом! Пьянство, невежество, разврат, буйство — все прошло перед ней отвратительной вереницей. И, боже, как горело ее сердце… Отрезвить, научить, просветить {437} хотелось ей всех этих «несчастных» (так она выразилась); но она была слабая, больная, подневольная. Что она делала? — Она ночи напролет плакала и мечтала.
И, в конце концов, во что бы то ни стало, решила быть учительницей.
Долго это решение таила она про себя. А когда сообщила о нем отцу, он обозвал ее дурой. Но тут подвернулись березовские мужики, и она совершенно внезапно очутилась учительницей.
Познаний у ней было очень мало. Все институтское давно испарилось. Никакого понятия о педагогике она не имела, о звуковом методе слышала смутно, книжек Корфа и Ушинского не видала никогда… Но все ее существо было переполнено страстным желанием: водворять грамоту в селах. В грамоте она чаяла спасение. Этого было довольно.
— Какой же метод у вас? — спросил я.
Она не понимала, что такое «метод». И когда я объяснил ей засмеялась.
— А вы видели? Нарезала я кружочки из картонок и на них нарисовала буквы. Вот показываю я эти буквы и говорю: это — мыслете! Они уж и знают. Покажу все, назову, а затем и спрашиваю — ну, отвечают. Это я сама выдумала, — наивно прибавила она и с некоторой гордостью посмотрела на меня, но тотчас же сконфуженно поникла головою и продолжала, как бы оправдываясь: — Я долго думала, и думала сначала по азбукам… Но ведь это ужасно много нужно денег и неудобно же… И вот теперь отлично. О, какие смышленые эти ребята!.. И вы не поверите, как они быстро понимают… Есть уже такие, что знают склады, а ведь это ужасно удивительно…
Я ей сообщил о звуковом методе. Она сначала было задумалась, но немного спустя в смущении сказала:
— Нет уж, знаете ли, я по-своему. Я ведь ужасно глупая — я ничего не пойму! Мне нужно долбить, долбить… А теперь я уж привыкла, и мне очень будет трудно, ежели отвыкать. И вы не подумайте — право же, они отлично понимают… О, это такие умные!.. А вот вы чему научите меня, где бы мне найти такую книжку, чтобы все, все в ней было означено: как учить, как говорить, как что… Право же, я ничего не знаю. И опять вот о чем: где бы купить таких книжек, чтобы они были умные, умные и {438} чтобы очень дешевые?.. Я это для них. Я вот о чем думаю: ну, выучу я их, а что ж они читать-то будут?.. И так придумала, что непременно нужно найти книжки… Но самые, самые дешевые! Я тут недавно купила… — Она быстро вскочила и, порывшись в сундучке, подала мне тоненькую желтую книжку. — Вот видите, "Как нужно жить, чтобы добро нажить". Это очень дешево. Но знаете ли, штука какая… — Она застенчиво потупила глаза и произнесла нерешительно: Нехорошо в ней что-то, не правда… Может, я и не понимаю, но право же странная она какая-то, эта книжка!.. Барин тут… и опять научается, чтоб крестьянин особняк бы заводил… Я не знаю, но право же, мне кажется, это не правда… Вот только дешева она и славная такая, чистая… — Она пристально посмотрела на меня, помолчала и затем, совсем опечаленная, добавила: — Где же я возьму этих книжек?
Я посоветовал ей, что мог. Тогда, успокоенная, она снова пустилась в рассказы о своих учениках. Особенно восхищал ее десятилетний сынишка Василия Мироныча. По ее словам, он обладал изумительными способностями. Он уже читал и начинал писать. Были и еще такие. Были такие, что понимали грамоту как-то сказочно скоро и относились к этой грамоте с серьезнейшим и полнейшим благоговением. При этом она указала на девушку, постоянно жившую с ней, — строгую и задумчивую красавицу Алену.
И когда офицерша говорила о преуспеянии учеников своих, лицо ее как бы просветлялось, и его некрасивые черты получали особую привлекательность.
Я пробыл у ней до вечера. Мы пили чай, ели теплый черный хлеб, посыпанный крупной солью, и уху из свежих окуней. А когда смерклось, она предложила мне посидеть на крылечке.
На дворе едва морозило, — было тепло и тихо. Серые тучи заволокли небо. С юга тянул влажный и ласковый ветер. Ручейки однообразно булькали, нарушая тишину шорохом и звоном. Грязные проталины у крыльца медленно застывали. Лужи подергивались тоненькой пленкой. Серое поле уходило вдаль, пустынное и печальное. На западе, тускло проникая сквозь тучи, желтела заря. И поле, и деревню, и крылечко наше озаряла она умирающим светом, странно и задумчиво. Где-то в конце поселка блеяли овцы {439} и пронзительный бабий голос раздавался явственно и протяжно:
— Ари-и-шка-а-а!..
И затем переходил в быструю скороговорку:
— Аришка, пес тебя закарябай, неси ведро!
Офицерша, плотно завернувшись в поношенную шубку с беличьей опушкой, уже наполовину повытертой, сидела на низенькой скамеечке и, не сводя глаз с потухающей зари, говорила возбужденно и радостно. Чувство какой-то светлой и славной бодрости, казалось, набегало на нее непрерывными волнами и как будто подмывало ее, как будто уносило куда-то… Иногда обращалась она в упор ветру и глубоко вдыхала воздух, мягкий и влажный… Счастливая улыбка почти не сходила с ее губ.
На перилах крылечка сидела Алена. Она тоже смотрела в сторону зари. Но брови ее обычно были сдвинуты, и темные глаза глядели сумрачно и строго. Она чутко прислушивалась к словам офицерши. Иногда какое-либо незнакомое выражение вызывало недовольство на ее лице, и брови ее хмурились еще пуще, но через мгновение она снова походила на изваяние и сидела неподвижная, решительная, внимательная. Ее грубые руки, сложенные крест-накрест, лежали на коленях. На указательном пальце правой чернело чугунное колечко от св. Митрофания.
— И как это не поймут люди, и как это люди не обсудят, что народ — его непременно надо учить!. - говорила офицерша. — Вот вы научите его, посмотрите на него… Я все видела, я к нему так приглядывалась… И право же все, все от невежества!.. Дайте-ка ему книжку в руки!.. И стала я еще думать, стала я припоминать: ну хорошо, ну с благородными я жила… Что же, лучше они? Они ведь, вы думаете, лучше, благородные-то люди?.. Ах рассказать бы вам, какие они!.. — Она на мгновение было затуманилась, причем характерная страдальческая черточка появилась около ее губ, но затем тряхнула головою и с прежней бодростью в тоне продолжала: — Ну, бог с ними!.. А я вот лучше расскажу о пьяных, о грязных, о таких, которые вот вроде диких бывают, и вместо всего-то этого все ж таки лучше благородных…
Тут она всплеснула руками и с увлечением воскликнула: {440}
— О господи, да где же бы мне быть-то, если бы не они, не мужики-то крестьянские!.. Ведь я бы в могиле давно лежала… Ведь я бы на свет-то божий не глядела… Только и было офицерше веку, что засыпали бы землею… Вот я расскажу вам, какие они.
Она глубоко вздохнула, прислушалась на мгновение к ручьям, мерно и слабо звеневшим, и, усмехнувшись счастливо, начала:
— Горе-то мое я вам все рассказала. А вот чего не рассказала. Рота наша в деревушке стояла, в Пензенской губернии. Ну, как пришло мне время родить — бросили меня. И совсем, совсем я одна осталась. Ни денег у меня, ни вещей, сама я больная, слабая… О, как было тяжело и как грустно!.. Ну и что же, пропасть мне по-настоящему-то, — ничего-то я не знала, ничего не умела: лежала да плакала… И думала еще, много думала. Я так думала, что почему это благородные люди — и такие злые они, и чем я против них провинилась. Если бы я виноватая была, ну — так, пускай бы… Но вместо того я совсем невинная. И опять я думала о книжках: как это, думала, там показано насчет любви — без стеснения, и где же счастье?.. И много плакала. И так пришло мне время родить. А на поселке не знали про меня, что я брошенная; думали, что воротится муж-то, возьмет меня… И я скрывалась стыдно мне было… Ну, только пришло такое время: не могла я скрываться; думаю, все равно — пропащая я… И сказалась. Так что ж бы вы думали — я от матери родной ласки такой не видала!.. И ни минуты, ни секунды не была я одна: видят-тяжело мне, и ходят. То одна бабеночка прибежит, то другая… И какие умные, — ведь не станут о горе об моем говорить; ведь понимают, что пуще у меня с того сердце разрывается, — а так, между собой болтают: ругань заведут, споры, песни, играют… Мне и хорошо и покойно с ними. А одна старушка была — что же это за любовь, что же это за нежность такая! Вся-то она сморщенная да маленькая, а сердце у ней золотое было… И вообразите, сижу я без денег и нет у меня никаких средств, а кормят меня, носят мне бабы всего съедобного!.. Та пироги пекла — пирог несет; другая лапши или цыпленка, третья блинцы тащит… И все это с радостью, с лаской… И было мне очень сытно. Ну, ребеночка, пожалуй, и они у меня уморили… Бабка-то простая, грубая, мучила {441} она меня, мучила, не знаю, как не смотала всю… А как родилось дитя, и пошли они с ним мудрить. Оно хворое принялись лечить его. В печку сажали, водой ледяной обливали… Я же лежала без памяти и ничего не видала. Ну, прошло время, оправилась я порядочно и начинаю думать. Думаю, как же мне ехать теперь, куда же деться мне?.. — Она помолчала и немного спустя с торжествующим видом обвела меня взглядом. — И все мне справили!.. Наладили мужичка со мной, миром повозку выправили, лошадок, набрали пищи всякой и проводили… Сколько забот было! Сколько ласки всякой! Ноги мне накрывали, зацеловали всю… Мужичку наказы делали: беречь, не вывалить, покоить… Вот они какие!
Она остановилась и перевела дыхание.
Заря погасала. Поле облекалось сумраком. В избах появлялись огоньки.
— Хороши тоже! — вдруг неожиданно и сурово произнесла Алена.
— Милая ты моя, — живо возразила офицерша, — да разве же я не знаю? Я ведь все знаю, голубка. Я про одно говорю: сердце-то они у меня растворили. Вот про что! А уж как они темны да несчастны, я и сказать-то того не сумею… Я ли на них не нагляделась! Бывало, сижу, сижу за буфетом-то и все примечаю, все думаю об них. И много я тут плохого увидала. А чего нет хуже — дружества нет у них. Друг-то против друга подкопы да подвохи, и всякий-то норовит обморочить другого!.. И вот торговля эта у них развелась: всякому бы нажиться да вылезть в купцы; и об одном думает, нельзя ли брату своему на шею сесть… Ах, ужасно все это!.. И опять вино и драка… Все, все я видела!.. Но только я так думаю, все это от невежества от ихнего. Душа-то ведь, ах, какая золотая у них!
Наступила пауза.
— И еще я вот что думала, — продолжала офицерша, — одна нам дорога, благородным-то людям, — народ учить. Я ведь пожила. И я много видела. И вы не думайте, что счастливы благородные-то люди: пусть у них и деньги и все, но только все ж таки они несчастные. Пустота у них, вот что. Таскается-таскается благородный человек, живет-живет и вдруг видит страшная-то скука в жизни. И некуда ему деваться. Я по себе сужу. Ах, что {442} же это я за несчастная была!.. И все-то, бывало, о себе думаешь, и как одеться, и что сказать, и все… И выходило страсть как скучно!.. Иной раз думаешь-думаешь так-то: господи, да неужто так и жить!.. И живешь. Вот зверей я видела в клетке, так-то маются… Ходит-ходит, сердечный, по клетке и думается ему, милому, — дело он делает, а вместо того только одна неволя… Нехорошо так.
Она грустно опустила голову и задумалась.
Вдруг в конце деревни послышался детский плач, и раскатистая женская ругань явственно раздалась в неподвижном воздухе. Офицерша встрепенулась. — Что это! — воскликнула она тоскливо, и все лицо ее изобразило мучительную тревогу.
Алена встала и чутко прислушалась.
— Ах ты, такой-сякой! — кричала баба. — Я тебя, родимца, куда спосылала, а?.. Я тебя к тетке, дьяволеныш, а ты замест того… на!.. на!.. на!..
И здоровые шлепки звучно оглашали воздух. Мальчик плакал жалобно и бессильно.
— Мосевна Митрошку колотит, — равнодушно произнесла Алена и снова уселась на перила.
Мы помолчали несколько минут. Офицерша нервно кусала губы. Наконец в воздухе снова воцарилась тишина. Где-то вдали глухо и прерывисто залаяли собаки.
— Нет, это прямо нечестно! — горячо и взволнованно заговорила офицерша. — Нечестно видеть кругом, что люди слепые какие-то… Видеть, что они бьют детей и сами дерутся и опиваются… и знать, что есть спасение, есть свет… и сидеть сложа руки… Никогда, никогда! О, неужели же бывает какое-нибудь дело важней этого! Ни за что не бывает… Ну как же это не счастье — слепцам глаза открыть, исцелить их… Вы думаете, Мосевна плохая баба? Нет, она — хорошая баба!.. А за что же она бьет Митрошку? Темная она, слепая она, неразумная… Ну-ка, научите ее грамоте… Только научите!.. И не будет она больше, бить Митрошку. И Митрошка своих детей не будет бить… Ах, как это не поймут, ведь это так просто, так…
Я не возражал офицерше. Мне казалось нехорошим колебать эту фанатическую веру. И притом так было ясно, что вера эта есть вместе с тем и единственное спасение самой офицерши — все ее мечты, все ее идеалы покоились {443} на ней. И она с такой трогательной страстностью относилась к этим идеалам и так беззаветно отдавалась фантастическим грезам своим, что было больно. Чувствовалось, что опора у ней хрупкая… А между тем мне было легко и хорошо с ней. Обаяние какой-то девственной чистоты и высокой нравственной силы сказывалось невольно.
Было поздно, когда мы разошлись. Притом у офицерши разболелись зубы.
— Ах, постоянная это моя болезнь! — со вздохом сказала она, когда мы вошли в комнату, и, показывая мне пузырек с морфием, улыбаясь, добавила: Вот чем спасаюсь — знакомый фельдшер удружил… Ведь вы знаете, это — яд, и очень сильный… Глотнуть и — брр… — Она шутливо сморщилась, сделала гадливую гримасу и начала осторожно наливать морфий на вату.
Мы простились.
С тех пор мне не довелось ее видеть. Немного спустя после нашего первого знакомства я уехал и воротился в степи только к уборке. Об ней же слышал, что она учит по-прежнему хорошо и старательно и даже летом не бросала занятий, обучая тех ребят, которым можно было увернуться от страды; но вместе с тем говорили про нее, что она невесела и смотрит больною. Я все собирался завернуть к ней, как вдруг неожиданно подвернулось это странное сообщение Василия Мироныча.
Утром я отправился в Березовку. День был тихий и ясный. Золотистое солнце переполняло сверканием прозрачный воздух и ярко озаряло дали косыми лучами своими. Гладкая, плотно убитая дорога блестела, как покрытая лаком. Кругом расходились жнива, и веселые озими убегали вдаль волнистою полосою. В высоком небе протяжно перекликались журавли. Серебристая паутина тянулась бесконечными нитями, плавно и медлительно. Было сухо и прохладно. Лошадка моя бежала бодрою рысцою, звонко ударяя копытами о твердую землю. Колеса дрожек однообразно и мерно трещали.
Славное время этот погожий сентябрь! Дышится так вольно, и так умиротворяются нервы глубокой тишиной безжизненного поля. Но когда я подъезжал к Березовке, {444} у меня вдруг жутко и тревожно защемило сердце. Неясный шум добежал до моего слуха, и в этом шуме мне почудились причитания. Я погнал лошадь.
У школы толпился народ. Мужики стояли без шапок, недвижимо и строго, бабы плакали, дети растерянно сновали взад и вперед и собирались кучками. Я бросил лошадь какому-то предупредительному мужику и подбежал к толпе.
— Что случилось?
Никто не ответил. Головы еще более понурились, и серьезное выражение лиц усугубилось. В глубоком молчании дали мне дорогу, и я вошел в школу.
Несколько баб сидели в первой комнате и шепотом разговаривали, печально покачивая головами и беспрестанно утирая слезы концами платков. Когда я вошел, одна из них поднялась и, пригорюнившись, подошла ко мне.
— Там, батюшка… — сказала она и указала на перегородку.
Я вошел туда. На низкой железной кроватке, покрытой белым, недвижимо лежала офицерша. Она была мертвая. Бледное лицо ее еще более похудело теперь, щеки ввалились, и под закрытыми глазами стояла синева. Та страдальческая черточка, которую довелось мне некогда приметить в ней, выступила теперь резко и явственно. Все лицо изображало мучительную скорбь и как бы застыло в момент сильнейшей боли. И несмотря на солнце, обильно проникавшее в комнатку и золотистым светом своим затоплявшее кроватку офицерши, с лица этого не сходили угрюмые тени. Сама она, хрупкая и маленькая, с руками, судорожно стиснутыми на груди, и в неизменном своем сереньком капоте, казалась спящею. И только каменная неподвижность ее тела говорила о смерти.
Я оглянул комнату. Трогательная скромность и умилительная простота царили в ней. Маленький комодик, покрытый белоснежною скатертью, два-три табурета, несколько фотографий в простеньких рамках, крошечное зеркальце, обвитое искусственными цветами, темная икона святой девы в углу составляли обстановку. На комоде валялась «Методика» Евтушевского и белелся большой {445} пакет с неясным адресом. Тут же лежал пузырек, на дне которого густо желтела какая-то жидкость.
Недалеко от кроватки, недвижимая подобно статуе, сидела Алена. Бледная и печальная, она в каком-то тоскливом отчаянии сжала руки и так и замерла в этой позе, не спуская глаз с офицерши. Когда я подошел к ней, она безучастно взглянула на меня и отвернулась.
— Алена, — сказал я, — Алена…
Она ничего не ответила. В это время, проворно шмыгая ногами, к ней подбежала какая-то старушка и, низко наклонившись над нею, быстро и прерывисто зашептала:
— Аленка-а? Что ты, матушка… Господь с тобою!.. Очнись… Ишь, барин тебя кличет… Очнись, лебедка…
Я попросил оставить ее в покое и вышел в другую комнату. Бабы все так же шептались и тихо всхлипывали.
— Что с ней? — спросил я.
— И ума не приложим, — заговорили они вперебой, впрочем не возвышая голоса и не переставая всхлипывать. — Надо быть, согрешила сердешная извелась, руки на себя наложила… "Ноет у меня сердце, бабочки, — говорит, бывало, — вот как ноет — изорваться хочет… Вся бы я исплакалась, вся бы я слезами изошла…" Были такие — слушали этакие речи. — Ну, а тут как нашло на нее — ничего уж не гуторила… Лежит, бывало, есть не ест, пить не пьет… — И такая она стала вроде как закаменелая… — Тут и речей от ней не слыхали никаких… — Аленку на что любила — словечка с ней не проронила, окромя «Аленушка» да «голубушка»…
В комнату, осторожно ступая кончиками громадных сапог своих, вошел староста. Он то и дело поправлял свою медаль, ярко блестевшую у борта кафтана, и озабоченно хмурился. Мы поздоровались. Он зашел за перегородку, внимательно посмотрел на труп и, возвратившись оттуда, погрозил бабам.
— Вы смотрите у меня, — сказал он, — чтоб все на своем месте было! И, сокрушительно вздыхая, сел около меня.
— Вот беда-то, Миколай Василич!
— Что же делать!.. Видно, на роду было ей написано, — попытался я его утешить.
— Об ней-то уж что! — возразил староста. — Известно уж, господь с ней: такой ей, видно, предел… попущение бо-{446}жие!.. А ты вот погляди, как самим-то выпутаться… Первое дело, суд теперь наедет… Ну, это еще туда-сюда, это не то что смертоубивство какое — человек в своей смерти волен. А вот школу-то, сказывают, мы не по закону держали!.. Ишь, говорят, не было у ней таких правов, чтоб ребят обучать, и опять без начальства… Вот тут и подумай!.. — Он почесал в затылке и снова вздохнул глубоко.
— Василий Мироныч где? — спросил я.
— К становому поехал. Уж упросили. У него дружба с становым-то, авось как-никак застоит…
В это время за перегородкой раздался вопль. Сначала странный и слабый, он протянулся долгим и каким-то болящим звуком и затем перешел в горькие и порывистые рыдания. Я бросился за перегородку. У постели, наклонившись над трупом, билась и трепетала Алена. Плечи ее судорожно вздрагивали, темные волосы беспорядочно распустились и покрыли изможденное лицо офицерши, руки крепко сжимали ее худенькое оцепеневшее тело.
У двери столпились бабы. Староста подошел было к Алене и попытался отвести ее от трупа, но затем махнул рукою и, как бы мимоходом смахнув слезы, выступившие на глаза, вышел на двор. Бабы всхлипывали все громче и громче. Некоторые из них тихо причитали. Рыданья Алены становились глуше и протяжнее, в них начали прорываться слова, и бессвязные восклицания понемногу переходили в страстный и невыразимо тоскливый монолог.
— И что же ты наделала?.. На кого же ты покинула меня?.. — причитала она. — Печальница моя… радельница моя… победная ты моя головушка!.. Я ли тебе не угождала… Я ли тебя не любила…
Сил моих не было терпеть более… Спазмы сжали мое горло и душили меня. Сердце болело сосущею болью. Я быстро вышел из школы. Тонкий и ноющий звук колокольчика послышался вдалеке. Вероятно, это спешил становой. Солнце по-прежнему сияло, и торжественно опрокинутое небо синело кротко и ласково.
Спустя несколько дней я получил приглашение от следователя "пожаловать к нему по делу". В некотором недоумении явился я в его камеру. Следователь оказался очень любезный человек в черепаховом pince-nez, {447} с брюшком, выхоленный и подвижной. Он подал мне распечатанный пакет.
— Что это? — спросил я.
— А это согласно воле березовской учительницы… Извините, что распечатано: так было нужно… И к слову добавлю — прелюбопытная вещь: вот психоз-то изумительный!.. Это письмо чрезвычайно облегчило мне следствие. Скажите, пожалуйста, вы с ней хорошо были знакомы?
— Это допрос?
— О, помилуйте! Следствие уже закончено; я уже разрешил и похоронить, как просила покойница, на кургане. Где-то там курган у вас есть Дозорный, так на нем. Препятствий к тому не оказалось.
— Что же выяснилось из следствия?
— А констатировано отравление морфием. Самоубийство, конечно… Впрочем, позвольте, я прочту вам показание Елены Остаховой.
Он вынул из портфеля "Дело № 327" и, быстро перевернув несколько страниц, начал:
"Зовут меня Елена…" — ну, это неважно, — "лет осьмнадцать… вероисповедания православного…" — а к слову сказать, удивительно красивая и характерная девка, — заметил он, с приятностью улыбаясь; но тотчас же, изобразив в лице своем серьезную сосредоточенность, воскликнул: — Вот! — и начал читать: "Дюже тосковала и, почитай, не говорила… (Он сделал ударение на «дюже» и «почитай» и в скобках произнес: "Я всегда заношу подобные слова; это, знаете ли, придает колорит…")…почитай, не говорила. Лежала больше. Раз встала ночью, села писать. Обучать совсем кинула. Попрекали ей. Ходили мужики и бабы и попрекали. Говорили: ты деньги берешь, а учить не учишь. Она все молчала и вдруг говорит: "Я не хочу ваших денег". И все говорила о какой-то кабале. Потом опять молчала. Потом позвала меня и говорит: "Болят у меня зубы". И говорила тут ласково. Наказывала, как жить: чтобы хорошо, честно. И потом сказала: "Не спится мне, сем-ка я выпью лекарства". Потом взяла зубное лекарство — выпила. Я смотрю как оглашенная… Как же, говорю, ты пьешь, нуу-кось умрешь с того? «Пускай», говорит. И тут я испугалась. А она взяла меня за руки и говорит: "Не бойся, я, мол, в шутку тебе сказала, что умрешь от того лекарства, оно сонное", и опять на-{448}казывала мне, как жить. Плакала. И потом сказала: "Кружится моя голова". И опять плакала и говорила. Ну, тут стало ее тошнить и ослабла. Я говорю: "Ляжь, говорю, засни". Она легла… Вот и все. Больше я ничего не знаю".
Следователь остановился и ласково поглядел на меня.
— Ну-с, по анатомировании оказалось отравление морфием, — сказал он и затем с живостью продолжал: — И что курьезней, — представьте себе, никто и не знал, что в Березовке существует школа! То есть, оно, если хотите, и знали, становой даже слышал, — но по русской простоте не обращали внимания… Удивительное дело, до чего распущен русский человек! Что ты ни делай, чужды ему принципы законности, да и шабаш! Я уж говорю: "Господа, да вообразите вместо невинной-то этой офицерши другого рода какая-нибудь… Ведь невозможно же так!.." И это полиция наша, блюстители, столпы!.. Ах, Азия, Азия!..
Я напился чаю у любезного следователя и к вечеру возвратился домой.
Погода переменилась. Дождя хотя и не было, но ясное небо заволокли тучи, и длинные осенние сумерки скучно и тоскливо повисли над полями. Крепкий ветер пронзительно завывал, предвещая дождливую погоду, и щетинил соломенные крыши хуторских построек. Ракиты на плотине печально шумели, беспомощно простирая ветви свои, с которых уже начинала опадать листва. Пруд синел и плескался, ударяя мелкими волнами в голые берега, и колебал камыш, наполнявший воздух однообразным шорохом. Было глухо и неприютно.
Я вошел в комнату и остановился. В сером полумраке четко и ясно качался маятник, и сверчок тянул назойливую свою песню. Окна глядели подобно глазам чудовищ — взглядом пристальным и тяжелым. Я зажег свечу и развернул пакет. В нем лежало несколько листиков, исписанных нетвердым, детским почерком, и письмо офицерши. Впрочем, и последнее писала слабая рука. Косые и неясные строчки робко жались в нем друг к другу, непрерывно нарушая орфографию, бессовестно минуя точки и запятые и изобилуя кляксами. Кое-где среди них расплывались желтоватые пятна, следы влаги. Серая бумага была смята и не отличалась чистотою.
Вот это письмо: {449}
"…Вот уж пишу-то вам не знаю зачем! И не знаю, что толкает меня: все равно ведь — дело покончено. Но все-таки не удержусь. Хочется мне писать. Хочется сделать так, чтоб знали бы и видели и чтоб понимали, почему люди могут умирать. Вот в чем дело: пусть вы не подумаете, что я совсем глупая. И не вы одни, а все вы — люди. А я умираю не от глупости, но прямо вот незачем мне жить. И я, ах, как долго думала. Все-то мне казалось, не болезнь ли во мне какая, вроде того, например, как меланхолия бывает. И я со всех сторон глядела… Но, вместо того, все-таки приходится умирать. Ах, не подумайте вы, чтоб я от тоски от своей, оттого, что счастья мне нет и ни в чем удачи… О, совсем, совсем не то! Я ведь оторвалась от своих-то мечтаний и о себе почти не думала. Я только думала: что мне делать? И вот теперь такое пришло время, что нужно умирать.
Сил во мне нет, вот что. Я как ослабла теперь, так и думаю: хорошо в могилке лежать. Ни о чем-то никаких дум, и ничего-то у тебя не болит! И вот вам моя просьба: пусть бог меня судит, но только не могу я… А поп таких не хоронит. Пусть же меня зароют на Дозорном кургане. Любила я его. А почему любила — рассказать? — Теперь все равно, расскажу вам. С него далеко видно. И есть пахучая такая травка чабор — много ее там. А на самой вышине конский щавель растет, высокий такой, тонкий и прямой как стрела. И как ушла я с моим офицером, проходили мы полком на Воронеж. Я люблю пригорки. Я взбежала на курган и села, и он на коне взъехал, пустил коня и сел. А полк как туча какая развернулся и далеко ушел; я помню: солнце было, и штыки как свечки сияли. И солдатики песню пели: Не одна-то во поле дороженька… А я сидела и плела венок, — желтые, помню, цветочки нарвала и васильки. И он положил мне голову на колени и говорил. Как насчет любви, насчет счастья… Много говорил. И как глянула я кругом: слезы, слезы у меня… Очень уж хорошо и далеко видно…"
Тут на письме расплывалось желтое пятно, а дальше следовало:
"…Господи, чтой-то я… И к чему это я завела! Смешно даже. А не забудете мою просьбу?.. Все равно ведь закопать, так пусть закопают на Дозорном. {450}
И делов мне никаких не нашлось. Вся-то я какая-то пустая, порожняя, и вынули из меня душу. А уж кому было ее вынуть, и не придумаю. Жизнь моя проклятая вынула. Но только я ни в чем не виновата…
Помните, как говорила я вам насчет грамоты и насчет того, что я счастлива? Ну, только счастью моему очень поспешный пришел конец и очень скорый. И я совсем теперь несчастная.
Вот не умею-то я… Но расскажу вам вот что. Стало мне заметно по деревням, что большое есть желание у мужичков ребят учить. И такое даже желание, что готовы на всякие жертвы. И я это замечала и была очень рада. Я так думала: прискучила им темнота. И думала, что хорошо это. И как стала учить сама — сделалась совсем довольная. Но только вместо того — я несчастная. И на несчастье-то на мое натолкнуло меня вот что. Приносит мне Василь-Миронычев сынишка листик и говорит: "Ну-ка прочти!" — и улыбается. А он уж твердо пишет. "Что это?" — "Бате расписку написал; Егоров Фомка ржи взял взаймы, так насчет ржи…" Прочла я… И что же вы думаете! И неустойка там, и штраф, и проценты… Ужас, что такое! "Да где ты научился?" — говорю ему. "Видел, говорит, расписки барские и насчет процентов видел…" И дает мне книгу. «Посмотри-кось», говорит. Смотрю я, и не верю. Все долги у него записаны, проценты отмечены — да какие проценты! — а в конце-то концов старательно переписан тариф до Москвы на свиней и муку. "Это что?", спрашиваю. "А свиней скупаем и это чтоб не прошибиться; а это по муке расчет, — батя было ошибся, а я по арифметике расчел, и вышло: две копейки на пуд сложить у мужиков, потому при покупке ежели передашь, барышу будет менее". И тут же еще подает листик. "Вот еще расчет, говорит, это ежели выгон снять у мужиков, да под просо ежели его, и сколько барыша. А вот про овец — ежели скупить по зиме, а к Егорию собрать. Это сало с них, это — овчины, а это, как у мужиков, подати, чтоб потрафить. Вот Фоме Егорову за первую половину платить 17 р., Лукьяну Гришину 23 руб… — это я у сборщика списал". — И стоит, знаете ли, он предо мною и весь-то от радости краснеет. Господи ты боже мой, думаю, да что же это такое?.. И вдруг на меня ужас напал. {451}
Отпустила я его и стала приглядываться. И все замечала. И стало мне заметно, что ежели грамотный, — он не иначе, как промышляет или находит должность. И вот еще что: кто понятливей, тот самый и есть опасный человек. А почему это так выходит, я не замечала. Только я вот что думала: ну, если я обучу и вместо того разведу кулаков. И если кулаки будут знать арифметику и всякие расчеты, то неужели это будет лучше?.. Ах, ведь это совсем, совсем будет хуже!
Но только вот еще что случилось. Был у нас мужик Агафон и умер. И что оставшее после него старики поделили по обычаю: как дочерям Агафона, так и сынам. Но вместо того Агафоновы дети остались недовольны и взяли адвоката. И, конечно, их разделили по закону. И вы знаете, какие крестьянские дети: что на миру делается, у них уже толки — все знают. Что же вы думаете, они? — еще больше стали стараться, чтобы понять, и прямо говорили: "Ноне старики не сильны; ноне всякий может себя отстоять и подвесть под закон. И это, я ведь знаю, с чьего голоса говорится — с голоса тех же самых стариков.
И вот еще что. Дети — они чистые. Но я вот что думаю: не одна темнота в деревне. Право же. Не только дружества нет, но всякий держит на уме, как бы подняться и лишиться крестьянства. И ежели он темный, и такое думает, и такое говорит, то ведь дети-то неужели глупые какие? И кроме того, прямо на глазах у них: тот беден, тот богат, и кто ежели торгует, тот получает барыши. И никого нет, чтоб идти за мир и послужить. А если выищется такой человек, и над ним смеются…
Вот я что замечала. Нет для детей занятней задачи решать. И если в задачах товар, да прибыль, да ежели фунты, и пуды, и цены — большой это им интерес. И опять рассказы… Как хороший в рассказе человек и добродетельный, и разное добро делает людям — и им скучно. Но напротив того — рассказ житейский, очень они это любят. Я раз про Николая-чудотворца говорила, и говорила, как он бедным девушкам помог. И как потом стала спрашивать, что же показалось им в рассказе, то прямо сказали насчет денег и насчет того, как без всякого ожидания девушки получили золото.
Я вот не умею описать, но я долго мучилась. И я не знаю — но только учить грамоте я не могу. И как же мне {452} их учить, когда вместо того такие у них помыслы (ежели вы не поверите — я листики Василь-Миронычева сына прилагаю), и ежели грамотному человеку один выходит простор — грабить. Потому что я это понимаю, ежели в мужике и вдруг оказывается кулак.
Вот мне и пришло на ум: сем-ка я перестану жить. Нельзя же мне жить и мучиться. Потому, чувствую я, — нет мне на этом свете дела. А уж по-прежнему, на себя жить, кормиться, я не могу, — сил моих нету. И стало мне тут казаться, как вот в пословице говорят: "Свет не клином сошелся…" — стало мне показываться, что совсем, совсем он клином сошелся, свет-то, и что как ни оглянешься, везде-то один холод… И что же я тут вспомнила. Вспомнила я — тетрадка у меня была, офицер мне подарил, и были в этой тетрадке стихи одни: Ах, усни, моя доля суровая! Крепко закроется крышка сосновая, плотно сырою землею придавится… Только одним человеком убавится… Убыль его никому не больна, память о нем никому не нужна…
Господи, что ж это я за дура за такая…
Ах, похороните меня на Дозорном!"
Тут письмо оканчивалось, и опять желтелось пятно, в котором безобразно расплылись последние буквы.
Наутро были похороны. Я не ходил. Я только видел, как небольшая толпа, в которой изобиловали дети, чернеясь на сереньком горизонте, медлительно прошла к кургану и как маленький гроб мерно колыхался на плечах несущих.
Но на другой день я проведал офицершу. Могилка ее возвышалась на самой вершине кургана, и оттуда действительно видно было далеко. День был серый и пасмурный. Бесконечные вереницы свинцовых туч низко ползли над пустынными полями. Вдалеке синел лес. Грязные села чернелись там и сям, и стройные колокольни воздвигались темными силуэтами.
Я сел на могилу. Рыхлая земля, медленно шурша, осыпалась подо мною. Перекати-поле взлетело на курган и, на мгновение зацепившись за насыпь, тихо и задумчиво покатилось далее. Жесткий северный ветер то буйно и дико завывал над моим ухом, то плакал жалобно и тонко. {453}
XVIII. Последние времена
Долго и настоятельно звал меня в гости один приятель мой. Хутор этого приятеля лежал вдалеке от железной дороги и вообще изображал собою самую вопиющую глушь, которая только возможна в Воронежской губернии. И это долго смущало меня. Я не мог вообразить себя без писем и газет, получаемых еженедельно, и, наконец, пятидесятиверстная дорога от ближайшей станции сама по себе была убийственна. Но пришел май, подошли некоторые обстоятельства угнетающего свойства, и непроходимая глушь стала манить меня к себе. Я написал приятелю послание, в котором просил выслать за мной лошадей, и, спустя неделю, тронулся в путь.
Станция, на которой приходилось слезать мне, стояла в лесу. Она уже давала предвкушение той тишины и того невозмутимого покоя, которые ожидали меня на захолустном хуторе моего приятеля: село от нее было не ближе доброго десятка верст. Все это я знал и потому, подъезжая к станции, даже ощутил некоторое замирание сердечное; я думал: прислали ли за мной лошадей?
Продребезжал колокольчик; вылезли вялые пассажиры и с скучающим видом обозрели окрестность; громко и отчетливо обругал машинист смазчика… Затем раздался еще звонок; пассажиры скрылись в вагоны; пронзительно прохрипел свисток кондуктора, и поезд загремел, медлительно скрываясь в лесу и вызывая в чаще задумчивых сосен протяжный отзвук… Я остался один на длинной платформе, опаленной солнцем. Сторож смотрел на меня с недоумением. Крошечный начальник станции обвел мою унылую {454} фигуру уничтожающим взглядом и величественно удалился. Пространство возле станции было пусто.
— Не было лошадей с Ерзаева хутора? — смиренно спросил я сторожа.
— Это с какого Ерзаева — за гаями?
— За гаями.
— Нет, не было. Вот с Лутовинова было, и от Халютиной барыни были лошади, а чтоб от Ерзаева — нет, не было.
— Да ведь я письмо писал…
Я вошел в контору и спросил: "Давно ли Ерзаеву письмо отослано?" Господин с неизбежным цветным околышем на фуражке стоял около окна и давил мух. Мой вопрос застал его на самом интересном месте: крупная муха неосмотрительно попалась под его палец и отчаянно жужжала и билась там, звеня по стеклу.
— Вам чего? — важно промолвил он, едва поворачивая голову.
Я повторил вопрос.
— Какому такому Ерзаеву?
— Александру Федорычу.
Он промолчал.
Я подошел к столу и сел. Господин искоса посмотрел на меня и разжал палец. Муха радостно расправила крылья.
— Мы не обязаны сберегать письма, — строго сказал он, — у нас есть свои занятия.
Я ничего не ответил. Это, должно быть, умиротворило его.
— А ежели мы соблюдаем, так единственно в свободное от занятий время, — добавил он, смягчая голос, и, подошед к шкафу, спросил: — Вам — Ерзаеву?
— Ему.
Он порылся несколько и подал мне собственное мое письмо.
— Разве не было оказии? — спросил я.
— Всего не упомнишь.
— Но если была оказия, вы должны были отослать! — воскликнул я.
Господин изобразил на лице своем крайнее изумление и обвел меня юмористическим взглядом. Затем решительно двинул стулом, надменно выпятил грудь и, развернув {455} громадную книгу, испещренную цифрами, яростно заскрипел в ней пером. Оставалось уходить.
— Но почему же вы не послали, когда была оказия? — повторил я в досаде.
На этот раз он не обратил на меня внимания. Когда же я уходил из конторы, суровый его голос с достоинством произнес:
— Мы не обязаны, ежели у нас занятия… И мы не почтальоны.
Я вышел на платформу. Сторож подметал пыль. Солнце пекло. Тишина стояла мертвая. Вокруг сторожа юрко суетился человечек в монашеском одеянии. Увидя меня, сторож приостановил свою работу и сказал с радостью:
— А ведь с Ерзаева-то были!
— Когда?
— Позавчера. Я и забыл!.. Должно, насчет почты были: малый спросил почту и уехал.
Я только руками развел.
— А лошадок у вас не добудешь здесь?
— Лошадок? Эка чего захотел! — И сторож снисходительно усмехнулся. — У нас ближе Лазовки не токмо лошадки — кобеля не добудешь.
— В Лазовке оченно возможно достать лошадок, — вмешался монашек. Говорил он часто и дробно. Я посмотрел на него. Ряска на нем местами блестела, как атлас, и на локтях была порвана. Кожаный пояс стягивал стан. За пазухой что-то торчало. Из-под засаленной скуфейки благообразно вылезали длинные волосы, смазанные маслом. Реденькая бородка окаймляла одутловатое лицо с бойкими, плутоватыми глазками. Движения были порывисты и беспокойны. Под моим взглядом он было смиренно опустил взоры, но тотчас же снова вскинул их на меня и сладостно улыбнулся.
— Оченно даже возможно добыть лошадок, — повторил он.
— Да ведь это далеко.
— Верст десять, — сказал сторож.
— А мы вот как сделаем, — заторопился монашек, — Мы как выйдем и сейчас же, со божией помощью, на пчельник…
— Какой пчельник? {456}
— Это точно, пчельник здесь есть — монастырский, — промолвил сторож.
— Монастырский пчельник, — повторил монах. — Мы как в него, с божией помощью, взыдем, и прямо в Лазовку служку нарядим. А вы уж, ваше степенство, приношение нам за это… — И, отвесив мне низкий поклон, он спешно и невнятно забормотал: — Во славу божию… на спасение души… труждаемся и воздыхаем: монастырь убогий, скудный…
— Вот, вот, — подтвердил сторож, покровительственным жестом указывая на монаха, — вот отец Юс и проводит вас. Он вас проводит до пчельника, а вы ему снисхождение сделайте. Отчего не сделать снисхождения!
— А до пчельника далеко?
— Верст…
Но монашек перебил сторожа.
— Версты две, ваше степенство, — быстро сказал он, — никак не более, как две версты.
Сторож только носом покрутил и как-то неловко моргнул одним глазом.
Я согласился. Отец Юс схватил мой саквояжик и проворно двинулся к вокзалу.
— Отец Юс! — остановил его сторож и, подозвав, пошептал ему что-то. Отец Юс в свою очередь отозвался страстным и убедительным шептанием… Но сторож не унялся и даже возвысил голос. — Мастера вы здесь облапошивать! сказал он. Тогда отец Юс с неудовольствием сжал губы и обратился ко мне:
— Ступайте, ступайте, ваше степенство, я догоню.
Я вошел в вокзал. Там было душно и пахло свежей краской. Через несколько минут вбежал мой проводник в сопровождении сторожа. Последний меланхолически улыбался и утирал рукавом губы. "Он вас проводит!" — сказал он мне, снова покровительственно указывая на отца Юса. А пазуха отца Юса была в некотором беспорядке, и лицо изъявляло недовольство. Мы пошли.
— Прощай, отец Юс, спасибо! — произнес сторож.
— Ладно, — ответствовал Юс и сухо поджал губы. Выходя из вокзала, я увидал огромное окно конторы, а за окном важный лик господина, по милости которого совершалось теперь мое пешее хождение. Под его жирным пальцем снова билась и беспомощно трепетала {457} бедная муха, а он, сосредоточенно оттопырив губы, осторожно давил ее и внимательно следил, как ее тонкие ножки бестолково скользили по стеклу.
Станция стояла на песчаной поляне, скучно желтевшей на солнце. Вокруг поляны со всех сторон толпился лес. Там высились мрачные сосны, здесь стройные березы белелись веселою дружиной… По преимуществу же преобладал дуб, и густой орешник превозмогал всюду.
Мы достигли просеки и пошли лесом. Но не прошло и четверти часа, как лес этот миновался и по обеим сторонам дороги потянулся мелкий кустарник, среди которого, там и сям, высились одинокие дубы. Тени не было и помину. А между тем был час пополудни и жара стояла несносная. Неподвижный воздух напоен был зноем. Небо висело над нами ясное и горячее. Идти было ужасно трудно: глубокий песок однообразно шуршал под нашими ногами и безжалостно палил подошвы. В лесу стояла тишина. Птицы как будто попрятались… Листья утратили свою свежесть и недвижимо висели, поблекшие и пыльные.
У отца Юса и походка оказалась подобна речи: частая и дробная. Он долго шел молча и, беспрестанно поправляя пазуху, казалось негодовал. Я тоже молчал и посматривал вдаль, куда бесконечной чередою убегала тяжкая дорога.
— Эка жара-то! — вырвалось, наконец, у меня.
Отец Юс встрепенулся. Он пристально посмотрел на небо и сделал вид, как будто оно неожиданно распростерлось над нами такое знойное и яркое; затем поглядел на свои ноги, обутые в толстые башмаки, и, наконец, с осторожностью произнес:
— Благодать господня… — но, заметив, вероятно, что в этих словах мало утешительного, добавил: — Вот, с божиею помощью, Кривой Обход придет: большой липняк!.. Древеса в обхват и усладительные ароматы.
— А далеко ли?
— Версты через две достигнем, ежели господь милосердый…
— Как через две! Да пчельник-то когда же?
Отец Юс смутился.
— Спаси господи и помилуй! — воскликнул он. — Значит обмолвился я вашему степенству: пчельник за Обходом… — И, не дожидаясь моих возражений, затянул груст-{458}ным тенором: "Очи мои излиясте воду, яко удалился от меня утешаяй мя, возвращаяй душу мою: погибоша сынове мои, яко возможе враг…"
Я же был печален. И отец Юс заметил это. Прекратив свой горестный кант, он вздохнул и произнес:
— Благо есть мужу, как ежели возьмет ярем в юности своей.
Я промолчал.
— Блажен убо стократ муж тот, потому прямо надо сказать: начало греха гордыня и держай ю изрыгнет скверну…
— Это вы насчет чего? — спросил я.
— А насчет того, ваше степенство, грехи повсеместно!.. — доложил Юс и, несколько мгновений подождав ответа, продолжал: — Повсеместный грех и прямо вроде как последние времена…
Я снова промолчал, но отец Юс, после краткой паузы, решительно приступил к разговору.
— Я, примерно, из мещан происхожу, — сказал он и, помедлив немного, добавил: — из торгующих. Сеяли мы бакчу, табаком торговали, шкурки скупали… Про город Усмань слыхали? Ну вот, мы из Усмани. Там по большей части такой народ — шибайный… Ну, и все мы, с божьей помощью, кормились. И по суете своей грешили… Грешили, ваше степенство! — Отец Юс меланхолически улыбнулся. — По домашности по своей наслаждались всякими напитками… Бабы в роскоши, примерно: карнолины, сетки… Вот он как, дух тьмы-то!.. Спаси и помилуй… — И, после некоторого молчания, продолжал: Но только возлюбил я пустыню с юности моей. Ежели, теперь, братья по селам поедут и заведут всякий торг, я об одном потрафляю: уйти мне на бакчу и там жить. И живу, бывало, не то что как, а целое лето. Ох, и времена же были радостные! — Отец Юс покачал головою и весь расплылся в тихом удовольствии. — Какие времена! — повторил он сладостным шепотом. — Въявь господь милосердый посылал свою милость. Бывало, сымешь у мужиков пустынь какую-нибудь, выгон ли там или степь, и прямо вырубаешь для меры шест. А в шесте четыре аршина… И ты даже оченно удобно выдаешь этот самый шест за сажень. И сколь много даровой земли этим шестом получишь, даже удивительно… А мужикам это не во вред, потому {459} у них много. Или придет теперь полка: девки полют, а расчета им нет… Тогда только производим расчет, как поспеет дыня. Дыней и производим… Огурец собирать — огурцом производим расчет. И так всякие работы. Или меды ломали. Прямо везешь с собою водку, и прямо пьют и не ведают, что творят… А тут уж не зеваешь, и ежели не возьмешь вдвое или втрое, то без всякого стеснения назовешься зевакой. Да одно ли это, мало что делывали… У баб, опять же, коноплю собирывали или же кожи и всякую рухлядь по деревням… Боже ты мой, какая простота и какой барыш!
И он впал в задумчивость, во время которой лицо его сделалось тусклым и печальным.
— Зачем же вы ушли в монахи? — спросил я.
— Возлюбил еси… — начал было он, но сердито крякнул и произнес: Последние времена!.. — а затем, с какой-то горячей поспешностью и с каким-то шипением в голосе, стал выбрасывать следующие слова: — Девки по два двугривенных!.. Выгона все пораспахали!.. Мужичишки измошенничались, обнищали!.. Бывало, кожу-то за рубль, а ноне четыре отдашь, а за нее и в городе больше четырех не дадут… А медоломное дело? Водку-то он пожрет, за товар же всячески норовит настоящую цену ободрать и пустить тебя по миру… Морозы пошли — бакчу хоть не сади!.. Везде купец пошел, капитал! Ты с умом, а он — с рублем… И прямо от тебя мужик бежит, как от чумы, и бежит к купцу… А мещанин — все равно что жулик… Банки эти теперь — домишки позаложены, бабы в шильонах, жрать нечего… Тьфу!.. — И отец Юс умолк в негодовании.
Долго мы шли, не прерывая молчания. Солнце палило нестерпимо. Яркая желтизна дороги ослепляла глаза…
Вдруг отец Юс встрепенулся и промолвил:
— Вот, теперь взять, сторож этот, Пахом. Пахом-то он Пахом, а уж человека такого погибельного, по прежним временам, с огнем не сыскать!
— Чем же он погибельный? — спросил я.
— Пахом-то?.. — в некотором даже удивлении отозвался Юс и, помолчав немного, с горячностью выпалил: — Пес он, вот он кто… Он не токмо в сторожа его ежели, он в антихристы не годится… Он тетку поленом избил… Он, ежели с ним по-простоте, с костями слопает, {460} вот он какой человек! — И Юс с негодованием отплюнулся, но спустя немного, вздохнул и сказал: Спаси господи и помилуй!.. — И мы снова в молчании продолжали путь наш. Меня одолевала скука.
А отец Юс не скучал. Он часто стал отставать от меня и, отставая, пригинался к земле и хватался за грудь, как бы от боли. Сначала это приводило меня в недоумение и даже беспокоило. Но после каждой такой остановки лик отца Юса просветлялся и глаза выражали плутоватую радость; вместе с этим его скуфейка сдвигалась на затылок, движения становились развязнее… Наконец внезапный звон стеклянной посуды объяснил мне все, и я уже нимало не удивился, когда горлышко полуштофа предательски выглянуло из плохо прикрытой пазухи моего спутника.
А когда липовый лес раскинул над нами густые свои ветви и влажная тень прикоснулась к нашим пылающим лицам и обмахнула их как бы крыльями, отец Юс и совсем пустился в откровенность. Он торжественно вынул полуштоф и предложил мне выпить. Я отказался. Тогда он заподозрил меня в деликатности. Он убедительно болтал остатками водки и говорил:
— Ваше степенство! Будьте настолько благосклонны!.. Как мы есть из мещан и чувствуем благородного человека… Вы что — вы думаете, маловато? Э, ежели теперь Пахомка меня изобидел — шкалика два он вытрескал, пес, непременно вытрескал… Так мы, с божьей помощью… — Тут он с лукавством улыбнулся и, отвернув полы ряски, вытащил из кармана штанов другой, совершенно еще непочатый, полуштоф. — Отец Юс понимает свое дело! — сказал он и снова спрятал посудину.
А пчельника все не было. Правда, идти теперь было прохладно, но какая-то непонятная истома и в прохладе этой томительно стесняла грудь. Дятел задумчиво гремел по деревьям… Несколько раз в вышине разносился резкий голос синицы. Где-то иволга протянула грустную свою песню… И вдруг лес переполнился каким-то смутным шепотом. В лицо пахнул ветер. Листья затрепетали… Я взглянул на небо: тучи, синие и мрачные, толпились над нами. Солнце еще не угасло: оно по-прежнему пронизывало лесную чащу мягкими зеленоватыми полосами и круглыми пятнами играло на узорчатых листьях папо-{461}ротника, но лучи его уже не жгли, а только сверкали ослепительным блеском… А спустя немного тучи бросили тени, и лес переполнился таинственным сумраком. И снова стала тишина. Листья поникли в каком-то бессилии. Папоротник распростирал свои лапы в недвижимой дремоте… Только синица резко тревожила тишину и в каком-то беспокойном задоре мелькала над деревьями. Было душно.
А мой спутник окончательно развеселился. Неукоснительно докончив полуштоф, он совершенно утратил всякое смиренство и если походил на кого, то уж никак не на инока. Благочестивые словеса свои он забросил. Скуфейку молодецки заломил за бекрень…
— Ваше степенство! — кричал он. — Ежели мы теперь в иноческом житье находимся, мы прямо понимаем это как попущение… Там сборка, там скородьба, работники… Вот-те и осталось шиш с маслом!.. А тут шильоны… Нет, брат… — и вдруг, переменяя тему: — Но только у нас есть благочести-ивые иноки!.. Есть у нас теперь отец Панкрат: ты приди к нему и пощупай. Прямо как пощупал — цепь! А в цепи два пуда… Ей-богу!.. С походом два пуда будет… Сам вешал… И прямо вроде ремня она на нем… Тяжеленная цепь!.. А мы что? Мы — грешные, слабые… Мы не токмо что, а прямо надо говорить — подлецы… — Отец Юс сокрушенно смахнул грязным рукавом грязные слезы и, легонько вздохнув, произнес вполголоса: — Эх, жизнь, жизнь…
Вдруг лес как бы встрепенулся и закачал вершинами. Тревожный гул прошел по деревьям… Я невольно остановился: сердце сжалось и как будто перестало биться… А тучи нависли низко и внушительно. Казалось, кто-то смотрел сквозь них на землю и его пристальный взгляд переполнен был мрачным гневом. Лес хмурился. Внизу еще стояла тишина, и папоротник по-прежнему еще не шевелился, но зато тьма у подножия деревьев сгущалась все более и более, и невольная робость одолевала человека при взгляде на чащу. Вершины же равномерно склонялись, переплетаясь ветвями, и производили шум, подобный шуму взволнованного моря. И когда я смотрел на них, с вышины веяло на меня суровостью и грозою, и как-то невольно хотелось приникнуть к земле и просить у ней тихой и ласковой заступы, {462}
Под обаянием непогоды примолк было и отец Юс. Впрочем, ненадолго.
— Эх, жизнь! — повторил он пренебрежительно и громко и затем неожиданно предложил: — А хотите, я вам песенку спою? — и, не дожидаясь ответа, затянул своим дребезжащим тенорком:
Что не ржавчинка у нас во болоте Всю травку съедает, — Не кручинушка меня, доброго молодчика, Сокрушает… Что сушит-крушит меня, доброго молодчика, Да все худа слава! От худой-то я от славушки, Мальчик, погибаю. Знать, погибла моя буйная головушка, Да все понапрасну… Что велят-то мне, добру молодцу, Велят мне жениться, Не на душе красной девчоночке, На горькой вдовенке… Уж ты горькая моя, разнесчастная вдова, Стели мне постелю. Как, постламши, вдовонька, постелюшку, Слезнехонько плачет… Не по батюшке, не по матушке, По милом дружочке. Не шатайся, не качайся В поле ковыль-травка, — Не тоскуй, не горюй по молодчику Красная девка!..А гроза ширилась и наступала на нас. Не успел еще отец Юс кончить свою песню, как туча, стоявшая над нами, разорвалась сверху донизу, и огненная бездна ослепительно бросилась нам в глаза. Лес озарился зловещим блеском. И за блеском не замедлил гром. Сначала он пророкотал тихо и смутно, в какой-то робкой и тревожной нерешительности… Но, казалось, эта самая нерешительность ужаснула лес, и он, точно очарованный, слабо залепетал в ожидании… И немного погодя удар разразился. О, если вы не встречали грозу посреди леса, вы не знаете грозы!.. Все вокруг вас колеблется и переполняет воздух оглушительным треском. Молнии пронизывают зеленый мрак, и причудливые растения, встревоженные внезапным светом, толпятся в фантастическом беспорядке посреди бледных лип и гибких ветвей орешника… По всем направ-{463}лениям ходит отзвук. Небеса давно уже безмолвны, а в непроходимой лесной чаще стоит торжественный гул, и робкие древесные листья бьются и трепещут жалобно. Когда же в тучах совершается канонада, лес отвечает невыносимым грохотом. Тогда вам кажется, что под тень деревьев переселился ад… И напрасно вы ищете дали, чтобы вздохнуть привольно и всем существом своим ощутить свободу — кругом какая-то бешеная толпа стесняет пространство и отчаянно машет своими ветвями, и стонет, и голосит… А небо тянется над вами узкой полосою, и тучи непрерывной чередою заслоняют светлую его синеву.
Но все это не помешало отцу Юсу докончить свою песню. А докончив, он впал в какое-то странное состояние. Он начал выкликать какие-то совершенно не идущие к делу слова и вместе с громом будить лесное эхо. Это его забавляло. А когда я в утомлении сел около дороги, он положил на землю мой саквояжик и, вынув непочатый полуштоф, затянул плясовую песню, причем беспорядочно затопотал ногами. Слова песни часто прерывались ударами грома, но отец Юс не унимался и кричал как исступленный, в каком-то слепом и неудержимом задоре, непрерывно кружась и взбивая пыль своими толстыми башмаками. "Через грязи, через топи, трои лебедей летели", — кричал он,
Э-их, лебеди летели, Про Ванюшу песню пели: Что ты, Ванюшка, не весел, Буйну голову повесил? К чему Ване веселиться Велят Ванюшке жениться, Мне жениться не хотелось Сударушка не велела: Сударушка не велела Любить до веку хотела…Впрочем, надо отдать справедливость отцу Юсу: другого полуштофа так он и не начал; он только потрясал им в такт песни, а когда допел, снова спрятал его в карман штанов.
И, вместе с последними словами песни, хлынул ливень. Крупные капли дождя дружно и споро забарабанили по листьям и быстро превратили дорогу в ручей. Мы осторожно пробирались под густыми ветвями придорожных лип; но часто ветер раздвигал эти ветви, и вода низверга-{464} лась на нас неукротимым потоком. Тогда отец Юс отряхивался, как пудель, и смачно улыбался… Шум в лесу и гул на небе, казалось, не утихали ни на минуту. Молнии загорались по всем направлениям: блистательные зигзаги то и дело пронизывали лес голубым сиянием и слепили наши глаза. Наконец на одном повороте отец Юс торжественно воскликнул: "Пчельник!" и указал на белый столб, полуприкрытый кустом орешника. Столб обозначал расстояние от вокзала. "Пять верст, 132 сажени", прочитал я. "Что же это?" — упрекнул я отца Юса. Но Юс промолчал и только рассмеялся лукавым смехом. Узкая дорожка повела нас на пчельник. Вся она сплошь заросла гладкими листьями подорожника и сочной муравою. По сторонам буйно волновался орешник. Высокие липы отошли на почтительное расстояние и оставили нас совершенно беззащитными: дождь свободно лил на нас. Но зато над нами висело теперь широкое небо, и мы обнимали взглядом довольно обширную перспективу. Мы видели, как темные тучи медлительно разрушались и таяли, и среди них приветливо синели клочки чистого неба, ясного, как хрусталь. И когда достигли пчельника, дождь уже перестал. Правда, солнце все еще было покрыто тучами, но гром рокотал очень далеко, и молнии сверкали робко и медленно. Ветер стих. Там и сям запели птицы. Трудолюбивый дятел снова принялся за свою работу.
Пчельник притаился на полянке. Кругом обступили его развесистые липы. Уютный куренек скромно притаился под тенью одной из них. Скользкой тропинкой мы обошли ульи и подошли к куреню.
— Отец Лаврентий! — звонко закричал мой спутник, — во имя отца и сына…
— Это ты, Юс? Аминь, — отозвался суровый голос. — Полезай сюда.
— Я купца привел: ему в Лазовку нужно. Где Левончик-то?
— Какой купец? На что Левончик? Левончик в пекарню ушел: хлеб у нас на исходе. Какой такой купец?
Из куреня вышел, сильно пригнувшись, высокий старик в длинном кафтане из обыкновенного крестьянского сукна, в засаленной скуфейке и с большой бородою сивого цвета. Он посмотрел на меня подозрительно и неохотно поклонился. Но после некоторых подходов мы познакомились. {465} И странное дело: отец Лаврентий тотчас же утратил свою суровость, как только некоторые факты дали ему основание предположить, что я не купец, а барин.
— Господ Бегичевых знавали? — спросил он меня и на мой утвердительный ответ с гордостью заявил: — Мы их крепостные были. Хоро-ошие господа! Бывало, старый-то барин пройдет по двору, поджилки у всех затрясутся… А уж чистота какая была, какой порядок, — приходи любоваться! (Долго спустя после 19-го февраля я знал старика Бегичева на послугах у одного важного жида. Чистоту он действительно любил, и когда замечал пятнышко на калошах своего принципала, тотчас же стирал это пятнышко собственным своим носовым платком. Он так, кажется, и умер с шинелью его пр-ва в руках.)
Мы скинули наши одежды и развели костер недалеко от куреня. Отец Лаврентий предупредительно устроил козлы, на которых развесил мое одеяние. В котелке заварили кашу. Погода прояснилась. Солнце выглянуло из-за туч, мирное и ласковое. Трава, обрызганная дождем, весело сверкала мелкими искрами и расстилалась вокруг, сочная и свежая. Пчелы хлопотливо шумели над ульями…
Поспела каша. Мы устроились, с деревянными ложками в руках, вокруг громадной чашки.
Юсов полуштоф торжественно водрузился посреди трапезы. И когда каша приблизилась к концу, языки моих собеседников заработали с особенной настойчивостью. Тусклый лик отца Лаврентия покрылся розовой краской, и его обыкновенно сердитые глаза заблистали. А у отца Юса лицо стало изображать сплошную улыбку, и взгляд затянулся ласковым маслом. Но разговоры Юсовы по большей части ограничивались восклицаниями и сочувственными подтверждениями речей отца Лаврентия. Да и вообще в присутствии последнего отец Юс как-то сократился и как будто представлял собою звонкий и покладистый отзвук, не более.
К концу трапезы наша компания увеличилась. Явился ветхий и сгорбленный старец с изможденным лицом и белейшей бородою. Голову его покрывал клобук. И казалось, тяжесть этого клобука угнетала старца: голова его постоянно тряслась и поникала. И Юс и Лаврентий подошли к нему с великим почтением, и он благословил их. По этому я догадался, что пришедший был иеромонах. {466} Благословил он и меня, причем посмотрел мне в глаза взглядом пристальным и невыразимо грустным. Затем он сел около нас и в молчании стал перебирать четки. Отец Лаврентий поднес к нему стаканчик с зеленоватой жидкостью и произнес:
— Благослови, отче.
Старец благословил. После этого предложили выпить ему. Он перекрестился широким знамением, посмотрел на нас, опять-таки долго и пристально, и медленно, с наслаждением, выпил. Бледные руки его, изборожденные голубыми жилками, тряслись, и водка каплями проливалась на рясу. Потом он снова сосредоточился в каком-то созерцательном молчании. А отец Лаврентий мало-помалу приходил в горячность и начинал уже размахивать руками.
— Одно остается: бежать без оглядки, — кричал он, — бежать, и шабаш! Куда ни обернись — склыка 1 одна. И больше ничего как склыка… Я теперь говорю своему сыну: "Митька, жениться тебе ноне о покрове на Варьке". Девка такая есть: Варька. — Нет, говорит, я не женюсь, она, говорит, Варька-то, рябая… Рябая! А?.. Да что бы я с ним по прежним временам сделал за такие его слова? — Лаврентий вперил в отца Юса такой взор, от которого тот завертелся, как на горячей сковороде. — По-прежнему я бы на нем, на стервеце, места живого не оставил, вот бы я что сделал!.. Варька — рябая, а Чепыркина солдатка — не рябая?.. Хорошо. И теперь прямо я его, моего сына Митьку, хлобыснул вилами. Ведь сын он мне, ты как понимаешь?.. Плечо я ему переломил. Ладно; в больницу… К мировому… к следующему…2 Да ведь плоть-то моя?.. Ведь от меня она произошла, плоть-то, а!.. — Отец Лаврентий выпил еще и поднес старцу. Старец, вместо молчания, стал теперь шептать что-то и быстро перебирать четками. Из его глаз по временам выкатывались слезы.
— Легче же я уйду в обитель, — продолжал Лаврентий. — Чего мне? Тут тишина, пчелки гудут, липки вот расцветут, дай-кось… Никого я не вижу… Порядки ихние поганые до меня не доходят, — голос его дрогнул. — Эх, {467} батюшки вы наши, господа Бегичевы! — воскликнул он. — Бывало что — бывало, я приду, паду в ноги: "Батюшка сударь, Анифат Егорыч, сподобь моему сынку невесту подобрать…" — "А какую?" — скажет… "Такую-то, мол". — "Чем нравна?" — "Работой, досужеством…" — и готово. Вот они как, дела-то, вершились! И был порядок. У нас в Бегичевке-то сто дворов было, а теперь триста двадцать. Откуда? Поделились: сыны своим умом захотели жить… Своим умом! Да отколе у тебя ум-то, у подлеца, взялся?.. В кабаке ты его нажил-то, что ли? Ну-ка, вот сидит барин, — Лаврентий указал на меня, ну-ка, спроси у него: что бы он по прежним временам с умниками-то с этими сделал? А на конюшню! розог! — вот бы что он сделал. И был порядок. У нас какое было заведение: у нас ежели мужик вернулся с базара пьяный — пороть! Шапку не снял перед старшим — драть! Хомутишко у него разорвался — парить его, друга милого!.. Вот!.. Вот это была строгость! Как, бывало, выедет бегичевская-то барщина — глаз отвести невозможно: лошадь к лошади, хомут к хомуту, телега к телеге.
Вдруг заговорил старец.
— Послушайте меня, да и аз возглаголю, — смиренно сказал он.
Лаврентий умолк.
— Отъяся от дщери Сиона вся красота ее, — сказал старец и прослезился. — Были у нас мужички крепостные (плачет)… Были у нас веси и сады… Сам я, смиренный, гва… гва… (всхлипывает от рыданий), гвардии подпоручик… И расточиша… И разбегошася… И на месте ликования — мерзость запустения воцаришася… — и затем запел сквозь слезы голосом тихим и дрожащим: — И бысть по внегда в плен отведен бе Исраиль, и Иерусалим опустошен бяше, сяде Иеремия пророк плачущ, и рыдаше рыданием над Иерусалимом… — после чего умолк и, уже сам налив колеблющейся рукою стаканчик, медленно его выпил.
— А то воля! — неизвестно к кому обращаясь, но с несомненным упреком сказал, после некоторого молчания, Лаврентий. — Ты проезжай теперь по деревне по нашей: избы поразорены, дворишки пораскрыты, скотина изморена, на улице нечисть… вот тебе и воля! А из кабака песни, а в кабаке пляс, драка… Всякий щенок цигарку со-{468}сет… На сходку выйдешь — над стариками, вроде как над ребятами малыми, потешаются: слово вымолвишь гогочут… И ты теперь посмотри: мы ли, бывало, с начальством не обходились… Он тебе в зубы, а ты ему поклон да курочку. И был порядок, был страх. А теперь что? Теперь вон у нас урядника недавно избили: избить-то его избили, да его же, сердечного, и со службы исправник согнал… Не-эт, по-нашему не так, по-нашему, разложить бы всю деревню, да передрать, да чтобы сам урядник лозы-то считал… Вот это так! Это порядок!.. У нас, бывало, при старых господах не токмо становой там, а просто свой же брат мужик, староста деревенский, — так пуще огня угасимого этого самого старосты боялись… А и звать-то его было — Лафет… И был страх!..
Тут он смолк в негодовании и выпил. Выпил и старец. А отец Юс невразумительно бормотал:
— Два двугривенных!.. Нет, прежде поработай, а я погляжу… Я, брат, хозяин… И я погляжу, какая такая твоя работа… Может, ты и дыни гнилой не стоишь, а?.. Два двугривенных!
— Работа!.. — с величайшим презрением подхватил отец Лаврентий и, усугубляя это презрение, повторил: — работники!.. Солнышко на кнутовище поднялось, а он на полосу выезжает… А не хочешь на заре?.. Не хочешь с полуночи ежели? А не то бадиком… Работники!.. — и, помолчав, продолжал горько: — а, до чего дожили: малый жеребец-жеребцом — десятину не выкашивает!.. Баба денек повязала — поясница у ней, у подлой, заболела… О господи ты боже мой, да где же это мочь-то наша прежняя? Избил бы я ее, шельму… А, поясница-а! А ну-ка ее на конюшню! А ну-ка всыпать ей свеженьких!.. А ну-ка… — и вдруг, как бы опамятовавшись, произнес с сокрушением: — эх, собаки те ешь!..
И опять заговорил старец, на этот раз уже совершенно расслабленным и до чрезмерности певучим голосом:
— Прелести наша и беззакония наша в нас суть, и мы в них таем… И как нам живым быти?.. А на это господь ответил: Живу аз: не хощу смерти грешника… Но еже обратится нечестивому от пути своего и живу быти ему… — и снова заплакал.
— Как же, обратится, ожидай! — сердито возразил отец Лаврентий. — Нет, брат, кабы старый наш барин… {469} Да кабы изнизать всякого, чтоб вроде как собаку, например… Вот это так!.. это я понимаю… А то сына не смей ударить? Чуть что — старика отца в суд! Пропадай вы все пропадом!.. Мне что — мне кусок хлеба, я и сыт… Обитель-то святая, вот она… Я взял перекрестился да к отцу игумну… Разговор-то короткий! Ноне я Кузьма Захаров, а приуказали да посвятили в рясофорные, вот тебе и вышел отец Лаврентий… Плевать мне на вас, подлецов!.. Делиться захотели? Делитесь, собачьи дети, тащите в розволочь… С солдаткой хочешь жить! Живи, друг, дери твою душу окаянный (старец при этих словах грустно покачал головой и провел рукою по своим слезящимся глазам)… Мы, брат, проживем… У нас вот пчелка, ежели… Липки теперь расцветут… Медо-ок… — И голос отца Лаврентия внезапно дрогнул и прервался. Тогда отец Лаврентий как будто ухарски, а в сущности беспомощно махнул рукою и неверными шагами направился к ближнему улью, около которого долго стоял, внимательно наклонившись над отверстиями и собирая мозолистыми пальцами ползущих пчел.
— Авва! — лепетал отец Юс, умиленно протягивая стаканчик к старцу. Выпьем, авва… Выпьем, благословясь… Бедные мы, авва!.. Боже же ты мой, какие бедные!.. Нет нам притона на божьем свете… — и вдруг закричал сердито: — А, два двугривенных!.. Нет, врешь, сударушка, обожгешься… Потом обратился ко мне: — Выпьем, ваше степенство!.. А ежели вам в Лазовку — единым духом оборот сделаем… Мы понимаем… Мы даже оченно понимаем… А обмануть я вас — обманул, это точно: до пчельника-то шесть верст, хе-хе-хе!.. Ну, да бог простит… Авва! Отче! Гвардии подпоручик! Простит ведь, а?.. Ничего — простит. Отец Панкрат помолится, он и простит. О, отец Панкрат зазвонистый инок… Святой!.. И ты, авва — голова, ну только до Панкрата тебе далеко…
Старец что-то пролепетал.
— Чего? Смиренный ты?.. — насмешливо отозвался Юс. — Смиренный-то ты смиренный, а водку жрать любишь… Любишь ведь? — Он ударил старца по плечу, отчего тот так и пригнулся к земле, но вместе с тем и улыбнулся искательной улыбкой, — любишь, хе-хе-хе… А вот отец-то Панкрат не вкушает… что?.. э?.. Отца Панкрата прямо как пощупаешь — цепь на нем. Вот он какой, {470} отец-то Панкрат!.. А ты что? Ты только название твое одно инок…
Отец Юс, видимо, поддразнивал старца. И вдруг мертвенно-бледное лицо последнего озарилось каким-то чахлым румянцем и бесцветные глаза заблистали. Он возвел их к небу, сложил благолепно руки и страстно заговорил:
— Боже милосердый!.. Ты видишь и сносишь немощи человеческие; пред твоими взорами открыты и нечистота моя и изнеможение мое; открыта пред взорами твоими лютость мучающих меня, терзающих меня страстей и демонов… Увы, господь мой! Ты на кресте, — я утопаю в наслаждениях и неге… — И ударил себя в грудь, отчего получился какой-то странный, как будто металлический, звук, а потом закрыл глаза и долго сидел, недвижимый как изваяние. Юс же лукаво подмигивал мне на него.
— Юс, Юс! — вдруг воскликнул старец, с какою-то изумительной тоскою в голосе, — что ты соблазняешь меня, Юс!.. Все мы рабы плоти… Все уготованы геенне… (тут, понизив голос до шепота, он несколько раз произнес, как бы вдумываясь в ужасный смысл произносимого слова: — все… все)… Знаешь, что сказано: Аще кто грядет ко мне и не возненавидит отца своего, и матерь, и жену, и чад, и братии, и сестер, еще же и душу свою, не может мой быти ученик… А мы что говорим?.. Кого мы тешим?.. Юс, Юс! пала религия, пала вера святая, пала добродетель… Души братий наших гибнут, гибнут… И ниоткуда нет спасения… Брат, брат! ужели нам величаться и подымать главу? Мы ли-де не святые, мы ли не спасенные?.. О господь мой, верую я, всеблагой, в твою неизреченную милость, но дух мой немощен… Смотри на мир, Юс: там пианство, там блуд, там начальства непочтение, там буйство… И куда-то ни оглянешься, мрак, мрак кругом… Пройди по деревне, Юс, ты в деревне скоромника встретишь, чревоугодника встретишь: ест в пятницу сметану и еще похваляется… и кто же ест и похваляется, как будто молодечеством каким? — мужичок!.. А, Юс, мужичок похваляется! Надежа церкви святой, овца робкая и покорливая похваляется?.. Это ли не времена, о которых господь сказал: приидут как тать в нощи… Это ли не последние веки!.. А был я по сбору и что видел: несли богоносцы иконы и, встретивши ручей, положили святой крест и по {471} нем перешли… И богоносцы эти опять-таки были мужички!.. Юс, Юс! гибнет мир, скверность везде… лютость везде, вражда… Нам ли себя соблюдать?.. Нам ужасаться за братий наших нужно… Что цепь — смотри вот на нее!.. — И порывистым движением старец распахнул рясу. Пред нами открылось тело, поражающее своей худобою и бледное до зелени, а по телу вилась толстая заржавленная цепь. На вдавленной груди с хрупкими ключицами, глубокими как ямы, она сходилась крест-накрест и затем в два раза опоясывала стан. На бедрах и на животе темнели широкими полосами багровые подтеки. Вид этого истязания был до того ужасен, что даже отец Юс оторопел и выразил некоторое смущение. Но тотчас же оправился и, пытаясь вызвать на уста прежнюю свою улыбку, потрогал цепь пальцем.
— Все-таки у отца Панкрата позабористей будет, — произнес он, — в этой, гляди, не больше как фунтов тридцать…
Старец медленно застегнулся, провел рукою по глазам и, тяжко вздохнув, поднялся. Затем отвесил нам низкий поклон, причем вымолвил: "Простите, братия", и колеблющейся походкой скрылся из пчельника.
— Эка, падок до водки, старый пес! — напутствовал его отец Юс и прямо из полштофа вылил себе в рот остатки этой водки.
Э-их, лебеди летели,
Про Ванюшу песни пели…
затянул он после выпивки, но Лаврентий остановил его. Кончилось же тем, что Юс повалился на траву и долго еще невнятно бормотал какие-то слова, из которых можно было разобрать следующее: "Нет, ты поработай сперва!.. а мы и посмотрим… Два двугривенных! ах ты, кожа барабанная… Ох, кожа, кожа!.. (Тяжкий вздох, и затем, после долгого молчания:) Этак-то всякий нацепит!.. Ишь ты, выискался… фу-ты, ну-ты… Нет, ты свесь ее, да при мне… Да чтобы свесить-то на настоящих весах… А то знаем мы штуки-то!.. Эка невидаль — тридцать фунтов!.. Я не токмо что цепь — я тебе всю вселенную произойду… Погоди ужо… А то грехи!" Нет, брат… Меня, может, мужики-то как били: в колья… А то цепь!.. Нет, по морде ежели тебя, да оглоблей… да помазком в глаза… Небойсь, брат, виды-{472}вали… Не удивишь… Не чета твоей цепи… — Он немного помолчал. — А из-за чего? Из-за шильонов… Тпьфу!..
Наконец хмель совершенно одолел его, и он крепко захрапел в преизбытке утомления.
Пришел Левончик. Это был веселонравный юноша с необычайно жирными щеками и весь, с головы до пят, пропитанный запахом постного масла. Ему отец Лаврентий поручил проводить меня до Лазовки к какому-то Захару. Когда же мы тронулись в путь и уже миновали ульи, он воротил Левончика и что-то, с таинственным видом, приказал ему. Левончик, ухмыляясь, догнал меня. "Что ты?" — спросил я. Он промолчал, и несколько времени мы шли молча. Вдруг он рассмеялся добродушнейшим смехом.
— Ты чего? — полюбопытствовал я.
— А вот, видишь? — сказал он и вытащил из-под полы порожний полуштоф.
— Выпить-то, должно быть, отцы любят? — вымолвил я.
— И не говори!.. Хлебом их не корми, только чтоб насчет выпивки было… У отца-то Лаврентия самый притон здесь: как сойдутся, сейчас это полуштоф — и пошло.
Он замолчал, но несколько спустя снова неожиданно прыснул.
— Видел Юса-то? И промысло-овый человек!.. Он прежде на мельнице был, на монастырской… И что же он, этот Юс, придумал: он взял да вином и начал торговать!.. Как есть шинок открыл. Ох, уж и Юс только! — Левончик восторженно покачал головою.
— Ну и что же?
— Узнали. Отец эконом узнал. А отец эконом у нас стро-огий-престрогий!.. Так Юса и прогнали с мельницы. А он было ловко там приспособился… — И потом, после долгой паузы, продолжал: — Ничего, отцы у нас живут ничего себе. Трапеза у нас — хоро-ошая трапеза, сытная… Одного хлеба фунта по четыре съедаем!.. а там масло, рыба, квас.
— Ну, а работа есть?
— Работа, оно точно есть, ну да что же это за работа… Больше по сбору все. Или вот еще сенокос придет — покосимся малость… Ничего, у нас весело.
— А служба какая, трудная? {473}
— Нет, какая там служба. Служба у нас самая обыкновенная. Вот были из наших которые — отец вот Паисий в Саровской был, или опять еще на Святых Горах, — ну, там точно что трудная служба. А наша служба легкая. Наша служба — постоял если часок, вот тебе и служба вся… Игумен у нас добрый. У нас игумен вроде вот как отец бывает…
— Ну, а ты-то ездил когда по сбору?
— Как же! Я два раза ездил.
— С кем?
— А есть у нас старец такой, Саватей-старец, так с ним!
Я рассказал ему приметы "гвардии поручика".
— Он, он самый! — с живостью подхватил Левончик, — хоро-оший, правильный старец. И водочку вкушает, это точно. Мы с ним, бывало, все по господам езжали. Приедем к господину, лошадь на конюшню, и пошло. Я с лакеями, или горничные там какие, а отец Саватей с господами проклажается. Здорово его господа уважали!.. Ну, тут как вошел он в слабость — узнали. Отец эконом у нас стро-о-огий: узнал и взял Саватея со сбора.
А то вот еще с Юсом мы раз ездили, — и Левончик опять рассмеялся, — с Юсом мы больше по черничкам все. Как в селе есть чернички, так мы прямо к ним и едем. А чернички здорово любят, ежели к ним заезжать. Сейчас это самовар, водка, и пошло!.. Ну, только и тут скоро нам прекорот вышел.
— Отец эконом узнал?
— Он. Эх, строгий у нас эконом… Он, ежели ты попущение какое сделал, прямо прекорот тебе предоставит.
— Да что это значит «прекорот»?
— Хи-хи-хи!.. Прекорот, — это возьмет тебя отец эконом в келью, да за косы, да палкой… А там либо дрова рубить, либо воду таскать… Это вот и обозначает прекорот. Ну, только он с рассмотрением. У него, ежели ты по хозяйству наблюдаешь строго, он не взыщет. У нас теперь отец Куклей есть по сбору ездит. Так он, отец-то Кук-лей, не токмо что, — может, сколько разов били его купцы, — уж оченно до купчих слаб отец Куклей, а отец эконом все ему втуне… Потому большой доход ему от отца Куклея. А от Юса какой доход! Юс, — что соберет, все с сестрами прогуляет. А то еще хвост у нас отрезали. {474} Так и отхватили мерину хвост! А мерин — сто целковых…
— Это за что же?
— А уж случай такой вышел. Случай-то — по-настоящему бить бы Юса, ну, а мужики взяли да мерину хвост отчекрыжили. Это, значит, вместо битья.
— Ну, а не били?
— Нет, бить не били. Били, только в другом месте. А в другом месте здорово били!.. Я-то уехал, а Юса поймали… И здорово его били тут, этого Юса!..
— За что?
— Да все из-за этих… — с неудовольствием сказал Левончик, — все из-за сестер из-за этих!.. Дьякон поставил мужикам полведра, они нас и прихватили. Мало ли тут было делов!
— Да дьякону-то что?
Левончик почесал затылок, причем скуфейка сдвинулась ему на глаза, и, поправив скуфейку, лукаво усмехнулся.
— Сердце зачесалось! — произнес он с иронией, а затем серьезно добавил: — Коли пристально это дело разобрать, дьякона тоже следовало бы изутюжить: как-никак, а ты инока не тирань… И ежели по совести, дьякону даже стыднее…
— Чем же стыднее-то?
— А как же! Первым делом, он пред алтарем и даже вроде как церковное лицо… А монах что?.. Монах на то и приставлен: с дьяволом ему бороться. А поди-ка ты с ним поборись: нонче ты его одолеешь, а завтра такое подойдет дело, прямо ты под пяту к нему… Тут ничего не поделаешь. Юса-то, может, били, а прошлой зимою подошло дело, он старушку из полымя выхватил!..
— Где?
— В Лазовке. Лазовка загорелась, а Юс в гостях там случился. Так и выхватил старушку! Сам чуть не задохся, а ее выхватил… — И Левончик добавил с гордостью: — Вот он теперь и подумай, враг-то!.. Юс и то говорит: как я, говорит, выхватил эту старушонку, так у меня словно гора какая свалилась с сердца… Это значит, грехи-то с него соскочили. А сатана поломай голову!.. Она теперь, старушонка-то, порасскажет на суде-то небесном… Она {475} порасскажет, а Юсу праздник! Он теперь на то и бьет. "Теперь, говорит, того я и жду, чтобы, как-никак, еще душу какую вызволить… И ежели вызволю, говорит, прямо у меня сатана заплачет. Потому я тогда вольный казак". Потому много надо грехов, чтоб они две души перевесили… Смертные какие грехи, и то не перетянут!.. Он тонкий человек, этот Юс! — В последних словах Левончика послышалась зависть.
В это время раздался благовест. Тонкий и ноющий звон колокола протянулся в тихом воздухе и медленно замер, вызывая в лесах тоскливое эхо.
— Где это звонят? — спросил я Левончика, который набожно крестился.
— В обители к вечерне звонят.
— Да где же обитель?
Он указал рукою. Из-за поворота бросилась мне в глаза привлекательная картина. Прямо около леса зеленела широкая лужайка, а за лужайкой на пригорке белелся монастырь. У самых монастырских стен сверкало плесо. За плесом высился бор, темный и мрачный. Впрочем, теперь он не казался мрачным. Солнце, склоняясь к закату, проливало на все такой обильный поток розового света, что даже самые сосны утратили свою суровость и алели в какой-то радостной истоме. Монастырь же выглядывал настоящей игрушкой. Его многочисленные кровли блестели, как покрытые глазурью, и церковные кресты казались пламенеющими.
Вокруг веяло глубокой безмятежностью. Лес стоял точно очарованный: тихо и задумчиво. Один только звон колокольный равномерно тревожил тишину, придавая окрестности характер кроткой и сосредоточенной печали.
Странно подействовала на меня эта мирная картина и этот звук колокола, протяжный и тонкий: все существо мое переполнилось каким-то сладостным унынием, и вместе чувство отрадного успокоения посетило душу… Насущные заботы отодвинулись в какую-то безбрежную даль, связи с действительностью ослабли… Все помышления сосредоточились в одном желании: забыться, приникнуть под наитием каких-то странных мечтаний, неведомо откуда идущих и таинственно волнующих душу, затеряться среди этого темного леса, в этой молчаливой глуши, в виду святых стен, тонкими контурами поднимающихся над лу-{476}гом… И пусть там, вдали, с жестокой непрерывностью, шумит и рокочет бурливое житейское море.
— Опоздаем!.. — прервал мои мечты Левончик, и мы тронулись.
Монастырь скрылся за деревьями. Скоро пришла речка. Левончик остановился на мосту и глубокомысленно плюнул в воду. Вода была темная и спокойная. Отражение леса стояло в ней недвижимо… Около берега слабо трепетал камыш и красиво белелись лилии. Колокольный звон, доходивший до нас глухо, пока мы были в лесу, теперь снова раздался, ясный и печальный. Где-то за лесом внушительно вторил ему звук, подобный гудению шмеля. "Это в Лазовке звонят", — пояснил мне Левончик. За мостом крупный лес прекратился: пошел орешник и молодой дубняк. Дорога потянулась под гору. И, странное дело, чем дальше отходили мы от монастыря, тем оживленнее становился лес: ворковали горлинки, пели соловьи, переливалась иволга… Какие-то бойкие птички то и дело перелетали по деревьям. В густых зарослях куковала кукушка.
Скоро лес совсем миновался, и песчаная тропа повела нас опять в гору. На горе стояла Лазовка. Вся она опоясалась огородами и развесистыми ветлами заслонялась от солнца. Над темною зеленью ветел подымалась белая церковь, стройная и величественная. Там и сям желтелись крыши… Но село оказалось привлекательным только издали. Когда мы вошли в средину, вопиющее разорение бросилось нам в глаза. Избы скосились и были пораскрыты; в плетни свободно пролезали свиньи; в окнах зияли дыры… Только кабак скрашивал улицу и выглядывал настоящим повелителем этих жалких и гнилых избушек. Его стройные сосновые стены венчались железной крышей, а над крышей трепался новенький кумачный флаг. По карнизу и над окнами шла затейливая резьба. В окнах белелись занавески и виднелась герань. Ставни были выкрашены в яркий голубой цвет.
Мы свернули в проулок и подошли к крайней избе. Эта изба тоже выделялась крепким своим видом. Она хотя и не била на особое щегольство, но была чиста и поражала прочностью. Дубовые брусья, составлявшие ее стены, были в добрый обхват. Такие избы отличаются тяжелым воздухом и зимою часто бывают угарны, но им, как говорится, веку нет, и потому достаточные мужики особенно {477} любят их. Двор около избы тоже сделан был на славу. Новые ворота из широкого теса сплошь были унизаны блестящими четырехугольниками из белой жести. Из сеней на проулок выходило крыльцо.
— Вот и дядя Захар! — сказал Левончик, указывая на мужика, вышедшего на крыльцо в то время, когда мы подходили к избе.
Я посмотрел на дядю Захара. Был он плотный и приземистый мужик с угрюмым взглядом серых маленьких глаз и крутым лбом. И этот взгляд и лоб крутой придавали ему вид человека упрямого и непокладистого. Выйдя на крыльцо, он надел шляпу, предварительно отерев платком лоб, и уселся на скамью. Мы поклонились ему; в ответ он едва приподнял шляпу и сквозь зубы спросил Левончика, что ему нужно. Левончик, слегка робея и путаясь, объяснил. Тогда Захар подумал немного и сказал:
— До Ерзаева сорок верст.
Я согласился с этим.
Захар опять подумал.
— Свезем… — произнес он неохотно.
— А цена? — спросил я.
— Цена? Время рабочее: покосы… Цена — пять рублей.
— А меньше?
— Такой у нас не будет, — сухо возразил Захар и равнодушно отвернулся от нас.
— Ну, я поищу подешевле, — сказал я.
— Ищи… — и вдруг закричал сурово: — Машка!..
На этот зов быстро явилась молодая бабенка, шустрая и миловидная. Она пугливо взглянула на старика.
— Это что? — кратко сказал Захар, указывая на лавку, и снова обратил взгляд свой в сторону.
Машка тотчас же покраснела и скрылась. А через минуту она уже усердно скребла ножом лавку и с усердием вытирала ее тряпкой.
— Так не возьмешь дешевле пяти рублей? — спросил я.
— Пока нет.
— А четыре с полтиной?
Захар не удостоил меня ответом. Лицо его как бы застыло в сухом и жестком выражении. {478}
— Ну так и быть, — согласился я, — но только парой?
— На одной доедешь.
Сказано это было так твердо, что я не решился возражать.
— А нельзя ли у тебя чаю напиться и ночевать? — сказал я.
Захар подумал.
— Машка!.. — закричал он.
Явилась Машка. Она испуганно расширила глаза при взгляде на старика.
— Сходи к целовальнику, самовар спроси. И чаю чтоб дал. Скажи, мол, нужно, — приказал он ей.
Машка опрометью бросилась к кабаку.
— Входите, — проронил старик.
Вместе со мною взошел было на крыльцо и Левончик.
— Ты чего? — спросил его Захар.
Тот замялся.
— Нечего шлындать… Ступай, ступай…
Левончик посмотрел на меня, подмигнул лукаво и распростился.
— Дармоеды! — напутствовал его Захар.
Я было попытался вступить с ним в разговор, но это оказалось совершенно невозможным. "Велика ли у тебя семья?" — спрошу я; он подумает и скажет: «Есть». "Как живут мужики в Лазовке?" — «Разно». И так во всем. А немного погодя и вовсе перестал отвечать: буркнет себе что-то под нос и глядит по сторонам. И еще я вот что заметил: проулок около крыльца был замечательно пустынен. Пробежит откуда-то свинья, пройдет осторожным шагом курица, и только. Люди как будто остерегались ходить здесь. Так, одна баба показалась было, но, увидав нас, тотчас же торопливо скрылась за угол. Долго уж спустя какой-то мужичонко деловой походкой прошел по проулку. Поравнявшись с крыльцом, он низко поклонился.
— Аль праздник? — насмешливо спросил его Захар.
Мужичонко остановился.
— Праздника никак нетути, — робко ответил он, в нерешимости переминаясь на ногах, — завтра, кабыть, праздник-то?
— Так, — произнес Захар и, по своему обычаю, подумал. — Ты где же это, у вечерни был? {479}
— К кузнецу…
— А! Сошники наваривал?
— Не то чтоб сошники…
— Чего же?
— Да насчет зубов, признаться…
— Болят?
— Ммм… — произнес мужичонко, качая головою, и схватился за щеку.
— Так… Значит, кузнец лекарь?
— Признаться, помогает…
— Как же он?
Мужичишка оживился.
— А вот, возьмет нитку, к примеру, — заговорил он, немилосердно размахивая руками, — возьмет и захлестнет ее на зуб. Ну, а тут как захлестнет, прямо возьмет и привяжет ее к наковальне… Вот, привяжет он, да железом, к примеру… прямо раскалит железо — и в морду… Ну, человек боится — возьмет и рванет… Зуб-то — и вон его!.. Здорово дергает зубы! И мужичок в удовольствии рассмеялся. Захар не сводил с него саркастического взгляда.
— Так в морду?.. железом?.. — вымолвил он. — Ну что же, вырвал он тебе зуб-то?
— Мне-то?
— Тебе-то.
— Да я, признаться, не дергал… Я, признаться, обсмотреться… Мужичок окончательно переконфузился.
— Не дергал! Обсмотреться! — пренебрежительно воскликнул Захар, — а навоз мне вывозил? А под просо заскородил?.. Не помнишь?.. Как муку брал, так помнил, а теперь зубы заболели? Железом?.. в морду?.. Я тебе как муку давал: вывези, говорю, ты мне навозу двадцать возов и заскородь под просо. А ты заскородил?.. У тебя вон брат-то на барском дворе мается, а у тебя зубы болят?.. Ты ригу-то починил? У тебя, лежебока, колодезь развалился ты поправил его? — И добавил с невыразимым презрением: — Эх, глиняная тетеря!..
Мужичок не говорил ни слова и только глубоко вздыхал, изредка хватаясь за щеку. А когда Захар умолк, он произнес жалобно:
— Лошаденки-то нету… {480}
— А, — сказал Захар, — ты с барина за брата деньги-то взял, ты куда их подевал?
— Подушное…
— Ну, подушное, а еще?
— Сестру выдавали…
— Сестру! Лопать нечего, в петлю лезете, а чуть налопались пьянствовать… Я тебя гнал муку-то у меня брать?.. Лошади нет, а на свадьбу шесть ведер есть?.. Пропойцы… Ты бы на четвертную-то лошаденку купил, а ты ее пропил… Шалава, шалава! Ты бы девку-то продержал, да в хорошем году и отдал бы ее… Бить бы, бить тебя, шалаву!
— Ведь не сладишь с ей, дядя Захар, с девкой-то!.. — беспомощно возразил мужик.
— Чего-о?.. Да ты кто ей — брат ай нет? То-то, посмотрю я на вас, очумели вы… Взял да за косы привязал, да вожжами, не знаешь? Разговор-то с ихним братом короткий… Ей, дьяволу, загорелось замуж идти, а тут работа из-за нее становись…. Нет, брат, это не модель! — Он замолчал, негодуя.
Мужичишка еще раз вздохнул, подождал немного и осторожно направился далее.
— Народец!.. — проронил Захар.
Я воспользовался его возбуждением,
— Плохой?
Захар махнул рукою.
— Я пришел из Сибири — не узнал, — сказал он, — все, подлецы, обнищали!
— А ты зачем был в Сибири? — спросил я с любопытством.
— На поселении был, — отрывисто сказал Захар.
— За что?
— По бунтам, — с прежнею сухостью ответил он, — супротив барина бунтовались… — И снова устремил взгляд в пространство.
А с крыльца вид был внушительный. За пологой долиной, в глубине которой неподвижно алела река, широким амфитеатром раскинулся лес. Солнце, закатываясь, румянило его вершины. Сияющий шпиц монастырской колокольни возвышался над сосновым бором, и золотой крест горел над ним, как свечка. {481}
В это время к нам подошли, один за другим, два старичка. Один, высокий и худой, поклонился молча и, неподвижно усевшись на лавку, стал, не отрываясь, смотреть на закат. Другой, кругленький и розовый, с пояском ниже живота и серебристой бородкой, поздоровался, улыбаючись, и распространился в бойких речах. Машка подала самовар. Я заварил чай и пригласил стариков. Кругленький поблагодарил и подсел поближе к самовару. Захар промолчал и отвернулся, третий же — его звали Ипатыч — ие шевельнулся.
— Не тронь его, — шепнул мне кругленький, — он у нас того… свихнувшись.
— Как?
— Да так, братец ты мой, как воротили нас из Томской, — мы ведь, хе-хе-хе, вроде как на бунтовщицком положении — вот я, дядя Захар, Ипатыч, да еще помер у нас дорoгой один, Андрон… Ты с нами тоже не кой-как!.. — И старичок снова рассмеялся рассыпчатым своим смехом. — Ну вот, пришли мы, с Ипатычем и сделалось… Зимой еще туда-сюда, а как весна откроется, кукушка закукует в лесах, он и пойдет колобродить: ночей не спит, какая работа ежели — не может он ее… в лес забьется, в прошлом году насилу разыскали… Но только он совсем тихий… Больше сидит все и глядит. Ну, и неспособный он, работы от него никакой нету. Семейские страсть как обижаются, им это обидно.
— Ироды! — кратко отозвался Захар.
— Это точно что… — торопливо подтвердил старик, — семейские у него не то чтобы очень, — и, нагнувшись к самому моему уху, сказал: — Сын-то и поколачивает его… Намедни сколько висков надергал — страсть!
— От них он и повредился, — сказал Захар.
— А пожалуй, и от них, — не замедлил согласиться старичок, — как пришел он, тут уж у них свара была… Ну, а при нем и пуще: сыны в кабак, бабы в драку… Так и пошло! А тут внучонок у него был, — свинья его слопала, внучонка-то… Мало ли он об ем убивался!
Вдруг Ипатыч обернулся к нам и тихо, как-то по-детски, рассмеялся. "Закатилося красное солнышко за темные леса", — произнес он словами песни. Я взглянул. Действительно, солнце скрылось за зубчатую линию леса, и только лучи его огненными брызгами разметывались в {482} розовом небе. Казалось, раскаленное ядро погрузилось в воду… По лесу прошли суровые тоны. Бор сразу стал черным и угрюмым. Темная зелень дубов явственно отделилась от бледной липовой листвы. В ясной реке отразилось небо, покрытое золотыми облаками.
Ипатычу подставили чай, и он усердно начал пить его, беспрестанно обжигаясь и дуя на пальцы. Придвинулся к самовару, как бы нехотя, и дядя Захар. Он с неудовольствием откусил сахар и с видом какой-то враждебности начал подувать на блюдечко.
— Ну, а Семка твой? — в промежутке чаепития спросил он у старичка.
— Что же Семка? Семка как был кобель, так кобелем и останется! ответил старик и вдруг горячо набросился на Захара. — Хорошо тебе говорить, Захар! — закричал старик. — Ты в Сибирь-то пошел, у тебя брат остался. Детей-то он тебе каких приспособил!..
— Брат порядок наблюдал строго, — согласился Захар.
— То-то вот!.. А тут, брат…
Тем временем пригнали скотину и вернулись из церкви семьяне Захара. Явилась старушка, чрезвычайно подвижная и вместе молчаливая, явилась баба, постарше Машки, с плоской грудью и с выражением скорби, застывшим на тонких губах. Над селом повисли хлопотливые звуки. Кричали бабы, скрипели ворота, блеяли овцы… Щелканье кнута сливалось с отчаянным ревом коров, и крепкая ругань разносилась далеко. Бабы ушли доить коров. Дядя Захар удалился на гумно готовить резку… А кругленький старичок принялся за расспросы. Чей я, откуда и куда еду, много ли за подводу отдал Захару, сколько у меня десятин земли, жива ли моя мать и женат ли я, — все расспросил он, а по расспросе сказал, понижая голос:
— Дорого ты отдал Захару. Я бы взял дешевле. Он ведь жила у нас… Он кулачина, я тебе скажу, такой… Он припер теперь деньжищи-то из Томской и ворочает тут. У него село-то все, почитай, в долгу… А уж выпросить у него чего — снега посередь зимы не выпросишь! Прямая костяная яишница… А ты передал ему… Эх ты!
Но немного подумавши, он сказал:
— Крепкий человек Захар, справедливый человек. Он жаден, это точно… Но вместо того, все ж таки человек он {483} твердый!.. Нас как барин выселял, он за мир-то грудью… И пороли его в те пор… Боже ты мой, как пороли!
Старичок с удовольствием чмокнул губами.
Свечерело. В небе одна за другой стали загораться звезды. Повеяло прохладой. В долине седой пеленою опускалась роса. Любознательный старичок опрокинул чашку и куда-то скрылся. Мы остались одни с Ипатычем. Я долго глядел на него. Холодный чай стоял около него забытый, и он сидел в тяжком раздумье. На лице не было признаков безумия, только глаза были как-то странно неподвижны. В лице же стояла неизъяснимая печаль и только. Казалось, пред ним давно уже, с жестокой внезапностью, открылась какая-то тоскливая картина, и теперь он не может от нее оторваться. А когда я привлек его внимание громким возгласом, он как-то жалобно съежился и растерянно посмотрел на меня. Так глядит на вас собака, истомленная долгими побоями…
Вошла Машка и стала прибирать посуду. Теперь лицо ее не выражало испуга, но было сердито и нахмурено.
— Ишь, старые черти, полакали чаю-то!.. — сказала она вполголоса, окидывая недружелюбным взглядом бедного Ипатыча.
Немного погодя ко двору подъехали лошади с сохами, и молодой парень встревоженным голосом спросил Машку:
— Батюшка где?
— На гумне. А что? — спросила Машка.
— Мерин подкову потерял, — с отчаянием сказал парень и злобно ударил мерина по морде.
— Строг у вас старик-то! — заметил я.
Машка промолчала. Только по гримасе, пробежавшем по ее лицу, я понял, что старик действительно строг.
— Ты кто ему приходишься? — спросил я.
— Сноха.
— А парень-то этот кто?
— Федька. Муж мне.
— Неужели из-за подковы будет сердиться свекор?
— Со света сживет, — мрачно сказала Машка. Я вошел во двор. Везде был образцовый порядок. Телеги, окованные железом, стояли под навесом. Там же виднелись сани, старательно сложенные рядами. Середина двора была чисто выметена. Федька убрал под навес сохи, {484} обмахнул пучком соломы сошники и сверкающие палицы и повел лошадей на гумно. Лошади были гнедые на подбор, косматые и сытые. В хлевах бабы доили коров, лениво пережевывающих жвачку.
Я пошел за Федькой на гумно. Там, так же как и на дворе, царствовал изумительный порядок. Скирды старой ржи, великолепно сложенные, красиво возвышались за ригой. В предохранение от мышей они со всех сторон были обрезаны косою, что придавало им вид особенной правильности. Рядом со скирдами виднелся стожок сена, тщательно покрытый соломой и обтянутый крепкими притугами. Рига, крытая сторновкой, была новая и большая. Федька привязал лошадей к чану около риги. А внутри слышался разговор.
— Ты уж, Захар, уважь меня, — жалобно тянул голосок кругленького старичка.
— Что же мне тебе уважать, — холодно говорил Захар.
— Ей-богу, ведь кобыленку последнюю продать впору… Ты уж меня пожалей!
— Тут жалость-то одна: запрягай да вези. Да на чем ты повезешь-то?
— Как на чем! На кобыле повезу!
— А хомут? Я ведь, друг, не дам.
— Что ж хомут… Мне Семка даст хомут.
Помолчали.
— Вези, мне что! — равнодушно произнес Захар. — Вези… Только целковый мне.
— Многонько! — плаксиво воскликнул старичок.
— Не вози. Я пошлю Федьку, он свезет. Как знаешь.
— Ну, так и быть, — поспешно согласился старик, — видно твой верх, моя макушка!..
Оказалось, что дело шло о моей особе…
— Ты, видно, с ним поедешь, — сказал мне Захар.
Мне было все равно.
— А рубль давай в задаток.
Старичок замахал было руками и начал говорить, что нечего беспокоить барина из-за рубля, но когда Захар повторил своим деревянным голосом: "Как знаешь!", он засеменил ножками и стал доказывать, что действительно задаток нужен, "для верности…" Я вручил Захару рубль. {485} Он внимательно помусолил его и с суровостью завязал в кошель. Мы пошли со стариком обратно к крыльцу.
— Ты знаешь, как меня зовут-то?.. — возбужденно вполголоса заговорил он. — Меня Мартыном зовут… А ты зря надавал ему пятишницу-то — эх, жила он у нас!.. Я тебя как бы важно за четыре-то рублика отомчал, любо-два!.. А теперь вот выскочил рублик из кармана… а? Разве у тебя их много, рублей-то?.. Вот что, милячок, дай-кось ты мне двугривенный на деготь… Я тебя вон как предоставлю: стриженая девка косы не успеет заплести… хе-хе-хе… (Я ему дал двадцать копеек). А теперь вот что я тебе скажу: вставай ты завтра ра-а-ано-рано и прямо ступай по проулку… И прямо как дойдешь ты вон до энтой избы — я и буду тебя поджидать. Телега у меня хоро-о-ошая, уёмистая… Эх, отомчу я тебя! — И Мартын обстоятельно показал мне, до какой избы нужно дойти.
— Да зачем же это? — удивился я. Но Мартын только таинственно замахал руками и ничего не ответил.
Спать я лег под навесом двора. Там было хорошо: пахло свежим сеном и дегтем. Захар ушел в ригу. (За чай он взял с меня тридцать копеек.) Старуха осталась в избе, мрачной и переполненной тараканами. Других я не заметил. Только около полуночи в соседстве со мною послышались осторожные голоса. Один принадлежал Машке.
— Ты вот смотри ему в глаза-то! — в ужасном возбуждении говорила она, спеша и захлебываясь. — Он тебе не токмо что — он тебя изведет всего… Ноне тоже матушка свекровь как хлобыснет половником, так рука и хряснула… Я стою плачу, а он вошел. Вошел, да как зявкнет на меня, у меня и рученьки опустились… У людей-то завтра пироги, а у нас лепешки велел… А в амбаре муки целая прорва… А сноха Катерина рвет и мечет: позавчера она доила комолую, а я вчера хватилась — молока-то нет… Туда-сюда, а нонче уж на меня сваливает…
— Нонче за подкову уздой меня, — медленно произнес Федька.
— То-то вот уздой! — заторопилась Машка. — Ты все молчишь… Вон у Федоськиных так-то: полаялся, полаялся старик, а Демка взял да и ушел от него… А ты все… Летось много ли ты на базаре-то выпил, а он как тебя муздал… Ноне ребят — и тех так не бьют… А тебе все мало!.. У меня коты вон разбились, а ну-ка, скажи… Я зиму-зим-{486}скую на машину-то ходила, а теперь пришло время — сиди без котов. Вон Малашка Гомозкова как вышла на улицу, у ней коты-то новенькие!.. Да взяла еще, стерва, позументом их обложила. А тут ходи в лаптишках.
— Ведь сплел тебе с подковыркой!.. — с неудовольствием возразил Федька.
— С подковыркой!.. — в обиде отозвалась Машка, — ноне люди-то не токмо лапти — коты кидают… Намедни Стешка-то Шашлова, какой человек, и та полботинки купила… Легче же я в работницы уйду на барский двор… Мне к мамушке показаться — стыда головушке… И то уж ребята загаяли!.. Он, старый, деньжищи-то хоронит, а тут на улицу выйти не в чем…
Послышались всхлипывания.
— Ну, молчи…
— Как же!.. Стану я молчать!.. — не унималась Машка. — От работы света не видишь, а тут ходи черт-те в чем… У людей пироги — Павликовы на что побирошки, и то пироги у них, а тут аржаные лепешки трескай…
— Молчи, дьявол! — зашипел Федька.
Затем я различил звук здоровой затрещины, сдержанный вопль, и все стихло.
Разбудило меня странное обстоятельство. Мне показалось, что к моему боку прикоснулось что-то твердое. Но так как в небе едва брезжило, я снова закрыл глаза. Однако прикосновение повторилось, и на этот раз сопровождаемое таинственным шепотом.
— Вставай, барин, — шептали из-за плетня, — вставай… Это я, Мартын, возчик твой…
Я вскочил. Оказалось, что Мартын продел сквозь плетень палочку и этой палочкой толкал меня в бок. Я подивился этим подходам Мартына.
Когда заспанный Федька выпустил меня из сеней, на дворе было уже достаточно светло. На востоке кротким румянцем загоралась заря. Я прошел по проулку до условленного места. Из-за угла избы беспокойно выглядывал Мартын. Он поманил меня пальцем и скрылся. Я пошел вслед за ним. За углом стояла взъерошенная лошаденка в истерзанной сбруе и в громадной телеге, щедро нагруженной соломою. К телеге на скорую руку приделан был облучок. "Садись живее", — шепотом сказал мне Мартын и, проворно вскочив на облучок, стегнул кнутом {487} лошаденку. Но тут случилось нечто изумительное по своей неожиданности: только что мы тронулись, как вдруг нас нагнал мужик и повис на вожжах. Был он с расстегнутым воротом, без пояса и без шапки.
— Ты что, старый черт, делаешь? — закричал он.
— А ты что? — взвизгнул Мартын и принялся нахлестывать лошаденку.
— Вре-е-ешь!.. Не уйдешь!.. — кричал мужик и уперся в землю. Несчастная лошаденка закрутилась и стала.
— Отдай, отдай, говорю! — благим матом орал Мартын, силясь вырвать вожжи.
— Не-эт… Погоди-и-ишь… — рычал мужик, весь красный от напряжения.
Я вмешался. "В чем дело?" — спросил я. Но несколько мгновений ничего нельзя было разобрать. И Мартын и мужик шумели ужасно. Наконец дело выяснилось. Оказалось, что мужик был сын Мартынов — Семка и что хомут и вообще вся сбруя на нашей лошаденке принадлежали ему (он был отделенный). Мартын с вечера забрался к нему в клеть и стащил ее. Отсюда таинственность, которою облекался мой отъезд. После долгих переговоров, перемежаемых упреками и жестокой руганью, а также попытками Семки распрячь кобылу, пришли к следующему соглашению: Мартын из условленной платы даст Семену рубль. Но когда все казалось улаженным, вдруг предстало затруднение: у меня на беду вышла вся мелочь, и я не мог выдать этот несчастный рубль тотчас же. Снова посыпались упреки, и снова Семен начал стягивать с лошаденки узду.
— Стой! — нашелся Мартын, — коли ты мне не веришь, собачий сын, поедем вместе.
Семка запустил в раздумье руку в лохматую свою голову и остановился. "Ну ладно!" — сказал он после некоторого молчания и полез на облучок. Я ему напомнил о шапке: тогда он снова задумался и в нерешительности посмотрел на отца. "Иди, леший, куда тебя понесет без шапки-то!" — увещевал его тот. Наконец, при моем содействии, Семка слез и, подозрительно оглядываясь, удалился. Когда мы остались одни, Мартын покачал головою и сказал: "Делла! — и после короткой паузы с живостью произнес: — Ай уехать?" Но сам же и ответил себе: "Нет, не уедешь!.. Он кобель, Семка-то, чистый кобель!" {488}
Семка вернулся очень скоро и даже забыл подпоясаться.
Никогда я не забуду этой долгой дороги и этой шершавой лошаденки, кропотливо трусившей под тяжестью громадной телеги и трех здоровенных путешественников. Правда, мы часто останавливались на лужайках и выпрягали кормить ее. А во время жары простояли часа четыре. Тут же, во время этой стоянки, я сделал находку: в кармане жилета обрел двугривенный. Возчики мои моментально выпросили его и в ближайшем кабаке пропили. С тех пор во всю дорогу пошли у них нескончаемые пререкания. Семка относился к отцу с высокомерием и насмешливо. Мартын горячился.
— Бездомовники! — кричал Мартын, — я, может, в твои года-то до кровавого пота работал!.. Я на двадцатом году водку-то узнал, как ее пьют… А вы и ум-то весь пропили!
— Умники! — возражал Семка, — то-то вас и пороли, умников-то… За ум-то вас и драли!.. Солдаты вышли с ружьями, а они на ружья лезут… Умники!.. От ума-то и в Сибирь гоняли!..
— От ума!.. А ты думал, не от ума… Мы за мир!.. — кипятился Мартын.
— За мир!.. Много тебя мир-то попомнил… ты как у целовальника жилетку-то оборвал, помиловал тебя мир-то?.. Мало тебя гладили-то?.. За ум-то за твой!
— Мир-то велик! — в некотором смущении оправдывался Мартын, — мир накажет — срама никакого нету… Дело было в драке, а жилетка — она денег стоит… А вы вот пропойцы!.. Тебя небось каждую весну за подушное-то жарят…
— Сказывай!.. Мы, как-никак, не воруем…
— А я ворую?! А я ворую?!
— Воруешь.
— Брешешь! Прямо ты брешешь… ты, бесстыжие твои глаза, людей бы постыдился!
— Нечего мне стыдиться.
— Нечего, а?.. Вот и брешешь… Ты корову пропил… У тебя одна была тележонка, ты и ту о Покрове в орлянку проиграл!..
— И проиграл, — невозмутимо ответил Семка, — а ты все-таки воруешь!.. {489}
— Что я украл? что? говори, говори…
— Кочан капусты украл!
— Когда?! Когда?! — в неописуемом волнении заголосил Мартын.
— Когда? — спросил Семка и пренебрежительно посмотрел на Мартына. — Эх ты, воришка! — сказал он.
— Нет, я не воришка, а вот ты так вор. Кто в барском лесу березу-то срубил?
— Попал! — насмешливо произнес Семка, — да я у барина, может, сто берез нарублю, так это разве воровство?.. Эх ты… А еще старик!.. Лес-то он божий!.. А вот кочан-то ты украл, — Семка оборотился ко мне. — Я иду этак около полден, — сказал он, — а он крадется промеж гряд… Я — хвать, а у него кочан в подоле… Ну, я его пощипал маленько.
— Брешет все! — оправдывался Мартын и с озлоблением стегал лошаденку.
А ночь опять сходила на землю. Лошаденка усердно трусила по гладкой дороге. Кругом во все стороны расходилась степь. Там и сям виднелись копны; подымались стога высокими громадами; светились огоньки у косарей… Иногда добегала до нас песня и разносилась над степью протяжным стоном. Телега плавно колыхалась и трещала однообразным треском. Какое-то странное изнеможение одолевало меня. Я то закрывал глаза, то с усилием раскрывал их. Мне казалось, что мы плывем в каком-то бесконечном пространстве и синяя степь плывет вместе с нами. А на душе вставала тоска и насылала сны, долгие, тяжкие, скорбные…
В полночь мы приехали к Ерзаеву. {490}
XIX. Крокодил
Я познакомился с Крокодилом в Батеевке.
Но вы не знаете Батеевки? О, это славная усадьба, и хозяева ее славные люди. Кроме того, они либералы. Сам Петр Петрович даже в некотором смысле пострадал за свои убеждения, и пострадал, по его словам, из-за любви к мужику.
Что же касается до Олимпиады Петровны, — она не страдала за свои убеждения. Она только очень мило путала волосы Петра Петровича, когда он рассказывал о своем увлечении "теоретическим мужичком", и сладко восклицала: "О, мой романтик!" — на что Петр Петрович меланхолически улыбался.
Но теперь он уже не был романтиком. Он, по его словам, «раскусил» мужика и, отчаявшись в его лучезарности, обратился в образцового сельского хозяина. Но, вместе с тем, он, как и подобает просвещенному человеку, не забывал «принципов». Каждый сельскохозяйственный поступок свой, каждое свое распоряжение о починке хомута на счет неисправного рабочего или об изловлении мужицкой коровы, пожирающей его траву, он с усердием притягивал к возвышенным принципам. Так кучер притягивает друг к другу клещи неподатливого хомута, налегая на них коленом… А превозмогающим принципом был у него один: внесть в заскорузлую мужицкую душу идею порядка, черствого и сухого, как старая пятикопеечная булка, и посвятить этого мужика в очаровательные секреты культуры. Для этого ("и только для этого!", — как уверял он) все его хозяйство было поставлено на «либеральную» ногу. Сохи и допотопные сабаны заменились {491} рансомовскими плугами; ручной разброс семян уступил место механическому; неуклюжая молотилка, воздвигнутая крепостным изобретателем Федулаем, отстранилась в пользу паровой машины Маршаля… И так во всем. Изящные хомуты и шлеи, красивые фуры и вилы, окрашенные в однообразный зеленый цвет, — все это заклеймилось яркими номерами и поступило на руки годовых рабочих. Каждую субботу производилась поверка. Недостающая вещь моментально вползала в пассив злополучного батрака, и всякий разорванный ремешок неукоснительно отзывался на его бюджете.
Впрочем, иногда проверка производилась не самим Петром Петровичем, и тогда принцип страдал. Тогда происходило то, что рабочие называли: "Бить морду по номерам". Дело в том, что ключник Малафей, заменявший в таких случаях барина, имел какое-то неизъяснимое отвращение к отметкам в книге и всякий недостаток в инвентаре предпочитал возмещать руганью и мордобоем. И рабочие всегда радовались, когда суровый Малафей выступал на сцену, а мягкий барин, посвистывая, уходил в дом, откуда призывно неслись звуки шопеновской мазурки и либеральные разговоры неосторожными раскатами будили сельскую тишину.
Олимпиада Петровна деятельно помогала мужу. Она отвешивала рабочим хлеб, штрафовала коровниц, посещала кладовые и ледники, а в промежутках читала умные книжки и рожала здоровых и розовых детей, которых Петр Петрович величал "будущими интеллигентами".
Нужно ли добавлять, что Батеевы сторонились "консервативных элементов"? О да, — они их очень сторонились. Их общество по обыкновению состояло или из деловых, нужных людей, и тогда не редкость было встретить в щегольской батеевской гостиной прасола Уcтюшкина, или из господ образа мыслей самого возвышенного и даже благородного.
Вот у этих-то милых и передовых людей я гостил однажды. Олимпиада Петровна была в детской и производила с будущим интеллигентом какие-то в высшей степени либеральные манипуляции. Мы с Петром Петровичем сидели в кабинете и говорили о важных материях.
Но нам надоело говорить о важных материях. Мы начали курить, слегка вздыхая, и сосредоточенно погляды-{492}вали в окна. Не подумайте, однако же, чтобы за окнами было что-либо особенно примечательное. Там зеленел пруд, покрытый водорослями (дело было в июне), стояли ленивые березы, расслабленно поникнув ветвями, да синело бесконечное ласковое небо. Ближе пруда плотники рубили новую кухню. Синие и коричневые рубахи плотно облепили стены, и сверкающие топоры однообразно гремели.
— Чьи у вас плотники? — спросил я Петра Петровича.
— Э, да разве вы не слыхали! Это знаменитая Сазонова артель работает.
Я кое-что слышал об этой артели, но все-таки спросил:
— Чем же она знаменитая?
— Работники великолепные. Трезвость, смышленость, распределение труда, взаимные отношения — изумительнейшие.
— А вот вы все говорите… — не утерпел я, чтобы не упрекнуть Батеева. Но он вдруг взбеленился.
— Что я говорю?! Что?! — вскинулся он на меня, отрываясь от сигары. Человек я смирный, и мне его натиск показался неприятным.
— Всегда насчет мужика говорите как-то… — возразил я.
— Как я говорю? Я говорю, что стадо ваш мужик. Что без героя, без личности — поступать ему в архаические музеи. Вот что я говорю. Так на это я право имею. Я на своей шкуре… — Тут Батеев внушительно потряс отрепьями истерзанной своей альмавивы.
— А Сазонова артель?
— Что Сазонова артель?
— Да сами же вы говорите…
— Что я говорю?..
— Хвалите, и вообще… ну, превозносите, что ли.
— Так разве это потому я ее хвалю, что она артель? Какая она к черту артель. Она ерунда, а не артель. Да и все наши артели ерунда.
— В чем же дело-то, позвольте вас спросить?
Петр Петрович посмотрел на меня иронически и отрезал:
— В порядке.
— Как в порядке?
— А вот погодите, — сказал он, взглянув в окно, — {493} я вам покажу, как в порядке. Смотрите. Видите: на жирном жеребце подъехал пузатенький человечек?
— Вижу.
— В нем и заключается порядок.
— Да кто же он?
— Это Сазон. Жена прозвала его Крокодилом. Именно Крокодил, проглотивший утленькое и беспомощное созданьице, эту вашу мистическую артель. Теперь смотрите, как артель встречает Крокодила.
Я смотрел. В то время как Крокодил подъехал к плотникам, взмыленный жеребец остановился. Плотники дружно поднялись и отдали пузатенькому человечку низкий поклон. Затем из них отделились два человека в бородах, почтенного вида и немолодые ("Десятники!" — сказал Батеев), и поспешно направились к тележке. Пузатенький человек сидел недвижимо. Когда же десятники подошли к нему, он шевельнул головою и приподнял картуз. Потом каждому из них ткнул руку для пожатия.
— Что у вас? — произнес он сиповатым басом.
— Благодарение господу, — ответили десятники в один голос и с какой-то особой певучестью в голосе. Крокодил подумал. Затем совершилось следующее. Он в молчании протянул руки, и десятники, подхватив его под мышки, стали бережно высаживать из тележки. Лицо его, круглое и пухлое как дождевик, во все время этого высаживания хранило вид великолепнейшего равнодушия. Сивые волосики реденькой и плюгавой бороденки важно топорщились во все стороны. Вытаращенные глазки изображали ленивое величие.
— Живот не прищемите, — кратко выразился он, отдаваясь объятиям десятников.
— О господи! — воскликнули те в преизбытке почтительности.
Наконец он стал на ноги. Тогда десятники чуть не на голову очутились выше его. Зато он значительно превосходил их шириною: я редко видывал утробу более внушительную! На ногах его блистали сапоги с традиционными бураками. Длинный сюртук, застегнутый на все пуговицы, был на животе немилосердно засален. Став на ноги, он тяжело вздохнул, снял картуз, отер платком вспотевшую голову, подумал с минуту и снова протянул руки. Десятники снова проворно подхватили его и повели к работам. {494}
— Что это такое? — в недоумении обратился я к Батееву.
Он хохотал, катаясь по дивану.
— Хорош ритуал? — вырвалось, наконец, у него посреди смеха.
— Да что это, идол, что ли, какой?
— Ничуть не идол. Это просто мужик, глупый как бревно, и у которого в кармане преизряднейший капиталец. Это — Крокодил.
— Сазон?
— Он самый. Да разве вы никогда не слыхали? Он самый налицо и есть.
— Я думал, что подрядчиков у артели не существует?
— Да он и не подрядчик. Кто вам сказал, что он подрядчик? Он просто бог ихний. Смотрите!
Я посмотрел и действительно готов был убедиться, что артель составляет из себя какую-то мистическую секту и что Крокодил играет в ней роль бога. Почтительно поддерживаемый десятниками, он важно и медлительно расхаживал по постройкам. Плотники при его приближении оставляли работу и низко склоняли головы. На это получался легкий кивок, и шествие продолжалось. После того как все было осмотрено, целая толпа окружила Крокодила и направилась в свое помещение. Он шел впереди, тупо и значительно озираясь по сторонам. Непосредственно за ним следовали наиболее почетные люди артели. Дальше шла молодежь. Из тележки достали бутыль водки и окорок, и шустрый подросток торжественно нес это. Сзади процессии, сдерживая рьяного жеребца, шагом ехал кучер… Наконец вся артель скрылась за углом.
— Видели? — спросил Петр Петрович. Мне в его вопросе послышалось какое-то злорадство. Так мой знакомый выкрест из жидов, Мысей Петрович Хайкин, обращал мое внимание на еврейку, случайно очутившуюся без парика.
— Не понимаю, — чистосердечно сознался я.
— А между тем это очень просто. По-моему, это жажда порядка… Артель сначала действительно существовала без главы, и, говорят, было худо. Главное, и вследствие условий заполучения подрядов было худо: зимою артели деньги нужны, а брать их было негде; если где и рядились — задатки давались небольшие. Это раз, это {495} внешняя сторона дела. Другая — внутренняя путаница: никто не хотел подчиняться; вылезали наружу личные счеты, зачиналось пьянство, отлынивание от работы… Одним словом, артель заживо разлагалась. Вот в эту-то поистине трагическую для артели минуту и появляется Крокодил. Он такой же рязанский мужик, как и все, с тою разве разницею, что глуп; но у него умирает дядя, торговавший тесом, и оставляет ему пятьсот целковых. Кроме того, Крокодил ужасно молчалив и честен; то есть там по-своему, по-ихнему, честен. Ну, и стал этот Крокодил зимою им деньги давать, а летом брать подряды. Из артели он понаставил десятников. Вот у меня работают двадцать три человека, и над ними два десятника. Они наблюдают за порядком; смотрят, чтоб не было куренья, пьянства, лени. И за все за это, с общего соизволения, происходит порка. Вы не верите? Да-с, именно, самая первобытная, самая настоящая порка!.. У них, ежели закурил цыгарку парень на работе — пороть, зашел в кабак — опять пороть, не послушался десятника или изругался матерным словом — снова и снова его пороть, голубчика… Нравы спартанские!
— И подчиняются?
— Ах, чудак вы!.. Да как же не подчиниться?.. Ведь что он сам по себе? — Нуль… Во-первых, не подчинись, — артель его выгонит, без ней он работы не найдет; а во-вторых, прямо уж ему Крокодил в деньгах откажет. И тогда… ну, понимаете, что тогда?..
— Так он просто, значит, подрядчик.
— Ну, зачем же вы так круто. Подряд снимать он приезжает не иначе, как в сопровождении двух человек из артели. Затем свои резолюции не кладет… Все у него «собча» и с общего согласия. Он вот заметит, ежели малый работает подло, он сейчас к артели: так и так, надо поучить малого. И артель учит. Ну, а за денежки за свои он берет пользу! У него, посмотрите-ка, в Козлове дом-то какой, а с пятисот рублей пошел!.. В последнее время, говорят, роялино какое-то с ручкой завел: по целым часам сидит за этим роялино и хор нищих из «Фауста» отжаривает!
— Но зачем же он нужен артели?! — воскликнул я, — ведь сумей она добиться кредита, и Крокодил этот является совершеннейшим пятым колесом! {496}
— Ах, как вы ошибаетесь! Вы плохо знаете народ, Николай Василич. Я имею право судить о нем… Я на своей шкуре… Не кредит тут главное, а главное — пришел к ним порядок в лице Крокодила. Вот в чем подоплека-то самая — порядок-с! Удалите-ка от них Крокодила, да они в тоске измаются… Помилуйте!.. Есть страх, палка, неумолимая как фатум, цемент. Есть смысл совокупного проживательства!..
— Петр Петрович! — воскликнул я в ужасе.
В эту неловкую для обоих нас минуту вошел лакей Евдокимка и степенно доложил:
— Сазон Психеич пришли-с.
— Зови, — с живостью произнес Батеев.
В кабинет боком пролез Крокодил. Он решительно сунул Батееву руку свою с толстыми, точно обрубленными пальцами, затем сунул ее мне и, не дожидаясь приглашения, тяжело ввалился в кресло. Я снова оглядел его: ну, толстяк! Лицо его казалось слепленным из теста и вот-вот было готово расплыться. Глаза глядели тупо и неподвижно. Он часто вздыхал и отирал лицо новым батистовым платком.
— Откуда едешь, Сазон Психеич? — спросил его Петр Петрович.
Тот вяло посмотрел на него.
— По ребятам езжу, — вымолвил он.
— Глуп, как этот стол, — шепнул мне Батеев и для вящей убедительности постучал по столу кулаком.
— Ну что, все в порядке?
— Это чего? — в недоумении спросил Крокодил.
— Везде порядок, говорю? Все как следует?
— Гм… — Крокодил задумался: он, видимо, не понимал вопроса. Петр Петрович подмигнул мне.
— В артели-то все благополучно, спрашиваю? — повторил он, возвышая голос.
— Ничего себе, — равнодушно ответил Крокодил.
— Скажите, пожалуйста, правда — вы порете, ежели кто забалуется? спросил я.
— Бывает.
— Разве же нельзя без этого?
Он поглядел на меня. Мне показалось, что в заплывших глазах его проскользнуло лукавство.
— Это уж как артель рассудит. Как она. {497}
— Ну, а собственной властью не порете?
— Чего это-с? — Он снова не понял вопроса.
— Барин спрашивает, сам-то ты, без артели, порешь когда или нет? пояснил Петр Петрович.
Крокодил усмехнулся.
— Помилуйте, разве это возможно, чтоб без артели?
— А почему же нельзя?
Крокодил на мгновение задумался, но потом ответил с легким смехом:
— Шутить изволите.
— Положительный идиот! — шепнул мне Батеев.
— Ну, а каким вы пользуетесь процентом на капитал, что даете артели? полюбопытствовал я.
— Чего это-с? — беспомощно спросил Крокодил и вдруг ужасно вспотел.
Я повторил вопрос.
— Мы не обучены по эфтому… — сухо произнес он и, глубоко вздохнув, обратился к Петру Петровичу: — Вы уж, батюшка, пожалуйста, говядинку-то получше давайте!..
— Как получше! — вскочил Петр Петрович. — Да лучше моей говядины не найдешь!..
— Нет уж вы, пожалуйста, получше, — упрямо повторил Крокодил.
Петр Петрович пожал плечами.
Вошла Олимпиада Петровна. Крокодил и ей сунул свою потную, пухлую руку. Она сделала легонькую гримаску, но руку пожала.
— Как здоровье супруги? — любезно спросила она Крокодила.
— Ничего себе, — ответил Крокодил и прибавил неприличное слово.
Олимпиада Петровна усмехнулась, но не покраснела. Петр Петрович снова пожал плечами и постучал по столу. Вдруг Крокодил засуетился и стал прощаться. Олимпиада Петровна предложила ему остаться обедать. Он отказался, говоря, что ему нужно к артели; вечером же обещался зайти. Затем опять посовал рукою и ушел.
— Дурак! — сказали в один голос Батеевы по уходе Крокодила.
Я попросил у них извинения и вышел вслед за ним. Он шел костыляя и переваливаясь и тяжело опирался на {498} яблоневую палку. Пузо свое он нес с каким-то достоинством и, видимо, щеголял его обширностью. Я дал ему скрыться в той избе, где жили плотники, и спустя двадцать минут последовал за ним. Артель обедала. В конце длинного стола восседал Крокодил. Перед ним стояла наполовину опорожненная бутыль и лежала ломтями нарезанная ветчина. Около него так же, как и прежде, помещались почетнейшие лица артели. Все ели истово и, если можно так выразиться, в глубоком благоговении.
— Хлеб да соль! — сказал я.
Крокодил буркнул что-то; один из его соседей предупредительно дал мне место на скамейке. Я взял ложку и попробовал щей; щи оказались превосходнейшие. После щей Крокодил сказал, прижмуривая глаза:
— Насыпь по стаканчику.
Один из десятников взял бутыль под мышку и начал обходить с нею стол. Все выпили. Во время паузы, наступившей после щей, языки несколько развязались. Послышались степенные замечания насчет инструментов, способа рубки и т. п. Вдруг раскрыл уста Крокодил.
— Петрович, — вымолвил он, — твоя мать, Петрович, денег просит. Прислала письмо.
Петрович, детина лет тридцати пяти, смуглый и мужественный, принялся рассматривать ложку.
— Давать ли денег Петровичу? — продолжал Крокодил.
После некоторого молчания один из десятников спросил:
— А много ли?
— Это чего-с?
— Денег-то много ли, Сазон Психеич?
— Денег две десятки.
Опять наступило молчание.
— Оно, конечно, — произнес один из соседей Крокодила, — оно отчего не дать… — Он крякнул. — Оно дело удобное… Только вот по кабакам, ежели…
Петрович вдруг бросил ложку и обратил смущенное лицо к Крокодилу.
— Что ж, по кабакам, — заторопился он, — я разве что говорю… Я зашел в кабак. Ну, положи мне за это… Я не сто… Я ведь прямо говорю: хоть сейчас…Но только матушка ни в чем тут не повинна. {499}
Крокодил подумал.
— Ну хорошо, Петров, — наконец сурово произнес он, — деньги я матери пошлю… Это пошлю. А уж поучить тебя надо… надо. Вот ужо поучите его, ребята. Слегка, а поучите.
Петрович немного побледнел и осунулся. Все стали есть кашу, и ели с какой-то серьезной сосредоточенностью.
— Вот тоже с Ефимкой что нам делать? — сказал десятник.
— А что?
— Цыгарки курит.
Крокодил снова подумал, но, подумавши, ничего не ответил. Десятник прискорбно вздохнул. После обеда Крокодил помолился и сел в сторонке. Плотники в глубоком молчании выходили из-за стола, медленно крестились на икону и, степенно подходя к Крокодилу, отвешивали ему низкий поклон. Когда эта процедура была кончена, Крокодил вздохнул и произнес:
— Ефим!
К нему подбежал молодой малый, еще без малейшего признака пуха на бороде.
— Ты что же это, Ефим, цыгарки куришь? — спросил его Крокодил.
Тот повалился в ноги.
— Сазон Психеич!.. Век не буду! — молил он.
Крокодил отстранил одну ногу, вероятно для того, чтобы Ефимке удобнее было валяться по земле, и несколько минут равнодушно смотрел на него.
— Ежели простить его на первый раз, — вопросительно произнес он, ежели теперь простить его, а в другой — выпороть?
Все молчали.
— Егорыч, потряси-ка его за виски! — сказал Крокодил.
Десятник усердно вцепился в Ефимкину голову и пребольно оттрепал его. После трепки Ефимка снова поклонился в ноги Крокодилу и, сдерживая слезы, скрылся в толпе. Там его встретили осторожным хихиканием.
— Ну, ступайте, я сосну малость, — вымолвил Крокодил, и плотники тихою гурьбою вышли из избы. Остались десятник Егорыч и я. {500}
— Мы в пятницу Фому пороли, — кратко заявил Егорыч.
Крокодил зевнул.
— Скверным словом выругался, — продолжал Егорыч.
— Что ж, это хорошо, — лениво отозвался Крокодил, преодолевая новый зевок.
Я простился и ушел. Вслед за мной пошел и Егорыч.
— Почитаете вы Сазона Психеича, — сказал я.
— Отец!.. — с чувством ответил Егорыч. — Мы с ним свет увидели. Теперь ведь против наших артельных порядков хоть всю Рязань обойди, — не найдешь. Что насчет строгости, что насчет чести… Нас ведь и господа помещики за это уважают. Лишние деньги платят!
— А много, пожалуй, наживает от вас Сазон Психеич?
— Как, поди, не наживать. Наживает, — хладнокровно произнес Егорыч.
Вечером пришел Крокодил. Свечей еще не зажигали. Он прошел тяжелой поступью в зал и смолк. Мы с Петром Петровичем сидели в кабинете; Олимпиада Петровна суетилась по хозяйству.
— Что он теперь делает? — сказал я, входя в положение Крокодила, оставленного в пустынном зале.
— А спит небось, чего же ему еще делать! — пренебрежительно произнес Петр Петрович.
Но чрез несколько мгновений робкий звук рояля достиг до нас.
Батеев прыснул.
— Ведь это Крокодил играет! — воскликнул он.
Мы тихо подошли к дверям зала. Действительно, неуклюжая и тучная фигура Крокодила виднелась за роялью. Указательным пальцем заскорузлой руки он странствовал по клавиатуре и, видимо, подбирал ноты. Я прислушался: было некоторое сходство с «Лучинушкой». Но часто верный звук сопровождался ужаснейшим диссонансом, и тогда Крокодил тяжко вздыхал.
Принесли свечи, и мы вошли. Крокодил конфузливо поднялся из-за рояля и, отираясь гремящим своим платком, опустился на стул.
— Любишь? — спросил Батеев, указывая на рояль.
— Штука важная, — ответил Крокодил и улыбнулся.
— Ну, погоди, барыня придет. Она тебя утешит.
Мы вступили в посторонние разговоры. Крокодил {501} упорно молчал и потел. Я его попробовал втянуть в разговор. Это оказалось положительно невозможным: он путался и не понимал самых простейших вещей. Часто отвечал совершенно невпопад и, видимо, страдал. Тогда мы его оставили в покое.
— Где же будет барыня? — спросил он немного спустя и покосился на рояль.
— Придет, придет.
Действительно, Олимпиада Петровна скоро присоединилась к нам. Она с достоинством заявила, что отвешивала провизию для рабочих.
— Говядинку-то получше давайте! — вымолвил Крокодил.
Олимпиада Петровна ничего на это не ответила. Тогда Петр Петрович со смехом заявил ей о меломанстве Крокодила. Это и в ней возбудило веселость. Она села за рояль и разразилась шумными solfedgio. 1 Лицо Сазона Психеича преобразилось. В глазах засветилось живое и теплое участие. Он подсел к Олимпиаде Петровне и в наивном восхищении смотрел на ее руки. Она заиграла из "Жизни за царя", затем из «Фауста», из «Тангейзера». Крокодил слушал, не меняя позы и выражения. Только пухлое лицо его, казалось, все более и более светлело и вместе с тем переполнялось какой-то странной привлекательностью. Наконец Олимпиада Петровна заиграла "Не белы-то снежки". Крокодил не утерпел: как-то странно шевельнув носом, он всхлипнул и в умилении произнес:
— Вот, вот, оно самое!.. Самое оно и есть!.. — затем с каким-то азартом загремел своим платком.
Потом мы перешли к чайному столу. Крокодил снова впал в недвижимое свое состояние и только и делал, что глотал чай.
— У вас, кажется, есть рояль? — спросила его Олимпиада Петровна.
Он встрепенулся.
— Чего это-с?
Ему пояснили.
— Завел, завел, — ответил он и опять улыбнулся, — только у меня вроде, например, как веялка: вертишь ее, {502} ну она и разделывает. Ничего, здорово разделывает. Семьсот целковых…
— Ну, что же мы насчет амбара-то, сойдемся или нет? — прервал его Батеев.
Крокодил допил свое блюдечко.
— Завтра с артелью подумаю, — сказал он.
— Да ведь хорошая цена.
— Как артель.
Петр Петрович пожал плечами и постучал пальцем по самовару. А мне снова захотелось поисповедовать Крокодила.
— Какую вы пользу берете с артели? — спросил я.
— Разную берем пользу, — ответил Крокодил.
— Однако же?
— Мы лесом торгуем, — .неожиданно произнес он после маленькой паузы.
— Ну так что же?
— За лес берем пользу.
— Я у него лес беру, — пояснил мне Батеев, — и почти все наши помещики берут.
Крокодил помолчал.
— С подрядов берем десятую копейку, — задумчиво продолжал он и снова помолчал. — Комиссионные берем… — прибавил он. — За подожданье берем… Лавку имеем для артели…
Все это проговорил он, как будто с трудом вспоминая.
— А велика ваша артель?
— Человек сто двадцать.
Вечер закончился неожиданным казусом. Передняя вдруг переполнилась сдержанным топотом мужицких сапогов, и неуверенные голоса требовали барыню. Лицо Олимпиады Петровны покрылось багровыми пятнами. Она быстро вышла в переднюю. Голоса сразу загудели.
Мы тоже пошли туда.
— Воля ваша, сударыня, а мы голодать не согласны, — говорил красивый парень, выступив вперед. За ним галдел добрый десяток других рабочих.
— Как голодать? — трепетно спросила Олимпиада Петровна.
— Как голодать! — воскликнул Петр Петрович.
Несколько мгновений ничего нельзя было разобрать в беспорядочном шуме. {503}
— Говори один… Чего кричите, говори один! — волновался Батеев. Переконфуженная барыня в нерешительности перебирала оборку своего миленького платья цвета gris de perle. 1
Выступил снова красивый парень.
— Воля ваша, Петр Петрович, никак невозможно.
— Что никак невозможно-то?
— Три фунта? Помилуйте-с… Барыня изволит три фунта отвешивать. Нам это никак невозможно. Он решительно закинул назад волосы.
— Я знаю тебя, ты вечно недоволен, — прошипел Петр Петрович.
— Воля ваша, — твердо произнес парень.
— Сколько же вам прикажете хлеба отпускать? — иронически спросил Батеев.
— Да уж сколько плотникам. Сколько плотникам, столько и нам.
Петр Петрович согласился на это требование, и толпа, рассыпавшись в благодарностях, удалилась. Но наше настроение было жестоко испорчено; Олимпиада Петровна хмурилась; Петр Петрович волновался и приводил какие-то оправдания… В конце концов, правда, разговор начал налаживаться, и уж Олимпиада Петровна с живостью заговорила было о новой пьеске Рубинштейна, которую ей только что прислал Юргенсон, как вдруг неожиданно и совершенно некстати Крокодил ляпнул:
— Нет, барыня, это не модель.
— Что-о? — удивленно протянула она.
— Не модель, говорю, по три фунта отпущать. Человек рабочий, ему пищия нужна удобная. А ты жадничаешь! Это совсем не модель.
Мы сидели как на иголках. А Крокодил продолжал:
— И говядинку плотникам получше давай. В честь тебя прошу. Не будешь хорошей отпущать, буду из города возить. Я и так ноне тридцать фунтов привез. Мужик ведь что лошадь: что поест, то и повезет.
Можете судить о чувствах, волновавших наши души. Олимпиада Петровна если и не упала в обморок, то лишь потому, что воспитывалась в гимназии, а не в институте. Петр Петрович не знал, куда смотреть ему… Один Кроко-{504}дил как бы не сознавал переполоха, произведенного им, и преспокойно отирал мокрое лицо, которое снова удивительно стало походить на рыхлый и расплывчатый комок теста.
Он скоро ушел, с обычною решимостью посовав рукою, и мы, в каком-то приниженном молчании, разбрелись по своим углам. Было еще рано. Я отворил окно в своей комнате и долго смотрел на притихшую окрестность. За прудом бледным румянцем погорала заря. Кваканье лягушек звонко и ясно расходилось в воздухе. Темный сад уходил вдаль неподвижным островом и точно обретался в задумчивости. В его чаще звенели соловьи.
Вдруг где-то вблизи вырвался болезненный вопль и тотчас же замер… Я прислушался с беспокойством; уши мои горели, и нервы ужасно напряглись; но тишина стояла мертвая, и только лягушки да соловьи нарушали ее. Но мне не спалось. Я оделся и вышел из дома. В людской, где помещались плотники, горел огонь. Я подошел туда. У окна сидел Егорыч и шелушил семечки.
— Где Сазон Психеич? — спросил я.
— А в саду он.
Я удивился.
— Что же он там делает теперь?
— Поди, соловьев слушает. Оченно он любит эту тварь.
Мне хотелось проверить некоторые мои догадки насчет вопля. Но Егорыч не сразу ответил; он притворился непонимающим. Когда же я напомнил ему сцену за обедом, он произнес:
— Постегали маленько… Без этого нельзя. Петров, он хороший работник, а не постегай его, он зазнается. Только мы келейно это… промеж себя, добавил он после краткого молчания. — Мы не любим срамиться, ежели… Мы этого не уважаем.
Ночь была так хороша, что я решил пройти в сад. Теплота стояла изумительная. Даже там, где сад сбегал к самому пруду и сиреневая аллейка вилась над берегом, воздух был сух и тепел. В ясном небе были рассыпаны звезды. Мирно и мечтательно посматривали они с вышины, сгорая в тихом и ярком сиянии. В неподвижном пруде тоже горели звезды.
Сиреневая аллейка привела меня под сень высоких берез. Сквозь густые ветви этих берез звезды казались еще {505} ярче и чистое небо еще выше. Кругом разносился и дразнил тонкий запах трав. Иногда среди берез слышался какой-то шепот, и внезапно била в лицо струя воздуха, свежего и таинственного… В перспективе странным блеском синел пруд, и зеленый камыш стоял сторожко и боязливо. Было темно, но темнота казалась какою-то бледной. В ней ясно ломались резкими очертаниями опушка сада и бугры на той стороне пруда, но, вместе с тем, ближние деревья переплетались загадочными узлами и стволы берез отливали металлическим отливом.
У подножия одной березы я заметил что-то темное. В то время, когда я подходил, это темное испустило вздох. Я узнал Крокодила. Я его окликнул.
— Мы-с, — вполголоса отозвался он. В его тоне звучала неприятность.
Я сел около него. Несколько минут продолжалось молчание. Вдруг над самым нашим ухом зазвенел соловей. Крокодил притаил дыхание. Я не видел его лица, но глаза его блестели тихим и привлекательным блеском. Он как-то странно поводил головою и весь ежился, как будто охваченный морозом. "Эк, эк его!.." — иногда шептал он в забористых местах соловьиной песни и замирал в неодолимом внимании. "Вон оно!.. Вон куда метнул!" — произносил он другой раз, словно расплываясь в каком-то сладком и восторженном волнении. Наконец соловей смолк. Крокодил вздохнул и загремел своим платком. "Приятная тварь!" — кратко отозвался он и погрузился в задумчивость. Листья берез невнятно лепетали над нами.
Наутро Крокодил явился в сопровождении Егорыча и еще одного плотника старичка. Все они забрались в кабинет и начали упорно торговаться с Петром Петровичем. Дело шло о большом амбаре с закромами и широким коридором. Впрочем, Крокодил и тут не изменил своего характера: он больше сопел и лениво осматривался по сторонам. Зато вряд ли возможно было относиться к торгу с большей добросовестностью, чем относились к нему товарищи Крокодила. Каждый венец, каждая дощечка, каждый гвоздь, вбитый в тесину, все становилось ими на счет и преподносилось на усмотрение Батеева. Наконец сговорились за шестьсот рублей.
— Как, Сазон Психеич? — почтительно спросили Крокодила. {506}
— Ладно, — произнес он и добавил заученным тоном: — Задаточку бы.
Петр Петрович повел его в контору. Когда они вышли, я спросил плотников:
— Неужели шестьдесят рублей Сазону Психеичу?
— Шестьдесят, — деловым тоном ответили оба.
— Но за что же?.. — воскликнул я.
— Как за что!.. — горячо возразил Егорыч. — Тоже хлопоты.
— Хлопоты… — как эхо повторил старичок и легонько кашлянул, в кулак; а когда, спустя немного, Егорыч вышел за какой-то надобностью, он быстро повернулся ко мне и вполголоса произнес:
— И-и-и, дерет! Без всякой возможности дерет!
— Да вы бы без него обошлись?
— Невозможно, — решительно сказал старик, — никак нам без него невозможно. Мы без него, без Психеича-то, прямо переполосуемся. Народ упрямый, гордый народ-то!
В это время вошел Егорыч, и старик замолчал, смущенно зашевелив бледными и пересмягшими своими губами.
Осенью мне случилось быть в Козлове. Козлов — город торговый, но, между нами будь сказано, очень скучный. Прошлявшись целый день по трактирам и истребив с купцами неимоверное количество чая, я, наконец, страшно затосковал. На улицах было грязно; над домами плавали сумрачные тучи; купеческие жены выглядывали в окна и отчаянно зевали; торговый люд бродил кислый и расстроенный. Я вспомнил о Крокодиле и направился к нему. Дом у него действительно был большой, и двор отличался обширностью. На дворе громадными ярусами возвышались доски и тес. Из длинного флигеля, похожего на казарму, выглядывали синие рубашки плотников. (Я и забыл сказать, что было воскресенье.)
Едва только вошел я в переднюю, темную комнату, насыщенную запахом свежей краски, как красивые звуки встретили меня: в соседней комнате играли на фортепиано. Изображался знаменитый вальс из «Роберта», но с какими-то странными паузами и необычайной экспрессией. Я вошел в эту комнату. Светлая и большая, она, {507} видимо, играла роль зала. Темно-красные драпри странно выделялись среди ее белых стен и стульев, обитых зеленой клеенкой. В простенках висели дешевые немецкие олеографии. В углу, спиною ко мне, сидел за фортепиано Крокодил и усердно крутил ручку механического тапера. Он тяжело дышал, и пот крупными каплями выступал на его высоко подбритом затылке.
— Сазон Психеич!.. — воскликнул я.
Он оглянулся и встал со вздохом. Лицо его было измучено.
— Занятная штука!.. — сказал он, тыкая мне свою руку, и отер пот, катившийся с него градом.
Я посидел у него; выпил два стакана чаю с каким-то вареньем, склизким и кислым; послушал его вздохи и непрерывное сопение… Узнал, что у Батеева он амбар кончил, но плотников в последнее время кормил уже своею говядиной.
— Что так? — спросил я.
— Барыня-те больно ядовита, — ответил он, и на миг в его тупых глазах как будто проскользнуло лукавство.
Наконец я ушел. В небе по-прежнему плавали тучи. Каменные стены домов выглядывали тускло и уныло. Среди узких улиц томительно двигались редкие прохожие. Мелкий и холодный дождь накрапывал. Отверстия дождевых труб мрачно зияли… Внезапное желание отъезда овладело мной. "Извозчик!" крикнул я, но голос мой разнесся странным звуком и бессильно замер. Тогда я взглянул вдаль. Вдали висели лохматые тучи, и угрюмой сеткой спускался дождь. {508}
XX. Addio 1
6 марта. Сумрачно и тепло.
Сегодня всю ночь в логу ревела вода, и всю ночь не мог заснуть я. Грудь ноет, в ушах непрестанный звон, нервы раздражены и натянуты подобно струнам… Ах, эта весна!
И вообразите, у меня поселилась тетка. Она старая-престарая, нос у ней длинный и большой, походка мелкая и колеблющаяся… Но у ней большое горе, и она вечно вздыхает. Какое горе? — Я не признаю это горем: у ней есть сын, очень молодой человек, и этот молодой человек на далеком севере. Мало ли молодых людей на далеком севере!.. А между тем она мне надрывает душу своими стенаниями и тем рассеянным и тяжелым взглядом своим, который не сводит по целым часам с его писем, с его фотографии, с его наивных игрушек, уцелевших от мирного детства.
И вот собрались мы, старый да больной, и зарылись в глубину безмолвствующей степи и, каждый в одиночку, томительно одолеваем век свой. Скучно и больно.
Впрочем, пройдет март, и располземся мы, и печальная степь уже не будет расстилать перед нами необъятные свои дали. Я поеду к голубому морю; буду видеть голубое море, буду слушать гармоничный лепет тихо вздымающихся волн, буду вдыхать воздух, напоенный южным солнцем и тонким запахом олеандров, и целительный воздух оживит меня… А когда я уеду, тетка снова подымет свое имущество (старое пианино с пожелтевшей {509} клавиатурой), и переселится в Воронеж, и снова наклеит на оборванную дверь своей квартирки узкий билетик:
УРОКИ МУЗЫКИ, 50 КОП. В ЧАС.
Г-ЖА КАПИТОЛИНА КАВЕРИНА.
Правда, ей хотелось бы вместо этих уроков улепетнуть на сельское кладбище, вкруг которого так беспечально шумят ракиты и веселые птицы поют звонкие свои песни, и залечь там в глубокой могиле… Но ей необходимо жить. Безжалостен суровый север, и ее милый мальчик захиреет без материнских полтинников, аккуратно высылаемых по глухому почтовому тракту.
Но зачем я еду в Ментону? Ах, это такая длинная и такая скучная история…
9 марта. Солнце. Тает. Ветер с юга.
Утром Семен вошел ко мне и ясно улыбнулся.
— Жаворонки прилетели! — сказал он и протянул некоторое подобие птицы, испеченной из теста. Я отведал: было вкусно и несколько приторно. Тетка отломила кусочек. Поглядела на него долго и пристально и заплакала.
— Тихий мой… Любил он этот обычай… Сам, бывало, на стреху кидает жаворонка и радуется… — произнесла она сквозь слезы, и сдерживала эти слезы, и умиленно улыбалась.
Это хорошо: прежде она не могла плакать. Я не стал утешать ее. Я одел шубу и вышел из дома.
На дворе было приятно. Солнце высоко стояло в синем небе и блистало ослепительно. Снег синел, медлительно разрушаясь. Желтая травка сквозила на проталинах. По косогорам тихо звенели ручьи. Куры хлопотливо разрывали кучи теплого навоза и весело кудахтали. Петухи будили тишину победоносным своим криком. У застрехи суетились и чирикали воробьи. С пруда гулко и отчетливо разносились удары валька.
Я уселся на бревно, с незапамятных времен поверженное у конюшни, и лениво отдался тихим и задумчивым грезам. Солнце сильно пригревало. Было тепло. Мягкие лучи ласково скользили по мне. Слабое дыхание южного ветра нежно прикасалось к лицу. Я сидел, и смотрел кругом, и слушал. {510}
По стене конюшни, защищенной коноплею, бродили светлые пятна, и сероватая поверхность бревна казалась бархатною. Это бревно с утра до заката нагревалось солнцем. Снег около него уже растаял, и земля обнажилась. Рыхлая и жирная, она как-то весело выделялась своей чернотою и пахла тонким запахом. Следы моих ног отпечатлелись на ней явственным углублением. За растаявшей круговиной синел сугроб. Еще недавно горделиво возвышался он строгим и холодным очертанием своей конусообразной вершины, едва не достигавшей до застрехи, теперь же явно поник и беспомощно опадал все ниже и ниже. Шероховатая ледяная кора образовалась у его подножия, и тоненькие ручейки сочились по ней, медлительно извиваясь к тропинке, ведущей в ложбину. С застрех, тихо и однообразно, падали капли. Иные из них прихотливо сверкали, держась на конце ледяных сосулек, нависших с крыши подобно сталактитам. Иные ударялись звонко и правильно. Падение других походило на шепот. Иногда, сталактиты ломались, и проносился звон, как от разбитого стекла. Тогда воробьи испуганной стаей отлетали от застрехи и оглашали воздух беспокойным чириканьем, а близ проходящий петух поднимал ногу и с важным недоумением осматривался по сторонам. Разбитый же сталактит таял, и млел на солнце, и исходил слезами… За углом конюшни мерно и мечтательно булькал ручей. Пробегая мимо тоненькой ледяной пленки, кое-где застывшей у его края, он мелодично звенел мелким и серебристым звоном, и мне чудились струнные звуки, таинственно колеблющие чуткий воздух…
И тихие грезы мои вставали ярче и теснились мне в душу непрерывною вереницей. Все мое существо переполнялось неспокойною грустью. Непрестанные звуки, стоящие в воздухе, досаждали мне своей невнятностью и своим осторожным и таинственным лепетом. Ликующие восторги птиц раздражали. Свет, расточаемый щедрым солнцем, казался больным и как бы замирающим в каком-то чахоточном бессилии, и острая теплота южного ветра неприятно стесняла мое дыхание. Мне казалось, природа, вместо обновления, умирала, и жизненные ее силы поникали в молчаливой покорности, и смерть эта была моей смертью. {511}
Я встал и пошел в поле, и долго шел спешным шагом, не оглядываясь назад. А когда оглянулся — хутор был далеко. Крыши построек, занесенные снегом, еще не успевшим растаять, смутно возвышались в долине, и трубы чернелись как точки. Пустынная окрестность кругом облегала меня. Бесконечная равнина однообразно замыкала дали. Я остановился и прислушался. В далеком степном пруду шумела вода, низвергаясь с плотины. Я дошел до кургана и сел там, подостлав шубу. Дали широко раздвинулись предо мною. На белой равнине засинели кусты, и беспорядочно набросанные поселки замелькали там и сям. Мертвая тишина властно царствовала в пространстве. Молчали люди, молчали птицы, молчала степь, и необъятная даль безмолвствовала в какой-то угрюмой задумчивости. Шум воды, глухо доносившийся до кургана, казалось еще более усугублял строгость и величие этой тишины.
И неодолимая печаль охватила меня. Я чувствовал, как сердце мое расширялось в какой-то тяжкой и мучительной истоме, и тоскливая жалость закрадывалась в душу.
И долго сидел я недвижимо. Годы, прожитые в этой степи, бесшумным рядом проходили предо мною. Вспомнились мне мои встречи, мои знакомства люди, изуродованные вечной сутолокой, люди, пришибленные жизнью, погибшие и погибающие: Серафим Ежиков, офицерша, Поплешка, Харлампий, Лебедкин, Люба, Семен мой неизменный, и наряду с ними провосходительные Гермогены, вылощенные Карамышевы, европействующие Липатки, воинствующие Гундриковы, скотоподобные мельники из Криворожья… Повсюдные примеры непосильной борьбы и ликующего свирепства. Боже, боже, где же выход из этой скорбной ночи, позабытой солнцем… Где же звуки, которым суждено пробудить эти деревни, изболевшие в дремоте, эту изнемогшую в косности степь!.. Весна придет, и опять настанет весна, а мертвая тишь не прервется, и не закипит бойким ключом томительно разлагающаяся жизнь.
И даль неудержимо повлекла к себе мои грезы. Уехать, позабыть, не видеть этой степи с ее вековечной печалью, с ее курганами, угрюмо сторожащими окрестность, с ее молчаливыми селами и деревнями. Довольно {512} терзать душу этим закаменевшим пространством и с мелочной точностью отмечать жестокие идеалы, наводняющие глушь… Дальше, дальше!.. Пусть версты и версты бесконечными точками вырастут на моем пути и бойкая жизнь закипит вокруг меня… Пусть яркое небо и голубые горы скорее встанут на смену этих необъятных далей, тоскливо разъедающих душу, и пускай поспешней вырастают башни и храмы зарубежных городов в ясной перспективе благотворного южного воздуха… Я хочу жить. Я не могу вдыхать пустоту и с рабской покорностью подставлять мою спину героям дня. Я не в силах, подобно автомату, с неукоснительной аккуратностью вести перепись, гадам, заполонившим мою родину. К чему вести? Весна придет и снова настанет, а мертвая тишь не прервется…
Кончено… Прости, степь, и не поминай лихом. Буду искать на чужбине счастья и воли. Буду испытывать в себе «всечеловека». Заменю соседей моих, преуспевающих в хищении: чужого и в расхищении своего добра, светлыми образами «мировой» поэзии — Шекспиром, Данте, Гете, Пушкиным… Погружусь в чудотворный источник святого искусства, непричастного злобе дня… Обойду галереи Дрездена и Рима. Осмотрю Венецию, побываю в Лувре. Буду бродить по развалинам: Помпеи… И с священным трепетом восприму великую тайну античных преданий и всецело проникнусь ими. И когда сердце мое закаменеет, когда лишь один чистый и холодный идеал красоты получит к нему доступ, — с гордостью скажу, что я одолел мою скорбь и погибавшую душу мою сохранил на чужбине.
И когда я сошел с кургана, печаль покинула меня. Я забыл боли и скорби, которыми жил доселе и под гнетом которых беспомощно замирала родная моя степь и безропотно погибали родные, мне люди. В моем воображении чуждый край ослепительно сиял, и искрился, и манил меня невозмутимым своим покоем, где счастье, свобода, воля… Я бодро шел к хутору, дерзко измерял даль, без конца убегавшую в пространство, и безбоязненно будил угрюмую тишину прекрасными немецкими словами:
Dahin, dahin, wo die Zitronen bluhen… 1 {513}
Следы мои четко обозначались на влажном снегу. Равнодушное солнце пронизывало воздух сверканием.
Шумно вошел я в комнату и… присмирел. Грустные звуки пианино раздавались в маленьком зале. Изредка дрожащий голос тетушки, преодолевая слезы, присоединялся к этим звукам и наводил на душу невыразимое уныние. И повторяла она один и тот же куплет:
Прости же! Новой жизни Заря блестит и мне, И встретимся мы скоро В неведомой стране…То было «Addio» Шуберта.
И солнечный луч, игравший на белой стене, снова показался мне лучом умирающим, и неодолимая печаль обняла мою душу…
10 марта. Облачно. Моросит дождь.
Сижу дома. На дворе мокро, и выйти невозможно; снег под ногами проваливается; неприязненная сырость пронизывает насквозь. В доме тихо и сухо, и неустанный маятник четко отбивает такт… Тусклый свет лениво льется в плачущие окна. Тетушка неутомимо вяжет и гремит спицами. Я хожу по комнатам, и подолгу останавливаюсь перед окнами, и тоскливо гляжу в них. Сизые тучи густо заслоняют небо. Они вьются, подобно дыму, и быстро уносятся в даль бесконечной чередою. Вдали мрачным туманом встают кусты и расстилается белое поле, изборожденное проталинами. Ближе зияет плотина, усаженная ракитами. Дружные ракиты печально преклоняются по воле ветра и беспомощно простирают гибкие ветви свои, как бы умоляя о пощаде. Еще ближе трепещет сад. Жидкая сирень беспрестанно приникает к сугробам, и целует их, и плачет над ними холодными слезами; важные яблони медлительно кивают и колеблются; синий вишенник разбегается беспокойными волнами и, цепляясь друг за друга, переполняет воздух шумом; густой куст орешника, заслонивший одно из окон залы, отчаянно бьется и с буйным дребезгом хлещет стекла, словно оповещая сад о дерзкой своей отваге… Пруд глухо ревет, перебегая плотину. Мне видно, как лед на нем посинел и безобразно вздулся, покрывшись {514} трещинами, а вокруг плотины выступила темная вода, отразившая в сердитых волнах своих изломанные очертания ракит и зловещее небо. В конце пруда мечется камыш, беспорядочно помахивая мокрыми кистями своими…
Перехожу на другую сторону и смотрю на двор. На дворе пусто. Куда-то пробежала кухарка, фартуком заслонившись от ветра. Сиротливо потрусил и скрылся под крыльцо Волчок, недовольно отряхая мокрые лохмотья свои и уныло поджимая хвост. Быстро и осторожно пробежала кошка к амбарам… И снова пусто. Ветер рвет и щетинит застрехи, свободные от снега, и сердито ударяет ставнем кухни. В небе крутятся тучи… Сумрачная даль замыкает поле. Дозорный курган мрачно чернеет.
Боже, какая скука! Никогда хутор не казался мне таким склепом, и никогда такой мрак не угнетал меня. Уж не напиться ли мне и не забыться ли в пьяном веселье… О, если бы скорее отсюда…
— Нет ли письма теперь? — робко осведомляется тетка и с тоскою глядит на меня слезящимися глазами.
Я первый раз вспомнил о почте, и дыхание мое радостно стеснилось. Мне даже показалось, что небо внезапно просветлело и повеселели комнаты, переполненные сумраком. И вместе с этим мне стало стыдно. Область отвратительнейшей душевной возни и мучительных сомнений в конфузе отступила на задний план, и величавый образ необъятной отчизны встал, и вырос, и всецело заполонил мое воображение. Образ этот пришел как бы извне, светлый и величественный. Внутренний мой мир, казалось, совсем отсутствовал в созидании этого образа и ни одной печальной чертой не потревожил его ясных очертаний. И когда я вспомнил — все мои встречи и мои наблюдения показались мне мелкими и случайными, а выводы грешили преувеличенной мрачностью. Я в трепете жаждал разоблачений и поправок… И вдруг мне стало казаться, что именно это почта, где лежат целые груды журналов и газет, упразднит мои скорби и примирит меня с родиной. О, я не сожгу тогда свои корабли и пошлю к черту "святыню красоты" со всеми ее приманками и античными перспективами. Целый месяц не видал я газеты, и целый месяц хутор на Грязнуше отделен от мира. {515}
Я кликнул Семена, который вечно подшивал подметки в передней комнатке, но его не было. Тогда я закутался в шубу и направился в людскую. Там облаками ходил дым и мои домочадцы плотно восседали вокруг стола. Водка в зеленоватом полуштофе и ломоть черного хлеба, круто посыпанный солью, услаждали их души. Когда я входил, ораторствовал Яков.
— Прямое дело по указу! — говорил он, — уборка уборкой, а указ указом… Сорок рублей бери за десятину, и шабаш!.. А кто взял меньше, прямо, господи благослови, к исправнику. Там, брат, разговор короткий!
— Да ты видел указ-то? — в некотором недоумении спросил Семен.
— Чего — видел? — огрызнулся Яков и молодцевато сплюнул: — чай, видали! Я вот в позапрошлую среду в Липяги ездил — мужичок мне встретился: тот, мало того — слыхать, — своими глазами видел. Висит, говорит, в волостной на стенке, и еще насчет земли висит…
— Это насчет прирезки? — живо отозвался Михайло.
— И насчет прирезки и насчет — не болтать, чтоб до поры, до времени… Дело известное!
— Я вот тоже странницу встретила… — начала было Анна, но тут домочадцы заметили меня и несколько переконфузились.
— Что это вы затеяли? — спросил я, указывая на полуштоф.
— Да от скуки, малым делом… по стаканчику… Делов нету, мы и пристроились… — ответили домочадцы, приводя в порядок возбужденные свои лица.
Я позвал Михайлу и возвратился в дом.
— Можно проехать в город? — спросил я, когда Михайло пришел вслед за мною и с развязностью запрятал руки в карманы полушубка.
— В город?
— Да.
— Что ж… На Орлике?
— На нем…
— На Орлике проедешь. Орлик — лошадь добрая. На ем ежели не проехать, так прямо, надо сказать, вроде как убогий какой не проедет… Вроде как пужливый человек, например.
— Ну, так ступай собирайся. {516}
Но Михайло стоял и расточал убедительные словеса.
— И ежели теперь Гаврюхину вершину взять — беспременно прошла Гаврюхина вершина! — продолжал он. — И опять объехать возможно, ежели не прошла, например. Взял и объехал. А Орлик — лошадь добрая. Взять его ежели да подседлать, так я не токмо в город…
— Ну, собирайся же и ступай.
— А насчет чего ехать?
— Почту привезешь.
Лицо Михайлы вдруг изобразило тонкую улыбку.
— Это мы понимаем, ежели насчет почты, — сказал он и, поспешно выходя, добавил: — а что на Орлике не съездить, так это бить надо такого человека по морде! Мы тоже очень хорошо понимаем…
Через полчаса фигура, всадника мелькала в поле. Орлик горячился и порывался стать на дыбы. Темные следы резко обзначались на снегу.
11 марта. Ветер. Мороз. В небе тучи.
Зима соскучилась и внезапно возвратилась к нам. Боюсь за сад: толстый слой льда облепил деревья, и ветви низко повисли под его тяжестью. Некоторые сломались. Орешник, колеблемый ветром, немилосердно гремит за окном и с каким-то сердитым шорохом лезет в стекла.
К вечеру приедет Михайло. Не знаю почему, но дышится как-то легче; теперь мне уж наверное кажется, что это проклятое захолустье извратило мое понятие о вещах и что на самом-то деле жизнь российская изобилует благодатью. Непременно совершилась ошибка, думается мне. В оптике часты такие истории: ничтожная подробность заслонит общее, и характер извращенности неизбежен.
Однако что за чудеса с моими домочадцами? Лица их явно торжественны; в словах замечается подозрительная осторожность; часто за полночь длится у них беседа, и аккуратный Семен вечно отсутствует.
Наконец-то является Михайло. Боже, как рада ему тетка! Но из его сумки выгружаются газеты и журналы, а письма нету… Тетка покорно возводит взгляд к иконе и удаляется. Это хорошо — прежде она не могла {517} молиться. Спустя полчаса унылые звуки вторгаются в залу, и старческий голос едва слышно поет:
…Кто здесь страдал, боролся, Как друга смерти ждет: Она ему свободы Святую весть несет…В передней я расслышал шепот.
— Скорей, — говорил Михайло Семену, — я одну газетину подцепил… во!.. По селам, брат, варом варят насчет указа…
И Семен быстро накинул на плечи кафтанишко и потрусил в людскую. Я вспомнил, что Яков — грамотный. Между газетами недоставало одного номера «Руси».
3 часа ночи. На дворе буря.
Какая ночь!.. Я чувствую, как тело мое холодеет от ужаса и невыразимая тоска сжимает сердце. Я не могу читать более… Куда уйти мне от этой проклятой груды печатной бумаги и как убежать от ада, стремительно наводнившего мое воображение… Голова пылает, как в огне. Пустынная комната переполнена призраками, и в мертвой тишине, прерываемой однообразным лязгом маятника, безостановочно носятся звуки. Стены оживают… За голой их поверхностью встают и тянутся предо мною картины несказанной скорби. Мрачная ночь угрюмо смотрит в окна и словно сторожит меня, подозрительно сдвигая свои зеницы. В те стекла, где гремел орешник обледеневшими ветвями, упорно заглядывает привидение и, неотступно потрясая раму, водит костистыми лапами, и скребет ими, и кивает косматой головою. Половица скучно трещит под моими шагами. Пламя свечи слабо трепещет и колеблется…
О, беспощадный дух времени — дух-сфинкс, пожирающий мудрецов! Зачем же ты с такой непрестанной жестокостью куешь новых и новых врагов всяким основам и устоям и, безжалостно устраняя наивные идеалы старины, необозримую пустоту воздвигаешь им на смену?.. Теперь с мучительной ясностью вижу я, как под бременем непрерывных испытаний, ниспосланных тобою, изнемогла моя бедная родина и в истоме бессилия омертвела. Безнаказанно терзает ее грозная семья бо-{518}лезней, предводительствуемых голодом, и могущественный кабак из конца в конец раскинул свои сети. Самая природа как бы превратилась и насылает беды. Красный петух мрачно распростирает крылья свои и от Белого моря до Немана озаряет небо зловещим заревом… И ко всему к этому без конца свирепствует подлость!.. О, какая бесшабашная, какая беспримерная подлость!.. Стыд устранен. Понятия о чести сотворены излишними. Культ брюха провозглашен господствующим, и ему въявь совершаются отвратительные жертвы. Повальный грабеж и холопство, возведенное в доблесть, рука об руку с печатью, изборожденною прелестями гражданственных сообщений, развиваются на свободе, подобно ядовитым гадам и, под сенью всеобщей неурядицы, наглеют до размеров грандиозных… Я вижу, как на тучной почве всяческих недоразумений, смутно и с поспешностью, слагаются типы с клювом хищной птицы, с прожорливым желудком удава и с цепкими, жадно распростертыми руками. Иные из них дики и первобытны и по своей исконности соответствуют идеалам «Домостроя»; иные же нацепили европейские одежды и во всеоружии познаний европейских вышли и стали под большую дорогу, по которой, кряхтя и изнемогая, хмельной и младенствующий плетется народ русский… Хищникам споспешествует мрак. Отовсюду бесконечными вереницами ползут тучи. Жестокий ветер пронзительно воет в деревьях. Печальную землю полосует холодный дождь. Тьма без просвета жутко сжимает сердце…
Правда, эту ночь, переполненную ужасом, от времени до времени, быстро мигая, освещают яркие зарницы, и иногда упорный блеск их ослепляет жадные до поживы очи; но оттого не легче, ибо за мимолетным блистанием угрюмая тьма сгущается еще настойчивей, ветер еще безжалостней завывает в деревьях и еще грознее надвигаются тучи…
И заполненный всеобщим мраком, отуманенный общею скорбью, истерзанный безнадежностью, царящею окрест, я уже забываю о том, что еще недавно культ чистой красоты привлекал меня и дивный край манил к себе ослепительным своим светом… Я, подобно многим, молю о вечном забвении, вечном примирении, вечном {519} покое, и жадно жду царицы-смерти и таинственной перспективы превращения в ничто.
Молю… Но отчего же бесконечная жалость внезапно проникает все мое существо и так болезненно напрягаются тонкие нити, связывающие меня с жизнью? Отчего с такой невыразимой теплотою снова и снова обступают меня родные картины и встает широкое поле, по которому слабо колышется и играет с ветром золотая рожь и узкая проселочная дорога без конца убегает в пространство? Отчего с такою ласкою вдруг развернулся предо мной необозримый степной простор, и приветливо засияли села крестами церквей своих, и зеленые леса зашумели веселым шумом?
И я чувствую, как что-то странное ширится и растет во мне и с тоскующей болью щиплет сердце… Боже, как сладко мне и грустно, и какой мучительною негой переполняется мое существо! Я вижу свое детство. Вижу троицын день и сад, изнизанный цветами, и народ с цветами в руках. Благовест разносится по окрестности медлительно и плавно. Девки в шелковых платках и ярких юбках идут скромно и тихо, смиренно потупляя взоры. Парни спешат деловой походкой, украдкой поправляя серые смушковые шапки свои. Сивые старики солидно шествуют, важно опираясь на палки. Вся церковь в зелени. Молодые березки украшают клирос. Около иконостаса зеленеют дубовые ветви. На полу разбросано душистое сено. Дьячок Аксеныч смочил квасом косичку и переполнил торжеством лик свой. Умиленное лицо отца Акима сияет благосклонностью. В открытые окна синеет небо, и щебечут ласточки, и свежий утренний ветерок доносит запах сирени. Начинается обедня. Бедный тенорок Аксеныча трогательно дребезжит и уносится к сводам, откуда величественно взирает Саваоф. Отец Аким возглашает внятно и явственно. Листья березок слабо лепечут. Тонкие струйки ладана расходятся по церкви и тихо уплывают в окна. Народ, благоговейно вздыхая, преклоняет колени и отвешивает низкие поклоны, не спуская взора с отверзтых царских врат, где в облаке голубого дыма отец Аким воздвигает святые дары. Угодники любовно глядят на народ свой, щедро одевший их в кованые ризы; божественный младенец ласково тянет к нему ручонки. Но вот тишина. Завеса {520} с шумом задергивается. В алтаре совершается что-то таинственное. Щебетанье ласточек ясно слышится за окном. Аксеныч украдкой зевает в руку и быстро крестит рот. Раздается кое-где кашель. Церковный староста Иван Парфеныч набожно преклонился пред владычицей и, приложившись к ней, отвесил низкий поклон народу. И мелодичный звон колокольчика однообразно запросил жертвы. В потертый зеленый мешок застучали медяки… Пахнет воском и ладаном.
Я стою в самой толпе. Мне нравится соседство этих дубленых полушубков и шершавых кафтанов, от которых несет такой славной затхлостью. Меня привлекают эти серьезные лица, внимательно и строго обращенные к алтарю, эти крепкие и сильные фигуры. И наивные слова молитв, произносимых ими внятным полушепотом, кажутся мне чем-то особенно действительным и особенно важным. Мне чувствуется, что здесь совершается нечто значительное и глубоко привлекательное, ибо недаром же одно прикосновение крестьянского полушубка повергает меня в какой-то самодовольный трепет, а слабый удар по плечу тоненькой свечкой, с просьбой передать эту свечку "Ивану Воину", наполняет мою душу гордостью. "Ивану Воину!" — торжественно говорю я соседу моему, седому старику с желтым лицом, изборожденным морщинами, и в немом восхищении наблюдаю, как он с серьезной осторожностью берет у меня свечку и передает ее дальше, повторяя благоговейно: "Ивану Воину". — Я как бы сознаю свою связь и свое сродство с этой толпой, тесно обступившей меня и относящейся ко мне с такой трогательной равноправностью. И я высоко держу свою голову, обильно напомаженную мамашей, и, не сводя глаз с алтаря, истово осеняюсь широким крестом…
…Слышу задорные соловьиные песни и гуденье пчел на далеком пчельнике, где так сытно кормит меня пчелинец Карп душистым медом. Развесистые липы обступили поляну. В таинственной их чаще сквозит ручей. Дедушка Карп сидит на пороге избушки и щурится от солнечных лучей, обильным потоком затопляющих поляну. "Кушай, кушай, дитятко! — говорит он мне и гладит мою голову корявой своей ладонью, — кушай на здоровье… Пчелка она святая, пища у ней безгрешная; богу от ней жертва великая: из воску свечи льют… Кушай, родимый!.. {521} И сядь вот тут — тут холодок-от, посиди малость. А я огляжу пойду пчелку, проведаю ее, божию работницу… Сиди, сиди, голубь! Сиди сми-и-ирно… Будешь смирно сидеть — пчелка к тебе приобыкнет, кусать не будет, медком будет баловать… Так-то-ся!.." И колеблющейся походкой дед отправляется к ульям и с ласковым лепетом наклоняется над ними, наблюдая непрестанную работу пчел. А я одолеваю громадный ломоть хлеба, намазанный теплым медом, и гляжу в вышину, где задумчиво шумят липы, позлащенные солнцем, и ходят косматые облака. И кажется мне, что давно, давно видел я эти липы, и эти облака, и этот пчельник, по которому заботливо расхаживает дед, и так же тогда щелкали соловьи, а ручей сквозил за деревьями. И чудится мне, что все это грезы, и все, что я вижу теперь, проходит предо мной в сонном видении… Странная истома овладевает мною: мне и хорошо, и грустно, и хочется крикнуть деду, чтобы скорее шел он к избушке и разбудил меня любовными своими речами. А соловьи звенят и разливаются серебристыми трелями, и пчелы гудят неутомимо.
…Я вижу луг, над которым только прошла грозовая туча и теперь ярко сияет солнце! Вдали грохочет гром… В траве блестит роса и, подобно червонцам, мелькают желтые одуванчики. Мне кажется, что луг дышит и цветы, окропленные дождем, радостно улыбаются. За лугом роща тесно обступила вершину. Стройные березы ослепительно сверкают своей яркой белизною и веселым глянцем кудревидных листьев своих. С этих листьев, подобно слезам, падают капли дождя. В роще поют неугомонные птицы, мелодично переливается иволга и кукует унылая кукушка. Все эти звуки ясно встают над лугом и замирают в отдалении. Около рощи серебрится река. Она недвижима. В ней задумчиво отразился камыш, и старый садовник Артемий опрокинулся там с своей вершей и с своей лодочкой, обросшей зеленым мохом. За рекой ветловый лесок переполняет окрестность суетливым грачиным шумом и беспрестанным треском ломающихся ветвей. А там большое село утопает в ракитах; слышны звонкие удары валька; весело белеет стройная сельская церковь… Узкая дорожка растворилась и вьется черной лентой из села в гору, а на горе зорко {522} сторожит дали крутой курган, и зеленая рожь млеет в ленивой истоме. Около луга смачно чернеет поле. Там двоят под гречиху. Я хожу по мягкой пашне, высоко засучив штанишки, и свободно вдыхаю затхлый запах свежеразрытой земли и влажный аромат луговых трав. Я гляжу на блистающую окрестность, на лошадей, хлопотливо таскающих сохи, на мужиков, звонко покрикивающих: "Возле! Возле!", и мне делается как-то особенно хорошо и покойно.
Подхожу к Мосеичу. Мосеич — добродушный старик и вечно говорит со мною. Он допахивает полосу. Грачи вьются за ним и ковыряют носами землю; какие-то бойкие птички быстро мелькают у самых его ног, облепленных грязью. "Что, малец, благодать господь послал? — говорит мне Мосеич, останавливая пегую кобылу свою и очищая сверкающую палицу. — Эх, легка пахота-то!.. Гляди, земелька-то — малина!.. Вот ужо засеем гречишки — будем кашку есть. Ты любишь кашку? Как, поди, не любить… Будем, будем с кашкой!" — И он весело понукает кобылу и вонзает в рыхлую землю острие сошника. А я иду за ним и смотрю, как земля легко и однообразно разваливается под его ногами и проворные птички мелькают вдоль борозды, а синие грачи неуклюже роются носами… Полоса допахана. Мосеич садится на меже, достает из мешочка круто посоленный хлеб и, перекрестясь, начинает медленно и осторожно есть его. Я тоже ем. Хлеб мне кажется необыкновенно вкусным и Мосеич необыкновенно милым… Я тоже, подобно Мосеичу, стараюсь жевать медленно и серьезно и тщательно подбираю крошки, падающие на мои колени. Пегашка усердно щиплет влажную траву. "Вот погоди, ужо покос будет, приходи тогда, — говорит Мосеич, кончив свой завтрак, — ягода всякая будет…" — "А как ноне травы?" — тоном взрослого спрашиваю я, степенно утирая рукавом губы и набожно крестясь. "Ноне травы хорошие, — отвечает мне Мосеич, — ноне такие травы: копен тридцать как бы не стало. Ишь, какую сырость господь послал!.. Теперь она ботеет, поди, матушка!.. Будем с сенцом!" — "Вы сымали где, аль нет?" вопрошаю я. "Сымали есть которые — нас семь себров 1 на графской сняли. И-и, травы там!.. Мы когда об троице были — ворона схоронится, такие травы!.. Теперь, гляди, по колено выботела, матушка… Да едовая вся, способная, разнотравье!.. Сено-то мед медом…" — "Ну, а как насчет цены?" — "Цена, друг, не то чтобы махонькая: пять рублев за круг, да курицу чтоб предоставить… Цена настоящая!.. Ну и травы же… Бож-же, какие травы!.."
…А вот холмы, встающие непрерывной цепью… Дичь и глушь. Вечер. Заря угасает. В долине тускло светится Битюк, разливаясь тихими заводями. Камыш неподвижными купами смотрится в воду. В воздухе мрачная тишина. Едва заметная тропинка бежит у подножия холмов и ведет неведомо куда нашу усталую тройку. Кудрявый кустарник заполонил скаты. Колокольчик тревожно бьется под дугой и бессильно замирает. Тарантас ныряет по кочкам. "Где же мы, господи?" — тоскливо шепчет мать, и крестится, и таинственно произносит: "Живый в помощи вышнего…"
Вдруг лошади вздрагивают и настораживают уши: долгий и протяжный звук уныло будит тишину. Вдали послышался такой же отзыв. То за холмами завыли волки. Неодолимый ужас охватывает меня. Я тесно прижимаюсь к матери, а она торжественно произносит чудодейственный псалом бледнеющими устами и в ужасе спрашивает равнодушного Илью: "Где же мы? Где же мы? Куда девалась Боровая?"
Мы заблудили. Но вот холмы раздвигаются и, вместо кустарника, мрачный сосновый лес подымает свои вершины. Сквозь темные сосны краснеют крыши, и суровым металлическим блеском блестит пруд. Вода однообразно шумит, низвергаясь с колес мельницы!.. Это и есть Боровая! Илья бойко свистнул и натянул вожжи. Колокольчик зазвенел порывисто и звонко. Где-то за холмом раскатилось и мечтательно угасло в отдаленье тонкое эхо… Прогремел под тарантасом мостик, сколоченный на живую нитку… Отозвался недовольным гулом сонный бор… Приехали. Бабушка сжимает меня в теплых своих объятиях и ведет в комнаты. Самовар бушует. Яйца и масло аппетитно выглядывают с тарелок. Дедушка мельник приветливо улыбается и целует меня в лоб холодными устами… {524}
Ночь. Сижу на крыльце, и суеверный ужас леденит мои жилы. Темные очертания холмов, обступивших долину, резко выделяются на бледном небе. Неподвижный бор сурово хмурится. Вдали дико завывают волки, на мельнице неустанно гремит жернов, и вода переполняет лес таинственным шумом. Под мельницей, там, где неподвижным озером зияет омут и оцепеневшие ивы дружно столпились и поникли в задумчивой дремоте, печально стонет выпь. Мне страшно, но сердце мое сладостно замирает… А бабушка поджидает меня у моей постели и долго будет говорить со мной, когда я лягу, и до подробностей расскажет мне про те времена, когда была крепостною. Расскажет о помещиках, лихих и добрых, о непосильных крестьянских работах, о Пугачевщине, которую переживала ее мать… Поведает мне старые крестьянские сказки… и благословит и поцелует меня, а я долго буду лежать в темной комнате с открытыми глазами и, прислушиваясь к завыванию волков, буду вспоминать бабушкины рассказы.
…Синее небо молчаливо опрокинулось над степью. Звезды сияют дрожащим блеском и любовно смотрят на землю. Свежий аромат травы насыщает воздух. Я в таборе. Среди куреней весело потрескивает огонь, и косари плотной толпою дожидаются каши. За табором виден вольно распущенный табун, спокойно пожирающий отаву. В ночном небе гордо выделяются островерхие стога. Я приникнул к широкой фигуре друга моего, конюха Федьки, и чутко вслушиваюсь в разговоры. Идет толк об урожае, о ценах на покос, о достоинстве травы, о погоде… О том, что «разнотравье» лучше «тимошки» и что не дай бог, под мочливый год, сеять рожь с бороною. Я все слушаю. Мне до осязательности становятся ясны и преимущества ранней мётки пара, ибо Архип Гомозков всегда мечет рано свой пар (который снимает на стороне) и всегда у него родится, и непригодность мочки конопли весною, потому что еще у всех на памяти, как Аким Павликов погадил таким образом целую пропасть "моченцу", — и неудобство мягкой пашни для проса, — у Андрея Дорошева вырос на такой пашне страшнейший сор.
Но вот поспела каша. Аппетитный пар колышется над котлом. Мозолистые руки начисто умываются. К темному {525} востоку несутся наивные молитвы; громадные ложки приступают к работе. Еда совершается медлительно и достойно. После ужина речи оживают. Слышатся смех и шутки, сладковатый запах махорки стоит в воздухе. Немного погодя затягиваются песни. "Ночки темные" звенят над степью долгим и протяжным звуком. Федька запевает. Он молодцевато сдвинул набекрень шапку и нахмурил брови. Сильный голос его как бы тоскует и переполнен волнением. А я сижу и чувствую, как при высоких нотах песни сердце мое сладко замирает и какая-то холодная дрожь мелким ознобом пробегает по спине… И думается мне, что хороши эти мужицкие песни и что ничего нет в мире привольней степи русской, этого звездного неба, мечтательно поникшего над степью…
А когда в небе загораются Стожары, мы садимся на коней и сгоняем табун. Федька зычно свистит и молодецким окриком будит степную тишь. Кони рвутся под нами и грызут удила. Какое-то особое наслаждение доставляется мне, когда я плотно прижимаю ноги к горячим бокам своего иноходца; он скачет и в гневе трепещет всем телом, высоко подымая голову. За моей спиной точно крылья веют; славная бодрость перехватывает мое дыхание. Мне во что бы то ни стало хочется простереть руки и, в порыве счастья, обнять весь мир… Табун сдвигается в кучу. Слышны ржанье, фырканье, взвизги, звонкий топот копыт… Вдали смутно светлеет пруд, и одинокий хуторский огонек мелькает в темноте. Недалеко же от нас чернеют курени другого табора. Костер в нем едва тлеет, но при нашем приближении около куреней дружно раздается девичья песня и мерный топот трепака бойко держит такт. Табун разбредается по копнам. Федька подзывает меня и значительно сообщает свою тайну… О, как гордо подымаю я голову, и какой благодарностью переполняется мое сердце. Но я не изъявляю свои чувства, — я знаю, как смотрят на эти изъявления мои герои: индейцы в романах Купера и мужики, подобные Федьке, — я только с важностью подтягиваю повода и небрежно роняю: "Ладно!". Мы подъезжаем к отдаленному стогу. Федька слезает с седла; я беру за повода лошадь его и, чутко приподнимаясь в стременах, зорким взглядом пронзаю степь. Но в таборе по-прежнему {526} звенит плясовая песня и подкованные сапоги все отбивают разухабистый трепак. А за стогом слышен мне шепот, прерываемый поцелуями, и сдержанный смех, и ругань, полная наивной ласки… Долго спустя я слышу веселый Федькин голос. "Ну-ко-сь, Никола, смотри невесту-то мою!" — говорит он. Серебристый смех прерывает его. "Молчи, дьявол!.." — с нежным упреком отзывается Федька. Я слезаю неловко, путаясь в стременах, я чувствую, как лицо мое пламенеет. "Гляди сюда!.." зовет меня Федька и близко наклоняет к своей возлюбленной. Я ощущаю горячее дыхание и вижу темный блеск глаз, который кажется мне насмешливым. Губы мои застенчиво лепечут что-то. Девушка неудержимо хохочет, зажимая рот рукой. Я сажусь на мягкое сено и глубоко вздыхаю: нет меры моему счастью и моему пугливому довольству. А Федька говорит с своей невестой, и называет ее «Дашкой», и беззастенчиво обнимает ее. Впрочем, и она привыкает к моему присутствию. Она толкует о том, сколько в их дворе ржи в посеве, и сколько ярового, и как много придется жать и вязать нынешним летом, но зато осень будет весела и по самый покров будут вечерушки. Она рассказывает, как долго и настойчиво «отливали» у них капусту весною и что у многих все-таки не выдержала она и посохла: весна была сухая и ветреная. Она говорит о том, как «батюшка» перебился прошлой зимой и не продавал овец, а у них три ярки пущены на «долгую», и невестка Арина будет красить шерсть… А Стожары подымаются все выше и выше, и на востоке тускло занимается заря. Свежо. Глаза мои слипаются; голова бессильно поникает к душистому сену; холодные повода выскользают из рук… "Едем, Николушка, пора!" — будит меня Федька. Я с усилием открываю глаза и вижу возбужденное Федькино лицо, низко наклоненное надо мною. Дашка исчезла. Заря пламенеет узкой полосою. В росистой траве трещит коростель. Прохладный воздух напоен влагою. Алое сиянье преодолевает тени и кротко озаряет степь. Федька гарцует на коне и гремит на всю степь: "Го-го-го!.." Табун дружно срывается с места. Земля гулко дрожит под копытами коней. Крепкий ветер развевает их гривы. Синяя даль встает бесконечным туманом и медлительно курится… {527}
О, какой свежестью и каким невозмутимым миром повеяло на меня. Теперь бессильны скорби, так безжалостно терзавшие меня еще недавно. Надолго ли? Не знаю. Но я равнодушно смотрю на ворох газет, беспорядочно разбросанных по столу, на все эти ноющие корреспонденции из Архангельска и Казани, Чернигова и Тамбова и иных городов и весей обширной земли русской, и все это кажется мне теперь бумагой, не более… одной только бумагой. "Не погибнет Русь до конца, — чуть не вслух восклицаю я, — и почтеннейший дух времени неукоснительно слопает дулю!"
Я лег спать и долго лежал с открытыми глазами. Долго старое, доброе время (о, какое доброе!) вставало предо мною рядом пленительных картин, и непрерывно крепли нити, связывающие меня с жизнью. Я чувствовал, как напрягались во мне какие-то силы, дотоле мне неведомые, и усталая моя мысль бодро и смело оживала. Я вспомнил мои думы на кургане… И до того стал мне противен прекрасный чуждый край с ослепительным его солнцем и голубым морем, и таким жестоким холодом повеяло на меня от античных перспектив всяческого рода, что мне стало стыдно, и явные признаки оскомины беспокойно начали осаждать меня… А когда я заснул, то будто со смехом подошел к окну, куда неотступно глядела подозрительная ночь, и посмотрел в темноту дерзким взглядом. Там призраки трусливо убегали, потрясая крыльями, и безвозвратно исчезали во мраке… Там бессильно замирали звуки, переполненные скорбью И тоскою… И за далью непогоды кроткий образ родины возник предо мной. Он любовно простирал мне объятья, звал меня печальным зовом и непобедимым обаяньем манил к себе. А вокруг загоралась заря пламенеющим светом, и протяжная мужицкая песня звенела без конца…
На дворе ревела буря.
12 марта. Вьюга. Мороз.
Зима окончательно возвратилась. Снег бьет в окна и крутится белыми волнами. В трубе завывает ветер. Вкруг дома рыхлыми буграми встают сугробы. Но на душе тихо и как-то странно веселит молочный свет, заливающий комнаты. Все газеты забросил я в дальний ящик и {528} стараюсь не вспоминать их длинные столбцы, изукрашенные всякой мерзостью. Когда же вспоминаю, то ощущаю боль как от прикосновения к старой, не вполне еще зажившей ране.
Семен пришел ко мне и сообщил, что солдатик, идущий на побывку, просится ночевать. Я, конечно, позволил.
Быстро смеркается. Вьюга гудит не уставая. Тетка задумчиво берет аккорды… Скука незаметно подкрадывается и тягучей сетью охватывает комнаты. Семена снова нет в передней. Я одеваюсь и пробираюсь в людскую. Там по-прежнему синей тучей ходит дым и мои домочадцы окружают стол. Лица их изображают жадное внимание. В почетном углу сидит солдатик. Синий мундир небрежно накинут на его плечи, рыжие усы значительно топорщатся, из коротенькой трубочки вьется тонкая струйка дыма. На столе лежит номер «Руси», захватанный пальцами.
При моем входе происходит легкое волнение. «Русь» исчезает. Солдатик вытягивается и почтительно приветствует меня «благородием».
— Откуда ты? — спрашиваю я.
— Из Санктпетербурга, ваше благородие!
— Там и служил?
— Точно так, ваше благородие.
— На побывку идешь?
— Точно так, ваше благородие.
— Куда же?
— В Тамлык, ваше благородие.
— В каком полку служил?
— В жандармском дивизионе.
Я уговариваю всех садиться и сажусь сам. Мне почему-то необыкновенно хочется говорить с ними и узнать откровенные их помыслы. Но вместе с тем мне скучно и неловко, и явственно вижу я, что домочадцы мои изображают в своих лицах тонкую таинственность. За что? — Я ли не любил их, я ли не болел их болезнями и не скорбел бездольем, отравляющим их существование… В чем моя вина? В том ли, что на мне сюртук, а на них посконная рубаха, и не верю я в батюшку Царь-град, и не молюсь матушке великой пятнице? Но ведь я знаю, что я нужен им, что без меня, без моих познаний сеть {529} бестолковейших недоразумений готова опутать их до конца… А между тем эти недоразумения любы им, и явным недоверием встречают они мои попытки поговорить с ними по душе. Прежде я легко относился к этому, но после той передряги, которую довелось мне испытать прошлой ночью, во мне ожила и настойчиво заговорила почва. В фигурах домочадцев, знакомых мне до приторности, засквозило теперь какое-то иное выраженье, и чем-то глубоко близким повеяло на меня от них… А они пожимались, и переглядывались, и в смущении покряхтывали в руку. Сердце мое болело сосущей болью… Но вместе с тем мне мучительно не хотелось отступить. Я с преувеличенной развязностью вынул и закурил папиросу и, как бы не замечая взглядов, с недоумением обращенных на меня, послал Семена за водкой…
13 марта. День солнечный. Небо ясно. Тепло.
Сегодня встал поздно. Голова трещит. Во рту чувствуется отвратительная горечь. Грудь болит нестерпимо… Блеск солнца кажется беспощадным.
Что такое свершилось вчера? Что-то ужасно глупое и смешное. Да, я припоминаю: я был пьян и перепоил своих домочадцев. Я помню какой-то туман в глазах, помню жгучее ощущение вонючей водки, помню какие-то рожи и бестолковые речи, крикливые до нелепости. Рожи вертелись предо мной и кривлялись странно; чьи-то толстые губы целовали меня мокрым поцелуем; усы жандарма грозно топорщились в разные стороны, и все это то исчезало в какой-то туманной сутолоке, то снова выдвигалось и галдело, широко раскрывая рты, и назойливо лезло в глаза… Иногда разговоры моих собеседников доходили до меня отчетливо и ясно, и тогда я их внимательно слушал; иногда же сливались, в какой-то смутный гул и протяжным стоном утруждали мои уши. Тогда я, в свою очередь, осложнял сумятицу и надрывался в криках. Но мне казалось, что это не я кричу, а кто-то другой, оживший во мне, и я удивлялся отчаянной наивности этого другого и тому, как он жестоко размахивает руками. У меня же нестерпимо кружилась {530} голова и подымалось какое-то буйное желание разбить граненый стаканчик, наполненный водкою.
— А с какой с такой стати вы, господин, с нами, мужиками, водку пьете? — задает мне вопрос красная рожа с усами, и страшно шевелит этими усами, и низко наклоняется надо мною. Я чувствую, как внезапно пронизывает меня холодный трепет и лицо мое бледнеет. Я искательно повожу глазами и улыбаюсь красной роже, стараясь смягчить неподвижный блеск ее прозорливых очей. Мои коснеющие губы лепечут что-то о "дне святого ангела", о хуторской скуке, о «православном» мужичке, которого я, как оказывается, особенно уважаю за верность и преданность…
— То-то, — изрекает рожа и великодушно наполняет мой стакан, — потому, мы примечаем, ежели бунт… Мы имеем предписание…
Рожа, видимо, важничает и, видимо, врет. Я слышу отрывочный рассказ о некоторых подвигах рожи и превосходно уловляю фантастический элемент этих подвигов. Но что-то непреодолимое по своей оцепенелости смиряет мою критику, и я усердно поддакиваю роже и даже произношу одобрительные замечания. Это окончательно умиротворяет рожу. Затем все застилается туманом и подымается ужасный шум. Только спустя какое-то безобразно длинное время снова слова раздаются ясно и четко. Это говорю я. Я горячо доказываю, что никакой прирезки не будет и что ожидать ее нет резона. Я трогательно защищаю священные права собственности. Я упоминаю циркуляр г. Макова обзываю домочадцев своих дураками и с неведомо откуда взявшейся злобой насмехаюсь над их глупой верой. Но целый поток возражений оглушает меня. Я вижу, как раскрасневшийся Семен до невероятности открыл рот свой и, гневно скосив кроткие свои глаза, кричит на меня неподобными словами. Михайло к самому носу моему сует здоровенные свои кулаки. Яков ожесточенно сообщает извещение какого-то отца Мисаила Косоглазого в Одессе касательно «прирезки». Кухарка Анна пронзительно визжит и рассказывает про странницу и про то, как перед «волей» тоже говорили в народе, и по тому сбылось. Откуда-то взявшийся номер «Руси» снова появляется на столе, {531} и кто-то гнусливо читает в нем ничего не выражающий отрывок из передовой статьи. Тщетно я возвышаю голос и стараюсь перекричать неописуемый гвалт: мне с торжеством указывают на газету и победоносно тычут в нее пальцами. Я слышу голос Михайлы.
— Небось, не надуешь! — кричит он, размахивая кулаками и уничтожая меня звероподобным взглядом. — Мужик-то, брат, сер, а ум-то у него не черт съел… Вот она, газетина-то!.. Мы тоже понимаем… Ноне тоже не хвалят вашего брата!
— Прямое дело! — возглашает Яков. — Газетина господская, а по ней прямо выходит — прирезка. А уж что баре скрывают — это верно.
Я пытаюсь возражать, но меня не слушают.
— Спокон веков земля вольная, — кричит Семен, давно уже охрипши с натуги, — и деды и прадеды…
— Быть переделу! Быть переделу!.. Провалиться вам всем — быть переделу!.. — неудержимо стрекочет Анна и в каком-то задорном раздражении толкает Якова в спину, как будто от него получая возражения.
Я поникаю головою и бесцельно смотрю, как на столе пролитая водка стоит лужами и беспорядочно разбросанные крошки хлеба мокнут в этих лужах.
— Теперича каким же таким манером вы, господин, оспариваете насупротив газет и насупротив указа, например? — раздается сиплый вопрос. Я поднимаю голову и снова встречаю проникновенный взор, рожи. Она самодовольно крутит усы и снова важничает.
— Каким же таким манером, ась?
— Как же так? — возражаю я в изумлении.
— А вот точно так мы вас и спрашиваем: каким теперича манером вы насупротив указа?.. И как мы имеем предписание… — И рожа еще ближе наклоняется ко мне и еще проникновенней поводит взорами.
Я теряюсь. Я вздыхаю беспомощно и устремляю взгляд свой горе. В голове моей воцаряется полнейший хаос. Действительность кажется мне бредом. Я уже ничего не понимаю. Точно сквозь сон долетают до меня многозначительные речи жандарма, и лица моих домочадцев, в гробовом молчании внимающих этим речам, тонут в зыбком тумане. По речам выходят положительные чудеса. Солдатик повествует, что высшее начальство {532} в Санктпетербурге окончательно определило насчет земли и что чуть ли не с весны наступит прирезка. Это солдатик слышал своими ушами. И про указ слышал. Им даже, как и всем прочим, читали его по казармам. Точно, там прописано про землю и про передел и что мужички ждут передела. А так как они передела ожидают, то впоследствии времени будет им нарезка. И еще насчет бунта прописано, ловить чтобы которых и чтобы ежели против передела — доставлять по начальству. Затем говорил солдатик, что еще такой указ вышел: не работать по господам, а ежели жать, то не меньше как за сорок рублей. Впрочем, этого указа он не читал в Санктпетербурге, потому насчет цены только и прописано, что степным мужикам, а по прочим губерниям решения никакого нет.
Дальше я уж ничего не помню. Было какое-то общее целование и бесшабашнейшее изъявление чувств. Затем мрак…
Ох, как болит голова, и какая жгучая жажда одолевает меня. И зачем сверкает так ярко это солнце? Ручьи журчат, воробьи чирикают, небо синеет.
Тетка с молчаливым упреком поглядела на меня и более продолжительно, чем когда-либо, терзала свое пианино. Нервы мои тоскливо ныли, сердце сжималось мучительно…
Скверная штука это похмелье!
18 марта. Солнце. Ростопель.
Все эти дни я не знал, куда мне деваться. Непрестанный солнечный блеск как-то странно раздражает меня. Какие-то беспокойные порывы приливают непрерывными волнами. Скука сменяется тоскою и снова скукою. Я опять перечитал газеты. На них уже налегла пыль толстым слоем, и я неоднократно чихнул, перебирая ящик…
Нет спора — все скверно… Правда, есть рецепты, но от них пахнет несомненным мошенничеством. В лекарство пытаются влить отраву и в качестве патентованного средства всучить эту отраву ошалевшей России. Но странно: сердце мое точно оцепенело в холоде, и ему недоступны гражданские скорби. Предо мной, как {533} в калейдоскопе, проходит ряд явлений, разрисованных кровью, изукрашенных глупостью и подлостью, а я равнодушно смотрю в стеклышко и с зевотой ожидаю скучного конца.
Не это ли англичане зовут сплином? Тоска… Теперь уж и чужбина не манит меня. А между тем чувствую — необходима она: грудь болит, нервы томительно тупеют, кашель бьет отчаянно…
А не замечали ли вы, что так называемая интеллигенция наша с самых времен Чулкатурина преимущественно вымирает от чахотки? Впрочем, entre nous, entre nous, 1 я вовсе не думаю умереть от чахотки, — я умру от скуки…
Сегодня тетушка разразилась трагической тирадой и в конце концов истерически разрыдалась.
— Душно! — сдерживая вопли, произнесла она в пафосе, — без счастья и воли жизнь как в могиле темна… Буря бы грянула, что ли?..
— Чаша с краями ровна!.. — согласился я, откладывая газеты, и пошел проверить некоторые мои подозрения.
Увы! — эти подозрения подтвердились: графинчик наполовину стоял опорожненный, а когда я поцеловал тетушку, от нее пахнуло водкой. Это нехорошо, — прежде она не могла пить. Что если мой пример?.. Нет, не хочу думать.
Вечером долго погорала заря, и степь, истекая звонкими ручейками, пламенела в кроткой задумчивости. Тетушка спала, обессиленная хмелем. А в полночь знакомый напев пробудил меня, тетушка пела:
О, верь, мы не надолго Расстанемся с тобой: Тоска угасит пламя Моей души больной!.. О, север, север!..22 марта. Тепло и ясно. С утра легкий мороз.
Эти дни ездил по знакомым. Был в деревнях, заезжал в села, проведывал хутора… Странно, в воздухе носится что-то тревожное, и какие-то непонятные ожидания {534} упорно бродят в народе. Кабаки торгуют плохо. Улицы тихи. Мужики многозначительны и необычно серьезны. При появлении сюртука соблюдается таинственность… Точь-в-точь как мои домочадцы.
Бабы ожидают светопреставления. Иные приготовили белье и вообще равнодушны, иные же ноют на всех перекрестках. О светопреставлении тоже сообщили газеты. Ох, эти газеты! Уж не изгнать ли их с лица земли русской? Не от них ли смута висит над Русью? Не они ли насытили воздух беспокойными ожиданиями?..
Много узнал свежих и пикантных новостей… Господин Карамышев призван в качестве сведущего человека. Гермоген получил подлинное «превосходительство» и невступно щеголяет теперь в белых штанах. Имение Обозинских продали с аукциона; поступило оно в руки скотоподобнейшего мельника из Криворожья. Серафим Ежиков застрелился в Холмогорах…
Сегодня первый раз услыхал жаворонка. Быстро слетел он с проталинки и зазвенел серебристыми трелями… Долго, долго провожал я его взглядом. В высоте его крылья пронизало солнце, и они засветились и засверкали мелькающим сверканьем. И когда потонул он в яркой небесной синеве, а жемчужные звуки все-таки достигали до моего слуха, мне показалось — небо пело и кроткая благодать в чудных песнях нисходила на землю… Солнце ласково сияло. Необъятная степь замирала в сладостной дремоте… Сердце мое билось и тосковало.
24 марта. Тепло. С земли подымается пар. В небе вереницами ходят белые облака.
Доктор осмотрел меня и покачал головою.
— Еду, еду, любезнейший эскулап, поберегите ваши упреки…
— Пора, давно пора!.. Есть кашель?
— Кашляю.
— Кровь замечаете?
— Бывает.
— Чувствуете лихорадочное состояние?
— Иногда.
— По ночам потеете?
— Да. {535}
— Гм… Аппетит как?
— Никакого.
— Пора, давно пора уехать!.. К тому же, у вас и нервы шалят… Очевидно, вы рискуете. Зачем эта музыка?
— Ах, эта музыка…
— Положительный вред. Берегитесь. Ступайте в Ментону. Кушайте виноград… А главное — нервы… Вы непременно должны охранять себя от всяких потрясений. Музыка — боже сохрани, любовь — окончательно воспрещается…
— Где уж нам, дуракам, чай пить…
— Окончательно воспрещается. Вести из России — ни под каким видом. Кушайте, скучайте, берегитесь севера — и благо вам будет…
— Ах, как это хорошо сказано, милый доктор! Так никаких вестей из России?
— Ни-ни… Первый вред. Все остальное еще туда сюда, но вести российские… — Доктор многозначительно поднял палец и с суровостью нахмурил брови. — Ни за что не ручаюсь! — мрачно добавил он и уселся за кофе.
Прощай же, читатель! С доктором шутки короткие. Будем надеяться, что встретим друг друга и единодушно проклянем минувшие времена. Если же нет, если в голубой Ментоне окончательно доконают меня "вести из России", — не поминай меня лихом. Вспомни, что я болел твоими болезнями и скорбел твоим горем, и за эту взаимную подъяремность не забудь меня…
Что это, опять музыка? Ах, тетушка, тетушка… Но она не слышит. Она поет дрожащим голосом и напутствует меня любимой своей песнью. О, какая печальная песня! Сердце мое млеет и тоскует, и невольные слезы выступают на глаза. Она поет:
Близка пора разлуки, Последний близок час, В страну, где нет печали, Уходишь ты от нас… Addio! Addio!..Март 1882.
Хутор на Грязнуше,
Воронежского уезда. {536}
Обличитель
В один зимний, жгуче-морозный денек был я по делам в своем уездном городке N ***. Между прочими делами мне предстояла покупка многих так называемых «бакалейных» товаров для деревенского обихода. Эти товары я всегда покупывал в лавке купца Максима Назаровича Галдеева, следовательно, и теперь направился туда же.
Лавка у Галдеева была хотя бы и не для нашего плохонького городка. Окна с цельными зеркальными стеклами, изящные, стеклянные же двери, вывеска во всю длину большого двухэтажного дома, на которой ярко горели аршинные золотые буквы, вещающие про "Магазин колониальных и бакалейных товаров 1-й гильдии купца М. Н. Галдеева", — все это резко выделялось из ряда соседних невзрачных лавок, хотя тоже и претендующих на громкое наименование «магазинов». Товар в лавке Галдеева всегда был хороший, отменный, товар от дорогих иностранных вин до чая всевозможных сортов включительно.
Галдеевы были богатые купцы, переселившиеся в N***, тому назад лет тридцать, из торгового села Красноярья, где они нажили капиталы. Теперь у них и домa в городе, и бойко торгующий магазин, и гурты, и степи. Капиталы у Галдеевых были молодые, недавние капиталы. Есть и теперь старожилы в Красноярье, помнящие, как Назар Кузьмич Галдеев сидел целовальником в их селе. Состояние нажилось как-то необычайно скоро и таинственно этим Назаром Кузьмичом, теперь восьмидесятилетним, полуслепым, но все-таки крепким {537} стариком, вечно сидевшим на кожаном мягком кресле в углу магазина. История нажитая галдеевских капиталов, как и всякая таинственная история, имела много разнообразнейших вариантов, хотя почти в каждом из них преобладал элемент либо чего ужасного, либо и вовсе сверхъестественного… По одним сказаниям «дедушка» — так звал старика Галдеева весь город — был колдун и нажил деньги при помощи "врага рода человеческого", попросту — черта; по другим — этот же «дедушка» в молодости кого-то убил, кого-то зарезал, вытащил у зарезанного изрядный куш денег, а там уж и пошел и пошел… Но год от году, по мере того как сила и слава Галдеевых увеличивалась, сказания эти глохли и глохли… Те, которые содержали в себе сверхъестественный элемент, так и вовсе выселились из N ***, осмеянные молодым поколением и обессиленные наплывом отрицательных идей, проникших, вместе с железной дорогой, до N ***-ской глуши. Они скромно приютились по селам и деревням, где, наперекор всем веяниям века, вероятно еще долго будут пользоваться авторитетом в устах стогодовалых старух, вечно лежащих на печи. Те же, от которых веяло правдоподобием, уступали место новым, блестящим сказаниям, эффектно вещающим о силе и славе капиталистов Галдеевых; только и слышалось: Галдеев новый участок земли снял! Галдеев степь купил в Самаре! Галдеев новую колокольню в Красноярье строит!..
У «дедушки» было два сына: Максим Назарыч — хозяин магазина, и отделенный — Терентий Назарыч. Максим был воротила во всех делах: и в лавке сидел, и степями управлял, и торговал гуртами. Терентий — держал гостиницу и земскую почту. Старик жил с Максимом.
Отрадное тепло встретило меня в лавке. В чугунной бронзированной печке — наподобие колонны — ярко пылали дрова. Длинный дубовый прилавок блестел лаком; за прилавком высились стеклянные шкафы с товаром. Несколько приказчиков суетливо сновали по лавке. Человек пять-шесть покупателей стояли и сидели у прилавка. У печки, на своем неизменном кожаном кресле, в лисьей долгополой шубе, сидел «дедушка», облокотившись на суковатую грушевую палку. Синие выпуклые очки закрывали {538} его больные глаза; угрюмое лицо, обросшее седыми волосами, глядело на этот раз не то чтобы весело, а как-то ласково-снисходительно… Против «дедушки», важно развалясь на мягком табурете и небрежно смакуя ликер из маленькой граненой рюмочки, сидел толстый барин, Ахулкин, — богач. Около него раболепно тянулся в струнку его управляющий. Барин ласково говорил с «дедушкой» о новостях, о торговле, о политике, на все получая умные, обстоятельные ответы, произносимые певучим, дребезжащим голоском и приправленные рассуждениями о плохих временах…
Я поздоровался с «дедушкой», удовлетворил его расспросам о здоровье, о житье-бытье и отошел к конторке, к Максиму Назарычу. В лавке царило одушевление, бойкость и веселость. Торговля была хорошая. По лицу "молодого хозяина" блуждала веселая усмешка. Мальчик то и дело отворял и затворял двери, впуская покупателей…
На фоне залитого светом зеркального окна обрисовалась какая-то мощная растрепанная фигура, идущая по тротуару. "Гуляев, Гуляев идет!" пронеслось по магазину. На высоком лбу дедушки пробежали неприятные, тревожные морщины, важного барина как-то конвульсивно передернуло, Максим Назарыч озабоченно нахмурился…
— Не пускать бы его… — сказал нерешительно Ахулкин, строя кислую мину.
— Никак нельзя-с, — ответил сумрачно Максим Назарыч, — в третьем году не пустили так-то, так он стекло кирпичом вышиб — пятьдесят рублей в Москве отдано-с, — а все-таки вошел…
В дверях показался Гуляев. Какой-то длинный, овчинный балахон, крытый нанкою и до невозможности засаленный, облекал его высокую сгорбленную фигуру; из-под рваной клинообразной шапки беспорядочными клочьями висели седые волосы. Из-под густых бровей мрачно светились какие-то безумно-горячие глаза. Синее, морщинистое лицо обрамляла спутанная, черная, с сильною проседью бородка. Он опирался на высокий костыль и тяжело ступал ногами, обутыми в неуклюжие коневьи сапоги. {539}
Мальчик не успел отворить ему дверь: он сам порывисто распахнул ее и, никому не кланяясь, подошел к конторке.
— Максим, чаю мне! — произнес он хриповатым басом, окидывая косым взглядом находящихся в лавке.
— На сколько прикажете, Ефрем Михалыч? — предупредительно спросил его Максим Назарыч.
— Полфунта, в шесть гривен… — так же отрывисто сказал Гуляев.
Максим Назарыч приказал отвесить.
Царило тяжелое молчание… Все чего-то робели… Словно ужас витал в этой теплой, ярко освещенной солнышком, богатой лавке… Мальчик, приставленный к двери, позабыл про вечную встречу покупателей и, испуганно расширив зрачки глаз, глядел на грозное чудище. Максим Назарыч что-то копошился в ящике конторки и шепотом торопил приказчика, отвешивавшего чай Гуляеву. «Дедушка» пристально смотрел в окно сквозь свои темно-синие очки… Ахулкин тщетно старался изобразить непринужденную снисходительную улыбку: выходила какая-то жалкая гримаса. Его управляющий стушевался куда-то… Гуляев молчал, все более и более насупливая свои страшные брови…
— Ефрем! не хочешь ли ликерцу выпить? — вдруг ни с того ни с сего сказал Ахулкин и сам как бы испугался своей смелости.
Назар Кузьмич укоризненно поглядел на него. Все робко и любопытно оглянулись на Гуляева и вздрогнули…
— Горе вам, мытари и фарисеи! — вдруг грозно рявкнул Гуляев, выпрямляя свой сгорбленный стан и поднимая свою огромную, заскорузлую руку по направлению к Ахулкину. — Горе вам, пьющим кровь брата своего, и терзающим внутренняя его, и пожирающим благая его!.. Горе вам, грабителям и мздоимцам, и лиходеям, и блудникам, и чревоугодникам!
Голос Гуляева все возвышался и возвышался, рука поднималась выше и выше, глаза злобно искрились… В публике царило смятение… Ахулкин сконфуженно смаковал свой ликер, силясь вызвать на лицо пренебрежительную гримасу…
— Горе вам, разумеющим грех и творящим его!.. Горе вам, носителям скверны… ибо не знаете, в онь же {540} час приидет!.. Ты — упивающийся и объедающийся, чем уплатил за питие и яствы свои? Не кровью ли ближнего своего уплатил ты и не пoтом ли брата своего?.. Не оголодил ли ты неимущего, чтоб пресытить чрево свое мерзкое?.. Ишь налопался как! пояснил Гуляев, тыкая пальцем по направлению к объемистому животу Ахулкина, красного как рак и тщетно восклицавшего: "Как ты смеешь, негодяй!.. как ты смеешь!.."
— Пузатый ты черт! — гремел Гуляев, не обращая ни малейшего внимания на эти возгласы, — много ли награбил с казны-то матушки?.. Много ли гостей накормил на те денежки?.. Горе тебе, пузатый идол!..
— Это черт знает что! — кричал Ахулкин. — Вывесть его, разбойника!.. Вон!..
— Ефрем Михалыч, будет тебе срамиться-то, — уговаривал Максим Назарыч.
Гуляев ничему не внимал.
— Не боюсь, тебя, смердящий бесе! — гремел он, покрывая своим басищем и неистовый визг Ахулкина и мягкие речи Максима Назарыча, — режь меня за святую матушку правду, сажай меня в темницы — везде мне хорошо будет… Тебе-то, как накроют, весело ли будет?… А ведь накроют, голубчик, накроют… Терпит бог, терпит, да и перестанет терпеть-то!.. Покайся, грешник смердящий!.. Разорви одежды своя, и посыпь пеплом главу свою, и стяжание неправедное раздай нищим… А то — попомни мое слово — горе тебе будет!.. Не спасут воровские денежки… Точит на тебя зубы правда… Доконают тебя грехи твои смертные… Жив господь, и бодрствует гнев его страшный, и месть его куется на грешников! — восторженно заключил он, сверкая глазами.
Присутствующие трепетали… Некоторые крестились, посматривая с ужасом на величественную фигуру Гуляева… Громоподобный голос его проник на улицу, и в лавку, пугливо перешептываясь, валили любопытные. Лица, почти у всех, были встревоженные и растерянные… Скандал разрастался. Максим Назарыч тишком услал приказчика за городовым, а Гуляев, бросив уничтоженного Ахулкина, все еще визгливо заявлявшего свои протесты, с сверкающим, озлобленным взглядом обратился к Назару Кузьмичу, смущенно ежившемуся в своем кресле {541} и всю эту сцену беспомощно перебиравшему своими изможденными старческими губами…
— Ты, старый Иуда, долго ли будешь собирать неправедную мзду свою?.. Долго ли будешь завистничать, и злоязычничать, и лицемерить Сильному, говоря: покаюсь, господи, егда приидеши за мною?.. Как же! расставляй карман, беззубый греховодник… Нет тебе покаяния и нет тебе прощения за грехи твои вопиющие!..
— Да будет тебе, Михалыч! — уговаривал Гуляева дедушка певучим, дрожащим голоском, — уйди-ко-сь от греха!.. Максим, за буточником, что ль бы, послать, — тоскливо молил он.
— Нет, ты мне скажи, — все-таки не унимался Гуляев, — ты мне скажи, на какие капиталы ты дома построил, на какие деньги степь купил, от каких достатков гуртами торгуешь?..
— Наживи ты, Михалыч, и ты заторгуешь, — слабо смеялся дедушка.
Гуляев плюнул и негодующе поднял обе руки кверху.
— Будь ты проклят, окаянный душегубец!.. Да будут прокляты твои нечистые деньжищи!.. Горе тебе, нераскаянному грешнику… Вспомяни мои слова: горе тебе… Сгниет богатство твое и рассеется по ветру аки дым… Исчахнет и пропадет отродье твое греховное, и тернием зарастет могила твоя, и душа твоя окаянная ввергнется во ад, и слава твоя пройдет туманом…
— Бог с тобой, Михалыч, — бормотал испуганно дедушка.
— До конца живота моего бог во мне…
— За что ж ты лаешься-то?.. Ах, Михалыч, Михалыч…
— Кто сжег младенца безгрешного ради наживы нечестивой? — подступал Гуляев к дедушке, — от кого работник Еремей калязинский задушился? Кто у сызранского купца бумажник из-под подушки вытащил?.. Кто у дергачевского дворника жену опутал? По чьим наветам она мужа подушкой задушила?.. По чьему попущению в Сибирь пошла?.. Все твои грехи, Назар.
Все с ужасом внимали длинному перечню дедушкиных преступлений, по-видимому досконально известных бушующему Гуляеву… А Гуляев продолжал:
— Ты думаешь, спростa Терешка-то твой отцовские {542} денежки пo ветру разматывает, блудниц да плясунов одаривает? Ты думаешь, спроста Максим-то твой как свеча тает? — указал он на чахлого Максима Назарыча, беспокойно поглядывавшего на дверь, — нет, окаянный! то господь бог тебя наказует… то грехи твои на детях отзываются!.. Покайся, пока не поздно, старый пес… Не разводи грехов… Не вем бо ни дне, ни часа, в онь же при-идет.
Ахулкин, шумно негодуя, уходил из лавки. Максим Назарыч лебезил перед ним, что-то горячо объясняя… Присутствующие шептались и сокрушительно вздыхали. Все были без шапок. Гуляев, в суровой позе, величаво стоял над Назаром Кузьмичом. Фигура его резко отличалась от толпы громадным ростом и полубиблейским костюмом. Назар Кузьмич угрюмо поникнул головою под градом страшных укоризн… Серебристые, слегка кудрявые волосы его свесились на очки, костлявые пальцы нервно сжимали палку, губы беззвучно шевелились… Он и не пытался защищаться.
Вбежал запыхавшийся городовой. Он спешно растолкал толпу и, схватив Гуляева под руку, повел его к дверям. Гуляев не сопротивлялся и, гордо подняв свою косматую голову, прикрытую страшной шапкой, торжественно шел около мизерного солдатика, расточая свои грозные речи:
— Приидет Сильный и воздаст каждому по делам его: и мытарю, и мздоимцу, и блуднику, и фарисею…
Наконец голос Гуляева не стал слышен в лавке. Все как-то разом повеселели и заговорили. Тяжелое впечатление понемногу остывало. Разнородные толки послышались… Ругали бездействие полиции, громко изъявляли негодование, а втихомолку хвалили Гуляева и благоговели пред его беззаветной смелостью… Многие радовались, что укоры обличителя на этот раз миновали их, и давали себе слово избегать неприятной встречи… Три-четыре бедняка, затесавшихся в толпу, ехидно перемигиваясь, улыбались… Максим Назарыч, бледный и встревоженный, тщетно старался овладеть собою и принять прежнюю позу ловкого торгаша. Дедушка по-прежнему сидел понурив голову и сокрушительно вздыхал, судорожно барабаня пальцами по ручке кресел… {543}
В пылу разговора в дверях показалась сдержанно смеющаяся физиономия приказчика.
— Гуляев теперь Андрей Ликсеича срамят-с, — сказал он нам.
Мы высыпали из лавки. Против огромного домины первейшего N *** богача, Склянкина, стоял Гуляев и, с силою удерживая на одном месте городового, обличал Склянкина, трусливо выглядывавшего в одно из громадных окон первого этажа.
— Помни мое слово, Андрюшка! пропадешь ты с своими деньжищами… Бог скупцам не мирволит… И грабителям не мирволит… И лихоимцам не мирволит… Ты за что анадысь всей семьей невестку-то порол?..
Городовой упорно тащил Гуляева, но все его усилия оставались бесплодными… Наконец Гуляев тихо двинулся, все оглашая морозный воздух восторженными речами и негодующе потрясая костылем… У лавок, противоположных дому Склянкина, трусливо сновали кучки приказчиков, тихо пересмеиваясь и ехидно толкуя о порке Ольги Михайловны, невестки Склянкина, местной красавицы и львицы… Фигуры Склянкина уже не было видно в светлых стеклах окна.
С улицы, по которой вели Гуляева, проходящих и разъезжающих словно метлой смело: спешили прятаться в дворы, сворачивать в переулки… Лишь простые люди — бедные, оборванные мещане да заморенные торговки бодро шли навстречу Гуляеву и радушно здоровались с ним: по-видимому, гроза местных тузов был для них свой человек.
Вечером я был в клубе. Играли в карты. Один из партнеров обратился ко мне:
— Вы слышали? Гуляев сегодня несказанно срамил Ахулкина.
— Не только слышал, но был очевидцем… Он его какой-то казной все попрекал?
— А винокуренный-то завод! Он ведь ворует на нем страшно…
Я рассказал про обличенье Галдеева и Склянкина. Все посмеялись. Один из партнеров был исправник. Кто-то обратился к нему: {544}
— Что вы его не смирите?
— А как его смиришь? Сколько раз он по приговору судьи сидел "за оскорбление на словах", и в кутузку-то его сажали без всякого суда, — вот и сегодня сидит, — ничего не поделаешь! — Отсидит, опять обличать…
— Вот с Никандром Михайлычем мирно живет, — засмеялся кто-то.
Исправник улыбнулся.
— И то меня пока не трогает, — сказал он.
"Не за что еще", — подумал я: исправник был новый.
— Кто он такой, этот Гуляев?
— Да однодворец из Пригородной слободы. С семнадцати лет в бегах был; есть основание предполагать, что на Иргизе в скитах проживал. В шестидесятых годах проявился было у нас, но каким-то образом замешался в бывших тогда в соседнем уезде крестьянских бунтах, и снова пропал. Явился опять лет шесть тому назад, и с тех пор зиму живет в келье у себя в слободе, изредка появляясь в городе и всегда делая здесь скандалы, а летом странствует в веригах по святым местам. Не боится никого и ничего. Терпится, как необходимое зло…
— А вы знаете, господа, — бойко тасуя карты, заговорил полковой священник, сидящий за соседним столом, — ведь Галдеев-то сегодня пятьсот рублей на новый колокол в собор пожертвовал.
— Что вы? — удивились все.
— При мне-с!.. У отца протопопа вместе были… Поминайте вечно, говорит, усопшего раба Мисаила.
— Мисаила?! — еще более удивились мы.
— Да, да, Мисаила-с… Уж бог его знает, что он хотел этим сказать.
— Это, должно быть, Гуляев его растрогал, — предположил кто-то.
Многие согласились.
— А как хотите, господа, — снова заговорил священник, доиграв игру, я не согласен с предположением, что Гуляев воспитывался на Иргизе-с… Сужу по его равнодушию к так называемой обрядности… Непременно духоборцы или иные сектанты-рационалисты повлияли на таковой склад его мыслей. Что же касается его увлечения ветхим заветом и особенно книгами святых пророков, то тут просто пуританством времен Кромвеля пах-{545}нет-с! А его толкования апокалипсиса и некоторых изречений искупителя, воля ваша-с, отзываются некоторым жидовством! — Тут священник развел руками.
— Как бы новую веру не завел! — засмеялся кто-то.
— Нет, он ведь с простым народом о вере мало толкует, — сказал батюшка, проворно сдавая карты.
— А помните, господа, прошлогоднее катанье? — спросил исправник.
Все засмеялись. Я спросил в чем дело.
— Да прошлую масленицу Гуляев все катанье разогнал. Стал среди улицы и давай обличать кого в чем!.. Барынь особенно донимал, ну, а мужчин попрекал все больше насчет грабежа да мошенничества… Да если бы в общих, неопределенных словах, а то ведь упомянет, каналья, кого ограбил!.. Просто горе, да и только… Так катанье и разбрелось — кто куда…
— А то вот раз я был у отца протопопа, и Гуляев там… — затараторил батюшка.
— Да будет вам! — сурово остановил его какой-то угрюмый господин, сердито отсчитывая марки для ремиза, — вам ходить… Нашли о чем толковать — о сумасшедшем каком-то!..
Через три года Галдеевы обанкротились. Терешка спился с кругу, а Максим Назарыч умер в чахотке. Старик, полуслепой и начинающий выживать из ума, остался как перст. Ахулкина Никандр Михайлыч словил в воровстве, и суд приговорил его к штрафу в сто с чем-то тысяч. Это, впрочем, не помешало выбрать его снова в какую-то должность. Впрочем, он трудился недолго: какая-то аристократическая болезнь загрызла его, и он успe во Флоренции на сорок восьмом году своего жития. {546}
Полоумный
Я не понимаю прелести ружейной охоты. Но с нею связаны длинные переходы по широкому простору степей и полей, по излучистым берегам рек, ручейков и речонок, по густым зарослям топких болот, и за это я люблю охоту. Люблю с ружьем за плечами бродить по необозримым полянам, люблю отдохнуть в жаркие полдни где-нибудь в свежей тени осиновых кустов, раскинутых там и сям по этим полянам, люблю окинуть взглядом с какого-нибудь высокого кургана бесконечную даль, одетую синеватым туманом в пасмурный денек или подернутую седою дымкою зыбкого марева в знойную, тихую погоду.
Раз, в конце августа, выдался хороший денек. Ни одного облачка не плавало в голубом небесном просторе. Солнце не пекло, как в жаркую июльскую пору, а разливало какую-то ласкающую, благодатную теплоту. В воздухе серебряными нитями тянулась паутина. Легкий, сухой ветерок веял с востока, разнося сладкий запах сжатого хлеба, стоящего в копнах, и освежающую прохладу. Стаи сизых и белых голубей неугомонно ворковали и шумно переносились с жнивов на жнива, сверкая на солнце своими перьями. В речных камышах звонко щебетали скворцы.
Было воскресенье. Около обеда отправился я на охоту. Исходив не один десяток верст и почувствовав сильную усталость, я прилег в тени густой ветлы, сиротливо стоящей на берегу степного прудка, и заснул. Солнце уж низко стояло, когда я проснулся. Тень от ветлы сошла с меня и протянулась длинной полосой вдоль лощинки. Мягкий солнечный свет бил в глаза. {547}
Освежив лицо водою из прудка, я оглянулся. К востоку, за прудком, тянулись скошенные поля, усеянные темно-бурыми копнами гречихи и проса; прямо предо мною, к западу, лежала степь; шагов на триста от прудка виднелась она и замыкалась длинною цепью невысоких курганов. Даль отделялась от меня этими курганами.
Место казалось незнакомым. Ни прудка этого, затерянного в степи, ни ветлы, одиноко стоящей около него, я не встречал в своих экскурсиях. "Что это за место?" — думалось мне. Я взошел на возвышенность. Широкий простор разостлался предо мною. "Эге! да это Танеевская степь!" — невольно вырвалось у меня. Вплоть до виднеющегося вдали хутора все было — степь, поросшая густой, сочной отавой. За хутором опять тянулась степь, а там опять курганы, высокие, крутые… Верст десять отделяло меня от тех курганов… Длинной вереницей тянулись они по берегу Битюка. Из-за одного пологого промежутка между ними весело горела золотая искра — то был крест красноярской колокольни.
Солнце, склоняясь к закату, принимало мягкий, красноватый свет и лучами своими, словно полымем, охватило степь. Соломенные кровли хутора весело выделялись из этого огненного моря своим желто-золотистым цветом. Ветловые узенькие рощицы, словно крылья облегшие хутор, отливали багрянцем. Маленький прудок у хутора так и горел ровным алым пламенем, — ни одна волна не морщила его гладкую, как полированная сталь, поверхность. Паутина, как золотая пыль, дрожала в тихом воздухе; те места, над которыми дрожала она, казались подернутыми каким-то лучистым колоритом. Там и сям синели стога. Длинные тени ложились от них на траву, выделяясь темно-зелеными пятнами среди светящегося простора.
Рельефность очертаний предметов была изумительная. Дальность расстояния как бы не существовала для глаза. С природы словно флер сняли, и она всеми деталями своими ярко бросалась в глаза, нежно лаская их мягкими тонами…
Над всем этим привольем стояла невозмутимая тишь. А между тем сухой воздух словно жаждал звуков: скрып колодезного журавца на хуторе так резко пронесся по {548} этому воздуху и разбудил такой могучий отзвук, что, казалось, вырвался из горного ущелья, а не среди неоглядно-плоских равнин… Внизу, почти у самой рощицы, ходил табун. Лошади разбрелись по сочной отаве и спокойно паслись. Черною точкою виднелся около них конюх.
Я сошел с возвышенности и направился к хутору. В это время звуки «жилеек» звонко прорезали воздух и затрепетали в нем веселыми, подмывающими нотками… Конюх заиграл «бычка». Бойкий мотив шаловливо переливался по тихому простору; откуда-то издалека несся навстречу ему такой же бойкий, такой же игриво-веселый отзвук. Казалось, новые, славные тоны пробежали по степи и подернули ее еще более нежным, еще более ласкающим колоритом… Глубоко дышала грудь сладким, пахучим воздухом… Слух нежили задорно-веселые звуки нехитрого инструмента… "Весело на белом свете!" думалось…
А солнце все ниже да ниже опускалось… Тени от стогов тянулись длиннее и длиннее… Кровли хутора начинали алеть… Ясная поверхность прудка зарделась багровым пламенем… Небо на западе переходило из бледно-голубого в нежно-розовый цвет… Горизонт на востоке охватывала хмурая синева, а над синевою слабо горело бледно-фиолетовое отраженье заката.
Я шел к хутору. На перепутье пасся табун. Звуки «бычка» все еще трепетали в воздухе. Конюх, игравший на жилейках, сидел, поджавши ноги, на разостланном кафтане. Это был малый лет двадцати, русый, почти белый, в красной кумачной рубахе; широчайшие плисовые штаны были вправлены в узкие «вытяжные» сапоги; серая, «крымская» шапка сидела набекрень, придавая вид удали и беспечности курносому, безусому лицу. Глаза глядели весело и задорно.
— Здорово, барин! — закричал он мне, когда я подходил к нему. Широчайшая улыбка показалась у него на лице.
— Вот и не угадал! — сказал я, тоже смеясь и подлаживаясь под его непринужденный тон, — ишь, не барин, а простой мещанин…
— Ну, рассказывай! кабы мещанин, ты бы куцую одежу-ту не напялил, смеялся конюх, подходя ко {549} мне, — мещане-то кошек скупают, по оконницам кнутиком постукивают, а ты вон с ружьем!.. Какой же это мещанин?
Приходилось соглашаться с этим неоспоримым аргументом.
— Нет ли у тебя чего покурить? — обратился он ко мне.
— Есть, есть, — сказал я и достал ему папиросу. Наивная бесцеремонность и какая-то словно детская простота занимали меня в конюхе. Я закурил и расположился рядом с ним на кафтане, который он предупредительно предложил мне.
— Тебя как звать-то? — спросил я.
— Петрухой звали…
— Это чьи, танеевские, что ль, лошади-то?
— Его. И, братец, богат же наш барин! — Петруха восторженно поднялся с места, — это вот холостые шестьдесят голов, — указал он на табун, — а там вон за Рогатым прудом матки ходят, штук пятьдесят, а вон за теми курганами коньки еще, голов пятьдесят! — Он победоносно взглянул на меня.
— У него, помимо хутора-то, где именья? — интересовался я.
— У него их, мал, целый содом, именьев-то!.. Сичас это будет тебе Андрусовка за Битюком, да Ольховатка, да Тарасовка на Плавице… Тарасовку-то недавно купил… А там еще, говорят, где-то до пропасти…
— Что ж, хорош барин-то ваш?
— Ммм… — замялся Петруха, — да как тебе сказать… Горяч больно! добавил он после маленького раздумья, — сичас тебя оборвет, а глядишь, ни за что… Барин богатый!
— Что он, уж старик?
— Какой тебе старик!.. Еще никак двадцати пяти годов нету, женился недавно, такую шустренькую взял!.. А чин на ем, должно, важнеющий, потому летось я его как-то в церкви видал: весь в золотых тесемках увешан… Как жар горят! А штаны кра-а-асные!..
— Давно ты живешь в конюхах-то?
— Нет. С весны нонешней. Как за подушным погнали, батюшка пошел в контору да под меня пятнадцать целковых взял. С той поры я вот и зачал жить. {550}
— Сколько же ты берешь в год?
— Тридцать пять целковых.
— Что так мало?
— Да как же оприч? вперед деньги взяли… Уж тут известно — сбавка, что дадут, то и бери.
— Ты откуда сам-то?
— Сакуринские, знаешь? Около Яблонца.
— Знаю, знаю… Ты что же у своего барина-то не нанялся?
Петруха засмеялся.
— Куда ему! он сам прогорел, иной раз пожрать нечего… Куда уж тут деньги вперед задавать!
— Где же он прожился так?
— Да чего! — смехота тут, страсть! — Ишь с купцами связался, торговать стал, завод мыльный завел, да и прогорел… Теперь с торговли-то на собак передуло: все зайцев по полю гоняет.
Вдали, по дороге от хутора, показался верховой на серой лошади.
— Ну, слава богу! — обрадовался Петруха, — Егорка Полоумный едет!..
— Кто это — Егорка Полоумный? — спросил я.
— Да это конюх, со мной табун стерегет. Ишь, на смену едет… Теперь вот мне обaпол полночи нужно к табуну выезжать — как совсем на хутор гнать.
— Что же это у Егора прозвище такое чудное? — допытывался я.
— Полоумный-то? — Это его у нас на деревне прозвали так-то, засмеялся Петруха, — ишь, он в одну девку врезался, — Гашка там есть, — а она возьми да загуляй с купцом; он с тех пор и ополоумел…
— Как же он ополоумел?
— Известно как… Чуть человек незнамый встрелся ему, он и давай все выворачивать: как это полюбилась ему Гашка, как с купцом связалась… да все, все расскажет… А смеяться станут, схватят что ни на есть в руки, да и норовит ошарашить… Мы уж теперь перестали над ним зубоскалить, того гляди убьет — боязно… Кучер Никифор Иваныч сказывал, что и в Питере он такой-то был.
— Да разве он был в Питере? — спросил я.
— Как же, он там в конюхах у нашего барина жил. Ноне весной приехал только… И теперь окромя у него {551} речей нету, что об Гашке!.. Загуторь о чем ни на есть, либо промолчит, аль буркнет словечко… А вот по лету, уйдет вон к курганам, — Петруха указал на бугры, чернеющиеся на фоне огневого заката, — и лежит там день-деньской… Я раз так-то пошел искать его по степи, нужно было табун выгонять, а он лежит, это, на кургане, — вон что над самым Битюком, — выше его нету; подхожу я, это, — почитай на него наступил, — а он словно и не видит… Выпучил глаза на небышко да глядит… Что ты, мол, глядишь, Егор? — а он как вздрогнет: на Битюк, мол, гляжу… А в ту пору Битюк еще в берега не вошел: в разливе был… Чего ж, мол, его глядеть-то? пойдем табун выгонять… А он, это, братец ты мой, как схватит себя за виски да как заголосит, меня аж оторопь взяла…
Недоумение пробежало по добродушному лицу Петрухи, но тотчас же уступило место обычной наивной веселости.
— Ну, барин, пойдем к хутору, что ли? Ведь ты небось у нас ночуешь-то? Где же тебе оприч!
А меня сильно заинтересовал Полоумный. "Что он? кто он?" — копошилось в голове: если он от любви такой-то стал, то это ведь не частое явление в крестьянском мире, где любовь по большей части оканчивается свадьбой, а после нее становится уж привычкой… Я решил познакомиться с Полоумным.
— Нет, Петруха, я, видно, полежу еще тут. Идти не хочется. Тогда нa ночь приду…
— Ну, приходи на ночевку, я тебе на сеннике постель сготовлю.
— Спасибо.
Петруха стал готовиться в отъезд. Поймал стреноженную лошадь, распутал ее, взнуздал, второчил кафтан. Егор подъезжал к табуну. Лошадка его бойко и скоро шла красивым, развалистым шагом. Я с любопытством стал вглядываться в Полоумного. Яркие лучи заходящего солнца падали ему на лицо, и оно казалось словно из бронзы вылитым. Строго очерченный профиль характеризовал это лицо. Тонкие, сжатые губы опушались черноватыми усиками; из-под широких сдвинутых бровей блестели большие, не то грустные, не то злые глаза. Печать какой-то суровой, сдержанной тоски лежала на всем этом загорелом, желтом лице, с резкими, некрасивыми на пер-{552}вый взгляд, чертами. Чуялась согнутая, подавленная сила в этом «полоумном»…
— Что-й-то ты долго, Егор? уж я ждал, ждал… — упрекнул Петруха.
Егор промычал что-то в ответ, слез с лошади и начал ее треножить. Петруха, тонко усмехнувшись, кивнул мне на него и, мешковато садясь на своего поджарого гнедого коня, спросил:
— Ну что ж, придешь ночевать-то на хутор?
— Приду, приду…
Петруха поехал к хутору.
— Ты что ж не пошел на хутор-то? — угрюмо обратился ко мне Егор.
— Да уморился больно — отдохнуть хочется.
— Далеча ходил-то?
— С ружьем ходил, да исходил порядком: пошел-то от самой Сухопутки, даже до Титовых двориков доходил, а вот оттуда вплоть до вашей степи…
— Ты сам-то чей?
Я сказал.
— Что же это ты: исходил много, а дичины с тобой нету? — усмехаясь, спросил Егор.
— Не из дичины хожу, — сказал я, — скучно станет на хуторе, а денек выдастся хороший, вот и пойду бродить… А славные у вас тут места! добавил я, бросив взгляд на окрестность.
— А ты был вон на Крутом кургане? — оживленно сказал Егор и, приподнявшись, указал на высокий курган.
— Нет, туда не доходил.
— Ты вот сходи-ко туда… С него страсть как видно!.. Тут тебе Битюк разливается… У самых берегов да на островах леса зеленеют, а промеж лесов, села раскинулись: Тамлык, Паршиково, Ровенское, Подлесное, Яблонец… А там Красноярье на круче… Приволье! куда ни глянешь, все колокольни белеются да кресты жаром горят… В ясный денек аж рыбинская церковь видна, верст двадцать будет… Как все равно синим туманом заволокет ее, церковь-то, только кресты, словно огоньки, блистают на солнышке… Тут тебе у реки сёла да деревни приютились, словно от ворога схоронились, а пo верху, вдоль Битюка, бугры да курганы тянутся… В старину, {553} говорят, их богатыри понасыпали… За Битюком кусты танеевские чуть синеются: Дальний куст, Травин куст… хороши есть у нас места! — добавил он после легкой задумчивости и тихонько вздохнул.
— За Битюком тоже хорошие есть места, — сказал я.
— А ты бывал за Битюком? — спросил меня Егор.
— Был как-то.
— Сакуриных знаешь?
— Нет, там не был. Около был, у одного купца на хуторе.
— Это у кого, не у Парменова ли? — угрюмо спросил меня Егор.
— У него, у Евграфа Парменыча…
— Его теперь, старика-то, нету на хуторе, там сынок разделывает, Мишка! — Злость послышалась в тоне Егора.
— Слышал, — сказал я, — говорят, что малый пустой.
— А собой-то он как раз на борова кормного похож… Двадцать шесть годов ему, говорят, а толщины-то что твой бык, ишь восемь пудов тянет… Рожа — словно стол широкая да скуластая, глаза — пьяные да шальные, бровей совсем нету… Пьян без просыпу с утра до ночи… — Егор с негодованием плюнул. — Этакого безобразия искать — не скоро найдешь!
Он опять понурился. Тяжело было смотреть на его тоскливое, истомленное лицо, то вспыхивающее болезненным румянцем, то желтое, желтое… Две-три глубоких морщинки залегли на высоком лбу, придавая этому лицу какое-то старческое, заботливое выражение; жалкая, не то злая, не то унылая усмешка искривляла губы… Руки постоянно находились в движении: он то теребил ими войлок, на котором сидел, или полу кафтана, то рвал траву, далеко отбрасывая ее в сторону… Солнце закатилось. Горизонт на западе охватила румяная полоска. На потемневшем востоке, слабо мигая, вспыхнула звездочка. Вечерние тени обнимали степь. Курганы хмурыми силуэтами выделялись на розовой зорьке. В прохладном воздухе было тихо, тихо… Трава подернулась влагой, а там, где тени были гуще, где они лежали с самых полдён, — около рощи, у стогов, — начинала ложиться матовая роса. {554}
— Я вот расскажу тебе про этого Мишку! — внезапно, обернувшись ко мне, заговорил Егор. Заговорил он быстро, отрывисто, словно спеша. — Есть там у нас на селе девка одна — Гашкой звать… У ней отца нету, а, стало быть, братишка годков десяти, две сестренки махонькие, да мать с бабкой… Мы суседи с ними… Ну, с измалетства мы с этой Гашкой водились… Бывало, по лету в рощу с ней уйдем… В ту пору около села-то роща была, теперь ее и следов не осталось — все купцам попродали… Зайдешь, бывало, в самое что ни на есть густое место — чащу — да сидишь там с нею… Девчонка-то она была шустрая, ничего не боялась… Чего, бывало, не делали! венки вьем, сказки друг дружке сказываем, песни играем… Знамо, ребячье дело!.. А в лесу по лету-то страсть как хорошо… Тут тебе, это, пташки поют всякие, кукушка кукует, горлинка турлычет, соловейко свищет-надрывается… Кругом не шелохнется, только листва вверху над головами словно река в половодье шумит… небышко синеется сквозь нее — сквозь листву-то… И жутко иной раз, особливо под вечер, и весело… А то день-деньской в поле с ней… У ней братишко-то больной какой-то был, почти с печки не слезал, — ее, иной раз, и нарядят скотину стеречь… А я-то, как себя запомню, все пастухом был… Ну, корма тогда были не нонешние, — вольные корма… Сидишь себе, на скотину-то и не смотришь… Знамо, сытый скот всегда спокоен, вон погляди на них, — Егор кивнул головою на табун, — а нам воля… У нас в барском поле Волчий бугор есть, прозывается, — посреди поля стоит, — и как зайдешь на него, тоже страсть видно: церквей, церквей, это!.. Ну, мы обaпол полден всегда уж к Волчему стадо подгоняли — водопой там близко есть, озеро… Скотина напьется, ляжет на тырло, а мы на бугор, и сидим там словно птицы вольные… Либо вокруг глядим… а вокруг все поля идут — глазом не обоймешь, а там села, деревни, хутора… Битюк словно туман белеется — он от бугра-то верст восемь… За Битюком леса синеются, а за лесами, в жаркий день, словно волны какие обеды 1 по степям бегут… А то ляжем навзничь да на небышко смотрим… А оно синее, синее… Иной раз облачки барашками бегут по нем, иной {555} раз словно паутина раскинется… А то глядишь, глядишь так-то, ничего тебе в небе нет — как есть одна синева, а иной раз коршун покажется, словно с самого неба вынырнет… После успенья журавли потянутся, затурлыкают… гуси, утки отлетать начнут… эх, весело, бывало!
Он опустил голову на руки и задумался.
— Ну, вот росли мы так-то с Гашкой… Известно, свыклись… Она еще девчонкой хороша была, недаром теперь первая на селе… Пошли у нас тогда худые времена… Перво-наперво волю дали, — тут радости было немало, у кабатчика никак целую сороковку в те поры выпили… Землю нам тут нарезали, стали выселять с старых местов, а на новых-то нет тебе ни пруда, ни речки, — уж колодцы вырыли… Тут с переселенья-то пошло все хуже да хуже… Земля год от году стала менее рожать… Зачали тут наши деревенские под работы браться по зиме, — допрежь того николи не бывало, чтоб за полгода под работу наниматься… Тут господа стали проживаться помаленьку… Наш прогорел в прах… Проявились купцы посевщики… Стали у господ землю скупать да снимать, свои купецкие порядки заводить… Вот этот Парменов купил возле нас хутор у одного барнишки. Стали мы на него работать… Зачал он нам в долг верить, и товаром, а пуще того землею. Все втридорога… С той поры мы и прoцент узнали, какой такой он есть!.. Закабалил Парменов как есть всю деревню, куда супротив барского порядка тяжелее… Старики сказывают, что когда барские были, не в пример вольготней жилось, особливо коли барин хороший попадался, вот хоть бы к примеру Танеев покойник, Михал Павлыч: супротив его мужиков жителей в округе не было, а теперь плоше их, почитай, нету… А тут еще неурожаи пошли: то год мочливый, то сухменный, то совсем не родится, кто ее знает с чего, то градом выбьет… беда за бедой!.. Чугунки пошли — извоз отбился… Совсем мы обнищали…
Он замолчал. Невеселые думы, по-видимому, роились в его голове. Голос становился все более и более протяжным и тоскливым.
Я не заговаривал, как-то совестно было бередить его горе… А над степью догорал хороший, тихий вечер… Быстро смеркалось. В темно-синей высоте одна за другой загорались звезды; зелеными, красными, синеватыми {556} огоньками светились они… Свежий вечерний воздух разливал какую-то здоровую, веселую бодрость по телу… Грудь высоко поднималась, вдыхая этот воздух, легкие энергично работали…
Каким-то нескладным диссонансом звучала в этом живительном воздухе несвязная речь Егора. Дико становилось…
А Егор опять начал свой рассказ. Опять потянулась его несвязная, тоскливая до истомы речь, — опять послышался его слегка дрожащий, щемящий голос…
— Ну, и стали мы тут землю сымать у Парменова, — подать надо платить, да и самим-то с своего наделу впору с голоду помирать. А за землю купцу, известно, заработывали. За подожданье тоже платили — прoцент этот… Так-то и стали у него все в долгу… Ну, когда старик-то хозяйничал, все ничего было: хоша и драл с нас за все про все, да озорства никакого не было, — а вот как поступил на хутор Мишка, тут и пошло… Бабам да девкам проходу не стал давать, а чуть заартачатся аль судом погрозят, — бывали такие-то, сейчас это долгом пугнет: "Разорю враз", говорит…
На ту пору мать-то Гашкина задолжала Парменову тридцать три целковых… Я знал завидующие Мишкины глаза и говорю Гашке, не показывайся, мол, толстому дьяволу… А она в ту пору уж выравнялась — как есть красивая девка стала: чернобровая да статная…
В прошлом году это было. Весна открылась ранняя: на святой по улице аж пыль стояла… Долго я буду помнить эту весну!.. Гашка о праздниках и с девками не якшалась; на улицу тоже перестала ходить, — все, бывало, со мной… В обед, это, уйдем на гумно, — там у нас пчельник есть, — и сидим до поздней зари… И чего тут мы не переговорили!.. А всего чаще, бывало, сидим около амшенка на солнышке, да молчим, любуемся… Весело! — в небе жаворонки играют, с теплых морей птица всякая летит… Зеленая травка пробивается, верба цветет, ветерок теплый подувает… А уж хороша была Гашка эту весну!.. — Егор тряхнул головой и весело усмехнулся, но усмешка эта сразу сбежала с лица и заменилась прежним унылым выражением.
— Тут мы распрощались с нею до осени, — потому я с самого Егорья на низы шел, на все лето, — сказывали, что {557} заработки там дюже хороши; опосля-то все это брехня одна вышла… Ну, как ворочусь я, решили мы с Гашкой повенчаться. Ни батюшка, ни ее мать нам не поперечили, только все на нужду жалились, потому на свадьбу, как ни бейся, а сорок целковых надо деньги в нашем быту немалые!.. Вот и пошел я добывать эту деньгу на низы в казаки…
Без меня тут и стряслось горе. Ехал как-то Мишка Парменов по нашей деревне, да супротив Гашкиной избы и захоти пить. Подъехал к сенцам… На ту пору Гашка там была, она ему и пить подавала… Раззарился он тут на нее, — прямо к Андронихе полетел, — солдатка… Подавай, говорит, Гашку! это он уж расспросил как звать-то… Андрониха к Гашке… Ну, та ее, знамо, спровадила. Тянули они так-то с неделю, все самоё Гашку хотели сомутить, а напоследок Андрониха прямо к Петровне, — это мать Гашкина-то. Та было сначала Андрониху в шею, а Андрониха ее долгом зачала стращать… Ну, известно, испугалась баба: долгу-то тридцать три целковых, да в посеве еще одна сороковая ржи была, стал-быть опять двадцать целковых — где их взять, столько денег-то!.. Поговорила Петровна с Гашкой, и надумались ко мне писать: нельзя ли мне из казатчины деньги выслать… Горе только одно! какие там деньги… Перво-наперво пришли мы к покосу, народу собралось страсть, ну, за дешевку и нанялись. А там как пшеница стала поспевать, — к Ростову пододвинулись, — в Ростове я и письмо получил… — Сунулся я к хозяину, денег вперед попросить, он только загоготал в ответ… Известно, кто даст незнамому человеку?.. Взяло меня тут горе… Так я и ответу Гашке не дал: что, думаю, без денег письмо посылать, только смех один!..
А на ту пору Мишка с Андронихой не дремали. Стали они все пуще Петровну стращать… Та долго крепилась. Ну, тут подал на нее Мишка в суд: как раз в самую рабочую пору, уборку… Измучилась баба, таскаючись к мировому — мировой-то верст за сорок жил, а Мишка-то три расписки все порознь подавал… Гашка с рожью все одна маялась, да на помочь кой-когда Христом-богом упрашивала… Ну, иной раз, праздником аль в досужую пору, девки и пожнутся, ее жалеючи… А на жниве-то все {558} про то же: все Гашку слухами да Мишкиным богатством смущают…
Сходила, это, Петровна к мировому три раза, и присудили с нее семьдесят целковых, — ишь, издержки какие-то еще… Тут Петровна и сробела… Стала дочь родную на непутное дело наводить… И разорит-то нас и загубит, по миру пустит… Девка и руками и ногами… Мать уж серчать стала: Егорке-то, говорит, все равно — тебя с греха не убудет, все такая же будешь, — а пропадать-то мы не пропадем… Сама уж Петровна сказывала опосля: день-деньской, говорит, пилю, пилю ее… раза два доводилось и за косы, — а как останусь одна в избе, аль в клеть зайду, да и заливаюсь там горючими. Промаялись они так-то до покрова, и Гашка и мать извелись совсем, Гашка уж на себя руки наложить задумала, да все оторопь брала, ну и меня-то с низов поджидала…
А я, на грех, в самый успеньев день свалился, да вплоть до Кузьмы-Демьяны провалялся в горячке. Деньги, что заработал, за хватеру пошли, так я Христа ради и до дому добрался… Тут осенью, с неделю спустя после покрова, приехал к Петровне пристав, описал все: коровенку, овец, амбарушку, кобылу, — одна и была… Через семь дён и продажу объявил. Побежала тут Петровна к Мишке, в ногах валялась, слезами обливалась, а он только гогочет, толстый дьявол… Озлобилась тут Петровна, пришла, набросилась на Гашку, стала ее попрекать… Напоследок аж обмерла… Известно, детишки махонькие, надо их прокормить, надел-то на одну душу всего, да и тот грозил мир отнять — недоимка становилась… Где бабе справиться?.. А тут еще осенние подушные подходили, она уж и так коровенку на подушное хотела продать — год-то тогда плох был, сухменный: ржица еще родилась, а яровые совсем погорели…
Егор замолчал и отвернулся от меня. Не то мне почудилось, не то и вправду в его глазах словно слезы блеснули… Разве то недобрый огонек сверкнул в них? — и то может быть…
— Говорят, силком Гашку-то он загубил… — после непродолжительного молчания проронил он глухим голосом.
— Где ж она теперь? — спросил я.
— У него, у Мишки… {559}
Я удивился.
— Что ж мать-то?
— А чего поделаешь… Она с той самой ночи и не вернулась, так у Андронихи и осталась, а опосля к Мишке на хутор переехала…
— И не уходит от него?
— Куда ж уйдешь, — срам! Пыталась, говорят, утопиться, да не допустили… Теперь-то оборкалась, должно… Уж скоро год как она там, сакуринским-то не показывается, а чужие видают… Работники-то ее уж хозяюшкой величают, — ишь, не нахвалятся… Только худа, говорят, больно словно испитая… Да водку зачала шибко испивать…
— Ты так и не видал ее?
— Притащился я к Михайлову дню ко двору еле живой, да как порассказали мне про все, — сама Петровна и рассказывала, — я опять свалился. До рождества, почитай, пролежал, а об рождестве в Питер уехал, у Танеева в конюхах там жил… Вот ноне по весне только пришел, прямо на хутор сюда…
— Да тоска вот дюже грызет, — продолжал он каким-то апатичным, усталым голосом, — все стоит вот она в глазах, скучная да худая… Так и ноет сердце, так и сосет… В Питере плохо, думал, как нa степь вернусь — легче будет… Как же, полегчает!.. Надысь наказывала повидаться, закаменело мое сердце — не пошел, а наутро хоть бы удавиться в пору… Тоска одолела…
Он замолчал и лег вниз лицом.
Лошади почти все уже улеглись и тихо хрустели, пережевывая траву. Изредка раздавалось шумное фырканье, резко тревожа сонный воздух, и опять вставала тишь над степью… На западе, у самого горизонта, едва мерцала узкая белесоватая полоска — остаток вечерней зари. Темное, почти черное, небо сверкало крупными звездами. Изредка какая-либо из них быстро скатывалась куда-то и исчезала, оставляя на мгновение огненный след… Куда она уносилась, эта звездочка?..
Тяжело становилось на душе после рассказа «Полоумного»… Тяжело было сознание того, что вот наряду с этой роскошной природой, наряду с этим широким простором и земли благодатной и чистого, вольного воздуха, {560} может существовать горе — не измышленное, а действительное, реальное, неумолимое…
Сдержанное рыдание послышалось… Я испуганно наклонился к Егору. Он весь конвульсивно вздрагивал, зажимая лицо руками. Плечи его тяжело приподнимались… Рыдание было хриплое, сухое, злобное… Я вспомнил почему-то о своем тихом семейном уголке, о своей беспечальной юности, о своей любви…
Веселая беседушка, Где батюшка пьет…пронеслось по-над степью со стороны хутора.
…Пьет…— отозвалось в роще жидкое эхо.
Он пьет, не пьет, Родимый мой, За мной, младой, шлет…Эхо чуть слышно откликнулось;
…адой шлет! А я млада, младешенька Замешкалася… В шелковой я травушке Запуталася…Песня приближалась к нам. Егор утих; лишь судорожное движение плеч доказывало его усилия сдержать стоны и вопли…
— Е-го-ор! — послышалось из темноты. То был голос Петрухи.
За окликом конское ржание послышалось. Из табуна звонко ответили на него. Лежавшие лошади стали вставать: их красивые силуэты зачернелись около нас. Егор поднялся. Зычно крикнул он в ответ Петрухе и пошел в середину табуна. Через пять минут он уж сидел на своей лошадке и сгонял табун. И он сам и лошадка его казались черными и резко выделялись на звездном небе…
Ржание, фырканье, окрики понеслись над степью, побежали в глубокое поднебесье… Я взял ружье и побрел вслед за табуном. Петруха подъехал к нам и поехал возле меня. {561}
— Что, ведь правда — полоумный? — спросил он меня шепотом и кивнул в сторону Егора. Я промолчал. Он опять вполголоса затянул свою песенку, изредка прерывая ее зычным окриком… Впереди табуна ехал Егор.
— Э-эх! — каким-то тоскливым стоном вырвалось у него. Я вздрогнул… Петруха перестал мурлыкать свою «беседушку» и за что-то ругательски изругал своего мерина…
Эх… не одна-то ль, не одна во поле дороженька, Одна пролегала…затянул Егор.
— Эка голосина-то! — шепнул мне Петруха.
Она ельничком, мелким березничком Она зарастала…Правда, голос был хорош: звонкий, тягучий…
Частым ли, частым, горьким осинничком Ее застилало……Только уж больно тосклив да жалостлив был этот голос… Словно не песню он пел, а слезную жалобу какую-то… Слушаешь, слушаешь ту песню, дело идет в ней о дороженьке, что пролегала по широкому, чистому полю, а так и чудится, что то не о дорожке идет речь, а о жизни, безвременно загубленной, о доле бесталанной, о любви опозоренной…
…Эх ты, прости-прощай, мил сердечный друг, Прощай, будь здорова… Коли лучше ты меня найдешь, — меня позабудешь… Коли хуже ты меня найдешь, — меня воспомянешь… Воспомянешь!гулко прокатилось из рощи…
Табун проходил по плотинке. Где-то сквозь нее, тихо журча, просачивалась вода… В прудке отражалось глубокое небо с своими звездами… Постройки хутора зачернелись перед нами. Послышался чей-то старческий кашель, и заспанный голос произнес:
— Вы, что ль, ребята?
— Мы, дедушка Тихон! — откликнулся Петруха.
Дедушка Тихон зевнул и заскрипел воротами. Я гля-{562}нул за прудок, на степь: бледный свет обнимал небо на востоке, Стожары начинали меркнуть, легкий туман поднимался от земли; коростель резко закрякал где-то за рощей…
Что-то серое, холодное, сырое повисло над степью…
— Пойдем спать, барин! — позвал меня Петруха.
Я полез за ним на сеновал.
Прошел год.
Наступила непогожая, мокрая осень. Пошли непрерывные дожди. Потянулись серые, сумрачные дни, темные, долгие ночи. Со дня на день ждали снегу.
Как теперь помню: было 22 ноября, когда я, проездом в Петербург, дожидался поезда на одной из больших перекрестных станций. Ждать приходилось долго — часов восемь. В длинном деревянном вокзале сновала скучающая публика; некоторые спали на диванах, другие пили чай, закусывали чуть ли не в десятый раз… В зале царствовал полумрак. Серенький, мокрый денек скудно лил свет в большие плачущие окна.
Наскучив ходить взад и вперед по зале, я вышел на платформу. На дворе было еще невзрачнее, еще тоскливее, — сыростью веяло. Моросил мелкий, холодный дождь, обливая открытую дощатую платформу и однообразно барабаня по железной крыше вокзала. Серые, тяжелые тучи низко стлались над землею; вдали, за селом, за мутной, волнистой рекой тянулись широкие желто-грязные поля… Около полотна дороги, между шпалами, стояли лужи; в них монотонно шлепали дождевые капли, морща и пузыря грязную, мутную воду. В маленьком садике, примыкавшем к вокзалу, сиротливо торчали оголевшие, черные деревья… Желтая листва лежала по дорожкам. В мокром воздухе было тихо не дул резкий осенний ветер. Из водосточных труб, с крыши звонко стекала вода… Со всего капало, все было сыро… Природа словно плакала.
Вдали, за вокзалом, маневрировал локомотив; густой пар клубился и шипел, расстилаясь седым туманом над самою землею и кутая близлежащие здания. Свисток глухо и уныло, словно нехотя, разрезал сгущенный, влажный воздух. {563}
Тоска одолевала среди этой сумрачной, кислой природы… Невеселые мысли лезли в голову…
Пройдя раза два по длинной скользкой платформе, я опять направился в вокзал и спросил кофе. Публика все сновала по зале, скучная, сумрачная… Тошно становилось, глядя на вытянутые, тоскливые лица… Разговора почти не было слышно… Лишь однообразное шмыганье ног по каменным плитам пола, дребезжащий стук тарелок за буфетом да отрывочные сердитые требования чаю, кофе, водки слышались в зале…
Я только что принялся за кофе, как над моим ухом раздался голос:
— Вы господин N?
Я быстро оглянулся. Предо мною стоял офицер; лицо казалось незнакомым.
— Что вам угодно? — спросил я, сильно недоумевая, — я действительно N.
— Друшецкий… Помните, познакомились в Москве?
— А… Николай Данилыч! — я радостно протянул ему руки.
Год тому назад мы познакомились с ним в вагоне, по дороге в Москву. Он приводил партию солдат в Тамбов и оттуда возвращался через Москву в Варшаву. В Москве ему приходилось быть в первый раз, мне тоже, отсюда одинаковые интересы. Мы решили вместе остановиться и осмотреть «сердце» России. Друшецкий оказался добрым малым, умным наблюдателем, веселым собеседником. Время прошло у нас незаметно, тем более что всего и времени-то было два дня…
Я обрадовался ему. Вспомнили прежнее. Посмеялись одному комическому эпизоду, происшедшему с нами при осмотре Ивана Великого. Сравнили стряпню Гурина с вокзальной стряпней. Ознакомили друг друга с новостями: он меня с варшавскими, я его с N-ми…
— Как же я вас раньше не видал? — спросил я его.
— Да я тут знакомого офицерика встретил — партию арестантов ведет ну, пошли с ним в гостиницу, на биллиарде сыграли…
— Где же он?
— Пошел своих проведать. Они там, в зале третьего класса расположились… Да вот и он!.. — кивнул Друшецкий. {564}
Я оглянулся. К нам подходил молодой белокуренький офицерик. Познакомились. Оказался какой-то Носович, малоросс, наивный, застенчивый… Мы стали ходить по вокзалу, прошли и в третий класс. В глубине зала этого класса блестели штыки конвойных; за ними серелись неуклюжие халаты арестантов; лязг цепей доносился оттуда… Я подошел поближе к арестантам. Офицеры мои опять направились ко второму классу.
В кучке арестантов слышался тихий говор. Кто-то рассказывал, как он бежал "с поселенья", из Тобольской губернии. Рассказу жадно внимали. Я заметил пару серых блестящих глаз, пристально следивших за рассказчиком. То были глаза седого изможденного старика. Конвойные немилосердно зевали и перекидывались отрывочными фразами. Я было повернулся, чтобы идти, как вдруг знакомое лицо мелькнуло среди ссыльных… В одно мгновение пронеслось в моей голове воспоминание о летней ночи, о танеевском хуторе, и даже Стожары вспомнились, потухавшие в бледном рассвете…
— Егор!.. ты зачем сюда попал? — почти вскрикнул я.
Да, то был Егор. Крупные черты его смуглого лица резко выделялись среди лиц сотоварищей. Он страшно похудел и вообще изменился. Только карие суровые глаза, казалось, еще ярче, еще жгучее горели… Нехотя поднял он на меня глаза, и как будто радость сверкнула в них; он, видимо, узнал меня, приподнялся и подошел ко мне. На его ногах звонко загремели цепи. Я протянул ему руку. Солдатик отстранил меня: "Не велено", — сказал он. Егор опять опустился на скамью, где сидел, махнув мне безнадежно рукою. Он что-то сказал при этом, но я не расслышал… Я поспешил разыскать Носовича, который, разумеется, тотчас же дал мне позволение поговорить с Егором. Мало того, он даже любезно разрешил мне походить с Егором по платформе, сказано, что юноша был наивный… Впрочем, он прежде уверился, что Егор из «легких», идет только на «поселение», стало быть не «опасен»…
И вот под аккомпанемент цепей повели мы разговор с Егором. Мелкий дождик мочил нас, ноги скользили по лужам, образовавшимся на платформе…
— Что, барин, небось не чаял меня встретить скованного-то? — спросил он меня, печально усмехнувшись. {565}
— Как это тебя угораздило? — спросил я.
— Да все злодей-то мой — Мишка… Вот погоди, я все тебе по порядку расскажу… Душу хоть отведу… Помнишь, я тебе сказывал тогда, что Агафья-то повидаться со мною хотела?.. В те поры-то я не пошел, ну, а потом не стерпел — повидался… Что ж, горе одно! Разливается, бедняга, рекою… Извелась вся… Уж как он ее, окаянный, не разлюбит-то все!.. Говорит мне Гаша-то: пуще всего мне тебя жалко да срамно больно… Ну, наслушался я да насмотрелся на нее, сердешную, — тут голос Егора дрогнул, — да и порешил… Не пришлось дело-то… Только амбары успел подпалить, тут меня и словили… Оплошку сделал — собак не задобрил… Ну, с полгода в остроге просидел, а теперь вот на поселенье гонят… Еще каких-то «правов» лишили, — усмехнулся Егор, — ну, это-то, должно, смехота одна: какие у нашего брата права!..
— Чего ж Агафья не ушла от Парменова-то?
— Уйди-кось, — он горько усмехнулся, — первое дело — срам, полюбовницей была, на селе проходу не дадут — другое дело — долгу-то все прибавляется, а там, на селе, мать сама-пята… Тут один конец — либо в воду, либо… Так вот она и мается… Хотел я с ней повенчаться, уехать отсюда куда глаза глядят… Мишка и говорит ей: пускай долг-то отдаст твой суженый… А долгу-то, смешно сказать, сто тридцать целковых наросло!.. Мать плачет, гoрится, — пропаду, говорит, без тебя… Ну, известно, — баба! — добавил он после легкого раздумья. — Видно, так тому делу и быть… На роду написано… Видно, и впрямь нашу дорожку "горьким осинничком застлало"… — Он лениво усмехнулся.
Какое-то холодное бесстрастие сквозило в его речах, — словно застыл он. Правда, голос дрогнул раза два да злая усмешка иногда искривляла тонкие губы, но я видел Егора, с небольшим год тому назад, рыдающего, озлобленного… Теперь уж не было того Егора. Он как-то сжался, сосредоточился… Только глаза лихорадочно, воспаленно блестели… Еще две-три морщинки прорезали его лоб, в черных, коротко остриженных волосах кое-где делалась седина…
На дворе темнело. У входа в вокзал зажгли фонари, в залах тоже показались огни. Дождь усилился и бойко {566} шуршал по железной крыше. Сигнальный колокольчик оглушительно зазвенел — поезд был за одну станцию. В дверях показался Носович с Друшецким,
— Что, наговорились? — закричал мне Носович.
— Не велишь ли что родным передать? — обратился я к Егору, — я, может, буду в ваших местах.
Он было оживился, но только на одно мгновение. Обычная бесстрастность опять овладела им. Его, видимо, даже начинало тяготить мое присутствие. Радости, выказанной им при встрече со мною, не замечалось и следа…
— Чего ж наказывать? — нехотя протянул он, глядя в сторону, — кажись, нечего… Только, может, Агафью увидишь у Парменова, — скажи, кланяется, мол…
Мы простились.
Через пять минут с багажом в руках все высыпали на платформу. Дождь усиливался; он уж гремел, а не шуршал по крыше. С наших зонтов стекала вода. Подходящий поезд тяжело грохотал в мокрой тьме, зловеще сверкая красными круглыми фонарями… Словно чудище сказочное близилось.
Загремел второй звонок. Пассажиры спешили занимать места. Суетня поднялась среди них… Поджарый кондуктор бежал вдоль поезда и монотонно выкрикивал жидким дискантом:
— Станция Гр-и, поезд стоит пятнадцать минут!..
Из вагонов вылезали заспанные пассажиры. {567}
Комментарии
"Записки Степняка" печатались первоначально отдельными очерками в журналах "Вестник Европы", «Дело», "Русское богатство" с 1879 по 1883 год в следующем порядке:
Два помещика — «Дело», 1879, № 11.
Ночная поездка (в отдельном издании 1883 года названо "Под шум вьюги") — "Вестник Европы", 1880, кн. 2.
От одного корня — "Вестник Европы", 1880, кн. 2.
Обличитель — "Вестник Европы", 1880, кн. 3.
Полоумный — "Вестник Европы", 1880, кн. 3.
Степная сторона — "Вестник Европы", 1880, кн. 6.
Мужичок Сигней и мой сосед Чухвостиков — "Вестник Европы", 1880, кн. 6.
Визгуновская экономия — "Вестник Европы", 1880, кн. 9.
Барин Листарка — "Вестник Европы", 1880, кн. 11.
Мои домочадцы — "Вестник Европы", 1880, кн. 11.
Серафим Ежиков — "Вестник Европы", 1881, кн. 2.
Криворожье — "Вестник Европы", 1881, кн. 5,
Жолтиков — "Вестник Европы", 1881, кн. 7.
Поплешка — "Вестник Европы", 1881, кн. 7.
Липяги — "Вестник Европы", 1881, кн. 9.
Земец — "Русское богатство", 1881, № 9.
Идиллия — "Вестник Европы", 1881, кн. 12.
Иностранец Липатка и помещик Гуделкин — «Дело», 1882, № 2.
Офицерша — "Вестник Европы", 1882, кн. 5.
Отрывки (в отдельном издании 1883 года названо "Addio") — "Вестник Европы", 1882, кн. 9.
Последние времена — «Дело», 1882, № 9.
Крокодил — «Дело», 1883, № 1. {571}
В 1883 году "Записки Степняка" вышли отдельным изданием (Записки Степняка. Очерки и рассказы А. Эртеля в двух томах, СПб., изд. О. И. Бакста, 1883). В этом издании появился вводный очерк "Мое знакомство с Батуриным", объединивший весь цикл образом рассказчика — Степняка Батурина.
В издание 1883 года не были включены «Полоумный» и «Обличитель», печатавшиеся ранее в журнале как рассказы из цикла "Записок Степняка". Записи, обнаруженные в архиве писателя, свидетельствуют о том, что первоначально Эртель намеревался включить эти рассказы в отдельное издание "Записок Степняка". Рассказы «Полоумный» и «Обличитель» интересны своей острой социальной направленностью, тем, что их герои, выходцы из народа, по-своему пытаются протестовать против несправедливостей жизни, в которой властвуют дворяне и представители крепнущей русской буржуазии, поэтому мы считаем необходимым познакомить с этими рассказами читателей и печатаем их вслед за основным составом "Записок Степняка".
Издание "Записок Степняка" 1883 года, последнее прижизненное издание, имеет некоторые отличия от журнальной редакции. Автор, готовя к печати отдельное издание своих очерков и рассказов, внес в них ряд изменений, главным образом по линии сокращения повествовательного текста. Тот же текст издания 1883 года положен в основу "Записок Степняка", напечатанных в собрании сочинений А. И. Эртеля в семи томах, выпущенном в свет в 1909 году, уже после смерти писателя.
"Записки Степняка" в данном издании печатаются по тексту последнего прижизненного издания "Записок Степняка" 1883 года с исправлениями по собранию сочинений (А. И. Эртель. Собрание сочинений, тт. 1 и 2, М., Моск. Книгоизд-во, 1909). Для исправлений принимается во внимание иногда и первая журнальная редакция, а также рукописные автографы, хранящиеся в архиве Эртеля в Москве, в библиотеке им. В. И. Ленина (фонд 349) и в ЦГАЛИ, а в Ленинграде в ИРЛИ Академии наук СССР.
Мое знакомство с Батуриным
Рукописный черновой автограф, озаглавленный "Батуринский формуляр" (библ. им. В. И. Ленина), дает возможность установить, что "Мое знакомство с Батуриным" было написано Эртелем в 1882 году, когда он жил на хуторе на Грязнуше. {572}
Судя по письму к Эртелю редактора "Вестника Европы" М. М. Стасюлевича от 30 декабря 1882 года, в котором он высказывает свое мнение о биографии Батурина, А. И. Эртель, очевидно, намеревался поместить ее в "Вестнике Европы", но М. М. Стасюлевич отказал Эртелю, считая, что биография Батурина должно была быть более развернута, а в данном виде в журнале "займет совсем одинокое положение" (ф. 349, папка XVIII) ед. хр. 93).
I. Степная сторона
Написана в феврале — марте 1880 года в Петербурге. Первоначально, когда А. И. Эртель еще не думал объединять "Записки Степняка" образом Степняка Батурина, он предполагал открыть книгу "Степной стороной". "Степная сторона" должна служить как бы предисловием к Запискам Степняка и помещаться первой", — отмечает он в своей записной книжке (ф. 349, папка XIV, ед. хр. 1).
II. Под шум вьюги
Рассказ был написан в феврале 1878 года в Ольховке. Печатался он при жизни А. И. Эртеля трижды — в "Вестнике Европы" (1880, кн. 2), в отдельном издании "Записок Степняка" 1883 года и, кроме того, вместе с рассказом «Офицерша» в издании "Русской мысли" в 1901 году (серия "Новая библиотека"). Его заглавие несколько раз менялось. Первоначальное название рассказа, судя по сохранившемуся автографу, — "Степные встречи". Прислан он был Стасюлевичу под заглавием «Страстотерпцы», Стасюлевич назвал его "Ночная поездка", и, наконец, уже в отдельном издании "Записок Степняка" Эртель озаглавил его "Под шум вьюги". (В бумагах Эртеля сохранился другой рассказ с тем же названием "Под шум вьюги". Содержание его не имеет ничего общего с "Ночной поездкой". Рассказ яркий, очень смелый, рисующий протест крестьянства против угнетения. Очевидно, он не мог быть напечатан из-за его «нецензурности», и, понимая это, Эртель придал его заглавие другому своему рассказу, близкому по идейному звучанию.)
Сохранившаяся в рукописи редакция рассказа "Степные встречи" значительно полнее печатного текста и представляет большой интерес: в ней с отчетливостью звучит тема большой нравственной силы русского народа, который не смогли согнуть никакие правительственные репрессии. Несмотря на то, что этот {573} автограф не может быть назван беловым, так как в нем перемежаются начисто переписанные страницы с зачеркнутыми, он все же дает возможность внести исправления и дополнения в печатный текст. Так, например, во всех имеющихся изданиях рассказа "Под шум вьюги" разговор ходока со сторожем напечатан с сохранением ошибки, вкравшейся не по вине Эртеля в текст прижизненных изданий. Ходок рассказывает о том, что за крестьянами был некогда "закреплен царицей Екатериной" лес, но потом его «отбили». Попытки крестьян вернуть лес ни к чему не привели, и ходок мотивирует это таким странным аргументом: "Вконец разорились… Знамо дело… Кабы другой кто захватил, глядишь, и взяло бы наше…" Возникает вопрос: кто же захватил лес у крестьян? Нигде об этом не сказано ни слова. Рукописный автограф дает ответ на этот вопрос: лес у крестьян захватила «казна». Очевидно, что обвинение казны в разорении крестьян было признано «нецензурным» и сам Стасюлевич или цензор повычеркивали всюду слово «казна», что и привело к бессмыслице, с которой мы встречаемся во всех печатных изданиях. Слово «казна» в настоящем издании всюду восстанавливается в соответствии с рукописью Эртеля (ф. 349, папка I, ед. хр. 4 А2).
Возможность на основании данной рукописи восстановить цензурный пропуск дает основание считать, что данный рукописный автограф соответствует той редакции рассказа, которая была послана Эртелем Стасюлевичу и напечатана в журнале в изуродованном, урезанном виде.
Восстанавливается по данному рукописному автографу очень важная по своему политическому звучанию картина экзекуции, которой были подвергнуты крестьяне, взбунтовавшиеся в 1861 году, после объявления «воли». Эти строки рассказа, отсутствующие в печатном тексте, придают ему иную окраску, рисуют активный протест крестьянства против так называемого «освобождения», проведенного в интересах помещиков. Восстанавливаемая страница рукописи переписана Эртелем набело.
Кто же вычеркнул из рассказа наиболее сильные, обличительные страницы? Может быть, это сделал цензор, но, может быть, и сам Стасюлевич. Его неопубликованная переписка с Эртелем по поводу "Записок Степняка" лишний раз рисует нам его как чрезвычайно осторожного человека.
В письме от 14 января 1880 года М. М. Стасюлевич пишет Эртелю о «нецензурности» его рассказа и о том, что он переменил его заглавие:…"Страстотерпцам" я переменил заглавие по причинам, "не зависящим от редакции", собственно говоря, в настоя-{574}щую минуту этот рассказ и уже сам по себе тут мало удобен, — и еще обостряющее заглавие, он выйдет под заглавием "Ночная поездка". Это — гораздо легче, и без всякого указательного перста на то, на что не следует указывать" (ф. 349, папка XVIII, ед. хр. 13). Как видно из этого письма, Стасюлевич даже не спрашивает разрешения Эртеля, а просто меняет заглавие рассказа. Не приходится сомневаться в том, что он не ограничился только переменой заглавия в этом "мало удобном" по цензурным причинам рассказе.
Стасюлевич правил произведения Эртеля и тогда, когда тот уже не был начинающим автором. Например, 2 декабря 1882 года он пишет Эртелю по поводу "Волхонской барышни": "Вы даете мне право смягчать «твердые» предметы, а по цензурным обстоятельствам и вовсе устранять, а где нужно, прикрыть газом… Я не могу быть врагом вам без того, чтобы не сделаться врагом журнала" (ф. 349, папка XVIII, ед. хр. 13).
Неопубликованная переписка Эртеля с Засодимским, Стасюлевичем и другими литераторами, а также с его близкими — отцом, женой, показывает, что многие произведения Эртеля были признаны его адресатами «нецензурными» и, не дойдя до цензора, отсылались обратно писателю ввиду их «неудобства» для печати. В письме от 21 января 1882 года Эртель рассказывает, например, своей будущей жене, Марии Васильевне Огарковой, о том, как к нему однажды приехал М. М. Стасюлевич: "Он меня настоятельно просил писать осторожней. Последний рассказ мой, вчера только сданный для мартовской книжки, обозвал «резким» и сказал, что вряд ли он пойдет…" И действительно, в мартовской книжке "Вестника Европы" не было помещено никакого рассказа А. И. Эртеля. "Ты не можешь вообразить, как скверно живется. Гнет на печати, гнет на обществе — отзывается в каждом тупою болью…" — с глубокой скорбью признается Эртель М. В. Огарковой.
III. От одного корня
Рассказ был написан в Петербурге в октябре 1879 года. Рукописный автограф не обнаружен.
IV. Два помещика
Очерк был написан в Петербурге в ноябре 1879 года. Неопубликованные письма к А. И. Эртелю Ивана Васильевича Федотова, отца его первой жены, а также некоторые записи самого {575} Эртеля говорят о том, что многие герои его очерков и рассказов из цикла "Записки Степняка" имели реальных прототипов, что в большинстве своем рассказы Эртеля складывались на основе изучения действительных событий и характеров, не были «сочиненными». И. В. Федотов писал Эртелю: "Те нумера журналов, где помещены твои очерки, вырываются усманцами друг у друга с нетерпением…", так как усманцы ждут от Эртеля новых разоблачений (ф. 349, папка XIX, ед. хр. 3/40).
Федотов говорит о совершенно конкретных прототипах "двух помещиков", выведенных Эртелем в его очерке. "Карпеткин, вероятно, милейший И. В. Мер-нский", — пишет Федотов (ф. 349, папка XIX, ед. хр. 3/34). Федотов сообщает Эртелю, что очерк "взволновал всю помойную яму до дна, — озлобил Мерч., и Храп., и всю гнусную клику безмозглых ослов, и навострил им ослиные уши в ожидании новых ударов литературного бича…" Федотов пишет Эртелю о том, что одна из их общих знакомых уже сказала в связи с "Двумя помещиками": "ты накликаешь на себя полчище злодеев в образе помещиков: Колотушкиных Ус-манского уезда" (ф. 349, папка XIX, ед. хр. 3/41). Вместе с тем было бы неправильным искать полное портретное сходство между персонажами рассказов и очерков Эртеля и жителями Усманского уезда, которые в той или иной мере явились прообразами его героев. Отталкиваясь от известных ему фактов, наблюдая хорошо знакомых людей, Эртель стремился к созданию типических образов.
V. Мужичок Сигней и мой сосед Чухвостиков
Рассказ был написан в Петербурге в марте 1880 года. Судя по черновому автографу, первоначальное заглавие рассказа было "Мужичок Сигней". Начало первого варианта рассказа Эртель потом перенес в "Степную сторону".
VI. Визгуновская экономия
Место написания очерка — хутор на Грязнуше. Закончен он был в июле 1880 года. "Визгуновская экономия" напечатана в журнале с посвящением Глебу Ивановичу Успенскому, в отдельном издании это посвящение снято. Судя по рукописи, первоначальное название было "Приказчиков сын". {576}
В списке "Предполагаемых очерков из "Записок Степняка", сохранившемся в памятной книжке Эртеля, он намечал план и фабулу очерка: "Любовь его к крестьянской девушке. Затем женитьба на глупой мещанке", отметил необходимость дать "картины природы: глубокая осень, около реки…" В этом наброске намечавшегося тогда произведения Эртель между прочим записал: "Можно списать с Ив. Всеволодова". Очевидно, он имел в виду конкретный прототип героя — сына приказчика Пармена.
Посылая М. М. Стасюлевичу "Визгуновскую экономию" для сентябрьской книжки "Вестника Европы", Эртель писал: "Сам я и доволен им и нет. То волком, то лисою смотрит на меня этот очерк…" (ЦГАЛИ, ф. 1167, ед. хр. 75, опись 1, № 4316). Эртель подходил к своим произведениям с большой требовательностью, был, как он сам говорил, беспощаден по отношению к самому себе. Он считал необходимым для писателя равняться на больших мастеров — Льва Толстого, Тургенева, Гоголя, Салтыкова-Щедрина.
VII. Барин Листарка
Место и дата написания — Усмань, 1880 год, 14 сентября. Относительно этого очерка Эртель пометил в своей записной книжке: "При истолковании характера барина Листарки не забыть того влияния на этот характер, который причинили послереформенные трудные отношения". Автограф не сохранился.
VIII. Мои домочадцы
Эртель указывает дату написания этого очерка — 24 сентября 1880 года в Усмани.
В архиве Эртеля сохранились только небольшие наброски "Моих домочадцев".
IX. Серафим Ежиков
Рассказ был написан в Усмани 13 декабря 1880 года. В рукописном отделе ИРЛИ Академии наук СССР хранится беловой автограф рассказа, в основном соответствующий прижизненным изданиям. Все исправления в печатном тексте сделаны {577} согласно данной рукописи (ИРЛИ, Рукоп. отдел, ф. 250, ед. хр. 594).
Эртель колебался в выборе фамилии главного героя и названия рассказа. В плане "Предполагаемые очерки из "Записок Степняка" Эртель сначала назвал задуманный им рассказ — «Чудак», потом "Серафим Чудаков", пока, наконец, не остановился на имени героя — Серафим Ежиков, которое и стало названием рассказа. По-видимому, Эртель придавал этому рассказу большое значение. Вот что писал он 5 ноября 1880 года М. М. Стасюлевичу: "У меня сейчас вполовину готов очерк из Записок Степняка. Очерк зовется "Серафим Ежиков" и имеет предметом народного учителя, принужденного бросить то дело, которое по важности считает выше всего в мире, и уйти из деревни. Оторвать растение от почвы — значит погубить его, — гибнет и Серафим Ежиков. Вырвали же его из почвы — деревни потому, что он несколько широко понимал призвание народного учителя: он не отказывался написать просьбу крестьянам против кулака, не отказывался растолковать им ту или другую противозаконность писаря, старшины, попа и проч. Несмотря на то, что деятельность его была в самом строгом значении этого слова — легальна, его, как неблагонамеренного, выперли. Кончает он печально и действительно уж в качестве неблагонамеренного. Так как последнее будет обозначено у меня только одной фразой в конце рассказа и в остальном я стараюсь быть очень осторожным, то надеюсь, что Сциллы и Харибды избегу. Кончить очерк я думаю в 20-х числах этого месяца…" (ЦГАЛИ, ф. 1167, ед. хр. 75, опись 1, л. 8).
Очень интересно это указание Эртеля на завершение деятельности Ежикова на путях «неблагонамеренности» и на необходимость ввиду цензурных препятствий — "Сциллы и Харибды" — обозначить эту тему лишь одной фразой. Но и этой одной фразы не осталось в рассказе. Мы узнаем о дальнейшей судьбе Ежикова из «Идиллии» и «Addio».
Отвечая Эртелю по поводу присланного им для напечатания в "Вестнике Европы" "Серафима Ежикова", А. Н. Пыпин положительно отозвался о рассказе, отметил значение типа Серафима Ежикова, сказав, что он "очень характеристичен и нов". Кроме того, Пыпин заметил, что "очень хороши и очень нужны" те "несколько более широких замечаний" о современной русской действительности, к которым рассказ дает повод (ф. 349, папка XVII, № 8, письмо от 6 января 1881 г.). {578}
Действительно, повествование Эртеля о трагической судьбе народного учителя, чья благородная деятельность была уже заранее обречена на неудачу, давало повод для глубоких и печальных суждений о бесправии русских интеллигентов, подобных Ежикову, которых царское правительство считало возможным преследовать уже хотя бы за одно то, что они читают Милля!
Показав всю ограниченность народнических иллюзий Серафима Ежикова, Эртель вместе с тем нарисовал с глубокой симпатией образ этого предельно честного человека, самоотверженно преданного интересам народа.
X. Земец
Точной даты написания «Земца» мы в письмах и записных книжках Эртеля не находим, но задуман он был еще, очевидно, в 1878 году, потому что в "Памятной книжке" Эртеля за 1878 год в списке "Предполагаемые очерки из "Записок Степняка" мы находим под XXII номером «Земца» с указанием на прототип его героя — "Демшинский Александр Иванов" (ф. 349, № 2).
В письме к отцу от 5 ноября 1881 года Эртель спрашивает: "Как вам понравился мой «Земец»… В нем я взял некоторые черты у Демшинского гласного Александра Иваныча" (ф. 349, папка X, ед. хр. 24).
В этом рассказе Эртелю удалось показать реакционный характер института земских гласных в дореволюционной России, который определялся составом гласных. Трудящееся население устранялось от выборов — гласные избирались землевладельцами, лицами, имевшими недвижимость.
Современники оценили не только типичность образа гласного Онисима, созданного Эртелем, но и другие достоинства рассказа «Земец», в частности поэтическое изображение русской природы. Мастерство Эртеля как пейзажиста отмечали все, кто писал о нем, говорили об этом Чехов и Короленко. Восторженную оценку умения Эртеля увидеть и передать "живую природу" мы находим в отзыве редактора журнала "Русское богатство" Н. Ф. Бажина, в его письме, в котором он благодарит Эртеля за присылку в журнал рассказа «Земец»: "Земец" — хорошенькая вещица. Я так мало люблю описания природы, что обыкновенно пропускаю их везде, где бы они мне ни попались, но у вас в «Земце» они совсем другая статья: они до такой степени превос-{579}ходны, что даже мало походят на описание… Кажется, что как будто бы сам едешь в степи и видишь и слышишь все, что в ней совершается, и дышишь вовсе не комнатным поганым воздухом, а тем, степным… Говорят, что у кого-то еще из наших писателей есть хорошие описания природы, — я не знаю; красивые есть, это точно, но живую природу, перенесенную на страницы книги, я увидал только у вас…" (ф. 349, папка XI, № 9/1-4).
XI. Криворожье
Рассказ был написан 16 марта 1881 года в Усмани. В списке "Предполагаемых очерков из "Записок Степняка" Эртель отметил под XXVI номером рассказ, названный им тогда "Мельник и мельничиха", и указал, на реальные прототипы героев рассказа: "Дм[итрий] Федорович] Скляднев и Ольг[а] Мих[айловна] Гостеева". В качество примечания Эртель отметил: "Это можно разделить на два очерка: «Мельничиха» и "Дубоватская мельница". Но, как мы видим, Эртель впоследствии отказался от этого разделения и в «Криворожье» вывел типы «хищников» — мельника и мельничихи.
В редакции "Вестника Европы" рассказ «Криворожье» был встречен положительно. "Все три последние ваши рассказа, — писал 27 апреля 1881 года Пыпин Эртелю, — очень характерны — и мельник в Криворожье, с супругой-стервой, одаренной славянофильским красноречием; и Жолтиков, и Поплешка. Все три — ко времени…" (ф. 349, папка XVII, № 8).
XII. Жолтиков
В журнале "Вестник Европы" рассказ был напечатан с посвящением И. С. Тургеневу. В отдельном издании посвящение было снято.
Рассказ был написан в Усмани; в своей записной книжке Эртель помечает дату его написания — 1881 год, 30 марта. В архиве Эртеля сохранились черновые наброски, из которых мы узнаем, что первоначальное название рассказа было «Почившие» и имя героя было иным. Вот как начинался рассказ: "Когда мне случилось однажды вместо хутора прозимовать в одном уездном городке, с особенным удовольствием узнал я, что хозяин мой Ва-вила Агафоныч, по-уличному «Пехтерь», человек почивший, или, {580} по-западному, «рантьер» (ф. 349, папка 1, ед. хр. 4/к). Потом Эртель отбросил это начало, остановившись на знакомом нам по печатному тексту, и изменил имя героя. В редакцию "Вестника Европы" рассказ был послан под названием "Oxalis tropaeloides".
Рассказ о русском «рантье», о человеке-паразите, живущем на доходы от ценных бумаг, понравился А. Н. Пыпину. Но название рассказа вызвало его возражение. Судя по письму Пыпина к Эртелю от 27 апреля 1881 года, мы можем говорить о том, что Эртель переменил заглавие "Oxalis tropaeloides" на «Жолтиков», в соответствии с желанием А. Н. Пыпина.
В. И. Ленин в своем труде "Империализм, как высшая стадия капитализма" в VIII главе "Паразитизм и загнивание капитализма" писал: "Империализм есть громадное скопление в немногих странах денежного капитала… Отсюда необычайный рост класса или, вернее, слоя рантье, т. е. лиц, живущих "стрижкой купонов", — лиц, совершенно отделенных от участия в каком бы то ни было предприятии, — лиц, профессией которых является праздность" (В. И. Ленин. Сочинения, т. 22, стр. 263).
Рост числа рантье является одним из признаков загнивания, паразитизма капитализма. Нарисовав образ русского «рантье» Жолтикова, Эртель следует за Салтыковым-Щедриным, который в своих "Благонамеренных речах" показал эволюцию «чумазого» Осипа Ивановича Дерунова от владельца небольшого постоялого двора к финансисту, живущему стрижкой купонов.
XIII. Поплешка
Рассказ написан в Усмани 2 апреля 1881 года. Очень лаконичный, экономный по форме, с необычайной выразительностью рисующий трагическую судьбу русского крестьянина-бедняка в пореформенный период, он может быть назван одним из лучших рассказов Эртеля. Не случайно А. Н. Пыпин, высказывая Эртелю ряд своих критических замечаний по поводу некоторых его рассказов, написал: "О «Поплешке» ничего не имею сказать, кроме того, что он мне очень понравился". Чтобы не ослаблять впечатления, которое мог произвести рассказ на читателей, Пыпин хотел даже напечатать «Поплешку» в июньской книжке "Вестника Европы", не соединяя его с другим рассказом Эртеля. Пыпин писал Эртелю: "Он очень оригинален и самой своей короткостью и одинокостью тем больше остановит на себе внимание" (ф. 349, папка XVII, ед. хр. 8, письмо от 27 апреля {581} 1881 года). По-видимому, Эртель не захотел менять нумерацию рассказов (Пыпин предлагал в этом случае тринадцатый номер рассказа переменить на двенадцатый), и «Поплешка» был все же напечатан в июльской книжке, вместе с «Жолтиковым».
XIV. Липяги
"Липяги" были написаны 30 мая 1881 года на хуторе на Грязнуше. Первоначальное название рассказа было "Две ночи".
А. Н. Пыпин писал по поводу рассказа «Липяги» Эртелю, что "рассказ характерен", но вместе с тем он отмечал как недостаток рассказа то, "что вы заставляете обоих героев, и барина и демократа, читать длинные монологи (которые нужны вам для изложения их взглядов). На мой взгляд, эти монологи, недостаточно мотивированные, то есть не вынуждаемые обстоятельствами дела, выходят немного искусственны: едва ли бывают такие в действительности" (ф. 349, папка XVII, ед. хр. 8). По-видимому, Эртель учел критические замечания Пыпина, потому что в печатном тексте рассказа большинство монологов героев передано писателем путем пересказа их содержания от лица рассказчика.
XV. Идиллия
"Идиллия" была закончена Эртелем 13 июня 1881 года. Характеризуя главное действующее лицо «Идиллии» — реакционера Гермогена Пожарского, Эртель придал ему некоторые черты одного из героев своей ранней, незаконченной повести "Без почвы" (1878), в которой должна была быть обрисована деятельность дворян-земцев, борьба оппозиционных элементов с реакционными. У Гермогена Пожарского есть черты сходства с Андреяном Аристарховичем Белым из повести "Без почвы", вожаком реакционной партии «охранителей». Белый сначала был «скандалезным» защитником крепостного порядка, а после 1861 года, после крестьянской реформы, замаскировался и натянул на себя обличье «земца», но и в земстве он по существу являлся ярым поборником узкосословных традиций и прерогатив. Гермоген Пожарский, как и Белый, охвачен страстью к реакционным писаниям; подобно Белому, он охарактеризован Эртелем как человек без каких-либо нравственных устоев, лицемерный, развратный. Черновые автографы «Идиллии», сохранившиеся в архиве {582} Эртеля, показывают, что в процессе работы над рассказом писатель перенес в «Идиллию» картины масленичного разгула из первоначального варианта рассказа «Офицерша».
XVI. Иностранец Липатка и помещик Гуделкин
Рассказ был, очевидно, написан во второй половине 1881 года, судя по тому, что Стасюлевич сообщает Эртелю свой отзыв о рассказе в письме от 21 сентября 1881 года.
Черновые автографы свидетельствуют о том, что первоначальное название рассказа было "П. А. Чумаков с сыновьями". Сохранились и небольшие отрывки, озаглавленные "Ириней Гуделкин", на основании которых можно полагать, что, по-видимому, Эртель думал посвятить Иринею Гуделкину-отдельный очерк, но потом отказался от этого замысла.
Рассказ "Иностранец Липатка и помещик Гуделкин" был напечатан в журнале «Дело», по-видимому, потому, что он вызвал большие возражения у редактора "Вестника Европы" Стасюлевича. Стасюлевич упрекал Эртеля в том, что, изображая в сатирических тонах преклонение капиталиста «иностранца» Липатки перед Западом, Эртель якобы лил воду на мельницу славянофила Аксакова, который ревниво охранял русский народ "от тлетворного Запада".
Стасюлевич предлагал Эртелю внести некоторые изменения в рассказ. Видимо, Эртель не смог согласиться с предложениями Стасюлевича и, не желая поступаться своей точкой зрения, отдал рассказ в другой журнал.
XVII. Офицерша
Свое мнение о рассказе М. М. Стасюлевич высказывает в письме к Эртелю от 10 февраля 1882 года. Если учесть, что в письме от 21 сентября 1881 года Стасюлевич говорит еще только о рассказе "Иностранец Липатка и помещик Гуделкин", то можно считать, что рассказ «Офицерша» в его окончательном варианте был написан между сентябрем 1881 года и началом февраля 1882 года.
Первоначальный вариант «Офицерши» не имел ничего общего с окончательным. В архиве Эртеля имеются черновые материалы {583} первой редакции «Офицерши». Учительница-"офицерша", героиня этого рассказа, была изображена Эртелем как отрицательный персонаж, как развратница, которая завершила свою «карьеру» тем, что открыла кабак. Все эти черновые материалы перечеркнуты синим карандашом, и в конце их рукою Эртеля написано: "Многие сцены взяты в «Идиллию» — остальное никуда не годится" (ф. 349, папка I, ед. хр. 4/г).
В «Идиллию» перешли все сцены масленичного разгула, а главные черты «офицерши», героини первой редакции рассказа, Эртель придал учительнице Моргунихе, действующей в «Идиллии».
Вместо этого рассказа Эртелем был написан совершенно другой, ставший одним из лучших в "Записках Степняка". В нем он создал обаятельный образ женщины чистой, честной, которая погибла, став жертвой капиталистической действительности и шатких, «хрупких» идей, во власти которых находилась народническая интеллигенция.
В письме от 25 июля 1888 года к своему другу В. Г. Черткову, известному последователю взглядов Л. Н. Толстого, Эртель высказался критически о своих "Записках Степняка". Но критиковал писатель только лишь их форму, говоря, что "много там описаний, много ненужных чисто субъективных настроений и чувств". "Что касается содержания, — писал Эртель, — то я, разумеется, и теперь не отступлюсь от него, потому что, мне кажется, чувства оно должно возбуждать добрые. Из всех "Записок Степняка" любимый мой рассказ «Офицерша» (Письма А. И. Эртеля, 1909, стр. 71).
Возможно, что любил этот рассказ Эртель и потому, что его героине он передал свою любовь к родному краю. В неопубликованных письмах Эртеля к М. В. Огарковой мы находим высказывания, которые почти целиком совпадают с тем, что мы читаем в рассказе «Офицерша». Так, например, Эртель пишет М. В. Огарковой о своей любви к степному кургану, и так же любит курган и «офицерша», героиня рассказа Эртеля. Вот выдержка из письма Эртеля от 1 мая 1882 года: "Есть в версте от нашего хутора Курган. Я люблю его. Лучшие из писаний моих выношены там, и лучшие часы в моей жизни проведены там же. С него далеко видно. Необъятная даль привольно разбегается во все стороны. Синеют кусты, темнеет лес, пестреют поселки, и бесконечно убегают поля… И когда я лежу на Кургане, грудь моя расширяется, и кажется мне, что инстинкты орла вмещаются в ней. Сердце сладостно ноет, мысли как птицы реют… И хорошо и больно. Сегодня я был там. Вдали стояло марево, и синий лес трепетал в его вол-{584}нах. Зеленые поля уходили вдаль неизменной низменностью. Там белел хутор. В бледном небе тянулись облака, и прохладный ветер резко тревожил воздух. Жаворонки наполняли окрестность веселыми звуками. Я сел на возвышенности. Боже, как мне стало грустно и какая печаль обняла мою душу".
И за необъятными равнинами, полями, курганами пред умственным взором писателя встает печальный и прекрасный образ всей России, его любимой, страдающей родины. "Ах, дорогая моя, как я рыдал на моем любимом кургане перед лицом этих необъятных равнин, всю мою жизнь возлелеявших… — писал Эртель М. В. Огарковой в более позднем письме. — Больно, жалко, грудь рвется, по лицу текут слезы… Ох, что это… Родина моя, отчего ты такая печальная!" (ф. 349, папка XXI, ед. хр. 2).
XVIII. Последние времена
В архиве Эртеля сохранился автограф чернового текста "Последних времен" (примерно с середины рассказа до его конца). В конце рассказа стоит дата: "4 августа 1882 года. С. Хилково, Самарского уезда". Судя по черновым автографам и записям Эртеля в дневниках, первоначальное название рассказа было «Отцы».
В письме от 29 сентября 1882 года Константин Михайлович Станюкович редактор журнала «Дело» — писал Эртелю о том, что "Последние времена" ему понравились, но все же он не причисляет этот рассказ к числу лучших вещей Эртеля. Станюкович критиковал Эртеля за примененный им в этом рассказе прием обрисовки характеров в диалогах, а не в действии, что, по мнению Станюковича, "много вредит целостности впечатления и заставляет читателя на веру принимать жизненность и типичность того или другого лица. Подобная манера письма не дает возможности автору ярко и выпукло очерчивать характеры и лица". Из персонажей, действующих в рассказе, по мнению Станюковича, "Юс и старец из гвардии подпоручиков удались" (ф. 349, папка XVIII, ед. хр. 11/1-6).
XIX. Крокодил
Из письма К. М. Станюковича к Эртелю от 29 сентября 1882 года следует, что тогда у него уже лежал рассказ «Крокодил», присланный, очевидно, Эртелем ранее, но у Станюковича не было {585} времени его прочесть, так что, по-видимому, «Крокодил» был закончен Эртелем к августу — сентябрю 1882 года. Судя по письму, присланному Станюковичем Эртелю в декабре, в котором он высказывал свои критические замечания по поводу некоторых мест рассказа, Эртель, учтя замечания Станюковича, произвел ряд изменений, так как многого, на что указывал Станюкович, мы в печатном тексте «Крокодила» уже не находим. К сожалению, из автографов сохранились лишь небольшие черновые наброски, по которым невозможно судить ни о первоначальной редакции рассказа, ни об этапах работы Эртеля над ним.
XX. Addio
В журнальной редакции печаталось под названием «Отрывки». Дата, поставленная Эртелем в издании 1883 года в конце «Addio» — март 1882 года, является не только датой завершения записок вымышленного героя — Степняка Батурина, но и подлинной датой написания очерка. Об этом говорит одно из неопубликованных писем Эртеля к М. В. Огарковой. 8 марта 1882 года Эртель послал ей письмо, в котором требовал решительного ответа на его признание в любви. Но ответ Огарковой глубоко огорчил Эртеля, и 17 марта он пишет ей: "Я, вероятно, ждал такого (подчеркнуто Эртелем. — Г. Е.-Б.) письма, последние дни меня томила тоска, и грудь моя ныла с особенной непрерывностью… Это, впрочем, хорошо: я в это время дописывал последний очерк из "Записок Степняка", и мне нужно было, чтоб сердце мое истекало кровью. (Курсив мой. — Г. Е.-Б.) Когда-нибудь прочтешь этот очерк и увидишь" (ф. 349, папка XXI, ед. хр. 2).
Действительно, «Addio», в котором Эртель, обобщая свои наблюдения над русской действительностью, с глубокой болью говорит о безысходных страданиях русского народа, о трагической участи родины, написано как бы кровью сердца писателя.
Обличитель
Печатается по тексту журнала "Вестник Европы", 1880, № 3. Судя по автографу рассказа, хранящемуся в библиотеке им. В. И. Ленина, он был написан в августе 1878 года на хуторе Лутовинов.
В рукописи «обличения» Гуляева прямее и грубее, чем в печатном тексте. В рукописном варианте много натуралистических {586} подробностей, снижающих художественные достоинства рассказа, почему они, видимо, и были сняты Эртелем. Поэтому мы предпочитаем журнальный текст рукописному, так как он выше по своим художественным качествам, отмечен печатью более поздней авторской правки.
Рассказ в рукописи имеет посвящение: "Посвящается памяти "певца мести и печали", то есть Некрасова. Это посвящение очень характерно для Эртеля почти все свои первые рассказы он посвящал Некрасову. В "Вестнике Европы" рассказ был напечатан без посвящения. По-видимому, оно было снято по требованию редактора "Вестника Европы" Стасюлевича, об этом говорит переписка его с Эртелем.
В письме от 9 ноября 1879 года Стасюлевич просит Эртеля снять посвящение к какому-то рассказу. Он не называет ни рассказа, ни имени лица, которому посвящается рассказ, но очевидно, что он мог подразумевать или «Обличителя», или «Полоумного», который, так же как и «Обличитель», был посвящен Эртелем Некрасову. Оба эти рассказа были напечатаны вскоре в "Вестнике Европы" и, следовательно, тогда, когда Стасюлевич писал Эртелю, находились уже в редакции. Стасюлевич пишет, что если бы посвящение было оставлено, то это означало бы, что редакция журнала солидаризируется в данном вопросе с Эртелем (ф. 349, папка XVIII, ед. хр. 13). Для либерального журнала, каким был "Вестник Европы", оказалось неприемлемым посвящение рассказа Некрасову, вождю революционно-демократического лагеря. Доказательством того, что Стасюлевич возражал не вообще против посвящений, а именно против посвящения Некрасову, служит то, что в том же 1880 году в "Вестнике Европы" были напечатаны, например, "Визгуновская экономия" Эртеля с посвящением Глебу Успенскому и «Жолтиков» с посвящением Тургеневу.
Рассказу «Обличитель» Эртель придавал большое значение, судя по тому, что он все время включал его в состав отдельного издания "Записок Степняка", о чем говорят сохранившиеся в записных книжках Эртеля многочисленные варианты оглавления будущей книги. Не совсем ясно, почему же в конце концов рассказ не был включен. Можно объяснить это следующими причинами. Во-первых, Эртель считал, что в книге не должно быть больше двадцати рассказов, и, следовательно, надо было чем-то пожертвовать, и естественно, что легче было пожертвовать небольшим рассказом, чем значительным по объему. Во-вторых, могло это объясняться тем, что в рассказе были намеки на скандальные происшествия с известными лицами. Герой рассказа "обли-{587}чает преступления многих, но если судить по письму П. В. Засодимского к Эртелю, то, очевидно, наиболее известным было лицо, которое выведено Эртелем под фамилией Ахулкина. Засодимский писал Эртелю 2 февраля 1879 года из Петербурга по поводу его рассказа «Обличитель», что он не отдал до сих пор еще рассказа ни в журнал, ни в газету: "Отдал бы уже и теперь, да одно местечко нехорошо… Рассказ за вашей подписью. В конце рассказа намеки насчет одной (зачеркнутое слово. — Г. Е.-Б.) особы. Таким обр. слухи примут новый, официальный характер" (ф. 349, папка XIV, ед. хр. 4).
Подготавливая через год «Обличителя» к печатанию в "Вестнике Европы", Эртель, по-видимому, старался смягчить все острые углы. В журнальном тексте относительно Ахулкина сказано, например, что воровство, в котором он был уличен, не помешало выбрать его снова "в какую-то должность", а в рукописи мы читаем: "Выбрать его снова своим предводителем" (ф. 349, папка I, ед, хр. 45, стр. 9).
Возможно, что Эртеля, все более стремившегося по мере роста своего писательского мастерства к созданию типических образов, не устраивали впоследствии прозрачные намеки на конкретных лиц, поэтому он и снял рассказ из отдельного издания.
Полоумный
Рассказ был закончен 19 апреля 1878 года на хуторе Лутовинов. Сохранилось два автографа рассказа — в библиотеке им. В. И. Ленина и в ЦГАЛИ.
Рассказ в рукописном варианте, хранящемся в библиотеке им. В. И. Ленина, посвящен "памяти Н. А. Некрасова". Автограф в ЦГАЛИ имеет второе название: "Нехитрая любовь" (потом зачеркнутое Эртелем), посвящения Некрасову в нем нет, но зато есть следующий эпиграф:
…Чем хуже был бы твой удел, Когда б ты менее терпел?.. Некрасов.На рукописи ЦГАЛИ есть еще надпись Эртеля: "Эту рукопись дарю И. В. Федотову в память великого забвения маленьких дрязг… 1878 года. Июня 24. А. Эртель".
Оба автографа отличаются между собой лишь в мелочах, но зато между ними и журнальным текстом есть существенные отли-{588}чия. Автографы полнее журнальной редакции, и в них есть эпилог, отсутствующий в печатном тексте. В эпилоге рассказывается о том, что герою рассказа Егору удается бежать с поселения, скрывается из деревни и любимая им девушка Гаша, и вскоре ее мать получает от них письмо, в котором рассказывается о том, что "Гашка с Егором повенчались, а живут они в холе да богачестве, и земли, и лесу, и воды у них вволю… Ишь, нет тебе в том краю ни купцов, ни исправников, ни помещиков, а кругом живут всё люди вольные…" (ф. 349, папка 1, № 4в, стр. 11). Затем в эпилоге рассказывается о бедствиях сакуринских крестьян, которые попали под власть купчины-кабатчика и поняли, что купеческая кабала "куда как тяжелей барской". А некоторые мужики тихонько говорили: "Полоумный-то поумней умников вышел!.. один конец — жечь да грабить этих толстопузых…" (ф. 349, папка I, № 4в, стр. 11). Эпилог этот, острый по своему социальному звучанию, говорил о праве крестьянина на месть своим угнетателям. Вот какие размышления вызвал рассказ у Федотова, который сделал карандашную приписку на подаренной ему рукописи: "Рассказ очень хорош, — и напоминает лучшую пору Турген. рассказов из охотнич. жизни. Но что такое содержание в нем? Месть, намеченная автором в лице Егора, месть всему купечеству и его разврату, и месть в форме огня и пожара. Едва ли напечатают" (ЦГАЛИ, фонд 576, ед. хр. 1, год 1878, л. 9).
Действительно, рассказ с этим эпилогом был «нецензурен». Однако, несмотря на значимость рукописных вариантов, рассказ печатается все же в журнальной редакции, так как последняя свидетельствует о большой авторской правке, совершеннее в художественпом отношении, чем ранние рукописные варианты. Готовя рассказ к печати, Эртель произвел целый ряд сокращений и изменений, которые несомненно улучшили его с художественной стороны. В эпилоге рукописного автографа многое еще несовершенно, есть в нем неясности, недоговоренности, так что его трудно считать окончательным авторским текстом. Вероятней всего, что Эртель снял эпилог не только из цензурных соображений. Трагический финал рассказа «Полоумный» в его журнальной редакции наводил читателей на серьезные и печальные размышления, и по своему художественному звучанию он эмоциональнее, действеннее эпилога рукописного варианта.
На основании рукописи исправляется одна ошибка, закравшаяся в текст рассказа, восстанавливается пропуск, который, очевидно, произошел по техническим причинам. {589}
В имеющемся журнальном тексте рассказчик видит Егора в толпе арестантов в зале III класса, получает разрешение поговорить с ним, и они ведут свой разговор в такой обстановке: "Мелкий дождик мочил нас, ноги скользили по лужам, образовавшимся на платформе". Откуда взялся дождь в зале III класса? Как попали герои рассказа на платформу? В рукописи имеются строки, которые отвечают на эти вопросы. Они восстанавливаются.
--
Стр. 13. Дощаник — речное перевозное судно.
Расшива — речное парусное судно плоскодонной постройки.
Стр. 14. Ушкуйники — новгородская вольница, вооруженные дружинники, которых снаряжали новгородские бояре и купцы. (От слова ушкуй плоскодонная ладья с парусами и веслами.)
Косные лодочки — легкие лодки для переездов, на 6-12 весел.
Стр. 15. Протестантство — название церковных направлений в христианстве, отделившихся от католической церкви во время Реформации (XVI век); в XVI–XVII веках протестантизм был действенным оружием в борьбе революционной буржуазии против феодализма.
Земские гласные — члены городских дум и земских уездных и губернских собраний.
Св. синод — высший орган управления православной церковью в России.
Стр. 16. Недоимка. — В результате крестьянской реформы 1861 года крестьяне должны были выкупать свои земельные наделы, срок погашения выкупной ссуды устанавливался в 49 лет. Необходимость платить непомерный по своей величине выкуп, превышавший действительную цену земли, приводил к росту крестьянской недоимки. Недоимка — сумма налога, не внесенная в установленный срок и подлежащая взысканию. В царской России основная масса недоимки состояла из выкупных платежей крестьянского населения.
Стр. 20. По-черному. — В избах, топившихся «по-черному», без трубы, дым стлался под потолком и выходил через дверь.
Стр. 28. "И приговор ему дали?" — мирской приговор, то есть постановление мира, общества.
Стр. 29. "Да все воля эта…" — «Воля», то есть крестьянская реформа 1861 года, была проведена всецело в интересах помещиков.
После реформы размер крестьянского надела оказался меньше дореформенного. При межевании крестьянам отводили самую {590} худшую землю, в то время как помещики захватывали лучшие земли. Как правило, крестьяне лишались леса, лугов, водопоя и др. Крестьяне, обманутые в своих надеждах, отвечали на реформу бунтами, восстаниями. В апреле — июне 1861 года крестьянское движение охватило 42 губернии. В рассказе Андреяна Семеныча очень хорошо передана напряженность атмосферы, создавшейся после реформы. Разоблачая в "Записках Степняка" грабительский, крепостнический характер крестьянской реформы 1861 года, Эртель в этом вопросе полностью сходится с революционными демократами.
Не только в рассказе "Под шум вьюги", но и в других, например в «Полоумном», Эртель с большой художественной выразительностью рисует безысходность положения, в которое попадали крестьяне, когда помещик вынуждал их уходить с обжитых мест, «наделял» их самой плохой землей, лишал воды, угодий и др. Если мы сравним картины бедственного состояния крестьян, нарисованные Эртелем, с тем, как говорит о последствиях реформы Н. Г. Чернышевский в своей знаменитой прокламации "Барским крестьянам от их доброжелателей поклон", то увидим любопытные совпадения.
Конечно, сама русская действительность, общение с крестьянством, жизнь которого Эртель очень хорошо знал, давала писателю материал для его рассказов. Но правильная оценка Эртелем многих явлений действительности, ясное понимание положения крестьянства было следствием влияния на него взглядов революционных демократов — Чернышевского, Некрасова, Салтыкова-Щедрина.
Вряд ли приходится сомневаться в том, что Эртелю, связанному в начале 80-х годов с революционными кружками, должна была быть известна прокламация Чернышевского "Барским крестьянам".
О том же, как высоко ставил Эртель Чернышевского, чье имя часто встречается в его переписке, говорит хотя бы фраза из его неопубликованного письма к М. В. Огарковой: "Чернышевский был один из самых светлых умов не только России, но и всего света…"
Стр. 49. Удельные междоусобицы были последствием удельного порядка, водворившегося в Суздальской Руси в XIII–XIV веках, когда каждый князь распоряжался своим уделом как вотчиной, строил козни против других князей и помышлял лишь о том, чтобы «примыслить» что-либо от своего соседа.
Рушка — крупорушка для очистки зерна. {591}
Стр. 52. Бадик — палка, посох, трость, хворостина.
Стр. 66. Шушпан — женская кофта с перехватом, обычно суконная (воронежское, тамбовское). Другие названия — шугай и шушун.
Стр. 85."…сынок… в Москве учится у господина, Каткова…" — В 1868 году в Москве был открыт императорский лицей. Он был основан на средства П. М. Леонтьева, железнодорожного подрядчика С. Полякова и М. Н. Каткова, редактора "Московских ведомостей", пользовавшегося большим влиянием в реакционных кругах. Лицей был открыт со специальной целью насаждения так называемого классического образования как средства борьбы с революционной «крамолой». С начала 70-х годов реакция во главе с министром, графом Д. А. Толстым, стала планомерно осуществлять реакционную школьную реформу, целью которой было вытеснение преподавания естественных наук и замена их тупой зубрежкой греческого и латинского языков.
Стр. 86."…Шармера или Сарра…" — Шармер и Сарра — петербургские портные. В 70-80-е годы XIX века дешевое платье покупалось в Петербурге в Гостином дворе и на рынках. Все же модные портные, у которых заказывали платье богачи, светские бездельники, дворянские сынки, сосредоточены были на Невском проспекте и на улицах, выходящих на Невский проспект. "Заведение готового платья" мужского портного Сарра помещалось на Малой Конюшенной улице, а Шармера — на Большой Морской. То, что господин Михрюткин заказывал платье у Шармера и Сарра, дает дополнительную деталь для его характеристики.
Стр. 91. "Отечественные записки" — русский литературно-политический журнал, выходивший с 1818 года. В истории журнала было два периода расцвета. Первый (1839–1846) — когда во главе критико-библиографического отдела стоял В. Г. Белинский. Второй блистательный период в жизни журнала связан с именами Некрасова и Салтыкова-Щедрина. С 1868 года его главным редактором был Н. А. Некрасов, после смерти Некрасова, с 1877 до апреля 1884 года (когда журнал был запрещен), — М. Е. Салтыков-Щедрин. В эти годы "Отечественные записки" были самым передовым журналом своего времени, органом революционной демократии.
Эртель признавал громадное значение "Отечественных записок" для формирования своего мировоззрения. В одном из неопубликованных писем он говорит: "В 19–21 лет определилось влияние "От[ечественных] зап[исок]", и мировоззрение начало складываться более или менее самостоятельно". В том же письме, дати-{592}рованном 3 июля 1891 года, говоря о различных влияниях, имевших место в постепенном развитии его «самосознания», Эртель признает, что "Отечественные записки" не утеряли для него своего значения и в последующем: "Напротив. Я и до сих пор, напр., весьма ценю Дарвина и тех писателей, которые по преимуществу давали тон «Современнику» и "От[ечественным] зап[искам]". Эртель особо подчеркивает значение "Отечественных записок" для его раннего творчества. "В начавшихся с этого года (то есть с 1879 года. — Г. Е.-Б.) литературных моих работах ("Записки Степняка") легко различить влияние "Отеч[ественных] записок…" (ф. 349, № 1).
Стр. 91."…что нового в последней книжке?" — Судя по напечатанным в данной книжке произведениям Щедрина, Додэ и Дженкинса, о чем говорит далее рассказчик, Эртель имеет в виду № 5 журнала "Отечественные записки" за 1876 год.
Стр. 92. "Благонамеренные речи" Щедрина…" — Сатирический цикл Салтыкова-Щедрина "Благонамеренные речи", в котором великий писатель нарисовал тип нарождающегося русского буржуа — «чумазого», печатался в "Отечественных записках" с 1872 по 1876 год. В № 5 журнала за 1876 год Салтыков-Щедрин опубликовал рассказ "Перед выморочностью", который впоследствии был изъят им из цикла "Благонамеренные речи" и вошел в роман "Господа Головлевы".
"…роман Додэ…" — В этом же майском номере "Отечественных записок" за 1876 год были напечатаны IV–VI главы романа известного французского писателя Альфонса Додэ (1840–1897) «Жак» (1876), в котором Додэ с глубоким сочувствием изобразил жизнь обездоленных в буржуазном обществе. Роман (в переводе известного поэта А. Н. Плещеева, сотрудника "Отечественных записок") печатался в журнале в течение 1876 года.
"…сатира Дженкинса…" — Редакция "Отечественных записок" в майском номере журнала за 1876 год знакомила своих читателей с новой сатирой Эдварда Дженкинса (1836–1910) — английского сатирика и политического деятеля, члена общества противников рабства, автора острых политических памфлетов и сатирических рассказов (один из лучших — "Джинков младенец", 1869). Почти все написанное Дженкинсом печаталось в переводе в журнале "Отечественные записки". В пятом номере журнала за 1876 год под заглавием "Королева или императрица? Новая сатира Эдуарда Дженкинса" была напечатана (частично в изложении) сатира Дженкинса "Пятно на голове королевы, или рассказ о том, как Маленький Бен, старший половой, переменил вывеску "Коро-{593}левская гостиница" на "Императорский отель", и что из этого вышло".
Сатира Дженкинса направлена против Бенджамина Дизраэли, "ловкого политического гаера", английского реакционного государственного деятеля, лидера и идеолога консерваторов, премьер-министра Англии в 1868 и 1874–1880 годах. Непосредственным поводом к написанию Дженкинсом сатиры послужило принятие английской королевой Викторией, по инициативе Дизраэли, титула императрицы Индии. Автор большой статьи, предваряющей сатиру Дженкинса в "Отечественных записках", знакомил читателей с ходом напряженной политической борьбы в Англии, разоблачал реакционную роль Дизраэли как вдохновителя политики расширения Британской империи путем новых колониальных захватов. "Эта бойкая сатира Дженкинса, — писал автор статьи, — лучше всего выражает, как общественное мнение и лучшие люди в Англии относятся к высшей политике Дизраэли…"
Стр. 92. Сю Эжен (1804–1857) — французский писатель, автор романов "Парижские тайны", «Агасфер» и др.
Скабичевский Александр Михайлович (1838–1910) — русский критик и историк литературы, с 1868 года постоянный сотрудник "Отечественных записок". Очевидно, невежественный Карпеткин ошибся, называя его имя. В журнальной редакции рассказа жена Карпеткина делает ему по этому поводу замечание, и он «поправляется», называя Рокамболя, героя бульварно-авантюрного романа французского писателя Понсон-дю-Террайля.
Авсеенко Василий Григорьевич (1842–1913) — критик и беллетрист реакционного направления, автор романов "Млечный путь", "На высоте" и др. Выступал против Салтыкова-Щедрина, заявляя, что тот пишет "для райка". Увлечение Авсеенко характеризует «взгляды» госпожи Карпеткиной.
Маркевич Болеслав Михайлович (1822–1884) — реакционный романист, в своих обличениях деятелей передового лагеря опускавшийся до пасквиля. Критик К. К. Арсеньев сказал о нем, что он обратил роман в "орудие регресса".
Салиас де Турнемир Евгений Андреевич (1840–1908), граф. — В 70-х годах писал главным образом исторические романы, в которых события русской истории освещались в реакционном духе:
"Пугачевцы" (1874), "Петербургское детство" (1880), «Кудесник» (1886) и др.
Стр. 94. Решетов — искажение фамилии Решетникова Федора Михайловича (1841–1871), русского писателя-реалиста, демократа, {594} автора повести «Подлиповцы», в которой дана потрясающая картина страданий крестьянства в пореформенный период.
Стр. 96. "Спи, младенец мой прекрасный…" — первая строка "Казачьей колыбельной песни" (1840) М. Ю. Лермонтова, иронически использованная Карпеткиным. "Казачья колыбельная песня" Лермонтова была спародирована Н. А. Некрасовым в его "Колыбельной песне" (1846).
Стр. 99. Жилейка, — русский народный инструмент.
Стр. 110. Хaзина — огромная вещь, верзила, здесь в смысле большого количества земли.
Стр. 118. Гамбетта Леон Мишель (1793–1882) — французский политический деятель, один из основателей Третьей республики. В его деятельности нашла отчетливое выражение соглашательская политика республиканской партии после Парижской Коммуны.
Стр. 145. "Выхожу я на дорогу,
Предо мной, мы скажем, путь блестит…" и т. д.
— Основой этого «романца», исполняемого приказчиком, является искаженный текст стихотворения М. Ю. Лермонтова "Выхожу один я на дорогу…" (1841).
Стр. 150. «Мещина» — месячина.
Стр. 151. Дарёнка — дарственный надел, который народ прозвал «сиротским» и «кошачьим». По согласованию с крестьянами помещик, на основании одной из статей Положения 19 февраля 1861 года о выходе крестьян из крепостной зависимости, мог «подарить» им четвертую часть указного земельного надела (почему дарственный надел еще называли четвертным), удержав за собой три четверти. Надел этот был обычно меньше десятины, так что «дарёнка» вела к окончательному обезземеливанию крестьян и к кабальной их зависимости от помещика.
Стр. 162. Рококо — архитектурный и декоративный стиль, получивший свое развитие в первой половине и середине XVIII века во Франции, в период кризиса абсолютизма. Для стиля рококо характерны причудливость, изощренность форм.
Стр. 169. Дагерротип. — Дагерротипными портретами назывались первые фотографические снимки, изготовленные на медных пластинках, покрытых слоем йодистого серебра. Название происходит от имени французского художника Дагерра, сделавшего это открытие в 1829 году.
Стр. 169–170."…работали… испольно". — Испольщина — такая форма пользования землей, при которой крестьянин за аренду земли уплачивал половиной снятого урожая. {595}
Стр. 189."…дивно терпеливый Иов…" — мифический праведник Иов, терпеливо перенесший все ниспосланные ему испытания. Его именем названа одна из книг библии; основная ее идея — необходимость покоряться судьбе, ниспосылаемой богом человеку.
Стр. 193."…бог этот походил на того скорбного бога, который "под ношей крестной исходил, благословляя, край, долготерпения". — Неточная цитата из третьей строфы стихотворения Ф. И. Тютчева "Эти бедные селенья" (напечатано в 1857 году):
Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде царь небесный
Исходил, благословляя.
Стр. 197. Фемида — в древнегреческой мифологии богиня правосудия. Изображалась с весами в руках — символом справедливости; глаза ее были закрыты в знак беспристрастия.
Стр. 202. Уставная грамота — документ, в котором после отмены крепостного права определялись новые отношения помещиков и крестьян.
Стр. 224. Система Натуры. — Имеется в виду "Система природы" (1770) главный труд Поля Анри Гольбаха (1723–1789), знаменитого французского философа-материалиста и атеиста, одного из идеологов революционной французской буржуазии XVIII века.
Стр. 234. Саллюстий Гай Крисп (86–35 до н. э.) — римский историк. Наиболее значительный его труд «История» (русский перевод 1859), охватывавший период 78–67 до н. э., сохранился в небольших отрывках. Саллюстий, противник римской знати, доказывал ее неспособность к управлению государством.
Цицерон Марк Туллий (106-43 до н. э.) — известный римский политический деятель, оратор, философ. Политическим идеалом Цицерона являлась аристократическая республика с широкими правами средних классов, описанная в его философско-политических трактатах.
Фарисейство — в переносном смысле употребляется в значении ханжества.
Стр. 235. Лафайет Мари Жозеф Поль (1757–1834) — деятель французской буржуазной революции конца XVIII века и революции 1830 года.
Стр. 237. Молотов — герой романа «Молотов» и "Мещанское счастье" Николая Герасимовича Помяловского (1835–1863), выдающегося русского писателя-демократа. В романе "Мещанское {596} счастье" Помяловский показывает, как борьба разночинца Молотова за свое утверждение в жизни приводит его в конечном итоге к борьбе за личное благополучие, за "мещанское счастье". Эртель высоко ценил творчество Помяловского. Придавая громадное значение духовному развитию своей будущей жены М. В. Огарковой, заботясь о том, чтобы купеческая дочка, просто «барышня» (что было для Эртеля презрительным наименованием), стала близка ему по своим взглядам, стремясь воспитать в ней человека, думающего прежде всего о благе страдающего народа, Эртель составлял для нее рекомендательный список тех книг, которые она обязательно должна была прочесть. В этом списке одно из первых мест занимали романы Помяловского.
Стр. 237. Милль Джон Стюарт (1806–1873) — буржуазный английский философ и политэконом. Милль пользовался в русских передовых кругах 60-70-х годов большой популярностью как сторонник женского равноправия и критик буржуазного парламентаризма.
Стр. 238. Ливанов Федор Васильевич — служил в министерстве внуутренних дел, автор очерков и рассказов о раскольниках, написанных недобросовестно, представляющих в извращенном виде движение раскола. Кроме так называемой «народной» хрестоматии — "Золотой грамоты" (М., 1875), Ливанов издал еще "Золотую азбуку" и др.
"Устав о предупреждении и пресечении" — полное название: "Устав о предупреждении и пресечении преступлений, о содержащихся под стражей, о ссыльных". Составлял центральную часть XIV тома Свода законов.
"…цивилизации… про которую говорил Потугин…" — Созонт Потугин один из героев романа И. С. Тургенева «Дым» (1867).
Стр. 239. Дорэ Гюстав (1832–1883) — французский художник, иллюстратор произведений Рабле, Бальзака, «Ада» Данте, «Дон-Кихота» Сервантеса и др.
Стр. 240. Антология (греч. "Собрание цветов") — сборник лирических стихотворений разных авторов. Здесь, очевидно, имеются в виду произведения антологического характера, то есть написанные в духе античных авторов.
Щербина Николай Федорович (1821–1869) — русский поэт, писавший «антологические» стихи в подражание древнегреческим авторам.
Стр. 241. «Гец» — драма великого немецкого поэта и мыслителя Гете "Гец фон Берлихинген" (1774), в которой ярко проявились бунтарские, антифеодальные настроения молодого Гете. {597}
Стр. 241. Беранже Пьер Жан (1780–1857) — знаменитый французский поэт-демократ, республиканец. Белинский, Добролюбов, Чернышевский высоко ценили творчество Беранже.
Ауэрбах Бертольд (1812–1882) — немецкий писатель, автор "Шварцвальдских деревенских рассказов" и др. произведений, в молодости сочувствовал так называемому "истинному социализму", выражавшему интересы немецкого мещанства.
Брет-Гарт (Гарт Френсис Брет, 1839–1902) — американский писатель, в чьем творчестве звучало глубокое сочувствие простым людям. Поэтому его произведения были любимы русскими революционными демократами; печатались в прогрессивных русских журналах.
Шпильгаген Фридрих (1829–1911) — немецкий романист; во многих его произведениях изображена революция 1848 года; наибольшее значение имел его роман "Один в поле не воин".
"…байроновской «Тьмы». — «Тьма» — небольшая поэма великого английского поэта Джорджа Гордона Байрона (1788–1824), написанная в июле 1816 года. В этом глубоко трагическом и мрачном произведении Байрон говорит о представившейся ему во сне гибели всего живого в результате угасания солнца и других небесных светил и воцарении на оледенелой земле тьмы, мрака. Современники по-разному оценивали это произведение Байрона. Отрицательно отнесся к поэме Байрона известный английский писатель Вальтер Скотт (1771–1832), по мнению которого, Байрон здесь "отступил от свойственной ему манеры указывать читателю, куда клонятся его намерения, и удовольствовался тем, что представил беспорядочное нагромождение сильных мыслей, нелегко поддающихся истолкованию".
Эдгар Поэ — Эдгар Аллан По (1809–1849) — американский писатель, поэт и критик. В большинстве своих произведений поэтизировал кошмарные фантастические видения; в его творчестве отчетливо звучат иррациональные мотивы.
Позитивисты. — Позитивизм (от латинского positivus — положительный) идеалистическое направление в буржуазной философии и социологии. Позитивисты утверждают, что они «выше» философии, «отрицают» ее, якобы опираясь на «позитивные», "положительные факты", на данные науки. В действительности же они объясняют факты в духе философского идеализма, опыт понимают как совокупность субъективных ощущений, переживаний. Позитивисты отрицают возможность проникновения в сущность предметов и явлений, принижают роль теоретического мышления в познании действительности. Родоначальником пози-{598}тивизма был Огюст Конт, французский философ и социолог XIХ века, сторонниками позитивизма были английский философ Г. Спенсер и др., в России — видный идеолог либерального народничесгва Н. К. Михайловский. К. Маркс и Ф. Энгельс резко осудили позитивизм. В. И. Ленин подверг его суровой критике в "Материализме и эмпириокритицизме".
Гартман Карл Роберт Эдуард (1842–1906) — немецкий реакционный философ-идеалист. В. И. Ленин в книге "Материализм и эмпириокритицизм" разоблачил Гартмана как защитника идеализма и фидеизма.
Стр. 242. Нигилист. — Нигилизм — отрицание исторических ценностей, созданных человечеством. В 60-х годах XIX века в России, в связи с выходом романа Тургенева "Отцы и дети" (1862), термин «нигилист» получил большое распространение, так как нигилистом Тургенев назвал разночинца Базарова, отрицавшего устои дворянского общества. Понятие «нигилист» толковалось неодинаково различными общественными группировками. Для части разночинной интеллигенции, представленной Писаревым, оно было почетным, стало как бы знаменем, а реакционеры во главе с Катковым использовали его для клеветы на революционно-демократический лагерь.
Фет (псевдоним Афанасия Афанасьевича Шеншина, 1820–1892) — русский поэт. Лиризм его стихов, их ритмическое и мелодическое совершенство, тонкое чувство природы — все это привлекало к творчеству Фета внимание современников. Вместе с тем, признавая талант Фета, идеологи революционной демократии непримиримо враждебно относились к его творчеству, так как Фет выступал в поэзии как защитник реакционной теории "искусства для искусства", объявляя социальные проблемы посторонними для литературы. В своей публицистике Фет демонстративно подчеркивал, что он является защитником неограниченного самодержавия, отстаивает помещичьи интересы. Его "Записки о вольнонаемном труде" и очерки "Из деревни", печатавшиеся в 60-е годы, были встречены прогрессивным лагерем с негодованием.
Гудон (Удон) Жан Антуан (1741–1828) — выдающийся французский скульптор-реалист; статуя Дианы принадлежит к числу его наиболее совершенных творений.
Стр. 243. Мещерский Арсений Иванович (1834–1902) — русский художник-пейзажист.
Стр. 264. Навуходоносор II — вавилонский царь (604–562/561 до н. э.). В 586 году до н. э. взял Иерусалим, разрушил его. Воз-{599}двиг в Вавилоне ряд дворцов и храмов и "висячие сады" (так называемые "Сады Семирамиды"), причисленные античной традицией к "семи чудесам света".
Стр. 264."…победы императрицы Елизаветы". — Имеются в виду победы русской армии над войсками прусского короля Фридриха II в Семилетней войне (1856–1863).
Стр. 265. "Новое время" — газета, выходившая в Петербурге с 1868 по 1917 год, крайне реакционный орган, пропагандировавший великодержавный шовинизм и антисемитизм. Ленин писал: "Новое Время" Суворина — образец бойкой торговли "на вынос и распивочно". Здесь торгуют всем, начиная от политических убеждений и кончая порнографическими объявлениями" (В. И. Ленин. Сочинения, т. 18, стр. 251).
Эртель разделял ненависть революционно-демократического лагеря к "Новому времени". В одном из неопубликованных писем к М. В. Огарковой он так характеризует эту газету: "Новое время. Совершенно подлая газета… Щедрин описал ее под видом «Помои».
Стр. 267. Филарет (1782–1867) — митрополит московский, ярый реакционер, автор катехизиса и ряда статей, проповедей, поучений. Славился красноречием, составившим ему громкую известность в реакционных кругах.
Погодин Михаил Петрович (1800–1875) — русский историк, публицист, писатель, являлся защитником реакционной теории "официальной народности".
Стр. 268. Бисмарк Отто фон Шёнхаузен (1816–1898) — государственный деятель и дипломат Пруссии, "железом и кровью" создавший в 1871 году объединенную германскую империю под владычеством Пруссии и Гогенцоллернов. Свое резко отрицательное отношение, отношение демократа к реакционным «деятелям» типа Бисмарка, Эртель высказал в одном из неопубликованных писем к М. В. Огарковой: "Ненависть могут возбуждать Катковы, Аракчеевы, Бисмарки, Гамбетты — одним словом, крупные враги того порядка вещей, который тебе дорог и близок" (ф. 349, папка XXI, № 2).
Стр. 269. Катyх — хлев для телят, свиней.
Меттерних Клемент Венцель (1773–1859) — реакционный австрийский политический деятель, вдохновитель и руководитель "Священного союза", при помощи которого он фактически управлял Европой.
Стр. 281. "О Русь святая! Какое сердце не дрожит…" — Гундриков не совсем точно цитирует строки из стихотворения {600} В. А. Жуковского "Певец во стане русских воинов". У Жуковского:
О родина святая,
Какое сердце не дрожит,
Тебя благословляя?
Стр. 284. Шереметевы — древний дворянский род. Здесь это имя употребляется, очевидно, в связи с тем, что Шереметевы были крупнейшими помещиками, владельцами тысяч крепостных крестьян, огромнейших земельных богатств.
Стр. 292. Марфа Посадница (XV век) — вдова новгородского посадника Борецкого, возглавившая боярскую группировку, враждебную объединительной политике русского централизованного государства.
Стр. 299. Третье отделение стало как бы символом политики, проводимой царским самодержавием, политики подавления всего передового, честного. В Третьем отделении, заведовавшем полицией, сосредоточивались все дела по политическим процессам.
Стр. 301. «Молва» — ежедневная газета либерального направления, издававшаяся в Петербурге (1879–1881).
"Русские ведомости" — общественно-политическая газета (1863–1918), орган либеральных помещиков и буржуазии.
"Московские ведомости" — газета, являвшаяся выразителем реакционной идеологии русского самодержавия; с 1863 по 1887 год ее издавал М. Н. Катков.
Стр. 306. «Гражданин» — реакционная газета-журнал, выходившая в Петербурге с 1882 по 1887 год под редакцией князя В. П. Мещерского.
Фармазон — искаженное: франкмасон, сокращенно масон. Масон, или франкмасон, — иначе вольный каменщик, член религиозно-философского общества, основанного в Англии в начале XVIII века по образцу средневековых строительных цехов и затем распространившегося на всю Европу. Не отрицая религии, масоны боролись с клерикализмом, были за широкую терпимость, объединяли людей разной веры и национальностей на началах братской взаимопомощи.
Стр. 308. Кокорев Василий Александрович (1817–1889) — откупщик, крупная фигура в среде русской торговой буржуазии периода крестьянской реформы, обладатель 7 миллионов к началу 60-х годов. В период общественного подъема после Крымской войны Кокорев выступал с либеральными речами, высказывался за отмену откупов. Салтыков-Щедрин в своих сатирах едко высмеивал этого либеральствующего откупщика. {601}
Стр. 327. "Герман и Доротея" (1797) — поэма Гете. Чтобы возвеличить тихую семейную жизнь немецкого бюргерства, Гете написал свою поэму в духе античных идиллий.
Стр. 329. "Блажен, кто верует, — тепло тому на свете" — цитата из комедии Грибоедова "Горе от ума".
Стр. 331. Джентри, (англ. gentry, от genteel — благородный) английское среднепоместное обуржуазившееся дворянство, "новое дворянство", которое стало значительной общественной силой благодаря тому, что играло главную роль в органах местного самоуправления и в парламенте. Высшие слои джентри в союзе с крупной буржуазией в результате английской буржуазной революции XVII века овладели властью. Рассуждения Карамышева отражают настроения, типичные для русского либерального дворянства пореформенного времени, когда либеральная печать рекламировала "английское джентри", как средство борьбы против оскудения российского дворянского землевладения. Карамышев видит в образовании «джентри» один из путей защиты и гарантии дворянских сословных привилегий.
Колупаев — персонаж произведения M. E. Салтыкова-Щедрина "Убежище Монрепо" (1878–1879), нарождающийся русский буржуа. Имя Колупаева стало нарицательным для обозначения капиталистического хищника.
Стр. 336. Кармелит — член католического монашеского ордена (происходит от названия горы Кармель, где была основана в XII веке первая монашеская община).
Бурбоны — французская королевская династия; занимала престол в Неаполе (1735–1806 и 1814–1860) и в Парме (1748–1797 и 1847–1860).
Медичисы (Медичи) — флорентийский род, правивший во Флоренции с 1434 по 1737 год (с перерывами); банкирский дом Медичи являлся в XV веке одним из крупнейших в Европе.
Стр. 337. Поль Веронез (собственно Паоло Кальяри, прозванный Веронезе по месту рождения в Вероне; 1528–1588) — знаменитый художник венецианской школы.
Торвальдсен Бертель (Альберто) (1768–1844) — знаменитый датский скульптор, представитель классицизма XIX века.
Ватто Антуан (1684–1721) — выдающийся французский живописец и рисовальщик, с творчеством которого связан один из наиболее значительных этапов развития бытовой живописи во Франции XVIII века.
Грёз Жан Батист (1725–1805) — французский живописец. Расцвет творчества Греза относится к 50-м-началу 60-х годов XVIII ве-{602}ка, когда им была создана серия больших сюжетных композиций, изображавших "сцены домашней жизни".
Давид Жак Луи (1784–1825) — выдающийся французский живописец времени буржуазной революции XVIII века, создатель стиля революционного классицизма в живописи.
Сикстинская мадонна — самое совершенное создание великого итальянского художника Рафаэля.
Стр. 338."…фетовская «Диана». — Стихотворение А. А. Фета «Диана» из цикла "Антологические стихотворения".
Стр. 339. "Мы одни; из сада в стекла окон…" — начало стихотворения Фета из цикла «Мелодии».
Майков Аполлон Николаевич (1821–1897), как и Фет, принадлежал к группе русских поэтов, выступавших с лозунгом "искусство для искусства". Хотя Майков и считал, что поэзия должна служить не «злободневным» интересам, а высоким, «вечным» ценностям, вместе с тем он выступал порою против «разрушительных» действий «нигилистов». Отношение Эртеля к поэзия Майкова и Фета определялось его демократическими взглядами и полным отрицанием теории "искусства для искусства". Следуя в своем творчестве традициям классиков русского реализма, Эртель считал, что "искусство для искусства, наука для науки, прогресс для прогресса ведет к гибели общества…" (Письма А. И. Эртеля, стр. 243). Очень важно для характеристики взглядов Карамышева, что он цитирует именно Фета и Майкова.
"…В туманах замки, песен звуки…" и т. д. — заключительные строки из стихотворения А. Н. Майкова «Гейне» (пролог), которым открывается раздел "Переводов и вариаций" из Гейне А. Н. Майкова. В споре Карамышева с Любой по поводу Гейне раскрывается противоположное отношение к творчеству великого немецкого поэта разных лагерей. Переводы из Гейне Фета и Майкова создавали одностороннее представление о творчестве крупнейшего представителя революционно-демократической литературы Германии. Реакционный лагерь пытался исказить Гейне, охарактеризовать его как сентиментального лирика, затушевать революционную направленность его творчества. Карамышев у Эртеля пытается пропагандировать взгляд на Гейне, типичный для реакционных кругов.
Стр. 340. "Отчего под ношей крестной" и т. д. — вторая и часть третьей строф стихотворения Гейне "Брось свои иносказанья" ("La? die heilgen Parabolen") в переводе М. Л. Михайлова, русского революционного деятеля, писателя и переводчика, принадлежавшего к лагерю революционных демократов, возглавляв-{603}шемуся Н. Г. Чернышевским. Из зарубежных поэтов Гейне был самым любимым поэтом Михайлова: он перевел более 140 стихотворений Гейне, и переводил в первую очередь произведения поэта, обличающие социальную несправедливость, отмеченные резкой критикой буржуазного общества.
Перевод Михайлова стихотворения Гейне "Брось свои иносказанья" печатался в искаженном цензурой виде. Эртель цитирует это стихотворение Гейне по изданию Гербеля 1862 года, где строки 9 и 10 были напечатаны так:
Кто виной? Иль силе правды
На земле не все доступно?..
В советских изданиях М. Михайлова эти строки восстановлены в его подлинном переводе:
Кто виной? иль воле бога
На земле не все доступно?..
Стр. 343. "Дитя, как цветок ты прекрасна" и т. д. — строки из стихотворения Гейне "Du bist wie eine Blume" в переводе А. Н. Плещеева.
Стр. 344. "Прекрасная Елена" (1864) — оперетта Жака Оффенбаха (1819–1880), пародия на древнегреческие сказания о славившейся своей красотой Елене, жене царя Менелая.
Стр. 345. Фрейлиграт Фердинанд (1810–1876) — выдающийся немецкий поэт. В 40-х годах был дружен с К. Марксом, в 1848 году стал членом Союза Коммунистов. В те же годы им были созданы лучшие его стихи, в сборнике "Cа ira" (1846) он призывал к революции.
"Я знаю, гордая, ты любишь самовластье…" — Этой строкой начинается стихотворение Фета, печатавшееся под заглавием "Б…й", с датой 1847, июль. Стихотворение посвящено елисаветградской помещице В. А. Безродной.
Стр. 346. Фаланстером у великого утопического социалиста Фурье называлось центральное здание, дворец «фаланги», социалистической артельной общины, основной ячейки будущего общественного устройства.
Стр. 349. "Шаг за шагом" — роман Омулевского (псевдоним Иннокентия Васильевича Федорова, 1837–1883). Его творчество развивалось под воздействием взглядов революционных демократов. Роман "Шаг за шагом" (1870) был издан с большими цензурными купюрами.
"Трудное время" (1865) — повесть русского писателя-демократа Слепцова Василия Алексеевича (1836–1878). В своей по-{604}вести Слепцов нарисовал политически острую картину борьбы между помещиками и крестьянами в пореформенный период.
Стр. 355. "Русский архив" — ежемесячный исторический журнал (1863–1917). Основателем и редактором-издателем его (до конца 1912 года) был либеральный историк П. И. Бартенев. В журнале публиковались исторические источники — преимущественно XVIII–XIX веков.
"…замыслы верховников при Анне Ивановне…" — Анна Иоанновна, русская императрица (1730–1740), была приглашена на русский престол Верховным тайным советом, который поставил ей ряд условий — «кондиций», смысл которых заключался в ограничении самодержавия в пользу феодальной знати, олигархической верхушки, так называемых «верховников».
Стр. 356. Борджиа — испанский дворянский род, который в XV веке переселился в Италию. Родриго Борджа, ставший папой под именем Александра VI, «прославился» главным образом своим чудовищным развратом. Борджа для достижения своих целей использовали в борьбе все средства, вплоть до предательств, убийств.
Война Алой и Белой Розы (1455–1485) — кровавая феодальная борьба за английский престол между двумя линиями королевской династии Плантагенетов Ланкастерской (в гербе — алая роза) и Йоркской (в гербе — белая роза).
Людовик XIV — французский король (1643–1715), который своей политикой и немыслимым расточительством довел Францию до глубокого экономического упадка.
Карл Десятый — французский король (1824–1830). В эпоху французской революции 1789–1793 годов возглавлял эмиграцию в ее борьбе с революцией. Вступив на престол в 1824 году, был под влиянием духовенства и реакционных элементов дворянства. Его ордонансы, отменившие избирательный закон и уничтожившие свободу печати, явились ближайшим поводом к революции 1830 года.
Карл Второй — английский король (1660–1685), сын Карла I. С воцарением в 1660 году на английском престоле Карла II в Англии была восстановлена королевская династия Стюартов. Карл II проводил политику феодальной реакции.
"…и дураке Якове…" — Яков II, английский король (1685–1688), преемник Карла II.
Стр. 357."…ультиматум-то тысяча семьсот тридцатого года…" Имеются в виду «кондиции» "верховников" царице Анне Иоанновне. {605}
Стр. 358. Филиппики — в переносном значении гневная обличительная речь; название политических речей древнегреческого оратора Демосфена, направленных против Филиппа II Македонского.
Стр. 362. «Атеней» — английский журнал литературы и критики, основанный Бэкингемом и издававшийся в Лондоне с 1828 года. В журнале оценивались сочинения по литературе, философии, богословию и искусству. Помещались и статьи о России.
"Вперед, без страха и сомненья!.. Смелей! Дадим друг другу руки." строки из стихотворения поэта А. Н. Плещеева (1825–1893). Плещеев, в молодости арестованный и сосланный по делу петрашевцев, в большинстве своих стихотворений, особенно раннего периода, проявил себя как выразитель стремлений прогрессивно настроенных демократических кругов. Плещеев, очень любивший молодежь, пользовался взаимной любовью передового студенчества. Его стихи, проникнутые гуманизмом, верой в светлое будущее, стихи, в которых звучали мотивы глубокого сочувствия угнетенным массам, ненависти к крепостничеству, были широко известны в среде демократической молодежи. Особенной популярностью пользовалось его стихотворение "Вперед, без страха и сомненья!" (1846), которое стало любимой революционной песней и последующих поколений.
Стр. 367. "В пору губернских комитетов…" — В 1857 году был издан «высочайший» рескрипт об учреждении "губернских комитетов" для подготовки проектов крестьянской реформы. Создавая их, правительство фактически предоставляло помещикам полную свободу действий, делая их главными вершителями судеб крестьян, так как комитеты составлялись из губернских предводителей дворянства, выборных от уезда помещиков и двух "опытных помещиков" по назначению начальника губернии.
Стр. 368."…не давать его в жертву красным" — Ростовцеву и K°…" Ростовцев Яков Иванович (1803–1860) — государственный деятель царской России, генерал-адъютант, некоторое время в молодости примыкал к декабризму, но отошел от движения и сообщил правительству о готовящемся восстании. Ростовцев принимал видное участие в подготовке "крестьянской реформы" 1861 года, будучи членом секретного и главного комитетов (1857–1858), с 1859 года был председателем редакционных комиссий, созданных для составления законопроекта об отмене крепостного права. Первоначально защищал крепостническую позицию, но под влиянием нараставшего революционного движения признал необходимость некоторых уступок, выступив за обязательное на-{606}деление крестьян землей, проведение выкупа крестьянских полевых наделов при содействии правительства, перевод крестьян на оброк, отказ от вотчинной полиции и проч. Летом 1858 года составил четыре письма Александру II, которые легли в основу политики правительства в крестьянском вопросе с 1859 года.
Стр. 369."…предвосхитил Щедрина…" — Имеется в виду "Убежище Монрепо", произведение Салтыкова-Щедрина, печатавшееся в "Отечественных записках" в 1878–1879 годах.
Цинциннат Люций Квинций — римский политический деятель и полководец; был консулом (460 год до н. э.) и диктатором (458 и 439 годы). Его называли гражданином, служащим отечеству "мечом и плугом", так как он от своих государственных обязанностей всякий раз возвращался к земледельческому труду.
"Телемахида" (1766) — поэма Тредиаковского Василия Кирилловича (1703–1769), перевод гекзаметром прозаического романа французского писателя Фенелона "Приключения Телемака", Трудно переоценить заслуги Тредиаковского, поэта и ученого, перед русской литературой. Новиков, Радищев, Пушкин отмечали их. Но архаическая лексика «Телемахиды» и некоторая утяжеленность стиха вызывали насмешки современников.
Хвостов Дмитрий Иванович, граф (1757–1835), стяжавший в литературе славу бездарного поэта. Он сам скупал свои сочинения.
Стр. 370. Бутеноп — владелец магазина сельскохозяйственных машин.
Стр. 371. Иоанн Калита — московский князь Иван Данилович (1325–1341), получивший в народе прозвище Калиты (старинное русское народное название денежной сумки или мешка).
Стр. 375. Мак-Магон (1808–1893) — маршал, бывший в 1873–1879 годах президентом Французской республики, клерикал и антиреспубликанец, замышлявший реставрацию Бурбонов. В 1871 году, стоя во главе версальцев, играл активную роль в подавлении Парижской Коммуны.
Стр. 389. Прудон Пьер Жозеф (1809–1865) — французский мелкобуржуазный публицист и социолог, один из основоположников анархизма. В книге "Что такое собственность?" (1840) Прудон критиковал право частной собственности, утверждая, что "собственность — это кража". Но Прудон был непоследователен: критике он подвергал лишь капиталистическую крупную частную собственность, отстаивая мелкую.
Стр. 396. Буфф — петербургский частный театр легкого, опереточного жанра. Он помещался на Александринской площади, {607} рядом с Александринским театром, почему Моргуниха и называет одновременно «Александринку» и «Буфф».
Стр. 396. Берг. — "Театр Берга" существовал в Петербурге с 1869 по 1876 год. Содержателем его был В. Берг — "гамбургский уроженец". Основой репертуара театра были шансонетки, канкан и интермедии.
Стр. 397. "Приди в чертог ко мне златой…" — ария из популярной в свое время русской переделки венской волшебной оперы "Фея Дуная" (автор переделки Н. С. Краснопольский). Оперу в Петербурге давали по частям, всего было 4 части. Первая часть оперы под названием «Русалка» (музыка венского композитора Ф. Кауера, отдельные номера русского композитора С. И. Давыдова) была первый раз поставлена в Петербурге 26 октября 1803 года. П. Арапов говорит об успехе первой части оперы: "Опера «Русалка», несмотря на всю нелепость своего содержания, произвела фурор, и в Петербурге только что и говорили об ней и повсюду пели из нее арии и куплеты: "Приди в чертог ко мне златой!", "Мужчины на свете, как мухи, к нам льнут" и "Вы к нам верность никогда не хотите сохранить"; эти арии были в большой моде, и повторялось представление «Русалки» через день…" См. также Пушкин, "Евгений Онегин", гл. II, строфа XII.
"Мадам Анго" — оперетта французского композитора Шарля Лекока (1832–1918) "Дочь мадам Анго" (1872).
"Герцогиня Герольштейнская" — оперетта Жака Оффенбаха (1819–1880), в которой под этим именем выводится Екатерина II и изображаются ее любовные похождения и нравы ее двора.
Жюдик — опереточная артистка петербургских кафешантанов и увеселительных садов, пользовавшаяся колоссальным успехом в 1870-х годах.
Стр. 407. Григорович Дмитрий Васильевич (1822–1899) — русский писатель. В повестях «Деревня» (1846) и "Антон Горемыка" (1847) правдиво изобразил жизнь крепостных крестьян.
"Лучия Ламермурская" — "Лючия ди Ламмермур" (1835) — опера Гаэтано Доницетти (1797–1848), популярного итальянского оперного композитора. В 1859 году в роли Лючии дебютировала А. Патти, знаменитая итальянская певица, выступавшая в Петербурге и в Москве.
Гольбейнова Мадонна — картина "Мадонна бургомистра Мейера" (1525–1526), принадлежащая кисти Ганса Гольбейна Младшего (1497–1543), выдающегося живописца и графика эпохи Возрождения. {608}
Стр. 409. Проспер и Калибан — действующие лица «Бури» (1611), пьесы Вильяма Шекспира.
Стр. 410. Мессия — в иудаизме «спаситель», который якобы должен быть послан богом с целью уничтожения зла на земле.
Стр. 412. Шиньон — накладка из волос, бывшая в моде в 50-х годах XIX века.
Жанр. — В изобразительном искусстве термин «жанр» употреблялся для условного обозначения бытового жанра. Жанрист — художник, изображающий современный ему быт.
Стр. 413. Мальтус Томас Роберт (1766–1834) — английский реакционный буржуазный экономист, священник. Для него, по словам К. Маркса, "характерна глубокая низость мысли" (К. Маркс. Теории прибавочной стоимости, ч. II, М., Госполитиздат, 1957, стр. 110). Согласно «теории» Мальтуса, не экономические условия капитализма вызывают перенаселение и нищету трудящихся, а коренящийся в самой природе абсолютный недостаток средств существования. По мнению Мальтуса, производство средств существования увеличивается лишь в арифметической прогрессии, а рост народонаселения происходит в геометрической прогрессии. Согласно своей человеконенавистнической, звериной философии, Мальтус оправдывал войны и эпидемии, рассматривая их как средство сокращения численности населения.
Леруа-Болье — вероятно, Леруа-Болье Пьер Поль (1843–1916), французский экономист, по своим политическим взглядам либерал, автор целого ряда работ — в частности, руководства по финансовой науке, книг "Рабочий вопрос" (1872), "Исследования экономические, исторические и статистические по поводу современных войн" (1869) и многих других. В сочинении «Коллективизм» Леруа-Болье с ожесточением выступил против Карла Маркса.
Гарнье Жозеф (1813–1881) — французский экономист, в вопросе о народонаселении примыкал к Мальтусу.
Курселль-Сенель Жан Густав (1813–1892) — французский экономист, поборник индивидуалистических идей.
Мак-Куллох Джон Рамсей (1789–1864) — английский экономист, профессор политической экономии в Лондоне, один из представителей «вульгарной» политической экономии.
Сей Жан Батист (1767–1832) — французский буржуазный экономист, родоначальник «вульгарной» политической экономии.
Смит Адам (1723–1790) — один из крупнейших представителей английской классической буржуазной политической экономии. Карл Маркс характеризовал Смита как "обобщающего экономиста обобщающего периода" ("Капитал", т. 1, 1955, стр. 356). {609}
Стр. 413. Рикардо Давид (1772–1823) — выдающийся английский экономист, в трудах которого нашла свое завершение классическая буржуазная политическая экономия в Англии. Главное произведение Рикардо — "Начала политической экономии и податного обложения" (1817).
Стр. 414. "Милль с примечаниями". — Н. Г. Чернышевский в своих примечаниях к главной экономической работе Дж. Ст. Милля — "Основания политической экономии с некоторыми приложениями их к социальной философии" подверг блестящей критике его экономические воззрения.
Стр. 437. Амалат-Бек — герой одноименной романтической повести Марлинского (Александра Бестужева, 1797–1837). Повесть была написана в 1832 году.
Стр. 438. Корф Николай Александрович (1834–1883) — видный русский педагог и методист, прогрессивный деятель народного образования.
Ушинский Константин Дмитриевич (1824–1871) — великий русский педагог, один из основоположников русской педагогической науки и народной школы в России, автор книг для первоначального обучения, по которым в течение многих десятилетий учились десятки миллионов детей.
Стр. 445. «Методика» Евтушевского — "Методика приготовительного курса алгебры" (1876) Евтушевского Василия Андриановича (1836–1888), русского математика-методиста.
Стр. 453. "Ах, усни, моя доля суровая! Крепко закроется крышка сосновая…" и т. д. — вторая строфа стихотворения "Вырыта заступом яма глубокая" (1860) поэта И. С. Никитина (1824–1861), по определению А. М. Горького, "поэта… яркого и социально-значительного". "Вырыта заступом яма глубокая" было одним из самых популярных стихотворений Никитина, неоднократно перекладывалось на музыку. «Офицерша» цитирует первую строчку стихотворения не совсем точно. У Никитина:
Что же? усни, моя доля суровая!..
Стр. 497. Фатум (fatum) — рок, судьба. Фатализм — идеалистическая теория, согласно которой все предопределено неведомой силой — роком.
Стр. 502. "Жизнь за царя" — заглавие, заменившее по приказу свыше авторское название оперы "Иван Сусанин" (1836) М. И. Глинки (1804–1857).
"Тангейзер" — опера Рихарда Вагнера (1813–1883); опера была создана в 1845 году. {610}
Стр. 513. — "Dahin, dahin, wo die Zitronen bluhen…" — строка из стихотворения Гете «Миньона».
Стр. 518. «Русь» — газета, основанная в Москве И. С. Аксаковым; выходила под его редакцией с 1880 года. Газета была выразительницей славянофильских взглядов Аксакова.
Стр 531."…циркуляр г. Макова…" — Маков Лев Саввич (1830–1883), реакционный государственный деятель, в 1879–1880 годы был министром внутренних дел. Имеется в виду опубликованный Маковым циркуляр, в котором «разъяснялось», что надежды крестьян на получение новых земельных наделов необоснованны.
Стр. 534."…с самых времен Чулкатурина…" — Чулкатурин — герой повести И. С. Тургенева "Дневник лишнего человека" (1850). {611}
1 Испорченный ребенок (франц.).
1 Моя дорогая (франц.).
2 Мой друг (франц.).
1 Фу! (франц.).
1 Маленький заливчик. (Прим. автора.)
1 Монастырь в Воронежском уезде. Летом там бывает значительная конская ярмарка, которая, впрочем, год от году теряет значение, подобно и знаменитой ярмарке Лебедянской. (Прим. автора.)
1 Навес. (Прим. автора.)
1 Род брезента. (Прим. автора.)
2 Играет. (Прим. автора.)
3 Часть риги, в которой ходят лошади, приводящие в движение молотилку. (Прим. автора.)
1 Бестолковый, взбалмошный, вздорный. Кажется — местное. (Прим. автора.)
1 Даровой надел. (Прим. автора.)
2 Село в Бобровском уезде с известным конским заводом. (Прим. автора.)
1 Станичная — изба, у которой собираются сельские сходы и где сосредоточивается сельская администрация. (Прим. автора..)
1 Алёшка — лакей. Слово это, кажется, свойственно всей крестьянской России. (Прим. автора.)
2 Распек. (Прим. автора.)
1 Смысл жизни (франц.)
1 Ямки. (Прим. автора.)
1 Кислица настурцевидная (лат.).
1 В святцах: Поплий. (Прим. автора.)
1 Самоуправление (англ.).
1 Нищий, бедняк (итал.).
1 «Отверженные» (франц.) — роман В. Гюго.
1 До свидания (франц.).
1 «Марсельеза» (франц.).
1 По-королевски (франц.).
2 По-татарски (франц.).
3 Несчастный (франц.).
1 Первой ночи (лат.).
2 По собственному побуждению (лат.).
1 Так проходит земная слава (лат.).
2 Конец венчает дело (лат.).
1 Человеку свойственно ошибаться (лат.).
2 Фактически (лат.).
3 Без гнева и пристрастия (лат.).
4 Если хочешь мира, готовься к войне (лат.).
1 Что и требовалось доказать (лат.)
1 Нечаянно. (Прим. автора.)
1 Дешевый сорт селедок.
1 Вид коньяка (франц.).
1 Ешь, пей, веселись (лат.).
2 По обязанности (лат.).
3 По доброй воле (лат.).
4 Доколе же, наконец!.. (лат.).
1 По когтю льва, по ушам осла (лат.).
2 Я вас! (лат.).
3 Здесь цепенеет вода (лат.).
1 Упадет в Сциллу, кто хочет избежать Харибды (лат.).
2 Ничто человеческое мне не чуждо (лат.).
1 Наподобие Генриха IV (франц.).
1 Снимем шкуру. (Прим. автора.)
1 Вевe — город в Швейцарии.
1 Беспорядки, недоразумение, ерунда. (Прим. автора.)
2 Судебный следователь. Иногда, впрочем, так называют и судебного пристава. (Прим. автора,)
1 Сольфеджио (итал.).
1 Жемчужно-матового (франц.).
1 Прощай (итал.).
1 Туда, туда, где цветут лимоны (нем.).
1 Шабры — соседи. (Прим. автора.)
1 Между нами, между нами (франц.)
1 Марево, мираж. (Прим, автора.)
Примечания
1
"Письма А. И. Эртеля", М., 1909, стр. 9.
(обратно)2
К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. XXII, стр. 468.
(обратно)3
Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Полное собрание сочинений, т. VIII, М., Гослитиздат, 1937, стр. 67. (Курсив мой. — Я. Б.)
(обратно)4
В. И. Ленин, Сочинения, т. 10, стр. 230.
(обратно)5
В. И. Ленин, Сочинения, т. 13, стр. 81.
(обратно)6
В. И. Ленин, Сочинения, т. 17, стр. 85.
(обратно)7
Александр Фадеев, Субъективные заметки. — "Новый мир", 1957, № 2, стр. 214.
(обратно)8
В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. IX, М., изд. АН СССР, 1955, стр. 351.
(обратно)9
Чертков читал «Гардениных» по мере их публикации отдельными главами в журнале.
(обратно)10
"Письма А. И. Эртеля", М., 1909, стр. 124.
(обратно)11
Н. К. Михайловский, Полное собрание сочинений, т. VI, СПб., 1909, стр. 971.
(обратно)12
"Памяти Виктора Александровича Гольцева", М., 1910, стр. 231–232.
(обратно)13
"Письма А. И. Эртеля", М., 1909, стр. 290.
(обратно)14
"Письма А. И. Эртеля", М., 1909, стр. 348.
(обратно)

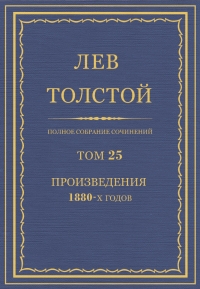
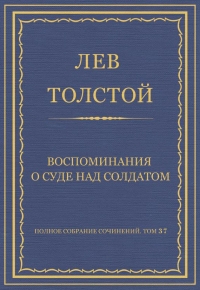
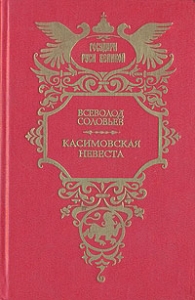
Комментарии к книге «Записки степняка», Александр Иванович Эртель
Всего 0 комментариев