Толстой Лев Николаевич Тихон и Маланья*
* Фигурными скобками обозначен текст, зачеркнутый Л. Н. Толстым, а квадратными скобками — редакторский текст.
В деревне было пусто и празднично. Народ был весь в церкви. Только малые ребята, бабы и кое-какие мужики, поленившиеся идти к обедне, остались дома. Бабы вынимали из печей, ребята ползали около порогов, мужики кое-что осматривали по дворам. На улице было пусто. Был Петров день.
В конце улицы послышался ямской колокольчик и показалась тройка, запряженная в почтовую телегу.
Один из мужиков, остававшихся дома, Анисим Жидков, услыхав колокольчик, бросил тележный ящик, который он переворачивал, и, скрипя воротами, вышел на улицу посмотреть, кто едет. У пристяжных были гривы заплетены с оборочками, коренная, знакомая ему чалая, была высоко подтянута головой под дугу. Она, чуть пошатывая головой, быстро, раскачиваясь, тронулась наизволок, когда ямщик, приподнявшись на колено в ящике, крикнул на нее. Лошади были гладки и не потны, несмотря на то, что солнце уже сильно пекло с совершенно ясного неба. Ямщик был курчавый, в новом кафтане и шляпе.
— Ермилин Тихон! — проговорил про себя Анисим, узнавая ямщика и выступая в своих новых лаптях на середину улицы.
Тихон, проезжая мимо Анисима, молча приподнял шляпу; и в выражении его лица было видно, что он очень счастлив и знает еще, что все не могут не завидовать ему и его тройке, которую он сам собрал и привел в такое положение, и что он только старается не слишком оскорбить других довольством, которое он испытывает. Он не крикнул на лошадей; снимая новую шляпу, надел ее не набок, а прямо, только шевельнул вожжой пристяжную и недалеко от Анисима, заворотив, стал сдерживать тройку, старательно и излишне продолжительно отпрукивая лошадей, которые и без того весьма скромно подходили шагом к знакомым воротам. Анисим, которого дела шли не слишком хорошо это лето, с завистью, но и уважением, подошел к Тихону, чтобы покалякать с ним.
Старуха мать, одна остававшаяся дома, вышла на крыльцо.
— Слышу, колокол, думаю, кто из ямщиков, — сказала она радостно. — Стала опять пироги катать, мне и не слыхать. Послушала, а он вовсе близко.
— Здорово, матушка! — сказал сын, соскакивая тяжелыми сапогами подле передка.
— Здорово, Тишенька. Жив ли, здоров ли?
И она продолжала говорить, как и всегда говорила обо всем, как о воспоминании чего-то грустного и давно прошедшего.
— Думаю вот, коли наш Тихон, старика-то нет и баб нет, к обедне ушли…
Тихон, не дослушав ее, вынул узелок из передка, вошел в избу, поклонился образам и, через сени пройдя, отворил ворота. Он заткнул рукавицы и кнут за пояс, припер ворота, чтоб не зацепить, провел под уздцы пристяжных, скинул петли постромок, захлестнул, развозжал, рассупонил, вывел, нигде не стукнул, не дернул и, как только бросал одно, так, не торопясь, но ни секунды не медля, брался за другое. Ничто не цеплялось, не валилось, не соскакивало у него под руками, а все спорилось и ладилось, точно все было намаслено. Когда в руках у него ничего не было, большие пальцы его рук очень далеко оттопыривались от кистей, как будто все хотели схватить еще что-нибудь и сработать. Распрягая, он не переставал говорить с подошедшим Анисимом.
Анисим подошел, лениво выкидывая свои ноги в лаптях и почесывая пояском живот под белой чистой рубахой.
Он опять приподнял тапку и надел. Тихон тоже приподнял и надел.
— Ай по молодой жене соскучился? — сказал, посмеиваясь, Анисим, желавший расспросить совсем другое.
— Нельзя! — отвечал Тихон.
— Что наши, как живут? Митрошины? — серьезно уже заговорил Анисим, почесывая голову.
— Как кто. Кто хорошо, а кто и худо. Тоже и на станции как себя поведешь, дядя Анисим, — рассудительно и не без гордости думая о себе, сказал Тихон.
— Карего-то променял, что ли? — теперь уж мог спросить то, что хотел, Анисим. — Саврасую-то тоже купил, что ль?
— Что карий, только батюшка вздорил. Его бы давно отдать. Того и стоил.
И Тихон не без удовольствия рассказал, как он променял, купил, сколько выработал и сколько другие меньше его выработали. Анисим предложил, шутя и серьезно, поставить ему водки. Тихон тихо, но решительно отказал.
Между разговором он все делал свое дело. Лошади были отпряжены, он повел их под навес. Анисим, узнав все, что ему нужно было, стал молча чесаться обеими руками и, почесавшись, ушел. Кинув лошадям сена из ящика, Тихон сдвинул шляпу на лоб и, оттопырив еще больше пальцы, пошел в избу. Но делать было нечего, и пальцы так и остались. Он только повесил, встряхнув, шляпу на гвоздь, смахнул место, где лежать армяку, сложил его и в одной новой александрийской рубахе, которую еще не видала на нем мать, сел на лавку. Портки на нем были домашние, материной работы, но еще новые, сапоги были ямские, с гвоздями. Он на дворе отер их сенцом и помазал дегтем. Делать было решительно нечего: он расправил рукава, смявшиеся под кафтаном, и стал разбирать из узелка гостинцы. Для жены был ситец большими цветами, для матери платок белый с каемочкой, баранок была связка для всех домашних.
— Спасибо, Тишенька, мне-то бы и даром, — говорила старуха, раскладывая на столе свой платок и поводя по нем ногтем. — Немного не застал. Старик еще с заутрени на поповке остался, а я вот домой пошла; молодые бабы охотились к поздней идти, подсобили мне горшки поставить и пошли, а я вот осталась.
И старуха, уложив платок в сундучок, опять принялась за работу у печи и, работая, все говорила.
— Все, слава тебе господи, — говорила она, — старик только мой от ног все умирает, как ненастье, так криком кричит, на барщину все больше Гришутка за него ходит. (Гришутка был меньшой, неженатый брат Тихона.) Спасибо, начальники не ссылают. Все Михеич старостой ходит. Что ж, жаловаться нечего, порядки настоящие ведет. Только, говорит, в косьбу Гришутку не посылайте не вынесет, еще млад. Намеднись барские сады косили, так старик Гришутку послал, сам косу ему наладил и Герасима-свата просил отбивать; так как измучился, сердечный. — Я, матушка, говорит, не снесу. Все рученьки, ноженьки заломило. — Да и где ему? Тело мягкое, дробное, молодое. Так вот и не знаем, как быть, ты ли на покос останешься, работника ли наймать.
— Ну, а про господ что слыхать? — спросил Тихон, видимо не желая даже и говорить о таком важном деле с бабою, хотя бы она и была его мать.
— Сказывали намеднись, что все будут, а то опять замолчали. Молодой тут живет, да его и не слыхать. Всё Андрей Ильич заведует. Мужики говорят ничего, что-то только из-за покосов с ним вышло; старик знает, он на сходке был, все расскажет. Навоз свозили, слава те господи, запахали всю почесть землю. Осьминника два ли осталось. Старик знает. Барщина тоже ничего была. Мужикам все дни давали. Вот бабам так дюже тяжело было. Всё всеми да всеми. Замучили полоньем совсем. Какую-то (как ее?) свекловичу, что ли, все полют. Дома все я, да я одна бьюсь. Твоя баба с солдаткой что ни день, то на барщину. Хлебушки ставить, коров доить, холсты и то я стелю. Покуда ноги служат. Незнамо, что дальше бог даст. Баба-то твоя молодая день-деньской замучается, а домой идет, хоровод ведет, песенница такая стала, где и спрашивать с нее, человек молодой, куражный; а народ хвалит, очень к работе ловка, и худого сказать нечего. Ну с солдаткой другой раз повздорят нельзя. Старик покричит, и ничего. То-то рада будет, сердешная. Не чаяли мы тебя дождаться. Вчера пирог ставила, думала, кто мой пирог кушать будет. Кабы знала, петушка бы зарезала для сынка дорогого. Слава богу, наседка вывела, трех продали.
Старуха говорила все это и много еще другого рассказала сыну — про холсты, про гумно, про стадо, про соседа, про прохожих солдат, и все делала свои дела и в печи, и на столе, и в клети. А Тихон сидел на лавке, кое-что спрашивая, кое-что сам рассказывая, и, взяв на знакомом месте гребешок, расчесывал свои кудрявые густые волосы и небольшую рыжеватую бороду, и с удовольствием посматривая в избе то на паневу хозяйки, которая лежала на полатях, то на кошку, которая сидела на печи и умывалась для праздника, то на веретено, которое сломанное лежало в углу, то на курицу, которая без него занеслась и с большими цыплятами зашла в избу, то на кнут, с которым он сам езжал в ночное и который Гришка бросил в углу. Не одни его оттопыренные пальцы, но и внимательные, поглядывающие на все глаза просили работы, ему неловко было сидеть, ничего не делая. Он бы взял косу, отбил бы, починил бы завалившуюся доску на полатях или другое что, но во время обедни нельзя работать. Наговорившись со старухой, он поднял охлопавшийся кнут, достал пеньки, вышел на крыльцо и на гвозде, у порога, стал свивать хлопок своими здоровыми ручищами, сделанными только для того, чтобы пудовиками ворочать, и все поглядывал по улице, откуда должен был идти народ из церкви. Но еще никого не было, только мальчишки в вымытых рубахах бегали около порогов. Мальчишка лет пяти, еще в грязной рубахе, подошел к порогу и уставился на Тихона. Это был солдаткин сын, племянник Тихона.
— Семка, а Семка, — сказал Тихон, — ты чей? — улыбаясь на самого себя, что он с таким мальчишкой занимается.
— Солдатов, — сказал мальчик.
— А мать где?
— В кобедне, и дедушка в кобедне, — щеголяя своим мастерством говорить, сказал мальчик.
— Аль ты меня не признал? — Он достал из кармана один бублик и дал ему.
— Вон она, кобедня! — сказал мальчик нараспев, указывая вдоль по улице и бессознательно вцепляясь в бублик.
— А кто я? — спросил Тихон.
— Ты?.. дядя.
— Чей дядя?
— Тетки Маланьки.
— А тетку Маланьку знаешь?
— Семка, — закричала старуха из избы, заслышавшая голос парнишки, — где пропадал? Иди, чертов парнишка, иди, обмою, рубаху чистую надену.
Парнишка полез через порог к бабке, а Тихон встал, хлопнул раза два навитым кнутом, чтоб увидать, хорошо ли. Кнут хлопал славно.
Парнишку раздели голого и обливали водой. Он кричал на всю избу. Тихон стоял на крыльце и смотрел на улицу. День был красный, жаворонки вились над ржами. Ржи лоснились. В роще сохла роса с солнечной стороны и пели птицы. Народ шел из церкви. Шли старики большими, широкими шагами (шагами рабочего человека), в белых, заново вымытых онучах и новых лаптях, которые с палочками, которые так, по одному и попарно; шли мужики молодые, в сапогах; староста Михеич шел в черном, из фабричного сукна кафтане; шел длинный, худой и слабый, как плетень, Ризун, Фоканыч хромой, Осип Наумыч бородастый. Шли дворовые, мастеровые в свитках, лакеи в немецких платьях, дворовские бабы и девки в платьях с подзонтиками, как говорили мужики. На них только лаяли крестьянские собаки. Шли девочки табунками, в желтых и красных сарафанах, ребята в подпоясанных армячках, согнутые старушки в белых чистых платках, с палочками и без палочек. Ребятницы с белыми пеленками и холостые пестрые бабы в красных платках, синих поддевках, с золотыми галунами на юбках. Шли весело, говорили, догоняли друг друга, здоровкались, осматривали новые платки, бусы, коты прошивные. Все они были знакомы Тихону; по мере того как они подходили, он узнавал их. Вот Илюшины бабы (щеголихи) идут. «Как разрядились, — думал Тихон, — и к другим не» пристают» {не оттого, что у них платки и сарафаны лучше всех, но оттого, что сам строгий старик свекор идет той стороной дороги и посматривает на них}. Вон мальчишки идут за Илюшей и {втихомолку} смеются над ним. {Вон Осип Наумыч идет один в лаптях и старом кафтанишке, а Тихон знает, что у него денег станет всю деревню купить.} Вон идет худая разряженная баба, убрана, как богачка, а Тихон знает, что это самая последняя, завалящая баба, которую муж уж давно бить перестал. Идет приказчица с зонтиком, расфрантилась, и работница их, Василиса, в красной занавеске. А вот Матрешкин, дворовый, красную кумачовую рубаху вчера купил в городе, надел, да и сам не рад, как народ на него дивится. Вот Фоканычева девка с дворовыми идет, с Маврой Андреевной разговаривает, оттого что она грамотница, в монастырь хочет идти. Вот Минаевы идут сзади, и баба все воет, должно хоронила кого; а вон Ризунова молодайка идет {как купчиха разряженная и}, все в пеленки лицо прячет. Видно, родила, причащать носила. Вон Болхина старуха с клюкою, шла, устала, села {и все молится богу и прохожим говорит, что она нынче в последний раз в церкви была, что уж смерть ее пришла за ней. И поглядеть на нее, так кажется, что правда}. Все жива старуха. А уж лет сто будет. А вот и мой старик большими шагами шагает, и все горб у него такой же, — думал Тихон. Вот и она… {Красавицу, кто бы она ни была, баба ли, барыня ли, издалека видно. И идет она иначе, плывет точно, и голову несет и руками размахивает не так, как другие бабы, и цвета-то на ней ярче, рубаха белее и платок краснее. А как красавица она, да своя, так еще дальше узнаешь; так-то и}Тихон с другого конца улицы узнал свою бабу. Маланья шла с солдаткой и с двумя бабами. С ними же шел замчной солдат в новой шинели, казалось уж пьяный, и что-то рассказывал, махая руками. Цвета на Маланье всех ярче показались Тихону. {Маланья где бы ни была, всегда к ней приставали, около нее сходились другие молодайки, мужики и молодые ребята, проходя мимо, замолкали и поглядывали на нее. Даже старик редкий проходил, чтобы не посмеяться с ней; ребята и девочки обходили ее, косились и говорили: «Вишь, Маланька-то, Маланька-то как идет.»}
А Маланька шла точно так же, как и другие бабы, ни наряднее, ни чуднее, ни веселее других. На ней была панева клетчатая, обшитая золотым галуном, белая, шитая красным рубаха, гарусная занавеска, красный платок шелковый на голове и новые коты на шерстяных чулках. Другие были в сарафанах, и в поддевках, и в цветных рубахах, и в вышивных котах. Так же, как и другие, она шла, плавно и крепко ступая с ноги на ногу, помахивая руками, подрагивая грудью и поглядывая по сторонам своими бойкими глазами. {Да что-то не то было в ней, отчего ее издалека видно было, а вблизи с нее глаз спустить не хотелось}. Она шла, смеялась с солдатом и про мужа вовсе не думала.
— Ей-богу, наймусь в выборные, — говорил солдат, — потому, значит, в эвтом деле оченно исправно могу командовать над бабами. Меня Андрей Ильич знает. Я тебя, Маланья, замучаю тогда.
— Да, замучаешь, — отвечала Маланья, — так-то мы летось земского в риге, лен молотили, завалили, портки стащили да так-то замучили, что побежал, портки не собрал, запутался. То-то смеху было.
И бабы покатились со смеху, даже остановились от хохота, а солдатка-хохотунья присела, ударила себя по коленям ладонями и завизжала хохотом.
— Ну вас совсем, — сказала Маланья, локтем толкая товарку и понемногу затихая от смеха.
— Ей-богу, приходи, — сказал солдат, повторяя то, что он уже говорил прежде, — сладкой водки куплю, угощу.
— Ей муж слаще водки твоей, — сказала солдатка, — нынче приехать хотел.
— Слаще, да как нет его, так надо чем позабавиться для праздника, - сказал солдат.
— Что ты мое счастье отбиваешь? — сказала Маланья. — Больше водки покупай, Барычев, всебеспременно придем.
И вдруг Маланье вспомнилось, что муж второй праздник обещал приехать и не приезжает, и по лицу ее пробежало облако. Но это было только на одно мгновенье, и она опять начала смеяться с солдатом. Солдат шепотом сказал ей, чтобы она одна приходила.
— Приду, Барычев, приду, — громко сказала Маланья и опять залилась хохотом. {Не много нужно, чтобы рабочим, молодым и здоровым людям в праздник было весело.} Солдат обиделся и замолчал.
Анисим Жидков, который видел, как Тихон въехал в деревню, стоял у порога своей избы; мимо самого него проходили бабы. Когда Маланья поравнялась с ним, он вдруг ткнул ее в бок пальцем и сделал губами: «крр…», как кричат лягушки. Маланья засмеялась и наотмашь ударила его.
— Что, хороводница, лясы точишь с солдатом, муж глаза проглядел, - сказал Анисим смеючись, и, заметив, как Маланья вся вспыхнула, покраснела, услыхав о муже, он прибавил степенно, так, чтобы она не приняла за шутку:
— Ей-богу. В самые обедни на тройке приехал. Магарыч за тобой.
Маланья тотчас же отделилась от других баб и скорым шагом пошла через улицу. Пройдя через улицу, она оглянулась на солдата.
— Мотри, больше сладкой водки покупай, я и Тихона приведу, он любит.
Солдатка и другие бабы засмеялись, солдат нахмурился.
— Погоди ж ты, чертовка баба, — сказал он.
Маланья, шурша новой паневой и постукивая котами, побежала до дома. Соседка посмеялась ей еще, что муж гостинца — плетку привез, но Маланья, не отвечая, побежала к избе.
Тихон стоял на крыльце, смотрел на свою бабу, улыбался и похлопывал кнутом. Маланья стала совсем другая, как только узнала о муже и особенно увидала его. Красней стали щеки, глаза и движения стали веселее и голос звучнее.
— И то, видно, плетку в гостинец привез, — сказала она, смеясь.
— Ай плоха плетка-то? — сказал муж.
— Ничего, хороша, — отвечала она, улыбаясь, и они вошли в избу.
Вслед за бабой пришел старик и пошел с Тихоном смотреть лошадей. Маланья скинула занавеску и принялась помогать матери собирать обедать, все поглядывая на дверь. Старик вошел в избу, старуха стала разувать его. Маланья побежала на двор к Тихону, схватила его обеими руками за пояс и так прижала к себе, что он крякнул и засмеялся, целуя ее в рот и щеки.
— Право, хотела к тебе идти, — сказала Маланья, — так привыкла, так привыкла, скучно да и шабаш, ни на что бы не смотрела, — и она еще прижалась к нему, даже приподняла его и укусила.
— Дай срок, я тебя на станцию возьму, — сказал Тихон, — тоже тоска без тебя.
Гришутка вышел из избы и, посмеиваясь, позвал обедать. Старик, старуха, Тихон, Гришутка и солдатенок, помолившись, сели за стол; бабы подавали и ели стоючи. Тихон ни гостинцев не роздал, ни денег не отдал отцу.
Все это он хотел сделать после обеда. Отец, хотя был доволен всеми вестями, которые привез Тихон, все был сердит. Он всегда бывал сердит дома, особенно в праздник, покуда не пьян. Тихон достал денег и послал солдатку за водкой. Старик ничего не сказал и молча хлебал щи, только глянул через чашку на солдатку и указал, где взять штофчик.
Тройка была хороша, денег привез довольно. Но старику досадно было, что сын карего мерина променял. Карего мерина, опоенного, сам старик прошлым летом купил у барышника и никак не мог согласиться, что его обманули, и теперь сердился, что сын променял такую, по его мнению, хорошую лошадь. Он молча ел, и все молчали, только Маланья, подавая, смеялась с мужем и деверем. Старик прежде сам езжал на станции, но не знал этого дела и прогонял две тройки лошадей, так что с одним кнутом пришел домой. Он был мужик трудолюбивый и неглупый, только любил выпить и потому расстроил свое хозяйство, когда вел его сам. Теперь ему весело и досадно было не за одного карего мерина, но и за то, что сын хорошо выстоял на станции, а сам он разорился, когда ездил ямщиком.
— Напрасно коня променял, добрый конь был, — пробормотал он.
Сын не отвечал. Понял ли он или случайно, но Тихон ничего не сказал и начал рассказывать про своих мужиков, стоявших на станции, особенно про Пашку Шинтяка, который всех трех лошадей продал и даже хомуты сбыл.
Пашка Шинтяк был сын мужика, с которым старик вместе гонял и который обсчитал во время оно старика. Это была старая вражда. Старик вдруг засмеялся так чудно, что бабы уставились на него.
— Вишь, лобастый черт, в отца пошел; неправдой не наживешься небось.
И вслед за тем старик, поевши каши, утер бороду и усы и весело стал расспрашивать сына о том, как он выстоял эти два месяца, как бегают лошади, почем платят, с видимой гордостью и удовольствием. Сын охотно рассказывал, и разговор еще более оживился, когда запыхавшаяся солдатка принесла зеленый штофчик, старуха вытерла тряпкой толстый, с донышком в два пальца вышины стаканчик, и отец с сыном выпили по порции.
Особенно понравился старику рассказ сына о царском проезде.
— И сейчас подскакал фельдъегерь, соскочил, едут, говорит, через десять минут будут, по часам гнал. Сейчас глянул Михаил Никанорыч на часы. — Тихон, говорит, мотри, все ли справно. Моя, значит, четверка заплетена, выведена, готово, мол, не ты повезешь, а мы поедем. — И Тихон, засунув свои оттопыренные большие пальцы за поясок, тряхнул волосами и оглянулся на баб; они все слушали и смотрели на него. Маланька с чашкой присела на краю лавки и тоже встряхнула головой точно так же, как муж, как будто она рассказывала, и улыбнулась, как будто говоря: «Каковы мы молодцы с Тихоном!» Старик положил свои обе руки на стол и, нахмурившись, нагнул голову набок. Он, видимо, понимал всю важность дела. Солдатка, размахивая руками от самых плеч вперед себя и вместе, как маятником, прошла из двери, но, подойдя к печке, села, услыхав, о чем идет речь, и начала складывать занавеску вдвое, потом вчетверо и потом опять вдвое и опять вчетверо. Старуха же, имевшая только одну манеру слушать всякий рассказ, веселый ли он был или грустный, приняла эту манеру, состоящую в том, чтобы слегка покачивать головой, вздыхать и шептать какие-то слова, похожие на молитвы. Гришка же, напротив, всякий рассказ слушал так, как будто только ждал случая, чтобы покатиться со смеху. Теперь он это и сделал; как только Тихон сказал свой ответ становому: «Не ты повезешь, а мы», он так и фыркнул. Тихон не оглянулся на него, но ему не показалось нисколько не удивительно, что Гришка смеется, — напротив, он даже поверил, что рассказ его очень забавен.
— Только сейчас осмотрел я еще, значит, лошадей с фонарем, ночь темная была, — слышим, гремят с горы, с фонарями, два шестерика, пять четверней и шесть троек. Сейчас все по номерам. Сейчас передом Васька Скоморохинский наш с исправником прогремел. Тройку в лоск укатал, уж коренной волочится, колокольчик оборвал. Уж исправник не вышел из телеги, а котом выкатился на брюхо. Сейчас: «Самовары готовы?» — «Готовы». — «Пару на мост живо послать», — перила там сгнивши были. Шинтяка живо снарядили с каким-то дорожным. Сейчас сам с фонарями подкатил прямо, к крыльцу. Володька вез. Ему говорили, чтобы не заезжал по мосту, лошадей не сдержал. Живо подвывели наших. Все исправно было. Гляжу, Митька постромку закинул промеж ноги, так бы и поставил.
— Что ж, говорил что? — спросил старик.
— Сейчас говорит: «Какая станция?» Сейчас исправник: «Сирюково, говорит, ваше высокое царское величество». — «А? — представил Тихон, — а?» и притом так чудно выставил величественно грудь, что старуха так и залилась, как будто услыхала самую грустную новость. Гришка засмеялся, а солдатенок маленький с полатей уставился на старуху бабку, ожидая, что будет дальше.
— Заложили шестерик, сел фолетором наш Сенька.
— То-то бы Гришутку посадить, — вставил старик, — обмер бы.
— Так бы отзвонил, — отвечал Гришка, показывая все зубы, с таким выражением, что видно было, он не побоялся бы ни с царем ехать, ни с отцом и с старшим братом разговаривать.
— Сенька сел, — продолжал Тихон, пошевеливая пальцами, — светло было, как днем, фонарей двадцать было; тронули — ничего не видать.
— Что ж, сказал что-нибудь? — спросил старик.
— Только слышал: «Сейчас, говорит, хорошо, говорит, прощай». Тут смотритель, исправник: «Смотри, говорят, Тихон». Чего, думаю, не ваше смотрение; помолился богу. — Вытягивай, Сенька. Только сначала жутко было. Огляделся мало-мальски — ничего, все равно что с работой ехать. — Пошел! Думаю, как ехать, а под самую гору приходится, а тут еще захлестнули сукины дети постромку, как есть соскочила, — так на вожже всю дорогу левая бежала. Под горой исправника задавил было совсем. Он слезал за чем-то. «Пошел!» покрикивает. Уж и ехал же, против часов четыре минуты выгадал.
Старик после каждого стаканчика несколько раз требовал повторения этого рассказа. Помолившись, встали от стола. Тихон отдал двадцать пять рублей денег и гостинцы.
— Ты меня, батюшка, отпусти, теперь работа самая нужная на станции, и беспременно велели приезжать, — сказал он.
— А как же покос? — сказал старик.
— Что ж, работнику хоть двадцать пять рублей до покрова заплатить. Разве я с тройкой того стою? Я до покрова постою, так, бог даст, еще тройку соберу. Гришутку возьму.
Старик ничего не сказал и влез на полати. Повозившись немного, он позвал Тихона.
— То-то бы прежде сказал. Телятинский важный малый в работники назывался, Андрюшка Аксюткин. Смирный малый, небывалый. И как просила Аксинья. «Чужому, говорит, не отдала бы, а ты, кум, возьми, Христа ради». Коли уж нанялся, так не знаю как быть, не двадцать же рублев заплатить, сказал старик, как будто это невозможно было, как ни выгодна бы была гоньба на станции.
Солдатка, слышавшая разговор, вмешалась.
— Андрюха еще не нанялся, Аксинья на деревне.
— О! — сказал старик, — поди покличь.
И тотчас же, махая руками, солдатка пошла за нею. Маланька вышла на двор, подставила лестницу и взлезла на сарай; скоро за ней вышел и скрылся Тихон. Старуха убирала горшки, старик лежал на печке, перебирая деньги, привезенные Тихоном. Гришка поехал в денное и взял с собой маленького Семку, солдатенка.
— Аксинья у Илюхиных с сыном наниматься ходила. Она у кума Степана, я ей велел приттить, — сказала солдатка, — да старики на проулке собрались, луга делить.
— А Тихон где?
— Нет его, и Маланьки нет.
Старик помурчал немного, но делать было нечего, встал, обулся и пошел на двор. С амбара послышалось ему говор Маланьи и Тихона, но как только он подошел, говор затих.
«Бог с ними, — подумал он, — дело молодое, пойду сам».
Потолковав с мужиками о лугах, старик зашел к куму, поладил в Аксиньей за семнадцать рублей и привел к себе работника. К вечеру старик был совсем пьян. Тихона тоже целый день не было дома. Народ гулял до поздней ночи на улице. Одна старуха и новый работник Андрюшка оставались в избе. Работник понравился старухе: он был тихий, худощавый парень.
— Уж ты его пожалей когда, Афромевна, — говорила его мать, уходя. — Один и есть. Он малый смирный и работать не ленив. Бедность только наша…
Афромевна обещала пожалеть и за ужином два раза подложила ему каши. Андрюшка ел много и все молчал.
Когда поужинали и мать ушла, он долго молча сидел на лавке и все смотрел на баб, особенно на Маланью. Маланья два раза согнала его с места под предлогом, что ей нужно было достать что-то. И что-то засмеялась с солдаткой, глядя на него. Андрей покраснел и все молчал. Когда вернулся старик хозяин пьяный, он засуетился, не зная, куда идти спать. Старуха посоветовала ему идти на гумно. Он взял армяк и ушел. Ввечеру того же дня поставили двух прохожих солдат к Ермилиным.




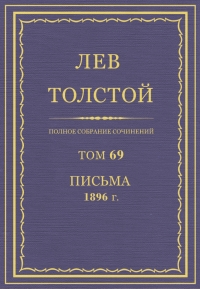
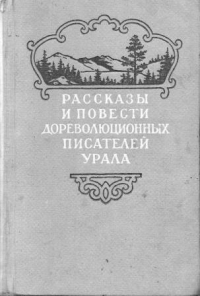
Комментарии к книге «Тихон и Маланья», Лев Николаевич Толстой
Всего 0 комментариев