Константин Михайлович Станюкович СТРАДАЛЕЦ
I
Вскоре после приезда в N., один из больших городов Сибири, в котором мне предстояло пробыть весьма короткое время, я случайно узнал, что в N. живет некто Петровский, старый мой петербургский знакомый, которого я давно потерял из виду, с тех пор, как он со своей молодой женой уехал на частную службу на юг России.
Оказывалось, что этот самый Петровский уж года три как приехал из России и занимает здесь видное место в одном из страховых обществ.
Я, разумеется, обрадовался, что в незнакомом городе нашел знакомых людей, и на другой же день отправился к Петровским.
– Барина нет дома, – объявила горничная.
– Скоро будет?
– Они с вечера уехали на охоту.
– А барыня?
– Барыня дома. Пожалуйте!
В то время, как я проходил через залу, неслышно ступая по узкому протянутому ковру, из соседней комнаты доносился чей-то необыкновенно мягкий, вкрадчивый мужской голос, звучащий грустными нотами. Я отчетливо услыхал изящно составленную французскую фразу о необходимости терпеливо нести свой крест, ввиду людской несправедливости, и вслед за тем из-за портьеры показалась высокая, худощавая фигура почтенного старика, с слегка опущенной на грудь седой головой, одетого не без щегольства и вкуса.
Старик бросил на меня быстрый взгляд из-под очков и тихо прошел мимо, натягивая на руку шведскую перчатку.
Я любопытно всматривался в бледное, длинное лицо, окаймленное вьющимися сединами и маленькой бородкой, и что-то знакомое промелькнуло в этих тонких чертах с заостренным, как у хищной птицы, носом, в грустно насмешливой полуулыбке тонких губ, в этом быстром, остром взгляде, совсем неподходящем к печальному выражению физиономии.
Мне показалось, что я когда-то встречал этого господина и совсем при другой обстановке.
Я вошел в гостиную.
Хозяйка сидела на диване у стола задумчивая, по-видимому, чем-то расстроенная, и не заметила моего прихода. Ее добродушное, румяное лицо, значительно расплывшееся с тех пор, как мы не видались, смотрело грустно, и большие ласковые глаза были влажны.
Я назвал ее по имени. Она встрепенулась, тотчас же узнала меня и засыпала вопросами. Скоро уж мы, по сибирскому обычаю, сидели в столовой за большим самоваром. Она оживилась, расспрашивала про Петербург, про веяния, про общих знакомых, рассказывала про свою кочевую жизнь с мужем, жаловалась на отсутствие людей, на грабежи и убийства, словом, повторяла все то, что обыкновенно рассказывают про сибирские города.
По ее словам, они заехали сюда только потому, что муж соблазнился большим жалованьем.
– Скопим что-нибудь и уедем отсюда! – заключила Варвара Николаевна.
– Так вы, значит, недовольны Сибирью? То-то я застал вас совсем расстроенной.
– Ну, это совсем по другой причине… Я только что выслушала одну печальную исповедь…
– Уж не того ли старого господина, которого я встретил сейчас в зале?
– Да. Вы знаете ли, кто это такой?
– Не имею чести… Сдается мне, что я его где-то встречал, но где – не припомню… У него совсем не провинциальный вид.
– Наверное встречали в Петербурге. Ведь это Рудницкий!
– Рудницкий!?
И в моей памяти воскрес когда-то известный всему Петербургу знаменитый делец и потом главный герой скандального процесса о расхищении одного солидного банка.
– Вот уж никак не ожидал встретить у вас эту печальную знаменитость… Постарел однако этот барин, но облик прежнего величия все-таки еще сохранился… Не скажите вы его фамилии, я никак бы не узнал знаменитого расхитителя… Но рассказывайте, чем однако растрогал вас этот старый грешник!
– Напрасно вы говорите о нем в таком тоне. Он его не заслуживает! – с упреком остановила меня Варвара Николаевна.
– Почему это?
– А потому, что Рудницкий невинная жертва, пострадавшая за других! – горячо проговорила Петровская.
Я посмотрел во все глаза на молодую барыню.
– Рудницкий – невинная жертва!? – рассмеялся я. – Тогда каждый крупный вор – ангел по вашей терминологии. Да вы читали ли его процесс?
– Не читала.
– Прочтите… Любопытно.
– И не буду читать… Я и так знаю теперь правду. Прежде и я, как вы, была предубеждена против него. Все говорили: расхитил банк, пустил по миру людей… ну, и я повторяла…
– А теперь?
– А теперь я убеждена, что Рудницкий невинен, и жалею, что прежде не знала этого…
– Да вы с ним когда ж познакомились? – удивлялся я.
– Года два… Я изредка встречала его у одних здешних знакомых и, признаюсь, с удовольствием слушала, как он говорит… Он умный и образованный человек и держит себя здесь с большим тактом, всегда скромно, всегда в тени… Мне только не нравился в нем насмешливый скептицизм, удивляла какая-то странная его злоба к людям, но теперь мне все это понятно… Сперва мы не принимали его у себя – муж не хотел… Но эту Пасху он явился с визитом и после был раза три…
– И очаровал вас?
– Не иронизируйте, пожалуйста! Повторяю, что до сегодняшнего дня я относилась к Рудницкому с предубеждением… Я не знала его, верила молве и была с ним суха… Муж, тоже не зная его, не особенно благоволил к нему… Вы понимаете, что бедный старик, чувствуя наше недоверие, бывал всегда сдержан и о своем прошлом не говорил…
– А сегодня, оставшись наедине с такой доверчивой барыней, как вы, соблаговолил удостоить вас описанием своих добродетелей? И вы попались на эту удочку?..
– Остановитесь, Фома неверный [1], и устыдитесь ваших слов!.. Если б вы слышали его задушевную исповедь, если б видели слезы на глазах у этого одинокого, всеми забытого старика, вы пожалели бы его так же, как и я, и убедились бы, что перед вами честный человек…
– Пожалеть, быть может, и пожалел бы, но поверить, что он невинная жертва, не поверил бы… Будьте спокойны!
– Послушайте… Так говорить, как говорил он, с такой дрожью в голосе, не могут люди виноватые…
– Еще как говорят…
– И к чему ему было лгать, подумайте! – горячилась Варвара Николаевна. – Ведь я все равно не помогу ему оправдаться перед всеми! Имя его обесславлено, жизнь разбита, впереди мрак… Что ему за счастие в том, что я убеждена в его правоте, когда все уверены в противном?.. Бедный, несчастный человек! Если б вы знали, сколько он перенес!
Как все женщины, проникнутые чувством сострадания, Варвара Николаевна готова была теперь произвести чуть ли не в мученики этого уголовного героя.
Я знал раньше Варвару Николаевну, знал ее страсть отыскивать страдальцев (преимущественно, впрочем, среди людей, более или менее прилично одетых) и носиться с ними до первого разочарования, и слушал, не прерывая, длинный список добродетелей господина Рудницкого, понимая очень хорошо, что гораздо легче войти в царствие небесное, чем разубедить женщину, поверившую чему-нибудь всем своим сердцем.
Надо думать, что Варвара Николаевна заметила наконец, что на моей физиономии не было и тени того восторженного умиления, которым дышало все ее существо. Вероятно, вследствие того она вдруг резко оборвала вводный эпизод, повествующий о необыкновенной любви господина Рудницкого к домашним животным и в особенности к пташкам (что тоже, по ее мнению, служило веским доводом в пользу невиновности Рудницкого в ограблении банка), и с сердцем сказала:
– Вы все-таки не верите?
– Вам – безусловно.
– Не мне, а в невинность бедного старика!
– Ни на пол-иоты, Варвара Николаевна. В таких делах, как дело вашего нового «страдальца», судебные ошибки почти невозможны… Присяжных в напрасной жестокости еще никто не обвинял.
– А я верю, верю, верю! – капризно прокричала Варвара Николаевна, – и постараюсь убедить мужа дать у себя место невинному старику.
– А разве невинный старик во время исповеди и о местечке говорил?
– Вовсе нет… С чего это вы взяли? – заметила, вдруг смущаясь, Варвара Николаевна.
– По вашему смущению вижу, что говорил.
– Да нет же! Он вообще говорил, что ищет занятий… Ведь у этого расхитителя, обокравшего банк, нет ни гроша за душой! – проговорила Варвара Николаевна, победоносно взглядывая на меня.
– Если это и правда, то ничего еще не доказывает… Крохи-то, быть может, и остались… Не в том дело, а вы скажите-ка лучше, какое место вы хотите дать Рудницком у?
Оказалось, что на днях уезжает помощник мужа, и очищается место. Работы немного, жалованья сто рублей в месяц.
– Я так была бы рада, если б Алексей пристроил старика… Не улыбайтесь ядовито… Лучше прежде познакомьтесь с Рудницким и тогда, если хотите, опять поговорим о нем… Приходите-ка завтра обедать, я позову и Рудницкого… Хотите?
Я охотно согласился взглянуть поближе на такого знаменитого человека.
– А процесс его вам все-таки не мешало бы проштудировать! – прибавил я, прощаясь с милейшей хозяйкой.
Но она только замахала руками.
II
…«Рудницкий»?!
Кто из петербуржцев, лет десять, двенадцать тому назад, не видал Рудницкого или, по крайней мере, не знал его по имени?
Этот делец и воротила крупного банка, влиятельный гласный в думе, член многих благотворительных обществ и видный чиновник в одном из министерств, был одно время довольно популярен в Петербурге. Его можно было увидать утром в своем банке, между тремя и четырьмя на Невском, в биржевые дни на бирже, а вечером в первых рядах на первых представлениях среди сливок петербургского общества, – всегда скромного, любезного, даже искательного, с какой-то загадочной улыбкой на устах, всегда свеженького, чистенького, благоухающего и одетого с особым солидным шиком, по-английски. Имя его довольно часто мелькало в газетных отчетах о разных заседаниях, и репортеры нередко прохаживались на его счет за его «ретроградные» поползновения и особенно за его предложение изгнать из думы представителей печати.
Он говорил немало. То говорил в думе речь в защиту каких-нибудь сомнительных предложений, то умилялся на каком-нибудь, торжественном открытии нового приюта, то защищал «питательную ветку» или «проводил» мысль о слиянии земельных банков в обществе содействия промышленности и торговли.
Это был видный банкократ – одна из восходящих звезд мира дельцов, прожектеров и пройдох. О нем говорили: одни – как об «умнице», ловком, осторожном и благоразумном дельце, другие – как о неразборчивой на средства «шельме», не без ума и не без образования, но все соглашались, что эта «умница» или «шельма» сделает блестящую карьеру и наживет большие деньги, не попав на цепуру. Рассказывали, что он умел очаровывать и без мыла влезать в чужую душу, когда требовалось провести какое-нибудь «дельце» или привлечь к сомнительному предприятию какого-нибудь недоверчивого капиталиста. В таких случаях «припускали» всегда Николая Степановича Рудницкого, и он «обработывал».
В мире дельцов он пользовался большим уважением и быстро шел в гору. Начав свою карьеру, по выходе из университета, скромным, незаметным чиновником, он скоро оставил департамент и сделался бухгалтером в банке. Затем он выдвинулся, обратив на себя внимание финансовыми способностями, и через несколько лет уж был директором банка. Он много работал, поднял дивиденды банка, устраивал не одну замысловатую комбинацию, мало-помалу стал главным воротилой и шел, казалось, верными и твердыми шагами к блестящей будущности миллионера, как вдруг, в одно прекрасное утро, в газетах появилось известие о крахе банка, в котором орудовал Рудницкий.
Банк рухнул, и через несколько времени Рудницкий появился на скамье подсудимых в качестве главного действующего лица.
Обвинительный акт нарисовал довольно пикантную картину нравов и дал недурную характеристику главного героя. Слушая обвинение, вы видели, что этот умный, пронырливый, беспринципный человек не рассчитал всех шансов и, воспользовавшись крупным кушем, не замел следов, по обстоятельствам от него не зависящим, и потому, только потому, попал в объятия прокурора.
На суде он вел себя отвратительно. Озлобленный позором, злой на неудачу, он сваливал всю вину на своих товарищей, невменяемых «божьих младенцев», слепо веривших во всем своему вожаку, и старался разыграть роль невинной жертвы, пострадавшей за свое доверие к людям. Как затравленный зверь, чующий близость гибели, он прибегал к отчаянным средствам: говорил чувствительные тирады о своем патриотизме, о святости основ, им почитаемых, и плакал, моля о пощаде.
Ни трогательные тирады, ни слезы, ни блестящая по бесстыдству речь адвоката не убедили присяжных. Улики были веские, виновность Рудницкого не подлежала сомнению, и матерой зверь был затравлен. Его осудили.
В беспрерывной смене новых неосторожных грабителей, появлявшихся на скамье подсудимых, о Рудницком скоро забыли.
Имена новых «героев» занимали публику. Лишь изредка попадалось в газетах имя Рудницкого, как нарицательное имя.
Все это невольно припомнилось мне, когда на следующий день я шел обедать к Петровским.
III
В то время, когда я знавал Петровского, это был один из тех многочисленных русских интеллигентных людей, к которым как нельзя более идет прозвище: «ни рыба ни мясо». Он был не особенно умен, но и не глуп, немножко читал, немножко думал, особенно твердых принципов не имел, но чтил известные традиции и слегка либеральничал при «закрытых дверях», и главным образом стремился к покою с приличным окладом.
Он обрадовался встрече, заговорил было о прошлом, но скоро перешел к настоящему. Провинциальная сонная жизнь видимо положила на него свой отпечаток.
– Ну, как вы меня нашли? Порядочно я оскотинился? – спрашивал меня, смеясь, Петровский после первых взаимных расспросов.
– Брюшко отрастили изрядное…
– Брюшко – это что!.. А я, батюшка, водку ныне могу душить в невероятном количестве, могу до одури играть в винт и по целым неделям ничего не читать… По именинам езжу, в видах развлечения… Уж такое здесь сонное царство… Все вокруг располагает к мирному прозябанию… Да и чего кипятиться-то, как подумаешь?
В эту минуту в кабинет, где мы болтали с Петровским, вошла Варвара Николаевна.
– А что же твой Рудницкий? Видно, не будет? – резко оборвал разговор Петровский, взглядывая на часы.
– Еще трех часов нет.
– Вот, батюшка, – обратился он ко мне, указывая движением головы на жену, – неисправимая идеалистка… Ее никакая провинция не берет… Если б не она, так я бы давно совсем оскотинился. Во все еще верит… Даже в невинность Рудницкого верит… Сегодня целое утро приставала ко мне, чтобы я дал ему место, и расписывала своего протеже.
– И что же, убедила вас Варвара Николаевна?
– Ну, убедить-то не убедила…
– Подожди, ты скоро убедишься, что он невинен…
– На это не надейся… Шельма изрядная твой Рудницкий, а место ему я, пожалуй, и дам. Все ж таки он умный и деловой человек… Немножко, правда, неловко как-то брать к себе такого гуся… Ну, да здесь мы неразборчивы… И не таких гусей принимают… Денег у него на руках не будет – следовательно опасности нет! – прибавил, смеясь, Петровский.
– Ах, Алеша, как тебе не стыдно так говорить!
– Еще стыднее, Варя, обокрасть банк. Ну, ну, не буду! – шутливо заметил Петровский и прибавил: – пойдемте-ка лучше – выпьем по рюмке!
Уж мы с хозяином, в ожидании гостя, выпили по две, и уж сама Варвара Николаевна начинала беспокоиться, что нет Рудницкого, как ровно за пять минут до трех он появился на пороге гостиной.
Он приостановился на минуту, озирая присутствующих, и мягкой, неспешной походкой направился к хозяйке, распространяя вокруг себя тонкую душистую струйку.
– Надеюсь, я не провинился, не опоздал? – заговорил он и как-то особенно почтительно и ласково пожал руку хозяйке, затем поздоровался с Петровским и поклонился мне.
Нас назвали друг другу, и мы обменялись рукопожатиями.
Вслед за тем мы пошли обедать, и я не без любопытства продолжал рассматривать этого знаменитого «бубнового туза [2] на покое».
Он держал себя просто и скромно, с тактом видавшего свет человека, и производил сегодня впечатление добродушного, смирного, тихого старика. Приветливая улыбка сияла на его умном, спокойном лице с глубокими бороздами, свидетельствовавшими о пережитых бурях, и маленькие серые глазки глядели сквозь очки ласково и мягко. В его манерах, в выражении лица проглядывало спокойное смирение человека, познавшего тщету жизни и с философским достоинством глядящего на мир божий.
Вначале он говорил мало, очевидно, избегая занимать собою общество, и обращался преимущественно к Варваре Николаевне. Когда словоохотливый хозяин овладевал разговором, Рудницкий слушал внимательно. Склонив чуть-чуть набок голову, он тихо покачивал ею в знак одобрения и первый смеялся его остротам.
Петровский то и дело подливал нам вина, не забывая, конечно, и себя. Рудницкий был воздержан, пил мало, ссылаясь на слабое свое здоровье, но несколько рюмок вина сделали его к концу обеда разговорчивее. В его разговоре сразу сказывался умный, бывалый человек, знающий свет и людей. Говорил он недурно, мягким, тихо льющимся голоском. Замечания его были подчас метки и остроумны. Он как-то ловко и незаметно попадал в тон собеседника и очень тонко льстил слегка подвыпившему хозяину. Петровский видимо добродушнее и ласковее относился к Рудницкому после обеда, и Варвара Николаевна торжествовала.
Когда Петровский с Рудницким заговорили о чем-то, Варвара Николаевна шепнула мне:
– Ну, что… понравился он вам?
– Ловкая шельма! – чуть слышно прошептал я в ответ.
Она с немым укором взглянула на меня. Я в эту минуту посмотрел на Рудницкого и поймал его пытливый, зоркий взгляд, устремленный на нас. В этом взгляде не было и следа добродушия. Холодный, стальной, он точно пронизывал.
Рудницкий тотчас же отвел глаза и продолжал с хозяином беседу вполголоса.
К концу вечера Петровский совсем был очарован Рудницким и, отведя меня в сторону, промолвил:
– А ведь, кажется, старик лучше, чем я думал…
– Понравился? – улыбнулся я.
– В нем больше добродушия, чем я предполагал… И умница… Что ж, в самом деле, на него нападать… Ну, случился с ним грех, он пострадал за него… Что там ни говорите, а жаль старика… Укатали сивку крутые горки!
– Едва ли… Пустите-ка этакого козла в огород – он вам покажет!
– Да вы что ж это?.. А еще гуманный человек! Не верите, что ли, в возможность раскаяния?
– Верю, милейший Алексей Петрович. Но только кающиеся люди не драпируются в мантию непонятых страдальцев и не плачут крокодиловыми слезами.
– А черт его знает… Быть может, он и в самом деле не так виноват!..
Я только засмеялся в ответ.
IV
Поздним вечером мы вышли с Рудницким от Петровских. Узнав, что я пойду в гостиницу пешком, Рудницкий предложил идти вместе.
– Что за чудный вечер! – заговорил мой спутник после нескольких минут молчания. – Теплынь, тишина! Невольно вспоминаются иные страны, иные небеса… У нас здесь такие вечера – редкость… Благодать да и только!
Он глубоко вздохнул полною грудью и поднял голову кверху.
– И как хорошо сегодня небо! – продолжал он в том же мечтательном тоне, растягивая слова. – Полюбуйтесь, как ярко светятся звездочки! Как хороша Венера!..
Я невольно вспомнил рассказ Варвары Николаевны про любовь Рудницкого к птичкам и спросил:
– Вы, верно, любите природу?
– Люблю ли я природу? – переспросил он таким тоном, будто даже сомнение в этом было обидой для его чувствительной души. – Да что ж и любить-то, как не природу, полную великих тайн… Людей, что ли? – грустно усмехнулся он, – люди злы и безжалостны… Одна природа беспристрастна и на всех льет свои дары…
Этот тон в устах Рудницкого был для меня неожиданностью.
Я взглянул на него. Он шел, понурив голову, с видом человека, подавленного думами, и молчал.
– Надолго вы в наши Палестины? – спросил он наконец.
– Нет… Через три дня уеду.
– В Россию?
– Да, в Петербург…
– Завидую вам! – проговорил он. – Невеселы наши Палестины. Не дай бог никому попасть сюда… Люди здесь грубые, некультурные… Духовные интересы для них непонятны… Здесь пьют, играют в карты и сплетничают… Человеку с высшими потребностями, привыкшему к иной жизни, к иным нравам, тяжело… Верите ли, не с кем иногда перемолвиться словом… Вот только и отдыхаешь душой у Петровских да еще в одном семействе. Славные они оба, эти Петровские… Вы давно с ними знакомы? – прибавил Рудницкий.
– Давно…
– Как они оба еще сохранили свежесть души! – восторженно проговорил мой спутник, – особенно эта милая Варвара Николаевна!.. Женщины, впрочем, вообще лучше нашего брата, – вставил Рудницкий. – Не будь здесь этих двух семей – пришлось бы разучиться говорить… Купцы – народ невозможный… Чиновничество… тоже не особенно симпатично, да и многие сторонятся от людей в моем положении… Развлечений порядочных никаких… Отвратительный город, отвратительная страна! – угрюмо закончил Рудницкий.
Он выдержал паузу и продолжал:
– И знать, что вам предстоит навсегда здесь остаться! Навсегда в этой трущобе!.. А, впрочем, вероятно, уж и недолго терпеть! – грустно усмехнулся старик, – здоровье мое вконец расстроено… Однако вот и гостиница… Простите, я разболтался… Здесь такая редкость встретить свежего человека, и так хочется отвести душу, поговорить… Видно, старческая слабость…
Признаюсь, и мне было любопытно послушать, что будет говорить старик, и посмотреть, в какой роли он явится перед «свежим» человеком, и я попросил его зайти ко мне.
Он охотно согласился.
Через несколько минут мы сидели в номере за бутылкой красного вина, и мне было дано настоящее представление с самым неожиданным финалом.
V
– Да… Одиннадцать лет, как я живу в этом городе… Одиннадцать лет одинокий, всеми забытый… Легко сказать: одиннадцать лет, а каково прожить их?..
Он прихлебнул вина и промолвил с усмешкой:
– И все-таки находят, вероятно, что наказание мало для такого… ужасного преступника… Для всех есть милосердие, а для меня его нет… Многим разрешили вернуться… Другие, видите ли, не столь виновны, а я, видно, в самом деле злодей!.. – прибавил он и засмеялся тихим, почти беззвучным смехом.
При этом злобное, насмешливое выражение пронеслось по его бледному, худому лицу, засветилось холодным блеском в глазах и искривило тонкие, бескровные губы в сардоническую улыбку. Что-то неприятное, мефистофелевское было в этом старческом лице.
– Вы разве хлопотали о возвращении?
– Три раза я подавал прошения и все три раза при самых лучших отзывах местной администрации, и каждый раз один и тот же ответ: «Просьба мещанина из ссыльных Рудницкого не подлежит удовлетворению»… Я ведь нынче имею честь носить звание мещанина! – прибавил старик, – N-ский мещанин из ссыльных… Это звучит несколько иначе, чем действительный статский советник, не правда ли?..
– Но ведь вы можете переехать в другой какой-нибудь город Сибири.
– Все та же Сибирь! Здесь хоть есть давность привычки… Я и просился только ради здоровья… Ведь если б мне и можно было уехать отсюда, я все равно везде буду отверженцем… Везде позор… Везде станут шептать, указывая на меня: «Это тот самый Рудницкий, который ограбил банк»… И все будут злорадствовать, и больше всех люди, которые, быть может, во сто раз хуже меня… Это ведь обыкновенная история на свете… Пока успех на вашей стороне, вам готовы простить преступление, а чуть падение, быть может, и незаслуженное, вызванное не преступлением, а ошибкой, доверием, пожалуй, и ошибочным, но непреднамеренным, – подчеркнул он, – все отвернулись, все забыли, даже самые близкие когда-то люди…
Рудницкий отпил еще глоток и продолжал:
– И знаете ли, что больше всего возмущает меня при этом?
– Что?
– Людское лицемерие… Все кричат о какой-то общественной совести, о каких-то нарушенных правах!.. Какая это общественная совесть?.. где она? Кто отказался бы от положения Ротшильда, хотя он, с точки зрения известной морали, каждым день возмущает общественную совесть и нарушает чьи-нибудь права? А между тем про него не кричат, кроме горсти безумцев, мечтающих исправить мир… Он пользуется уважением; весь свет у его ног… Общественная совесть!? – усмехнулся злобно старик, – да из тысячи людей девятьсот девяносто девять наплевали бы на нее, если б одних не удерживал страх наказания, других – просто глупость… А ведь все кричат о совести… О, господи, как все это глупо и возмутительно! И после этого разве можно не презирать людей!? – патетически воскликнул Рудницкий.
Он помолчал, налил себе вина и снова заговорил:
– Уехать!? Куда мне уехать?.. Ведь у меня, ограбившего банк, нет состояния, чтобы замазать рты и заслужить уважение… Вы знаете ли, что, приехав сюда, я, известный грабитель, не знал, на что пообедать… Кто этому поверит, не правда ли? – грустно усмехнулся Рудницкий.
Когда он говорил, голос его дрожал, казалось, искренними нотами. Я слушал и недоумевал. К чему эта комедия? Или, в самом деле, он, с точки зрения своеобразной философии, считает себя невинной жертвой?
Я молчал и ждал, что будет далее.
– Я стар, – снова начал он, – у меня нет даже надежды поправить свое положение, чтобы посмотреть, как эти самые люди, которые отвернулись от меня, снова станут находить, что я человек, обладающий всеми добродетелями… И, каюсь, иногда я жалею, что не могу вернуть прежнего положения… Каюсь, жалею и озлобляюсь… Да разве можно не озлобиться!? – воскликнул он с раздражением. – Помилуйте… Тут всякое терпение лопнет!.. Я думал: хоть здесь-то меня оставят в покое… Так нет… И здесь меня преследовали.
– За что?
– А за то, что два года тому назад здесь был начальник, который имел доблесть дать мне место и кусок хлеба… Как можно! И поднялся кругом вой, пошли сплетни, будто я влияю, будто играю роль… Появились в этом жанре корреспонденции в столичных газетах… Вы разве не читали?
– Что-то помню…
– Уголовные ссыльные деморализируют общество… От них страдает край… И все в таком роде… И здешняя мерзкая газетка тоже стала тявкать… О, это была нескончаемая травля… Эти господа ненавидят людей порядочных, благонамеренных, людей цивилизованных и, главное, приезжих… У них ведь свой патриотизм… сибирский… специфический, как петрушкин запах… [3] Они тут в таком случае все заодно…
И, точно вспомнив испытанные им обиды, он начал бранить Сибирь и сибиряков и в особенности какую-то «шайку мучеников идеи» с необузданной злобой. Он не говорил, а шипел с каким-то угрюмым ожесточением завзятого человеконенавистника. Он поносил людей, не останавливаясь перед клеветой, и в то же время жаловался, что его не оставляют в покое.
Куда девался добродушный, смирный «старичок», которого я видел у Петровских?
– Не удивляйтесь этому раздражению! – проговорил он после паузы, наливая новый стакан и залпом выпивая его. – Я не могу равнодушно говорить, как вспомню об этом… Поймите только: одиннадцать лет тому назад меня позорил прокурор… почти год меня трепали все газеты… Чего только ни говорили про меня! Я переносил все… Мое имя наконец забыли… И что же? За то, что мне дают кусок хлеба, в меня снова летят комки грязи… Каждый писака, каждый недоучившийся молокосос кричит о моем прошлом… И за что же? за что?.. Что я им сделал?
Он закрыл лицо руками и несколько времени молчал.
Когда наконец он поднял голову, на глазах его блестели слезы.
– И если б еще я, в самом деле, был виноват, как расславили меня на всю Россию… Послушайте… Вы тоже недоверчиво отнеслись ко мне… Я заметил… у Петровских… Но если б вы знали всю правду…
И Рудницкий, начинавший немного хмелеть, начал рассказывать мне свое дело, «как оно было в действительности». Из его слов выходило, что его напрасно обвинили, что он невинен, как ангел. Он, правда, сделал ошибку, доверился другим и… попался, как кур во щи…
Признаюсь, это было уж слишком, и я заметил Рудницкому, что был на его процессе.
– Изволили быть? – переспросил он.
– Был…
– И, пожалуй, не верите мне? – проговорил он внезапно изменившимся тоном, с нескрываемой насмешкой.
Я молчал.
– Что ж вы не говорите?.. Ведь вы, кажется, из либералов? – ядовито усмехнулся он. – О, я отлично вижу, что не верите… И знаете ли что? Ведь вы, пожалуй, и правы, что не верите! – вдруг проговорил он, понижая голос, и засмеялся своим тихим, неприятным смехом. – Ей-богу, правы, что не верите!..
Я взглянул на Рудницкого. Признаюсь, мне редко приходилось видеть такое злое, отвратительное лицо. Оно как-то все съежилось и улыбалось скверной, циничной, насмешливой улыбкой, в глазах сверкал злой огонек, и искривленные губы дрожали.
– Еще бы верить!? Не младенец же я был в самом деле и не дурак, мечтавший об акридах и меде, когда ворочал банком и пользовался общим почетом?.. Ха-ха-ха… Я, батюшка, был поклонником капиталистического строя… Ну, да… Я воспользовался случаем сделаться сразу богатым, чтобы потом еще более разбогатеть… Изволите слышать?.. Воспользовался! – прошипел он, глядя на меня в упор с насмешливым видом. – И если б не глупая случайность, я бы теперь был не мещанин из ссыльных, а глубокоуважаемый Николай Степаныч Рудницкий, тайный советник и кавалер… И все эти господа прокуроры считали бы за честь у меня обедать, и никто не смел бы заикнуться об общественной совести… Совесть!.. Это все «слова, слова, слова!», как говорил Гамлет… [4] У всякого своя совесть!.. Но я не рассчитал шансов, и… тот же многоуважаемый Николай Степаныч внезапно разжалован в малоуважаемые… Казни его за то, что он не рассчитал… Спасай общество от такого вредного члена… Ха-ха-ха!.. Да, не рассчитал… Дурак был, осел, и наказан за это… И, вы думаете, я раскаиваюсь? – прибавил он с каким-то бешенством. – Я злюсь… не оттого… Я злюсь на свою глупость… Ну, вот вам… Довольны признанием?.. Опишите, если будет угодно… Довольно любопытно будет прочесть… Так не верите?.. Ха-ха-ха… А я думал, поверите… Надеюсь, я прав ваших не нарушал?.. Вкладов у вас не было в банке?.. Или были?.. Ну, в таком случае очень жаль… Весьма жаль… А затем имею честь кланяться… Руки не протягиваю в видах торжества общественной совести… Вот, когда буду Ротшильдом, тогда милости просим… ко мне… Я вас угощу чудным вином, не то что эта кислятина… Надеюсь однако, что у Петровских вы мне не повредите… Не правда ли?.. Ведь там не лежит миллиона… А ведь мне, старику, все-таки пить и есть надо… Надеюсь, общественная совесть не возбраняет…
И с этими словами Рудницкий ушел.
VI
Прошел год со времени этого странного свидания. О Рудницком я ничего не слыхал, как вдруг получаю от Петровского письмо, в котором он, между прочим, сообщал, что старик по-прежнему служит у него и собирается издавать с кем-то газету.
«Это будет, – по словам Рудницкого, – орган честных русских людей». «Эта идея тешит бедного старика», – прибавлял Петровский.
Рудницкий в роли руководителя общественного мнения!
Это уж было совсем неожиданной новостью, хотя и не невероятной по нынешним временам.
1892
1
Фома неверный – один из двенадцати апостолов, пожелавший удостовериться в воскресении Иисуса Христа.
(обратно)2
Бубновый туз – цветной матерчатый четырехугольник, пришивавшийся на спину арестантского одеяния.
(обратно)3
У них… свой патриотизм… сибирский… специфический, как петрушкин запах… – то есть стойкий, тяжелый, затхлый; сравнивается здесь с тем особенным, «собственным запахом», который имел один из персонажей «Мертвых душ» Н.В.Гоголя – лакей Чичикова Петрушка (том 1, гл. 2).
(обратно)4
…«слова, слова, слова!», как говорил Гамлет… – в трагедии Шекспира «Гамлет» (акт 2, сц. 2).
(обратно)



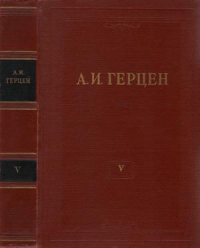
Комментарии к книге «Страдалец», Константин Михайлович Станюкович
Всего 0 комментариев