Антон Павлович Чехов Полное собрание сочинений в тридцати томах Том 2. Рассказы, юморески 1883-1884
А.П. Чехов. Москва, 1883 г.
(обратно)Рассказы, юморески
Ряженые*
Вечер. По улице идет пестрая толпа, состоящая из пьяных тулупов и кацавеек. Смех, говор и приплясыванье. Впереди толпы прыгает маленький солдатик в старой шинелишке и с шапкой набекрень.
Навстречу толпе идет «унтер».
— Ты отчего же мне чести не отдаешь? — набрасывается унтер на маленького солдатика. — А? Почему? Постой! Который ты это? Зачем?
— Миленький, да ведь мы ряженые! — говорит бабьим голосом солдатик, и толпа вместе с унтером закатывается громким смехом…
* * *
В ложе сидит красивая полная барыня; лета ее определить трудно, но она еще молода и долго еще будет молодой… Одета она роскошно. На белых руках ее по массивному браслету, на груди бриллиантовая брошь. Около нее лежит тысячная шубка. В коридоре ожидает ее лакей с галунами, а на улице пара вороных и сани с медвежьей полостью… Сытое красивое лицо и обстановка говорят: «Я счастлива и богата». Но не верьте, читатель!
«Я ряженая, — думает она. — Завтра или послезавтра барон сойдется с Nadine и снимет с меня всё это…»
* * *
За карточным столом сидит толстяк во фраке, с трехэтажным подбородком и белыми руками. Около его рук куча денег. Он проигрывает, но не унывает. Напротив, он улыбается. Ему ведь ничего не стоит проиграть тысячу, другую. В столовой несколько слуг приготовляют для него устриц, шампанское и фазанов. Он любит хорошо поужинать. После ужина он поедет в карете к ней. Она ждет его. Не правда ли, ему хорошо живется? Он счастлив! Но посмотрите, какая чепуха шевелится в его ожиревших мозгах!
«Я ряженый. Наедет ревизия, и все узнают, что я только ряженый!..»
* * *
На суде адвокат защищает подсудимую… Это хорошенькая женщина с донельзя печальным лицом, невинная! Видит бог, что она невинна! Глаза адвоката горят, щеки его пылают, в голосе слышны слезы… Он страдает за подсудимую, и если ее обвинят, он умрет с горя!.. Публика слушает его, замирает от наслаждения и боится, чтоб он не кончил. «Он поэт», — шепчут слушатели. Но он только нарядился поэтом!
«Дай мне истец сотней больше, я упек бы ее! — думает он. — В роли обвинителя я был бы эффектней!»
* * *
По деревне идет пьяный мужичонка, поет и визжит на гармонике. На лице его пьяное умиление. Он хихикает и подплясывает. Ему весело живется, не правда ли? Нет, он ряженый.
«Жрать хочется», — думает он.
* * *
Молодой профессор-врач читает вступительную лекцию. Он уверяет, что нет больше счастия, как служить науке. «Наука всё! — говорит он, — она жизнь!» И ему верят… Но его назвали бы ряженым, если бы слышали, что он сказал своей жене после лекции. Он сказал ей:
— Теперь я, матушка, профессор. У профессора практика вдесятеро больше, чем у обыкновенного врача. Теперь я рассчитываю на двадцать пять тысяч в год.
* * *
Шесть подъездов, тысяча огней, толпа, жандармы, барышники. Это театр. Над его дверями, как в Эрмитаже у Лентовского, написано: «Сатира и мораль». Здесь платят большие деньги, пишут длинные рецензии, много аплодируют и редко шикают… Храм!
Но этот храм ряженый. Если вы снимете «Сатиру и мораль», то вам нетрудно будет прочесть: «Канкан и зубоскальство».
(обратно)Двое в одном*
Не верьте этим иудам, хамелеонам! В наше время легче потерять веру, чем старую перчатку, — и я потерял!
Был вечер. Я ехал на конке. Мне, как лицу высокопоставленному, не подобает ездить на конке, но на этот раз я был в большой шубе и мог спрятаться в куний воротник. Да и дешевле, знаете… Несмотря на позднее и холодное время, вагон был битком набит. Меня никто не узнал. Куний воротник делал из меня incognito. Я ехал, дремал и рассматривал сих малых…
«Нет, это не он! — думал я, глядя на одного маленького человечка в заячьей шубенке. — Это не он! Нет, это он! Он!»
Думал я, верил и не верил своим глазам…
Человечек в заячьей шубенке ужасно походил на Ивана Капитоныча, одного из моих канцелярских… Иван Капитоныч — маленькое, пришибленное, приплюснутое создание, живущее для того только, чтобы поднимать уроненные платки и поздравлять с праздником. Он молод, но спина его согнута в дугу, колени вечно подогнуты, руки запачканы и по швам… Лицо его точно дверью прищемлено или мокрой тряпкой побито. Оно кисло и жалко; глядя на него, хочется петь «Лучинушку» и ныть. При виде меня он дрожит, бледнеет и краснеет, точно я съесть его хочу или зарезать, а когда я его распекаю, он зябнет и трясется всеми членами.
Приниженнее, молчаливее и ничтожнее его я не знаю никого другого. Даже и животных таких не знаю, которые были бы тише его…
Человечек в заячьей шубенке сильно напоминал мне этого Ивана Капитоныча: совсем он! Только человечек не был так согнут, как тот, не казался пришибленным, держал себя развязно и, что возмутительнее всего, говорил с соседом о политике. Его слушал весь вагон.
— Гамбетта помер! — говорил он, вертясь и махая руками. — Это Бисмарку на руку. Гамбетта ведь был себе на уме! Он воевал бы с немцем и взял бы контрибуцию, Иван Матвеич! Потому что это был гений. Он был француз, но у него была русская душа. Талант!
Ах ты, дрянь этакая!
Когда кондуктор подошел к нему с билетами, он оставил Бисмарка в покое.
— Отчего это у вас в вагоне так темно? — набросился он на кондуктора. — У вас свечей нет, что ли? Что это за беспорядки? Проучить вас некому! За границей вам задали бы! Не публика для вас, а вы для публики! Чёрт возьми! Не понимаю, чего это начальство смотрит!
Через минуту он требовал от нас, чтобы мы все подвинулись.
— Подвиньтесь! Вам говорят! Дайте мадаме место! Будьте повежливей! Кондуктор! Подите сюда, кондуктор! Вы деньги берете, дайте же место! Это подло!
— Здесь курить не велено! — крикнул ему кондуктор.
— Кто это не велел? Кто имеет право? Это посягательство на свободу! Я никому не позволю посягать на свою свободу! Я свободный человек!
Ах ты, тварь этакая! Я глядел на его рожицу и глазам не верил. Нет, это не он! Не может быть! Тот не знает таких слов, как «свобода» и «Гамбетта».
— Нечего сказать, хороши порядки! — сказал он, бросая папиросу. — Живи вот с этакими господами! Они помешаны на форме, на букве! Формалисты, филистеры! Душат!
Я не выдержал и захохотал. Услышав мой смех, он мельком взглянул на меня, и голос его дрогнул. Он узнал мой смех и, должно быть, узнал мою шубу. Спина его мгновенно согнулась, лицо моментально прокисло, голос замер, руки опустились по швам, ноги подогнулись. Моментально изменился! Я уже более не сомневался: это был Иван Капитоныч, мой канцелярский. Он сел и спрятал свой носик в заячьем меху.
Теперь я посмотрел на его лицо.
«Неужели, — подумал я, — эта пришибленная, приплюснутая фигурка умеет говорить такие слова, как „филистер“ и „свобода“? А? Неужели? Да, умеет. Это невероятно, но верно… Ах ты, дрянь этакая!»
Верь после этого жалким физиономиям этих хамелеонов!
Я уж больше не верю. Шабаш, не надуешь!
(обратно)Радость*
Было двенадцать часов ночи.
Митя Кулдаров, возбужденный, взъерошенный, влетел в квартиру своих родителей и быстро заходил по всем комнатам. Родители уже ложились спать. Сестра лежала в постели и дочитывала последнюю страничку романа. Братья-гимназисты спали.
— Откуда ты? — удивились родители. — Что с тобой?
— Ох, не спрашивайте! Я никак не ожидал! Нет, я никак не ожидал! Это… это даже невероятно!
Митя захохотал и сел в кресло, будучи не в силах держаться на ногах от счастья.
— Это невероятно! Вы не можете себе представить! Вы поглядите!
Сестра спрыгнула с постели и, накинув на себя одеяло, подошла к брату. Гимназисты проснулись.
— Что с тобой? На тебе лица нет!
— Это я от радости, мамаша! Ведь теперь меня знает вся Россия! Вся! Раньше только вы одни знали, что на этом свете существует коллежский регистратор Дмитрий Кулдаров, а теперь вся Россия знает об этом! Мамаша! О, господи!
Митя вскочил, побегал по всем комнатам и опять сел.
— Да что такое случилось? Говори толком!
— Вы живете, как дикие звери, газет не читаете, не обращаете никакого внимания на гласность, а в газетах так много замечательного! Ежели что случится, сейчас всё известно, ничего не укроется! Как я счастлив! О, господи! Ведь только про знаменитых людей в газетах печатают, а тут взяли да про меня напечатали!
— Что ты? Где?
Папаша побледнел. Мамаша взглянула на образ и перекрестилась. Гимназисты вскочили и, как были, в одних коротких ночных сорочках, подошли к своему старшему брату.
— Да-с! Про меня напечатали! Теперь обо мне вся Россия знает! Вы, мамаша, спрячьте этот нумер на память! Будем читать иногда. Поглядите!
Митя вытащил из кармана нумер газеты, подал отцу и ткнул пальцем в место, обведенное синим карандашом.
— Читайте!
Отец надел очки.
— Читайте же!
Мамаша взглянула на образ и перекрестилась. Папаша кашлянул и начал читать:
«29-го декабря, в одиннадцать часов вечера, коллежский регистратор Дмитрий Кулдаров…
— Видите, видите? Дальше!
…коллежский регистратор Дмитрий Кулдаров, выходя из портерной, что на Малой Бронной, в доме Козихина, и находясь в нетрезвом состоянии…
— Это я с Семеном Петровичем… Всё до тонкостей описано! Продолжайте! Дальше! Слушайте!
…и находясь в нетрезвом состоянии, поскользнулся и упал под лошадь стоявшего здесь извозчика, крестьянина дер. Дурыкиной, Юхновского уезда, Ивана Дротова. Испуганная лошадь, перешагнув через Кулдарова и протащив через него сани с находившимся в них второй гильдии московским купцом Степаном Луковым, помчалась по улице и была задержана дворниками. Кулдаров, вначале находясь в бесчувственном состоянии, был отведен в полицейский участок и освидетельствован врачом. Удар, который он получил по затылку…
— Это я об оглоблю, папаша. Дальше! Вы дальше читайте!
…который он получил по затылку, отнесен к легким. О случившемся составлен протокол. Потерпевшему подана медицинская помощь»…
— Велели затылок холодной водой примачивать. Читали теперь? А? То-то вот! Теперь по всей России пошло! Дайте сюда!
Митя схватил газету, сложил ее и сунул в карман.
— Побегу к Макаровым, им покажу… Надо еще Иваницким показать, Наталии Ивановне, Анисиму Васильичу… Побегу! Прощайте!
Митя надел фуражку с кокардой и, торжествующий, радостный, выбежал на улицу.
(обратно)Мысли читателя газет и журналов*
Не читайте Уфимских губернских ведомостей*: из них вы не почерпнете никаких сведений об Уфимской губернии.
Русская печать имеет в своем распоряжении множество источников света. Она имеет: комаровский Свет*, Зарю*, Радугу*, Свет и тени*, Луч*, Огонек*, Рассвет* et caet. Но почему же ей так темно?
Она имеет Наблюдателя*, Инвалида* и Сибирь*.
Печать имеет Развлечение*, Игрушечку*, но из этого не следует, что ей слишком весело…
Она имеет Голос* и Эхо* свои собственные… Да?
Что не долговечно, то не может кичиться своим Веком*…
Русь* имеет мало общего с Москвой*.
Русская мысль* высылается… в плотной обложке.
Имеются и Здоровье* и Врач*, а между тем — сколько могил!
(обратно)Отвергнутая любовь*
(Перевод с испанского)
I
Сквозь изменчивый узор высоко плывущих облаков глядит луна и заливает своим светом влюбленные пары, воркующие под тенью померанца и апельсина.
Воздух, сладострастно знойный и душный от запаха гелиотропа, еще более раскаляется от слов любви и песен. Сады, леса и воды, тихо засыпая, внемлют соловью… Любви, любви!
Перед окном одного из домиков стоит прекрасный гидальго. Он перебирает пальцами струны, дрожит, пламенеет и поет. Окно закрыто, но он не унывает: на то испанец он!* Его песнь зажжет сердце неприступной, окно уступит напору маленькой ручки, послушной сердцу, и — дело в шляпе с широкими полями!
II
Гидальго поет час, другой, третий… Восток начинает белеть и румяниться. На гитаре лопаются одна за другой квинта, терция… На лбу прекрасного лица выступает пот и начинает капать на горячую землю, а… он всё поет.
— Plenus venter non studet libenter! — поет он наконец. — Imperfectum conjunctivi passivi!*[1]
За окном слышны шаги. Наконец таки! Окно с визгом открывается, и в нем появляется донна, прелестная, чудная, знойная… Гидальго замирает от восторга и захлебывается счастьем. О, чудные мгновенья! Она высовывается наполовину из окна и, сверкая черными глазами, говорит:
— Вы перестанете когда-нибудь или нет? Подло и гнусно! Вы не даете мне спать! Если вы не перестанете, милостивый государь, то я принуждена буду спать с городовым.
III
Окно захлопывается. Гидальго закалывается. Протокол.
(обратно)Библиография*
Вышли из печати и продаются новые книги:
Об отмене пошлины на бамбуковые палки, вывозимые из Китая. Брошюра. Ц. 40 к.
Искусственное разведение ежей. Для фабрикующих рукавицы. Соч. отставного прапорщика Раздавилова. Ц. 15 коп. Издание общедоступное.
Путеводитель по Сибири и ее окраинам. С картой и портретом г. Юханцева*. Сод. I. Лучшие рестораны. II. Портные, каретники, куаферы. III. Адресы «этих дам». IV. Указатель богатых невест. V. Из записной книжки Юханцева (анекдоты, сценки, посвящения).
Настольная книга для гг. интендантов и кассиров. Издание Буша и Макшеева. Ц. 3 р. 50 к.
Есть ли в России деньги и где они? Соч. Рыкова. Ц. 1 р.
Засаленный патриот. Ода. Посвящение самому себе. Соч. князя М. Е. Щерского*. Благонамеренные же благоволят высылать по 1 р. за экземпляр.
Способ уловлять вселенную. Брошюра урядника Людоедова-Хватова. Ц. 60 к.
(обратно)Единственное средство*
(A propos процесса Петерб. общества взаимного кредита)
Было время, когда кассиры грабили и наше Общество. Страшно вспомнить! Они не обкрадывали, а буквально вылизывали нашу бедную кассу. Нутро нашей кассы было обито зеленым бархатом — и бархат украли. А один так увлекся, что вместе с деньгами утащил замок и крышку. За последние пять лет у нас перебывало девять кассиров, и все девять шлют нам теперь в большие праздники из Красноярска свои визитные карточки. Все девять!
— Это ужасно! Что делать? — вздыхали мы, когда отдавали под суд девятого. — Стыд, срам! Все девять подлецы!
И стали мы судить и рядить: кого взять в кассиры? Кто не мерзавец? Кто не вор? Выбор наш пал на Ивана Петровича, помощника бухгалтера: тихоня, богомольный и живет по-свински, не комфортабельно. Мы его выбрали, благословили на борьбу с искушениями и успокоились, но… не надолго!
На другой же день Иван Петрович явился в новом галстухе. На третий он приехал в правление на извозчике, чего раньше с ним никогда не было.
— Вы заметили? — шептались мы через неделю. — Новый галстух… Пенсне… Вчера на именины приглашал. Что-то есть… Богу стал чаще молиться… Надо полагать, совесть нечиста…
Сообщили свои сомнения его превосходительству.
— Неужели и десятый окажется канальей? — вздохнул наш директор. — Нет, это невозможно… Человек такой нравственный, тихий… Впрочем… пойдемте к нему!
Подошли к Ивану Петровичу и окружили его кассу.
— Извините, Иван Петрович, — обратился к нему директор умоляющим голосом. — Мы доверяем вам… Верим! М-да… Но, знаете ли… Позвольте обревизовать кассу! Уж вы позвольте!
— Извольте-с! Очень хорошо-с! — бойко ответил кассир. — Сколько угодно-с!
Начали считать. Считали, считали и недосчитались четырехсот рублей… И этот?! И десятый?! Ужасно! Это во-первых; а во-вторых, если он в неделю прожрал столько денег, то сколько же украдет он в год, в два! Мы остолбенели от ужаса, изумления, отчаяния… Что делать? Ну, что? Под суд его? Нет, это старо и бесполезно. Одиннадцатый тоже украдет, двенадцатый тоже… Всех не отдашь под суд. Вздуть его? Нельзя, обидится… Изгнать и позвать вместо него другого? Но ведь одиннадцатый тоже украдет! Как быть? Красный директор и бледные мы глядели в упор на Ивана Петровича и, опершись о желтую решетку, думали… Мы думали, напрягали мозги и страдали… А он сидел и невозмутимо пощелкивал на счетах, точно не он украл… Мы долго молчали.
— Ты куда девал эти деньги? — обратился к нему наконец наш директор со слезами и дрожью в голосе.
— На нужды, ваше превосходительство!
— Гм… На нужды… Очень рад! Молчать! Я тттебе…
Директор прошелся по комнате и продолжал:
— Что же делать? Как уберечься от подобных… идолов? Господа, чего же вы молчите? Что делать? Не пороть же его, каналью! (Директор задумался.) Послушай, Иван Петрович… Мы взнесем эти деньги, не станем срамиться оглаской, чёрт с тобой, только ты откровенно, без экивок… Женский пол любишь, что ли?
Иван Петрович улыбнулся и сконфузился.
— Ну, понятно, — сказал директор. — Кто их не любит? Это понятно… Все грешны… Все мы жаждем любви, сказал какой-то… философ… Мы тебя понимаем… Вот что… Ежели ты так уж любишь, то изволь: я дам тебе письмо к одной… Она хорошенькая… Езди к ней на мой счет. Хочешь? И к другой дам письмо… И к третьей дам письмо!.. Все три хорошенькие, говорят по-французски… пухленькие… Вино тоже любишь?
— Вина разные бывают, ваше превосходительство… Лиссабонского, например, я и в рот не возьму… Каждый напиток, ваше превосходительство, имеет, так сказать, свое значение…
— Не рассуждай… Каждую неделю буду присылать тебе дюжину шампанского. Жри, но не трать ты денег, не конфузь ты нас! Не приказываю, а умоляю! Театр тоже, небось, любишь?
И так далее… В конце концов мы порешили, помимо шампанского, абонировать для него кресло в театре, утроить жалованье, купить ему вороных, еженедельно отправлять его за город на тройке — всё это в счет Общества. Портной, сигары, фотография, букеты бенефицианткам, меблировка — тоже общественные… Пусть наслаждается, только, пожалуйста, пусть не ворует! Пусть что хочет делает, только не ворует!
И что же? Прошел уже год, как Иван Петрович сидит за кассой, и мы не можем нахвалиться нашим кассиром. Всё честно и благородно… Не ворует… Впрочем, во время каждой еженедельной ревизии недосчитываются 10–15 руб., но ведь это не деньги, а пустяки. Что-нибудь да надо же отдавать в жертву кассирскому инстинкту. Пусть лопает, лишь бы тысяч не трогал.
И мы теперь благоденствуем… Касса наша всегда полна. Правда, кассир обходится нам очень дорого, но зато он в десять раз дешевле каждого из девяти его предшественников. И могу вам ручаться, что редкое общество и редкий банк имеют такого дешевого кассира! Мы в выигрыше, а посему странные чудаки будете вы, власть имущие, если не последуете нашему примеру!
(обратно)Случаи mania grandiosa**
(Вниманию газеты «Врач»)
Что цивилизация, помимо пользы, принесла человечеству и страшный вред, никто не станет сомневаться. Особенно настаивают на этом медики, не без основания видящие в прогрессе причину нервных расстройств, так часто наблюдаемых в последние десятки лет. В Америке и Европе на каждом шагу вы встретите все виды нервных страданий, начиная с простой невралгии и кончая тяжелым психозом. Мне самому приходилось наблюдать случаи тяжелого психоза, причины которого нужно искать только в цивилизации.
Я знаю одного отставного капитана, бывшего станового. Этот человек помешан на тему: «Сборища воспрещены». И только потому, что сборища воспрещены, он вырубил свой лес, не обедает с семьей, не пускает на свою землю крестьянское стадо и т. п. Когда его пригласили однажды на выборы, он воскликнул:
— А вы разве не знаете, что сборища воспрещены?
Один отставной урядник, изгнанный, кажется, за правду или за лихоимство (не помню, за что именно), помешан на тему: «А посиди-ка, братец!» Он сажает в сундук кошек, собак, кур и держит их взаперти определенные сроки. В бутылках сидят у него тараканы, клопы, пауки. А когда у него бывают деньги, он ходит по селу и нанимает желающих сесть под арест.
— Посиди, голубчик! — умоляет он. — Ну, что тобе стоит? Ведь выпущу! Уважь характеру!
Найдя охотника, он запирает его, сторожит день и ночь и выпускает на волю не ранее определенного срока.
Мой дядя, интендант, кушает гнилые сухари и носит бумажные подметки. Он щедро награждает тех из домашних, которые подражают ему.
Мой зять, акцизный, помешан на идее: «Гласность — фря!» Когда-то его отщелкали в газетах за вымогательство, и это послужило поводом к его умопомешательству. Он выписывает почти все столичные газеты, но не для того, чтобы читать их. В каждом полученном номере он ищет «предосудительное»; найдя таковое, он вооружается цветным карандашом и марает. Измарав весь номер, он отдает его кучерам на папиросы и чувствует себя здоровым впредь до получения нового номера.
(обратно)Темною ночью*
Ни луны, ни звезд… Ни контуров, ни силуэтов, ни одной мало-мальски светлой точки… Всё утонуло в сплошном, непроницаемом мраке. Глядишь, глядишь и ничего не видишь, точно тебе глаза выкололи… Дождь жарит, как из ведра… Грязь страшная…
По проселочной дороге плетется пара почтовых кляч. В таратайке сидит мужчина в шинели инженера-путейца. Рядом с ним его жена. Оба промокли. Ямщик пьян как стелька. Коренной хромает, фыркает, вздрагивает и плетется еле-еле… Пугливая пристяжная то и дело спотыкается, останавливается и бросается в сторону. Дорога ужасная… Что ни шаг, то колдобина, бугор, размытый мостик. Налево воет волк; направо, говорят, овраг.
— Не сбились ли мы с дороги? — вздыхает инженерша. — Ужасная дорога! Не вывороти нас!
— Зачем выворачивать? Ээ…т! Какая мне надомность вас выворачивать? Эх, по… подлая! Дрожи! Ми…лая!
— Мы, кажется, сбились с дороги, — говорит инженер. — Куда ты везешь, дьявол? Не видишь, что ли? Разве это дорога?
— Стало быть, дорога!..
— Грунт не тот, пьяная морда! Сворачивай! Поворачивай вправо! Ну, погоняй! Где кнут?
— По… потерял, ваше высоко…
— Убью, коли что… Помни! Погоняй, подлец! Стой, куда едешь? Разве там дорога?
Лошади останавливаются. Инженер вскакивает, нависает на ямщицкие плечи, натягивает вожжи и тянет за правую. Коренной шлепает по грязи, круто поворачивает и вдруг, ни с того ни с сего, начинает как-то странно барахтаться… Ямщик сваливается и исчезает, пристяжная цепляется за какой-то утес, и инженер чувствует, что таратайка вместе с пассажирами летит куда-то к чёрту… · · ·
Овраг не глубок. Инженер поднимается, берет в охапку жену и выкарабкивается наверх. Наверху, на краю оврага, сидит ямщик и стонет. Путеец подскакивает к нему и, подняв вверх кулаки, готов растерзать, уничтожить, раздавить…
— Убью, ррразбойник! — кричит он.
Кулак размахнулся и уже на половине дороги к ямщицкой физии… Еще секунда и…
— Миша, вспомни Кукуевку!* — говорит жена.
Миша вздрагивает и его грозный кулак останавливается на полпути. Ямщик спасен.
(обратно)Исповедь*
День был ясный, морозный… На душе было вольготно, хорошо, как у извозчика, которому по ошибке вместо двугривенного золотой дали. Хотелось и плакать, и смеяться, и молиться… Я чувствовал себя на шестнадцатом небе: меня, человека, переделали в кассира! Радовался я не потому, что хапать уже можно было. Я тогда еще не был вором и искрошил бы того, кто сказал бы мне, что я со временем цапну… Радовался я другому: повышению по службе и ничтожной прибавке жалованья — только всего.
Меня, впрочем, радовало и другое обстоятельство. Ставши кассиром, я тотчас же почувствовал на своем носу нечто вроде розовых очков. Мне вдруг стало казаться, что люди изменились. Честное слово! Все стали как будто бы лучше. Уроды стали красавцами, злые добрыми, гордые смиренными, мизантропы филантропами. Я как будто бы просветлел. Я увидел в человеке такие чудные качества, каких ранее и не подозревал. «Странно! — говорил я, глядя на людей и протирая глаза. — Или с ними что-нибудь поделалось, или же я ранее был глуп и не замечал всех этих качеств. Прелесть что за люди!»
В день моего назначения изменился и З. Н. Казусов, один из членов нашего правления, человек гордый, надменный, игнорирующий мелкую рыбицу. Он подошел ко мне и — что с ним поделалось? — ласково улыбаясь, начал хлопать меня по плечу.
— Горды вы, батенька, не по летам, — сказал он мне. — Нехорошо! Отчего никогда не зайдете? Грешно, сударь! А у меня собирается молодежь, весело так бывает. Дочки всё спрашивают: «Отчего это вы, папаша, не позовете Григория Кузьмича? Ведь он такой милый!» Да разве затащишь его? Впрочем, говорю, попробую, приглашу… Не ломайтесь же, батенька, приходите!
Удивительно! Что с ним? Не спятил ли он с ума? Был человек людоедом и вдруг… на тебе!
Придя в тот же день домой, я был поражен. Моя мамаша подала за обедом не два блюда, как всегда, а четыре. Вечером подала к чаю варенье и сдобный хлеб. На другой день опять четыре блюда, опять варенье. Гости были и шоколад пили. На третий день то же.
— Мамаша! — сказал я. — Что с вами? Чего ради вы так расщедрились, милая? Ведь жалованье мое не удвоили. Надбавка пустяшная.
Мамаша взглянула на меня с удивлением.
— Гм. Куда же тебе деньги девать? — спросила она. — Копить будешь, что ли?
Чёрт их разберет! Папаша заказал себе шубу, купил новую шапку, стал лечиться минеральными водами и виноградом (зимой?!?). А дней через пять я получил письмо от брата. Этот брат терпеть не мог меня. Мы разошлись с ним из-за убеждений: ему казалось, что я эгоист, дармоед, не умею жертвовать собой, и он ненавидел меня за это. В письме я прочел следующее: «Милый брат! Я люблю тебя, и ты не можешь себе представить, какие адские муки доставляет мне наша ссора. Давай помиримся! Протянем друг другу руки, и да восторжествует мир! Умоляю тебя! В ожидании ответа остаюсь любящий, целующий и обнимающий Евлампий». О, милый брат! Я ответил ему, что я лобызаю его и радуюсь. Через неделю я получил от него телеграмму: «Благодарю, счастлив. Вышли сто рублей. Весьма нужны. Обнимающий Е.» Выслал ему сто рублей…
Изменилась даже и она! Она не любила меня. Когда я однажды дерзнул намекнуть ей, что в моем сердце что-то неладно, она назвала меня нахалом и фыркнула мне в лицо. Встретив же меня через неделю после моего назначения, она улыбнулась, сделала на лице ямочки, сконфузилась…
— Что это с вами? — спросила она, глядя на меня. — Вы так похорошели. Когда это вы успели? Пойдемте плясать…
Душечка! Через месяц ее маменька была уж моей тещей: так я похорошел! К свадьбе нужны были деньги, и я взял из кассы триста рублей. Отчего не взять, если знаешь, что положишь обратно, когда получишь жалованье? Взял кстати и для Казусова сто рублей… Просил взаймы… Ему нельзя не дать. Он у нас воротила и может каждую минуту спихнуть с места… (Редактор, найдя, что рассказ несколько длинен, вычеркнул, в ущерб авторскому дивиденду, на этом самом месте восемьдесят три строки.)
· · ·
За неделю до ареста по их просьбе я давал им вечер. Чёрт с ними, пусть полопают и пожрут, коли им этого так хочется! Я не считал, сколько человек было у меня на этом вечере, но помню, что все мои девять комнат были запружены народом. Были старшие и младшие… Были и такие, пред которыми гнулся в дугу даже сам Казусов. Дочери Казусова (старшая — моя обже[2]) ослепляли своими нарядами… Одни цветы, покрывавшие их, стоили мне более тысячи рублей! Было очень весело… Гремела музыка, сверкали люстры, лилось шампанское… Произносились длинные речи и короткие тосты… Один газетчик поднес мне оду, а другой балладу…
— У нас в России не умеют ценить таких людей, как Григорий Кузьмич! — прокричал за ужином Казусов. — Очень жаль! жаль Россию!
И все эти кричавшие, подносившие, лобызавшие шептались и показывали мне кукиш, когда я отворачивался… Я видел улыбки, кукиши, слышал вздохи…
— Украл, подлец! — шептали они, злорадно ухмыляясь.
Ни кукиши, ни вздохи не помешали им, однако, есть, пить и наслаждаться…
Волки и страдающие диабетом не едят так, как они ели… Жена, сверкавшая бриллиантами и золотом, подошла ко мне и шепнула:
— Там говорят, что ты… украл. Если это правда, то… берегись! Я не могу жить с вором! Я уйду!
Говорила она это и поправляла свое пятитысячное платье… Чёрт их разберет! В этот же вечер Казусов взял с меня пять тысяч… Столько же взял взаймы и Евлампий…
— Если там шепчут правду, — сказал мне брат-принципист, кладя в карман деньги, — то… берегись! Я не могу быть братом вора!
После бала всех их я повез на тройках за город…
Был шестой час утра, когда мы кончили… Обессилев от вина и женщин, они легли в сани, чтобы ехать обратно… Когда сани тронулись, они крикнули мне на прощанье:
— Завтра ревизия!.. Merci!
* * *
Милостивые государи и милостивые государыни! Я попался… Попался, или, выражаясь длиннее: вчера я был порядочен, честен, лобызаем во все части, сегодня же я жулик, мошенник, вор… Кричите же теперь, бранитесь, трезвоньте, изумляйтесь, судите, высылайте, строчите передовые, бросайте каменья, но только… пожалуйста, не все! Не все!
(обратно)На магнетическом сеансе*
Большая зала светилась огнями и кишела народом. В ней царил магнетизер. Он, несмотря на свою физическую мизерность и несолидность, сиял, блистал и сверкал. Ему улыбались, аплодировали, повиновались… Перед ним бледнели.
Делал он буквально чудеса. Одного усыпил, другого окоченил, третьего положил затылком на один стул, а пятками на другой… Одного тонкого и высокого журналиста согнул в спираль. Делал, одним словом, чёрт знает что. Особенно сильное влияние имел он на дам.
Они падали от его взгляда, как мухи. О, женские нервы! Не будь их, скучно жилось бы на этом свете!
Испытав свое чертовское искусство на всех, магнетизер подошел и ко мне.
— Мне кажется, что у вас очень податливая натура, — сказал он мне. — Вы так нервны, экспрессивны… Не угодно ли вам уснуть?
Отчего не уснуть? Изволь, любезный, пробуй. Я сел на стул среди залы. Магнетизер сел на стул vis-à-vis, взял меня за руки и своими страшными змеиными глазами впился в мои бедные глаза.
Нас окружила публика.
— Тссс… Господа! Тссс… Тише!
Утихомирились… Сидим, смотрим в зрачки друг друга… Проходит минута, две… Мурашки забегали по спине, сердце застучало, но спать не хотелось…
Сидим… Проходит пять минут, семь…
— Он не поддается! — сказал кто-то. — Браво! Молодец мужчина!
Сидим, смотрим… Спать не хочется и даже не дремлется… От думского или земского протокола я давно бы уже спал… Публика начинает шептаться, хихикать… Магнетизер конфузится и начинает мигать глазами… Бедняжка! Кому приятно потерпеть фиаско? Спасите его, духи, пошлите на мои веки Морфея!
— Не поддается! — говорит тот же голос. — Довольно, бросьте! Говорил же я, что всё это фокусы!
И вот, в то время, когда я, вняв голосу приятеля, сделал движение, чтобы подняться, моя рука нащупала на своей ладони посторонний предмет… Пустив в ход осязание, я узнал в этом предмете бумажку. Мой папаша был доктором, а доктора одним осязанием узнают качество бумажки. По теории Дарвина я со многими другими способностями унаследовал от папаши и эту милую способность. В бумажке узнал я пятирублевку. Узнав, я моментально уснул.
— Браво, магнетизер!
Доктора, бывшие в зале, подошли ко мне, повертелись, понюхали и сказали:
— Н-да… Усыплен…
Магнетизер, довольный успехом, помахал над моей головой руками, и я, спящий, зашагал по зале.
— Тетанируйте его руку! — предложил кто-то. — Можете? Пусть его рука окоченеет…
Магнетизер (не робкий человек!) вытянул мою правую руку и начал производить над ней свои манипуляции: потрет, подует, похлопает. Моя рука не повиновалась. Она болталась, как тряпка, и не думала коченеть.
— Нет тетануса! Разбудите его, а то ведь вредно… Он слабенький, нервный…
Тогда моя левая рука почувствовала на своей ладони пятирублевку… Раздражение путем рефлекса передалось с левой на правую, и моментально окоченела рука.
— Браво! Поглядите, какая твердая и холодная! Как у мертвеца!
— Полная анестезия, понижение температуры и ослабление пульса, — доложил магнетизер.
Доктора начали щупать мою руку.
— Да, пульс слабее, — заметил один из них. — Полный тетанус. Температура много ниже…
— Чем же это объяснить? — спросила одна из дамочек.
Доктор значительно пожал плечами, вздохнул и сказал:
— Мы имеем только факты! Объяснений — увы! — нет…
Вы имеете факты, а я две пятирублевки. Мои дороже… Спасибо магнетизму и за это, а объяснений мне не нужно…
Бедный магнетизер! И зачем ты со мной, с аспидом, связался?
P. S. Ну, не проклятие ли? Не свинство ли?
Сейчас только узнал, что пятирублевки вкладывал в мой кулак не магнетизер, а Петр Федорыч, мой начальник…
— Это, — говорит, — я тебе для того сделал, чтобы узнать твою честность…
Ах, чёрт возьми!
— Стыдно, брат… Нехорошо… Не ожидал…
— Но ведь у меня дети, ваше превосходительство… Жена… Мать… При нонешней дороговизне…
— Нехорошо… А еще тоже газету свою издавать хочешь… Плачешь, когда на обедах речи читаешь… Стыдно… Думал, что ты честный человек, а выходит, что ты… хапен зи гевезен*…
Пришлось возвратить ему две пятирублевки. Что ж делать? Реноме дороже денег.
— На тебя я не сержусь! — говорит начальник. — Чёрт с тобой, натура уж у тебя такая… Но она! Она! У-ди-вительно! Она! кротость, невинность, бланманже и прочее! А? Ведь и она польстилась на деньги! Тоже уснула!
Под словом она мой начальник подразумевает свою супругу, Матрену Николаевну…
(обратно)Ушла*
Пообедали. В стороне желудков чувствовалось маленькое блаженство, рты позевывали, глаза начали суживаться от сладкой дремоты. Муж закурил сигару, потянулся и развалился на кушетке. Жена села у изголовья и замурлыкала… Оба были счастливы. — Расскажи что-нибудь… — зевнул муж.
— Что же тебе рассказать? Мм… Ах, да! Ты слышал? Софи Окуркова вышла замуж за этого… как его… за фон Трамба! Вот скандал!
— В чем же тут скандал?
— Да ведь Трамб подлец! Это такой негодяй… такой бессовестный человек! Без всяких принципов! Урод нравственный! Был у графа управляющим — нажился, теперь служит на железной дороге и ворует… Сестру ограбил… Негодяй и вор, одним словом. И за этакого человека выходить замуж?! Жить с ним?! Удивляюсь! Такая нравственная девушка и… на́ тебе! Ни за что бы не вышла за такого субъекта! Будь он хоть миллионер! Будь красив, как не знаю что, я плюнула бы на него! И представить себе не могу мужа-подлеца!
Жена вскочила и, раскрасневшаяся, негодующая, прошлась по комнате. Глазки загорелись гневом. Искренность ее была очевидна…
— Этот Трамб такая тварь! И тысячу раз глупы и пошлы те женщины, которые выходят за таких господ!
— Тэк-с… Ты, разумеется, не вышла бы… Н-да… Ну, а если бы ты сейчас узнала, что я тоже… негодяй? Что бы ты сделала?
— Я? Бросила бы тебя! Не осталась бы с тобой ни на одну секунду! Я могу любить только честного человека! Узнай я, что ты натворил хоть сотую долю того, что сделал Трамб, я… мигом! Adieu тогда!
— Тэк… Гм… Какая ты у меня… А я и не знал… Хе-хе-хе… Врет бабенка и не краснеет!
— Я никогда не лгу! Попробуй-ка сделать подлость, тогда и увидишь!
— К чему мне пробовать? Сама знаешь… Я еще почище твоего фон Трамба буду… Трамб — комашка сравнительно. Ты делаешь большие глаза? Это странно… (Пауза.) Сколько я получаю жалованья?
— Три тысячи в год.
— А сколько стоит колье, которое я купил тебе неделю тому назад? Две тысячи… Не так ли? Да вчерашнее платье пятьсот… Дача две тысячи… Хе-хе-хе. Вчера твой papa выклянчил у меня тысячу…
— Но, Пьер, побочные доходы ведь…
— Лошади… Домашний доктор… Счеты от модисток. Третьего дня ты проиграла в стуколку сто рублей…
Муж приподнялся, подпер голову кулаками и прочел целый обвинительный акт. Подойдя к письменному столу, он показал жене несколько вещественных доказательств…
— Теперь ты видишь, матушка, что твой фон Трамб — ерунда, карманный воришка сравнительно со мной… Adieu! Иди и впредь не осуждай!
Я кончил. Быть может, читатель еще спросит:
— И она ушла от мужа?
Да, ушла… в другую комнату.
(обратно)В цирульне*
Утро. Еще нет и семи часов, а цирульня Макара Кузьмича Блесткина уже отперта. Хозяин, малый лет двадцати трех, неумытый, засаленный, но франтовато одетый, занят уборкой. Убирать, в сущности, нечего, но он вспотел, работая. Там тряпочкой вытрет, там пальцем сколупнет, там клопа найдет и смахнет его со стены.
Цирульня маленькая, узенькая, поганенькая. Бревенчатые стены оклеены обоями, напоминающими полинялую ямщицкую рубаху. Между двумя тусклыми, слезоточивыми окнами — тонкая, скрипучая, тщедушная дверца, над нею позеленевший от сырости колокольчик, который вздрагивает и болезненно звенит сам, без всякой причины. А поглядите вы в зеркало, которое висит на одной из стен, и вашу физиономию перекосит во все стороны самым безжалостным образом! Перед этим зеркалом стригут и бреют. На столике, таком же неумытом и засаленном, как сам Макар Кузьмич, всё есть: гребенки, ножницы, бритвы, фиксатуара на копейку, пудры на копейку, сильно разведенного одеколону на копейку. Да и вся цирульня не стоит больше пятиалтынного.
Над дверью раздается взвизгиванье больного колокольчика, и в цирульню входит пожилой мужчина в дубленом полушубке и валенках. Его голова и шея окутаны женской шалью.
Это Эраст Иваныч Ягодов, крестный отец Макара Кузьмича. Когда-то он служил в консистории в сторожах, теперь же живет около Красного пруда и занимается слесарством.
— Макарушка, здравствуй, свет! — говорит он Макару Кузьмичу, увлекшемуся уборкой.
Целуются. Ягодов стаскивает с головы шаль, крестится и садится.
— Даль-то какая! — говорит он, кряхтя. — Шутка ли? От Красного пруда до Калужских ворот.
— Как поживаете-с?
— Плохо, брат. Горячка была.
— Что вы? Горячка!
— Горячка. Месяц лежал, думал, что помру. Соборовался. Теперь волос лезет. Доктор постричься приказал. Волос, говорит, новый пойдет, крепкий. Вот я и думаю в уме: пойду-ка к Макару. Чем к кому другому, так лучше уж к родному. И сделает лучше, и денег не возьмет. Далеконько немножко, оно правда, да ведь это что ж? Та же прогулка.
— Я с удовольствием. Пожалуйте-с!
Макар Кузьмич, шаркнув ногой, указывает на стул. Ягодов садится и глядит на себя в зеркало, и видимо доволен зрелищем: в зеркале получается кривая рожа с калмыцкими губами, тупым, широким носом и с глазами на лбу. Макар Кузьмич покрывает плечи своего клиента белой простыней с желтыми пятнами и начинает визжать ножницами.
— Я вас начисто, догола! — говорит он.
— Натурально. На татарина чтоб похож был, на бомбу. Волос гуще пойдет.
— Тетенька как поживают-с?
— Ничего, живет себе. Намедни к майорше принимать ходила. Рубль дали.
— Так-с. Рубль. Придержите ухо-с!
— Держу… Не обрежь, смотри. Ой, больно! Ты меня за волосья дергаешь.
— Это ничего-с. Без этого в нашем деле невозможно. А как поживают Анна Эрастовна?
— Дочка? Ничего, прыгает. На прошлой неделе, в среду, за Шейкина просватали. Отчего не приходил?
Ножницы перестают визжать. Макар Кузьмич опускает руки и спрашивает испуганно:
— Кого просватали?
— Анну.
— Это как же-с? За кого?
— За Шейкина, Прокофия Петрова. В Златоустенском переулке его тетка в экономках. Хорошая женщина. Натурально, все мы рады, слава богу. Через неделю свадьба. Приходи, погуляем.
— Да как же это так, Эраст Иваныч? — говорит Макар Кузьмич, бледный, удивленный, и пожимает плечами. — Как же это возможно? Это… это никак невозможно! Ведь Анна Эрастовна… ведь я… ведь я чувства к ней питал, я намерение имел. Как же так?
— Да так. Взяли и просватали. Человек хороший.
На лице у Макара Кузьмича выступает холодный пот. Он кладет на стол ножницы и начинает тереть себе кулаком нос.
— Я намерение имел… — говорит он. — Это невозможно, Эраст Иваныч! Я… я влюблен и предложение сердца делал… И тетенька обещали. Я всегда уважал вас, всё равно как родителя… стригу вас всегда задаром… Всегда вы от меня одолжение имели и, когда мой папаша скончался, вы взяли диван и десять рублей денег и назад мне не вернули. Помните?
— Как не помнить! Помню. Только какой же ты жених, Макар? Нешто ты жених? Ни денег, ни звания, ремесло пустяшное…
— А Шейкин богатый?
— Шейкин в артельщиках. У него в залоге лежит полторы тысячи. Так-то, брат… Толкуй не толкуй, а дело уж сделано. Назад не воротишь, Макарушка. Другую себе ищи невесту… Свет не клином сошелся. Ну, стриги! Что же стоишь?
Макар Кузьмич молчит и стоит недвижим, потом достает из кармана платочек и начинает плакать.
— Ну, чего! — утешает его Эраст Иваныч. — Брось! Эка, ревет, словно баба! Ты оканчивай мою голову, да тогда и плачь. Бери ножницы!
Макар Кузьмич берет ножницы, минуту глядит на них бессмысленно и роняет на стол. Руки у него трясутся.
— Не могу! — говорит он. — Не могу сейчас, силы моей нет! Несчастный я человек! И она несчастная! Любили мы друг друга, обещались, и разлучили нас люди недобрые без всякой жалости. Уходите, Эраст Иваныч! Не могу я вас видеть.
— Так я завтра приду, Макарушка. Завтра дострижешь.
— Ладно.
— Поуспокойся, а я к тебе завтра, пораньше утром.
У Эраста Иваныча половина головы выстрижена догола, и он похож на каторжника. Неловко оставаться с такой головой, но делать нечего. Он окутывает голову и шею шалью и выходит из цирульни. Оставшись один, Макар Кузьмич садится и продолжает плакать потихоньку.
На другой день рано утром опять приходит Эраст Иваныч.
— Вам что угодно-с? — спрашивает его холодно Макар Кузьмич.
— Достриги, Макарушка. Полголовы еще осталось.
— Пожалуйте деньги вперед. Задаром не стригу-с.
Эраст Иваныч, не говоря ни слова, уходит, и до сих пор еще у него на одной половине головы волосы длинные, а на другой — короткие. Стрижку за деньги он считает роскошью и ждет, когда на остриженной половине волосы сами вырастут. Так и на свадьбе гулял.
(обратно)Современные молитвы*
Аполлону. — Проваливай!
Эвтерпе, музе музыки. — Молит тебя кончивший курс в консерватории и бравший уроки у Рубинштейна! Нет ли у тебя, матушка, где-нибудь на примете местечка тапера в богатом купеческом доме? Научи меня также сочинять тридцатикопеечные польки и кадрили! A propos: не можешь ли ты спихнуть с места нашу первую скрипку? Пора бы мне перестать быть второй… Голос из публики: Комаринска…ва!!! Наяривай!
Урании, музе астрономии (молящийся робко оглядывается, конфузится и тихо): — А все-таки она вертится! (Громко): Нельзя ли обложить сбором планеты и кометы? Разведай-ка и постарайся! Процент получишь. Голос из публики: А все-таки она не вертится!
Полигимнии, музе пения. — Хочется мне, муза, перебраться из оперы в буфф, да как-то, знаешь, неловко… А в буффе дороже платят и слава тамошняя ахтительней… Возьми от меня щепетильность! Испорти голоса моих товарищей, дабы я был лучше их, посели среди них интригу и сокруши рецензентов! Голос из публики: Спойте что-нибудь, молодой человек!
Каллиопе, музе эпической поэзии. — Убавь во мне поэтического жара, отними у меня темы, учетвери цензуру; отколоти меня, делай что хочешь со мной, но только прибавь мне по копейке на строчку. Вразуми, о муза, платящих!
Мельпомене, музе театра. — Отдай нам наши бенефисы, бесстыдница! Купчих побольше! Антрепризу!
Эрате, музе эротической поэзии. — С тех пор, как я стал тебе молиться, Эраточка, ни одно мое стихотворение не было похерено. Все прошли! Тралала! Тралала! Нет поэта модней меня! Но… все-таки недоволен: поэзию-декольте не всюду пускают. Вразуми невежд! Голос из публики: Да здравствует Салон де варьете*!
Терпсихоре, музе танцев. — Наполни первые ряды плешивыми, беззубыми старцами, разожги их холодную кровь! Упраздни драму, комедию и трагедию и реставрируй древнюю славу балета! Голос из публики: Канкан! Выходи на середину! Пст! Пст!
Талии, музе комедии. — Не нужно мне славы Островского… Нет! Не сошьешь сапог из бессмертия! Дай ты мне силу и мощь Виктора Александрова*, пишущего по десяти комедий в вечер! Денег-то сколько, матушка!
Клио, музе истории. — (Голос из публики): Мимо! Не замечай нас! Чего глазищи вытаращила? Не видала никогда безобразий, что ли?
Бахусу и Венере. — Вашшшу руку! Merci-с! Честь и место!
(обратно)На гвозде*
По Невскому плелась со службы компания коллежских регистраторов и губернских секретарей. Их вел к себе на именины именинник Стручков.
— Да и пожрем же мы сейчас, братцы! — мечтал вслух именинник. — Страсть как пожрем! Женка пирог приготовила. Сам вчера вечером за мукой бегал. Коньяк есть… воронцовская… Жена, небось, заждалась!
Стручков обитал у чёрта на куличках. Шли, шли к нему и наконец пришли. Вошли в переднюю. Носы почувствовали запах пирога и жареного гуся.
— Чувствуете? — спросил Стручков и захихикал от удовольствия. — Раздевайтесь, господа! Кладите шубы на сундук! А где Катя? Эй, Катя! Сбор всех частей прикатил! Акулина, поди помоги господам раздеться!
— А это что такое? — спросил один из компании, указывая на стену.
На стене торчал большой гвоздь, а на гвозде висела новая фуражка с сияющим козырьком и кокардой. Чиновники поглядели друг на друга и побледнели.
— Это его фуражка! — прошептали они. — Он… здесь!?!
— Да, он здесь, — пробормотал Стручков. — У Кати… Выйдемте, господа! Посидим где-нибудь в трактире, подождем, пока он уйдет.
Компания застегнула шубы, вышла и лениво поплелась к трактиру.
— Гусем у тебя пахнет, потому что гусь у тебя сидит! — слиберальничал помощник архивариуса. — Черти его принесли! Он скоро уйдет?
— Скоро. Больше двух часов никогда не сидит. Есть хочется! Перво-наперво мы водки выпьем и килечкой закусим… Потом повторим, братцы… После второй сейчас же пирог. Иначе аппетит пропадет… Моя женка хорошо пироги делает. Щи будут…
— А сардин купил?
— Две коробки. Колбаса четырех сортов… Жене, должно быть, тоже есть хочется… Ввалился, чёрт!
Часа полтора посидели в трактире, выпили для блезиру по стакану чаю и опять пошли к Стручкову. Вошли в переднюю. Пахло сильней прежнего. Сквозь полуотворенную кухонную дверь чиновники увидели гуся и чашку с огурцами. Акулина что-то вынимала из печи.
— Опять неблагополучно, братцы!
— Что такое?
Чиновные желудки сжались от горя: голод не тетка, а на подлом гвозде висела кунья шапка.
— Это Прокатилова шапка, — сказал Стручков. — Выйдемте, господа! Переждем где-нибудь… Этот недолго сидит…
— И у этакого сквернавца такая хорошенькая жена! — послышался сиплый бас из гостиной.
— Дуракам счастье, ваше превосходительство! — аккомпанировал женский голос.
— Выйдемте! — простонал Стручков.
Пошли опять в трактир. Потребовали пива.
— Прокатилов — сила! — начала компания утешать Стручкова. — Час у твоей посидит, да зато тебе… десять лет блаженства. Фортуна, брат! Зачем огорчаться? Огорчаться не надо.
— Я и без вас знаю, что не надо. Не в том дело! Мне обидно, что есть хочется!
Через полтора часа опять пошли к Стручкову. Кунья шапка продолжала еще висеть на гвозде. Пришлось опять ретироваться.
Только в восьмом часу вечера гвоздь был свободен от постоя и можно было приняться за пирог! Пирог был сух, щи теплы, гусь пережарен — всё перепортила карьера Стручкова! Ели, впрочем, с аппетитом.
(обратно)Роман адвоката*
(Протокол)
Место для гербовой марки в 60 коп.
Тысяча восемьсот семьдесят седьмого года, февраля десятого дня, в городе С.-Петербурге, Московской части, 2 участка, в доме второй гильдии купца Животова, что на Лиговке, я, нижеподписавшийся, встретил дочь титулярного советника Марью Алексееву Барабанову, 18 лет, вероисповедания православного, грамотную. Встретив оную Барабанову, я почувствовал к ней влечение. Так как на основании 994 ст. Улож. о наказ. незаконное сожительство влечет за собой, помимо церковного покаяния, издержки, статьею оною предусмотренные (смотри: дело купца Солодовникова 1881 г. Сб. реш. Касс. департ.), то я и предложил ей руку и сердце. Я женился, но не долго жил с нею. Я разлюбил ее. Записав на свое имя всё ее приданое, я начал шататься по трактирам, ливадиям, эльдорадам и шатался в продолжение пяти лет. А так как на основании 54 ст. X т. Гражданского Судопроизводства пятилетняя безвестная отлучка дает право на развод, то я и имею честь покорнейше просить, ваше п-во, ходатайствовать о разведении меня с женою.
(обратно)Что лучше?*
(Праздные рассуждения штык-юнкера Крокодилова)
В кабак могут ходить взрослые и дети, а в школу только дети.
Алкоголь замедляет обмен веществ, способствует отложению жира, веселит сердце человека. На всё сие школа не способна. Ломоносов сказал: «Науки юношей питают, отраду старцам подают»*. Князь же Владимир неоднократно повторял: «Веселие Руси питие есть». Кому же из них двоих верить? Очевидно — тому, кто старше.
Акцизные дивиденды дает отнюдь не школа.
Польза просвещения находится еще под сомнением, вред же, им приносимый, очевиден.
Для возбуждения аппетита употребляют отнюдь не грамоту, а рюмку водки.
Кабак везде есть, а школа далеко не везде.
Всего сего достаточно, чтобы сделать вывод: кабаков не упразднять, а относительно школ подумать.
Всей грамоты отрицать нельзя. Отрицание это было бы безумством. Ибо полезно, если человек умеет прочитать: «Питейный дом».
(обратно)Благодарный*
(Психологический этюд)
— Вот тебе триста рублей! — сказал Иван Петрович, подавая пачку кредиток своему секретарю и дальнему родственнику Мише Бобову. — Так и быть, возьми… Не хотел давать, но… что делать? Бери… В последний раз… Мою жену благодари. Если бы не она, я тебе не дал бы… Упросила.
Миша взял деньги и замигал глазками. Он не находил слов для благодарности. Глаза его покраснели и подернулись влагой. Он обнял бы Ивана Петровича, но… начальников обнимать так неловко!
— Жену благодари, — сказал еще раз Иван Петрович. — Она упросила… Ты ее так разжалобил своей слезливой рожицей… Ее и благодари.
Миша попятился назад и вышел из кабинета. Он пошел благодарить свою дальнюю родственницу, супругу Ивана Петровича. Она, маленькая, хорошенькая блондиночка, сидела у себя в кабинете на маленькой кушеточке и читала роман. Миша остановился перед ней и произнес:
— Не знаю, как и благодарить вас!
Она снисходительно улыбнулась, бросила книжку и милостиво указала ему на место около себя. Миша сел.
— Как мне благодарить вас? Как? Чем? Научите меня! Марья Семеновна! Вы мне сделали более чем благодеяние! Ведь на эти деньги я справлю свою свадьбу с моей милой, дорогой Катей!
По Мишиной щеке поползла слеза. Голос его дрожал.
— О, благодарю вас!
Он нагнулся и чмокнул в пухленькую ручку Марьи Семеновны.
— Вы так добры! А как добр ваш Иван Петрович! Как он добр, снисходителен! У него золотое сердце! Вы должны благодарить небо за то, что оно послало вам такого мужа! Моя дорогая, любите его! Умоляю вас, любите его!
Миша нагнулся и чмокнул в обе ручки разом. Слеза поползла и по другой щеке. Один глаз стал меньше.
— Он стар, некрасив, но зато какая у него душа! Найдите мне где-нибудь другую такую душу! Не найдете! Любите же его! Вы, молодые жены, так легкомысленны! Вы в мужчине ищете прежде всего внешности… эффекта… Умоляю вас!
Миша схватил ее локти и судорожно сжал их между своими ладонями. В голосе его слышались рыдания.
— Не изменяйте ему! Изменить этому человеку значит изменить ангелу! Оцените его, полюбите! Любить такого чудного человека, принадлежать ему… да ведь это блаженство! Вы, женщины, не хотите понимать многое… многое… Я вас люблю страшно, бешено за то, что вы принадлежите ему! Целую святыню, принадлежащую ему… Это святой поцелуй… Не бойтесь, я жених… Ничего…
Миша, трепещущий, захлебывающийся, потянулся от ее уха к щечке и прикоснулся к ней своими усами.
— Не изменяйте ему, моя дорогая! Ведь вы его любите? Да? Любите?
— Да.
— О, чудная!
Минуту Миша восторженно и умиленно глядел в ее глаза. В них он прочел благородную душу…
— Чудная вы… — продолжал он, протянув руку к ее талии. — Вы его любите… Этого чудного… ангела… Это золотое сердце… сердце…
Она хотела освободить свою талию от его руки, завертелась, но еще более завязла… Головка ее — неудобно сидеть на этих кушетках! — нечаянно упала на Мишину грудь.
— Его душа… сердце… Где найти другого такого человека? Любить его… Слышать биения его сердца… Идти с ним рука об руку… Страдать… делить радости… Поймите меня! Поймите меня!..
Из Мишиных глаз брызнули слезы… Голова судорожно замоталась и склонилась к ее груди. Он зарыдал и сжал Марью Семеновну в своих объятиях…
Ужасно неудобно сидеть на этих кушетках! Она хотела освободиться из его объятий, утешить его, успокоить… Он так нервен! Она поблагодарит его за то, что он так расположен к ее мужу… Но никак не встанешь!
— Любите его… Не изменяйте ему… Умоляю вас! Вы… женщины… так легкомысленны… не понимаете…
Миша не сказал более ни слова… Язык его заболтался и замер…
Через пять минут в ее кабинет зачем-то вошел Иван Петрович… Несчастный! Зачем он не пришел ранее? Когда они увидели багровое лицо начальника, его сжатые кулаки, когда услышали его глухой, задушенный голос, они вскочили…
— Что с тобой? — спросила бледная Марья Семеновна.
Спросила, потому что надо же было говорить!
— Но… но ведь я искренно, ваше превосходительство! — пробормотал Миша. — Честное слово, искренно!
(обратно)Совет*
Дверь самая обыкновенная, комнатная. Сделана она из дерева, выкрашена обыкновенной белой краской, висит на простых крючьях, но… отчего она так внушительна? Так и дышит олимпийством! По ту сторону двери сидит… впрочем, это не наше дело.
По сю сторону стоят два человека и рассуждают:
— Мерси-с!
— Это вам-с, детишкам на молочишко. За труды ваши, Максим Иваныч. Ведь дело три года тянется, не шутка… Извините, что мало… Старайтесь только, батюшка! (Пауза.) Хочется мне, благодетель, благодарить Порфирия Семеныча… Они мой главный благодетель и от них всего больше мое дело зависит… Поднести бы им в презент не мешало… сотенки две-три…
— Ему… сотенки?! Что вы? Да вы угорели, родной! Перекреститесь! Порфирий Семеныч не таковский, чтоб…
— Не берут? Жаль-с… Я ведь от души, Максим Иваныч… Это не какая-нибудь взятка… Это приношение от чистоты души… за труды непосильные… Я ведь не бесчувственный, понимаю их труд… Кто нонче из-за одного жалованья такую тяготу на себя берет? Гм… Так-то-с… Это не взятка-с, а законное, так сказать, взятие…
— Нет, это невозможно! Он такой человек… такой человек!
— Знаю я их, Максим Иваныч! Прекрасный они человек! И сердце у них предоброе, душа филантропная… гуманическая… Ласковость такая… Глядит на тебя и всю твою психологию воротит… Молюсь за них денно и нощно… Только дело вот слишком долго тянется! Ну, да это ничего… И за все добродетели эти хочется мне благодарить их… Рубликов триста, примерно…
— Не возьмет… Натура у него другая! Строгость! И не суйтесь к нему… Трудится, беспокоится, ночей не спит, а касательно благодарности или чего прочего — ни-ни… Правила такие. И то сказать, на что ему ваши деньги? Сам миллионщик!
— Жалость какая… А мне так хотелось обнаружить им свои чувства! (Тихо.) Да и дело бы мое подвинулось… Ведь три года тянется, батюшка! Три года! (Громко.) Не знаю, как и поступить… В уныние впал я, благодетель мой… Выручьте, батюшка! (Пауза.) Сотни три я могу… Это точно. Хоть сию минуту…
— Гм… Да-с… Как же быть? (Пауза.) Я вам вот что посоветую. Коли уж желаете благодарить его за благодеяния и беспокойства, то… извольте, я ему скажу… Доложу… Я ему посоветовать могу…
— Пожалуйста, батюшка! (Продолжительная пауза.)
— Мерси-с… Он уважит… Только вы не триста рублей… С этими паршивыми деньгами и не суйтесь… Для него это нуль, ничтожество… газ… Вы ему тысячу…
— Две тысячи! — говорит кто-то по ту сторону двери.
Занавес падает. Да не подумает о сем кто-либо худо!
(обратно)Вопросы и ответы*
Вопросы
1) Как узнать ее мысли?
2) Где может читать неграмотный?
3) Любит ли меня жена?
4) Где можно стоя сидеть?
Ответы
1) Сделайте у нее обыск.
2) В сердцах.
3) Чья?
4) В участке.
(обратно)Крест*
В гостиную, наполненную народом, входит поэт.
— Ну что, как ваша миленькая поэма? — обращается к нему хозяйка. — Напечатали? Гонорар получили?
— И не спрашивайте… Крест получил.
— Вы получили крест? Вы, поэт?! Разве поэты получают кресты?
— От души поздравляю! — жмет ему руку хозяин. — Станислав или Анна? Очень рад… рад очень… Станислав?
— Нет, красный крест…
— Стало быть, вы гонорар пожертвовали в пользу Общества Красного креста?
— Ничего не пожертвовал.
— А вам к лицу будет орден… А ну-ка, покажите! Поэт лезет в боковой карман и достает оттуда рукопись…
— Вот он…
Публика глядит в рукопись и видит красный крест… но такой крест, который не прицепишь к сюртуку*.
(обратно)Женщина без предрассудков*
(Роман)
Максим Кузьмич Салютов высок, широкоплеч, осанист. Телосложение его смело можно назвать атлетическим. Сила его чрезвычайна. Он гнет двугривенные, вырывает с корнем молодые деревца, поднимает зубами гири и клянется, что нет на земле человека, который осмелился бы побороться с ним. Он храбр и смел. Не видели, чтобы он когда-нибудь чего-нибудь боялся. Напротив, его самого боятся и бледнеют перед ним, когда он бывает сердит. Мужчины и женщины визжат и краснеют, когда он пожимает их руки: больно!! Его прекрасный баритон невозможно слушать, потому что он заглушает… Сила-человек! Другого подобного я не знаю.
И эта чудовищная, нечеловеческая, воловья сила походила на ничто, на раздавленную крысу, когда Максим Кузьмич объяснялся в любви Елене Гавриловне! Максим Кузьмич бледнел, краснел, дрожал и не был в состоянии поднять стула, когда ему приходилось выжимать из своего большого рта: «Я вас люблю!» Сила стушевывалась, и большое тело обращалось в большой пустопорожний сосуд.
Он объяснялся в любви на катке. Она порхала по льду с легкостью перышка, а он, гоняясь за ней, дрожал, млел и шептал. На лице его были написаны страдания… Ловкие, поворотливые ноги подгибались и путались, когда приходилось вырезывать на льду какой-нибудь прихотливый вензель… Вы думаете, он боялся отказа? Нет, Елена Гавриловна любила его и жаждала предложения руки и сердца… Она, маленькая, хорошенькая брюнеточка, готова была каждую минуту сгореть от нетерпения… Ему уже тридцать, чин его невелик, денег у него не особенно много, но зато он так красив, остроумен, ловок! Он отлично пляшет, прекрасно стреляет… Лучше его никто не ездит верхом. Раз он, гуляя с нею, перепрыгнул через такую канаву, перепрыгнуть через которую затруднился бы любой английский скакун!..
Нельзя не любить такого человека!
И он сам знал, что его любят. Он был уверен в этом. Страдал же он от одной мысли… Эта мысль душила его мозг, заставляла его бесноваться, плакать, не давала ему пить, есть, спать… Она отравляла его жизнь. Он клялся в любви, а она в это время копошилась в его мозгу и стучала в его виски.
— Будьте моей женой! — говорил он Елене Гавриловне. — Я вас люблю! бешено, страшно!!
И сам в то же время думал:
«Имею ли я право быть ее мужем? Нет, не имею! Если бы она знала, какого я происхождения, если бы кто-нибудь рассказал ей мое прошлое, она дала бы мне пощечину! Позорное, несчастное прошлое! Она, знатная, богатая, образованная, плюнула бы на меня, если бы знала, что я за птица!»
Когда Елена Гавриловна бросилась ему на шею и поклялась ему в любви, он не чувствовал себя счастливым.
Мысль отравила всё… Возвращаясь с катка домой, он кусал себе губы и думал:
«Подлец я! Если бы я был честным человеком, я рассказал бы ей всё… всё! Я должен был, прежде чем объясняться в любви, посвятить ее в свою тайну! Но я этого не сделал, и я, значит, негодяй, подлец!»
Родители Елены Гавриловны согласились на брак ее с Максимом Кузьмичом. Атлет нравился им: он был почтителен и как чиновник подавал большие надежды. Елена Гавриловна чувствовала себя на эмпиреях. Она была счастлива. Зато бедный атлет был далеко не счастлив! До самой свадьбы его терзала та же мысль, что и во время объяснения…
Терзал его и один приятель, который, как свои пять пальцев, знал его прошлое… Приходилось отдавать приятелю почти всё свое жалованье.
— Угости обедом в Эрмитаже! — говорил приятель. — А то всем расскажу… Да двадцать пять рублей дай взаймы!
Бедный Максим Кузьмич похудел, осунулся… Щеки его впали, кулаки стали жилистыми. Он заболел от мысли. Если бы не любимая женщина, он застрелился бы…
«Я подлец, негодяй! — думал он. — Я должен объясниться с ней до свадьбы! Пусть плюнет на меня!»
Но до свадьбы он не объяснился: не хватило храбрости.
Да и мысль, что после объяснения ему придется расстаться с любимой женщиной, была для него ужаснее всех мыслей!..
Наступил свадебный вечер. Молодых повенчали, поздравили, и все удивлялись их счастью. Бедный Максим Кузьмич принимал поздравления, пил, плясал, смеялся, но был страшно несчастлив. «Я себя, скота, заставлю объясниться! Нас повенчали, но еще не поздно! Мы можем еще расстаться!»
И он объяснился…
Когда наступил вожделенный час и молодых проводили в спальню, совесть и честность взяли свое… Максим Кузьмич, бледный, дрожащий, не помнящий родства, еле дышащий, робко подошел к ней и, взяв ее за руку, сказал:
— Прежде чем мы будем принадлежать… друг другу, я должен… должен объясниться…
— Что с тобой, Макс?! Ты… бледен! Ты все эти дни бледен, молчалив… Ты болен?
— Я… должен тебе всё рассказать, Леля… Сядем… Я должен тебя поразить, отравить твое счастье… но что ж делать? Долг прежде всего… Я расскажу тебе свое прошлое…
Леля сделала большие глаза и ухмыльнулась…
— Ну, рассказывай… Только скорей, пожалуйста. И не дрожи так.
— Ро… родился я в Там… там… бове… Родители мои были не знатны и страшно бедны… Я тебе расскажу, что я за птица. Ты ужаснешься. Постой… Увидишь… Я был нищим… Будучи мальчиком, я продавал яблоки… груши…
— Ты?!
— Ты ужасаешься? Но, милая, это еще не так ужасно. О, я несчастный! Вы проклянете меня, если узнаете!
— Но что же?
— Двадцати лет… я был… был… простите меня! Не гоните меня! Я был… клоуном в цирке!
— Ты?!? Клоуном?
Салютов в ожидании пощечины закрыл руками свое бледное лицо… Он был близок к обмороку…
— Ты… клоуном?!
И Леля повалилась с кушетки… вскочила, забегала…
Что с ней? Ухватилась за живот… По спальной понесся и посыпался смех, похожий на истерический…
— Ха-ха-ха… Ты был клоуном? Ты? Максинька… Голубчик! Представь что-нибудь! Докажи, что ты был им! Ха-ха-ха! Голубчик!
Она подскочила к Салютову и обняла его…
— Представь что-нибудь! Милый! Голубчик!
— Ты смеешься, несчастная? Презираешь?
— Сделай что-нибудь! И на канате умеешь ходить? Да ну же!
Она осыпала лицо мужа поцелуями, прижалась к нему, залебезила… Не заметно было, чтобы она сердилась… Он, ничего не понимающий, счастливый, уступил просьбе жены.
Подойдя к кровати, он сосчитал три и стал вверх ногами, опираясь лбом о край кровати…
— Браво, Макс! Бис! Ха-ха! Голубчик! Еще!
Макс покачнулся, прыгнул, как был, на пол и заходил на руках…
Утром родители Лели были страшно удивлены.
— Кто это там стучит наверху? — спрашивали они друг друга. — Молодые еще спят… Должно быть, прислуга шалит… Возятся-то как! Экие мерзавцы!
Папаша пошел наверх, но прислуги не нашел там.
Шумели, к великому его удивлению, в комнате молодых… Он постоял около двери, пожал плечами и слегка приотворил ее… Заглянув в спальную, он съежился и чуть не умер от удивления: среди спальни стоял Максим Кузьмич и выделывал в воздухе отчаяннейшие salto mortale; возле него стояла Леля и аплодировала. Лица обоих светились счастьем.
(обратно)Ревнитель*
Двадцать лет собирался директор З.-Б.-Х. железной дороги сесть за свой письменный стол и наконец, два дня тому назад, собрался. Полжизни мысль, жгучая, острая, беспокойная, вертелась у него в голове, выливалась в благоприличную форму, округлялась, деталилась, росла и наконец выросла до величины грандиознейшего проекта… Он сел за стол, взял в руки перо и… вступил на тернистый путь авторства.
Утро было тихое, светлое, морозное… В комнатах было тепло, уютно… На столе стоял стакан чая и слегка дымил… Не стучали, не кричали, не лезли с разговорами… Отлично писать при такой обстановке! Бери перо в руки да и валяй себе!
Директору не нужно было много думать, чтобы начать… В голове у него давно уже было всё начато и окончено: знай себе списывай с мозгов на бумагу!
Он нахмурился, стиснул губы, потянул в себя струю воздуха и написал заглавие: «Несколько слов в защиту печати». Директор любил печать. Он был предан ей всей душой, всем сердцем и всеми своими помышлениями. Написать в защиту ее свое слово, сказать это слово громко, во всеуслышание, было для него любимейшей, двадцатилетней мечтой! Он ей обязан весьма многим: своим развитием, открытием злоупотреблений, местом… многим! Нужно отблагодарить ее… Да и автором хочется побыть хоть денек… Писателей хоть и ругают, а все-таки почитают… В особенности женщины… Гм…
Написав заглавие, директор выпустил струю воздуха и в минуту написал четырнадцать строк. Хорошо вышло, гладко… Он начал вообще о печати и, исписав пол-листа, заговорил о свободе печати… Он потребовал… Протесты, исторические данные, цитаты, изречения, упреки, насмешки так и посыпались из-под его острого пера.
«Мы либералы, — писал он. — Смейтесь над этим термином! Скальте зубы! Но мы гордимся и будем гордиться этим прозвищем, покедова…»
— Газеты принесли! — доложил лакей…
В десять часов директор обыкновенно читал газеты. И на этот раз он не изменил своей привычке. Оставив писание, он встал, потянулся, разлегся на кушетке и принялся за газеты. Взяв в руки «Новое время», он презрительно усмехнулся, пробежал глазами по передовой и, не дочитав до конца, бросил.
— Краса Демидрона*…— проворчал он. — Я вам пррропишу!
Швырнув на кресло «Новое время», директор взялся за «Голос». Глазки его затеплились хорошим чувством, на щеках заиграл румянец. Он любил «Голос» и сам когда-то в него пописывал.
Прочитал передовую и мелкие известия… Пробежал фельетон… Чем более он читал, тем масленистее делались его глазки. Прочитал «Среди газет и журналов»… Перевалился на третью страницу…
— Да, да. Так… И я об этом упомянул… Верно, совершенно верно!.. Гм. А это о чем?
Директор прищурил глаза…
«На З.-Б.-Х. железной дороге, — начал он читать, — приступлено на днях к разработке одного довольно странного проекта… Творец этого проекта — сам директор дороги, бывший…»
Через полчаса после чтения «Голоса» директор, красный, потный, дрожащий, сидел за своим письменным столом и писал. Писал он «приказ по линии»… В этом приказе рекомендовалось не выписывать «некоторых» газет и журналов…
Возле сердитого директора лежали бумажные клочки. Эти клочки полчаса тому назад составляли собой «несколько слов в защиту печати»…
Sic transit gloria mundi![3]
(обратно)Коллекция*
Как-то на днях я зашел к своему приятелю, журналисту Мише Коврову. Он сидел у себя на диване, чистил ногти и пил чай. Предложил и мне стакан.
— Я без хлеба не пью, — сказал я. — Пошли за хлебом!
— Ни за что! Врага, изволь, угощу хлебом, а друга никогда.
— Странно… Почему же?
— А вот почему… Иди сюда!
Миша подвел меня к столу и выдвинул один ящик:
— Гляди!
Я поглядел в ящик и не увидел решительно ничего.
— Ничего не вижу… Сор какой-то… Гвозди, тряпочки, какие-то хвостики…
— Вот именно на это-то и погляди! Десять лет собирал эти тряпочки, веревочки и гвоздички! Знаменательная коллекция.
И Миша сгреб в руки весь сор и высыпал его на газетный лист.
— Видишь эту обгоревшую спичку? — сказал он, показывая мне обыкновенную, слегка обуглившуюся спичку. — Это интересная спичка. В прошлом году я нашел ее в баранке, купленной в булочной Севастьянова. Чуть было не подавился. Жена, спасибо, была дома и постучала мне по спине, а то бы так и осталась в горле эта спичка. Видишь этот ноготь? Три года тому назад он был найден в бисквите, купленном в булочной Филиппова. Бисквит, как видишь, был без рук, без ног, но с ногтями. Игра природы! Эта зеленая тряпочка пять лет тому назад обитала в колбасе, купленной в одном из наилучших московских магазинов. Сей засушенный таракан купался когда-то в щах, которые я ел в буфете одной железнодорожной станции, а этот гвоздь — в котлете, на той же станции. Этот крысиный хвостик и кусочек сафьяна были оба найдены в одном и том же филипповском хлебе. Кильку, от которой остались теперь одни только косточки, жена нашла в торте, который был поднесен ей в день ангела. Этот зверь, именуемый клопом, был поднесен мне в кружке пива в одной немецкой биргалке… А вот этот кусочек гуано я чуть было не проглотил, уписывая в одном трактире расстегай… И так далее, любезный.
— Дивная коллекция!
— Да. Весит она полтора фунта, не считая всего того, что я по невниманию успел проглотить и переварить. А проглотил я, наверное, фунтов пять-шесть…
Миша взял осторожно газетный лист, минуту полюбовался коллекцией и высыпал ее обратно в ящик. Я взял в руки стакан, начал пить чай, но уж не просил послать за хлебом.
(обратно)Баран и барышня*
(Эпизодик из жизни «милостивых государей»)
На сытой, лоснящейся физиономии милостивого государя была написана смертельнейшая скука. Он только что вышел из объятий послеобеденного Морфея и не знал, что ему делать. Не хотелось ни думать, ни зевать… Читать надоело еще в незапамятные времена, в театр еще рано, кататься лень ехать… Что делать? Чем бы развлечься?
— Барышня какая-то пришла! — доложил Егор. — Вас спрашивает!
— Барышня? Гм… Кто же это? Всё одно, впрочем, — проси…
В кабинет тихо вошла хорошенькая брюнетка, одетая просто… даже очень просто. Она вошла и поклонилась.
— Извините, — начала она дрожащим дискантом. — Я, знаете ли… Мне сказали, что вас… вас можно застать только в шесть часов… Я… я… дочь надворного советника Пальцева…
— Очень приятно! Сссадитесь! Чем могу быть полезен? Садитесь, не стесняйтесь!
— Я пришла к вам с просьбой… — продолжала барышня, неловко садясь и теребя дрожащими руками свои пуговки. — Я пришла… попросить у вас билет для бесплатного проезда на родину. Вы, я слышала, даете… Я хочу ехать, а у меня… я небогата… Мне от Петербурга до Курска…
— Гм… Так-с… А для чего вам в Курск ехать? Здесь нешто не нравится?
— Нет, здесь нравится, но, знаете ли… родители. Я к родителям. Давно уж у них не была… Мама, пишут, больна…
— Гм… Вы здесь служите или учитесь?
Барышня рассказала, где и у кого она служила, сколько получала жалованья, много ли было работы…
— Тэк… Служили… Да-с, нельзя сказать, чтоб ваше жалованье было велико… Нельзя сказать… Негуманно было бы не давать вам бесплатного билета… Гм… К родителям едете, значит… Ну, а небось в Курске и амурчик есть, а? Амурашка? Хе, хе, хо… Женишок? Покраснели? Ну, что ж! Дело хорошее… Езжайте себе. Вам уж пора замуж… А кто он?
— В чиновниках…
— Дело хорошее… Езжайте в Курск… Говорят, что уже в ста верстах от Курска пахнет щами и ползают тараканы… Хе, хе, хо… Небось, скука в этом Курске? Да вы скидайте шляпу! Вот так, не стесняйтесь! Егор, дай нам чаю! Небось, скучно в этом… ммм… как его… Курске?
Барышня, не ожидавшая такого ласкового приема, просияла и описала милостивому государю все курские развлечения… Она рассказала, что у нее есть брат-чиновник, дядя-учитель, кузены-гимназисты… Егор подал чай… Барышня робко потянулась за стаканом и, боясь чамкать, начала бесшумно глотать… Милостивый государь глядел на нее и ухмылялся… Он уж не чувствовал скуки…
— Ваш жених хорош собой? — спросил он. — А как вы с ним сошлись?
Барышня конфузливо ответила на оба вопроса. Она доверчиво подвинулась к милостивому государю и, улыбаясь, рассказала, как здесь, в Питере, сватались к ней женихи и как она им отказала… Говорила она долго. Кончила тем, что вынула из кармана письмо от родителей и прочла его милостивому государю. Пробило восемь часов.
— А у вашего отца неплохой почерк… С какими он закорючками пишет! Хе, хе… Но, однако, мне пора… В театре уж началось… Прощайте, Марья Ефимовна!
— Так я могу надеяться? — спросила барышня, поднимаясь.
— На что-с?
— На то, что вы мне дадите бесплатный билет…
— Билет? Гм… У меня нет билетов! Вы, должно быть, ошиблись, сударыня… Хе, хе, хе… Вы не туда попали, не на тот подъезд… Рядом со мной, подлинно, живет какой-то железнодорожник, а я в банке служу-с! Егор, вели заложить! Прощайте, ma chère[4] Марья Семеновна! Очень рад… рад очень…
Барышня оделась и вышла… У другого подъезда ей сказали, что он уехал в половине восьмого в Москву.
(обратно)Размазня*
На днях я пригласил к себе в кабинет гувернантку моих детей, Юлию Васильевну. Нужно было посчитаться.
— Садитесь, Юлия Васильевна! — сказал я ей. — Давайте посчитаемся. Вам наверное нужны деньги, а вы такая церемонная, что сами не спросите… Ну-с… Договорились мы с вами по тридцати рублей в месяц…
— По сорока…
— Нет, по тридцати… У меня записано… Я всегда платил гувернанткам по тридцати. Ну-с, прожили вы два месяца…
— Два месяца и пять дней…
— Ровно два месяца… У меня так записано. Следует вам, значит, шестьдесят рублей… Вычесть девять воскресений… вы ведь не занимались с Колей по воскресеньям, а гуляли только… да три праздника…
Юлия Васильевна вспыхнула и затеребила оборочку, но… ни слова!..
— Три праздника… Долой, следовательно, двенадцать рублей… Четыре дня Коля был болен и не было занятий… Вы занимались с одной только Варей… Три дня у вас болели зубы, и моя жена позволила вам не заниматься после обеда… Двенадцать и семь — девятнадцать. Вычесть… останется… гм… сорок один рубль… Верно?
Левый глаз Юлии Васильевны покраснел и наполнился влагой. Подбородок ее задрожал. Она нервно закашляла, засморкалась, но — ни слова!..
— Под Новый год вы разбили чайную чашку с блюдечком. Долой два рубля… Чашка стоит дороже, она фамильная, но… бог с вами! Где наше не пропадало? Потом-с, по вашему недосмотру Коля полез на дерево и порвал себе сюртучок… Долой десять… Горничная тоже по вашему недосмотру украла у Вари ботинки. Вы должны за всем смотреть. Вы жалованье получаете. Итак, значит, долой еще пять… Десятого января вы взяли у меня десять рублей…
— Я не брала, — шепнула Юлия Васильевна.
— Но у меня записано!
— Ну, пусть… хорошо.
— Из сорока одного вычесть двадцать семь — останется четырнадцать…
Оба глаза наполнились слезами… На длинном хорошеньком носике выступил пот. Бедная девочка!
— Я раз только брала, — сказала она дрожащим голосом. — Я у вашей супруги взяла три рубля… Больше не брала…
— Да? Ишь ведь, а у меня и не записано! Долой из четырнадцати три, останется одиннадцать… Вот вам ваши деньги, милейшая! Три… три, три… один и один… Получите-с!
И я подал ей одиннадцать рублей… Она взяла и дрожащими пальчиками сунула их в карман.
— Merci, — прошептала она.
Я вскочил и заходил по комнате. Меня охватила злость.
— За что же merci? — спросил я.
— За деньги…
— Но ведь я же вас обобрал, чёрт возьми, ограбил! Ведь я украл у вас! За что же merci?
— В других местах мне и вовсе не давали…
— Не давали? И не мудрено! Я пошутил над вами, жестокий урок дал вам… Я отдам вам все ваши восемьдесят! Вон они в конверте для вас приготовлены! Но разве можно быть такой кислятиной? Отчего вы не протестуете? Чего молчите? Разве можно на этом свете не быть зубастой? Разве можно быть такой размазней?
Она кисло улыбнулась, и я прочел на ее лице: «Можно!»
Я попросил у нее прощение за жестокий урок и отдал ей, к великому ее удивлению, все восемьдесят. Она робко замерсикала и вышла… Я поглядел ей вслед и подумал: легко на этом свете быть сильным!
(обратно)Репка*
(Перевод с детского)
Жили-были себе дед да баба. Жили-были и породили Сержа. У Сержа уши длинные и вместо головы репка. Вырос Серж большой-пребольшой… Потянул дед за уши; тянет-потянет, вытянуть в люди не может. Кликнул дед бабку.
Бабка за дедку, дедка за репку, тянут-потянут и вытянуть не могут. Кликнула бабка тетку-княгиню.
Тетка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку, тянут-потянут, вытянуть в люди не могут. Кликнула княгиня кума-генерала.
Кум за тетку, тетка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку, тянут-потянут, вытянуть не могут. Не вытерпел дед. Выдал он дочку за богатого купца. Кликнул он купца с сторублевками.
Купец за кума, кум за тетку, тетка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку, тянут-потянут и вытянули голову-репку в люди.
И Серж стал статским советником.
(обратно)Ядовитый случай*
Как опасно иногда выписывать газеты, свидетельствует следующий случай, имевший место не так давно в одной из московских редакций.
Фельетонист С. М., в ожидании редактора, к которому он явился за получением гонорара, сидел в конторе, зевал и от нечего делать перелистывал конторские книги. Возле него сидел секретарь и водил тупым карандашом по столу. А вы видели когда-нибудь редакционные столы? Интересные столы! Они все исцарапаны, запачканы, исписаны каракульками, рожицами, подписями. Попадаются нередко подписи известных людей… Эти каракульки знаменательны: они свидетельствуют, как долго ожидается гонорар и как скучно его получение… Повозившись с книгами, С. М. машинально взял из рук секретаря карандаш и начал им водить по «Донской пчеле»*…Скука! От карандаша он перешел к полочке с адресами. Это обыкновенные полочки, на которых лежат маленькие пачечки. Каждая пачечка состоит из бумажек, на каждой бумажке начертан адрес подписчика. С. М. начал лениво рассматривать пачечки… Ельцы, Бердянски, Орлы, Скурато… Ивановы, Петровы, Сидоровы… Скучно!
«Гм… Какая же это Елена Петровна Пьявкина? Гм… В Ростове-на-Дону… Чёрт возьми! Это она!»
С. М. повертел в руках адрес Пьявкиной и еще раз прочел его…
«Да, это она! — порешил он. — Пять лет тому назад она бежала от меня и утащила тысячу рублей… Гм… Пять лет я искал ее и не находил… Очень рад! Надо принять меры».
Фельетонист записал адрес Елены Петровны, улыбнулся и, ликующий, зашагал по конторе.
— Я вас угощаю сегодня обедом! — обратился он к секретарю. — С меня магарыч!
На другой день С. М. был у своего адвоката. Бедная Елена Петровна!
(обратно)Патриот своего отечества*
Маленький немецкий городок. Имя этого городка носит одна из известнейших целебных вод. В нем больше отелей, чем домов, и больше иностранцев, чем немцев.
Хорошее пиво, хорошеньких служанок и чудный вид вы можете найти в отеле, стоящем на краю (левом) города, на высокой горе, в тени прелестнейшего садика.
В один прекрасный вечер на террасе этого отеля, за белым мраморным столиком, сидело двое русских. Они пили пиво и играли в шашки. Оба старательно лезли «в дамки» и беседовали об успехах лечения. Оба приехали сюда лечиться от большого живота и ожирения печени.
Сквозь листву пахучих лип глядела на них немецкая луна… Маленький кокетливый ветерок нежно теребил российские усы и бороды и вдувал в уши русских толстячков чуднейшие звуки. У подножия горы играла музыка. Немцы праздновали годовщину какого-то немецкого события. Мотивы не доносились до вершины горы — далеко! Доносилась одна только мелодия… Мелодия меланхолическая, самая разнемецкая, плакучая, тягучая… Слушаешь ее — и сладко ныть хочется…
Русские лезли «в дамки» и задумчиво внимали. Оба были в блаженнейшем настроении духа. Шёпот лип, кокетливый ветерок, мелодия со своей меланхолией — всё это, вместе взятое, развезло их русские души.
— При этакой обстановке, Тарас Иваныч, хорошо тово… любить, — сказал один из них. — Влюбиться в какую-нибудь да по темной аллейке пройтись…
— М-да…
И наши русские завели речь о любви, о дружбе… Сладкие мгновения! Кончилось тем, что оба незаметно, бессознательно оставили в покое шашки, подперли свои русские головы кулаками и задумались.
Мелодия становилась всё слышнее и слышнее. Скоро она уступила свое место мотиву. Стали слышны не только трубы и контрабасы, но и скрипки.
Русские поглядели вниз и увидели факельную процессию. Процессия двигалась вверх. Скоро сквозь липы блеснули красные огни факелов, послышалось стройное пение, и музыка загремела над самыми ушами русских. Молодые девушки, женщины, солдаты, бурши, старцы в мгновение наполнили длинную стройную аллею, осветили весь сад и страшно загалдели… Сзади несли бочонки с пивом и вином. Сыпали цветы и жгли разноцветные бенгальские огни.
Русские умилились духом. И им захотелось участвовать в процессии. Они взяли свои бутылки и смешались с толпой. Процессия остановилась на полянке за отелем. Вышел на средину какой-то старичок и сказал что-то. Ему аплодировали. Какой-то бурш взобрался на стол и произнес трескучую речь. За ним — другой, третий, четвертый… Говорили, взвизгивали, махали руками…
Петр Фомич умилился. В груди его стало светло, тепло, уютно. При виде говорящей толпы самому хочется говорить. Речь заразительна. Петр Фомич протискался сквозь толпу и остановился около стола. Помахав руками, он взобрался на стол. Еще раз помахал руками. Лицо его побагровело. Он покачнулся и закричал коснеющим, пьяным языком: «Ребята! Не… немцев бить!»
Счастье его, что немцы не понимают по-русски!
(обратно)Торжество победителя*
(Рассказ отставного коллежского регистратора)
В пятницу на масленой все отправились есть блины к Алексею Иванычу Козулину. Козулина вы не знаете; для вас, быть может, он ничтожество, нуль, для нашего же брата, не парящего высоко под небесами, он велик, всемогущ, высокомудр. Отправились к нему все, составляющие его, так сказать, подножие. Пошел и я с папашей.
Блины были такие великолепные, что выразить вам не могу, милостивый государь: пухленькие, рыхленькие, румяненькие. Возьмешь один, чёрт его знает, обмакнешь его в горячее масло, съешь — другой сам в рот лезет. Деталями, орнаментами и комментариями были: сметана, свежая икра, семга, тертый сыр. Вин и водок целое море. После блинов осетровую уху ели, а после ухи куропаток с подливкой. Так укомплектовались, что папаша мой тайком расстегнул пуговки на животе и, чтобы кто не заметил сего либерализма, накрылся салфеткой. Алексей Иваныч, на правах нашего начальника, которому всё позволено, расстегнул жилетку и сорочку. После обеда, не вставая из-за стола, закурили, с дозволения начальства, сигары и повели беседу. Мы слушали, а его превосходительство, Алексей Иваныч, говорил. Сюжетцы были всё больше юмористического характера, масленичного… Начальник рассказывал и, видимо, желал казаться остроумным. Не знаю, сказал ли он что-нибудь смешное, но только помню, что папаша ежеминутно толкал меня в бок и говорил:
— Смейся!
Я раскрывал широко рот и смеялся. Раз даже взвизгнул от смеха, чем обратил на себя всеобщее внимание.
— Так, так! — зашептал папаша. — Молодец! Он глядит на тебя и смеется… Это хорошо; может, в самом деле даст тебе место помощника письмоводителя!
— Н-да-с! — сказал между прочим Козулин, начальник наш, пыхтя и отдуваясь. — Теперь мы блины кушаем, наисвежайшую икру употребляем, жену белотелую ласкаем. А дочки у меня такие красавицы, что не только ваша братия смиренная, а даже князья и графы засматриваются и вздыхают. А квартира? Хе-хе-хе… То-то вот! Не ропщите, не сетуйте и вы, покуда до конца не доживете! Всё бывает, ну и всякие перемены бывают… Ты теперь, положим, ничтожество, нуль, соринка… изюминка — а кто знает? Может быть, со временем и того… судьбы человеческие за вихор возьмешь! Всякое бывает!
Алексей Иваныч помолчал, покачал головой и продолжал:
— А прежде-то, прежде что было! А? Боже ты мой! Памяти своей не веришь. Без сапог, в рваных штанишках, со страхом и трепетом… За целковый, бывало, две недели работаешь. Да не дадут тебе этот целковый, нет! а скомкают да в лицо бросят: лопай! И всякий тебя раздавить может, уколоть, обухом хватить… Всякий оконфузить может… Идешь с докладом, глядишь, а у дверей собачонка сидит. Подойдешь ты к этой собачонке да за лапочку, за лапочку. Извините, мол, что мимо прошел. С добрым утром-с! А собачонка на тебя: рррр… Швейцар тебя локтем — толк! а ты ему: «Мелких нет, Иван Потапыч!.. извините-с!» А больше всего я натерпелся и поношений разных вынес от этого вот сига копченого, от этого вот… крокодила! Вот от этого самого смиренника, от Курицына!
И Алексей Иваныч указал на маленького, сгорбленного старичка, сидевшего рядом с моим папашей. Старичок мигал утомленными глазками и с отвращением курил сигару. Обыкновенно он никогда не курит, но если начальство предлагает ему сигару, то он считает неприличным отказываться. Увидев устремленный на него палец, он страшно сконфузился и завертелся на стуле.
— Много я претерпел по милости этого смиренника! — продолжал Козулин. — Я ведь к нему к первому под начало попал. Привели меня к нему смирненького, серенького, ничтожненького и посадили за его стол. И стал он меня есть… Что ни слово — то нож острый, что ни взгляд — то пуля в грудь. Теперь-то он червячком глядит, убогеньким, а прежде что было! Нептун! Небеса разверзеся! Долго он меня терзал! Я и писал ему, и за пирожками бегал, перья чинил, тещу его старую по театрам водил. Всякие угождения ему делал. Табак нюхать выучился! Н-да… А всё для него… Нельзя, думаю, надо, чтоб табакерка при мне постоянно была на случай, ежели спросит. Курицын, помнишь? Приходит к нему однажды моя матушка покойница и просит его, старушечка, чтоб он сынка, меня то есть, на два дня к тетушке отпустил, наследство делить. Как накинется на нее, как вытаращит бельмы, как закричит: «Да он у тебя лентяй, да он у тебя дармоед, да чего ты, дура, смотришь!.. Под суд, говорит, попадет!» Пошла старушечка домой да и слегла, заболела от перепугу, чуть не померла в ту пору…
Алексей Иваныч вытер глаза платочком и залпом выпил стакан вина.
— Женить меня на своей собирался, да я на ту пору… к счастью, горячкой заболел, полгода в больнице пролежал. Вот что прежде было! Вот как живали! А теперь? Пфи! А теперь я… я над ним… Он мою тещу в театры водит, он мне табакерку подает и вот сигару курит. Хе-хе-хе… Я ему в жизнь перчику… перчику! Курицын!!
— Чего изволите-с? — спросил Курицын, вставая и вытягиваясь в струнку.
— Трагедию представь!
— Слушаю!
Курицын вытянулся, нахмурился, поднял вверх руку, скорчил рожу и пропел сиплым, дребезжащим голосом:
— Умри, вероломная! Крррови жажду!!
Мы покатились со смеху.
— Курицын! Съешь этот самый кусок хлеба с перчиком!
Сытый Курицын взял большой кусок ржаного хлеба, посыпал его перцем и сжевал при громком смехе.
— Всякие перемены бывают, — продолжал Козулин. — Сядь, Курицын! Когда встанем, пропоешь что-нибудь… Тогда ты, а теперь я… Да… Так и померла старушечка… Да…
Козулин поднялся и покачнулся…
— А я — молчок, потому что маленький, серенький… Мучители… Варвары… А теперь за то я… Хе-хе-хе… А ну-ка ты! Ты! Тебе говорят, безусый!
И Козулин ткнул пальцем в сторону папаши.
— Бегай вокруг стола и пой петушком!
Папаша мой улыбнулся, приятно покраснел и засеменил вокруг стола. Я за ним.
— Ку-ку-реку! — заголосили мы оба и побежали быстрее.
Я бегал и думал:
«Быть мне помощником письмоводителя!»
(обратно)Умный дворник*
Посреди кухни стоял дворник Филипп и читал наставление. Его слушали лакеи, кучер, две горничные, повар, кухарка и два мальчика-поваренка, его родные дети. Каждое утро он что-нибудь да проповедовал, в это же утро предметом речи его было просвещение.
— И живете вы все как какой-нибудь свинячий народ, — говорил он, держа в руках шапку с бляхой. — Сидите вы тут сиднем и кроме невежества не видать в вас никакой цивилизации. Мишка в шашки играет, Матрена орешки щелкает, Никифор зубы скалит. Нешто это ум? Это не от ума, а от глупости. Нисколько нет в вас умственных способностей! А почему?
— Оно действительно, Филипп Никандрыч, — заметил повар. — Известно, какой в нас ум? Мужицкий. Нешто мы понимаем?
— А почему в вас нет умственных способностей? — продолжал дворник. — Потому что нет у вашего брата настоящей точки. И книжек вы не читаете, и насчет писаний нет у вас никакого смысла. Взяли бы книжечку, сели бы себе да почитали. Грамотны небось, разбираете печатное. Вот ты, Миша, взял бы книжечку да прочел бы тут. Тебе польза, да и другим приятность. А в книжках обо всех предметах распространение. Там и об естестве найдешь, и о божестве, о странах земных. Что из чего делается, как разный народ на всех язы́ках. И идолопоклонство тоже. Обо всем в книжках найдешь, была бы охота. А то сидит себе около печи, жрет да пьет. Чисто как скоты неподобные! Тьфу!
— Вам, Никандрыч, на часы пора, — заметила кухарка.
— Знаю. Не твое дело мне указывать. Вот, к примеру скажем, хоть меня взять. Какое мое занятие при моем старческом возрасте? Чем душу свою удовлетворить? Лучше нет, как книжка или ведомости. Сейчас вот пойду на часы. Просижу у ворот часа три. И вы думаете, зевать буду или пустяки с бабами болтать? Не-ет, не таковский! Возьму с собой книжечку, сяду и буду читать себе в полное удовольствие. Так-то.
Филипп достал из шкапа истрепанную книжку и сунул ее за пазуху.
— Вот оно, мое занятие. Сызмальства привык. Ученье свет, неученье тьма — слыхали, чай? То-то…
Филипп надел шапку, крякнул и, бормоча, вышел из кухни. Он пошел за ворота, сел на скамью и нахмурился, как туча.
— Это не народ, а какие-то химики свинячие, — пробормотал он, всё еще думая о кухонном населении.
Успокоившись, он вытащил книжку, степенно вздохнул и принялся за чтение.
«Так написано, что лучше и не надо, — подумал он, прочитав первую страницу и покрутив головой. — Умудрит же господь!»
Книжка была хорошая, московского издания: «Разведение корнеплодов. Нужна ли нам брюква». Прочитав первые две страницы, дворник значительно покачал головой и кашлянул.
— Правильно написано!
Прочитав третью страничку, Филипп задумался. Ему хотелось думать об образовании и почему-то о французах. Голова у него опустилась на грудь, локти уперлись в колена. Глаза прищурились.
И видел Филипп сон. Всё, видел он, изменилось: земля та же самая, дома такие же, ворота прежние, но люди совсем не те стали. Все люди мудрые, нет ни одного дурака, и по улицам ходят всё французы и французы. Водовоз, и тот рассуждает: «Я, признаться, климатом очень недоволен и желаю на градусник поглядеть», а у самого в руках толстая книга.
— А ты почитай календарь, — говорит ему Филипп.
Кухарка глупа, но и она вмешивается в умные разговоры и вставляет свои замечания. Филипп идет в участок, чтобы прописать жильцов, — и странно, даже в этом суровом месте говорят только об умном и везде на столах лежат книжки. А вот кто-то подходит к лакею Мише, толкает его и кричит: «Ты спишь? Я тебя спрашиваю: ты спишь?»
— На часах спишь, болван? — слышит Филипп чей-то громовый голос. — Спишь, негодяй, скотина?
Филипп вскочил и протер глаза; перед ним стоял помощник участкового пристава.
— А? Спишь? Я оштрафую тебя, бестия! Я покажу тебе, как на часах спать, моррда!
Через два часа дворника потребовали в участок. Потом он опять был в кухне. Тут, тронутые его наставлениями, все сидели вокруг стола и слушали Мишу, который читал что-то по складам.
Филипп, нахмуренный, красный, подошел к Мише, ударил рукавицей по книге и сказал мрачно:
— Брось!
(обратно)Жених*
Человек с сизым носом подошел к колоколу и нехотя позвонил. Публика, дотоле покойная, беспокойно забегала, засуетилась… По платформе затарахтели тележки с багажом. Над вагонами начали с шумом протягивать веревку… Локомотив засвистел и подкатил к вагонам. Его прицепили. Кто-то, где-то, суетясь, разбил бутылку… Послышались прощания, громкие всхлипывания, женские голоса…
Около одного из вагонов второго класса стояли молодой человек и молодая девушка. Оба прощались и плакали.
— Прощай, моя прелесть! — говорил молодой человек, целуя девицу в белокурую головку. — Прощай! Я так несчастлив! Ты оставляешь меня на целую неделю! Для любящего сердца ведь это целая вечность! Про…щай… Утри свои слезки… Не плачь…
Из глаз девушки брызнули слезы; одна слезинка упала на губу молодого человека.
— Прощай, Варя! Кланяйся всем… Ах, да! Кстати… Если увидишь там Мракова, то отдай ему вот эти… вот эти… Не плачь, душечка… Отдай ему вот эти двадцать пять рублей…
Молодой человек вынул из кармана четвертную и подал ее Варе.
— Потрудись отдать… Я ему должен… Ах, как тяжело!
— Не плачь, Петя. В субботу я непременно… приеду… Ты же не забывай меня…
Белокурая головка склонилась на грудь Пети.
— Тебя? Тебя забыть?! Разве это возможно?
Ударил второй звонок. Петя сжал в своих объятиях Варю, замигал глазами и заревел, как мальчишка. Варя повисла на его шее и застонала. Вошли в вагон.
— Прощай! Милая! Прелесть! Через неделю!
Молодой человек в последний раз поцеловал Варю и вышел из вагона. Он стал у окна и вынул из кармана платок, чтобы начать махать… Варя впилась в его лицо своими мокрыми глазами…
— Айдите в вагон! — скомандовал кондуктор. — Третий звонок! Праашу вас!
Ударил третий звонок. Петя замахал платком. Но вдруг лицо его вытянулось… Он ударил себя по лбу и как сумасшедший вбежал в вагон.
— Варя! — сказал он, задыхаясь. — Я дал тебе для Мракова двадцать пять рублей… Голубчик… Расписочку дай! Скорей! Расписочку, милая! И как это я забыл?
— Поздно, Петя! Ах! Поезд тронулся!
Поезд тронулся. Молодой человек выскочил из вагона, горько заплакал и замахал платком.
— Пришли хоть по почте расписочку! — крикнул он кивавшей ему белокурой головке.
«Ведь этакий я дурак! — подумал он, когда поезд исчез из вида. — Даю деньги без расписки! А? Какая оплошность, мальчишество! (Вздох.) К станции, должно быть, подъезжает теперь… Голубушка!»
(обратно)Дурак*
(Рассказ холостяка)
Прохор Петрович почесал затылок, понюхал табаку и продолжал:
— Две бутылки хересу в меня вылили. Сижу, пью и чувствую: ходят вокруг меня, улыбки ехидные строят и поздравляют. Около меня хозяйская дочка сидит, а я, пьяный дурак, чувствую, что мелю ерунду. Про семейную жизнь мелю, про утюги да горшки… После каждого слова поцелуй горячий… Тьфу! И вспоминать тошно. Просыпаюсь наутро, головешка трещит, во рту хлев свиной, а чувствую и понимаю, что я уже не прохвост, не мелюзга, а жених, самый настоящий — с кольцом на пальце! Иду к отцу-покойнику: так и так, мол, папаша милый, слово дал… венчаться хочу. Отец — известно, в смех… Не верит.
«Куда, говорит, тебе, молокососу, жениться? Ведь тебе и двадцати лет еще нет!»
— А подлинно молод я тогда был. Моложе снега первого… На голове кудри русые, в груди сердце пылкое, заместо живота этого шаровидного — талия тоненькая, женственная…
«Поживи еще да тогда и женись», — говорит отец.
— Я на дыбы… Известно, своя воля, балованный был. На своем стою.
«На ком же ты жениться хочешь?» — спрашивает. — «На Марьяшке Крыткиной»…
— Отец в ужас.
«На этой прощелыге? Да ты с ума сошел! Ведь ее отец мазурик, весь в долгу, как в шелку… Дурачат тебя! В сети свои тебя замануть хотят! Дурак!»
— А действительно, что я дураком был. Баран бараном… Бывало, постучишь себя по голове — в другой комнате слышно. Звонко! До тридцати лет ни одного умного слова не сказал. А дурак, как сами знаете, вечно в беде. Так и я… Никогда, бывало, из беды не выхожу: то одно, то другое… И поделом, не будь дураком… То бьют меня, то из домов и трактиров гонят… Семь раз из гимназии выгоняли… То женят… Ну-с… Отец бранится, кричит, чуть не дерется, а я на своем стою.
— Жениться хочу, да и шабаш! Кому какое дело? Никакой отец не может мне препятствовать, ежели у меня свое умозрение есть! Не маленький!
— Прибежала матушка-покойница. Ушам своим не верит, в обморок падает… Я на своем стою. Можно ли, думаю, мне не жениться, ежели я желаю свое семейство иметь? А ведь Марьяша, думаю, красавица… Она-то не красавица, да мне уж так казалось. Хотелось, чтоб так казалось, в голову себе вбил дурацкую идею… Она горбатенькая, косенькая, худенькая… Да и дура вдобавок… Чучело заморское, одним словом. Крыткины от моей женитьбы интерес видели. Они бедняки были, ну, а я со средствами. У моего отца большое состояние было. Пошел отец к начальству:
«Батюшка, ваше превосходительство! Не велите вы моему аспиду в брак вступать! Сделайте божескую милость! Погибнет мальчик!»
— На мое несчастье, начальник мой с душком был. Мода тогда либеральная пошла только что, дух этот…
«Не могу, говорит, вмешиваться во внутреннюю жизнь моих подчиненных. И вам не советую посягать на свободу сына…» — «Да ведь он дурак, ваше превосходительство!»
— Начальство стук кулаком по столу!
«Кто бы он ни был, милостивый государь, а он имеет право располагать собой как ему угодно! Он свободный человек, милостивый государь! Когда вы, варвары, научитесь понимать жизнь?! Пришлите ко мне вашего сына!»
— Зовут меня. Я застегиваюсь на все пуговицы и иду.
«Чего изволите-с?» — «Вот что, молодой человек! Ваши родители препятствуют вам поступить согласно влечениям вашего сердца. Это жестоко и гнусно с их стороны. Верьте, молодой человек, что симпатии порядочных людей всегда будут на вашей стороне. Если любите, то идите туда, куда влечет вас ваше сердце. А ежели ваши родители по невежеству будут препятствовать вам, то скажите мне. Я поступлю с ними по-своему… Я… я им покажу!»
— И, чтобы показать, что в нем сидит самый настоящий дух этот, он добавил:
«Буду у вас на свадьбе. Даже отцом посажёным могу быть. Завтра же поеду вашу невесту посмотреть».
— Кланяюсь и, ликуя, выхожу. Отец стоит тут же, чуть не плачет, а я ему из кармана кукиш показываю.
— На другой день поехал он невесту смотреть. Понравилась.
«Худа, говорит, но симпатия есть на лице. Доброта, говорит, какая-то на лице написана. Грации много. Вы счастливы, молодой человек!»
— Через три дня повез невесте подарки.
«Примите, говорит, от старика, желающего вам счастья».
— И прослезился даже… На пятый день сговор был. На сговоре он пунш пил и два бокала шампанского выкушал. Доброта!
«Славная, говорит, у тебя бабенка! Худая, косая, а что-то французистое в ней есть! Огонь какой-то!»
— За три дня до свадьбы прихожу к невесте. С букетом, знаете ли…
«Где Марьяша?» — «Дома нету…» — «А где она?»
— Тесть мой будущий молчит и ухмыляется. Теща тут же сидит и кофий внакладку пьет. (Раньше всегда вприкуску пила.)
«Да где же она? Чего вы молчите?» — «А ты что за допросчик такой? Ступай туда, откедова пришел! Вороти оглобли!»
— Приглядываюсь и вижу: мой тестюшка, как зюзя… Нахлестался, сволочь…
«Нету! — говорит, а сам ухмыляется. — Ищи себе другую невесту, а Марьяшка… В гору пошла! Хе-хе-хе! К благодетелю пошла!» — «К какому?» — «А к тому самому… К твоему пузатому, превосходительству-то… Хе-хе-хе… Было б не привозить!»
— Я так и ахнул!..
Прохор Петрович громко высморкался, ухмыльнулся и добавил:
— Ахнул и с той поры умней стал…
(обратно)Рассказ, которому трудно подобрать название*
Был праздничный полдень. Мы, в количестве двадцати человек, сидели за большим столом и наслаждались жизнью. Наши пьяненькие глазки покоились на прекрасной икре, свежих омарах, чудной семге и на массе бутылок, стоявших рядами почти во всю длину стола. В желудках было жарко, или, выражаясь по-арабски, всходили солнца. Ели и повторяли. Разговоры вели либеральные… Говорили мы о… Могу я, читатель, поручиться за вашу скромность? Говорили не о клубнике, не о лошадях… нет! Мы решали вопросы. Говорили о мужике, уряднике, рубле… (не выдайте, голубчик!). Один вынул из кармана бумажечку и прочел стихи, в которых юмористически советуется брать с обывателя за смотрение двумя глазами десять рублей, а за смотрение одним — пять рублей, со слепых же ничего не брать. Любостяжаев (Федор Андреич), человек обыкновенно смирный и почтительный, на этот раз поддался общему течению. Он сказал: «Его превосходительство Иван Прохорыч такая дылда… такая дылда!» После каждой фразы мы восклицали: «Pereat!»[5] Совратили с пути истины и официантов, заставив их выпить за фратернитэ…[6] Тосты были шипучие, забористые, самые возмутительные! Я, например, провозгласил тост за процветание ест… — могу я поручиться за вашу скромность?.. — естественных наук.
Когда подали шампанское, мы попросили губернского секретаря Оттягаева, нашего Ренана и Спинозу*, сказать речь. Поломавшись малость, он согласился и, оглянувшись на дверь, сказал:
— Товарищи! Между нами нет ни старших, ни младших! Я, например, губернский секретарь, не чувствую ни малейшего поползновения показывать свою власть над сидящими здесь коллежскими регистраторами, и в то же время, надеюсь, здесь сидящие титулярные и надворные не глядят на меня, как на какую-нибудь чепуху. Позвольте же мне… Ммм… Нет, позвольте… Поглядите вокруг! Что мы видим?
Мы поглядели вокруг и увидели почтительно улыбающиеся холуйские физии.
— Мы видим, — продолжал оратор, оглянувшись на дверь, — муки, страдания… Кругом кражи, хищения, воровства, грабительства, лихоимства… Круговое пьянство… Притеснения на каждом шагу… Сколько слез! Сколько страдальцев! Пожалеем их, за… заплачем… (Оратор начинает слезоточить.) Заплачем и выпьем за…
В это время скрипнула дверь. Кто-то вошел. Мы оглянулись и увидели маленького человечка с большой лысиной и с менторской улыбочкой на губах. Этот человечек так знаком нам! Он вошел и остановился, чтобы дослушать тост.
— …заплачем и выпьем, — продолжал оратор, возвысив голос, — за здоровье нашего начальника, покровителя и благодетеля, Ивана Прохорыча Халчадаева! Урраааа!
— Уррааа! — загорланили все двадцать горл, и по всем двадцати сладкой струйкой потекло шампанское…
Старичок подошел к столу и ласково закивал нам головой. Он, видимо, был в восторге.
(обратно)Братец*
У окна стояла молодая девушка и задумчиво глядела на грязную мостовую. Сзади нее стоял молодой человек в чиновничьем вицмундире. Он теребил свои усики и говорил дрожащим голосом:
— Опомнись, сестра! Еще не поздно! Сделай такую милость! Откажи ты этому пузатому лабазнику, кацапу этому! Плюнь ты на эту анафему толстомордую, чтоб ему ни дна, ни покрышки! Ну, сделай ты такую милость!
— Не могу, братец! Я ему слово дала.
— Умоляю! Пожалей ты нашу фамилию! Ты благородная, личная дворянка, с образованием, а ведь он квасник, мужик, хам! Хам! Пойми ты это, неразумная! Вонючим квасом да тухлыми селедками торгует! Жулик ведь! Ты ему вчера слово дала, а он сегодня же утром нашу кухарку на пятак обсчитал! Жилы тянет с бедного народа! Ну, а где твои мечтания? А? Боже ты мой, господи! А? Ты же ведь, послушай, нашего департаментского Мишку Треххвостова любишь, о нем мечтаешь! И он тебя любит…
Сестра вспыхнула. Подбородок ее задрожал, глаза наполнились слезами. Видно было, что братец попал в самую чувствительную «центру».
— И себя губишь, и Мишку губишь… Запил малый! Эх, сестра, сестра! Польстилась ты на хамские капиталы, на сережечки да браслетки. Выходишь по расчету за дурмана какого-то… за свинство… За невежу выходишь… Фамилии путем подписать не умеет! «Митрий Неколаев». «Не»… слышишь?.. Неколаев… Ссскатина! Стар, грубый, сиволапый… Ну, сделай ты милость!
Голос братца дрогнул и засипел. Братец закашлялся и вытер глаза. И его подбородок запрыгал.
— Слово дала, братец… Да и бедность наша опротивела…
— Скажу, коли уж на то пошло! Не хотел пачкать себя в твоем мнении, а скажу… Лучше реноме потерять, чем сестру родную в погибели видеть…. Послушай, Катя, я про твоего лабазника тайну одну знаю. Если ты узнаешь эту тайну, то сразу от него откажешься… Вот какая тайна… Ты знаешь, в каком пакостном месте я однажды с ним встретился? Знаешь? А?
— В каком?
Братец раскрыл рот, чтобы ответить, но ему помешали. В комнату вошел парень в поддевке, грязных сапогах и с большим кульком в руках. Он перекрестился и стал у двери.
— Кланялси вам Митрий Терентьич, — обратился он к братцу, — и велели вас с воскресным днем проздравить-с… А вот это самое-с в собственные руки-с.
Братец нахмурился, взял кулек, взглянул в него и презрительно усмехнулся.
— Что тут? Чепуха, должно быть… Гм… Голова сахару какая-то…
Братец вытащил из кулька голову сахару, снял с нее колпак и пощелкал по сахару пальцем.
— Гм… Чьей фабрики сахар? Бобринского? То-то… А это чай? Воняет чем-то… Сардины какие-то… Помада ни к селу ни к городу… изюм с сором… Задобрить хочет, подлизывается… Не-ет-с, милый дружок! Нас не задобришь! А для чего это он цикорного кофею всунул? Я не пью. Кофей вредно пить… На нервы действует… Хорошо, ступай! Кланяйся там!
Парень вышел. Сестра подскочила к брату, схватила его за руку… Брат сильно подействовал на нее своими словами. Еще бы слово и… несдобровать бы лабазнику!
— Говори же! Говори! Где ты его видел?
— Нигде. Я пошутил… Делай, как знаешь! — сказал братец и еще раз постукал пальцем по сахару.
(обратно)Филантроп*
В роскошном, затейливо убранном будуаре одной из известнейших московских бонвиванок сидел доктор. Был полдень. Она, хорошенькая хозяйка, только что поднялась со своего ложа и, развалясь на мягкой кушетке, лениво потягивалась и вопросительно заглядывала в глаза доктора. Доктор, молодой человек лет двадцати шести, сидел vis-à-vis ее в задумчивой позе и хмурился. Полуденное солнце играло на его массивных брелоках, жгло его большой белый лоб, заставляло щуриться его глаза, но он не замечал этого.
Не до физических ощущений было ему, когда другие, более жгучие и более чувствительные болячки не давали ему покоя: у него болела душа.
Он бранил себя, презирал, ненавидел… Он готов был растерзать свою особу.
Дело в том, что она ждала от него слова… А что он ей скажет?
«Негодяй я! — размышлял он, искоса поглядывая на личико сидевшей против него хорошенькой женщины. — Тысячу раз негодяй! Две недели я бегал за ней, надоедал ей, вертелся перед ней, как самый последний фат, рисовался, как дурак какой-нибудь… И что же? Я добился того, что она полюбила меня… Не проходит дня, чтобы она раза четыре не присылала за мной… Я заставил ее полюбить себя, но… разве я способен платить ей тем же? Несчастная! А как жалобно она смотрит! С каким нетерпением она ожидает решительного объяснения!»
Действительно, глаза, покоившиеся на докторском лице, были полны самой нежной любви, самой горячей, трескучей, бешеной страсти!
«И для чего я добивался ее любви? — продолжал размышлять доктор. — Так… фатовства ради… Хотелось самолюбие свое пощекотать. Фаты и дураки любят побеждать женщин. Для чего им эти победы, они не спрашивают себя… Ну что я, например, буду делать с этой куклой? Бедная!»
— И правую руку ломит! — перебила дамочка докторские размышления. — Всю ночь ломило. И голова болела ночью…
— Гм… Так-с… А спали хорошо?
— Плохо… Шум в голове какой-то…
— Сердцебиение? — спросил от нечего делать доктор.
— Да, и сердцебиение, — соврала дамочка. — Вообще нервы ужасно расстроены. Не знаю, что и делать… Каждый день вас беспокою, и т. д.
Прошло полчаса в подобных расспросах и ответах. Наконец противно стало.
Доктор поднялся и взялся за шляпу.
— Движения нужно побольше, — сказал он. — Волнений избегайте… Летом за границу, пожалуй, на Кавказ… Завтра заеду.
Дамочка тоже поднялась и молча сунула в протянутую руку конверт. Он взял, не глядя на нее… Но он нечаянно взглянул в зеркало и увидел там… что маленькое, хорошенькое, капризное личико собиралось заплакать. Глазки, бедные голубые глазки, усиленно мигали и подергивались влагой. Губки сжимались от злости и досады.
«Несчастная!» — подумал доктор, вздохнул и сжалился над нею…
— Впрочем, вот что… — пробормотал он. — Попробуйте-ка принять эти пилюли… Сейчас я пропишу… Попробуйте…
Доктор сел, вырезал из белого листа бумажку для рецепта и, после рецептурного значка (Rp.), написал:
«Быть сегодня в восемь часов вечера на углу Кузнецкого и Неглинной, около Дациаро*. Буду ждать».
Доктор надел перчатку, поклонился и вышел.
В восемь часов вечера… Впрочем, поставлю точку. Одну точку я всегда предпочитал многоточию, предпочту и теперь.
(обратно)Случай из судебной практики*
Дело происходило в N…ском окружном суде, в одну из последних его сессий.
На скамье подсудимых заседал N…ский мещанин Сидор Шельмецов, малый лет тридцати, с цыганским подвижным лицом и плутоватыми глазками. Обвиняли его в краже со взломом, мошенничестве и проживательстве по чужому виду. Последнее беззаконие осложнялось еще присвоением не принадлежащих титулов. Обвинял товарищ прокурора. Имя сему товарищу — легион. Особенных примет и качеств, дающих популярность и солидный гонорарий, он за собой ведать не ведает: подобен себе подобным. Говорит в нос, буквы «к» не выговаривает, ежеминутно сморкается.
Защищал же знаменитейший и популярнейший адвокат. Этого адвоката знает весь свет. Чудные речи его цитируются, фамилия его произносится с благоговением…
В плохих романах, оканчивающихся полным оправданием героя и аплодисментами публики, он играет немалую роль. В этих романах фамилию его производят от грома, молнии и других не менее внушительных стихий.
Когда товарищ прокурора сумел доказать, что Шельмецов виновен и не заслуживает снисхождения; когда он уяснил, убедил и сказал: «я кончил», — поднялся защитник. Все навострили уши. Воцарилась тишина. Адвокат заговорил и… пошли плясать нервы N…ской публики! Он вытянул свою смугловатую шею, склонил набок голову, засверкал глазами, поднял вверх руку, и необъяснимая сладость полилась в напряженные уши. Язык его заиграл на нервах, как на балалайке… После первых же двух-трех фраз его кто-то из публики громко ахнул и вынесли из залы заседания какую-то бледную даму. Через три минуты председатель принужден был уже потянуться к звонку и трижды позвонить. Судебный пристав с красным носиком завертелся на своем стуле и стал угрожающе посматривать на увлеченную публику. Все зрачки расширились, лица побледнели от страстного ожидания последующих фраз, они вытянулись… А что делалось с сердцами!?
— Мы — люди, господа присяжные заседатели, будем же и судить по-человечески! — сказал между прочим защитник. — Прежде чем предстать пред вами, этот человек выстрадал шестимесячное предварительное заключение. В продолжение шести месяцев жена лишена была горячо любимого супруга, глаза детей не высыхали от слез при мысли, что около них нет дорогого отца! О, если бы вы посмотрели на этих детей! Они голодны, потому что их некому кормить, они плачут, потому что они глубоко несчастны… Да поглядите же! Они протягивают к вам свои ручонки, прося вас возвратить им их отца! Их здесь нет, но вы можете себе их представить. (Пауза.) Заключение… Гм… Его посадили рядом с ворами и убийцами… Его! (Пауза.) Надо только представить себе его нравственные муки в этом заключении, вдали от жены и детей, чтобы… Да что говорить?!
В публике послышались всхлипывания… Заплакала какая-то девушка с большой брошкой на груди. Вслед за ней захныкала соседка ее, старушонка.
Защитник говорил и говорил… Факты он миновал, а напирал больше на психологию.
— Знать его душу — значит знать особый, отдельный мир, полный движений. Я изучил этот мир… Изучая его, я, признаюсь, впервые изучил человека. Я понял человека… Каждое движение его души говорит за то, что в своем клиенте я имею честь видеть идеального человека…
Судебный пристав перестал глядеть угрожающе и полез в карман за платком. Вынесли из залы еще двух дам. Председатель оставил в покое звонок и надел очки, чтобы не заметили слезинки, навернувшейся в его правом глазу. Все полезли за платками. Прокурор, этот камень, этот лед, бесчувственнейший из организмов, беспокойно завертелся на кресле, покраснел и стал глядеть под стол… Слезы засверкали сквозь его очки.
«Было б мне отказаться от обвинения! — подумал он. — Ведь этакое фиаско потерпеть! А?»
— Взгляните на его глаза! — продолжал защитник (подбородок его дрожал, голос дрожал, и сквозь глаза глядела страдающая душа). Неужели эти кроткие, нежные глаза могут равнодушно глядеть на преступление? О, нет! Они, эти глаза, плачут! Под этими калмыцкими скулами скрываются тонкие нервы! Под этой грубой, уродливой грудью бьется далеко не преступное сердце! И вы, люди, дерзнете сказать, что он виноват?!
Тут не вынес и сам подсудимый. Пришла и его пора заплакать. Он замигал глазами, заплакал и беспокойно задвигался…
— Виноват! — заговорил он, перебивая защитника. — Виноват! Сознаю свою вину! Украл и мошенства строил! Окаянный я человек! Деньги я из сундука взял, а шубу краденую велел свояченице спрятать… Каюсь! Во всем виноват!
И подсудимый рассказал, как было дело. Его осудили.
(обратно)Загадочная натура*
Купе первого класса.
На диване, обитом малиновым бархатом, полулежит хорошенькая дамочка. Дорогой бахромчатый веер трещит в ее судорожно сжатой руке, pince-nez то и дело спадает с ее хорошенького носика, брошка на груди то поднимается, то опускается, точно ладья среди волн. Она взволнована… Против нее на диванчике сидит губернаторский чиновник особых поручений, молодой начинающий писатель, помещающий в губернских ведомостях небольшие рассказы или, как сам он называет, «новэллы» — из великосветской жизни… Он глядит ей в лицо, глядит в упор, с видом знатока. Он наблюдает, изучает, улавливает эту эксцентрическую, загадочную натуру, понимает ее, постигает… Душа ее, вся ее психология у него как на ладони.
— О, я постигаю вас! — говорит чиновник особых поручений, целуя ее руку около браслета. — Ваша чуткая, отзывчивая душа ищет выхода из лабиринта… Да! Борьба страшная, чудовищная, но… не унывайте! Вы будете победительницей! Да!
— Опишите меня, Вольдемар! — говорит дамочка, грустно улыбаясь. — Жизнь моя так полна, так разнообразна, так пестра… Но главное — я несчастна! Я страдалица во вкусе Достоевского… Покажите миру мою душу, Вольдемар, покажите эту бедную душу! Вы — психолог. Не прошло и часа, как мы сидим в купе и говорим, а вы уже постигли меня всю, всю!
— Говорите! Умоляю вас, говорите!
— Слушайте. Родилась я в бедной чиновничьей семье. Отец добрый малый, умный, но… дух времени и среды… vous comprenez[7], я не виню моего бедного отца. Он пил, играл в карты… брал взятки… Мать же… Да что говорить! Нужда, борьба за кусок хлеба, сознание ничтожества… Ах, не заставляйте меня вспоминать! Мне нужно было самой пробивать себе путь… Уродливое институтское воспитание, чтение глупых романов, ошибки молодости, первая робкая любовь… А борьба со средой? Ужасно! А сомнения? А муки зарождающегося неверия в жизнь, в себя?.. Ах! Вы писатель и знаете нас, женщин. Вы поймете… К несчастью, я наделена широкой натурой… Я ждала счастья, и какого! Я жаждала быть человеком! Да! Быть человеком — в этом я видела свое счастье!
— Чудная! — лепечет писатель, целуя руку около браслета. — Не вас целую, дивная, а страдание человеческое! Помните Раскольникова? Он так целовал*.
— О, Вольдемар! Мне нужна была слава… шум, блеск, как для всякой — к чему скромничать? — недюжинной натуры. Я жаждала чего-то необыкновенного… не женского! И вот… И вот… подвернулся на моем пути богатый старик-генерал… Поймите меня, Вольдемар! Ведь это было самопожертвование, самоотречение, поймите вы! Я не могла поступить иначе. Я обогатила семью, стала путешествовать, делать добро… А как я страдала, как невыносимы, низменно-пошлы были для меня объятия этого генерала, хотя, надо отдать ему справедливость, в свое время он храбро сражался. Бывали минуты… ужасные минуты! Но меня подкрепляла мысль, что старик не сегодня — завтра умрет, что я стану жить, как хотела, отдамся любимому человеку, буду счастлива… А у меня есть такой человек, Вольдемар! Видит бог, есть!
Дамочка усиленно машет веером. Лицо ее принимает плачущее выражение.
— Но вот старик умер… Мне он оставил кое-что, я свободна, как птица. Теперь-то и жить мне счастливо… Не правда ли, Вольдемар? Счастье стучится ко мне в окно. Стоит только впустить его, но… нет! Вольдемар, слушайте, заклинаю вас! Теперь-то и отдаться любимому человеку, сделаться его подругой, помощницей, носительницей его идеалов, быть счастливой… отдохнуть… Но как всё пошло, гадко и глупо на этом свете! Как всё подло, Вольдемар! Я несчастна, несчастна, несчастна! На моем пути опять стоит препятствие! Опять я чувствую, что счастье мое далеко, далеко! Ах, сколько мук, если б вы знали! Сколько мук!
— Но что же? Что стало на вашем пути? Умоляю вас, говорите! Что же?
— Другой богатый старик…
Изломанный веер закрывает хорошенькое личико. Писатель подпирает кулаком свою многодумную голову, вздыхает и с видом знатока-психолога задумывается. Локомотив свищет и шикает, краснеют от заходящего солнца оконные занавесочки…
(обратно)Хитрец*
Шли два приятеля вечернею порой и дельный разговор вели между собой*. Шли они по Невскому. Солнце уже зашло, но не совсем… Кое-где золотились еще домовые трубы и сверкали церковные кресты… В слегка морозном воздухе пахло весной…
— Весна близко! — говорил один приятель другому, стараясь взять его под руку. — Пакостница эта весна! Грязь везде, нездоровье, расходов много… Дачу нанимай, то да се… Ты, Павел Иваныч, провинциал и не поймешь этого… Тебе не понять. У вас в провинции, как выразился однажды какой-то писатель, благодушие одно только… Ни горя, ни печалей. Едите, пьете, спите и никаких вопросов не знаете. Не то, что мы… Подмерзать начало… замечаешь?.. Впрочем, и у вас не без горя… И у вас весной своя печаль. Хе-хе-хе. Теперь у вас, провинциалов, начинает кровь играть… страсти бушуют. Мы, столичные — люди каменные, льдяные, нет в нас пламени, и страстей мы не знаем, а вы вулканы, везувии! Пш! пш! Дышит! Хе-хе-хе… Ой, обожгусь! А признайся-ка, Павел Иваныч, сильно кровь играет?
— Не к чему ей играть… — угрюмо ответил Павел Иваныч.
— Да ну, полно, оставь! Ты холостой, не старый человек, отчего ж ей и не поиграть? Пусть себе играет, коли хочет!.. И напрасно ты конфузишься… Ничего тут конфузного нет… Так только! (Пауза.) А какую, брат, я недавно девочку видел, какую девочку! Пальчики оближешь! Губами сто раз чмокнешь, когда увидишь! Огонь! Формы! Честное слово… Хочешь, познакомлю? Полячка… Созей зовут… Хочешь, сведу к ней?
— Гм… Извини, Семен Петрович, а я тебе скажу, что этак дворянам не надлежит поступать! Не надлежит!! Это бабье дело, кабацкое, а не твое, не дворянское!
— Что такое? Да ты… чего? — струсил Семен Петрович.
— Стыдно, брат! Твой отец-покойник предводителем у нас был, матушка в уважении… Стыдно! Я у тебя уже месяц гощу и одну за тобой черту заметил… Нет у тебя того знакомого, нет того встречного и поперечного, которому бы ты девочки не предлагал!.. То тому, то другому… И разговора у тебя другого нету… Подсватываньем занимаешься. А еще тоже женатый, почтенный, в действительные скоро полезешь, в превосходительные… Стыд, срам!.. Месяц живу у тебя, а ты мне уж десятую предлагаешь… Сваха!..
Семен Петрович сконфузился, завертелся, точно его на карманном воровстве поймали.
— Да я ничего… — залепетал он. — Я это так только… Хе-хе-хе… Какой же ты…
Прошли шагов двадцать молча.
— Несчастный я человек! — застонал вдруг Семен Петрович, багровея и мигая глазками. — Несчастный я! Это ты верно, что я сваха! Верно! И был таким и до самой гробовой доски таким буду, ежели хочешь знать! В аду за это самое гореть буду!
Семен Петрович отчаянно махнул правой рукой, а левой провел по глазам. Цилиндр его сполз на затылок, галоши сильнее заскребли по тротуару. Кончик носа налился кровью…
— Пропадом пропаду за свое поведение! И умру не своей смертью! Погибну! Чувствую, брат, свой порок и понимаю, но ничего я с собой не поделаю. Ведь для чего я всех женским полом пичкаю? Поневоле, брат! Ей-ей, поневоле! Ревнив я, как собака! Каюсь тебе, как другу моему… Ревность меня одолела! Женился я, сам знаешь, на молоденькой, на красавице… Каждый за ней ухаживает, то есть, может быть, на нее никто и глядеть не хочет, но мне всё кажется… Слепой курице, знаешь, всё пшеница. Всякого шага боюсь… Намедни ты после обеда ей руку пожал только, а мне уж всё показалось… ножом пырнуть тебя захотелось… Всего боюсь! Ну, и приходится поневоле хитрость употреблять. Как только замечу, что кто-нибудь начинает увиваться около, я сейчас и подъезжаю с девочкой: не хочешь ли, мол? Отвод, хитрость военная… Дурак я! Что я делаю! Стыд, срам! Каждый день по Невскому бегаю, вербую для приятелей этих шлепохвостых тварей… Вот этих подлянок! А сколько у меня на них денег сходит, ежели бы ты знал! Некоторые, приятели-то, поняли мою слабость и пользуются… На мой счет пробавляются, подлецы… Ах!
Семен Петрович взвизгнул и побледнел. По Невскому, мимо приятелей, прокатила коляска. В ней сидела молодая дамочка; vis-à-vis дамочки сидел мужчина.
— Видишь, видишь?! Жена едет. Ну, как тут не ревновать? А? Ведь это он уж третий раз с ней катается! Недаром! Недаром, шельмец! Видал, как он на нее поглядывает? Прощай… Побегу… Так не хочешь Созю? Нет? Не хочешь! Прощай… Так я ему ее… Созю-то…
Семен Петрович нахлобучил поглубже шляпу и, стуча палкой, побежал, стараясь не потерять из виду коляски.
— Отец предводителем был, — вздохнул Павел Иваныч. — Матушка в уважении… И фамилия знатная, столбовая… А-а-ах! Измельчал народ!
(обратно)Разговор*
Особы обоего пола сидели в мягких креслах, кушали фрукты и, от нечего делать, бранили докторов. Порешили так, что если бы на этом свете вовсе не существовало докторов, то было бы прекрасно; по крайней мере люди не так бы часто болели и умирали.
— Впрочем, господа, иногда… впрочем… — заговорила в конце концов маленькая, тщедушная блондиночка, кушая грушу и краснея. — Иногда доктора бывают полезны… Нельзя отрицать их пользы в некоторых случаях. В семейной жизни, например. Представьте себе, что жена… Мужа моего нет здесь?
Блондинка окинула взором собеседников и, убедясь, что в гостиной нет ее мужа, продолжала:
— Представьте себе, что жена, в силу каких бы там ни было причин, не желает, чтобы, положим, он… не смел и подходить к ней… Представьте, что она не может, одним словом… любить мужа, потому что… одним словом, отдалась другому… любимому существу. Ну, что ей прикажете делать? Она отправляется к доктору и просит его, чтобы он… нашел причины… Доктор идет к мужу и говорит ему, что если… одним словом, вы меня понимаете. У Писемского даже есть кое-что в этом роде…*Доктор приходит к мужу и во имя здоровья жены приказывает ему отказаться от своих супружеских обязанностей… Vous comprenez?[8]
— А я ничего не имею против господ докторов, — сказал сидящий в стороне старичок, чиновник. — Милейший и, могу вас уверить, умнейший народ! Благодетели наши они, ежели вникнуть. Рассудите сами, сударыни мои… Вы вот, мадам, сейчас насчет супружеских обязанностей говорили, а я вам скажу насчет наших обязанностей. Мы тоже ведь любим спокойствие и вожделение душевное этакое, чтоб всё хорошо было. Службу свою я знаю, но ежели, ваше, положим, превосходительство, вы изволите требовать что поверх службы, то извините-с, это уж атанде. Нам наш покой тоже дорог… Вы знаете нашего генерала? Душа человек! Великодушие! Все поступки, можно сказать, душевные. И не обидит тебя, руку тебе подаст, насчет семейства расспросит… Начальник, а равного с тобой поведения. Шуточки этак, прибауточки всякие, анекдотцы… Как отец, одним словом, короче говоря. Но раза три в год в этом великом человеке переворот бывает. Меняется! Совсем другим делается и… не дай тебе господи! Любит, знаете ли, реформы вводить… Это его струна, идея, как говорят социалисты. И когда вот он — раза три в год с ним это случается — начнет реформы вводить, не подходи к нему тогда! Как тигр или лев какой-нибудь! Красный ходит такой, потный, дрожит, говорит, что у него людей нет. Ходим все мы тогда бледные и… помираем от ужаса. И держит нас на службе до поздней ночи, мы пишем, бегаем, архив роем, справки… и не дай тебе господи, и злому татарину этого не пожелаю. В аду кромешном лучше. А намедни плакал, что его не понимают, что помощников настоящих у него нет… Плакал-с! А нешто нам приятно видеть, как начальник плачет?
Старичок умолк и отвернулся, чтобы не показать слез, заблестевших на его глазах.
— При чем же тут доктора? — спросила блондинка.
— А вот при чем-с… Постойте-с… Как только мы заприметим, стало быть, что начинается этот самый переворот, мы сейчас к доктору: «Иван Матвеич, голубчик! Благодетель, отец родной, выручи! На тебя только и надежда. Сделай божескую милость, спровадь ты его за границу! Жить нет возможности»… Ну-с… Доктор-то старичок славный такой… Известно, сам в подчинении был и всю сладость вкусил. Идет к нашему, свидетельствует… «Печенки, — говорит, — не того… Что-то в них там не того, ваше превосходительство… Вы бы, говорит, за границу, водами пользоваться…» Ну, напугает печенками, а тот, известно, человек мнительный, болезней страшится… Сейчас за границу, а реформы — тю-тю! Вот-с!
— А вот ежели присяжным заседателем, положим… — начал купец. — К кому идти, ежели…
После купца стала говорить одна пожилая дама, сын которой недавно чуть было не пошел на военную службу.
И докторов стали хвалить; говорили, что без них никак нельзя, что если бы на этом свете не было докторов, то было бы ужасно. И решили в конце концов так, что если бы не было докторов, то люди болели бы и умирали гораздо чаще.
(обратно)Рыцари без страха и упрека*
На станции «Разбейся» в апартаментах г. начальника станции заседало большое общество. Тут были начальники станций, начальники дистанций, магазинов, депо и проч., отставные и неотставные, старые и молодые. Между форменными путейскими сюртуками виднелись цвета женских modes et robes[9], попадались и детские мордочки… Компания пила чай, играла в карты, музицировала и услаждала себя беседою. Говорили о случаях, случайно случившихся на той или другой линии. Рассказано было много, не написать всего. Один г. Укусилов говорил два часа… Извольте-ка написать! Буду по обычаю краток.
— Три вагона разбило! — кончил свою двухчасовую речь г. Укусилов. — Двое убитых, пять раненых, а что паче сего, то от лукавого: неофициально, то есть… Хе-хе-хмы… Из одной артели было шесть раненых… Призываю их… «Ежели!.. Да кто-нибудь! Да кому-нибудь!.. Говори, что ушибся!» Двум солдатикам по трешке дадено было для успокоения: молчи и не распространяйся! Предостережений много принято было, а между тем не обошлось без худа. С места меня пугнули и судом пригрозили. Ты-де, мол, спал и телеграммы не дал. Начальнику станции, выходит, и спать нельзя… Народ бессовестный… Из-за пустяков семейного человека места лишили. В одном из вагонов начальнику движения из его усадьбы свежих раков везли, да при суматохе растеряли. Начальник мечтал в тот вечер раки а ла бордалез кушать. Воспитания нежного… И не будь этих самых раков подлых, не прилетело бы ко мне на станцию следствие и не потерял бы я места…
— Вы и теперь без места? — спросила поповна из соседнего села. (Она приехала на станцию попросить «по знакомству» для мамаши бесплатного проезда к тете.)
— Какое! Через неделю я служил уж на другой дороге, хоть и под судом числился.
— А вот-с… тоже случай, — начал г. Гарцунов, наливая себе водки. — Вы, конечно, знаете Ивана Михайлыча, что обер-кондуктором ездил. Бестия, я вам скажу! Честнейший человек, благороднейший, но мерзавец в своем роде, архаровец… То есть, не мерзавец, а так себе… гений в своем роде, коршун… Приходит он однажды на «Живодерово» с поездом… С товарным он ездил. В пассажирские его не производили, потому что женщин он не мог видеть равнодушно: припадок с ним делался. Приходит он с поездом… А на ту пору на платформе человек тридцать косарей стояло. Время рабочее, знаете ли, летнее…
«Куда идете, косарики? — спрашивает. — Давайте, говорит, я вас в товарном поезде до следующей станции довезу. По гривеннику, говорит, возьму с человека, только…»
— Тем это на руку, разумеется, того только и нужно. Получил с них Иван Михайлыч по гривеннику и засадил всех в служебный вагон. Поехали наши косари… От восторга песню запели. Па-атеха! На ту пору я в вагоне ехал, поспеть на крестины хотел, к Илье, вот, Петровичу… Олечку ихнюю крестили…
«Зачем вы, говорю, Иван Михайлыч, их насажали? Ведь на станции контролер!» — «Нуте?» — «Сейчас помереть…»
— Иван Михайлыч задумался… Известно, не хотелось оконфузиться. Оно-то ничего, знаете, все даром возят, и всем это великолепно известно, но неловко как-то, знаете… Да и контролеры разные бывают… Иной чёрт такой попадется, что жизни не рад будешь… Бывает! По злобе больше доносят или отличиться перед начальством хочет…
«Поезд не остановишь, — говорит Иван Михайлыч, — а ссадить их, чертей, надо… Как быть?»
— А тут еще поезд нам встретился, с тремя фонарями на служебном вагоне. У них, у кондукторов, знак такой: ежели на служебном вагоне три фонаря, положим, два флага или что-нибудь другое условное, то на станции, значит, контролер. Мои слова подтвердились. Иван Михайлыч думал и надумал. Па-атеха! Отворяет в вагоне дверь, берет господ косарей за шиворот и на всем ходу — марш! Прыгай! Запрыгали косари… Хе-хе-хе… Как снопы повалились.
«Прыгай! — кричит. — Прыгай наперед, и ничего тебе не будет! Прыгай, такой-сякой! Чёрт, дьявол!»
— Мы глядим и со смеху помираем… Все соскочили. Один только ногу себе сломал, а остальные все благополучно. Так и пропали ихние гривенники… Хе-хе-хе… Через неделю как-то узнали об этом скандале, выцарапали откуда-то косаря со сломанной ногой… Донес кто-то, шут возьми… Злоба людская… Косарю дали пять рублей, а Ивана Михайлыча с места долой… Хе-хе…
— И он без места теперь?
— В оперу, слышал, поступает. Баритон у него славный. Едет, бывало, в поезде, напьется и давай петь. Звери заслушивались, птицы плакали! Талантливый человек, и говорить нечего…
(обратно)Верба*
Кто ездил по почтовому тракту между Б. и Т.?
Кто ездил, тот, конечно, помнит и Андреевскую мельницу, одиноко стоящую на берегу речки Козявки. Мельница маленькая, в два постава… Ей больше ста лет, давно уже она не была в работе, и не мудрено поэтому, что она напоминает собой маленькую, сгорбленную, оборванную старушонку, готовую свалиться каждую минуту. И эта старушонка давно бы свалилась, если бы она не облокачивалась о старую, широкую вербу. Верба широкая, не обхватить ее и двоим. Ее лоснящаяся листва спускается на крышу, на плотину; нижние ветви купаются в воде и стелются по земле. Она тоже стара и сгорблена. Ее горбатый ствол обезображен большим темным дуплом. Всуньте руку в дупло, и ваша рука увязнет в черном меду. Дикие пчелы зажужжат около вашей головы и зажалят. Сколько ей лет? Архип, ее приятель, говорит, что она была старой еще и тогда, когда он служил у барина во «французах», а потом у барыни в «неграх»; а это было слишком давно.
Верба подпирает и другую развалину — старика Архипа, который, сидя у ее корня, от зари до зари удит рыбку. Он стар, горбат, как верба, и беззубый рот его похож на дупло. Днем он удит, а ночью сидит у корня и думает. Оба, старуха-верба и Архип, день и ночь шепчут… Оба на своем веку видывали виды. Послушайте их…
Лет 30 тому назад, в вербное воскресенье, в день именин старухи-вербы, старик сидел на своем месте, глядел на весну и удил… Кругом было тихо, как всегда… Слышался только шёпот стариков, да изредка всплескивала гуляющая рыба. Старик удил и ждал полдня. В полдень он начинал варить уху. Когда тень вербы начинала отходить от того берега, наступал полдень. Время Архип узнавал еще и по почтовым звонкам. Ровно в полдень через плотину проезжала Т-я почта.
И в это воскресенье Архипу послышались звонки. Он оставил удочку и стал глядеть на плотину. Тройка перевалила через бугор, спустилась вниз и шагом поехала к плотине. Почтальон спал. Въехав на плотину, тройка почему-то остановилась. Давно уже не удивлялся Архип, но на этот раз пришлось ему сильно удивиться. Случилось нечто необыкновенное. Ямщик оглянулся, беспокойно задвигался, сдернул с лица почтальона платок и взмахнул кистенем. Почтальон не пошевельнулся. На его белокурой голове зазияло багровое пятно. Ямщик соскочил с телеги и, размахнувшись, нанес другой удар. Через минуту Архип услышал возле себя шаги: с берега спускался ямщик и шел прямо на него… Его загоревшее лицо было бледно, глаза тупо глядели бог знает куда. Трясясь всем телом, он подбежал к вербе и, не замечая Архипа, сунул в дупло почтовую сумку; потом побежал вверх, вскочил на телегу и, странно показалось Архипу, нанес себе по виску удар. Окровавив себе лицо, он ударил по лошадям.
— Караул! Режут! — закричал он.
Ему вторило эхо, и долго Архип слышал это «караул».
Дней через шесть на мельницу приехало следствие. Сняли план мельницы и плотины, измерили для чего-то глубину реки и, пообедав под вербой, уехали, а Архип во всё время следствия сидел под колесом, дрожал и глядел в сумку. Там видел он конверты с пятью печатями. День и ночь глядел он на эти печати и думал, а старуха-верба днем молчала, а ночью плакала. «Дура!» — думал Архип, прислушиваясь к ее плачу. Через неделю Архип шел уже с сумкой в город.
— Где здесь присутственное место? — спросил он, войдя за заставу.
Ему указали на большой желтый дом с полосатой будкой у двери. Он вошел и в передней увидел барина со светлыми пуговицами. Барин курил трубку и бранил за что-то сторожа. Архип подошел к нему и, дрожа всем телом, рассказал про эпизод со старухой-вербой. Чиновник взял в руки сумку, расстегнул ремешки, побледнел, покраснел.
— Сейчас! — сказал он и побежал в присутствие. Там окружили его чиновники… Забегали, засуетились, зашептали… Через десять минут чиновник вынес Архипу сумку и сказал:
— Ты не туда, братец, пришел. Ты иди на Нижнюю улицу, там тебе укажут, а здесь казначейство, милый мой! Ты иди в полицию.
Архип взял сумку и вышел.
«А сумка полегче стала! — подумал он. — Наполовину меньше стала!»
На Нижней улице ему указали на другой желтый дом, с двумя будками. Архип вошел. Передней тут не было, и присутствие начиналось прямо с лестницы. Старик подошел к одному из столов и рассказал писцам историю сумки. Те вырвали у него из рук сумку, покричали на него и послали за старшим. Явился толстый усач. После короткого допроса он взял сумку и заперся с ней в другой комнате.
— А деньги же где? — послышалось через минуту из этой комнаты. — Сумка пуста! Скажите, впрочем, старику, что он может идти! Или задержать его! Отведите его к Ивану Марковичу! Нет, впрочем, пусть идет!
Архип поклонился и вышел. Через день караси и окуни опять уже видели его седую бороду…
Дело было глубокою осенью. Старик сидел и удил. Лицо его было так же мрачно, как и пожелтевшая верба: он не любил осени. Лицо его стало еще мрачней, когда он увидел возле себя ямщика. Ямщик, не замечая его, подошел к вербе и сунул в дупло руку. Пчелы, мокрые и ленивые, поползли по его рукаву. Пошарив немного, он побледнел, а через час сидел над рекой и бессмысленно глядел в воду.
— Где она? — спрашивал он Архипа.
Архип сначала молчал и угрюмо сторонился убийцы, но скоро сжалился над ним.
— Я к начальству снес! — сказал он. — Но ты, дурень, не бойся… Я сказал там, что под вербой нашел…
Ямщик вскочил, взревел и набросился на Архипа. Долго он бил его. Избил его старое лицо, повалил на землю, топтал ногами. Побивши старика, он не ушел от него, а остался жить при мельнице, вместе с Архипом.
Днем он спал и молчал, а ночью ходил по плотине. По плотине гуляла тень почтальона, и он беседовал с ней. Наступила весна, а ямщик продолжал еще молчать и гулять. Однажды ночью подошел к нему старик.
— Будет тебе, дурень, слоняться! — сказал он ему, искоса поглядывая на почтальона. — Уходи.
И почтальон то же самое сказал… И верба прошептала то же…
— Не могу! — сказал ямщик. — Пошел бы, да ноги болят, душа болит!
Старик взял под руку ямщика и повел его в город. Он повел его на Нижнюю улицу, в то самое присутствие, куда отдал сумку. Ямщик упал перед «старшим» на колени и покаялся. Усач удивился.
— Чего на себя клепаешь, дурак! — сказал он. — Пьян? Хочешь, чтоб я тебя в холодную засадил? Перебесились все, мерзавцы! Только путают дело… Преступник не найден — ну, и шабаш! Что ж тебе еще нужно? Убирайся!
Когда старик напомнил про сумку, усач захохотал, а писцы удивились. Память, видно, у них плоха… Не нашел ямщик искупления на Нижней улице. Пришлось возвращаться к вербе…
И пришлось бежать от совести в воду, возмутить то именно место, где плавают поплавки Архипа. Утопился ямщик. На плотине видят теперь старик и старуха-верба две тени… Не с ними ли они шепчутся?
(обратно)Обер-верхи*
Верх легковерия
На днях в Т. застрелился землевладелец К., местный воротила, человек богатый и семейный. Пуля была пущена в рот и засела в мозгу. В боковом кармане несчастного было найдено письмо следующего содержания:
«Сейчас я прочел в календаре, что в этом году не будет урожая. Неурожай принесет мне банкротство. Не желая доживать до такого позора, я заранее лишаю себя жизни и прошу никого не винить в моей смерти».
Верх рассеянности
Нам передают за достоверное, что на днях в одной из лечебниц имел место следующий прискорбный случай. Известный хирург М., ампутируя обе ноги у железнодорожного стрелочника, по рассеянности одну ногу отрезал у себя, а другую — у помогавшего ему фельдшера. Обоим подана медицинская помощь.
Верх гражданственности
Я сын почетного потомственного гражданина, читаю «Гражданин»*, хожу в гражданском платье и пребываю со своею Анютой в гражданском браке…
Верх благонамеренности
Нам пишут, что на днях один из сотрудников «Киевлянина»*, некий Т., начитавшись московских газет, в припадке сомнения сделал у самого себя обыск. Не нашедши ничего предосудительного, он все-таки сводил себя в квартал.
(обратно)Вор*
Пробило двенадцать. Федор Степаныч накинул на себя шубу и вышел на двор. Его охватило сыростью ночи… Дул сырой, холодный ветер, с темного неба моросил мелкий дождь. Федор Степаныч перешагнул через полуразрушенный забор и тихо пошел вдоль по улице. А улица широкая, что твоя площадь; редки в Европейской России такие улицы. Ни освещения, ни тротуаров… даже намеков нет на эту роскошь.
У заборов и стен мелькали темные силуэты горожан, спешивших в церковь. Впереди Федора Степаныча шлепали по грязи две фигуры. В одной из них, маленькой и сгорбленной, он узнал здешнего доктора, единственного на весь уезд «образованного человека». Старик-доктор не брезговал знакомством с ним и всегда дружелюбно вздыхал, когда глядел на него. На этот раз старик был в форменной старомодной треуголке, и голова его походила на две утиные головы, склеенные затылками. Из-под фалды его шубенки болталась шпага. Рядом с ним двигался высокий и худой человек, тоже в треуголке.
— Христос воскрес, Гурий Иваныч! — остановил доктора Федор Степаныч.
Доктор молча пожал ему руку и отпахнул кусочек шубы, чтобы похвастать перед ссыльным петличкой, в которой болтался «Станислав».
— А я, доктор, после заутрени хочу к вам пробраться, — сказал Федор Степаныч. — Вы уж позвольте мне у вас разговеться… Прошу вас… Я, бывало, там в эту ночь всегда в семье разговлялся. Воспоминанием будет…
— Едва ли это будет удобно… — сконфузился доктор. — У меня семейство, знаете ли… жена… Вы хотя и тово… но все-таки не тово… Все-таки предубеждение! Я, впрочем, ничего… Кгм… Кашель…
— А Барабаев? — проговорил Федор Степаныч, кривя рот и желчно ухмыляясь. — Барабаева со мной вместе судили, вместе нас выслали, а между тем он у вас каждый день обедает и чай пьет. Он больше украл, вот что!..
Федор Степаныч остановился и прислонился к мокрому забору: пусть пройдут. Далеко впереди него мелькали огоньки. Потухая и вспыхивая, они двигались по одному направлению.
«Крестный ход, — подумал ссыльный. — Как и там, у нас…»
От огоньков несся звон. Колокола-тенора заливались всевозможными голосами и быстро отбивали звуки, точно спешили куда-нибудь.
«Первая Пасха здесь, в этом холоде, — подумал Федор Степаныч, — и… не последняя. Скверно! А там теперь, небось…»
И он задумался о «там»… Там теперь под ногами не грязный снег, не холодные лужи, а молодая зелень; там ветер не бьет по лицу, как мокрая тряпка, а несет дыхание весны… Небо там темное, но звездное, с белой полосой на востоке… Вместо этого грязного забора зеленый палисадник и его домик с тремя окнами. За окнами светлые, теплые комнаты. В одной из них стол, покрытый белой скатертью, с куличами, закусками, водками…
«Хорошо бы теперь хватить тамошней водки! Здесь дрянная водка, пить нельзя…»
Наутро глубокий, хороший сон, за сном визиты, выпивка… Вспомнил он, разумеется, и Олю с ее кошачьей, плаксивой, хорошенькой рожицей. Теперь она спит, должно быть, и не снится он ей. Эти женщины скоро утешаются. Не будь Оли, не был бы он здесь. Она подкузьмила его, глупца. Ей нужны были деньги, нужны ужасно, до болезни, как и всякой моднице! Без денег она не могла ни жить, ни любить, ни страдать…
«— А если меня в Сибирь сошлют? — спросил он ее. — Пойдешь со мной?»
«— Разумеется! Хоть на край света!»
Он украл, попался и пошел в эту Сибирь, а Оля смалодушествовала, не пошла, разумеется. Теперь ее глупая головка утопает в мягкой кружевной подушке, а ноги далеко от грязного снега.
«На суд разодетой явилась и ни разу не взглянула даже… Смеялась, когда защитник острил… Убить мало…»
И эти воспоминания сильно утомили Федора Степаныча. Он утомился, заболел, точно всем телом думал. Ноги его ослабели, подогнулись, и не хватило сил идти в церковь, к родной заутрене… Он воротился домой и, не снимая шубы и сапог, повалился на постель.
Над его кроватью висела клетка с птицей. Та и другая принадлежали хозяину. Птица какая-то странная, с длинным носом, тощая, ему неизвестная. Крылья у нее подрезаны, на голове повырваны перья. Кормят ее какой-то кислятиной, от которой воняет на всю комнату. Птица беспокойно возилась в клетке, стучала носом о жестянку с водой и пела то скворцом, то иволгой…
«Спать не дает! — подумал Федор Степаныч. — Чёррт…»
Он поднялся и потряс рукой клетку. Птица замолчала. Ссыльный лег и о край кровати стащил с себя сапоги. Через минуту птица опять завозилась. Кусочек кислятины упал на его голову и повис в волосах.
— Ты не перестанешь? Не замолчишь? Тебя еще недоставало!
Федор Степаныч вскочил, рванул с остервенением клетку и швырнул ее в угол. Птица замолчала.
Но минут через десять она, показалось ссыльному, вышла из угла на средину комнаты и завертела носом в глиняном полу… Нос, как буравчик… Вертела, вертела, и нет конца ее носу. Захлопали крылья, и ссыльному показалось, что он лежит на полу и что по его вискам хлопают крылья… Нос, наконец, поломался, и всё ушло в перья… Ссыльный забылся…
— Ты за што это тварь убил, душегубец? — услышал он под утро.
Федор Степаныч раскрыл глаза и увидел пред собой хозяина-раскольника, юродивого старца. Лицо хозяина дрожало от гнева и было покрыто слезами.
— За што ты, окаянный, убил мою пташку? Певунью-то мою за што ты убил, сатана чёртова? А? Кого это ты? За што такое? Глаза твои бесстыжие, пес лютый! Уходи из моего дома, и чтоб духу твоего здесь не было! Сею минутою уходи! Сичас!
Федор Степаныч надел шубу и вышел на улицу. Утро было серое, пасмурное… Глядя на свинцовое небо, не верилось, чтобы высоко за ним могло сиять солнце. Дождь продолжал еще моросить…
— Бон-жур! С праздником, мон-шер! — услышал ссыльный, выйдя за ворота.
Мимо ворот на новенькой пролетке катил его земляк Барабаев. Земляк был в цилиндре и под зонтиком.
«Визиты делает! — подумал Федор Степаныч. — И тут, скотина, сумел примазаться… Знакомых имеет… Было б и мне побольше украсть!»
Подходя к церкви, Федор Степаныч услыхал другой голос, на этот раз женский. Навстречу ему ехал почтовый тарантас, набитый чемоданами. Из-за чемоданов выглядывала женская головка.
— Где здесь… Батюшки, Федор Степаныч! Вы ли это? — запищала головка.
Ссыльный подбежал к тарантасу, впился глазами в головку, узнал, схватил за руку…
— Неужели я не сплю?! Что такое? Ко мне?! Надумала, Оля?
— Где здесь Барабаев живет?
— А на что тебе Барабаев?
— Он меня выписал… Две тысячи, вообрази, прислал… По триста в месяц, кроме того, буду получать. Есть здесь театры?..
До самого вечера шатался ссыльный по городу и искал квартиры. Дождь лил весь день, и не показывалось солнце.
«Неужели эти звери могут жить без солнца? — думал он, меся ногами жидкий снег. — Веселы, довольны без солнца! Впрочем, у них свой вкус».
(обратно)Лист*
(Кое-что пасхальное)
Передняя. В углу ломберный столик. На столике лист серой казенной бумаги, чернильница с пером и песочница. Из угла в угол шагает швейцар, алчущий и жаждущий. На сытом рыле его написано корыстолюбие, в карманах позванивают плоды лихоимства. В десять часов начинает вползать с улицы в переднюю маленький человек, или, как изволит называть его — ство, «субъект». Субъект вползает, подходит на цыпочках к столу, робко берет в дрожащую руку перо и выводит на сером листе свою негромкую фамилию. Выводит он долго, с чувством, с толком, точно чистописанию учится… Набирает чернил на перо чуть-чуть, немножечко, раз пять: капнуть боится. Сделай он кляксу и… всё погибло! (Был однажды такой случай… Впрочем, некогда…) Росчерка он не подмахивает: ни-ни… И «ер» вырисовывает. Кончив чистописание, он долго глядит на свою каллиграфию, ищет ошибки и, не найдя таковой, вытирает на лбу пот.
— Христос воскрес! — обращается он к швейцару.
Нафабренные усы приходят в троекратное соприкосновение с колючими усами… Раздаются звуки поцелуя, и в карман цербера с приятным звоном падает новая «малая толика». За первым субъектом вползает другой, за этим третий… и так до часу. Лист со всех сторон покрывается подписями. В четвертом часу цербер несет его в апартаменты. Старичок берет его в руки и начинает считать.
— Все… Но, однако, что это значит? Пс! Тут, эээ… я не вижу ни одного знакомого почерка! Тут один чей-то почерк! Какой-то каллиграф писал! Наняли каллиграфа, тот и подписался за них! Хороши, нечего сказать! Трудно им было самим прийти и поздравить! А-ах! Что я им худого сделал? За что они меня так не уважают? (Пауза.) Эээ… Максим! Поезжай, братец, к экзекутору и т. д…
* * *
Одиннадцать часов. Молодой человек с кокардой на дне фуражки вспотел, тяжело дышит, красен… Он взбирается по бесконечной лестнице на пятый этаж… Взобравшись, он с остервенением дергает за звонок. Ему отворяет молодая женщина.
— Ваш Иван Капитоныч дома? — спрашивает молодой человек, задыхаясь от усталости. — Ох! Скажите ему, чтобы он как можно скорей бежал к его — ству опять расписываться! Украли тот лист! Ох… Нужно теперь новый лист… Скорей!!
— Кто же это украл? Кому он нужен?
— Его чертовка… эта… фффф… Его экономка стянула! Бумагу собирает, на пуды продает… Сквалыжная баба, чтоб ей ни дна ни покрышки! Однако мне к восьмерым еще бежать нужно… Прощайте!
* * *
Еще передняя… Стол и лист. В углу на табурете сидит швейцар, старый, как «Сын отечества»*, и худой, как щепка… В одиннадцать часов открывается дверь из апартаментов. Высовывается лысая голова.
— Что, еще никого не было, Ефимушка? — спрашивает голова.
— Никого-с, ваше — ство…
В первом часу высовывается та же голова.
— Что, еще никого не было, Ефимушка?
— Ни единой души, ваше — ство!
— Гм… Ишь ты… Гм…
Во втором часу — то же, в третьем — то же… В четвертом из апартаментов высовывается всё туловище, с ногами и руками. Старичок подходит к столику и долго глядит на пустой лист. На лице его написана великая скорбь.
— Гм… не то, что в прошлые годы, Ефимушка! — говорит он, вздыхая. — Так… Гм… И на лбу, значит, роковые слова: «В отставке»!!! У Некрасова, кажется, так…* Чтоб моя старуха не смеялась надо мной, давай хоть мы распишемся за них!.. Бери перо…
(обратно)Слова, слова и слова*
На большом номерном диване лежал телеграфист Груздев. Подперев кулаками свою белокурую голову, он рассматривал маленькую рыжеволосую девушку и вздыхал.
— Катя, что заставило тебя так пасть? Скажи мне! — вздохнул между прочим Груздев. — Как ты озябла, однако!
На дворе был один из самых скверных мартовских вечеров. Тусклые фонарные огни едва освещали грязный, разжиженный снег. Всё было мокро, грязно, серо… Ветер напевал тихо, робко, точно боялся, чтобы ему не запретили петь. Слышалось шлепанье по грязи… Тошнило природу!
— Катя, что заставило тебя так пасть? — спросил еще раз Груздев.
Катя робко поглядела в глаза Груздеву. Глаза честные, теплые, искренние — так показалось ей. А эти падшие создания так и лезут на честные глаза, лезут и налетают, как мотыльки на огонь. Кашей их не покорми, а только взгляни на них потеплей. Катя, теребя бахрому от скатерти, конфузливо рассказала Груздеву свою жалкую повесть. Повесть самая обыкновенная, подлая: он, обещание, надувательство и проч.
— Какой же он подлец! — проворчал Груздев, негодуя. — Есть же такие мерзавцы, чёрт бы их взял совсем! Богат он, что ли?
— Да, богат…
— Так и знал… И вы-то хороши, нечего сказать. Зачем вы, бабы, деньги так любите! На что они вам?
— Он побожился, что на всю жизнь обеспечит, — прошептала Катя. — А разве это плохо? Я и польстилась… У меня мать старуха.
— Гм… Несчастные вы, несчастные! А всё по глупости, по пустоте… Малодушны все вы, бабы!.. Несчастные, жалкие… Послушай, Катя! Не мое это дело, не люблю вмешиваться в чужие дела, но лицо у тебя такое несчастное, что нет сил не вмешаться! Катя, отчего ты не исправишься? Как тебе не стыдно? По всему ведь видно, что ты еще не совсем погибла, что возврат еще возможен… Отчего же ты не постараешься стать на путь истинный? Могла бы, Катя! Лицо у тебя такое хорошее, глаза добрые, грустные… И улыбаешься ты как-то особенно симпатично…
Груздев взял Катю за обе руки и, заглядывая ей сквозь глаза в самую душу, сказал много хороших слов. Говорил он тихо, дрожащим тенором, со слезами на глазах… Его горячее дыхание обдавало всё ее лицо, шею…
— Можно исправиться, Катя! Ты так молода еще… Попробуй!
— Я уже пробовала, но… ничего не вышло. Всё было… Раз пошла даже в горничные, хоть… и дворянка я! Думалось исправиться. Лучше самый грязный труд, чем наше дело. Я к купцу поступила… Жила месяц, и ничего, можно жить… Но хозяйка приревновала к хозяину, хотя я и внимания на него не обращала, приревновала, прогнала, места нет и… опять пошло сначала… Опять!
Катя сделала большие глаза, побледнела и вдруг взвизгнула. В соседнем номере кто-то уронил что-то: испугался, должно быть. Мелкий, истерический плач понесся сквозь все тонкие номерные перегородки. Груздев бросился за водой. Через десять минут Катя лежала на диване и рыдала:
— Подлая я, гадкая! Хуже всех на свете! Никогда я не исправлюсь, никогда не исправлюсь, никогда не сделаюсь порядочной! Разве я могу? Пошлая! Стыдно тебе, больно? Так тебе и следует, мерзкая!
Катя сказала немного, меньше Груздева, но понять можно было многое. Она хотела прочесть целую исповедь, так хорошо знакомую каждому «честному развратнику», но не получилось из ее речи ничего, кроме нравственных самопощечин. Всю душу себе исцарапала!
— Пробовала уже, но ничего не выходит! Ничего! Всё одно погибать! — кончила она со вздохом и поправила свои волосы.
Молодой человек взглянул на часы.
— Не быть из меня толку! А вам спасибо… Я первый раз в жизни слышу такие ласковые слова. Вы один только обошлись со мной по-человечески, хоть я и беспорядочная, гадкая…
И Катя вдруг остановилась говорить. Сквозь ее мозг молнией пробежал один маленький роман, который она читала когда-то, где-то… Герой этого романа ведет к себе падшую и, наговорив ей с три короба, обращает ее на путь истины, обратив же, делает ее своей подругой… Катя задумалась. Не герой ли подобного романа этот белокурый Груздев? Что-то похоже… Даже очень похоже. Она с стучащим сердцем стала смотреть на его лицо. Слезы ни к селу ни к городу опять полились из ее глаз.
— Ну, полно, Катя, утешься! — вздохнул Груздев, взглянув на часы. — Исправишься, бог даст, коли захочешь.
Плачущая Катя медленно расстегнула три верхние пуговки шубки. Роман с красноречивым героем стушевался из ее головы…
В вентиляцию отчаянно взвизгнул ветер, точно он первый раз в жизни видел насилие, которое может совершать иногда насущный кусок хлеба. Наверху, где-то далеко за потолком, забренчали на плохой гитаре. Пошлая музыка!
(обратно)Двадцать шесть*
(Выписки из дневника)
2-го того же мес. Пообедав, размышлял о плачевном состоянии западноевропейских финансов. Пригласил в экономки.
18-го июня. Бунтовала за обедом. Переживает, по-видимому, душевный переворот. Боюсь, чтоб не амуры. Читал в «Голосе» передовую статью… Нельзя-с!!!
4-го декабря. Всю ночь хлопали калиткой. В пять часов утра видел канцеляриста Карявова выходящим из моего двора. На мой вопрос, зачем он здесь, Карявов смутился. На что-то покуситься хотел, шельма. Надо будет уволить.
28-го того же мес. Бунтовала весь день. Кой чёрт это шляется? Поймал в деле № 1302 мышь. Убил.
Новый год. Принимал поздравления. Преподнес ей для назидания душеполезную книгу. Весь день бунтовала. Находясь в унынии, писал сочинение: «О нападении печенегов на Уфимскую губернию». Видел видение.
4-го того же мес. Разорвала и книгу и мое сочинение. Приказала воротить Карявова. Исполню, душенька! Вечером бунтовала, рвала мои бумаги, падала в гистерику и объявила, что на днях уезжает в Самарскую губ. лечиться от грудей. Не пущу!!
6-го февраля. Уехала!! Лежал целый день на ее кровати, плакал и так рассуждал: «Она здорова, следственно не лечиться поехала. Тут другая статья: амуры. Подозреваю, что увлечена одним из моих молокососов канцелярских. Но с кем и как? Узнаю завтра, ибо виновник попросится в отпуск, дабы к ней поехать. Он, шельма, подает мне прошение об отпуске, а я его… цап!! Ночью не хлопали калиткой, а все-таки спал плохо. Несмотря на уныние, размышлял о бедственном состоянии Франции. Видел два видения сразу. Господи, прости нас, грешных!
7-го февраля. Подано двадцать шесть прошений об отпуске. Все!!! Постой же… Просятся в Кронштадт. Так вот она где, эта Самарская губ.! Постой же…
8-го того же мес. Не менее скорблю. Пребываю в унынии. Разнес всех и вся. Вся канцелярия вспотела — не до любви ей теперь. Видел во сне Кронштадт.
14-го того же мес. Вчера, в воскресенье, Карявов ездил куда-то за город, сегодня же ходит по канцелярии и саркастически улыбается… Уволю.
25-го того же мес. Получил от нее письмо. Приказывает прислать денег и снова принять на службу Карявова. Исполню, душенька! Дожидайся! Вчера еще трое ездили за город… Чьей-то калиткой хлопают они теперь?
(обратно)Теща-адвокат*
Это произошло в одно прекрасное утро, ровно через месяц после свадьбы Мишеля Пузырева с Лизой Мамуниной. Когда Мишель выпил свой утренний кофе и стал искать глазами шляпу, чтобы ретироваться на службу, к нему в кабинет вошла теща.
— Я задержу вас, Мишель, минут на пять, — сказала она. — Не хмурьтесь, мой друг… Я знаю, что зятья не любят говорить с тещами, но мы, кажется… сошлись с вами, Мишель. Мы не зять и не теща, а умные люди… У нас много общего… Ведь да?
Теща и зять уселись на диване.
— Чем могу быть полезен, муттерхен[10]?
— Вы умный человек, Мишель, очень умный; я тоже… неглупа… Мы поймем друг друга, надеюсь. Я давно уже собираюсь поговорить с вами, mon petit[11]…Скажите мне откровенно, ради… ради всего святого, что вы хотите сделать с моей дочерью?
Зять сделал большие глаза.
— Я, знаете ли, согласна… Пусть! Почему же? Наука вещь хорошая, без литературы нельзя… Поэзия ведь! Я понимаю! Приятно, если женщина образованна… Я сама воспитывалась, понимаю… Но для чего, mon ange[12], крайности?
— То есть? Я не совсем вас понимаю…
— Я не понимаю ваших отношений к моей Лизе! Вы женились на ней, но разве она вам жена, подруга? Она ваша жертва! Науки, книги там, теории разные… Всё это очень хорошие вещи, но, мой друг, вы не забывайте, что она моя дочь! Я не позволю! Она моя плоть и кровь! Вы убиваете ее! Не прошло и месяца со дня вашей свадьбы, а она уже похожа у вас на щепку! Целый день сидит она у вас за книгой, читает эти глупые журналы! Бумаги какие-то переписывает! Разве это женское дело? Вы не вывозите ее, не даете ей жить! Она у вас не видит общества, не танцует! Невероятно даже! Ни разу за всё время не была на балу! Ни ра-зу!
— Ни разу не была на балу, потому что сама не хотела. Потолкуйте-ка с ней самой… Вы узнаете, какого она мнения о ваших балах и танцах. Нет, ma chère[13]! Ей противно ваше безделье! Если она сидит по целым дням за книгой или за работой, то, верьте, в этом никто не насилует ее убеждений… За это-то я ее и люблю… А за сим честь имею кланяться и прошу впредь в наши отношения не вмешиваться. Лиза сама скажет, если ей понадобится что-нибудь сказать…
— Вы думаете? Неужели вы не видите, как она кротка и нема? Любовь связала ей язык! Не будь меня, вы бы на нее хомут надели, милостивый государь! Да-с! Вы тиран, деспот! Извольте сегодня же изменить ваше поведение!
— И слушать не хочу…
— Не хотите? И не нужно! Не велика честь! Я и говорить бы с вами не стала, если бы не Лиза! Мне ее жаль! Она умолила меня поговорить с вами!
— Ну, уж это вы лжете… Это уж ложь, сознайтесь…
— Ложь? Так погляди же, грубая душа!
Теща вскочила и рванула за дверную ручку. Дверь распахнулась, и Мишель увидел свою Лизу. Она стояла на пороге, ломала себе руки и всхлипывала. Ее хорошенькая мордочка была вся в слезах. Мишель подскочил к ней…
— Ты слышала? Так скажи же ей! Пусть поймет свою дочь!
— Мама… мама говорит правду, — заголосила Лиза. — Я не выношу этой жизни… Я страдаю…
— Гм… Вот как! Странно… Но почему же ты сама со мной не поговоришь об этом?
— Я… я… ты рассердишься…
— Но ведь ты же сама постоянно трактовала против безделья! Ты говорила, что любишь меня только за мои убеждения, что тебе противна жизнь твоей среды! Я и полюбил тебя за это! До свадьбы ты презирала, ненавидела эту суетную жизнь! Чем же объяснить такую перемену?
— Тогда я боялась, что ты на мне не женишься… Милый Мишель! поедем сегодня на jour fixe[14] к Марье Петровне!.. — И Лиза упала на грудь Мишеля.
— Ну, вот видите! Теперь убедились? — сказала теща и торжествующе вышла из кабинета…
— Ах ты, дурак! — простонал Мишель.
— Кто дурак? — спросила Лиза.
— Тот, кто ошибся!..
(обратно)Моя Нана*
Это было тогда, когда я еще не был неизвестным литератором и мои колючие усы не были еще даже чуть заметными полосками…
Был хороший весенний вечер. Я воротился с дачного «круга», на котором мы учиняли пляс, как угорелые. В моем юношеском организме, выражаясь образно, камня на камне не было, восстал язык на язык, царство на царство. В моей отчаянной душе раскалялась и бурлила наиотчаяннейшая любовь. Любовь была жгучая, острая, дух захватывающая — первая, одним словом. Влюбился я в высокую статную барыньку, лет двадцати трех, с глупеньким, но хорошеньким личиком, с чудными ямочками на щеках. Влюбился я и в эти ямочки и в белокурые волосы, которые кудряшками падали на красивые плечи из-под широкополой соломенной шляпки… Ах, одним словом! Воротясь с круга, я повалился на свое ложе и застонал, как пришибленный. Через час я сидел за столом и, дрожа всем телом, измарав целую десть бумаги, сочинял письмо следующего содержания:
«Валерия Андреевна! Я знаком с вами очень мало, почти незнаком, но это не может послужить мне препятствием на пути к достижению намеченных мною целей. Минуя громкие фразы, я прямо приступаю к цели: я люблю вас! Да, я люблю вас, и люблю больше жизни! Это не гипербола. Я честен, тружусь (следует длиннейшее описание моих доблестей)… Жизнь моя мне не дорога. Не сегодня — так завтра, не завтра — так через год…. не всё ли равно? На моем столе, в двух футах от моей груди, лежит револьвер (шестистволка). Я в ваших руках. Если вам дорога жизнь страстно любящего вас человека, то отвечайте. Жду ответа. Ваша Палаша знает меня. Можете через нее ответить. Ваш вчерашний vis-à-vis (такой-то, имя рек)…
P. S. Сжальтесь!»
Запечатав это письмо, я положил перед собой на стол револьвер — для «фантазии» больше, чем для самоубийства — и пошел между дач искать почтового ящика. Ящик был найден и письмо опущено.
Вот что произошло, как рассказывала мне потом Палаша, с моим письмом. На другой день утром, часов в одиннадцать, Палаша, после прихода почтальона, положила мое письмо на серебряный поднос и понесла его в спальную хозяйки. Валерия Андреевна лежала под воздушным шёлковым одеялом и лениво потягивалась. Она только что проснулась и выкуривала первую папироску. Глазки ее капризно щурились от луча, который сквозь окно назойливо бил в ее лицо. Увидев мое письмо, она состроила кислую гримасу.
— От кого это? — спросила она. — Прочти сама, Палаша! Я не люблю читать этих писем. Глупости всё…
Палаша распечатала мое письмо и принялась за чтение. Чем больше углублялась она в чтение моего сочинения, тем круглее и шире делались глаза ее госпожи. Когда она дочитала до револьвера, Валерия Андреевна раскрыла рот и с ужасом поглядела на Палашу.
— Что это значит? — спросила она недоумевая.
Палаша прочла еще раз. Валерия Андреевна замигала глазками.
— Кто же это? Кто он? Ну, зачем он так пишет? — заговорила она плаксиво. — Кто он?
Палаша припомнила и описала меня.
— Ах! Да зачем он это пишет? Ну, разве так можно? Что же я могу сделать? Не могу же я, Палаша! Он богат, что ли?
Палаша, которой я отдавал на чай почти все свои дивиденды, подумала и сказала, что я, вероятно, богат.
— Не могу же я! Сегодня, вот, у меня Алексей Матвеич будет, завтра барон… В четверг Ромб будет… Когда же я могу его принять? Днем разве?
— Григорий Григорьич обещались у вас быть нынче днем…
— Ну, вот видишь! Разве я могу? Ну, скажи ему… Пусть… Пусть хоть чай придет сегодня пить… Больше я не могу…
Валерия Андреевна готова была заплакать. Первый раз в жизни она узнала, что за штука револьвер, и узнала из моего сочинения! Вечером я был у нее и пил чай. Выпил четыре стакана, хоть и страдал… На мое счастье был дождь и не приехал к Валерии ее Алексей Матвеич. В конце концов я ликовал.
(обратно)Случай с классиком*
Собираясь идти на экзамен греческого языка, Ваня Оттепелев перецеловал все иконы. В животе у него перекатывало, под сердцем веяло холодом, само сердце стучало и замирало от страха перед неизвестностью. Что-то ему будет сегодня? Тройка или двойка? Раз шесть подходил он к мамаше под благословение, а уходя, просил тетю помолиться за него. Идя в гимназию, он подал нищему две копейки, в расчете, что эти две копейки окупят его незнания и что ему, бог даст, не попадутся числительные с этими тессараконта и октокайдека*.
Воротился он из гимназии поздно, в пятом часу. Пришел и бесшумно лег. Тощее лицо его было бледно. Около покрасневших глаз темнели круги.
— Ну, что? Как? Сколько получил? — спросила мамаша, подойдя к кровати.
Ваня замигал глазами, скривил в сторону рот и заплакал. Мамаша побледнела, разинула рот и всплеснула руками. Штанишки, которые она починяла, выпали у нее из рук.
— Чего же ты плачешь? Не выдержал, стало быть? — спросила она.
— По… порезался… Двойку получил…
— Так и знала! И предчувствие мое такое было! — заговорила мамаша. — Ох, господи! Как же ты это не выдержал? Отчего? По какому предмету?
— По греческому… Я, мамочка… Спросили меня, как будет будущее от «феро», а я… я вместо того, чтоб сказать «ойсомай», сказал «опсомай». Потом… потом… облеченное ударение не ставится, если последний слог долгий, а я… я оробел… забыл, что альфа тут долгая… взял да и поставил облеченное. Потом Артаксерксов велел перечислить энклитические частицы… Я перечислял и нечаянно местоимение впутал… Ошибся… Он и поставил двойку… Несчастный… я человек… Всю ночь занимался… Всю эту неделю в четыре часа вставал…
— Нет, не ты, а я у тебя несчастная, подлый мальчишка! Я у тебя несчастная! Щепку ты из меня сделал, ирод, мучитель, злое мое произволение! Плачу за тебя, за дрянь этакую непутящую, спину гну, мучаюсь и, можно сказать, страдаю, а какое от тебя внимание? Как ты учишься?
— Я… я занимаюсь. Всю ночь… Сами видели…
— Молила бога, чтоб смерть мне послал, не посылает, грешнице… Мучитель ты мой! У других дети, как дети, а у меня один-единственный — и никакой точки от него, никакого пути. Бить тебя? Била бы, да где же мне сил взять? Где же, божья матерь, сил взять?
Мамаша закрыла лицо полой кофточки и зарыдала. Ваня завертелся от тоски и прижал свой лоб к стене. Вошла тетя.
— Ну, вот… Предчувствие мое… — заговорила она, сразу догадавшись, в чем дело, бледнея и всплескивая руками. — Всё утро тоска… Ну-у, думаю, быть беде… Оно вот так и вышло…
— Разбойник мой, мучитель! — проговорила мамаша.
— Чего же ты его ругаешь? — набросилась на нее тетя, нервно стаскивая со своей головки платочек кофейного цвета. — Нешто он виноват? Ты виноватая! Ты! Ну, с какой стати ты его в эту гимназию отдала? Что ты за дворянка такая? В дворяне лезете? А-а-а-а… Как же, беспременно, так вот вас и сделают дворянами! А было бы вот, как я говорила, по торговой бы части… в контору-то, как мой Кузя… Кузя-то, вот, пятьсот в год получает. Пятьсот — шутка ли? И себя ты замучила, и мальчишку замучила ученостью этой, чтоб ей пусто было. Худенький, кашляет… погляди: тринадцать лет ему, а вид у него, точно у десятилетнего.
— Нет, Настенька, нет, милая! Мало я его била, мучителя моего! Бить бы нужно, вот что! У-у-у… иезуит, магомет, мучитель мой! — замахнулась она на сына. — Пороть бы тебя, да силы у меня нет. Говорили мне прежде, когда он еще мал был: «Бей, бей»… Не послушала, грешница. Вот и мучаюсь теперь. Постой же! Я тебя выдеру! Постой…
Мамаша погрозила мокрым кулаком и, плача, пошла в комнату жильца. Ее жилец, Евтихий Кузьмич Купоросов, сидел у себя за столом и читал «Самоучитель танцев». Евтихий Кузьмич — человек умный и образованный. Он говорит в нос, умывается с мылом, от которого пахнет чем-то таким, от чего чихают все в доме, кушает он в постные дни скоромное и ищет образованную невесту, а потому считается самым умным жильцом. Поет он тенором.
— Батюшка! — обратилась к нему мамаша, заливаясь слезами. — Будьте столь благородны, посеките моего… Сделайте милость! Не выдержал, горе мое! Верите ли, не выдержал! Не могу я наказывать, по слабости моего нездоровья… Посеките его заместо меня, будьте столь благородны и деликатны, Евтихий Кузьмич! Уважьте больную женщину!
Купоросов нахмурился и выпустил сквозь ноздри глубочайший вздох. Он подумал, постучал пальцами по столу и, еще раз вздохнув, пошел к Ване.
— Вас, так сказать, учат! — начал он. — Образовывают, ход дают, возмутительный молодой человек! Вы почему?
Он долго говорил, сказал целую речь. Упомянул о науке, о свете и тьме.
— Н-да-с, молодой человек!
Кончив речь, он снял с себя ремень и потянул Ваню за руку.
— С вами иначе нельзя! — сказал он.
Ваня покорно нагнулся и сунул свою голову в его колени. Розовые, торчащие уши его задвигались по новым триковым брюкам с коричневыми лампасами…
Ваня не издал ни одного звука. Вечером, на семейном совете, решено было отдать его по торговой части.
(обратно)Закуска*
(Приятное воспоминание)
Был пасхальный канун. За час до заутрени зашли за мной мои приятели. Они были во фраках и белых галстухах.
— Очень кстати, господа, — сказал я. — Вы поможете мне убрать стол… Я человек холостой, бабенции у меня не полагается, а посему… помощь дружеская. Плумбов, давай стол отодвинем!
Приятели двинулись к столу, и через какие-нибудь пять минут мой стол уже изображал собой аппетитнейшую картину. Окорок, колбасы, водки, вина, заливной поросенок… Убрав стол, мы взялись за цилиндры: пора! Но не тут-то было… Кто-то позвонил…
— Дома? — услышали мы чей-то хриплый голос. — Входи, Илья, не бойся!
Вошел Прекрасновкусов. За ним робко шагал маленький, чахлый человечек. У обоих под мышками были портфели…
— Тссс… — сказал я приятелям. — Язык за зубами!
— Рекомендую! — сказал Прекрасновкусов, указывая на чахлого человечка. — Илья Дробискулов! На днях к нам поступил, к нашему лику причислился… Да ты не конфузься, Илюша! Пора привыкнуть! А мы, знаете ли, шли, шли, взяли да и зашли. Дай, думаю, зайдем, праздничные возьмем, чтоб завтра не беспокоить…
Я сунул обоим по синенькой. Дробискулов сконфузился.
— Так-с, — продолжал Прекрасновкусов, заглянув себе в кулак. — Вы уж уходите? А не рано ли? Давайте-ка посидим минуту… отдохнем. Садись, Илья, не бойся! Привыкай! Закусок-то сколько, закусок! А? Закусок-то! Мне окорок напоминает один анекдот…
И Прекрасновкусов, пожирая глазами мои закуски, рассказал нам похабный анекдот. Прошло четверть часа. Чтобы выжить гостей, я послал своего Андрюшку на улицу прокричать «караул». Андрюшка вышел и кричал минут пять, но гости мои ни гугу… И внимания не обратили, как будто бы «караул» не их дело…
— А долго еще ждать разговенья! — сказал Прекрасновкусов. — Теперь еще грешно, а то бы мы, Илюша, того… по единой… А что, господа, не пропустить ли нам по одной? Ведь водка постная! А? Давайте-ка!
Идея пришлась моим приятелям по вкусу. Подошли к столу, налили и выпили. Закусили селедочкой, а на скоромное только взглянули. Прекрасновкусов похвалил водку и, желая узнать, какого она завода, выпил другую. Илюша сконфузился и тоже пожелал узнать… Выпили, но не узнали.
— Славная водка! — сказал Прекрасновкусов. — У моего дяди свой винокуренный завод был. Так вот у него, у дяди-то, была, так сказать…
И гость рассказал нам, как он с дядиной «обже»[15] на каланче свидание имел. Мои приятели окружили его и попросили рассказать еще что-нибудь… Еще раз выпили. Дробискулов очень ловко захватил рукавом кусочек колбасы, взял его в носовой платок и, сморкаясь, незаметно положил в рот. Прекрасновкусов съел кусок пасхи из творога.
— А я и забыл, что она скоромная! — сказал он, глотая. — Надо ее запить…
Говорят, что в полночь звонили к заутрене, но мы не слышали этого звона. В полночь мы ходили вокруг стола и спрашивали себя: что бы еще выпить… этакое? Дробискулов сидел в углу и, конфузясь, глодал заливного поросенка. Прекрасновкусов бил кулаком по своему портфелю и говорил:
— Вы меня не любите, а я вот вас… ллюблю! Честное и блаародное слово, ллюблю! Я куроцап, волк, коршун, птица хищная, но во мне все-таки есть настолько чувств и ума, чтоб понимать, что меня не следует любить. Я, например, вот взял праздничные… Ведь взял? А завтра я приду и скажу, что не брал… Разве можно любить меня после этого?
Дробискулов, покончив с поросенком, победил свою робость и сказал:
— А я? Меня еще можно любить… Я образованный человек… Я ведь не своим делом занялся. Не мое это дело! Я к нему и призвания никакого не имею… Так только, пур манже![16] Я… стихотворец… Н-да… В пьяном виде протоколы в стихах составляю. Я и гласность люблю. Не нравятся мне газеты только за то, что в них пристрастия много. Я не разбирал бы там, кто консерватор, кто либерал. Беспристрастие — первое дело! Консерватор нагадил — бей в морду; либерал напакостил — лупи в харю! Всех лупи! Моя мечта — газету издавать. Хе-хе… Сидел бы я себе в редакции, морду бы надувал да конвертики распечатывал. А в конвертиках всякое бывает… всякое… Хе-хе-хе… Я распечатал бы, прочел бы да и… цап его, сотрудника-то! Нешто не любопытно?
В три часа гости взяли свои портфели и ушли в трактир, беспорядков искать. От закуски моей остались одни только ножи, вилки да две ложки. Остальные шесть ложек исчезли…
(обратно)Съезд естествоиспытателей в Филадельфии*
(Статья научного содержания)
Первым читался реферат «О происхождении человека», посвященный памяти Дарвина. Ввиду того, что зала заседания соединена телефоном, реферат этот читался шёпотом. Почтенный референт заявил, что он вполне соглашается с Дарвином. Виновата во всем обезьяна. Он сказал, что не будь обезьяны, не было бы людей, а где нет людей, там нет и преступников. Съезд единогласно порешил: выразить обезьяне свое неудовольствие и довести обо всем до сведения г. прокурора(!). Из возражений наиболее выдаются следующие:
1. Французский делегат, вполне соглашаясь с мнением съезда, не находит, однако, способов уяснить себе возможность происхождения от обезьяны таких резких типов, как торжествующая свинья и плачущий крокодил. Заявляя об этом, почтенный оппонент демонстрировал перед съездом изображения торжествующей свиньи и плачущего крокодила. Съезд был приведен в тупик и постановил: отложить решение этого вопроса до следующей сессии и перед решением его заткнуть чем-нибудь телефонную трубку.
2. Германский делегат, он же и иностранный корреспондент газеты «Русь»*, склонен скорей думать, что человек произошел от обезьяны и попугая, от обоих вместе. Всё человечество, по его мнению, гибнет от подражания иностранцам. (Из телефонной трубки слышен гул одобрения.)
3. Бельгийский делегат согласен со съездом только относительно, ибо, по его мнению, далеко не все народы произошли от обезьяны. Так, русский произошел от сороки, еврей от лисицы, англичанин от замороженной рыбы. Довольно оригинально доказывает он происхождение русского от сороки. Съезду, находившемуся под впечатлением бушевских и макшеевских процессов*, не трудно было согласиться с последним доказательством… («Times»).
(обратно)Кот*
Варвара Петровна проснулась и стала прислушиваться. Лицо ее побледнело, большие черные глаза стали еще больше и загорелись страхом, когда оказалось, что это не сон… В ужасе закрыла она руками лицо, приподнялась на локоть и стала будить своего мужа. Муж, свернувшись калачиком, тихо похрапывал и дышал на ее плечо.
— Алеша, голубчик… Проснись! Милый!.. Ах… это ужасно!
Алеша перестал храпеть и вытянул ноги. Варвара Петровна дернула его за щеку. Он потянулся, глубоко вздохнул и проснулся.
— Алеша, голубчик… Проснись. Кто-то плачет…
— Кто плачет? Что ты выдумываешь?
— Прислушайся-ка. Слышишь? Стонет кто-то… Это, должно быть, дитя к нам подкинули… Ах, не могу слышать!
Алеша приподнялся и стал слушать. В настежь открытое окно глядела серая ночь. Вместе с запахом сирени и тихим шёпотом липы слабый ветерок доносил до кровати странные звуки… Не разберешь сразу, что это за звуки: плач ли то детский, пение ли Лазаря, вой ли… не разберешь! Одно только было ясно: звуки издавались под окном, и не одним горлом, а несколькими… Были тут дисканты, альты, тенора…
— Да это, Варя, коты! — сказал Алеша. — Дурочка!
— Коты? Не может быть! А басы же кто?
— Это свинья хрюкает. Ведь мы, не забывай, на даче… Слышишь? Так и есть, коты… Ну, успокойся; спи себе с богом.
Варя и Алеша легли и потянули к себе одеяло. В окно потянуло утренней свежестью и стало слегка знобить. Супруги свернулись калачиками и закрыли глаза. Через пять минут Алеша заворочался и повернулся на другой бок.
— Спать не дают, чёрт бы взял!.. Орут…
Кошачье пение, между тем, шло crescendo. К певцам присоединялись, по-видимому, новые певцы, новые силы, и легкий шорох внизу под окном постепенно обращался в шум, гвалт, возню… Нежное, как студень, piano достигало степени fortissimo, и скоро воздух наполнился возмутительными звуками. Одни коты издавали отрывистые звуки, другие выводили залихватские трели, точно по нотам, с восьмыми и шестнадцатыми, третьи тянули длинную, однообразную ноту… А один кот, должно быть, самый старый и пылкий, пел каким-то неестественным голосом, не кошачьим, то басом, то тенором.
— Мал… мал… Ту… ту… ту… каррряу…
Если б не пшиканье, то и подумать нельзя было бы, что это коты поют… Варя повернулась на другой бок и проворчала что-то… Алеша вскочил, послал в воздух проклятие и запер окно. Но окно не толстая вещь: пропускает и звук, и свет, и электричество.
— Мне в восемь часов вставать надо, на службу ехать, — выругался Алеша, — а они ревут, спать не дают, дьяволы… Да замолчи хоть ты, пожалуйста. Баба! Нюнит над самым ухом! Хныкает тут! Чем же я виноват? Ведь они не мои!
— Прогони их! Голубчик!
Муж выругался, спрыгнул с кровати и пошел к окну… Ночь клонилась к утру.
Поглядев на небо, Алеша увидел одну только звездочку, да и та мерцала точно в тумане, еле-еле… В липе заворчали воробьи, испуганные шумом открывающегося окна. Алеша поглядел вниз на землю и увидел штук десять котов. Вытянув хвосты, шипя и нежно ступая по травке, они дромадерами ходили вокруг хорошенькой кошечки, сидевшей на опрокинутой вверх дном лохани, и пели. Трудно было решить, чего в них было больше: любви ли к кошечке, или собственного достоинства? За любовью ли они пришли, или только за тем, чтобы достоинство свое показать? В отношениях друг к другу сквозила самая утонченная ненависть… По ту сторону палисадника терлась о решетку свинья с поросятами и просилась в садик.
— Пшли! — пшикнул Алеша. — Кшш! Вы, черти! Пш!.. Фюйть!
Но коты не обратили на него внимания. Одна только кошечка поглядела в его сторону, да и то мельком, нехотя. Она была счастлива и не до Алеши ей было…
— Пш… пш… анафемы! Тьфу, чёрт бы вас взял совсем! Варя, дай-ка сюда графин! Мы их окатим! Вот черти!
Варя прыгнула с кровати и подала не графин, а кувшин из рукомойника. Алеша лег грудью на подоконник и нагнул кувшин…
— Ах, господа, господа! — услышал он над своей головой чей-то голос. — Ах, молодежь, молодежь! Ну можно ли так делать, а? Ах-ах-аххх… Молодежь!!
И за сим последовал вздох. Алеша поднял вверх лицо и увидел плечи в ситцевом халате с большими цветами и сухие, жилистые пальцы. На плечах торчала маленькая седовласая головка в ночном колпаке, а пальцы грозили… Старец сидел у окна и не отрывал глаз от котов. Его глазки светились вожделением и были полны масла, точно балет глядели.
Алеша разинул рот, побледнел и улыбнулся…
— Почивать изволите, ваше — ство? — спросил он ни к селу ни к городу.
— Нехорошо-с, милостисдарь! Вы идете против природы, молодой человек! Вы подрываете… эээ… так сказать, законы природы! Нехорошо-с! Какое вам дело? Ведь это… эээ… организм? Как по-вашему? Организм? Надо понимать! Не хвалю, милостисдарь!
Алеша струсил, пошел на цыпочках к кровати и смиренно лег. Варя прикорнула возле него и притаила дыхание.
— Это наш… — прошептал Алеша… — Сам… И не спит. На котов любуется. Вот дьявол-то! Неприятно жить вместе с начальником.
— Ммолодой человек! — услышал через минуту Алеша старческий голос. — Где вы? Пожалуйте сюда!
Алеша подошел к окну и обратил свое лицо к старцу.
— Видите вы этого белого кота? Как вы находите? Это мой! Манера-то, манера! Поступь!.. Поглядите-ка! Мяу, мяу… Васька! Васюшка, шельма! Усищи-то какие у паршака! Сибирский, шельма! Из мест отдаленных… хе-хе-хе… А кошечке быть… быть в беде! Хе-хе. Всегда мой кот верх брал. Вы в этом сейчас убедитесь! Манера-то, манера!
Алеша сказал, что ему очень нравится шерсть. Старичок начал описывать образ жизни этого кота, его привычки, увлекся и рассказывал вплоть до солнечного восхода. Рассказывал со всеми подробностями, причмокивая и облизывая свои жилистые пальцы… Так и не удалось соснуть!
В первом часу следующей ночи коты опять затянули свою песню и опять разбудили Варю. Гнать котов прочь Алеша не смел. Среди них был кот его превосходительства, его начальника. Алеша и Варя до утра прослушали кошачий концерт.
(обратно)Раз в год*
Маленький трехоконный домик княжны имеет праздничный вид. Он помолодел точно. Вокруг него тщательно подметено, ворота открыты, с окон сняты решетчатые жалюзи. Свежевымытые оконные стекла робко заигрывают с весенним солнышком. У парадной двери стоит швейцар Марк, старый и дряхлый, одетый в изъеденную молью ливрею. Его колючий подбородок, над бритьем которого провозились дрожащие руки целое утро, свежевычищенные сапоги и гербовые пуговицы тоже отражают в себе солнце. Марк выполз из своей каморки недаром. Сегодня день именин княжны, и он должен отворять дверь визитерам и выкрикивать их имена. В передней пахнет не кофейной гущей, как обыкновенно, не постным супом, а какими-то духами, напоминающими запах яичного мыла. В комнатах старательно прибрано. Повешены гардины, снята кисея с картин, навощены потертые, занозистые полы. Злая Жулька, кошка с котятами и цыплята заперты до вечера в кухню.
Сама княжна, хозяйка трехоконного домика, сгорбленная и сморщенная старушка, сидит в большом кресле и то и дело поправляет складки своего белого кисейного платья. Одна только роза, приколотая к ее тощей груди, говорит, что на этом свете есть еще молодость! Княжна ожидает визитеров-поздравителей. У нее должны быть: барон Трамб с сыном, князь Халахадзе, камергер Бурластов, кузен генерал Битков и многие другие… человек двадцать! Они приедут и наполнят ее гостиную говором. Князь Халахадзе споет что-нибудь, а генерал Битков два часа будет просить у нее розу… А она знает, как держать себя с этими господами! Неприступность, величавость и грация будут сквозить во всех ее движениях… Приедут, между прочим, купцы Хтулкин и Переулков: для этих господ положены в передней лист бумаги и перо. Каждый сверчок знай свой шесток. Пусть распишутся и уйдут…
Двенадцать часов. Княжна поправляет платье и розу. Она прислушивается: не звонит ли кто? С шумом проезжает экипаж, останавливается. Проходят пять минут.
«Не к нам!» — думает княжна.
Да, не к вам, княжна! Повторяется история прошлых годов. Безжалостная история! В два часа княжна, как и в прошлом году, идет к себе в спальную, нюхает нашатырный спирт и плачет.
— Никто не приехал! Никто!
Около княжны суетится старый Марк. Он не менее огорчен: испортились люди! Прежде валили в гостиную, как мухи, а теперь…
— Никто не приехал! — плачет княжна. — Ни барон, ни князь Халахадзе, ни Жорж Бувицкий… Оставили меня! А ведь не будь меня, что бы из них вышло? Мне обязаны они своим счастьем, своей карьерой — только мне. Без меня из них ничего бы не вышло.
— Не вышло бы-с! — поддакивает Марк.
— Я не прошу благодарности… Не нужна она мне! Мне нужно чувство! Боже мой, как обидно! Даже племянник Жан не приехал. Отчего он не приехал? Что я ему худого сделала? Я заплатила по всем его векселям, выдала замуж его сестру Таню за хорошего человека. Дорого мне стоит этот Жан! Я сдержала слово, данное моему брату, его отцу… Я истратила на него… сам знаешь…
— И родителям их вы, можно сказать, ваше сиятельство, заместо родителей были.
— И вот… вот она благодарность! О люди!
В три часа, как и в прошлом году, с княжной делается истерический припадок. Встревоженный Марк надевает свою шляпу с галунами, долго торгуется с извозчиком и едет к племяннику Жану. К счастью, меблированные комнаты, в которых обитает князь Жан, не слишком далеко… Марк застает князя валяющимся на кровати. Жан только что воротился со вчерашней попойки. Его помятое мордастое лицо багрово, на лбу пот. В голове его шум, в желудке революция. Он рад бы уснуть, да нельзя: мутит. Его скучающие глаза устремлены на рукомойник, наполненный доверху сором и мыльной водой.
Марк входит в грязный номер и, брезгливо пожимаясь, робко подходит к кровати.
— Нехорошо-с, Иван Михалыч! — говорит он, укоризненно покачивая головой. — Нехорошо-с!
— Что нехорошо?
— Почему вы сегодня не пожаловали вашу тетушку с ангелом поздравить? Нешто это хорошо?
— Убирайся к чёрту! — говорит Жан, не отрывая глаз от мыльной воды.
— Нешто это тетушке не обидно? А? Эх, Иван Михалыч, ваше сиятельство! Чувств у вас никаких нету! Ну, с какой стати вы их огорчаете?
— Я не делаю визитов… Так и скажи ей. Этот обычай давно уже устарел… Некогда нам разъезжать. Разъезжайте сами, коли делать вам нечего, а меня оставьте. Ну, проваливай! Спать хочу…
— Спать хочу… Лицо-то, небось, воротите! Стыдно в глаза глядеть!
— Ну… тсс… Дрянь ты этакая! Паршак!
Продолжительное молчание.
— А уж вы, батюшка, съездите, поздравьте! — говорит Марк ласково. — Оне плачут, мечутся на постельке… Уж вы будьте такие добрые, окажите им свое почтение… Съездите, батюшка!
— Не поеду. Незачем и некогда… Да и что я буду делать у старой девки?
— Съездите, ваше сиятельство! Уважьте, батюшка! Сделайте такую милость! Страсть как огорчены оне вашею, можно сказать, неблагодарностью и бесчувствием!
Марк проводит рукавом по глазам.
— Сделайте милость!
— Гм… А коньяк будет? — говорит Жан.
— Будет, батюшка, ваше сиятельство!
Князь подмигивает глазом.
— Ну, а сто рублей будет? — спрашивает он.
— Никак это невозможно! Самим вам небезызвестно, ваше сиятельство, капиталов у нас уж нет тех, что были… Разорили нас родственники, Иван Михалыч. Когда были у нас деньги, все хаживали, а теперь… Божья воля!
— В прошлом году я за визит с вас… сколько взял? Двести рублей взял. А теперь и ста нет? Шутки шутишь, ворона! Поройся-ка у старухи, найдешь… Впрочем, убирайся. Спать хочу.
— Будьте так благодушны, ваше сиятельство! Стары оне, слабы… Душа в теле еле держится. Пожалейте их, Иван Михалыч, ваше сиятельство!
Жан неумолим. Марк начинает торговаться. В пятом часу Жан сдается, надевает фрак и едет к княжне…
— Ma tante[17], — говорит он, прижимаясь к ее руке.
И, севши на софу, он начинает прошлогодний разговор.
— Мари Крыскина, ma tante, получила письмо из Ниццы… Муженек-то! А? Каков? Очень развязно описывает дуэль, которая была у него с одним англичанином из-за какой-то певицы… забыл ее фамилию…
— Неужели?
Княжна закатывает глаза, всплескивает руками и с изумлением, смешанным с долею ужаса, повторяет:
— Неужели?
— Да… На дуэлях дерется, за певицами бегает, а тут жена… чахни и сохни по его милости… Не понимаю таких людей, ma tante!
Счастливая княжна поближе подсаживается к Жану, и разговор их затягивается… Подается чай с коньяком.
И в то время как счастливая княжна, слушая Жана, хохочет, ужасается, поражается, старый Марк роется в своих сундучках и собирает кредитные бумажки. Князь Жан сделал большую уступку. Ему нужно заплатить только пятьдесят рублей. Но, чтобы заплатить эти пятьдесят рублей, нужно перерыть не один сундучок!
«Раз в год». Первая страница корректуры для издания А. Ф. Маркса.
(обратно)Кое-что <1>*
Была половина второго ночи. Я тихо и смирно сидел у себя в кабинете и пописывал плохую повесть. Ничто не мешало мне, и я писал бы до самого света, как вдруг… Умоляю вас, читатель, не имейте мамаш!
В передней звякнул звонок, заворчала кухарка, и ко мне в кабинет влетела мамаша. Щеки ее пылали, глаза блестели, губы дрожали и всё лицо было буквально залито счастьем. Не снимая шляпы, калош и ридикюля, вся мокрая от дождя и забрызганная грязью, она повисла мне на шею.
— Всё видела, — простонала она.
— Что с вами, maman? Откудова вы? — изумился я.
— Из «Эрмитажа». Всё видела, удостоилась!
— Что же вы видели?
— Всех! И турков, и черкесов, и туркестанцев… всех! Халаты такие, чалмы! Всех иностранцев видела! Черные все такие, в шапках! Ах!
Я усадил мамашу в кресло, снял с нее шляпу и вытер ее мокрое счастливое лицо полотенцем.
— Я очень счастлива! — продолжала мамаша. — Все нации видела. В особенности мне понравился один иностранец… Вообрази… Высокий, чрезвычайно статный, широкоплечий брюнет. От его черных глаз так и веет зноем юга! На нем длинная-предлинная хламида темно-синего цвета, живописно спускающаяся до самых пят. У плеч эта хламида стянута в красивые складки… О, эти иностранцы умеют одеваться! На голове красивая шапочка, на ногах ботфорты. А чего стоят брелоки! В руках его палка… Наверное, испанец.
— Мамаша, да ведь это Лентовский! — воскликнул я.
— Не может быть! Я за ним весь вечер проходила! Ни на кого не глядела, а только на него и смотрела! Не может быть! Он сел ужинать, и я всё время стояла недалеко от стола и не отрывала от него глаз!
Мамаша сильно встревожилась и еще раз описала мне костюм интересного иностранца. Не желая разочаровывать ее, я еще раз вытер ее мокрое лицо полотенцем, согласился с ней и пожелал ей спокойной ночи.
(обратно)Мамаша и г. Лентовский
Была половина второго ночи. Я тихо и смирно сидел у себя в кабинете и пописывал плохую повесть. Ничто не мешало мне, и я писал бы до самого света, как вдруг… Умоляю вас, читатель, не имейте мамаш!
В передней звякнул звонок, заворчала кухарка, и ко мне в кабинет влетела мамаша. Щеки ее пылали, глаза блестели, губы дрожали и всё лицо было буквально залито счастьем. Не снимая шляпы, калош и ридикюля, вся мокрая от дождя и забрызганная грязью, она повисла мне на шею.
— Всё видела, — простонала она.
— Что с вами, maman? Откудова вы? — изумился я.
— Из «Эрмитажа». Всё видела, удостоилась!
— Что же вы видели?
— Всех! И турков, и черкесов, и туркестанцев*…всех! Халаты такие, чалмы! Всех иностранцев видела! Черные все такие, в шапках! Ах!
Я усадил мамашу в кресло, снял с нее шляпу и вытер ее мокрое счастливое лицо полотенцем.
— Я очень счастлива! — продолжала мамаша. — Все нации видела. В особенности мне понравился один иностранец… Вообрази… Высокий, чрезвычайно статный, широкоплечий брюнет. От его черных глаз так и веет зноем юга! На нем длинная-предлинная хламида темно-синего цвета, живописно спускающаяся до самых пят. У плеч эта хламида стянута в красивые складки…*О, эти иностранцы умеют одеваться! На голове красивая шапочка, на ногах ботфорты. А чего стоят брелоки! В руках его палка… Наверное, испанец.
— Мамаша, да ведь это Лентовский! — воскликнул я.
— Не может быть! Я за ним весь вечер проходила! Ни на кого не глядела, а только на него и смотрела! Не может быть! Он сел ужинать, и я всё время стояла недалеко от стола и не отрывала от него глаз!
Мамаша сильно встревожилась и еще раз описала мне костюм интересного иностранца. Не желая разочаровывать ее, я еще раз вытер ее мокрое лицо полотенцем, согласился с ней и пожелал ей спокойной ночи.
(обратно)Злодеи и г. Егоров
Была прекрасная, чудная полночь. Свежий, душистый ветерок дул ко мне в открытое окно и заигрывал с огнем моей лампы.
У меня сидел известный звукоподражатель г. Егоров*. Я и он пили чай с ромом и под шумок самовара услаждали друг друга беседами. Всё было тихо, смирно, ничто не мешало нам, и г. Егоров готов уже был усладить слух мой кошачьим пеньем, как за дверью моего кабинета послышался подозрительный шорох. Я слегка приотворил дверь, взглянул в свою спальную и помертвел. Ко мне в окно лез огромнейший человечина с топором в руке. За ним лез другой, за этим третий, и скоро моя спальная наполнилась злодеями.
— Надо их убить! — сказал один из них.
— Я готов, атаман! Мой топор сгорает от нетерпения тарарахнуть по чьей-нибудь голове.
— Иди и исполняй, мы же примемся за драгоценности!
Ну, как тут не помертветь? Я схватил г. Егорова за руку.
— Мы погибли! — прошептал я.
— Нимало! — сказал г. Егоров. — Мы сейчас их прогоним!
Сказавши это, г. Егоров присел у двери на корточки, заворчал и залаял цепной собакой.
— Куси, рви! — закричал я. — Иван, Петр… Сидор, сюда!
Г-н Егоров залаял сразу на несколько голосов, и моя скромная обитель наполнилась собачьим лаем. Казалось, что лаяла целая свора. И что же? Злодеями обуял панический страх, и они стушевались. Мы были спасены. Объявляю печатно г. Егорову мою искреннейшую благодарность.
(обратно)Находчивость г. Родона*
Десятого мая, в час пополудни, в саду «Эрмитаж» во время репетиции случился скандал. Гг. Чернов и Вальяно*, куря сигары, заронили искру в чье-то кисейное платье, только что принесенное горничной и лежавшее на сцене на табурете. Платье, разумеется, загорелось. В какие-нибудь две минуты пламя охватило табурет, столы, перешло на кулисы и готово уже было пожрать весь театр. Можете себе вообразить панику задыхавшихся в дыму артистов и горе г. Лентовского! Артистки попадали в обморок. К несчастью, на сцене не было ни одного пожарного, не было воды. И вот, когда уже огненные языки зализали потолок и потянулись к оркестру, чтобы охватить весь театр, в голове г. Родона мелькнула идея.
— Эврика! — крикнул он. — Мы спасены! Друзья, за мной!
Артисты двинулись за ним в уборную. Он оделся и загримировался пожарным. Товарищи последовали его примеру, и скоро сцена наполнилась пожарными. Театр был спасен.
(обратно)Бенефис соловья*
(Рецензия)
Мы заняли места у берега речки. Впереди нас круто спускался коричневый глинистый берег, а за нашими спинами темнела широкая роща. Расположились мы животами на молодой, мягкой травке, головы подперли кулаками, а ногам дали полную волю: суйся куда знаешь. Весенние пальто мы сняли, но двугривенных за хранение их не платили, ибо около нас, слава богу, капельдинеров не было. Роща, небо и поле вплоть до самой глубокой дали были залиты лунным светом, а вдали тихо мерцал красный огонек. Воздух был тих, прозрачен, душист… Всё благоприятствовало бенефицианту. Оставалось ему только не злоупотреблять нашим терпением и поскорей начинать. Но он долго не начинал… В ожидании его мы, согласно программе, слушали других исполнителей.
Вечер начался пением кукушки. Она лениво закукукала где-то далеко в роще и, прокукукав раз десять, умолкла. Тотчас же над нашими головами с резким писком пронеслись два кобчика. Запела затем контральто иволга, певица известная, серьезно занимающаяся. Мы прослушали ее с удовольствием и слушали бы долго, если бы не грачи, летевшие на ночевку… Вдали показалась черная туча, двинулась к нам и с карканьем опустилась на рощу. Долго не умолкала эта туча.
Когда кричали грачи, загалдели и лягушки, живущие в камышах на казенных квартирах, и целые полчаса концертное пространство было полно разнообразных звуков, слившихся скоро в один звук. Где-то закричал засыпающий дрозд. Ему аккомпанировали речная курочка и камышовка. За сим последовал антракт, наступила тишина, изредка нарушаемая пением сверчка, сидевшего в траве возле публики. В антракте наше терпение достигло своего апогея: мы начинали уже роптать на бенефицианта. Когда на землю спустилась ночь и луна остановилась среди неба над самой рощей, настала и его очередь. Он показался в молодом кленовнике, порхнул в терновник, повертел хвостом и стал неподвижен. На нем серый пиджак… вообще он игнорирует публику и является перед ней в костюме мужика-воробья. (Стыдно, молодой человек! Не публика для вас, а вы для публики!) Минуты три сидел он молча, не двигаясь… Но вот зашумели верхушки деревьев, задул ветерок, затрещал громче сверчок и под аккомпанемент этого оркестра бенефициант исполнил свою первую трель. Он запел. Не берусь описывать это пение, скажу только, что сам оркестр умолк от волнения и замер, когда артист, слегка приподняв свой клюв, засвистал и осыпал рощу щелканьем и дробью… И сила и нега в его голосе… Впрочем, не стану отбивать хлеб у поэтов, пусть они пишут. Он пел, а кругом царила внимающая тишина. Раз только сердито заворчали деревья и зашикал ветер, когда вздумала запеть сова, желавшая заглушить артиста…
Когда засерело небо, потухли звезды и голос певца стал слабее и нежнее, на опушке рощи показался повар помещика-графа. Согнувшись и придерживая левой рукой шапку, он тихо крался. В правой руке его было лукошко. Он замелькал между деревьями и скоро исчез в чаще. Певец попел еще немного и вдруг умолк. Мы собрались уходить.
— Вот он, шельма! — услышали мы чей-то голос и скоро увидели повара. Графский повар шел к нам и, весело смеясь, показывал нам свой кулак. Из его кулака торчали головка и хвост только что пойманного им бенефицианта. Бедный артист! Избавь бог всякого от подобного сбора!
— Зачем вы его поймали? — спросили мы повара.
— А в клетку!
Навстречу утру жалобно закричал коростель и зашумела роща, потерявшая певца. Повар сунул любовника розы в лукошко и весело побежал к деревне. Мы тоже разошлись.
(обратно)Депутат, или Повесть о том, как у Дездемонова 25 рублей пропало*
Посвящается Л.И. Пальмину
— Тссс… Пойдемте в швейцарскую, здесь неудобно… Услышит…
Отправились в швейцарскую. Швейцара Макара, чтоб он не подслушал и не донес, поспешили услать в казначейство. Макар взял рассыльную книгу, надел шапку, но в казначейство не пошел, а спрятался под лестницей: он знал, что бунт будет… Первый заговорил Кашалотов, за ним Дездемонов, после Дездемонова Зрачков… Забушевали опасные страсти! По красным лицам забегали судороги, по грудям застучали кулаки…
— Мы живем во второй половине XIX столетия, а не чёрт знает когда, не в допотопное время! — заговорил Кашалотов. — Что дозволялось этим толстопузам прежде, того не позволят теперь! Нам надоело, наконец! Прошло уже то время, когда… И т. д…
Дездемонов прогремел приблизительно то же самое. Зрачков даже выругался неприлично… Все загалдели! Нашелся, впрочем, один благоразумный. Этот благоразумный состроил озабоченное лицо, вытерся засморканным платочком и проговорил:
— Ну, стоит ли? Ах… Ну, положим, пусть… это правда; но с какой стати? Какою мерою мерите, такою и вам возмерится: и против вас бунтовать будут, когда вы будете начальниками. Верьте слову! Губите только себя.
Но не послушали благоразумного. Ему не дали договорить и оттиснули его к двери. Видя, что благоразумием ничего не возьмешь, он стал неблагоразумным и сам забурлил.
— Пора же наконец дать ему понять, что мы такие же люди, как и он! — сказал Дездемонов. — Мы, повторяю, не холуи, не плебеи! Мы не гладиаторы! Издеваться над собой мы не позволим! Он тыкает на нас, не отвечает на поклоны, морду воротит, когда доклад делаешь, бранится… Нынче и на лакеев тыкать нельзя, а не то что на благородных людей! Так и сказать ему!
— А намедни обращается ко мне и спрашивает: «В чем это у тебя рыло? Пойди к Макару, пусть он тебе шваброй вымоет!» Хороши шутки! А то однажды…
— Иду я с женой однажды, — перебил Зрачков, — встречается он… «А ты, говорит, губастый, вечно с девками шляешься! Среди бела дня даже!» Это, говорю, моя жена, ваше — ство… И не извинился, а только губами чмокнул! Жена от этого самого оскорбления три дня ревмя ревела. Она не девка, а напротив… сами знаете…
— Одним словом, господа, жить так долее невозможно! Или мы, или он, а вместе служить нам ни в каком случае невозможно! Пусть или он уйдет, или мы уйдем! Лучше без должности жить, чем реноме свое в ничтожестве иметь! Теперь XIX столетие. У всякого свое самолюбие есть! Я хоть и маленький человек, а все-таки я не субъект какой-нибудь и у меня в душе свой жанр есть! Не позволю! Так и сказать ему! Пусть один из нас пойдет и скажет ему, что так невозможно! От нашего имени! Ступай! Кто пойдет? Так-таки прямо и сказать! Не бойтесь, ничего не будет! Кто пойдет? Тьфу, чёрт… охрип совсем…
Стали выбирать депутата. После долгих споров и пререканий, самым умным, красноречивым и самым смелым признан был Дездемонов. В библиотеке записан, пишет прекрасно, с барышнями образованными знаком — значит, умен: найдется, что и как сказать. А о смелости и толковать нечего. Всем известно, как он однажды потребовал у квартального извинения, когда тот в клубе принял его за «человека»; не успел квартальный нахмуриться на это требование, как молва о смелости расплылась уже по миру и заняла умы…
— Ступай, Сеня! Не бойся! Так и скажи ему! Накося выкуси, мол! Не на тех наскочил, мол, ваше — ство! Шалишь! Ищи себе других холуев, а мы сам с усам, сами, ваше — ство, умеем фертикулясы выкидывать. Нечего тень наводить! Так-то… Ступай, Сеня… друг… Причешись только… Так и скажи…
— Вспыльчив я, господа… Наговорю, чего доброго. Шел бы Зрачков лучше!
— Нет, Сеня, ты иди… Зрачков молодец только против овец, да и то в пьяном виде… дурак он, а ты все-таки… Иди, душечка…
Дездемонов причесался, поправил жилет, кашлянул в кулак и пошел… Все притаили дыхание. Войдя в кабинет, Дездемонов остановился у двери и дрожащей рукой провел себя по губам: ну, как начать? Под ложечкой похолодело и перетянуло, точно поясом, когда он увидел лысину с знакомой черненькой бородавкой… По спине загулял ветерок… Это не беда, впрочем; со всяким от непривычки случается, робеть только не нужно… Смелей!
— Эээ… чего тебе?
Дездемонов сделал шаг вперед, шевельнул языком, но не издал ни одного звука: во рту что-то запуталось. Одновременно почувствовал депутат, что не в одном только рту идет путаница: и во внутренностях тоже… Из души храбрость пошла в живот, пробурчала там, по бедрам ушла в пятки и застряла в сапогах… А сапоги порванные… Беда!
— Эээ… чего тебе? Не слышишь?
— Гм… Я ничего… Я только так. Я, ваше — ство, слышал… слышал…
Дездемонов придержал язык, но язык не слушался и продолжал:
— Я слышал, что ее — ство разыгрывают в лотерею карету… Билетик, ваше — ство… Кгм… ваше — ство…
— Билет? Хорошо… У меня пять билетов осталось, только… Все пять возьмешь?
— Не… не… нет, ваше — ство… Один билетик… достаточно…
— Все пять возьмешь, я тебя спрашиваю?
— Очень хорошо-с, ваше — ство!
— По шести рублей… Но с тебя можно по пяти… Распишись… От души желаю тебе выиграть…
— Хе-хе-хи-с… Мерси-с, ваше — ство… Гм… Очень приятно…
— Ссступай!
Через минуту Дездемонов стоял среди швейцарской и, красный как рак, со слезами на глазах просил у приятелей 25 рублей взаймы.
— Отдал ему, братцы, 25 рублей, а это не мои деньги! Это теща дала за квартиру заплатить… Дайте, господа! Прошу вас!
— Чего же ты плачешь? В карете ездить будешь…
— В карете… Карета… Людей пугать я каретой буду, что ли? Я не духовное лицо! Да куда я ее поставлю, если выиграю? Куда я ее дену?
Говорили долго, а пока они говорили, Макар (он грамотен) записывал, записав же… и т. д. Длинно, господа! Во всяком случае из сего проистекает мораль: не бунтуй!
(обратно)Герой-барыня*
Лидия Егоровна вышла на террасу пить утренний кофе. Время было уже близко к жаркому и душному полудню, однако это не помешало моей героине нарядиться в черное шёлковое платье, застегнутое у самого подбородка и тисками сжимавшее талию. Она знала, что этот черный цвет идет к ее золотистым кудряшкам и строгому профилю, и расставалась с ним только ночью. Когда она сделала первый глоток из своей китайской чашечки, к террасе подошел почтальон и подал ей письмо. Письмо было от мужа: «Дядя не дал ни гроша, и твое имение продано. Ничего не поделал…» Лидия Егоровна побледнела, покачнулась на стуле и продолжала читать: «Уезжаю месяца на два в Одессу по важному делу. Целую».
— Разорены! На два месяца в Одессу… — простонала Лидия Егоровна. — К своей, значит, поехал… Боже мой!
Она подкатила глаза, зашаталась, ухватилась рукой за перила и готова уже была упасть, как послышались внизу голоса. На террасу взбирался ее сосед по даче и кузен, отставной генерал Зазубрин, старый, как анекдот о собаке Каквасе, и хилый, как новорожденный котенок. Он ступал еле-еле, осторожно, перебирая палкой ступени, словно боясь за их прочность. За ним семенил маленький бритый старичок, отставной профессор Павел Иванович Кнопка, в большом стародавнем цилиндре с широкими приподнятыми полями. Генерал, по обыкновению, был весь в пуху и крошках, а профессор поражал белизною своих одежд и гладкостью подбородка. Оба сияли.
— А мы к вам, шарманочка! — продребезжал генерал, довольный тем, что сумел по-своему переделать слово «charmante»[18]. — С добрым утром, фея! Фея пьет кофея.
Генерал сострил глупо, но Кнопка и Лидия Егоровна расхохотались. Моя героиня отдернула от перил руку, вытянулась и, бесконечно улыбаясь, протянула к гостям обе руки. Те облобызали и сели.
— Вы, кузен, вечно веселы! — начала кузина гостинный разговор. — Счастливый характер!
— Как, бишь, я сказал? Ах, да! Фея пьет кофе́я… Ха-ха-ха. А мы с герром профессором уж выкупались, позавтракали и визиты делаем… Беда мне с этим профессором! Жалуюсь вам, фея! Беда! Собираюсь его под суд отдать! Хе-хе-хе… Либерал! Вольтер, можно сказать!
— Что вы?! — улыбнулась Лидия Егоровна и подумала: «В Одессу на два месяца… к той…»
— Честное слово! Такие идеи проповедует… такие идеи! Совсем красный! А знаете ли вы, Павел Иванович, друг мой, кто красному рад? Знаете кто? Хххе… Ответьте-ка! Вот вам и запятая, либералам!
— Каков генерал? — захохотал Кнопка, кривя свой ученый подбородок. — И мы, ваше превосходительство, сумеем вам, консерваторам, запятую поставить: одни только быки боятся красного! Ха-ха-ха… Что, съели-с?
— Однако! Что вижу! У вас цветут олеандры! — послышался внизу террасы женский голос, и через минуту на террасу входила княгиня Дромадерова, соседка по даче. — Ах! У вас мужчины, а я такая растрепка! Извините, пожалуйста! О чем вы тут? Продолжайте, генерал, я не помешаю…
— Мы о красном-с! — продолжал Зазубрин. — А вот-с, кстати, о быках… Вы это верно, Павел Иванович, насчет быков! Раз в Грузии, где я баталионом командовал, бык увидал мою красную подкладку, испугался и полетел на меня… рогами прямо… Саблю пришлось обнажить. Честное слово! Спасибо, казак близко был и пикой его, каналью, отогнал… Чего вы смеетесь? Не верите? Ей-богу, отогнал…
Лидия Егоровна изумилась, ахнула и подумала: «В Одессе теперь… развратник!»
Кнопка заговорил о быках и буйволах. Княгиня Дромадерова заявила, что всё это скучно. Заговорили о красной подкладке…
— Касательно этой подкладки у меня в памяти случай есть, — сказал Зазубрин, обсасывая сухарик. — Был у меня в баталионе полковничек, некий Конвертов, Петр Петрович… Старичок славный такой, добром его помянуть, простачок, басенник… Из простых солдафонов в высшие чины вышел, за заслуги особенные… В боях был. Любил я его, покойника. Лет ему семьдесят было, когда его в полковники произвели, на лошадь уж не умел садиться и подагрой его ломало во все корки. Вынет, бывало, на маневрах саблю из ножен, а вложить ее уже не может, ординарец вкладывал… Расстегнется, извините, а застегнуться уж и не может… И у этого расслабленника мечта в голове была генералом быть. Стар, слаб, помирать собирается, а мечтает… натура, значит, такая… воин! И в отставку не хотел из-за генеральства… Прослужил лет пять в полковниках, представили его… И что ж вы думаете? А? Вот судьба! Трах его паралич в самый тот раз, когда производство вышло… Отняло ему, сердяге, левую щеку и правую руку, да ноги поослабли сильно… Поневоле пришлось в отставку выйти и не довелось литых погонов носить честолюбцу! Взял отставку и поехал со своей старухой в Тифлис на покой. Едет, плачет и смеется, что его ямщик превосходительством обзывает. Одна щека плачет и смеется, а другая недвижима, как монумент. Одно только утешение осталось ему: красная подкладка. Идет по Тифлису, растопыривает фалды, как крылья, и показывает публике красноту. Знай, мол, кого видишь! Целый день по городу шкандыляет и хвастает подкладкой… Только и было у него, друга, радостей. В баню пойдет и разложит пальто на лавке подкладкой вверх… Утешался, утешался как малый дитё, да и ослеп от старости. Наняли ему человека по городу его водить и подкладку показывать… Идет слепенький, седенький, еле-еле телепкается, о воздух спотыкается, а у самого на лице гордыня написана! Зима лютая, холод, а у него пальто нараспашку… Чудачок! Скоро за тем померла у него старушка. Хоронит ее, ноет, в могилку к ней просится и подкладку духовенству показывает. Приставили к нему другую особу, вдовицу какую-то, чтоб поберегла… А вдовица, известное дело, знает свою долю лучше хозяйской. Скопидомка… Сахарку припрячет, чайку там, копеечку… Кругом его ощипала. Щипала-щипала, ерзала-ерзала подлая баба да и дошла до апофеоза! Взяла, стервоза, да и отпорола его красную подкладку себе на кофту, а вместо красной подкладки серенькую сарпинку подшила. Идет мой Петр Петрович, выворачивает перед публикой свое пальто, а сам, слепенький, и не видит, что у него вместо генеральской подкладки сарпинка с крапушками!..
Дромадерова нашла, что всё это очень скучно, и заговорила о сыне-поручике. Перед обедом явились соседки — девицы Клянчины с maman. Они сели за рояль и запели любимую песню Зазубрина. Сели обедать.
— Отличный редис! — заметил профессор. — Где вы такой покупаете?
— Он теперь в Одессе… с этой женщиной! — ответила Лидия Егоровна.
— Что-с?
— Ах… Я не о том! Не знаю, где повар берет… Что это со мной?
И Лидия Егоровна, закинув назад голову, захохотала над своей рассеянностью… После обеда пришла толстая профессорша с детьми. Сели за карты. Вечером приезжали гости из города…
Только в ночь, проводив последнего гостя и простояв неподвижно, пока не перестали слышаться его шаги, Лидия Егоровна могла ухватиться одной рукой за те же перила, покачнуться и зарыдать.
— Мало того, что прокутил! Ему мало этого! Он еще изменил!
Из глаз вырвались на свободу горячие слезы, и бледное лицо исказилось отчаянием. Уж не было нужды в этикете, и она могла рыдать!
Чёрт знает на что уходит иногда силища!
(обратно)О том, как я в законный брак вступил*
(Рассказец)
Когда пунш был выпит, родители пошептались и оставили нас.
— Валяй! — шепнул мне папаша, уходя. — Наяривай!
— Но могу ли я объясняться ей в любви, — прошептал я, — ежели я ее не люблю?
— Не твое дело… Ты, дурак, ничего не понимаешь…
Сказав это, папаша измерил меня гневным взглядом и вышел из беседки. Чья-то старушечья рука показалась в притворенной двери и утащила со стола свечку. Мы остались в темноте.
«Ну, чему быть, того не миновать!» — подумал я и, кашлянув, сказал бойко:
— Обстоятельства мне благоприятствуют, Зоя Андреевна. Мы наконец одни и темнота способствует мне, ибо она скрывает стыд лица моего… Стыд сей от чувств происходит, коими моя душа пылает…
Но тут я остановился. Я услышал, как билось сердце Зои Желваковой и как стучали ее зубки. Во всем ее организме происходило дрожание, которое было слышимо и чувствуемо через дрожание скамьи. Бедная девочка не любила меня. Она ненавидела меня, как собака палку, и презирала, ежели только можно допустить, что глупые презирать способны. Я теперь на орангуташку похож, безобразен, хоть и украшен чинами и орденами, тогда же я всем зверям подобен был: толстомордый, угреватый, щетинистый… От постоянного насморка и спиртуозов нос имел красный, раздутый. Ловкости моей не могли завидовать даже медведи. А касательно душевных качеств и говорить нечего. С нее же, с Зои-то, когда еще моей невестой не была, неправедную взятку взял. Я остановился, потому что мне жалко ее стало.
— Выйдемте в сад, — сказал я. — Здесь душно… Вышли и пошли по аллейке. Родители, подслушивавшие за дверью, при нашем появлении юркнули в кусты. По Зоиному лицу забегал лунный свет. Глуп я был тогда, а сумел прочесть на этом лице всю сладость неволи! Я вздохнул и продолжал:
— Соловей поет, женушку свою забавляет… А кого-то я, одинокий, могу позабавить?
Зоя покраснела и опустила глазки. Это ей было приказано так сактрисничать. Сели на скамью, лицом к речке. За речкой белела церковь, а позади церкви возвышался господина графа Кулдарова дом, в котором жил конторщик Больницын, любимый Зоею человек. Зоя, как села на скамью, так и вперила взгляд свой в этот дом… Сердце у меня съежилось и поморщилось от жалости. Боже мой, боже мой! Царство небесное нашим родителям, но… хоть бы недельку в аду они посидели!
— От одной особы всё мое счастье зависит, — продолжал я. — Я питаю к этой особе чувства… обоняние… Я люблю ее, и ежели она меня не любит, то я, значит, погиб… помер… Эта особа есть вы. Можете вы меня любить? а? Любите?
— Люблю, — прошептала она.
Я, признаться, помертвел от этого ее слова. Думал я раньше, что она закандрычится и откажет мне, так как сильно другого любит. Надеялся я на это страсть как, а вышло насупротив… Не хватило у ней силы против рожна идти.
— Люблю, — повторила она и заплакала.
— Не может этого быть-с! — заговорил я, сам не зная, что говорю, и дрожа всем телом. — Разве это возможно? Зоя Андреевна, голубушка моя, не верьте! Ей же богу, не верьте! Не люблю я вас! Будь я трижды анафема проклят, ежели я люблю! И вы меня не любите! Всё это чепуха одна только…
Я вскочил и забегал около скамьи.
— Не надо! Всё это одна только комедь! Женят нас насильно, Зоя Андреевна, ради имущественных интересов; какая же тут любовь? Мне легче камень осельный на шею, чем вас за себя взять, вот что! Какого ж чёрта! Какое они имеют полное право? Что мы для них? Крепостные? Собаки? Не женимся! На зло! Дряни этакие! Довольно уж мы им поблажку делали! Пойду сейчас и скажу, что не хочу жениться на вас, вот и всё!
Лицо Зои вдруг перестало плакать и в мгновение ока высохло.
— Пойду и скажу! — продолжал я. — И вы тоже скажете. Вы скажете им, что вовсе меня не любите, а что любите Больницына. И я буду руку Больницына держать… Мне известно, как страстно вы его любите!
Зоя засмеялась от счастья и заходила рядом со мной.
— Да ведь и вы любите другую, — сказала она, потирая руки. — Вы любите мадмуазель Дэбе.
— Да, — говорю, — мадмуазель Дэбе. Она хоть не православная и не богатая, а я ее люблю за ум и душеспасительные качества… Пусть проклинают, а я женюсь на ней. Я люблю ее, может быть, больше, чем жизнь люблю! Я без нее жить не могу! Ежели я не женюсь на ней, то я и жить не захочу! Сейчас пойду… Пойдемте и скажем этим шутам… Спасибо вам, голубушка… Как вы меня утешили!
В душу мою хлынуло счастье, и стал я благодарить Зою, а Зоя меня. И оба мы, счастливые, благодарные, стали друг другу руки целовать, благородными друг друга называть… Я ей руки целую, а она меня в голову, в мою щетину. И, кажется, даже обнял ее, этикеты забыв. И, можно вам сказать, это объяснение в нелюбви было счастливее любого любовного объяснения. Пошли мы, радостные, розовые и трепещущие, к дому, волю нашим родителям объявить. Идем и друг друга подбодряем.
— Пусть нас поругают, — говорю, — побьют, выгонят даже, да зато мы счастливы будем!
Входим в дом, а там у дверей стоят родители и ждут. Глядят на нас, видят, что мы счастливы, и давай махать лакею. Лакей подходит с шампанским. Я начинаю протестовать, махать руками, стучать… Зоя плачет, кричит… Шум поднялся, гвалт, и не удалось выпить шампанского.
Но нас все-таки поженили.
Сегодня мы празднуем нашу серебряную свадьбу. Четверть столетия вместе прожили! Сначала жутко приходилось. Бранил ее, лупцевал, принимался любить ее с горя… Детей имели с горя… Потом… ничего себе… попривыкли… А в настоящий момент стоит она, Зоечка, за моей спиной и, положив ручки на мои плечи, целует меня в лысину.
(обратно)Из дневника помощника бухгалтера*
1863 г. Май, 11. Наш шестидесятилетний бухгалтер Глоткин пил молоко с коньяком по случаю кашля и заболел по сему случаю белою горячкой. Доктора, со свойственною им самоуверенностью, утверждают, что завтра помрет. Наконец таки я буду бухгалтером! Это место мне уже давно обещано.
Секретарь Клещев пойдет под суд за нанесение побоев просителю, назвавшему его бюрократом. Это, по-видимому, решено.
Принимал декокт от катара желудка.
1865 г. Август, 3. У бухгалтера Глоткина опять заболела грудь. Стал кашлять и пьет молоко с коньяком. Если помрет, то место останется за мной. Питаю надежду, но слабую, ибо, по-видимому, белая горячка не всегда смертельна!
Клещев вырвал у армянина вексель и порвал. Пожалуй, дело до суда дойдет.
Одна старушка (Гурьевна) вчера говорила, что у меня не катар, а скрытый геморрой. Очень может быть!
1867 г. Июнь, 30. В Аравии, пишут, холера. Быть может, в Россию придет, и тогда откроется много вакансий. Быть может, старик Глоткин помрет и я получу место бухгалтера. Живуч человек! Жить так долго, по-моему, даже предосудительно.
Что бы такое от катара принять? Не принять ли цитварного семени?
1870 г. Январь, 2. Во дворе Глоткина всю ночь выла собака. Моя кухарка Пелагея говорит, что это верная примета, и мы с нею до двух часов ночи говорили о том, как я, ставши бухгалтером, куплю себе енотовую шубу и шлафрок. И, пожалуй, женюсь. Конечно, не на девушке — это мне не по годам, а на вдове.
Вчера Клещев выведен был из клуба за то, что вслух неприличный анекдот рассказывал и смеялся над патриотизмом члена торговой депутации Понюхова. Последний, как слышно, подает в суд.
Хочу с катаром к доктору Боткину сходить. Говорят, хорошо лечит…
1878 г. Июнь, 4. В Ветлянке, пишут, чума. Народ так и валится, пишут. Глоткин пьет по этому случаю перцовку. Ну, такому старику едва ли поможет перцовка. Если придет чума, то уж наверное я буду бухгалтером.
1883 г. Июнь, 4. Умирает Глоткин. Был у него и со слезами просил прощения за то, что смерти его с нетерпением ждал. Простил со слезами великодушно и посоветовал мне употреблять от катара желудевый кофий.
А Клещев опять едва не угодил под суд: заложил еврею взятый напрокат фортепьян. И несмотря на всё это, имеет уже Станислава и чин коллежского асессора. Удивительно, что творится на этом свете!
Инбиря 2 золотника, калгана 1 ½ зол., острой водки 1 зол., семибратней крови 5 зол.; всё смешав, настоять на штофе водки и принимать от катара натощак по рюмке.
Того же года. Июнь, 7. Вчера хоронили Глоткина. Увы! Не в пользу мне смерть сего старца! Снится мне по ночам в белой хламиде и кивает пальцем. И, о горе, горе мне, окаянному: бухгалтер не я, а Чаликов. Получил это место не я, а молодой человек, имеющий протекцию от тетки генеральши. Пропали все мои надежды!
1886 г. Июнь, 10. У Чаликова жена сбежала. Тоскует, бедный. Может быть, с горя руки на себя наложит. Ежели наложит, то я — бухгалтер. Об этом уже разговор. Значит, надежда еще не потеряна, жить можно и, пожалуй, до енотовой шубы уже недалеко. Что же касается женитьбы, то я не прочь. Отчего не жениться, ежели представится хороший случай, только нужно посоветоваться с кем-нибудь; это шаг серьезный.
Клещев обменялся калошами с тайным советником Лирмансом. Скандал!
Швейцар Паисий посоветовал от катара сулему употреблять. Попробую.
(обратно)Весь в дедушку*
Душная ночь, с открытыми настежь окнами, с блохами и комарами. Жажда, как после селедки. Я лежу на своей кровати, ворочаюсь с боку на бок и стараюсь уснуть. За стеной, в другой комнате не спит и ворочается мой дедушка, отставной генерал, живущий у меня на хлебах. Обоих нас кусают блохи, и оба мы сердимся на них и ворчим. Дедушка кряхтит, сопит и шуршит своим накрахмаленным колпаком.
— Безумец! — бормочет он. — Ммо… молокосос! Мало тебя пороли, бессмысленный молодой человек!
— Кого это вы, дедушка?
— Известно кого… Поблажку вам дают, балуют, не взыскивают с вас… (Дедушка втягивает в себя воздух и разражается старческим кашлем.) Прогнать бы тебя сквозь строй разика три, так ты понял бы… Почему не купил персидского порошку? Почему, я тебя спрашиваю? Леность? Нерадение?
— Дедушка, вы не даете мне спать! Замолчите!
— Не рассуждать! Понимай, с кем разговариваешь! (Дедушка громко чешется и возвышает голос.) Повторяю: почему ты не купил персидского порошку? И как ты смеешь, милостивый государь, позволять себе такие возмутительные поступки, что на тебя даже поступают жалобы? А? Вчера полковник Дубякин жаловался, что ты у него жену увез! Кто это тебе позволил? И какое ты имеешь право?
Дедушка долго бранит меня и с брани переходит на мораль: седьмая заповедь, брачные основы и пр.
— Всё это я понимаю лучше вас, дедушка, — говорю я. — Каюсь, меня мучает совесть, но ничего я не могу с собой поделать. Весь в вас! С кровью и плотью унаследовал от вас и все ваши добродетели. Трудно бороться с наследственностью!
— Я… я чужих жен не трогал… Выдумываешь!
— Будто бы? А лет десять тому назад, когда вам было шестьдесят лет, припомните-ка, вы увезли у ближнего не жену, не соломенную вдову, а невесту! Вспомните-ка Ниночку.
— Я того… я венчался…
— Еще бы! Ниночку воспитывали, лелеяли и готовили совсем не для шестидесятилетнего старца. На этой умнице и красавице женился бы любой добрый молодец, и у нее уже был подходящий жених, а вы пришли со своим чином и деньгами, попугали родителей и вскружили семнадцатилетней девочке голову разной мишурой. Как она плакала, когда венчалась с вами! Как каялась потом, бедняжка! И с пьяницей-поручиком бежала потом, только чтоб от вас подальше… Гусь вы, дедушка!
— Постой… постой… Это не твое дело… Вот ежели бы тебя разиков пять сквозь строй, так ты бы не того… не ограбил бы сестру свою Дашу… Обидчик… За что ты у нее сто десятин оттягал?
— С вас пример взял. Весь в вас, дедушка! У вас научился грабастать! Помните, когда вы служили в интендантстве, потом когда вас назначили в Уфимскую губернию и…
И долго этак мы спорим. Дедушка обвиняет меня в двадцати преступлениях, и все двадцать я сваливаю на родовое, на наследственность. Наконец дедушка хрипнет и начинает от злости царапать стену.
— Вот что, дедушка, — говорю я. — Нам долго так не уснуть. Давайте-ка выкупаемся и водочки выпьем. Отлично уснем!
Дедушка, сердито шамкая губами, одевается, и мы идем к речке. Ночь хорошая, лунная. Выкупавшись, мы возвращаемся к себе. Графинчик стоит на столе. Я наливаю две рюмки. Дедушка берет одну рюмку, крестится и говорит:
— Вот ежели бы тебя… разиков десять сквозь строй… понимал бы тогда! Пья… пьяница!
Проворчав, дедушка сердито выпивает и закусывает колбасой. Я тоже — потому что унаследовал любовь к спиртным напиткам — выпиваю и иду спать.
И этак у нас каждую ночь.
(обратно)Козел или негодяй?*
Знойное «после обеда». На кушетке в гостиной полулежит барышня лет восемнадцати. По ее лицу гуляют мухи, у ног валяется открытая книга, рот полуоткрыт, дыхание чуть-чуть… Она спит.
В гостиную входит старичок из породы гоголевских мышиных жеребчиков. Увидев спящую девушку, он ухмыляется и подходит к ней на цыпочках.
— Какая… прелесть! — шепчет он, шамкая губами. — Спящая… хе-хе… красавица… Как жаль, что я не художник! Эта головка… эта ручка!
Старец наклоняется к ручке девушки, гладит ее своей закорузлой рукой и… чмок! Девушка глубоко вздыхает, открывает глаза и с недоумением смотрит на старца.
— Ах… это вы, князь? — бормочет она, пересиливая сон. — Pardon, я, кажется, уснула!
— Ну да, вы спите, — лепечет князь. — Вы и теперь спите, а я вам снюсь… Вы это во сне меня видите… Спите, спите… Я только снюсь вам…
Девушка верит и закрывает глаза.
— Как я несчастна! — шепчет она, засыпая. — Вечно мне снятся то козлы, то негодяи!
Князь слышит этот шёпот, конфузится и на цыпочках стушевывается…
(обратно)Кое-что <2>*
Г-н Гулевич (автор) и утопленник
В пятницу, 10 июня*, в саду «Эрмитаж», на глазах публики, покончил с собой известный талантливый публицист Иван Иванович Иванов. Он утопился в пруду… Мир праху твоему, честный, благородный, погибший во цвете лет труженик! (Покойному не было еще 30 лет.)
Еще утром в пятницу покойный употреблял огуречный рассол и писал игривый фельетон, в полдень он весело обедал в кругу своих друзей, в семь часов вечера гулял по саду с кокотками, а в восемь… лишил себя жизни! Иван Иванович слыл за человека веселого, беспечного, любившего пожить…
О смерти он никогда не думал и не раз хвастался, что проживет «еще столько же», хоть и пьянствует смертельно. Можете же себе поэтому представить, как удивленно вытянулись физиономии всех знавших его, когда из зеленого пруда был вытащен его труп!
— Тут что-то да не так! — пронеслось по саду. — Тут пахнет насилием! У покойного нет ни кредиторов, ни жены, ни тещи… он любил жизнь! Он не мог сам утопиться!
Мысль о насилии уступила свое место подозрению, когда звукоподражатель г. Егоров* заявил, что он видел, как за четверть часа до своей трагической кончины покойный катался в лодке с г. Гулевичем (автором). Принялись искать г. Гулевича, и оказалось, что автор в скобках бежал.
Задержанный в г. Серпухове г. Гулевич (автор) показал сначала, что знать ничего не знает, потом же, когда ему сказали, что сознание облегчает вину, он заплакал и чистосердечно во всем покаялся. На предварительном дознании он показал следующее.
— С Ивановым знаком я недавно. Познакомился с ним, потому что уважаю людей печати (в протоколе слово «уважаю» подчеркнуто). В родстве с ним не состоял, делов никаких не имел. В злополучный вечер угощал его чаем и портером, потому что уважаю литературу («уважаю» опять подчеркнуто и рядом с ним мелким протокольным почерком написано: «Какое упорство!!»). После чая Иван Иванович сказал, что недурно бы теперь на лодочке покататься. Я согласился с ним, и мы сели в лодку.
«Расскажите-ка что-нибудь!» — попросил меня Иван Иванович, когда мы отъехали на средину пруда.
— Я не заставил долго упрашивать себя и начал свое классическое: «Если вам будет угодно»… После первых же двух-трех фраз Иван Иванович ухватился за живот, покачнулся, и широколиственная листва (?) «Эрмитажа» огласилась дружным (?) смехом маститого публициста… Когда я (автор) оканчивал второй анекдот, Иван Иванович захохотал, покачнулся от хохота… Это был гомерический хохот. Так мог хохотать один только Гомер (?). Он покачнулся, повалился на край… лодка наклонилась, и серебристая зыбь скрыла от глаз благодарной России… и — не могу! меня… душат слезы!!
Это показание несколько несогласно с показанием г. Егорова. Маститый звукоподражатель показал, что Иванов вовсе не хохотал. Напротив, когда он слушал г. Гулевича (автора), лицо его было донельзя печально и кисло. Г-н Егоров, находясь на берегу, слышал и видел, как в конце второго анекдота Иванов схватил себя за голову и воскликнул: «Как всё старо и скучно на этом свете! Какая тоска!» Воскликнул и — бултых в воду!
Суду остается теперь решить, какое из этих показаний наиболее заслуживает доверия. Г-н Гулевич взят на поруки.
Смерть Иванова не первый смертельный случай в саду «Эрмитаж», и пора уже оградить ни в чем не повинную публику от повторения подобных случаев… Впрочем, я шучу*.
(обратно)Картофель и тенор
Как иногда бывают вредны съестные припасы, может засвидетельствовать следующая выписка из «Медицинского свистуна»:
«На днях мне еще раз пришлось убедиться во вреде крахмалистых веществ, — пишет д-р Б. — Ко мне в поликлинику явился певец Ш-мов* с жалобой на стеснение и судороги в горле. Осмотрев через зеркало его горло, я заметил у самых голосовых связок картофелину величиною с куриное яйцо; картофелина уже разбухла и дала ростки. Отвечая на мои вопросы, несчастный тенор сказал мне, что картофелина застряла у него в горле лет пять тому назад и уже пять раз давала плод (sic!).
— За пять лет пять мешков картофеля выкашлял! — сказал он, горько улыбаясь.
Когда я предложил больному операцию, тот отказался наотрез, заявив, что картофель нисколько не мешает ему петь. Я попросил его спеть что-нибудь. Он любезно согласился на мою просьбу и спел что-то из «Калиостро»*. Действительно, голос его годился еще для пения.
— А это ничего, что ваш голос несколько напоминает голос молодого шакала? — спросил я его.
— Думаю, что ничего… — ответил мне певец».
(«Мед. свист.», 22).
(обратно) (обратно)Смерть чиновника*
В один прекрасный вечер не менее прекрасный экзекутор, Иван Дмитрич Червяков, сидел во втором ряду кресел и глядел в бинокль на «Корневильские колокола»*. Он глядел и чувствовал себя на верху блаженства. Но вдруг… В рассказах часто встречается это «но вдруг». Авторы правы: жизнь так полна внезапностей! Но вдруг лицо его поморщилось, глаза подкатились, дыхание остановилось… он отвел от глаз бинокль, нагнулся и…. апчхи!!! Чихнул, как видите. Чихать никому и нигде не возбраняется. Чихают и мужики, и полицеймейстеры, и иногда даже и тайные советники. Все чихают. Червяков нисколько не сконфузился, утерся платочком и, как вежливый человек, поглядел вокруг себя: не обеспокоил ли он кого-нибудь своим чиханьем? Но тут уж пришлось сконфузиться. Он увидел, что старичок, сидевший впереди него, в первом ряду кресел, старательно вытирал свою лысину и шею перчаткой и бормотал что-то. В старичке Червяков узнал статского генерала Бризжалова, служащего по ведомству путей сообщения.
«Я его обрызгал! — подумал Червяков. — Не мой начальник, чужой, но все-таки неловко. Извиниться надо».
Червяков кашлянул, подался туловищем вперед и зашептал генералу на ухо:
— Извините, ваше — ство, я вас обрызгал… я нечаянно…
— Ничего, ничего…
— Ради бога, извините. Я ведь… я не желал!
— Ах, сидите, пожалуйста! Дайте слушать!
Червяков сконфузился, глупо улыбнулся и начал глядеть на сцену. Глядел он, но уж блаженства больше не чувствовал. Его начало помучивать беспокойство. В антракте он подошел к Бризжалову, походил возле него и, поборовши робость, пробормотал:
— Я вас обрызгал, ваше — ство… Простите… Я ведь… не то чтобы…
— Ах, полноте… Я уж забыл, а вы всё о том же! — сказал генерал и нетерпеливо шевельнул нижней губой.
«Забыл, а у самого ехидство в глазах, — подумал Червяков, подозрительно поглядывая на генерала. — И говорить не хочет. Надо бы ему объяснить, что я вовсе не желал… что это закон природы, а то подумает, что я плюнуть хотел. Теперь не подумает, так после подумает!..»
Придя домой, Червяков рассказал жене о своем невежестве. Жена, как показалось ему, слишком легкомысленно отнеслась к происшедшему; она только испугалась, а потом, когда узнала, что Бризжалов «чужой», успокоилась.
— А все-таки ты сходи, извинись, — сказала она. — Подумает, что ты себя в публике держать не умеешь!
— То-то вот и есть! Я извинялся, да он как-то странно… Ни одного слова путного не сказал. Да и некогда было разговаривать.
На другой день Червяков надел новый вицмундир, подстригся и пошел к Бризжалову объяснить… Войдя в приемную генерала, он увидел там много просителей, а между просителями и самого генерала, который уже начал прием прошений. Опросив несколько просителей, генерал поднял глаза и на Червякова.
— Вчера в «Аркадии»*, ежели припомните, ваше — ство, — начал докладывать экзекутор, — я чихнул-с и… нечаянно обрызгал… Изв…
— Какие пустяки… Бог знает что! Вам что угодно? — обратился генерал к следующему просителю.
«Говорить не хочет! — подумал Червяков, бледнея. — Сердится, значит… Нет, этого нельзя так оставить… Я ему объясню…»
Когда генерал кончил беседу с последним просителем и направился во внутренние апартаменты, Червяков шагнул за ним и забормотал:
— Ваше — ство! Ежели я осмеливаюсь беспокоить ваше — ство, то именно из чувства, могу сказать, раскаяния!.. Не нарочно, сами изволите знать-с!
Генерал состроил плаксивое лицо и махнул рукой.
— Да вы просто смеетесь, милостисдарь! — сказал он, скрываясь за дверью.
«Какие же тут насмешки? — подумал Червяков. — Вовсе тут нет никаких насмешек! Генерал, а не может понять! Когда так, не стану же я больше извиняться перед этим фанфароном! Чёрт с ним! Напишу ему письмо, а ходить не стану! Ей-богу, не стану!»
Так думал Червяков, идя домой. Письма генералу он не написал. Думал, думал, и никак не выдумал этого письма. Пришлось на другой день идти самому объяснять.
— Я вчера приходил беспокоить ваше — ство, — забормотал он, когда генерал поднял на него вопрошающие глаза, — не для того, чтобы смеяться, как вы изволили сказать. Я извинялся за то, что, чихая, брызнул-с…, а смеяться я и не думал. Смею ли я смеяться? Ежели мы будем смеяться, так никакого тогда, значит, и уважения к персонам… не будет…
— Пошел вон!! — гаркнул вдруг посиневший и затрясшийся генерал.
— Что-с? — спросил шёпотом Червяков, млея от ужаса.
— Пошел вон!! — повторил генерал, затопав ногами.
В животе у Червякова что-то оторвалось. Ничего не видя, ничего не слыша, он попятился к двери, вышел на улицу и поплелся… Придя машинально домой, не снимая вицмундира, он лег на диван и… помер.
(обратно)Он понял!*
Душное июньское утро. В воздухе висит зной, от которого клонится лист и покрывается трещиной земля. Чувствуется тоска за грозой. Хочется, чтобы всплакнула природа и прогнала дождевой слезой свою тоску.
Вероятно, и будет гроза. На западе синеет и хмурится какая-то полоска. Добро пожаловать!
По опушке леса крадется маленький сутуловатый мужичонок, ростом в полтора аршина, в огромнейших серо-коричневых сапогах и синих панталонах с белыми полосками. Голенища сапог спустились до половины. Донельзя изношенные, заплатанные штаны мешками отвисают у колен и болтаются, как фалды. Засаленный веревочный поясок сполз с живота на бедра, а рубаху так и тянет вверх к лопаткам.
В руках мужичонка ружье. Заржавленная трубка в аршин длиною, с прицелом, напоминающим добрый сапожный гвоздь, вделана в белый самоделковый приклад, выточенный очень искусно из ели, с вырезками, полосками и цветами. Не будь этого приклада, ружье не было бы похоже на ружье, да и с ним оно напоминает что-то средневековое, не теперешнее… Курок, коричневый от ржавчины, весь опутан проволокой и нитками. А всего смешнее белый лоснящийся шомпол, только что срезанный с вербы. Он сыр, свеж и много длиннее ствола.
Мужичонок бледен. Его косые, воспаленные глазки беспокойно глядят вверх и по сторонам. Жиденькая, козлиная бородка дрожит, как тряпочка, вместе с нижней губой. Он широко шагает, нагибает туловище вперед и, видимо, спешит. За ним, высунув свой длинный, серый от пыли язык, бежит большая дворняга, худая, как собачий скелет, с всклокоченной шерстью. На ее боках и хвосте висят большие клочья старой, отлинявшей шерсти. Задняя нога повязана тряпочкой: болит, должно быть. Мужичонок то и дело оборачивается к своему спутнику.
— Пшла! — говорит он пугливо.
Дворняга отскакивает назад, оглядывается и, постояв немного, продолжает шествовать за своим хозяином.
Охотник рад бы шмыгнуть в сторону, в лес, но нельзя: по краю стеной тянется густой колючий терновник, а за терновником высокий душный болиголов с крапивой. Но вот, наконец, тропинка. Мужичонок еще раз машет собаке и бросается по тропинке в кусты. Под ногами всхлипывает почва: тут еще не высохло. Пахнет сырьем и менее душно. По сторонам кусты, можжевельник, а до настоящего леса еще далеко, шагов триста.
В стороне что-то издает звук неподмазанного колеса. Мужичонок вздрагивает и косится на молодую ольху. На ольхе усматривает он черное подвижное пятнышко, подходит ближе и узнает в пятнышке молодого скворца. Скворец сидит на ветке и глядит себе под поднятое крылышко. Мужичонок топчется на одном месте, сбрасывает с себя шапку, прижимает к плечу приклад и начинает прицеливаться. Прицелившись, он поднимает курок и придерживает его, чтобы он не опустился раньше, чем следует. Пружина испорчена, собачка не действует, а курок не слушается: ходнем ходит. Скворец опускает крыло и начинает подозрительно поглядывать на стрелка. Еще секунда — и он улетит. Стрелок еще раз прицеливается и отнимает руку от курка. Курок, сверх ожидания, не опускается. Мужичонок разрывает ногтем какую-то ниточку, гнет проволочку и дает курку щелчок. Слышится щелканье, а за щелканьем выстрел. Стрелку сильно отдает в плечо. Видно, что он не пожалел пороха. Бросив наземь ружье, он бежит к ольхе и начинает шарить в траве. Около гнилого, заплесневелого сучка он находит кровяное пятно и пушок, а поискав еще немного, узнает в маленьком, еще горячем трупе, лежащем у самого ствола, свою жертву.
— В голову попал! — говорит он с восторгом дворняге.
Дворняга нюхает скворца и видит, что хозяин попал не в одну только голову. На груди зияет рана, перебита одна ножка, на клюве висит большая кровяная капля… Мужичонок быстро лезет в карман за новым зарядом, причем из кармана сыплются на траву тряпочки, бумажки, ниточки. Он заряжает ружье и, готовый продолжать свою охоту, идет далее.
Как из земли вырастает перед ним поляк Кржевецкий, господский приказчик. Мужичонок видит его надменно-строгое, рыжеволосое лицо и холодеет от ужаса. Шапка сама собой валится с его головы.
— Вы что же это? Стреляете? — говорит поляк насмешливым голосом. — Очень приятно!
Охотник робко косится в сторону и видит воз с хворостом и около воза мужиков. Увлекшись охотой, он и не заметил, как набрел на людей.
— Как же вы смеете стрелять? — спрашивает Кржевецкий, возвышая голос. — Это, стало быть, ваш лес? Или, быть может, по-вашему, уже прошел Петров день? Вы кто такой?
— Павел Хромой, — еле-еле выговаривает мужичонок, прижимая к себе ружье. — Из Кашиловки.
— Из Кашиловки, чёрт побрал! Кто же позволял вам стрелять? — продолжает поляк, стараясь не делать ударения на втором слоге от конца. — Дайте сюда ружье!
Хромой подает поляку ружье и думает:
«Лучше б ты меня по морде, чем выкать…»
— И шапку давайте…
Хромой подает и шапку.
— Вот я вам покажу, как стрелять! Чёрт побрал! Пойдемте!
Кржевецкий поворачивается к нему спиной и шагает за заскрипевшим возом. Павел Хромой, ощупывая в кармане свою дичину, идет за ним.
Через час Кржевецкий и Хромой входят в просторную комнату с низким потолком и синими полинялыми стенами. Это господская контора. В конторе никого нет, но, тем не менее, сильно пахнет жильем. Посреди конторы — большой дубовый стол. На столе две-три счетные книги, чернильница с песочницей и чайник с отбитым носиком. Всё это покрыто серым слоем пыли. В углу стоит большой шкаф, с которого давно уже слезла краска. На шкафу жестянка из-под керосина и бутыль с какою-то смесью. В другом углу маленький образ, затянутый паутиной…
— Надо будет акт составить, — говорит Кржевецкий. — Сейчас барину доложу и за урядником пошлю. Снимайте сапоги!
Хромой садится на пол и молча, дрожащими руками стаскивает с себя сапоги.
— Вы у меня не уйдете, — говорит приказчик, зевая. — А уйдете босиком, хуже будет. Сидите здесь и дожидайтесь, пока урядник придет…
Поляк запирает в шкаф сапоги и ружье и выходит из конторы.
По уходе Кржевецкого Хромой долго и медленно чешет свой маленький затылок, точно решает вопрос — где он. Он вздыхает и пугливо осматривается. Шкаф, стол, чайник без носика и образок глядят на него укоризненно, тоскливо… Мухи, которыми так изобилуют господские конторы, жужжат над его головой так жалобно, что ему делается нестерпимо жутко.
— Дззз… — жужжат мухи. — Попался? Попался?
По окну ползет большая оса. Ей хочется вылететь на воздух, но не пускает стекло. Ее движения полны скуки, тоски… Хромой пятится к двери, становится у косяка и, опустив руки по швам, задумывается…
Проходит час, другой, а он стоит у косяка, ждет и думает.
Глаза его косятся на осу.
«Отчего она, дура, в дверь не летит?» — думает он.
Проходит еще два часа. Кругом всё тихо, беззвучно, мертво… Хромому начинает думаться, что про него забыли и что ему не скоро еще вырваться отсюда, как и осе, которая всё еще, то и дело, падает со стекла. Оса уснет к ночи, — ну, а ему-то как быть?
— Так вот и люди, — философствует Хромой, глядя на осу. — Так и человек, стало быть… Есть место, где ему на волю выскочить, а он по невежеству и не знает, где оно, место-то это самое…
Наконец где-то хлопают дверью. Слышатся чьи-то поспешные шаги, и через минуту в контору входит маленький, толстенький человечек в широчайших брюках и помочах. Он без сюртука и без жилетки. На спине в уровень с лопатками идет полоса от пота; на груди такая же полоса. Это сам барин, Петр Егорыч Волчков, отставной подполковник. Толстое, красное лицо и вспотевшая лысина говорят, что он дорого бы дал, если бы вместо этой жары пристукнул крещенский мороз. Он страдает от зноя и духоты. По заплывшим, сонным глазам видно, что он только что поднялся со своей ужасно мягкой и душной перины.
Войдя, он прохаживается несколько раз вдоль по комнате, как бы не замечая Хромого, потом останавливается перед пленником и долго, пристально смотрит ему в лицо. Смотрит в упор, с презрением, которое сначала светится чуть заметно в одних только глазках, потом же постепенно разливается по всему жирному лицу. Хромой не выносит этого взгляда и опускает глаза. Ему стыдно…
— Покажи-ка, что ты убил! — шепчет Волчков. — Ну-кася, покажи, молодчик, Вильгельм Тель! Покажи, образина!
Хромой лезет в карман и достает оттуда несчастного скворца. Скворец уже потерял свой птичий образ. Он сильно помят и начинает сохнуть. Волчков презрительно усмехается и пожимает плечами.
— Дурак! — говорит он. — Дурандас ты! Дурында пустоголовая! И тебе не грех? И тебе не стыдно?
— Стыдно, батюшка Петр Егорыч! — говорит Хромой, пересиливая глотательные движения, мешающие ему говорить…
— Мало того, что ты, разбойник-июда, без спроса в моем лесу охотишься, ты смеешь еще идти против государственных законов! Разве тебе не известен закон, возбраняющий несвоевременную охоту? В законе сказано, чтобы никто не смел стрелять до Петрова дня. Тебе это не известно? Подойди-ка сюда!
Волчков подходит к столу; за ним идет к тому же столу и Хромой. Барин раскрывает книгу, долго перелистывает и начинает читать высоким протяжным тенором статью, возбраняющую охоту до Петрова дня.
— Так ты этого не знаешь? — спрашивает барин, окончив чтение.
— Как не знать? Знаем, ваше высокоблагородие. Да нешто мы понимаем? Нешто в нас есть понятие?
— А? Какое же тут понятие, ежели ты безо всякого смысла тварь божию портишь? Птичку вот эту убил. За что ты ее убил? Ты ее нешто можешь воскресить? Можешь, я тебя спрашиваю?
— Не могу, батюшка!
— А убил… И какая из этой птицы корысть, не понимаю! Скворец! Ни мяса, ни перья… Так… Взял себе да сдуру и убил…
Волчков щурит глаза и начинает выпрямлять у скворца перебитую ножку. Ножка отрывается и падает на босую ногу Хромого.
— Анафема ты, анафема! — продолжает Волчков. — Жада ты, хищник! От жадности ты этот поступок сделал! Видит пташку, и ему досадно, что пташка по воле летает, бога прославляет! Дай, мол, ее убью и… сожру… Жадность человеческая! Видеть тебя не могу! Не гляди и ты на меня своими глазами! Косая ты шельма, косая! Ты вот убил ее, а у нее, может быть, маленькие деточки есть… Пищат теперь…
Волчков делает плаксивую гримасу и, опустив руку к земле, показывает, как малы могут быть деточки…
— Не от жадности это я сделал, Петр Егорыч, — оправдывается дрожащим голосом Хромой.
— От чего же? Известно, от жадности!
— Никак нет, Петр Егорыч… Ежели я взял грех на душу, то не от жадности, не из корысти-с, Петр Егорыч! Нечистый попутал…
— Таковский ты, чтоб тебя нечистый попутал! Сам ты нечистого попутать можешь! Все вы, кашиловские, разбойники!
Волчков с сопеньем выпускает из груди струю воздуха, вбирает в себя новую порцию и продолжает, понизив голос:
— Что ж мне теперь с тобой делать? А? Принимая во внимание твое умственное убожество, тебя отпустить бы следовало; соображаясь же с поступком и твоею наглостью, тебе задать надо… Непременно надо… Довольно уж вас баловать… До-воль-но! Послал за урядником… Акт сейчас составим… Послал… Улика налицо… Пеняй на себя… Не я тебя наказываю, а тебя твой грех наказывает… Умел грешить, сумей и наказание претерпеть… Охо-хоххх… Господи, прости нас грешных! Беда с этими… Ну, как у вас яровое?..
— Ничего… милости господни…
— Чего же ты глазами моргаешь?
Хромой конфузливо кашляет в кулак и поправляет поясок.
— Чего глазами моргаешь? — повторяет Волчков. — Ты скворца убил, ты же и плакать собираешься?
— Ваше высокоблагородие! — говорит Хромой дребезжащей фистулой, громко, как бы собравшись с силами. — Вам, по вашему человеколюбию, обидно за то, что я птаху, положим, убил… Укоряете вы меня, это самое, не потому, стало быть, что вы барин есть, а потому, что обидно… по вашему человеколюбию… А мне нешто не обидно? Я человек глупый, хоть и без понятия, а и мне… обидно-с… Разрази господи…
— Так зачем же ты стрелял, ежели тебе обидно?
— Нечистый попутал. Дозвольте мне рассказать, Петр Егорыч! Я чистую правду, как перед богом… Пущай урядник наезжает… Мой грех, я за него и ответчик перед богом и судом, а вам всю сущую правду, как на духу… Дозвольте, ваше высокоблагородие!
— Да что мне позволять? Позволяй там или не позволяй, а всё умного не скажешь. Мне что? Не я буду составлять… Говори! Чего же молчишь? Говори, Вильгельм Тель!
Хромой проводит рукавом по дрожащим губам. Глаза его делаются еще косее и мельче…
— Никакого мне антиресу нет от этого скворца, — говорит он. — Будь их, скворцов, хоть тыща, да что с них толку? Ни продашь, ни съешь, так только… пустяк один. Сами можете понимать…
— Нет, не говори… Ты охотник вот, а не понимаешь… Скворец, ежели поджаренный, в каше хорош… И соус можно… Как рябчик — один вкус почти…
И, как бы спохватившись за свой равнодушный тон, Волчков хмурится и добавляет:
— Узнаешь сейчас, какого он вкуса… Увидишь…
— Не разбираем мы вкусов… Был бы хлеб, Петр Егорыч… Самим небезызвестно… А убил скворца от тоски… Тоска прижала…
— Какая тоска?
— А нечистый знает, какая она! Дозвольте вам объяснить. Зачала она мучить меня с самой Святой, тоска-то эта… Дозвольте вам объяснить… Выхожу это я, значит, утром после заутрени, как пасхи освятили, и иду себе… Наши бабы впереди пошли, а я позади иду. Шел, шел да и остановился на плотине… Стою и смотрю на свет божий, как всё в нем происходит, как всякая тварь и былинка, можно сказать, свое место знает… Утро рассвело и солнышко всходит… Вижу всё это, радуюсь и на пташек гляжу, Петр Егорыч. Вдруг у меня в сердце что-то: ёк! Екнуло, стало быть…
— Отчего же это?
— Оттого, что пташек увидал. Сейчас же мне в голову и мысль пришла. Хорошо бы, думаю, пострелять, да жалко, закон не приказывает. А тут еще в поднебесье две уточки пролетели, да куличок прокричал где-тось за речкой. Страсть как охоты захотел! С этаким воображением и домой пришел. Сижу, разговляюсь с бабами, а у самого в глазах пташки. Ем и слышу, как лес шумит и пташка кричит: цвиринь! цвиринь! Ах ты, господи! Хочется мне на охоту, да и шабаш! А водки как выпил, разговлямшись, так и совсем шальной стал. Голоса стал слышать. Слышно мне, как какой-то тоненький, словно как будто андельский, голосочек звенит тебе в ухе и рассказывает: поди, Пашка, постреляй! Наваждение! Могу предположить, ваше высокоблагородие, Петр Егорыч, што это самое чертененок, а не кто другой. И так сладко и тоненько, словно дите. С того утра и взяла меня, это самое, тоска. Сижу на призбе, опущу руки, как дурной, да и думаю себе… Думаю, думаю… И всё у меня в воображении братец ваш, покойник, Сергей, стало быть, Егорыч, царство им небесное. Вспоминалось мне, глупому, как я с ними, с покойничком, на охоту хаживал. Я у ихнего высокоблагородия, дай им бог… в наипервейших охотниках состоял. Занимательно и трогательно им было, что я, косой на оба глаза, стрелять был артист! Хотели в город везти докторам показывать мою способность при моем безобразии-с. Удивительно и чувствительно оно было, Петр Егорыч. Выйдем мы, бывалыча, чуть свет, кликнем собак Кару и Ледку, да… аах! Верст тридцать в день проходим! Да что говорить! Петр Егорыч! Батюшка благородный! Истинно вам говорю, что окроме вашего братца во всем свете нет и не было человека настоящего! Жестокий они были человек, грозный, строптивый, но никто супротив него по охотничьей части устоять не мог! Его сиятельство, граф Тирборк, бился-бился со своею охотой, да так и помер завидуючи. Куда ему! И красоты той не было, и ружья такого в руках держать не приходилось, как у вашего братца! Двустволка, извольте понимать, марсельская, фабрики Лепелье и компании. На двести шагов-с! Утку! Шутка сказать!
Хромой быстро вытирает губы и, мигая косыми глазами, продолжает:
— От них я и тоску эту самую получил. Как нет стрельбы, так и беда — за сердце душит!
— Баловство!
— Никак нет, Петр Егорыч! Всю Святую неделю как шальной ходил, не пил, не ел. На Фоминой почистил ружье, поисправил — отлегло малость. На Преполовенье опять затошнило. Тянет да и тянет на охоту, хоть ты тресни тут. Водку ходил пить — не помогает, еще того хуже. Не баловство-с! После водосвятья напился… Назавтра тоска пуще прежнего… Ломит тебя да из избы гонит… Так и гонит, так и гонит! Сила! Взял я ружье, вышел с ним на огород и давай галок стрелять! Набил их штук с десять, а самому не легче: в лес тянет… к болоту. Да и старуха срамить начала: «Галок нешто можно стрелять? Птица она неблагородная, и перед богом грех: неурожай будет, ежели галку убьешь». Взял, Петр Егорыч, и разбил ружье… Шут с ним! Отлегло…
— Баловство!
— Не баловство-с! Истинно вам говорю, что не баловство, Петр Егорыч! Дозвольте уж вам объяснить… Просыпаюсь вчера ночью. Лежу и думаю… Баба моя спит, и не с кем мне слово вымолвить. «А можно ли мое ружье таперича починить, али нет?» — думаю. Встал да и давай починять.
— Ну?
— Ну, и ничего… Починил да выбежал с ним, как оглашенный. Поймался вот… Туда мне и дорога… Птицу эту саму взять да и по морде, чтобы понимал…
— Сейчас урядник придет… Ступай в сени!
— Пойду-с… И на духу каялся… Батюшка, отец Пётра, тоже сказывает, что баловство… А по моему глупому предположению, как я это дело понимаю, это не баловство, а болесть… Всё одно как запой… Один шут… Ты не хочешь, а тебя за душу тянет. Рад бы не пить, перед образом зарок даешь, а тебя подмывает: выпей! выпей! Пил, знаю…
Красный нос Волчкова делается багровым.
— Запой — другое дело, — говорит он.
— Одинаково-с! Разрази бог, одинаково-с! Истинно вам говорю!
И молчание… Молчат минут пять и друг на друга смотрят.
Багровый нос Волчкова делается темно-синим.
— Одно слово-с — запой… Сами изволите понимать по человеколюбию своему, какая это слабость есть.
Не по человеколюбию понимает подполковник, а по опыту.
— Ступай! — говорит он Хромому.
Хромой не понимает.
— Ступай и больше не попадайся!
— Сапожки пожалуйте-с! — говорит понявший и просиявший мужичонок.
— А где они?
— В шкафе-с…
Хромой получает свою обувь, шапку и ружье. С легкой душою выходит он из конторы, косится вверх, а на небе уж черная, тяжелая туча. Ветер шалит по траве и деревьям. Первые брызги уже застучали по горячей кровле. В душном воздухе делается всё легче и легче.
Волчков пихает изнутри окно. Окно с шумом отворяется, и Хромой видит улетающую осу.
Воздух, Хромой и оса празднуют свою свободу.
(обратно)Сущая правда*
Шесть коллежских регистраторов и один не имеющий чина сидели в пригородной роще и пьянствовали.
Пьянство было шумное, но печальное и грустное. Не видно было ни улыбок, ни радостных телодвижений; не слышно было ни смеха, ни веселого говора… Пахло чем-то похоронным…
Не далее как неделю тому назад коллежский регистратор Канифолев, явившись в присутствие в пьяном виде, поскользнулся на чьем-то плевке, упал на стеклянный шкаф, разбил его и сам разбился. На другой же день после этого грехопадения он потерял две бумаги из дела № 2423. Мало этого… Он приходил в присутствие, имея в кармане порох и пистоны. Вообще же он ведет жизнь нетрезвую и буйную. Всё было принято во внимание. Он слетел и теперь кушал прощальный обед.
— Вечная тебе память, Алеша! — говорили чиновники перед каждой рюмкой, обращаясь к Канифолеву. — Аминь тебе!
Канифолев, маленький человечек с длинным заплаканным лицом, после каждого подобного приветствия всхлипывал, стучал кулаком по столу и говорил:
— Всё одно погибать!
И изгнанник с ожесточением выпивал свою рюмку, громко всхлипывал и лез лобызать своих приятелей.
— Меня прогнали! — говорил он, трагически мотая головой. — Прогнали за то, что я выпивохом! А не понимают того, что я пил с горя, с досады!
— С какого горя?
— А с такого, что я не мог ихней неправды видеть! Меня их неправда подлая за сердце ела! Видеть я не мог равнодушно всех их пакостей! Этого они не хотели понять… Ладно же! Я им покажу, где раки зимуют! Покажу я им! Пойду и прямо в глаза наплюю! Всю сущую правду им выскажу! Всю правду!
— Не выскажешь… Одно хвастовство только… Все мы мастера в пьяном виде глотку драть, а чуть что, так и хвост поджал… И ты такой…
— Ты думаешь, не выскажу? Ты думаешь? Аааа… ты так думаешь… Ладно… Хорошо, посмотрим… Будь я трижды анафема… лопни… Подлецом меня в глаза обзови, плюнь тогда, ежели не выскажу!
Канифолев стукнул кулаком по столу и побагровел.
— Всё одно погибать! Сейчас же пойду и выскажу! Сию минуту! Он тут недалеко с женой сидит! Пропадать так пропадать, шут возьми, а я им открою глаза! Всё на чистую воду выведу! Узнают, что значит Алешка Канифолев!
Канифолев рванулся с места и, покачиваясь, побежал… Когда приятели протянули за ним руки, чтобы удержать его за фалды, он был уже далеко. А когда они надумали побежать за ним и удержать его, он стоял уже перед столом, за которым сидело начальство, и говорил:
— Я, ваше — ство, ворвался к вам в дом без доклада, но всё это я как честный человек, а потому извините… Я, ваше — ство, выпивши, это верно, — говорил он, — но я в памяти-с! Что у трезвого на душе, то у пьяного на языке, и я вам всю сущую правду выскажу! Да-с, ваше — ство! Довольно терпеть! Почему, например, у нас в канцелярии полы давно не крашены? Зачем вы дозволяете бухгалтеру спать до одиннадцати часов? Отчего вы Митяеву позволяете брать на дом газеты из присутствия, а другим не позволяете? Всё одно мне погибать, и я вам всю сущую…
И эту сущую правду говорил Канифолев с дрожью в голосе, со слезами на глазах, стуча кулаком по груди.
Начальство смотрело на него, выпуча глаза, и не понимало, в чем дело.
(обратно)Злой мальчик*
Иван Иваныч Лапкин, молодой человек приятной наружности, и Анна Семеновна Замблицкая, молодая девушка со вздернутым носиком, спустились вниз по крутому берегу и уселись на скамеечке. Скамеечка стояла у самой воды, между густыми кустами молодого ивняка. Чудное местечко! Сели вы тут, и вы скрыты от мира — видят вас одни только рыбы да пауки-плауны, молнией бегающие по воде. Молодые люди были вооружены удочками, сачками, банками с червями и прочими рыболовными принадлежностями. Усевшись, они тотчас же принялись за рыбную ловлю.
— Я рад, что мы наконец одни, — начал Лапкин, оглядываясь. — Я должен сказать вам многое, Анна Семеновна… Очень многое… Когда я увидел вас в первый раз… У вас клюет… Я понял тогда, для чего я живу, понял, где мой кумир, которому я должен посвятить свою честную, трудовую жизнь… Это, должно быть, большая клюет… Увидя вас, я полюбил впервые, полюбил страстно! Подождите дергать… пусть лучше клюнет… Скажите мне, моя дорогая, заклинаю вас, могу ли я рассчитывать — не на взаимность, нет! — этого я не сто́ю, я не смею даже помыслить об этом, — могу ли я рассчитывать на… Тащите!
Анна Семеновна подняла вверх руку с удилищем, рванула и вскрикнула. В воздухе блеснула серебристо-зеленая рыбка.
— Боже мой, окунь! Ай, ах… Скорей! Сорвался!
Окунь сорвался с крючка, запрыгал по травке к родной стихии и… бултых в воду!
В погоне за рыбой Лапкин, вместо рыбы, как-то нечаянно схватил руку Анны Семеновны, нечаянно прижал ее к губам… Та отдернула, но уже было поздно: уста нечаянно слились в поцелуй. Это вышло как-то нечаянно. За поцелуем следовал другой поцелуй, затем клятвы, уверения… Счастливые минуты! Впрочем, в этой земной жизни нет ничего абсолютно счастливого. Счастливое обыкновенно носит отраву в себе самом или же отравляется чем-нибудь извне. Так и на этот раз. Когда молодые люди целовались, вдруг послышался смех. Они взглянули на реку и обомлели: в воде по пояс стоял голый мальчик. Это был Коля, гимназист, брат Анны Семеновны. Он стоял в воде, глядел на молодых людей и ехидно улыбался.
— А-а-а… вы целуетесь? — сказал он. — Хорошо же! Я скажу мамаше.
— Надеюсь, что вы, как честный человек… — забормотал Лапкин, краснея. — Подсматривать подло, а пересказывать низко, гнусно и мерзко… Полагаю, что вы, как честный и благородный человек…
— Дайте рубль, тогда не скажу! — сказал благородный человек. — А то скажу.
Лапкин вынул из кармана рубль и подал его Коле. Тот сжал рубль в мокром кулаке, свистнул и поплыл. И молодые люди на этот раз уже больше не целовались.
На другой день Лапкин привез Коле из города краски и мячик, а сестра подарила ему все свои коробочки из-под пилюль. Потом пришлось подарить и запонки с собачьими мордочками. Злому мальчику, очевидно, всё это очень нравилось, и, чтобы получить еще больше, он стал наблюдать. Куда Лапкин с Анной Семеновной, туда и он. Ни на минуту не оставлял их одних.
— Подлец! — скрежетал зубами Лапкин. — Как мал, и какой уже большой подлец! Что же из него дальше будет?!
Весь июнь Коля не давал житья бедным влюбленным. Он грозил доносом, наблюдал и требовал подарков; и ему всё было мало, и в конце концов он стал поговаривать о карманных часах. И что же? Пришлось пообещать часы.
Как-то раз за обедом, когда подали вафли, он вдруг захохотал, подмигнул одним глазом и спросил у Лапкина:
— Сказать? А?
Лапкин страшно покраснел и зажевал вместо вафли салфетку. Анна Семеновна вскочила из-за стола и убежала в другую комнату.
И в таком положении молодые люди находились до конца августа, до того самого дня, когда, наконец, Лапкин сделал Анне Семеновне предложение. О, какой это был счастливый день! Поговоривши с родителями невесты и получив согласие, Лапкин прежде всего побежал в сад и принялся искать Колю. Найдя его, он чуть не зарыдал от восторга и схватил злого мальчика за ухо. Подбежала Анна Семеновна, тоже искавшая Колю, и схватила за другое ухо. И нужно было видеть, какое наслаждение было написано на лицах у влюбленных, когда Коля плакал и умолял их:
— Миленькие, славненькие, голубчики, не буду! Ай, ай, простите!
И потом оба они сознавались, что за всё время, пока были влюблены друг в друга, они ни разу не испытывали такого счастья, такого захватывающего блаженства, как в те минуты, когда драли злого мальчика за уши.
(обратно)3000 иностранных слов, вошедших в употребление русского языка*
Адмиральский час. Час, названный так в честь вице-адмиралов и контр-адмиралов.
Актер. Истинный христианин, соблюдающий посты.
Бестия. Талантливый человек.
Ватер-клозет. По замечанию одного статского советника, кабинет задумчивости.
Гонорар. Произведение, получаемое от умножения числа строк на число, редко превышающее 5.
Институт урядников. Институт, в который не советую вам отдавать ваших дочерей. Прием во всякое время года. Принимаются куры, гуси и прочая живность.
Каналья. Бранное слово, употребляемое иногда в ласкательном смысле либеральными квартальными надзирателями.
Коллежский регистратор. Среди великих мира сего то же, что пескарь среди рыб.
Куроцап (от латинских слов: «curo» — забочусь и «sapor» — лакомый кусок). Блюститель, заботящийся о куске обывателя.
Курс. Барометр, который легко можно испортить.
Обже. Чья-либо «она», живущая на иждивении «его».
Субъект. Ругательное слово.
Тра-ля-ля. Мужские панталоны на языке дачниц.
Человек без селезенки. Псевдоним, под которым, быть может, скрывается король Сандвичевых островов или испанский гранд. Но кто бы он ни был, он почтительнейше ставит точку.
(обратно)Перепутанные объявления*
С предлагаемыми объявлениями случился на праздниках маленький скандал, не имеющий, впрочем, особенной важности и не предусмотренный законодателем: набрав их и собирая в гранки, наборщик уронил весь шрифт на пол. Гранки смешались и вышла путаница, не имеющая, впрочем, уголовного характера. Вот что получилось по тиснении:
Трехэтажный дворник ищет места гувернантки.
«Цветы и змеи» Л. И. Пальмина* с прискорбием извещают родных и знакомых о кончине супруга и отца своего камер-юнкера А. К. Пустоквасова.
С дозволения начальства сбежал пудель фабрики Сиу и Ко.
Жеребец вороной масти, скаковой, специалист по женским и нервным болезням, дает уроки фехтования.
Общество пароходства «Самолет» ищет места горничной.
Редакция журнала «Нива» имеет для рожениц отдельные комнаты. Секрет и удобства. Дети и нижние чины платят половину. Просят не трогать руками.
Конкурсное правление по делам о несостоятельности купца Кричалова продает за ненадобностью рак желудка и костоеду.
По случаю ненастной погоды зубной врач Крахтер вставляет зубы. Панихиды ежедневно.
Новость! Студент-математик с золотою медалью, находясь в бедственном положении, предлагает почтеннейшей публике белье и приданое. Обеды и завтраки по разнообразнейшим меню.
С 1-го февраля будет выходить без предварительной цензуры акушерка Дылдина. Всякая подделка строго преследуется законом.
(обратно)Трагик*
Был бенефис трагика Феногенова.
Давали «Князя Серебряного»*. Сам бенефициант играл Вяземского, антрепренер Лимонадов — Дружину Морозова, г-жа Беобахтова — Елену… Спектакль вышел на славу. Трагик делал буквально чудеса. Он похищал Елену одной рукой и держал ее выше головы, когда проносил через сцену. Он кричал, шипел, стучал ногами, рвал у себя на груди кафтан. Отказываясь от поединка с Морозовым, он трясся всем телом, как в действительности никогда не трясутся, и с шумом задыхался. Театр дрожал от аплодисментов. Вызовам не было конца. Феногенову поднесли серебряный портсигар и букет с длинными лентами. Дамы махали платками, заставляли мужчин аплодировать, многие плакали… Но более всех восторгалась игрой и волновалась дочь исправника Сидорецкого, Маша. Она сидела в первом ряду кресел, рядом со своим папашей, не отрывала глаз от сцены даже в антрактах и была в полном восторге. Ее тоненькие ручки и ножки дрожали, глазки были полны слез, лицо становилось всё бледней и бледней. И не мудрено: она была в театре первый раз в жизни!
— Как хорошо они представляют! Как отлично! — обращалась она к своему папаше-исправнику всякий раз, когда опускался занавес. — Как хорош Феногенов!
И если бы папаша мог читать на лицах, он прочел бы на бледном личике своей дочки восторг, доходящий до страдания. Она страдала и от игры, и от пьесы, и от обстановки. Когда в антракте полковой оркестр начинал играть свою музыку, она в изнеможении закрывала глаза.
— Папа! — обратилась она к отцу в последнем антракте. — Пойди на сцену и скажи им всем, чтобы приходили к нам завтра обедать!
Исправник пошел за сцену, похвалил там всех за хорошую игру и сказал г-же Беобахтовой комплимент:
— Ваше красивое лицо просится на полотно. О, зачем я не владею кистью!
И шаркнул ногой, потом пригласил артистов к себе на обед.
— Все приходите, кроме женского пола, — шепнул он. — Актрис не надо, потому что у меня дочка.
На другой день у исправника обедали артисты. Пришли только антрепренер Лимонадов, трагик Феногенов и комик Водолазов; остальные сослались на недосуг и не пришли. Обед прошел не скучно. Лимонадов всё время уверял исправника, что он его уважает и вообще чтит всякое начальство, Водолазов представлял пьяных купцов и армян, а Феногенов, высокий, плотный малоросс (в паспорте он назывался Кныш) с черными глазами и нахмуренным лбом, продекламировал «У парадного подъезда» и «Быть или не быть?». Лимонадов со слезами на глазах рассказал о свидании своем с бывшим губернатором генералом Канючиным. Исправник слушал, скучал и благодушно улыбался. Несмотря даже на то, что от Лимонадова сильно пахло жжеными перьями, а на Феногенове был чужой фрак и сапоги с кривыми каблуками, он был доволен. Они нравились его дочке, веселили ее, и этого ему было достаточно! А Маша глядела на артистов, не отрывала от них глаз ни на минуту. Никогда ранее она не видала таких умных, необыкновенных людей!
Вечером исправник и Маша опять были в театре. Через неделю артисты опять обедали у начальства и с этого раза стали почти каждый день приходить в дом исправника, то обедать, то ужинать, и Маша еще сильнее привязалась к театру и стала бывать в нем ежедневно.
Она влюбилась в трагика Феногенова. В одно прекрасное утро, когда исправник ездил встречать архиерея, она бежала с труппой Лимонадова и на пути повенчалась со своим возлюбленным. Отпраздновав свадьбу, артисты сочинили длинное, чувствительное письмо и отправили его к исправнику. Сочиняли все разом.
— Ты ему мотивы, мотивы ты ему! — говорил Лимонадов, диктуя Водолазову. — Почтения ему подпусти… Они, чинодралы, любят это. Надбавь чего-нибудь этакого… чтоб прослезился…
Ответ на это письмо был самый неутешительный. Исправник отрекался от дочери, вышедшей, как он писал, «за глупого, праздношатающегося хохла, не имеющего определенных занятий».
И на другой день после того, как пришел этот ответ, Маша писала своему отцу:
«Папа, он бьет меня! Прости нас!»
Он бил ее, бил за кулисами в присутствии Лимонадова, прачки и двух ламповщиков! Он помнил, как за четыре дня до свадьбы, вечером, сидел он со всей труппой в трактире «Лондон»; все говорили о Маше, труппа советовала ему «рискнуть», а Лимонадов убеждал со слезами на глазах:
— Глупо и нерационально отказываться от такого случая! Да ведь за этакие деньги не то что жениться, в Сибирь пойти можно! Женишься, построишь свой собственный театр, и бери меня тогда к себе в труппу. Не я уж тогда владыка, а ты владыка.
Феногенов помнил об этом и теперь бормотал, сжимая кулаки:
— Если он не пришлет денег, так я из нее щепы нащеплю. Я не позволю себя обманывать, чёрт меня раздери!
Из одного губернского города труппа хотела уехать тайком от Маши, но Маша узнала и прибежала на вокзал после второго звонка, когда актеры уже сидели в вагонах.
— Я оскорблен вашим отцом! — сказал ей трагик. — Между нами всё кончено!
А она, несмотря на то, что в вагоне был народ, согнула свои маленькие ножки, стала перед ним на колени и протянула с мольбой руки.
— Я люблю вас! — просила она. — Не гоните меня, Кондратий Иваныч! Я не могу жить без вас!
Вняли ее мольбам и, посоветовавшись, приняли ее в труппу на амплуа «сплошной графини», — так называли маленьких актрис, выходивших на сцену обыкновенно толпой и игравших роли без речей… Сначала Маша играла горничных и пажей, но потом, когда г-жа Беобахтова, цвет лимонадовской труппы, бежала, то ее сделали ingénue*. Играла она плохо: сюсюкала, конфузилась. Скоро, впрочем, привыкла и стала нравиться публике. Феногенов был очень недоволен.
— Разве это актриса? — говорил он. — Ни фигуры, ни манер, а так только… одна глупость…
В одном губернском городе труппа Лимонадова давала «Разбойников» Шиллера. Феногенов изображал Франца, Маша — Амалию. Трагик кричал и трясся, Маша читала свою роль, как хорошо заученный урок, и пьеса сошла бы, как сходят вообще пьесы, если бы не случился маленький скандал. Всё шло благополучно до того места в пьесе, где Франц объясняется в любви Амалии, а она хватает его шпагу. Малоросс прокричал, прошипел, затрясся и сжал в своих железных объятиях Машу. А Маша вместо того, чтобы отпихнуть его, крикнуть ему «прочь!», задрожала в его объятиях, как птичка, и не двигалась… Она точно застыла.
— Пожалейте меня! — прошептала она ему на ухо. — О, пожалейте меня! Я так несчастна!
— Роли не знаешь! Суфлера слушай! — прошипел трагик и сунул ей в руки шпагу.
После спектакля Лимонадов и Феногенов сидели в кассе и вели беседу.
— Жена твоя ролей не учит, это ты правильно… — говорил антрепренер. — Функции своей не знает… У всякого человека есть своя функция… Так вот она ее-то не знает…
Феногенов слушал, вздыхал и хмурился, хмурился…
На другой день утром Маша сидела в мелочной лавочке и писала:
«Папа, он бьет меня! Прости нас! Вышли нам денег!»
(обратно)Приданое*
Много я видал на своем веку домов, больших и малых, каменных и деревянных, старых и новых, но особенно врезался мне в память один дом. Это, впрочем, не дом, а домик. Он мал, в один маленький этаж и в три окна, и ужасно похож на маленькую, горбатую старушку в чепце. Оштукатуренный в белый цвет, с черепичной крышей и ободранной трубой, он весь утонул в зелени шелковиц, акаций и тополей, посаженных дедами и прадедами теперешних хозяев. Его не видно за зеленью. Эта масса зелени не мешает ему, впрочем, быть городским домиком. Его широкий двор стоит в ряд с другими, тоже широкими зелеными дворами, и входит в состав Московской улицы. Никто по этой улице никогда не ездит, редко кто ходит.
Ставни в домике постоянно прикрыты: жильцы не нуждаются в свете. Свет им не нужен. Окна никогда не отворяются, потому что обитатели домика не любят свежего воздуха. Люди, постоянно живущие среди шелковиц, акаций и репейника, равнодушны к природе. Одним только дачникам бог дал способность понимать красоты природы, остальное же человечество относительно этих красот коснеет в глубоком невежестве. Не ценят люди того, чем богаты. «Что имеем, не храним»; мало того, — что имеем, того не любим. Вокруг домика рай земной, зелень, живут веселые птицы, в домике же, — увы! Летом в нем знойно и душно, зимою — жарко, как в бане, угарно и скучно, скучно…
В первый раз посетил я этот домик уже давно, по делу: я привез поклон от хозяина дома, полковника Чикамасова, его жене и дочери. Это первое мое посещение я помню прекрасно. Да и нельзя не помнить.
Вообразите себе маленькую сырую женщину, лет сорока, с ужасом и изумлением глядящую на вас в то время, когда вы входите из передней в залу. Вы «чужой», гость, «молодой человек» — и этого уже достаточно, чтобы повергнуть в изумление и ужас. В руках у вас нет ни кистеня, ни топора, ни револьвера, вы дружелюбно улыбаетесь, но вас встречают тревогой.
— Кого я имею честь и удовольствие видеть? — спрашивает вас дрожащим голосом пожилая женщина, в которой вы узнаете хозяйку Чикамасову.
Вы называете себя и объясняете, зачем пришли. Ужас и изумление сменяются пронзительным, радостным «ах!» и закатыванием глаз. Это «ах», как эхо, передается из передней в зал, из зала в гостиную, из гостиной в кухню… и так до самого погреба. Скоро весь домик наполняется разноголосыми радостными «ах». Минут через пять вы сидите в гостиной, на большом, мягком, горячем диване, и слышите, как ахает уж вся Московская улица.
Пахло порошком от моли и новыми козловыми башмаками, которые, завернутые в платочек, лежали возле меня на стуле. На окнах герань, кисейные тряпочки. На тряпочках сытые мухи. На стене портрет какого-то архиерея, написанный масляными красками и прикрытый стеклом с разбитым уголышком. От архиерея идет ряд предков с желто-лимонными, цыганскими физиономиями. На столе наперсток, катушка ниток и недовязанный чулок, на полу выкройки и черная кофточка с живыми нитками. В соседней комнате две встревоженные, оторопевшие старухи хватают с пола выкройки и куски ланкорта…
— У нас, извините, ужасный беспорядок! — сказала Чикамасова.
Чикамасова беседовала со мной и конфузливо косилась на дверь, за которой всё еще подбирали выкройки. Дверь тоже как-то конфузливо то отворялась на вершок, то затворялась.
— Ну, что тебе? — обратилась Чикамасова к двери.
— Où est ma cravate, laquelle mon père m’avait envoyée de Koursk?[19] — спросил за дверью женский голосок.
— Ah, est-ce que, Marie, que…[20] Ах, разве можно… Nous avons donc chez nous un homme très peu connu par nous…[21] Спроси у Лукерьи…
«Однако как хорошо говорим мы по-французски!» — прочел я в глазах у Чикамасовой, покрасневшей от удовольствия.
Скоро отворилась дверь, и я увидел высокую худую девицу, лет девятнадцати, в длинном кисейном платье и золотом поясе, на котором, помню, висел перламутровый веер. Она вошла, присела и вспыхнула. Вспыхнул сначала ее длинный, несколько рябоватый нос, с носа пошло к глазам, от глаз к вискам.
— Моя дочь! — пропела Чикамасова. — А это, Манечка, молодой человек, который…
Я познакомился и выразил свое удивление по поводу множества выкроек. Мать и дочь опустили глаза.
— У нас на Вознесенье была ярмарка, — сказала мать. — На ярмарке мы всегда накупаем материй и шьем потом целый год до следующей ярмарки. В люди шитье мы никогда не отдаем. Мой Петр Семеныч достает не особенно много, и нам нельзя позволять себе роскошь. Приходится самим шить.
— Но кто же у вас носит такую массу? Ведь вас только двое.
— Ах… разве это можно носить? Это не носить! Это — приданое!
— Ах, maman, что вы? — сказала дочь и зарумянилась. — Они и вправду могут подумать… Я никогда не выйду замуж! Никогда!
Сказала это, а у самой при слове «замуж» загорелись глазки.
Принесли чай, сухари, варенья, масло, потом покормили малиной со сливками. В семь часов вечера был ужин из шести блюд, и во время этого ужина я услышал громкий зевок; кто-то громко зевнул в соседней комнате. Я с удивлением поглядел на дверь: так зевать может только мужчина.
— Это брат Петра Семеныча, Егор Семеныч… — пояснила Чикамасова, заметив мое удивление. — Он живет у нас с прошлого года. Вы извините его, он не может выйти к вам. Дикарь такой… конфузится чужих… В монастырь собирается… На службе огорчили его… Так вот с горя…
После ужина Чикамасова показала мне епитрахиль, которую собственноручно вышивал Егор Семеныч, чтобы потом пожертвовать в церковь. Манечка сбросила с себя на минуту робость и показала мне кисет, который она вышивала для своего папаши. Когда я сделал вид, что поражен ее работой, она вспыхнула и шепнула что-то на ухо матери. Та просияла и предложила мне пойти с ней в кладовую. В кладовой я увидел штук пять больших сундуков и множество сундучков и ящичков.
— Это… приданое! — шепнула мне мать. — Сами нашили.
Поглядев на эти угрюмые сундуки, я стал прощаться с хлебосольными хозяевами. И с меня взяли слово, что я еще побываю когда-нибудь.
Это слово пришлось мне сдержать лет через семь после первого моего посещения, когда я послан был в городок в качестве эксперта по одному судебному делу. Зайдя в знакомый домик, я услыхал те же аханья… Меня узнали… Еще бы! Мое первое посещение в жизни их было целым событием, а события там, где их мало, помнятся долго. Когда я вошел в гостиную, мать, еще более потолстевшая и уже поседевшая, ползала по полу и кроила какую-то синюю материю; дочь сидела на диване и вышивала. Те же выкройки, тот же запах порошка от моли, тот же портрет с разбитым уголышком. Но перемены все-таки были. Возле архиерейского портрета висел портрет Петра Семеныча, и дамы были в трауре. Петр Семеныч умер через неделю после производства своего в генералы.
Начались воспоминания… Генеральша всплакнула.
— У нас большое горе! — сказала она. — Петра Семеныча — вы знаете? — уже нет. Мы с ней сироты и сами должны о себе заботиться. А Егор Семеныч жив, но мы не можем сказать о нем ничего хорошего. В монастырь его не приняли за… за горячие напитки. И он пьет теперь еще больше с горя. Я собираюсь съездить к предводителю, хочу жаловаться. Вообразите, он несколько раз открывал сундуки и… забирал Манечкино приданое и жертвовал его странникам. Из двух сундуков всё повытаскал! Если так будет продолжаться, то моя Манечка останется совсем без приданого…
— Что вы говорите, maman! — сказала Манечка и сконфузилась. — Они и взаправду могут бог знает что подумать… Я никогда, никогда не выйду замуж!
Манечка вдохновенно, с надеждой глядела в потолок и видимо не верила в то, что говорила.
В передней юркнула маленькая мужская фигурка с большой лысиной и в коричневом сюртуке, в калошах вместо сапог, и прошуршала, как мышь.
«Егор Семеныч, должно быть», — подумал я.
Я смотрел на мать и дочь вместе: обе они страшно постарели и осунулись. Голова матери отливала серебром, а дочь поблекла, завяла, и казалось, что мать старше дочери лет на пять, не больше.
— Я собираюсь съездить к предводителю, — сказала мне старуха, забывши, что уже говорила об этом. — Хочу жаловаться! Егор Семеныч забирает у нас всё, что мы нашиваем, и куда-то жертвует за спасение души. Моя Манечка осталась без приданого!
Манечка вспыхнула, но уже не сказала ни слова.
— Приходится всё снова шить, а ведь мы не бог знает какие богачки! Мы с ней сироты!
— Мы сироты! — повторила Манечка.
В прошлом году судьба опять забросила меня в знакомый домик. Войдя в гостиную, я увидел старушку Чикамасову. Она, одетая во всё черное, с плерезами, сидела на диване и шила что-то. Рядом с ней сидел старичок в коричневом сюртуке и в калошах вместо сапог. Увидев меня, старичок вскочил и побежал вон из гостиной…
В ответ на мое приветствие старушка улыбнулась и сказала:
— Je suis charmée de vous revoir, monsieur.[22]
— Что вы шьете? — спросил я немного погодя.
— Это рубашечка. Я сошью и отнесу к батюшке спрятать, а то Егор Семеныч унесет. Я теперь всё прячу у батюшки, — сказала она шёпотом.
И, взглянув на портрет дочери, стоявший перед ней на столе, она вздохнула и сказала:
— Ведь мы сироты!
А где же дочь? Где же Манечка? Я не расспрашивал; не хотелось расспрашивать старушку, одетую в глубокий траур, и пока я сидел в домике и потом уходил, Манечка не вышла ко мне, я не слышал ни ее голоса, ни ее тихих, робких шагов… Было всё понятно и было так тяжело на душе.
(обратно)Добродетельный кабатчик**
(Плач оскудевшего)
«— Подай, голубчик, холодненькой закусочки… Ну и… водочки…»
(Надгробная эпитафия)Сижу теперь, тоскую и мудрствую.
Во время оно в родовой усадьбе моей были куры, гуси, индейки — птица глупая, нерассудительная, но весьма и весьма вкусная. На моем конском заводе плодились и размножались «ах, вы, кони мои, кони…», мельницы не стояли без дела, копи уголь давали, бабы малину собирали. На десятинах преизбыточествовали флора и фауна, хочешь — ешь, хочешь — зоологией и ботаникой занимайся… Можно было и в первом ряду посидеть, и в картишки поиграть, и содержаночкой похвастать…
Теперь не то, совсем не то!
Год тому назад, на Ильин день, сидел я у себя на террасе и тосковал. Передо мной стоял чайник, засыпанный рублевым чаем… На душе кошки скребли, реветь хотелось…
Я тосковал и не заметил, как подошел ко мне Ефим Цуцыков, кабатчик, мой бывший крепостной. Он подошел и почтительно остановился возле стола.
— Вы бы приказали, барин, крышу выкрасить! — сказал он, ставя на стол бутылку водки. — Крыша железная, без краски ржавеет. А ржа, известно, ест… Дыры будут!
— За какие же деньги я выкрашу, Ефимушка? — говорю я. — Сам знаешь…
— Займите-с! Дыры будут, ежели… Да приказали бы еще, барин, сторожа в сад принанять… Деревья воруют!
— Ах, опять-таки нужны деньги!
— Я дам… Всё одно, отдадите. Не в первый раз берете-то…
Отвалил мне Цуцыков пятьсот целковых, взял вексель и ушел. По уходе его я подпер голову кулаками и задумался о народе и его свойствах… Хотел даже в «Русь» статью писать…
— Благодетельствует мне, великодушничает… за что? За то, что я его… сек когда-то… Какое отсутствие злопамятности! Учитесь, иностранцы!
Через неделю загорелся у меня во дворе сарайчик. Первым прибежал на пожар Цуцыков. Он собственноручно разнес сарайчик и притащил свои брезенты, чтобы в случае чего укрыть ими мой дом. Он дрожал, был красен, мокр, точно свое добро отстаивал.
— Теперь новый строить нужно, — сказал он мне после пожара. — У меня лесок есть, пришлю… Приказали бы, барин, прудик почистить… Вчерась карасей ловили и весь невод о водоросль разорвали… Триста рублей стоит… Возьмите! Не впервой берете-то…
И так далее… Почистили пруд, выкрасили все крыши, ремонтировали конюшни — и всё это на деньги Цуцыкова.
Неделю тому назад приходит ко мне Цуцыков, становится у дверей и почтительно кашляет в кулак.
— И не узнаешь теперь вашей усадьбы-то, — говорит он. — Графу аль князю в пору жить… И пруды вычистили, и озимь посеяли, лошадушек завели…
— А всё ты, Ефимушка! — говорю я, чуть не плача от умиления.
Встаю и самым искреннейшим образом обнимаю мужика…
— Бог даст, дела поправятся, всё отдам, Ефимушка… С процентами. Дай мне еще раз обнять тебя!
— Всё починили и благоустроили… Помог бог! Осталось теперь одно только: лисицу отседа выкурить…
— Какую лисицу, Ефимушка?
— Известно какую…
И, помолчав немного, Цуцыков добавляет:
— Судебный пристав там приехал… Вы бутылки приберите-то… Неравно пристав увидит… Подумает, что у меня в имении только и дела, что пьянство… Фатеру прикажете вам в деревне нанять аль в город поедете?
Сижу теперь и мудрствую.
(обратно)Дочь Альбиона*
К дому помещика Грябова подкатила прекрасная коляска с каучуковыми шинами, толстым кучером и бархатным сиденьем. Из коляски выскочил уездный предводитель дворянства Федор Андреич Отцов. В передней встретил его сонный лакей.
— Господа дома? — спросил предводитель.
— Никак нет-с. Барыня с детями в гости поехали, а барин с мамзелью-гувернанткой рыбу ловят-с. С самого утра-с.
Отцов постоял, подумал и пошел к реке искать Грябова. Нашел он его версты за две от дома, подойдя к реке. Поглядев вниз с крутого берега и увидев Грябова, Отцов прыснул… Грябов, большой, толстый человек с очень большой головой, сидел на песочке, поджав под себя по-турецки ноги, и удил. Шляпа у него была на затылке, галстук сполз набок. Возле него стояла высокая, тонкая англичанка с выпуклыми рачьими глазами и большим птичьим носом, похожим скорей на крючок, чем на нос. Одета она была в белое кисейное платье, сквозь которое сильно просвечивали тощие, желтые плечи. На золотом поясе висели золотые часики. Она тоже удила. Вокруг обоих царила гробовая тишина. Оба были неподвижны, как река, на которой плавали их поплавки.
— Охота смертная, да участь горькая! — засмеялся Отцов. — Здравствуй, Иван Кузьмич!
— А… это ты? — спросил Грябов, не отрывая глаз от воды. — Приехал?
— Как видишь… А ты всё еще своей ерундой занимаешься! Не отвык еще?
— Кой чёрт… Весь день ловлю, с утра… Плохо что-то сегодня ловится. Ничего не поймал ни я, ни эта кикимора. Сидим, сидим и хоть бы один чёрт! Просто хоть караул кричи.
— А ты наплюй. Пойдем водку пить!
— Постой… Может быть, что-нибудь да поймаем. Под вечер рыба клюет лучше… Сижу, брат, здесь с самого утра! Такая скучища, что и выразить тебе не могу. Дернул же меня чёрт привыкнуть к этой ловле! Знаю, что чепуха, а сижу! Сижу, как подлец какой-нибудь, как каторжный, и на воду гляжу, как дурак какой-нибудь! На покос надо ехать, а я рыбу ловлю. Вчера в Хапоньеве преосвященный служил, а я не поехал, здесь просидел вот с этой стерлядью… с чертовкой с этой…
— Но… ты с ума сошел? — спросил Отцов, конфузливо косясь на англичанку. — Бранишься при даме… и ее же…
— Да чёрт с ней! Всё одно, ни бельмеса по-русски не смыслит. Ты ее хоть хвали, хоть брани — ей всё равно! Ты на нос посмотри! От одного носа в обморок упадешь! Сидим по целым дням вместе, и хоть бы одно слово! Стоит, как чучело, и бельмы на воду таращит.
Англичанка зевнула, переменила червячка и закинула удочку.
— Удивляюсь, брат, я немало! — продолжал Грябов, — Живет дурища в России десять лет, и хоть бы одно слово по-русски!.. Наш какой-нибудь аристократишка поедет к ним и живо по-ихнему брехать научится, а они… чёрт их знает! Ты посмотри на нос! На нос ты посмотри!
— Ну, перестань… Неловко… Что напал на женщину?
— Она не женщина, а девица… О женихах, небось, мечтает, чёртова кукла. И пахнет от нее какою-то гнилью… Возненавидел, брат, ее! Видеть равнодушно не могу! Как взглянет на меня своими глазищами, так меня и покоробит всего, словно я локтем о перила ударился. Тоже любит рыбу ловить. Погляди: ловит и священнодействует! С презрением на всё смотрит… Стоит, каналья, и сознает, что она человек и что, стало быть, она царь природы. А знаешь, как ее зовут? Уилька Чарльзовна Тфайс! Тьфу!.. и не выговоришь!
Англичанка, услышав свое имя, медленно повела нос в сторону Грябова и измерила его презрительным взглядом. С Грябова подняла она глаза на Отцова и его облила презрением. И всё это молча, важно и медленно.
— Видал? — спросил Грябов, хохоча. — Нате, мол, вам! Ах ты, кикимора! Для детей только и держу этого тритона. Не будь детей, я бы ее и за десять верст к своему имению не подпустил… Нос точно у ястреба… А талия? Эта кукла напоминает мне длинный гвоздь. Так, знаешь, взял бы и в землю вбил. Постой… У меня, кажется, клюет…
Грябов вскочил и поднял удилище. Леска натянулась… Грябов дернул еще раз и не вытащил крючка.
— Зацепилась! — сказал он и поморщился. — За камень, должно быть… Чёрт возьми…
На лице у Грябова выразилось страдание. Вздыхая, беспокойно двигаясь и бормоча проклятья, он начал дергать за лесу. Дерганье ни к чему не привело. Грябов побледнел.
— Экая жалость! В воду лезть надо.
— Да ты брось!
— Нельзя… Под вечер хорошо ловится… Ведь этакая комиссия, прости господи! Придется лезть в воду. Придется! А если бы ты знал, как мне не хочется раздеваться! Англичанку-то турнуть надо… При ней неловко раздеваться. Все-таки ведь дама!
Грябов сбросил шляпу и галстук.
— Мисс… эээ… — обратился он к англичанке. — Мисс Тфайс! Же ву при[23]…Ну, как ей сказать? Ну, как тебе сказать, чтобы ты поняла? Послушайте… туда! Туда уходите! Слышишь?
Мисс Тфайс облила Грябова презрением и издала носовой звук.
— Что-с? Не понимаете? Ступай, тебе говорят, отсюда! Мне раздеваться нужно, чёртова кукла! Туда ступай! Туда!
Грябов дернул мисс за рукав, указал ей на кусты и присел: ступай, мол, за кусты и спрячься там… Англичанка, энергически двигая бровями, быстро проговорила длинную английскую фразу. Помещики прыснули.
— Первый раз в жизни ее голос слышу… Нечего сказать, голосок! Не понимает! Ну, что мне делать с ней?
— Плюнь! Пойдем водки выпьем!
— Нельзя, теперь ловиться должно… Вечер… Ну, что ты прикажешь делать? Вот комиссия! Придется при ней раздеваться…
Грябов сбросил сюртук и жилет и сел на песок снимать сапоги.
— Послушай, Иван Кузьмич, — сказал предводитель, хохоча в кулак. — Это уж, друг мой, глумление, издевательство.
— Ее никто не просит не понимать! Это наука им, иностранцам!
Грябов снял сапоги, панталоны, сбросил с себя белье и очутился в костюме Адама. Отцов ухватился за живот. Он покраснел и от смеха и от конфуза. Англичанка задвигала бровями и замигала глазами… По желтому лицу ее пробежала надменная, презрительная улыбка.
— Надо остынуть, — сказал Грябов, хлопая себя по бедрам. — Скажи на милость, Федор Андреич, отчего это у меня каждое лето сыпь на груди бывает?
— Да полезай скорей в воду или прикройся чем-нибудь! Скотина!
— И хоть бы сконфузилась, подлая! — сказал Грябов, полезая в воду и крестясь. — Брр… холодная вода… Посмотри, как бровями двигает! Не уходит… Выше толпы стоит! Хе-хе-хе… И за людей нас не считает!
Войдя по колена в воду и вытянувшись во весь свой громадный рост, он мигнул глазом и сказал:
— Это, брат, ей не Англия!
Мисс Тфайс хладнокровно переменила червячка, зевнула и закинула удочку. Отцов отвернулся. Грябов отцепил крючок, окунулся и с сопеньем вылез из воды. Через две минуты он сидел уже на песочке и опять удил рыбу.
(обратно)Краткая анатомия человека*
Одного семинариста спросили на экзамене: «Что такое человек?» Он отвечал: «Животное»… И, подумав немного, прибавил: «но… разумное»… Просвещенные экзаменаторы согласились только со второй половиной ответа, за первую же влепили единицу.
Человека как анатомическое данное составляют:
Скелет, или, как говорят фельдшера и классные дамы, «шкилет». Имеет вид смерти. Покрытый простынею, «пужает насмерть», без простыни же — не насмерть.
Голова имеется у всякого, но не всякому нужна. По мнению одних, дана для того, чтобы думать, по мнению других — для того, чтобы носить шляпу. Второе мнение не так рискованно… Иногда содержит в себе мозговое вещество. Один околоточный надзиратель, присутствуя однажды на вскрытии скоропостижно умершего, увидал мозг. «Это что такое?» — спросил он доктора. — «Это то, чем думают», — отвечал доктор. Околоточный презрительно усмехнулся…
Лицо. Зеркало души, но только не у адвокатов. Имеет множество синонимов: морда, физиономия (у духовенства — физиогномия и лице), физия, физиомордия, рожество, образина, рыло, харя и проч.
Лоб. Его функции: стучать о пол при испрошении благ и биться о стену при неполучении этих благ. Очень часто дает реакцию на медь.
Глаза — полицеймейстеры головы. Блюдут и на ус мотают. Слепой подобен городу, из которого выехало начальство. В дни печалей плачут. В нынешние, беспечальные, времена плачут только от умиления.
Нос дан для насморков и обоняния. В политику не вмешивается. Изредка участвует в увеличении табачного акциза, чего ради и может быть причислен к полезным органам. Бывает красен, но не от вольнодумства — так полагают, по крайней мере, сведущие люди.
Язык. По Цицерону: hostis hominum et amicus diaboli feminarumque[24]. С тех пор, как доносы стали писаться на бумаге, остался за штатом. У женщин и змей служит органом приятного времяпрепровождения. Самый лучший язык — вареный.
Затылок нужен одним только мужикам на случай накопления недоимки. Орган для расходившихся рук крайне соблазнительный.
Уши. Любят дверные щели, открытые окна, высокую траву и тонкие заборы.
Руки. Пишут фельетоны, играют на скрипке, ловят, берут, ведут, сажают, бьют… У маленьких служат средством пропитания, у тех, кто побольше, — для отличия правой стороны от левой.
Сердце — вместилище патриотических и многих других чувств. У женщин — постоялый двор: желудочки заняты военными, предсердия — штатскими, верхушка — мужем. Имеет вид червонного туза.
Талия. Ахиллесова пятка читательниц «Модного света»*, натурщиц, швеек и прапорщиков-идеалистов. Любимое женское место у молодых женихов и у… продавцов корсетов. Второй наступательный пункт при любовно-объяснительной атаке. Первым считается поцелуй.
Брюшко. Орган не врожденный, а благоприобретенный. Начинает расти с чина надворного советника. Статский советник без брюшка — не действительный статский советник. (Каламбур?! Ха, ха!) У чинов ниже надворного советника называется брюхом, у купцов — нутром, у купчих — утробой.
Микитки. Орган в науке не исследованный. По мнению дворников, находится пониже груди, по мнению фельдфебелей — повыше живота.
Ноги растут из того места, ради которого природа березу придумала. В большом употреблении у почталионов, должников, репортеров и посыльных.
Пятки. Местопребывание души у провинившегося мужа, проговорившегося обывателя и воина, бегущего с поля брани.
(обратно)Шведская спичка*
(Уголовный рассказ)
I
Утром 6 октября 1885 г. в канцелярию станового пристава 2-го участка С — го уезда явился прилично одетый молодой человек и заявил, что его хозяин, отставной гвардии корнет Марк Иванович Кляузов, убит. Заявляя об этом, молодой человек был бледен и крайне взволнован. Руки его дрожали и глаза были полны ужаса.
— С кем я имею честь говорить? — спросил его становой.
— Псеков, управляющий Кляузова. Агроном и механик.
Становой и понятые, прибывшие вместе с Псековым на место происшествия, нашли следующее. Около флигеля, в котором жил Кляузов, толпилась масса народу. Весть о происшествии с быстротою молнии облетела окрестности, и народ, благодаря праздничному дню, стекался к флигелю со всех окрестных деревень. Стоял шум и говор. Кое-где попадались бледные, заплаканные физиономии. Дверь в спальню Кляузова найдена была запертой. Изнутри торчал ключ.
— Очевидно, злодеи пробрались к нему через окно, — заметил при осмотре двери Псеков.
Пошли в сад, куда выходило окно из спальни. Окно глядело мрачно, зловеще. Оно было занавешено зеленой полинялой занавеской. Один угол занавески был слегка заворочен, что давало возможность заглянуть в спальню.
— Смотрел ли кто-нибудь из вас в окно? — спросил становой.
— Никак нет, ваше высокородие, — сказал садовник Ефрем, маленький седовласый старичок с лицом отставного унтера. — Не до гляденья тут, коли все поджилки трясутся!
— Эх, Марк Иваныч, Марк Иваныч! — вздохнул становой, глядя на окно. — Говорил я тебе, что ты плохим кончишь! Говорил я тебе, сердяге, — не слушался! Распутство не доводит до добра!
— Спасибо Ефрему, — сказал Псеков, — без него мы и не догадались бы. Ему первому пришло на мысль, что здесь что-то не так. Приходит сегодня ко мне утром и говорит: «А отчего это наш барин так долго не просыпается? Целую неделю из спальни не выходит!» Как сказал он мне это, меня точно кто обухом… Мысль сейчас мелькнула… Он не показывался с прошлой субботы, а ведь сегодня воскресенье! Семь дней — шутка сказать!
— Да, бедняга… — вздохнул еще раз становой. — Умный малый, образованный, добрый такой. В компании, можно сказать, первый человек. Но распутник, царствие ему небесное! Я всего ожидал! Степан, — обратился становой к одному из понятых, — съезди сию минуту ко мне и пошли Андрюшку к исправнику, пущай доложит! Скажи: Марка Иваныча убили! Да забеги к уряднику — чего он там прохлаждается? Пущай сюда едет! А сам ты поезжай, как можно скорее, к следователю Николаю Ермолаичу и скажи ему, чтобы ехал сюда! Постой, я ему письмо напишу.
Становой расставил вокруг флигеля сторожей, написал следователю письмо и пошел к управляющему пить чай. Минут через десять он сидел на табурете, осторожно кусал сахар и глотал горячий, как уголь, чай.
— Вот-с… — говорил он Псекову. — Вот-с… Дворянин, богатый человек… любимец богов, можно сказать, как выразился Пушкин*, а что из него вышло? Ничего! Пьянствовал, распутничал и… вот-с!.. убили.
Через два часа прикатил следователь. Николай Ермолаевич Чубиков (так зовут следователя), высокий, плотный старик лет шестидесяти, подвизается на своем поприще уже четверть столетия. Известен всему уезду как человек честный, умный, энергичный и любящий свое дело. На место происшествия прибыл с ним и его непременный спутник, помощник и письмоводитель Дюковский, высокий молодой человек лет двадцати шести.
— Неужели, господа? — заговорил Чубиков, входя в комнату Псекова и наскоро пожимая всем руки. — Неужели? Марка Иваныча? Убили? Нет, это невозможно! Не-воз-мож-но!
— Подите же вот… — вздохнул становой.
— Господи ты боже мой! Да ведь я же его в прошлую пятницу на ярмарке в Тарабанькове видел! Я с ним, извините, водку пил!
— Подите же вот… — вздохнул еще раз становой.
Повздыхали, поужасались, выпили по стакану чаю и пошли к флигелю.
— Расступись! — крикнул урядник народу.
Войдя во флигель, следователь занялся прежде всего осмотром двери в спальню. Дверь оказалась сосновою, выкрашенной в желтую краску и неповрежденной. Особых примет, могущих послужить какими-либо указаниями, найдено не было. Приступлено было ко взлому.
— Прошу, господа, лишних удалиться! — сказал следователь, когда после долгого стука и треска дверь уступила топору и долоту. — Прошу это в интересах следствия… Урядник, никого не впускать!
Чубиков, его помощник и становой открыли дверь и нерешительно, один за другим, вошли в спальню. Их глазам представилось следующее зрелище. У единственного окна стояла большая деревянная кровать с огромной пуховой периной. На измятой перине лежало скомканное измятое одеяло. Подушка в ситцевой наволочке, тоже сильно помятая, валялась на полу. На столике перед кроватью лежали серебряные часы и серебряная монета двадцатикопеечного достоинства. Тут же лежали и серные спички. Кроме кровати, столика и единственного стула, другой мебели в спальне не было. Заглянув под кровать, становой увидел десятка два пустых бутылок, старую соломенную шляпу и четверть водки. Под столиком валялся один сапог, покрытый пылью. Окинув взглядом комнату, следователь нахмурился и покраснел.
— Мерзавцы! — пробормотал он, сжимая кулаки.
— А где же Марк Иваныч? — тихо спросил Дюковский.
— Прошу вас не вмешиваться! — грубо сказал ему Чубиков. — Извольте осмотреть пол! Это второй такой случай в моей практике, Евграф Кузьмич, — обратился он к становому, понизив голос. — В 1870 году был у меня тоже такой случай. Да вы, наверное, помните… Убийство купца Портретова. Там тоже так. Мерзавцы убили и вытащили труп через окно…
Чубиков подошел к окну, отдернул в сторону занавеску и осторожно пихнул окно. Окно отворилось.
— Отворяется, значит не было заперто… Гм!.. Следы на подоконнике. Видите? Вот след от колена… Кто-то лез оттуда… Нужно будет как следует осмотреть окно.
— На полу ничего особенного не заметно, — сказал Дюковский. — Ни пятен, ни царапин. Нашел одну только обгоревшую шведскую спичку. Вот она! Насколько я помню, Марк Иваныч не курил; в общежитии же он употреблял серные спички, отнюдь же не шведские. Эта спичка может служить уликой…
— Ах… замолчите, пожалуйста! — махнул рукой следователь. — Лезет со своей спичкой! Не терплю горячих голов! Чем спички искать, вы бы лучше постель осмотрели!
По осмотре постели Дюковский отрапортовал:
— Ни кровяных, ни каких-либо других пятен… Свежих разрывов также нет. На подушке следы зубов. Одеяло облито жидкостью, имеющею запах пива и вкус его же… Общий вид постели дает право думать, что на ней происходила борьба.
— Без вас знаю, что борьба! Вас не о борьбе спрашивают. Чем борьбу-то искать, вы бы лучше…
— Один сапог здесь, другого же нет налицо.
— Ну, так что же?
— А то, что его задушили, когда он снимал сапоги. Не успел он снять другого сапога, как…
— Понес!.. И почем вы знаете, что его задушили?
— На подушке следы зубов. Сама подушка сильно помята и отброшена от кровати на два с половиной аршина.
— Толкует, пустомеля! Пойдемте-ка лучше в сад. Вы бы лучше в саду посмотрели, чем здесь рыться… Это я и без вас сделаю.
Придя в сад, следствие прежде всего занялось осмотром травы. Трава под окном была помята. Куст репейника под окном у самой стены оказался тоже помятым. Дюковскому удалось найти на нем несколько поломанных веточек и кусочек ваты. На верхних головках были найдены тонкие волоски темно-синей шерсти.
— Какого цвета был его последний костюм? — спросил Дюковский у Псекова.
— Желтый, парусинковый.
— Отлично. Они, значит, были в синем.
Несколько головок репейника было срезано и старательно заворочено в бумагу. В это время приехали исправник Арцыбашев-Свистаковский и доктор Тютюев. Исправник поздоровался и тотчас же принялся удовлетворять свое любопытство; доктор же, высокий и в высшей степени тощий человек со впалыми глазами, длинным носом и острым подбородком, ни с кем не здороваясь и ни о чем не спрашивая, сел на пень, вздохнул и проговорил:
— А сербы опять взбудоражились! Что им нужно, не понимаю! Ах, Австрия, Австрия! Твои это дела!*
Осмотр окна снаружи не дал решительно ничего; осмотр же травы и ближайших к окну кустов дал следствию много полезных указаний. Дюковскому удалось, например, проследить на траве длинную темную полосу, состоявшую из пятен и тянувшуюся от окна на несколько сажен в глубь сада. Полоса заканчивалась под одним из сиреневых кустов большим темно-коричневым пятном. Под тем же кустом был найден сапог, который оказался парой сапога, найденного в спальне.
— Это давнишняя кровь! — сказал Дюковский, осматривая пятна.
Доктор при слове «кровь» поднялся и лениво, мельком взглянул на пятна.
— Да, кровь, — пробормотал он.
— Значит, не задушен, коли кровь! — сказал Чубиков, язвительно поглядев на Дюковского.
— В спальне его задушили, здесь же, боясь, чтобы он не ожил, его ударили чем-то острым. Пятно под кустом показывает, что он лежал там относительно долгое время, пока они искали способов, как и на чем вынести его из сада.
— Ну, а сапог?
— Этот сапог еще более подтверждает мою мысль, что его убили, когда он снимал перед сном сапоги. Один сапог он снял, другой же, то есть этот, он успел снять только наполовину. Наполовину снятый сапог во время тряски и падения сам снялся…
— Сообразительность, посмотришь! — усмехнулся Чубиков. — Так и режет, так и режет! И когда вы отучитесь лезть со своими рассуждениями? Чем рассуждать, вы бы лучше взяли для анализа немного травы с кровью!
По осмотре и снятии плана местности следствие отправилось к управляющему писать протокол и завтракать. За завтраком разговорились.
— Часы, деньги и прочее… всё цело, — начал разговор Чубиков. — Как дважды два четыре, убийство совершено не с корыстными целями.
— Совершено человеком интеллигентным, — вставил Дюковский.
— Из чего же это вы заключаете?
— К моим услугам шведская спичка, употребления которой еще не знают здешние крестьяне. Употребляют этакие спички только помещики, и то не все. Убивал, кстати сказать, не один, а минимум трое: двое держали, а третий душил. Кляузов был силен, и убийцы должны были знать это.
— К чему могла послужить ему его сила, ежели он, положим, спал?
— Убийцы застали его за сниманием сапог. Снимал сапоги, значит не спал.
— Нечего выдумывать! Ешьте лучше!
— А по моему понятию, ваше высокоблагородие, — сказал садовник Ефрем, ставя на стол самовар, — пакость эту самую сделал никто другой, как Николашка.
— Весьма возможно, — сказал Псеков.
— А кто этот Николашка?
— Баринов камердинер, ваше высокоблагородие, — отвечал Ефрем. — Кому другому, как не ему? Разбойник, ваше высокоблагородие! Пьяница и распутник такой, что и не приведи царица небесная! Барину он водку завсегда носил, барина он укладывал в постелю… Кому же, как не ему? А еще тоже, смею предположить вашему высокоблагородию, похвалялся раз, шельма, в кабаке, что барина убьет. Из-за Акульки всё вышло, из-за бабы… Была у него солдатка такая… Барину она пондравилась, они ее к себе приблизили, ну, а он… известно, осерчал… На кухне пьяный валяется теперь. Плачет… Врет, что барина жалко…
— А действительно, из-за Акульки можно осерчать, — сказал Псеков. — Она солдатка, баба, но… Недаром Марк Иваныч прозвал ее Наной*. В ней есть что-то, напоминающее Нану… привлекательное…
— Видал… Знаю… — сказал следователь, сморкаясь в красный платок.
Дюковский покраснел и опустил глаза. Становой забарабанил пальцем по блюдечку. Исправник закашлялся и полез зачем-то в портфель. На одного только доктора, по-видимому, не произвело никакого впечатления напоминание об Акульке и Нане. Следователь приказал привести Николашку. Николашка, молодой долговязый парень с длинным рябым носом и впалой грудью, в пиджаке с барского плеча, вошел в комнату Псекова и поклонился следователю в ноги. Лицо его было сонно и заплакано. Сам он был пьян и еле держался на ногах.
— Где барин? — спросил его Чубиков.
— Убили, ваше высокоблагородие.
Сказав это, Николашка замигал глазами и заплакал.
— Знаем, что убили. А где он теперь? Тело-то его где?
— Сказывают, в окно вытащили и в саду закопали.
— Гм!.. О результатах следствия уже известно на кухне… Скверно. Любезный, где ты был в ту ночь, когда убили барина? В субботу, то есть?
Николашка поднял вверх голову, вытянул шею и задумался.
— Не могу знать, ваше высокоблагородие, — сказал он. — Был выпимши и не помню.
— Alibi! — шепнул Дюковский, усмехаясь и потирая руки.
— Так-с. Ну, а отчего это у барина под окном кровь? Николашка задрал вверх голову и задумался.
— Скорей думай! — сказал исправник.
— Сичас. Кровь эта от пустяка, ваше высокоблагородие. Курицу я резал. Я ее резал очень просто, как обыкновенно, а она возьми да и вырвись из рук, возьми да побеги… От этого самого и кровь.
Ефрем показал, что, действительно, Николашка каждый вечер режет кур и в разных местах, но никто не видел, чтобы недорезанная курица бегала по саду, чего, впрочем, нельзя отрицать безусловно.
— Alibi, — усмехнулся Дюковский. — И какое дурацкое alibi!
— С Акулькой знавался?
— Был грех.
— А барин у тебя сманил ее?
— Никак нет. У меня Акульку отбили вот они-с, господин Псеков, Иван Михайлыч-с, а у Ивана Михайлыча отбил барин. Так дело было.
Псеков смутился и принялся чесать себе левый глаз. Дюковский впился в него глазами, прочел смущение и вздрогнул. На управляющем увидел он синие панталоны, на которые ранее не обратил внимания. Панталоны напомнили ему о синих волосках, найденных на репейнике. Чубиков, в свою очередь, подозрительно взглянул на Псекова.
— Ступай! — сказал он Николашке. — А теперь позвольте вам задать один вопрос, г. Псеков. Вы, конечно, были в субботу под воскресенье здесь?
— Да, в десять часов я ужинал с Марком Иванычем.
— А потом?
Псеков смутился и встал из-за стола.
— Потом… потом… Право, не помню, — забормотал он. — Я много выпил тогда… Не помню, где и когда уснул… Чего вы на меня все так смотрите? Точно я убил!
— Где вы проснулись?
— Проснулся в людской кухне на печи… Все могут подтвердить. Как я попал на печь, не знаю…
— Вы не волнуйтесь… Акулину вы знали?
— Ничего нет тут особенного…
— От вас она перешла к Кляузову?
— Да… Ефрем, подай еще грибов! Хотите чаю, Евграф Кузьмич?
Наступило молчание — тяжелое, жуткое, длившееся минут пять. Дюковский молчал и не отрывал своих колючих глаз от побледневшего лица Псекова. Молчание нарушил следователь.
— Нужно будет, — сказал он, — сходить в большой дом и поговорить там с сестрой покойного, Марьей Ивановной. Не даст ли она нам каких-либо указаний.
Чубиков и его помощник поблагодарили за завтрак и пошли в барский дом. Сестру Кляузова, Марью Ивановну, сорокапятилетнюю деву, застали они молящейся перед высоким фамильным киотом. Увидев в руках гостей портфели и фуражки с кокардами, она побледнела.
— Приношу прежде всего извинение за нарушение, так сказать, вашего молитвенного настроения, — начал, расшаркиваясь, галантный Чубиков. — Мы к вам с просьбой. Вы, конечно, уже слышали… Существует подозрение, что ваш братец, некоторым образом, убит. Божья воля, знаете ли… Смерти не миновать никому, ни царям, ни пахарям. Не можете ли вы помочь нам каким-либо указанием, разъяснением…
— Ах, не спрашивайте меня! — сказала Марья Ивановна, еще более бледнея и закрывая лицо руками. — Ничего я не могу вам сказать! Ничего! Умоляю вас! Я ничего… Что я могу? Ах, нет, нет… ни слова про брата! Умирать буду, не скажу!
Марья Ивановна заплакала и ушла в другую комнату. Следователи переглянулись, пожали плечами и ретировались.
— Чёртова баба! — выругался Дюковский, выходя из большого дома. — По-видимому, что-то знает и скрывает. И у горничной что-то на лице написано… Постойте же, черти! Всё разберем!
Вечером Чубиков и его помощник, освещенные бледнолицей луной, возвращались к себе домой; они сидели в шарабане и подводили в своих головах итоги минувшего дня. Оба были утомлены и молчали. Чубиков вообще не любил говорить в дороге, болтун же Дюковский молчал в угоду старику. В конце пути, однако, помощник не вынес молчания и заговорил:
— Что Николашка причастен в этом деле, — сказал он, — non dubitandum est[25]. И по роже его видно, что он за штука… Alibi выдает его с руками и ногами. Нет также сомнения, что в этом деле не он инициатор. Он был только глупым, нанятым орудием. Согласны? Не последнюю также роль в этом деле играет и скромный Псеков. Синие панталоны, смущение, лежанье на печи от страха после убийства, alibi и Акулька.
— Мели, Емеля, твоя неделя. По-вашему, значит, тот и убийца, кто Акульку знал? Эх, вы, горячка! Соску бы вам сосать, а не дела разбирать! Вы тоже за Акулькой ухаживали, — значит и вы участник в этом деле?
— У вас тоже Акулька месяц в кухарках жила, но… я ничего не говорю. В ночь под то воскресенье я играл с вами в карты, видел вас, иначе бы я и к вам придрался. Дело, батенька, не в бабе. Дело в подленьком, гаденьком, скверненьком чувстве… Скромному молодому человеку не понравилось, видите ли, что не он верх взял. Самолюбие, видите ли… Мстить захотелось. Потом-с… Толстые губы его сильно говорят о чувственности. Помните, как он губами причмокивал, когда Акульку с Наной сравнивал? Что он, мерзавец, сгорает страстью — несомненно! Итак: оскорбленное самолюбие и неудовлетворенная страсть. Этого достаточно для того, чтобы совершить убийство. Двое в наших руках; но кто же третий? Николашка и Псеков держали. Кто же душил? Псеков робок, конфузлив, вообще трус. Николашки же не умеют душить подушкой; они действуют топором, обухом… Душил кто-то третий, но кто он?
Дюковский нахлобучил на глаза шляпу и задумался. Молчал он до тех пор, пока шарабан не подъехал к дому следователя.
— Эврика! — сказал он, входя в домик и снимая пальто. — Эврика, Николай Ермолаич! Не знаю только, как мне это раньше в голову не пришло. Знаете, кто третий?
— Отстаньте, пожалуйста! Вон ужин готов! Садитесь ужинать!
Следователь и Дюковский сели ужинать. Дюковский налил себе рюмку водки, поднялся, вытянулся и, сверкая глазами, сказал:
— Так знайте же, что третий, действовавший заодно с негодяем Псековым и душивший, — была женщина! Да-с! Я говорю о сестре убитого, Марье Ивановне!
Чубиков поперхнулся водкой и уставил глаза на Дюковского.
— Вы… не тово? Голова у вас… не тово? Не болит?
— Я здоров. Хорошо, пусть я с ума сошел, но чем вы объясните ее смущение при нашем появлении? Как вы объясните ее нежелание давать показания? Допустим, что это пустяки — хорошо! ладно! — так вспомните про их отношения! Она ненавидела своего брата! Она староверка, он развратник, безбожник… Вот где гнездится ненависть! Говорят, что он успел убедить ее в том, что он аггел сатаны. При ней он занимался спиритизмом!
— Ну, так что же?
— Вы не понимаете? Она, староверка, убила его из фанатизма! Мало того, что она убила плевел, развратника, она освободила мир от антихриста — и в этом, мнит она, ее заслуга, ее религиозный подвиг! О, вы не знаете этих старых дев, староверок! Прочитайте-ка Достоевского! А что пишут Лесков, Печерский!.. Она и она, хоть зарежьте! Она душила! О, ехидная баба! Разве не затем только стояла она у икон, когда мы вошли, чтобы отвести нам глаза? Дай, мол, стану и буду молиться, а они подумают, что я покойна, что я не ожидаю их! Это метод всех преступников-новичков. Голубчик, Николай Ермолаич! Родной мой! Отдайте мне это дело! Дайте мне лично довести его до конца! Милый мой! Я начал, я и до конца доведу!
Чубиков замотал головой и нахмурился.
— Мы и сами умеем трудные дела разбирать, — сказал он. — А ваше дело не лезть, куда не следует. Пишите себе под диктовку, когда вам диктуют, — вот ваше дело!
Дюковский вспыхнул, хлопнул дверью и вышел.
— Умница, шельма! — пробормотал, глядя ему вслед, Чубиков. — Бо-ольшая умница! Горяч только некстати. Нужно будет ему на ярмарке портсигар в презент купить…
На другой день утром к следователю был приведен из Кляузовки молодой парень с большой головой и заячьей губой, который, назвавшись пастухом Данилкой, дал очень интересное показание.
— Был я выпимши, — сказал он. — До полночи у кумы просидел. Идучи домой, спьяна полез в реку купаться. Купаюсь я… глядь! Идут по плотине два человека и что-то черное несут. «Тю!» — крикнул я на них. Они испужались и что есть духу давай стрекача к макарьевским огородам. Побей меня бог, коли то не барина волокли!
В тот же день перед вечером Псеков и Николашка были арестованы и отправлены под конвоем в уездный город. В городе они были посажены в тюремный замок.
II
Прошло двенадцать дней.
Было утро. Следователь Николай Ермолаич сидел у себя за зеленым столом и перелистывал «кляузовское» дело; Дюковский беспокойно, как волк в клетке, шагал из угла в угол.
— Вы убеждены в виновности Николашки и Псекова, — говорил он, нервно теребя свою молодую бородку. — Отчего же вы не хотите убедиться в виновности Марьи Ивановны? Вам мало улик, что ли?
— Я не говорю, что я не убежден. Я убежден, но не верится как-то… Улик настоящих нет, а всё какая-то философия… Фанатизм, то да се…
— А вам непременно подавай топор, окровавленные простыни!.. Юристы! Так я же вам докажу! Вы перестанете у меня так халатно относиться к психической стороне дела! Быть вашей Марье Ивановне в Сибири! Я докажу! Мало вам философии, так у меня есть нечто вещественное… Оно покажет вам, как права моя философия! Дайте мне только поездить.
— О чем это вы?
— Про шведскую спичку-с… Забыли? А я не забыл! Я узнаю, кто зажигал ее в комнате убитого! Зажигал не Николашка, не Псеков, у которых при обыске спичек не оказалось, а третий, то есть Марья Ивановна. И я докажу!.. Дайте только поездить по уезду, поразузнать…
— Ну, ладно, садитесь… Давайте допрос делать.
Дюковский сел за столик и уткнул свой длинный нос в бумаги.
— Ввести Николая Тетехова! — крикнул следователь.
Ввели Николашку. Николашка был бледен и худ как щепка. Он дрожал.
— Тетехов! — начал Чубиков. — В 1879 г. вы судились у судьи 1-го участка за кражу и были приговорены к тюремному заключению. В 1882 г. вы вторично судились за кражу и вторично попали в тюрьму… Нам всё известно…
На лице у Николашки выразилось удивление. Всеведение следователя изумило его. Но скоро удивление сменилось выражением крайней скорби. Он зарыдал и попросил позволения пойти умыться и успокоиться. Его увели.
— Ввести Псекова! — приказал следователь.
Ввели Псекова. Молодой человек за последние дни сильно изменился в лице. Он похудел, побледнел и осунулся. В глазах читалась апатия.
— Садитесь, Псеков, — сказал Чубиков. — Надеюсь, что сегодняшний раз вы будете благоразумны и не станете лгать, как те разы. Во все те дни вы отрицали свое участие в убийстве Кляузова, несмотря на всю массу улик, говорящих против вас. Это неразумно. Сознание облегчает вину. Сегодня я беседую с вами в последний раз. Если сегодня не сознаетесь, то завтра будет уже поздно. Ну, рассказывайте нам…
— Ничего я не знаю… И улик ваших не знаю, — прошептал Псеков.
— Напрасно-с! Ну, так позвольте же мне рассказать вам, как было дело. В субботу вечером вы сидели в спальне Кляузова и пили с ним водку и пиво (Дюковский вонзил свой взгляд в лицо Псекова и не отрывал его в продолжение всего монолога). Вам прислуживал Николай. В первом часу Марк Иванович заявил вам о своем желании ложиться спать. В первом часу он всегда ложился. Когда он снимал сапоги и отдавал вам приказания по хозяйству, вы и Николай, по данному знаку, схватили опьяневшего хозяина и опрокинули его на постель. Один из вас сел ему на ноги, другой на голову. В это время из сеней вошла известная вам женщина в черном платье, которая ранее условилась с вами относительно своего участия в этом преступном деле. Она схватила подушку и стала душить его ею. Во время борьбы потухла свеча. Женщина вынула из кармана коробку со шведскими спичками и зажгла свечу. Не так ли? Я по лицу вашему вижу, что говорю правду, Но далее… Задушив его и убедившись, что он не дышит, вы и Николай вытащили его через окно и положили около репейника. Боясь, чтобы он не ожил, вы ударили его чем-то острым. Затем вы понесли и положили его на некоторое время под сиреневый куст. Отдохнув и подумав, вы понесли его… Перенесли через плетень… Потом пошли по дороге… Далее следует плотина. Около плотины испугал вас какой-то мужик. Но что с вами?
Псеков, бледный, как полотно, поднялся и зашатался.
— Мне душно! — сказал он. — Хорошо… пусть… Только я выйду… пожалуйста.
Псекова вывели.
— Наконец-таки сознался! — сладко потянулся Чубиков. — Выдал себя! Как я его ловко, однако! Так и засыпал…
— И женщину в черном не отрицает! — засмеялся Дюковский. — Но, однако, меня ужасно мучит шведская спичка! Не могу долее терпеть! Прощайте! Еду.
Дюковский надел фуражку и уехал. Чубиков начал допрашивать Акульку. Акулька заявила, что она знать ничего не знает…
— Жила я только с вами, а больше ни с кем! — сказала она.
В шестом часу вечера воротился Дюковский. Он был взволнован, как никогда. Руки его дрожали до такой степени, что он был не в состоянии расстегнуть пальто. Щеки его горели. Видно было, что он воротился не без новости.
— Veni, vidi, vici![26] — сказал он, влетая в комнату Чубикова и падая в кресло. — Клянусь вам честью, я начинаю веровать в свою гениальность. Слушайте, чёрт вас возьми совсем! Слушайте и удивляйтесь, старина! Смешно и грустно! В ваших руках уже есть трое… не так ли? Я нашел четвертого или, вернее — четвертую, ибо и эта есть женщина! И какая женщина! За одно прикосновение к ее плечам я отдал бы десять лет жизни! Но… слушайте… Поехал я в Кляузовку и давай вокруг нее описывать спираль. Посетил я на пути все лавочки, кабачки, погребки, спрашивая всюду шведские спички. Всюду мне говорили «нет». Колесил я до сей поры. Двадцать раз я терял надежду и столько же раз получал ее обратно. Валандался целый день и только час тому назад набрел на искомое. За три версты отсюда. Подают мне пачку из десяти коробочек. Одной коробки нет как нет… Сейчас: «Кто купил эту коробку?» Такая-то… «Пондравилось ей… пшикают». Голубчик мой! Николай Ермолаич! Что может иногда сделать человек, изгнанный из семинарии и начитавшийся Габорио*, так уму непостижимо! С сегодняшнего дня начинаю уважать себя!.. Уффф… Ну, едем!
— Куда это?
— К ней, к четвертой… Поспешить нужно, иначе… иначе я сгорю от нетерпения! Знаете, кто она? Не угадаете! Молоденькая жена нашего станового, старца Евграфа Кузьмича, Ольга Петровна — вот кто! Она купила ту коробку спичек!
— Вы… ты… вы… с ума сошел?
— Очень понятно! Во-первых, она курит. Во-вторых, она по уши была влюблена в Кляузова. Он отверг ее любовь для какой-нибудь Акульки. Месть. Теперь я вспоминаю, как однажды застал их в кухне за ширмой. Она клялась ему, а он курил ее папиросу и пускал ей дым в лицо. Но, однако, поедемте… Скорее, а то уже темнеет… Поедемте!
— Я еще не сошел с ума настолько, чтобы из-за какого-нибудь мальчишки беспокоить ночью благородную, честную женщину!
— Благородная, честная… Тряпка вы после этого, а не следователь! Никогда не осмеливался бранить вас, а теперь вы меня вынуждаете! Тряпка! Халат! Ну, голубчик, Николай Ермолаич! Прошу вас!
Следователь махнул рукой и плюнул.
— Прошу вас! Прошу не для себя, а в интересах правосудия! Умоляю, наконец! Сделайте мне одолжение хоть раз в жизни!
Дюковский стал на колени.
— Николай Ермолаич! Ну, будьте так добры! Назовите меня подлецом, негодяем, если я заблуждаюсь относительно этой женщины! Дело ведь какое! Дело-то! Роман, а не дело! На всю Россию слава пойдет! Следователем по особо важным делам вас сделают! Поймите вы, неразумный старик!
Следователь нахмурился и нерешительно протянул руку к шляпе.
— Ну, чёрт с тобой! — сказал он. — Едем.
Было уже темно, когда шарабан следователя подкатил к крыльцу станового.
— Какие мы свиньи! — сказал Чубиков, берясь за звонок. — Беспокоим людей.
— Ничего, ничего… Не робейте… Скажем, что у нас рессора лопнула.
Чубикова и Дюковского встретила на пороге высокая полная женщина, лет двадцати трех, с черными, как смоль, бровями и жирными, красными губами. Это была сама Ольга Петровна.
— Ах… очень приятно! — сказала она, улыбаясь во всё лицо. — Как раз к ужину поспели. Моего Евграфа Кузьмича нет дома… У попа засиделся… Но мы и без него обойдемся… Садитесь! Вы это со следствия?..
— Да-с… У нас, знаете ли, рессора лопнула, — начал Чубиков, войдя в гостиную и усаживаясь в кресло.
— Вы сразу… ошеломите! — шепнул ему Дюковский. — Ошеломите!
— Рессора… Мм… да… Взяли и заехали.
— Ошеломите, вам говорят! Догадается, коли канителить будете!
— Ну, так делай, как сам знаешь, а меня избавь! — пробормотал Чубиков, вставая и отходя к окну. — Не могу! Ты заварил кашу, ты и расхлебывай!
— Да, рессора… — начал Дюковский, подходя к становихе и морща свой длинный нос. — Мы заехали не для того, чтобы… эээ… ужинать и не к Евграфу Кузьмичу. Мы приехали затем, чтобы спросить вас, милостивая государыня: где находится Марк Иванович, которого вы убили?
— Что? Какой Марк Иваныч? — залепетала становиха, и ее большое лицо вдруг, в один миг, залилось алой краской. — Я… не понимаю.
— Спрашиваю вас именем закона! Где Кляузов? Нам всё известно!
— Через кого? — спросила тихо становиха, не вынося взгляда Дюковского.
— Извольте указать нам — где он!?
— Но откуда вы узнали? Кто вам рассказал?
— Нам всё известно-с! Я требую именем закона!
Следователь, ободренный замешательством становихи, подошел к ней и сказал:
— Укажите нам, и мы уйдем. Иначе же мы…
— На что он вам?
— К чему эти вопросы, сударыня? Мы вас просим указать! Вы дрожите, смущены… Да, он убит и, если хотите, убит вами! Сообщники выдали вас!
Становиха побледнела.
— Пойдемте, — сказала она тихо, ломая руки. — Он у меня в бане спрятан. Только, ради бога, не говорите мужу! Умоляю вас! Он не вынесет.
Становиха сняла со стены большой ключ и повела своих гостей через кухню и сени во двор. На дворе было темно. Накрапывал мелкий дождь. Становиха пошла вперед. Чубиков и Дюковский зашагали за ней по высокой траве, вдыхая в себя запахи дикой конопли и помоев, всхлипывавших под ногами. Двор был большой. Скоро кончились помои, и ноги почувствовали вспаханную землю. В темноте показались силуэты деревьев, а между деревьями — маленький домик с покривившеюся трубой.
— Это баня, — сказала становиха. — Но умоляю вас, не говорите никому!
Подойдя к бане, Чубиков и Дюковский увидели на дверях огромнейший висячий замок.
— Приготовьте огарок и спички! — шепнул следователь своему помощнику.
Становиха отперла замок и впустила гостей в баню. Дюковский чиркнул спичкой и осветил предбанник. Среди предбанника стоял стол. На столе рядом с маленьким толстеньким самоваром стоял супник с остывшими щами и блюдо с остатками какого-то соуса.
— Дальше!
Вошли в следующую комнату, в баню. Там тоже стоял стол. На столе большое блюдо с окороком, бутыль с водкой, тарелки, ножи, вилки.
— Но где же… этот? Где убитый? — спросил следователь.
— Он на верхней полочке! — прошептала становиха, всё еще бледная и дрожащая.
Дюковский взял в руки огарок и полез на верхнюю полку. Там он увидел длинное человеческое тело, лежавшее неподвижно на большой пуховой перине. Тело издавало легкий храп…
— Нас морочат, чёрт возьми! — закричал Дюковский. — Это не он! Здесь лежит какой-то живой болван. Эй, кто вы, чёрт вас возьми?
Тело потянуло в себя со свистом воздух и задвигалось. Дюковский толкнул его локтем. Оно подняло вверх руки, потянулось и приподняло голову.
— Кто это лезет? — спросил охрипший, тяжелый бас. — Тебе что нужно?
Дюковский поднес к лицу неизвестного огарок и вскрикнул. В багровом носе, взъерошенных, нечесаных волосах, в черных, как смоль, усах, из которых один был ухарски закручен и с нахальством глядел вверх на потолок, он узнал корнета Кляузова.
— Вы… Марк… Иваныч?! Не может быть! Следователь взглянул наверх и замер…
— Это я, да… А это вы, Дюковский! Какого дьявола вам здесь нужно? А там, внизу, что еще за рожа? Батюшки, следователь! Какими судьбами?
Кляузов сбежал вниз и обнял Чубикова. Ольга Петровна шмыгнула в дверь.
— Какими путями? Выпьем, чёрт возьми! Тра-та-ти-то-том… Выпьем! Кто вас привел сюда, однако? Откуда вы узнали, что я здесь? Впрочем, всё равно! Выпьем!
Кляузов зажег лампу и налил три рюмки водки.
— То есть, я тебя не понимаю, — сказал следователь, разводя руками. — Ты это или не ты?
— Будет тебе… Мораль читать хочешь? Не трудись! Юноша Дюковский, выпивай свою рюмку! Проведемте ж, друзья-я, эту… Чего смотрите? Пейте!
— Все-таки я не могу понять, — сказал следователь, машинально выпивая водку. — Зачем ты здесь?
— Почему же мне не быть здесь, ежели мне здесь хорошо?
Кляузов выпил и закусил ветчиной.
— Живу у становихи, как видишь. В глуши, в дебрях, как домовой какой-нибудь. Пей! Жалко, брат, мне ее стало! Сжалился, ну, и живу здесь, в заброшенной бане, отшельником… Питаюсь. На будущей неделе думаю убраться отсюда… Уж надоело…
— Непостижимо! — сказал Дюковский.
— Что же тут непостижимого?
— Непостижимо! Ради бога, как попал ваш сапог в сад?
— Какой сапог?
— Мы нашли один сапог в спальне, а другой в саду.
— А вам для чего это знать? Не ваше дело… Да пейте же, чёрт вас возьми. Разбудили, так пейте! Интересная история, братец, с этим сапогом. Я не хотел идти к Оле. Не в духе, знаешь, был, подшофе… Она приходит под окно и начинает ругаться… Знаешь, как бабы… вообще… Я, спьяна, возьми да и пусти в нее сапогом… Ха-ха… Не ругайся, мол. Она влезла в окно, зажгла лампу, да и давай меня мутузить пьяного. Вздула, приволокла сюда и заперла. Питаюсь теперь… Любовь, водка и закуска! Но куда вы? Чубиков, куда ты?
Следователь плюнул и вышел из бани. За ним, повесив голову, вышел Дюковский. Оба молча сели в шарабан и поехали. Никогда в другое время дорога не казалась им такою скучной и длинной, как в этот раз. Оба молчали. Чубиков всю дорогу дрожал от злости, Дюковский прятал свое лицо в воротник, точно боялся, чтобы темнота и моросивший дождь не прочли стыда на его лице.
Приехав домой, следователь застал у себя доктора Тютюева. Доктор сидел за столом и, глубоко вздыхая, перелистывал «Ниву».
— Дела-то какие на белом свете! — сказал он, встречая следователя, с грустной улыбкой. — Опять Австрия того!.. И Гладстон тоже некоторым образом…
Чубиков бросил под стол шляпу и затрясся.
— Скелет чёртов! Не лезь ко мне! Тысячу раз говорил я тебе, чтобы ты не лез ко мне со своею политикой! Не до политики тут! А тебе, — обратился Чубиков к Дюковскому, потрясая кулаком, — а тебе… во веки веков не забуду!
— Но… шведская спичка ведь! Мог ли я знать!
— Подавись своей спичкой! Уйди и не раздражай, а то я из тебя чёрт знает что сделаю! Чтобы и ноги твоей не было!
Дюковский вздохнул, взял шляпу и вышел.
— Пойду запью! — решил он, выйдя за ворота, и побрел печально в трактир.
Становиха, придя из бани домой, нашла мужа в гостиной.
— Зачем следователь приезжал? — спросил муж.
— Приезжал сказать, что Кляузова нашли. Вообрази, нашли его у чужой жены!
— Эх, Марк Иваныч, Марк Иваныч! — вздохнул становой, поднимая вверх глаза. — Говорил я тебе, что распутство не доводит до добра! Говорил я тебе, — не слушался!
«Шведская спичка». Страница чернового автографа.
(обратно)Протекция*
По Невскому шел маленький, сморщенный старичок с орденом на шее. За ним вприпрыжку следовал маленький молодой человек с кокардой и лиловым носиком. Старичок был нахмурен и сосредоточен, молодой человек озабоченно мигал глазками и, казалось, собирался плакать. Оба шли к Евлампию Степановичу.
— Я не виноват, дяденька! — говорил молодой человек, едва поспевая за старичком. — Меня понапрасну уволили. Дряньковский больше меня пьет, однако же его не уволили! Он каждый день являлся в присутствие пьяным, а я не каждый день. Это такая несправедливость от его превосходительства, дяденька, что и выразить вам не могу!
— Молчи… Свинья!
— Гм… Ну, пущай я буду свинья, хоть у меня и самолюбие есть. Меня не за пьянство уволили, а за портрет. Подносили ему наши альбом с карточками. Все снимались, и я снимался, но моя карточка не сгодилась, дяденька. Глаза выпученные вышли и руки растопырены. Носа у меня никогда такого длинного не было, как на карточке вышло. Я и постыдился свою карточку в альбом вставлять. Ведь у его превосходительства дамы бывают, портреты рассматривают, а я не желаю себя перед дамами компрометировать. Моя наружность не красивая, но привлекательная, а на карточке какой-то шут вышел. Евлампий Степаныч и обиделись, что моей карточки нет. Подумали, что я из гордости или вольномыслия… А какое у меня вольномыслие? Я и в церковь хожу, и постное ем, и носа не задираю, как Дряньковский. Заступитесь, дяденька! Век буду бога молить! Лучше в гробу лежать, чем без места шляться.
Старичок и его спутник повернули за угол, прошли еще три переулка и наконец дернули за звонок у двери Евлампия Степановича.
— Ты здесь посиди, — сказал старичок, войдя с молодым человеком в приемную, — а я к нему пойду. Из-за тебя беспокойства одни только. Болван… Стань и стой тут… Дрянь…
Старичок высморкался, поправил на шее орден и пошел в кабинет. Молодой человек остался в приемной. Сердце его застучало.
«О чем они там говорят? — подумал он, холодея и переминаясь от тоски с ноги на ногу, когда из кабинета донеслось к нему бормотанье двух старческих голосов. — Слушает ли он дяденьку?»
Не вынося неизвестности, он подошел к двери и приложил к ней свое большое ухо.
— Не могу-с! — услышал он голос Евлампия Степановича. — Верьте богу, не могу-с! Я вас уважаю, друг я вам, Прохор Михайлыч, на всё для вас готов, но… не могу-с! И не просите!
— Я согласен с вами, ваше превосходительство, это испорченный мальчишка. Не стану этого отрицать и скажу даже вам как другу и благодетелю, что мало того, что он пьяница. Это бы еще ничего-с. Он негодяй! И уворует, ежели что плохо лежит, и подчистить мастер, и наябедничать готов… Такой паршивец, что и выразить вам не могу! Вы ему сегодня одолжение делаете, а завтра он донос на вас пишет. Сволочь человек… Мне его нисколько не жалко. Коли бы моя воля, я бы его давно к чертям на кулички… Но мне, ваше — ство, мать его жалко! Для матери только и прошу. Обокрал, подлец, мать, пропил всё…
Молодой человек отошел от двери и прошелся по приемной. Через пять минут он опять подошел к двери и приложил ухо.
— Для старушечки сделайте, ваше — ство, — говорил дядя. — Она с тоски умирает, что ее подлец без дела ходит.
— Ну, ладно, так и быть. Только с условием: чуть что малейшее, сейчас же вон!
— Сейчас и выгоняйте, ежели что, подлеца этакого.
Молодой человек отошел от двери и зашагал по приемной.
— Молодец дядька! — прошептал он, в восторге потирая руки. — Трогательно расписывает! Необразованный человек, а как всё это умно у него выходит…
Из кабинета показался дядя.
— Тебя приняли, — сказал он угрюмо. — Дрянь… Пойдем.
— Благодарю вас, дяденька! — вздохнул молодой человек, мигая глазами, полными благодарности, и целуя руку. — Без вашей протекции я давно бы пропал…
Оба вышли на улицу и зашагали к себе домой. Старичок был нахмурен и сосредоточен, молодой человек сиял и был весел.
(обратно)Справка*
Был полдень. Помещик Волдырев, высокий плотный мужчина с стриженой головой и с глазами навыкате, снял пальто, вытер шёлковым платком лоб и несмело вошел в присутствие. Там скрипели…
— Где здесь я могу навести справку? — обратился он к швейцару, который нес из глубины присутствия поднос со стаканами. — Мне нужно тут справиться и взять копию с журнального постановления.
— Пожалуйте туда-с! Вот к энтому, что около окна сидит! — сказал швейцар, указав подносом на крайнее окно.
Волдырев кашлянул и направился к окну. Там за зеленым, пятнистым, как тиф, столом сидел молодой человек с четырьмя хохлами на голове, длинным угреватым носом и в полинялом мундире. Уткнув свой большой нос в бумаги, он писал. Около правой ноздри его гуляла муха, и он то и дело вытягивал нижнюю губу и дул себе под нос, что придавало его лицу крайне озабоченное выражение.
— Могу ли я здесь… у вас, — обратился к нему Волдырев, — навести справку о моем деле? Я Волдырев… И кстати же мне нужно взять копию с журнального постановления от второго марта.
Чиновник умокнул перо в чернильницу и поглядел: не много ли он набрал? Убедившись, что перо не капнет, он заскрипел. Губа его вытянулась, но дуть уже не нужно было: муха села на ухо.
— Могу ли я навести здесь справку? — повторил через минуту Волдырев. — Я Волдырев, землевладелец…
— Иван Алексеич! — крикнул чиновник в воздух, как бы не замечая Волдырева. — Скажешь купцу Яликову, когда придет, чтобы копию с заявления в полиции засвидетельствовал! Тысячу раз говорил ему!
— Я относительно тяжбы моей с наследниками княгини Гугулиной, — пробормотал Волдырев. — Дело известное. Убедительно вас прошу заняться мною.
Всё не замечая Волдырева, чиновник поймал на губе муху, посмотрел на нее со вниманием и бросил. Помещик кашлянул и громко высморкался в свой клетчатый платок. Но и это не помогло. Его продолжали не слышать. Минуты две длилось молчание. Волдырев вынул из кармана рублевую бумажку и положил ее перед чиновником на раскрытую книгу. Чиновник сморщил лоб, потянул к себе книгу с озабоченным лицом и закрыл ее.
— Маленькую справочку… Мне хотелось бы только узнать, на каком таком основании наследники княгини Гугулиной… Могу ли я вас побеспокоить?
А чиновник, занятый своими мыслями, встал и, почесывая локоть, пошел зачем-то к шкапу. Возвратившись через минуту к своему столу, он опять занялся книгой: на ней лежала рублевка.
— Я побеспокою вас на одну только минуту… Мне справочку сделать, только…
Чиновник не слышал; он стал что-то переписывать.
Волдырев поморщился и безнадежно поглядел на всю скрипевшую братию.
«Пишут! — подумал он, вздыхая. — Пишут, чтобы чёрт их взял совсем!»
Он отошел от стола и остановился среди комнаты, безнадежно опустив руки. Швейцар, опять проходивший со стаканами, заметил, вероятно, беспомощное выражение на его лице, потому что подошел к нему совсем близко и спросил тихо:
— Ну, что? Справлялись?
— Справлялся, но со мной говорить не хотят.
— А вы дайте ему три рубля… — шепнул швейцар.
— Я уже дал два.
— А вы еще дайте.
Волдырев вернулся к столу и положил на раскрытую книгу зеленую бумажку.
Чиновник снова потянул к себе книгу и занялся перелистыванием, и вдруг, как бы нечаянно, поднял глаза на Волдырева. Нос его залоснился, покраснел и поморщился улыбкой.
— Ах… что вам угодно? — спросил он.
— Я хотел бы навести справку относительно моего дела… Я Волдырев.
— Очень приятно-с! По Гугулинскому делу-с? Очень хорошо-с! Так вам что же, собственно говоря?
Волдырев изложил ему свою просьбу.
Чиновник ожил, точно его подхватил вихрь. Он дал справку, распорядился, чтобы написали копию, подал просящему стул — и всё это в одно мгновение. Он даже поговорил о погоде и спросил насчет урожая. И когда Волдырев уходил, он провожал его вниз по лестнице, приветливо и почтительно улыбаясь и делая вид, что он каждую минуту готов перед просителем пасть ниц. Волдыреву почему-то стало неловко и, повинуясь какому-то внутреннему влечению, он достал из кармана рублевку и подал ее чиновнику. А тот всё кланялся и улыбался и принял рублевку, как фокусник, так что она только промелькнула в воздухе…
«Ну, люди…» — подумал помещик, выйдя на улицу, остановился и вытер лоб платком.
(обратно)Отставной раб*
— Наша речка извивалась змейкой, словно зигзага… Бежала она по полю изгибами, вертикулясами этакими, как поломанная… Когда, бывало, на гору взлезешь и вниз посмотришь, то всю ее, как на ладонке, видать. Днем она как зеркало, а ночью ртутью отливает. По бережку камыш стоит и в воду поглядывает… Красота! Тут камыш, там ивнячок, а там вербы…
Так расписывал Никифор Филимоныч, сидя в портерной за столиком и глотая пиво. Говорил он с увлечением, с жаром… Его морщинистое бритое лицо и коричневая шея вздрагивали и подергивались судорогой всякий раз, когда он подчеркивал в своем рассказе какое-либо особенно поэтическое место. Слушала его хорошенькая шестнадцатилетняя сиделица, Таня. Лежа грудью на прилавке и подперев голову кулаками, она, изумляясь, бледнея и не мигая глазами, восторженно ловила каждое слово.
Никифор Филимоныч каждый вечер бывал в портерной и беседовал с Таней. Любил он ее за сиротство и тихую ласковость, которою залито было всё ее бледное востроглазое лицо. А кого он любил, тому отдавал все тайны своего прошлого. Начинал он беседы обыкновенно с самого начала — с описания природы. С природы переходил он на охоту, с охоты — на личность покойного барина, князя Свинцова.
— Знаменитый был человек! — рассказывал он про князя. — Славен он был не столько богатством и широтою земель, сколько характером. Он был Дон-Жуан-с.
— А что значит Дон-Жуан?
— Это обозначает, что он до женского пола большой Дон-Жуан был. Любил вашего брата. Всё свое состояние на женский пол провалил. Да-с… А когда мы в Москве жили, у нас в грандателе почти весь верхний этаж на наши средства существовал. В Петербурге мы с баронессой фон Туссих большие связи имели и дитятю прижили. Баронесса эта самая в одну ночь всё свое состояние в штосс проиграла и руки на себя наложить хотела, а князь не дал ей жизнь прикончить. Красивая была, молодая такая… Год с ним попуталась и померла… А как женщины любили его, Танечка! Как любили! Жить без него не могли!
— Он был красив?
— Какой… Старый был, некрасивый… Вот и вы бы, Танечка, ему понравились… Он любил таких худеньких, бледненьких… Вы не конфузьтесь. Чего конфузиться? Не врал я во веки веков и теперь не вру-с…
Потом Никифор Филимоныч принимался за описание экипажей, лошадей, нарядов… Во всем этом он знал толк. Потом начинал перечислять вина.
— А есть такие вина, что четвертную за бутылку стоит. Выпьешь ты рюмку, а у тебя в животе делается, словно ты от радости помер.
Тане более всего нравилось описание тихих лунных ночей.. Летом шумная оргия в зелени, среди цветов, а зимой — в санях с теплой полостью, в санях, которые летят как молния.
— Летят санки-с, а вам кажется, что луна бежит… Чудно-с!
Долго рассказывал таким образом Никифор Филимоныч. Оканчивал он, когда мальчишка тушил над дверью фонарь и вносил в портерную дверную вывеску.
В один зимний вечер Никифор Филимоныч лежал пьяный под забором и простудился. Его свезли в больницу. Выписавшись через месяц из больницы, он уже не нашел в портерной своей слушательницы. Она исчезла.
Через полтора года шел Никифор Филимоныч в Москве по Тверской и продавал поношенное летнее пальто. Ему встретилась его любимица, Таня. Она, набеленная, расфранченная, в шляпе с отчаянно загнутыми полями, шла под руку с каким-то господином в цилиндре и чему-то громко хохотала… Старик поглядел на нее, узнал, проводил глазами и медленно снял шапку. По его лицу пробежало умиление, на глазах сверкнула слезинка.
— Ну, дай бог ей… — прошептал он. — Она хорошая.
И, надевши шапку, он тихо засмеялся.
(обратно)Мои чины и титулы*
Я посланник. Каждое утро жена посылает меня на рынок за провизией.
Я надворный советник. Каждое утро перед уходом на рынок я советуюсь на дворе с дворником по поводу текущих вопросов.
Я городовой, потому что я живу в городе, а не в деревне.
Я дворянин — это несомненно. По вечерам я прогуливаюсь по двору, летом люблю спать на дворе, часто беседую с дворником и собаки мои называются дворняжками.
Я товарищ прокурора Ивана Иваныча, который иногда заходит ко мне и на основании всех статей X тома Свода законов пьет у меня пиво. Отношения наши самые товарищеские.
Я был особой IV, III, II и даже I классов, когда учился в гимназии.
Я следователь по особо важным делам. Не вынося посредственности, я обыкновенно следую примеру только того, кто совершает особенно важные дела…
Я кавалер, потому что имею Анну на шее… и какую Анну! Толстую, краснощекую, строптивую…
Я благочинный. Никто не ведет себя так благочинно, как я. Засвидетельствовать это могут наши дворники.
Я кассир, потому что имею кассу; бухгалтер, потому что веду лавочную, прачечную и записную книжки; письмоводитель, потому что веду переписку; сторож, потому что всегда сторожу свое добро, и звонарь, потому что часто звоню в мой колокольчик.
Я целовальник, потому что люблю целоваться.
Я тайный советник, потому что советуюсь с женой тайно от тещи.
Я сведущий человек по части выпивки и закуски.
Я батарейный командир, когда в моем распоряжении батарея бутылок.
Я человек без селезенки, когда ставлю точку.
(обратно)Дура, или Капитан в отставке*
(Сценка из несуществующего водевиля)
Свадебный сезон. Отставной капитан Соусов (сидит на клеенчатом диване, поджав под себя одну ногу и держась обеими руками за другую. Говорит и покачивается). Сваха Лукинишна (расплывшаяся старуха с глупым, но добродушным лицом, помещается в стороне на табурете. На лице выражение ужаса, смешанного с удивлением. В профиль похожа на улитку, en face — на черного таракана. Говорит с подобострастием и после каждого слова икает).
Капитан. Впрочем, ежели взглянуть на это с точки зрения, то Иван Николаич поступил весьма существенно. Он хорошо сделал, что женился. Будь ты хоть профессор, хоть гений, а ежели ты не женат, то ты и гроша медного не стоишь. Ни ценза в тебе, ни общественного мнения… Кто не женат, тот не может иметь в обществе настоящий вес. Возьмем хоть меня для примера… Я человек образованного класса, домовладелец, при деньгах… Чин тоже вот… и орден, а что с меня толку? Кто я, ежели взглянуть на меня с точки зрения? Бобыль… Синоним какой-то, и больше ничего (задумывается). Все женаты, у всех есть деточки, один только я… как в романсе этом… (поет тенором печальный романс). Так вот и в моей жизни… Хоть бы какую завалящую невесту!
Лукинишна. Зачем завалящую? За тебя, батюшка, и не завалящая пойдет. При твоем благородстве и, можно сказать, при твоих таких качествах за тебя любая пойдет, и с деньгами…
Капитан. С деньгами мне не нужно. Я не позволю себе сделать такой подлости, чтоб на деньгах жениться. Я сам имею деньги и желаю, чтоб не я женин хлеб ел, а чтоб она мой. Ежели бедную возьмешь, то она будет чувствовать, понимать… Во мне нет настолько эгоизма, чтоб я из-за интереса…
Лукинишна. Оно действительно, батюшка… Иная бедная покрасивей богачки будет…
Капитан. И красоты мне тоже не надо. К чему она? С лица воды не пить. Красота должна быть не в естестве, а в душе… Мне нужны доброта, кротость, невинность этакая… Я желаю, чтоб жена меня уважала, почитала…
Лукинишна. Гм… Как же ей тебя не почитать, ежели ты для нее законный супруг есть? Образования в ней нет, что ли?
Капитан. Постой, не перебивай. И образованной мне тоже не нужно. Без образования нынче нельзя, это конечно, но образование разное бывает. Приятно, ежели жена по-французски и по-немецки, на разные голоса там, очень приятно; но что из этого толку, ежели она не умеет тебе пуговки, положим, пришить? Я образованного класса, принят везде, с князем Канителиным, могу сказать, всё одно, как вот с тобой теперь, но я имею простой характер. Мне нужна простая девушка. Ума мне не нужно. Ум в мужчине имеет вес, а женское существо может и без ума обойтись.
Лукинишна. Это верно, батюшка. Про умных нынче и в газетах писано, что они не годятся.
Капитан. Дура и любить тебя будет, и почитать, и чувствовать, какого я звания человек. Страх в ней будет. А умная будет хлеб твой кушать, но чувствовать она не будет, чей это хлеб. Дуру мне и ищи… Так и знай: дуру. Есть у тебя такая на примете?
Лукинишна. Разные есть на примете (задумывается). Какую же тебе? Дур-то много, да всё умные дуры… У кажинной дуры свой ум… Тебе совсем дуру? (Думает.) Есть у меня одна дурочка, да не знаю, пондравится ли… Купеческого она звания и тысяч пять приданого… Собой не то, чтобы не красива, а так — ни то, ни се… худенькая, тонюсенькая… Ласковая, деликатная… Доброты страсть сколько! Последнее отдаст, ежели кто попросит… Ну, и кроткая… Мать ее за волосья, а она хоть бы тебе пискнула — ни словечка! И страх в ней от родителев вложен, и в церковь ее водят, и в хозяйстве, ежели что… Но это самое (водит пальцем около лба)… Не осуди ты меня, грешницу, за мои осуждения, а истинное мое тебе слово, как перед богом: не в себе она! Дура… Молчит, молчит, как убитая молчит… Сидит, молчит, да вдруг ни с того, ни с сего — прыг! Словно ты ее кипятком ошпарил. Вскочит со стула, как угорелая, и давай молоть… Мелет, мелет… Без конца-краю мелет… И родители у нее дураки тогда выходят, и пища не такая, и слова не такие ей говорят. И жить будто ей не с кем, и жизнь-то ее будто заели… «Понять, говорит, вы меня не можете…» Дура девка! Сватался за нее купец Кашалотов — отказала ведь! Засмеялась ему в лицо, и только… Богатый купец, красивый, алигантный, словно молоденький офицерик. А то, бывает, возьмет какую ни на есть дурацкую книжку, пойдет в чулан и давай читать…
Капитан. Ну, эта дура не подходит мне под категорию… Другую поищи (встает и глядит на часы)… А пока бонжур! Мне идти пора… Пойду по своей холостой части…
Лукинишна. Иди, батюшка! Скатертью дорожка! (Встает.) В субботу ввечеру зайду касательно невесты (идет к двери)… Ну, а тово… по холостой части тебе не требуется?
(обратно)Майонез*
Астрономы сильно обрадовались, когда открыли на солнце пятна. Случай беспримерного злорадства!
* * *
Чиновник брал взятку. В самый момент грехопадения вошел его начальник и подозрительно впился глазами в его кулак, в котором лежала благодарственная кредитка. Чиновник ужасно смутился.
— Послушайте! — обратился он к просителю, разжимая кулак. — Вы позабыли что-то у меня в кулаке!
* * *
Когда козел бывает свиньей?
— Повадился к нашим козам чей-то козел ходить, — рассказывал один помещик. — Мы взяли и побили его. Он продолжал все-таки ходить. Мы его выпороли и к хвосту его палку привязали. Но и это не помогло. Подлец всё еще продолжал лазить к нашим козам. Хорошо же! Мы его поймали, насыпали ему в нос табаку и вымазали скипидаром. После этой экзекуции он не ходил три дня, а потом опять начал ходить. Ну, не свинья ли он после этого?
* * *
Примерная находчивость.
Петербургский репортер N. Z., обозревая прошлогоднюю мануфактурную выставку, остановил между прочим свое внимание на одном павильоне и начал что-то записывать.
— Это не вы обронили четвертную? — обратился к нему хозяин павильона, подавая ему бумажку.
— Я уронил две четвертные! — нашелся репортер.
Экспонент изумился такой находчивости и подал ему другую четвертную.
Это не анекдот, а быль.
(обратно)Осенью*
Время было близко к ночи.
В кабаке дяди Тихона сидела компания извозчиков и богомольцев. Их загнал в кабак осенний ливень и неистовый мокрый ветер, хлеставший по лицам, как плетью. Промокшие и уставшие путники сидели у стен на скамьях и, прислушиваясь к ветру, дремали. На лицах была написана скука. У одного извозчика, малого с рябым, исцарапанным лицом, лежала на коленях мокрая гармонийка: играл и машинально перестал.
Над дверью, вокруг тусклого, засаленного фонарика, летали дождевые брызги. Ветер выл волком, визжал и, видимо, старался сорвать с петель кабацкую дверь. Со двора слышалось фырканье лошадей и шлепанье по грязи. Было сыро и холодно.
За прилавком сидел сам дядя Тихон, высокий мордастый мужик с сонными, заплывшими глазками. Перед ним по сю сторону прилавка стоял человек лет сорока, одетый грязно, больше чем дешево, но интеллигентно. На нем было помятое, вымоченное в грязи летнее пальто, сарпинковые брюки и резиновые калоши на босую ногу. Голова, руки, заложенные, в карманы, и худые, колючие локти его тряслись, как в лихорадке. Изредка по всему исхудалому телу, начиная с страшно испитого лица и кончая резиновыми калошами, пробегала легкая судорога.
— Дай Христа ради! — просил он Тихона разбитым, дребезжащим тенором. — Рюмочку… вот эту, маленькую. В долг ведь!
— Ладно… Много вас шляется тут, прохвостов!
Прохвост поглядел на Тихона с презрением, с ненавистью. Он убил бы его, если б можно было!
— Пойми ты, дура ты этакая, невежа! Не я прошу, нутро, выражаясь по-твоему, по-мужицкому, просит! Болезнь моя просит! Пойми!
— Нечего нам понимать. Отходи…
— Ведь если я не выпью сейчас, пойми ты это, если я не удовлетворю своей страсти, то я могу преступление совершить! Я бог знает что могу сделать! Видал ты, хам, на своем кабацком веку много пьяного люда; неужели же до сих пор ты не сумел уяснить себе, что это за люди? Это больные! На цепь их посади, бей, режь, а водки дай! Ну, покорнейше прошу! Сделай милость! Унижаюсь… Боже мой, как я унижаюсь!
Прохвост покачал головой и медленно сплюнул.
— Деньги давай, тогда и водка будет! — сказал Тихон.
— Где же мне взять денег? Всё пропито! Всё дотла!
Пальто вот одно только осталось. Его дать тебе не могу, потому что оно на голом теле… Хочешь шапку?
Прохвост подал Тихону свою драповую шапочку, из которой кое-где выглядывала вата. Тихон взял шапку, оглядел ее и отрицательно покачал головой.
— И даром не надо… — сказал он. — Навоз…
— Не нравится? Ну, так в долг дай, ежели не нравится. Буду идти из города обратно, занесу тебе твой пятак. Подавись ты тогда этим пятаком! Подавись!
— Какой такой ты жулик? Что за человек? Зачем пришел?
— Выпить хочу. Не я хочу, болезнь моя хочет! Пойми!
— Чего беспокоишь? Много вас. шельмованных, по большой дороге шатается! Ступай вон проси православных, пущай угощают тебя Христа ради, коли желают, а я Христа ради только хлеб подаю. Сволочь!
— Дери ты с них, бедняков, а я уж… извини! Не мне их обирать! Не мне!
Прохвост вдруг оборвал свою речь, покраснел и обратился к богомольцам:
— А ведь это идея, православные! Пожертвуйте пятачишку! Нутро просит! Болен!
— Водицы выпей, — усмехнулся малый с рябым лицом.
Прохвосту стало совестно. Он закашлялся и умолк. Через минуту он опять умолял Тихона. В конце концов он заплакал и стал предлагать за рюмку водки свое мокрое пальто. В темноте не увидели его слез, а пальто не приняли, потому что в кабаке были богомолки, которые не пожелали видеть мужскую наготу.
— Что же мне теперь делать? — спросил тихо прохвост голосом, полным отчаяния. — Что же делать? Не выпить мне нельзя. Иначе я преступление совершу или на самоубийство решусь… Что же делать?
Он прошелся по кабаку.
Подъехал со звонками почтовый тарантас. Мокрый почтальон вошел в кабак, выпил стакан водки и вышел. Почта поехала дальше.
— Я тебе дам одну золотую вещь, — обратился прохвост к Тихону, ставши вдруг бледным, как полотно. — Изволь, я тебе дам. Так и быть… Хоть это подло, мерзко с моей стороны, но возьми… Я сделаю эту гадость, будучи невменяем… И на суде бы меня оправдали… Возьми, но только с условием: возвратить мне потом, когда обратно пойду. Даю тебе при свидетелях…
Прохвост полез мокрой рукой себе за пазуху и достал оттуда маленький золотой медальон. Он раскрыл его и мельком взглянул на портрет.
— Надо бы портрет вынуть, да некуда мне его положить: я весь мокрый. Чёрт с тобой, грабь с портретом. Только с условием… Голубчик мой, дорогой… я прошу… Ты пальцами не трогай за это лицо… Умоляю, голубчик! Ты извини меня за грубости, за то, что я с тобой грубо говорил… Я глуп… Не трогай пальцами и не гляди своими глазами на это лицо…
Тихон взял медальон, поглядел на пробу и положил его к себе в карман.
— Краденые часики, — сказал он, наливая стакан. — Ну ладно… пей…
Пьяница взял в руки стакан, сверкнул на него глазами, насколько хватило силы сверкнуть у его пьяных, мутных глаз, и выпил… выпил с чувством, с судорожной расстановкой. Пропив медальон с портретом, он стыдливо опустил глаза и пошел в угол. Там он примостился на скамье возле богомолки, съежился и закрыл глаза.
Прошло полчаса в тишине и безмолвии. Шумел только ветер, напевая в трубе свою осеннюю рапсодию. Богомолки стали молиться богу и бесшумно располагаться под скамьями на ночлег. Тихон раскрыл медальон и загляделся на женскую головку, улыбавшуюся из золотой рамочки кабаку, Тихону, бутылкам.
На дворе скрипнула телега. Послышалось «тпррр» и шлепанье по грязи… В кабак вбежал маленький мужичок в длинном тулупе и с острой бородой. Он был мокр и грязен.
— Ну-кася! — крикнул он, стуча пятаком о прилавок. — Стакан мадеры настоящей! Наливай!
И, ухарски повернувшись на одной ноге, он окинул взглядом всю компанию.
— Растаяли сахарные, тетка ваша подкурятина! Дождя испугались, ахиды! Нежные! А это что за изюмина?
Мужичонок прыгнул к прохвосту и поглядел ему в лицо.
— Вот туды! Барин! — сказал он. — Семен Сергеич! Господа наши! А? С какой такой стати вы в этом кабаке прохлаждаетесь? Нешто вам здесь место? Эх… мученик несчастный!
Барин взглянул на мужичонка и закрылся рукавом. Мужичонок вздохнул, покачал головой, отчаянно махнул обеими руками и пошел к прилавку пить водку.
— Это наш барин, — шепнул он Тихону, кивнув на прохвоста. — Наш помещик, Семен Сергеич. Видал, каков? На какого человека похож теперь? А? То-то вот… пьянство до какой степени…
Выпив водку, мужичонок вытер рукавом губы и продолжал:
— Я из его деревни. За четыреста верст отседа, из Ахтиловки… Крепостными у его отца были… Этакая жалость, брат! Этакая жалость! Славный такой господин был… Вон она, лошадка-то на дворе! Видишь? Это он мне на лошадку дал! Ха-ха! Судьба!
Через десять минут вокруг мужичонка сидели извозчики и богомольцы. Тихим, нервным тенорком, под шумок осени, рассказывал он им повесть. Семен Сергеич сидел в том же углу, закрыв глаза и бормоча. Он тоже слушал.
— Всё это из одного малодушества вышло, — рассказывал мужичонок, двигаясь и жестикулируя руками. — С жиру… Господин он был богатый, большой, на всю, значит, губернию… Ешь, пей — не хочу! Сами, небось, видали… Сколько разов тут в коляске мимо этого самого кабака проезжал. Богатый был… Помню, лет пять тому назад едет через Микишкинский паром и заместо пятака рупь выкидывает… Из-за пустяшного предмета разоренье его началось. Первое дело — из-за бабы. Полюбил он, сердешный, одну городскую… Пуще жизни. Полюбилась ворона пуще ясна сокола… Марьей Егоровной, подлая, прозывалась, а фамилия такая чудная, что и не выговоришь. Полюбил и посватался, стало быть, как это по-божецки требуется. А она, известно, согласие дала, потому — барин он не из пустяшных, тверезый и при деньгах… Прохожу я однажды вечерком, помню это, через ихний сад; смотрю, а они сидят на лавочке и друг дружку целуют. Он ее раз, она, змея, его — два. Он ее за белу ручку, а она — вспых! так и жмется к ему, чтоб ей шут!.. Люблю говорит тебя, Сеня… А Сеня, как окаянный человек, ходит везде и счастьем похваляется сдуру… Тому рупь, тому два… Мне вот на лошадь дал… Всем нам долги простил на радостях. Подошло дело к свадьбе… Повенчались, как следовает… В самый раз, когда господам за ужин садиться, она возьми да и убеги в карете… В город к аблакату бежала, к полюбовнику. После венца-то, шкура! А? В самый настоящий момент! А? Очумел с той поры, запил… Вот как, видишь… Ходит, как шальной, и об ней, шкуре, думает. Любит! Должно, идет теперь пешком в город на нее одним глазочком взглянуть… Второе дело, братцы, откуда разоренье пошло, — зять, сестрин муж… Вздумал он за зятя в банковом обчестве поручиться… тысяч на тридцать… Зять, известно, знает, шельма, свою пользу и ухом своим собачьим не ведет, а с нашего взяли все тридцать тысяч… Глупый человек за глупость и муки терпит… Жена со своим аблакатом детей прижила, зять около Полтавы именье купил, а наш ходит, как дурак, по кабакам да к нашему брату мужику с жалобой лезет: «Потерял я, братцы, веру! Не в кого мне теперь, это самое, верить!» Малодушество! У всякого человека свое горе бывает, так и пить, значит? Вот у нас, к примеру взять, старшина. Жена к себе учителя среди бела дня водит, мужнины деньги на хмель изводит, а старшина ходит себе да усмешки на лице делает… Поосунулся только малость…
— Кому какую бог силу дал… — вздохнул Тихон.
— Сила разная бывает — это правильно.
Долго мужичонок рассказывал. Когда он кончил, воцарилась в кабаке тишина.
— Эй, ты… как вас?.. несчастный человек! Иди, выпей! — сказал Тихон, обращаясь к барину.
Барин подошел к прилавку и с наслаждением выпил милостыню…
— Дай мне на минутку медальон! — шепнул он Тихону. — Посмотрю только и… отдам…
Тихон нахмурился и молча отдал ему медальон. Малый с рябым лицом вздохнул, покрутил головой и потребовал водки.
— Выпей, барин! Эх! Без водки хорошо, а с водкой еще лучше! При водке и горе не горе! Валяй!
Выпив пять стаканов, барин отправился в угол, раскрыл медальон и пьяными, мутными глазами стал искать дорогое лицо… Но лица уже не было… Оно было выцарапано из медальона ногтями добродетельного Тихона.
Фонарь вспыхнул и потух. В углу скороговоркой забредила богомолка. Малый с рябым лицом вслух помолился богу и растянулся на прилавке. Кто-то еще подъехал… А дождь лил и лил… Холод становился всё сильней и сильней, и, казалось, конца не будет этой подлой, темной осени. Барин впивался глазами в медальон и всё искал женское лицо… Тухла свеча.
Весна, где ты?
(обратно)В ландо*
Дочери действительного статского советника Брындина, Кити и Зина, катались по Невскому в ландо. С ними каталась и их кузина Марфуша, маленькая шестнадцатилетняя провинциалка-помещица, приехавшая на днях в Питер погостить у знатной родни и поглядеть на «достопримечательности». Рядом с нею сидел барон Дронкель, свежевымытый и слишком заметно вычищенный человечек в синем пальто и синей шляпе. Сестры катались и искоса поглядывали на свою кузину. Кузина и смешила и компрометировала их. Наивная девочка, отродясь не ездившая в ландо и не слыхавшая столичного шума, с любопытством рассматривала обивку в экипаже, лакейскую шляпу с галунами, вскрикивала при каждой встрече с вагоном конножелезки… А ее вопросы были еще наивнее и смешнее…
— Сколько получает жалованья ваш Порфирий? — спросила она, между прочим, кивнув на лакея.
— Кажется, сорок в месяц…
— Не-уже-ли?! Мой брат Сережа, учитель, получает только тридцать! Неужели у вас в Петербурге так дорого ценится труд?
— Не задавайте, Марфуша, таких вопросов, — сказала Зина, — и не глядите по сторонам. Это неприлично. А вон поглядите, — поглядите искоса, а то неприлично, — какой смешной офицер! Ха-ха! Точно уксусу выпил! Вы, барон, бываете таким, когда ухаживаете за Амфиладовой.
— Вам, mesdames, смешно и весело, а меня терзает совесть, — сказал барон. — Сегодня у наших служащих панихида по Тургеневе, а я по вашей милости не поехал. Неловко, знаете ли… Комедия, а все-таки следовало бы поехать, показать свое сочувствие… идеям… Mesdames, скажите мне откровенно, приложа руку к сердцу, нравится вам Тургенев?
— О да… понятно! Тургенев ведь…
— Подите же вот… Всем, кого ни спрошу, нравится, а мне… не понимаю! Или у меня мозга нет, или же я такой отчаянный скептик, но мне кажется преувеличенной, если не смешной, вся эта галиматья, поднятая из-за Тургенева! Писатель он, не стану отрицать, хороший… Пишет гладко, слог местами даже боек, юмор есть, но… ничего особенного… Пишет, как и все русские писаки… Как и Григорьевич, как и Краевский… Взял я вчера нарочно из библиотеки «Заметки охотника», прочел от доски до доски и не нашел решительно ничего особенного… Ни самосознания, ни про свободу печати… никакой идеи! А про охоту так и вовсе ничего нет. Написано, впрочем, недурно!
— Очень даже недурно! Он очень хороший писатель! А как он про любовь писал! — вздохнула Кити. — Лучше всех!
— Хорошо писал про любовь, но есть и лучше. Жан Ришпен, например. Что за прелесть! Вы читали его «Клейкую»? Другое дело! Вы читаете и чувствуете, как всё это на самом деле бывает! А Тургенев… что он написал? Идеи всё… но какие в России идеи? Всё с иностранной почвы! Ничего оригинального, ничего самородного!
— А природу как он описывал!
— Не люблю я читать описания природы. Тянет, тянет… «Солнце зашло… Птицы запели… Лес шелестит…» Я всегда пропускаю эти прелести. Тургенев хороший писатель, я не отрицаю, но не признаю за ним способности творить чудеса, как о нем кричат. Дал будто толчок к самосознанию, какую-то там политическую совесть в русском народе ущипнул за живое… Не вижу всего этого… Не понимаю…
— А вы читали его «Обломова»? — спросила Зина. — Там он против крепостного права!
— Верно… Но ведь и я же против крепостного права! Так и про меня кричать?
— Попросите его, чтоб он замолчал! Ради бога! — шепнула Марфуша Зине.
Зина удивленно поглядела на наивную, робкую девочку. Глаза провинциалки беспокойно бегали по ландо, с лица на лицо, светились нехорошим чувством и, казалось, искали, на кого бы излить свою ненависть и презрение. Губы ее дрожали от гнева.
— Неприлично, Марфуша! — шепнула Зина. — У вас слезы!
— Говорят также, что он имел большое влияние на развитие нашего общества, — продолжал барон. — Откуда это видно? Не вижу этого влияния, грешный человек. На меня, по крайней мере, он не имел ни малейшего влияния.
Ландо остановилось возле подъезда Брындиных.
(обратно)В Москве на Трубной площади*
Небольшая площадь близ Рождественского монастыря, которую называют Трубной, или просто Трубой; по воскресеньям на ней бывает торг. Копошатся, как раки в решете, сотни тулупов, бекеш, меховых картузов, цилиндров. Слышно разноголосое пение птиц, напоминающее весну. Если светит солнце и на небе нет облаков, то пение и запах сена чувствуются сильнее, и это воспоминание о весне возбуждает мысль и уносит ее далеко-далеко. По одному краю площадки тянется ряд возов. На возах не сено, не капуста, не бобы, а щеглы, чижи, красавки, жаворонки, черные и серые дрозды, синицы, снегири. Всё это прыгает в плохих, самоделковых клетках, поглядывает с завистью на свободных воробьев и щебечет. Щеглы по пятаку, чижи подороже, остальная же птица имеет самую неопределенную ценность.
— Почем жаворонок?
Продавец и сам не знает, какая цена его жаворонку. Он чешет затылок и запрашивает сколько бог на душу положит — или рубль, или три копейки, смотря по покупателю. Есть и дорогие птицы. На запачканной жердочке сидит полинялый старик-дрозд с ощипанным хвостом. Он солиден, важен и неподвижен, как отставной генерал. На свою неволю он давно уже махнул лапкой и на голубое небо давно уже глядит равнодушно. Должно быть, за это свое равнодушие он и почитается рассудительной птицей. Его нельзя продать дешевле как за сорок копеек. Около птиц толкутся, шлепая по грязи, гимназисты, мастеровые, молодые люди в модных пальто, любители в донельзя поношенных шапках, в подсученных, истрепанных, точно мышами изъеденных брюках. Юнцам и мастеровым продают самок за самцов, молодых за старых… Они мало смыслят в птицах. Зато любителя не обманешь. Любитель издали видит и понимает птицу.
— Положительности нет в этой птице, — говорит любитель, засматривая чижу в рот и считая перья в его хвосте. — Он теперь поет, это верно, но что ж из эстого? И я в компании запою. Нет, ты, брат, мне без компании, брат, запой; запой в одиночку, ежели можешь… Ты подай мне того вон, что сидит и молчит! Тихоню подай! Этот молчит, стало быть, себе на уме…
Между возами с птицей попадаются возы и с другого рода живностью. Тут вы видите зайцев, кроликов, ежей, морских свинок, хорьков. Сидит заяц и с горя солому жует. Морские свинки дрожат от холода, а ежи с любопытством посматривают из-под своих колючек на публику.
— Я где-то читал, — говорит чиновник почтового ведомства, в полинялом пальто, ни к кому не обращаясь и любовно поглядывая на зайца, — я читал, что у какого-то ученого кошка, мышь, кобчик и воробей из одной чашки ели.
— Очень это возможно, господин. Потому кошка битая, и у кобчика, небось, весь хвост повыдерган. Никакой учености тут нет, сударь. У моего кума была кошка, которая, извините, огурцы ела. Недели две полосовал кнутищем, покудова выучил. Заяц, ежели его бить, спички может зажигать. Чему вы удивляетесь? Очень просто! Возьмет в рот спичку и — чирк! Животное то же, что и человек. Человек от битья умней бывает, так и тварь.
В толпе снуют чуйки с петухами и утками под мышкой. Птица всё тощая, голодная. Из клеток высовывают свои некрасивые, облезлые головы цыплята и клюют что-то в грязи. Мальчишки с голубями засматривают вам в лицо и тщатся узнать в вас голубиного любителя.
— Да-с! Говорить вам нечего! — кричит кто-то сердито. — Вы посмотрите, а потом и говорите! Нешто это голубь? Это орел, а не голубь!
Высокий, тонкий человек с бачками и бритыми усами, по наружности лакей, больной и пьяный, продает белую, как снег, болонку. Старуха-болонка плачет.
— Велела вот продать эту пакость, — говорит лакей, презрительно усмехаясь. — Обанкрутилась на старости лет, есть нечего и теперь вот собак да кошек продает. Плачет, целует их в поганые морды, а сама продает от нужды. Ей-богу, факт! Купите, господа! На кофий деньги надобны.
Но никто не смеется. Мальчишка стоит возле и, прищурив один глаз, смотрит на него серьезно, с состраданием.
Интереснее всего рыбный отдел. Душ десять мужиков сидят в ряд. Перед каждым из них ведро, в ведрах же маленький кромешный ад. Там в зеленоватой, мутной воде копошатся карасики, вьюнки, малявки, улитки, лягушки-жерлянки, тритоны. Большие речные жуки с поломанными ногами шныряют по маленькой поверхности, карабкаясь на карасей и перескакивая через лягушек. Лягушки лезут на жуков, тритоны на лягушек. Живуча тварь! Темно-зеленые лини, как более дорогая рыба, пользуются льготой: их держат в особой баночке, где плавать нельзя, но всё же не так тесно…
— Важная рыба карась! Держаный карась, ваше высокоблагородие, чтоб он издох! Его хоть год держи в ведре, а он всё жив! Неделя уж, как поймал я этих самых рыбов. Наловил я их, милостивый государь, в Перерве и оттуда пешком. Караси по две копейки, вьюны по три, а малявки гривенник за десяток, чтоб они издохли! Извольте малявок за пятак. Червячков не прикажете ли?
Продавец лезет в ведро и достает оттуда своими грубыми, жесткими пальцами нежную малявку или карасика, величиной с ноготь. Около ведер разложены лески, крючки, жерлицы, и отливают на солнце пунцовым огнем прудовые червяки.
Около возов с птицей и около ведер с рыбой ходит старец-любитель в меховом картузе, железных очках и калошах, похожих на два броненосца. Это, как его называют здесь, «тип». За душой у него ни копейки, но, несмотря на это, он торгуется, волнуется, пристает к покупателям с советами. За какой-нибудь час он успевает осмотреть всех зайцев, голубей и рыб, осмотреть до тонкостей, определить всем, каждой из этих тварей породу, возраст и цену. Его, как ребенка, интересуют щеглята, карасики и малявки. Заговорите с ним, например, о дроздах, и чудак расскажет вам такое, чего вы не найдете ни в одной книге. Расскажет вам с восхищением, страстно и вдобавок еще и в невежестве упрекнет. Про щеглят и снегирей он готов говорить без конца, выпучив глаза и сильно размахивая руками. Здесь на Трубе его можно встретить только в холодное время, летом же он где-то за Москвой перепелов на дудочку ловит и рыбку удит.
А вот и другой «тип», — очень высокий, очень худой господин в темных очках, бритый, в фуражке с кокардой, похожий на подьячего старого времени. Это любитель; он имеет немалый чин, служит учителем в гимназии, и это известно завсегдатаям Трубы, и они относятся к нему с уважением, встречают его поклонами и даже придумали для него особенный титул: «ваше местоимение». Под Сухаревой он роется в книгах, а на Трубе ищет хороших голубей.
— Пожалуйте! — кричат его голубятники. — Господин учитель, ваше местоимение, обратите ваше внимание на турманов! Ваше местоимение!
— Ваше местоимение! — кричат ему с разных сторон.
— Ваше местоимение! — повторяет где-то на бульваре мальчишка.
А «его местоимение», очевидно, давно уже привыкший к этому своему титулу, серьезный, строгий, берет в обе руки голубя и, подняв его выше головы, начинает рассматривать и при этом хмурится и становится еще более серьезным, как заговорщик.
И Труба, этот небольшой кусочек Москвы, где животных любят так нежно и где их так мучают, живет своей маленькой жизнью, шумит и волнуется, и тем деловым и богомольным людям, которые проходят мимо по бульвару, непонятно, зачем собралась эта толпа людей, эта пестрая смесь шапок, картузов и цилиндров, о чем тут говорят, чем торгуют.
(обратно)Новая болезнь и старое средство*
Сечение по своим симптомам аналогично перемежающейся лихорадке (febris intermittens). Перед сечением больной бледен от спазма периферических сосудов. Зрачки его расширены. Нужно вообще заметить, что вид начальства раздражает вазомоторный центр и nervus oculomotorius. Больной чувствует озноб. Во время сечения мы замечаем повышение температуры и гиперестезию кожи. После сечения больной чувствует жар. Он весь в поту.
На основании этой аналогии я советую учащимся перед уходом в училище принимать хинин.
(обратно)Толстый и тонкий*
На вокзале Николаевской железной дороги встретились два приятеля: один толстый, другой тонкий. Толстый только что пообедал на вокзале, и губы его, подернутые маслом, лоснились, как спелые вишни. Пахло от него хересом и флер-д’оранжем. Тонкий же только что вышел из вагона и был навьючен чемоданами, узлами и картонками. Пахло от него ветчиной и кофейной гущей. Из-за его спины выглядывала худенькая женщина с длинным подбородком — его жена, и высокий гимназист с прищуренным глазом — его сын.
— Порфирий! — воскликнул толстый, увидев тонкого. — Ты ли это? Голубчик мой! Сколько зим, сколько лет!
— Батюшки! — изумился тонкий. — Миша! Друг детства! Откуда ты взялся?
Приятели троекратно облобызались и устремили друг на друга глаза, полные слез. Оба были приятно ошеломлены.
— Милый мой! — начал тонкий после лобызания. — Вот не ожидал! Вот сюрприз! Ну, да погляди же на меня хорошенько! Такой же красавец, как и был! Такой же душонок и щеголь! Ах ты, господи! Ну, что же ты? Богат? Женат? Я уже женат, как видишь… Это вот моя жена, Луиза, урожденная Ванценбах… лютеранка… А это сын мой, Нафанаил, ученик III класса. Это, Нафаня, друг моего детства! В гимназии вместе учились!
Нафанаил немного подумал и снял шапку.
— В гимназии вместе учились! — продолжал тонкий. — Помнишь, как тебя дразнили? Тебя дразнили Геростратом за то, что ты казенную книжку папироской прожег, а меня Эфиальтом* за то, что я ябедничать любил. Хо-хо… Детьми были! Не бойся, Нафаня! Подойди к нему поближе… А это моя жена, урожденная Ванценбах… лютеранка.
Нафанаил немного подумал и спрятался за спину отца.
— Ну, как живешь, друг? — спросил толстый, восторженно глядя на друга. — Служишь где? Дослужился?
— Служу, милый мой! Коллежским асессором уже второй год и Станислава имею. Жалованье плохое… ну, да бог с ним! Жена уроки музыки дает, я портсигары приватно из дерева делаю. Отличные портсигары! По рублю за штуку продаю. Если кто берет десять штук и более, тому, понимаешь, уступка. Пробавляемся кое-как. Служил, знаешь, в департаменте, а теперь сюда переведен столоначальником по тому же ведомству… Здесь буду служить. Ну, а ты как? Небось, уже статский? А?
— Нет, милый мой, поднимай повыше, — сказал толстый. — Я уже до тайного дослужился… Две звезды имею.
Тонкий вдруг побледнел, окаменел, но скоро лицо его искривилось во все стороны широчайшей улыбкой; казалось, что от лица и глаз его посыпались искры. Сам он съежился, сгорбился, сузился… Его чемоданы, узлы и картонки съежились, поморщились… Длинный подбородок жены стал еще длиннее; Нафанаил вытянулся во фрунт и застегнул все пуговки своего мундира…
— Я, ваше превосходительство… Очень приятно-с! Друг, можно сказать, детства и вдруг вышли в такие вельможи-с! Хи-хи-с.
— Ну, полно! — поморщился толстый. — Для чего этот тон? Мы с тобой друзья детства — и к чему тут это чинопочитание!
— Помилуйте… Что вы-с… — захихикал тонкий, еще более съеживаясь. — Милостивое внимание вашего превосходительства… вроде как бы живительной влаги… Это вот, ваше превосходительство, сын мой Нафанаил… жена Луиза, лютеранка, некоторым образом…
Толстый хотел было возразить что-то, но на лице у тонкого было написано столько благоговения, сладости и почтительной кислоты, что тайного советника стошнило. Он отвернулся от тонкого и подал ему на прощанье руку.
Тонкий пожал три пальца, поклонился всем туловищем и захихикал, как китаец: «хи-хи-хи». Жена улыбнулась. Нафанаил шаркнул ногой и уронил фуражку. Все трое были приятно ошеломлены.
(обратно)Признательный немец*
Я знал одного признательного немца.
Впервые встретил я его во Франкфурте-на-Майне. Он ходил по Dummstrasse[27] и водил обезьянку. На лице его были написаны голод, любовь к отечеству и покорность судьбе. Он жалобно пел, а обезьянка плясала. Я сжалился над ними и дал им талер.
— О, благодарю вас! — сказал мне немец, прижимая к груди талер. — Благодарю! До могилы я не забуду вашего подаяния!
Во второй раз встретил я этого немца во Франкфурте-на-Одере. Он ходил по Eselstrasse[28] и продавал жареные сосиски. Завидев меня, он прослезился, поднял глаза к небу и сказал:
— О, благодарю вас, мейн герр! Я никогда не забуду того талера, которым вы спасли от голода меня и мою покойную обезьяну! Ваш талер тогда дал нам комфорт!
В третий раз встретил я его в России (in diesem Russland). Здесь он преподавал русским детям древние языки, тригонометрию и теорию музыки. В свободное от уроков время он искал себе место директора железной дороги.
— О, я помню вас! — сказал он мне, пожимая мою руку. — Все русские люди нехорошие люди, но вы исключение. Я не люблю русских, но о вас и вашем талере буду помнить до могилы!
Больше мы с ним не встречались.
(обратно)Мои остроты и изречения*
Если я побил, положим, живущего со мной в одном квартале г. Крокодилова в то время, когда он брал с моего домохозяина взятку, то не значит ли это, что я побил его при исполнении им его служебных обязанностей?
* * *
У мужика Петра было 5 гусей, 6 уток и 10 кур. На свои именины он зарезал одного гуся и двух кур. Спрашивается, что у него осталось, если известно, что во время обеда заходила к нему одна личность, и что это за личность? Ответ: остались одни только перья.
* * *
Принц Гамлет сказал: «Если обращаться с каждым по заслугам, кто же избавится от пощечины?»* Неужели это может относиться и к театральным рецензентам?
* * *
В России больше охотнорядских мясников, чем мяса.
* * *
Превышение власти и административный произвол дантиста заключаются в вырывании здорового зуба рядом с больным. Это сказал один околоточный, читая «Логику» Милля*.
* * *
Очковая змея — и либералка и в то же время консерва́торка. Либерализм ее заключается в ношении очков. Все же остальные ее качества следует отнести к консерватизму.
(обратно)Список экспонентов, удостоенных чугунных медалей…*
Список экспонентов, удостоенных чугунных медалей по русскому отделу на выставке в Амстердаме
1) Нижегородская ярмарочная комиссия* и томская публика — за анонимные письма.
2) Полковник Грачев в Симферополе — за бесподобное направление и сочинительство*.
3) Город Москва — за купца Кукина*.
4) Уездный помпадур Шлитер в Оренбурге — за приготовление и учет фальшивых векселей*.
5) Коллежские регистраторы в Петербурге — за эластические спинные хребты.
6) Консисторские чиновники — за цыганскую совесть.
7) Администрация театра в Ростове-на-Дону — за отменное тупоумие, выразившееся особенно рельефно в постановке живых картин в день тургеневских похорон*.
8) Управа в Могилеве-на-Днестре — за подложные свидетельства*.
9) Русский целковый — за сжимаемость при всех температурах.
10) Русские просители — за замазку.
11) Кондуктора К.-Х.-А.* и Донецкой каменноугольной ж.д. — за зайцев.
12) Педагоги в Твери — за отменную нетенденциозность в оценке таких плохих писателей, как какой-нибудь Тургенев.
13) Г-н Пчельников и его фактотум* жидок Гершельман в Московской дирекции театров — за распорядительность, тактичность вообще и за циркуляр к балеринам в особенности.
14) Я — за то, что я
Человек без селезенки.
(обратно)Дочь Коммерции советника*
(Роман)
Коммерции советник Механизмов имеет трех дочерей: Зину, Машу и Сашу. За каждой из них положено в банк по сто тысяч приданого. Впрочем, не в этом дело.
Саша и Маша особенного из себя ничего не представляют. Они отлично пляшут, вышивают, вспыхивают, мечтают, любят поручиков — и больше, кажется, ничего; но зато старшая, Зина, принадлежит к числу редких, недюжинных натур. Легче встретиться на жизненном пути с непьющим репортером, чем с этакой натурой.
Были именины Саши. Мы, соседи-помещики, нарядились в лучшие одежды, запрягли лучших коней и поехали с поздравлениями в имение Механизмова. Лет 20 тому назад на месте этого имения стоял кабак. Кабак рос, рос и вырос в прекраснейшую ферму с садами, прудами, фонтанами и бульдогообразными лакеями. Приехав и поздравив, мы тотчас же сели обедать. Подали суп жульен. Перед жульен мы выпили по две рюмки и закусили.
— Не выпить ли нам по третьей? — предложил Механизмов. — Бог троицу любит и тово… трес хвациунт консылиум[29]…Латынь, братцы! Яшка, подай-ка, свиная твоя морда, с того стола селедочку! Господа дворяне, ну-кася! Без церемониев! Митрий Петрыч, же ву при але машер![30]
— Ах, папа! — заметила Маша. — Зачем же ты пристаешь? Ты точно купец Водянкин… с угощениями.
— Знаю, что говорю! Твое дело — зась! Это я только при гостях позволяю им на себя тыкать! — зашептал мне через стол Механизмов. — Для цивилизации! А без гостей — ни-ни!
— Из хама не выйдет пана! — вздохнул сидевший рядом со мной генерал с лентой. — Свиньей был, свинья и есть…
Механизмов мало-помалу напился, вспомнил свою кабацкую старину и задурил. Он икал, брался говорить по-французски, сквернословил…
— Перестань! — заметил ему его друг генерал. — Всякому безобразию есть свое приличие! Какой же ты… братец!
— Безображу не за твои деньги, а за свои! Сам «Льва и Солнца» имею! Господа, а сколько вы с меня взяли, чтоб меня в почетные мировые произвести?
На одном конце стола отчаянно заворочался и треснул чей-то стул. Мы поглядели по направлению треска и увидели два больших черных глаза, метавших молнии и искры на Механизмова. Эти два глаза принадлежали Зине, высокой, стройной брюнетке, затянутой во всё черное. По ее бледному лицу бегали розовые пятна, а в каждом пятне сидела злоба.
— Прошу тебя, отец, перестать! — сказала Зина. — Я не люблю шутов!
Механизмов робко взглянул на ее глаза, завертелся, выпил залпом стакан коньяку и умолк.
«Эге! — подумали мы. — Эта не Саша и не Маша… С этой нельзя шутить… Натура недюжинная… Тово-с…»
И я залюбовался разгневанным лицом. Признаюсь, я и ранее был неравнодушен к Зине. Она прекрасна, глядит, как Диана, и вечно молчит. А вечно молчащая дева, сами знаете, носит в себе столько тайн! Это бутыль с неизвестного рода жидкостью — выпил бы, да боишься: а вдруг яд?
После обеда я подошел к Зине и, чтобы показать ей, что есть люди, которые понимают ее, заговорил о среде заедающей, о правде, труде, женской свободе. С женской свободы под влиянием «шофе» переехал я на паспортную систему, денежный курс, женские курсы… Я говорил с жаром, с дрожью, раз десять порывался схватить ее за руку… Говорил, впрочем, искренно и складно, точно передовую статью вслух читал. А она слушала и глядела на меня. Глаза ее становились всё шире и круглее… Щеки заметно побледнели под влиянием моей речи… Наконец в глазах ее почему-то мелькнул испуг.
— Неужели вы говорите всё это искренно? — спросила она, почему-то млея от ужаса.
— Я… не искренно?!.. Вам? Мне… Да клянусь вам, что…
Она схватила меня за руку, нагнулась к моему лицу и, задыхаясь, прошептала:
— Будьте сегодня в десять часов вечера в мраморной беседке… Умоляю вас! Я вам всё скажу! Всё!
Прошептала и скрылась за дверью. Я замер…
«Полюбила! — подумал я, заглядывая на себя в зеркало. — Не устояла!»
Я — к чему скромничать? — обаятельный мужчина. Рослый, статный, с черной, как смоль, бородой… В голубых глазах и на смуглом лице выражение пережитого страдания. В каждом жесте сквозит разочарованность. И, кроме всего этого, я богат. (Состояние нажил я литературой.)
В десятом часу я уже сидел в беседке и умирал от ожидания. В моей голове и в груди шумела буря. В сладкой, мучительной истоме закрывал я глаза и во мраке своих орбит видел Зину… Рядом с ней во мраке торчала почему-то и одна ехидная картинка, виденная мной в каком-то журнале: высокая рожь, дамская шляпка, зонт, палка, цилиндр… Да не осудит читатель меня за эту картинку! Не у одного только меня такая клубничная душа. Я знаю одного поэта-лирика, который облизывается и причмокивает губами всякий раз, когда к нему, вдохновенному, является муза… Ежели поэт позволяет себе такие вольности, то нам, прозаикам, и подавно простительно.
Ровно в десять у дверей беседки показалась освещенная луной Зина. Я подскочил к ней и схватил ее за руку.
— Дорогая моя… — забормотал я. — Я люблю вас… Люблю бешено, страстно!
— Позвольте! — сказала она, садясь и медленно поворачивая ко мне свое бледное лицо. — Отстраните (sic!) вашу руку!
Это было сказано так торжественно, что быстро один за другим повыскакивали из моей головы и цилиндр, и палка, и женская шляпка, и рожь…
— Вы говорите, что вы меня любите… Вы тоже мне нравитесь. Я могу выйти за вас замуж, но прежде всего я должна спасти вас, несчастный. Вы на краю погибели. Ваши убеждения губят вас! Неужели, несчастный, вы этого не видите? И неужели вы смеете думать, что я соединю свою судьбу с человеком, у которого такие убеждения? Нет! Вы мне нравитесь, но я сумею пересилить свое чувство. Спасайтесь же, пока не поздно! На первый раз хоть вот… вот это прочтите! Прочтите и вы увидите, как вы заблуждаетесь!
И она сунула в мою руку какую-то бумагу. Я зажег спичку и в своей бедной руке увидел прошлогодний нумер «Гражданина». Минуту я сидел молча, неподвижно, потом вскочил и схватил себя за голову.
— Батюшки! — воскликнул я. — Одна во всем Лохмотьевском уезде недюжинная натура, да и та… и та дура! Боже мой!
Через десять минут я уже сидел в бричке и катил к себе домой.
(обратно)Опекун*
Я поборол свою робость и вошел в кабинет генерала Шмыгалова. Генерал сидел у стола и раскладывал пасьянс «каприз де дам».
— Что вам, милый мой? — спросил он меня ласково, кивнув на кресло.
— Я к вам, ваше — ство, по делу, — сказал я, садясь и неизвестно для чего застегивая свой сюртук. — Я к вам по делу, имеющему частный характер, не служебный. Я пришел просить у вас руки вашей племянницы Варвары Максимовны.
Генерал медленно повернул ко мне свое лицо, со вниманием поглядел на меня и уронил на пол карты. Он долго шевелил губами и выговорил:
— Вы… тово?.. Вы рехнулись, что ли? Вы рехнулись, я вас спрашиваю? Вы… осмеливаетесь? — прошипел он, багровея. — Вы осмеливаетесь, мальчишка, молокосос?! Осмеливаетесь шутить… милостисдарь…
И, топнув ногою, Шмыгалов крикнул так громко, что даже дрогнули стекла.
— Встать!! Вы забываете, с кем вы говорите! Извольте-с убираться и не показываться мне на глаза! Извольте выйти! Вон-с!
— Но я хочу жениться, ваше превосходительство!
— Можете жениться в другом месте, но не у меня! Вы еще не доросли до моей племянницы, милостисдарь! Вы ей не пара! Ни ваше состояние, ни ваше общественное положение не дают вам права предлагать мне такое… предложение! С вашей стороны это дерзость! Прощаю вам, мальчишка, и прошу вас больше меня не беспокоить!
— Гм… Вы уже пятерых женихов спровадили таким образом… Ну, шестого вам не удастся спровадить. Я знаю причину этих отказов. Вот что, ваше превосходительство… Даю вам честное и благородное слово, что, женившись на Варе, я не потребую от вас ни копейки из тех денег, которые вы растратили, будучи Вариным опекуном. Даю честное слово!
— Повторите, что вы сказали! — проговорил генерал каким-то неестественно-трескучим голосом, нагнувшись и подбежав ко мне рысцой, как раздразненный гусак. — Повтори! Повтори, негодяй!
Я повторил. Генерал побагровел и забегал.
— Этого еще недоставало! — задребезжал он, бегая и поднимая вверх руки. — Недоставало еще, чтобы мои подчиненные наносили мне страшные, несмываемые оскорбления в моем же доме! Боже мой, до чего я дожил! Мне… дурно!
— Но уверяю вас, ваше превосходительство! Не только не потребую, но даже ни единым словом не намекну вам на то, что вы по слабости характера растратили Варины деньги! И Варе прикажу молчать! Честное слово! Чего же вы кипятитесь, комод ломаете? Не отдам под суд!
— Какой-нибудь мальчишка, молокосос… нищий… осмеливается говорить прямо в лицо такие мерзости! Извольте выйти, молодой человек, и помните, что я этого никогда не забуду! Вы меня страшно оскорбили! Впрочем… прощаю вам! Вы сказали эту дерзость по легкомыслию своему, по глупости… Ах, не извольте трогать у меня на столе своими пальцами, чёрт вас возьми! Не трогайте карт! Уходите, я занят!
— Я ничего не трогаю! Что вы выдумываете? Я даю честное слово, генерал! Даю слово, что даже не намекну! И Варе запрещу требовать с вас! Что же вам еще нужно? Чудак вы, ей-богу… Растратили вы десять тысяч, оставленные ее отцом… Ну что ж? Десять тысяч не велики деньги… Можно простить…
— Я ничего не растрачивал… да-с! Я вам сейчас докажу! Сейчас вот… Я докажу!
Генерал дрожащими руками выдвинул из стола ящик, вынул оттуда кипу каких-то бумаг и, красный как рак, начал перелистывать. Перелистывал он долго, медленно и без цели. Бедняга был страшно взволнован и сконфужен. К его счастью, в кабинет вошел лакей и доложил о поданном обеде.
— Хорошо… После обеда я вам докажу! — забормотал генерал, пряча бумаги. — Раз навсегда… во избежание сплетни… Дайте только пообедать… увидите! Какой-нибудь, прости господи… молокосос, шаромыжка… молоко на губах не обсохло… Идите обедать! Я после обеда… вам…
Мы пошли обедать. Во время первого и второго блюда генерал был сердит и нахмурен. Он с остервенением солил себе суп, рычал, как отдаленный гром, и громко двигался на стуле.
— Чего ты сегодня такой злой? — заметила ему Варя. — Не нравишься ты мне, когда ты такой… право…
— Как ты смеешь говорить, что я тебе не нравлюсь! — окрысился на нее генерал.
Во время третьего и последнего блюда Шмыгалов глубоко вздохнул и замигал глазами. По лицу его разлилось выражение пришибленности, забитости… Он стал казаться таким несчастным, обиженным! На лбу и на носу его выступил крупный пот. После обеда генерал пригласил меня к себе в кабинет.
— Голубчик мой! — начал он, не глядя на меня и теребя в руках мою фалду. — Берите Варю, я согласен… Вы хороший, добрый человек… Согласен… Благословляю вас… ее и тебя, мои ангелы… Ты меня извини, что до обеда я бранил тебя здесь… сердился… Это ведь я любя… отечески… Но только тово… я истратил не десять тысяч, а тово… шестнадцать… Я и те, что тетка Наталья ей оставила, ухнул… проиграл… Давай на радостях… шампанского стебанем… Простил?
И генерал уставил на меня свои серые, готовые заплакать и в то же время ликующие глаза. Я простил ему еще шесть тысяч и женился на Варе.
Хорошие рассказы всегда оканчиваются свадьбой!
(обратно)Знамение времени*
В гостиной со светло-голубыми обоями объяснялись в любви.
Молодой человек приятной наружности стоял, преклонив одно колено, перед молодой девушкой и клялся.
— Жить я без вас не могу, моя дорогая! Клянусь вам! — задыхался он. — С тех пор, как я увидел вас, я потерял покой! Дорогая моя, скажите мне… скажите… Да или нет?
Девушка открыла ротик, чтобы ответить, но в это время в дверях показалась голова ее брата.
— Лили, на минутку! — сказал брат.
— Чего тебе? — спросила Лили, выйдя к брату.
— Извини, моя дорогая, что я помешал вам, но… я брат, и моя священная обязанность предостеречь тебя… Будь поосторожнее с этим господином. Держи язык за зубами… Поберегись сказать что-нибудь лишнее.
— Но он делает мне предложение!
— Это твое дело… Объясняйся с ним, выходи за него замуж, но ради бога будь осторожна… Я знаю этого субъекта… Большой руки подлец! Сейчас же донесет, ежели что…
— Merci, Макс… А я и не знала!
Девушка воротилась в гостиную. Она ответила молодому человеку «да», целовалась с ним, обнималась, клялась, но была осторожна: говорила только о любви.
(обратно)В почтовом отделении*
Хоронили мы как-то на днях молоденькую жену нашего старого почтмейстера Сладкоперцева. Закопавши красавицу, мы, по обычаю дедов и отцов, отправились в почтовое отделение «помянуть».
Когда были поданы блины, старик-вдовец горько заплакал и сказал:
— Блины такие же румяненькие, как и покойница. Такие же красавцы! Точь-в-точь!
— Да, — согласились поминавшие, — она у вас действительно была красавица… Женщина первый сорт!
— Да-с… Все удивлялись, на нее глядючи… Но, господа, любил я ее не за красоту и не за добрый нрав. Эти два качества присущественны всей женской природе и встречаются довольно часто в подлунном мире. Я ее любил за иное качество души. А именно-с: любил я ее, покойницу, дай бог ей царство небесное, за то, что она, при бойкости и игривости своего характера, мужу своему была верна. Она была верна мне, несмотря на то, что ей было только двадцать, а мне скоро уж шестьдесят стукнет! Она была верна мне, старику!
Дьякон, трапезовавший с нами, красноречивым мычанием и кашлем выразил свое сомнение.
— Вы не верите, стало быть? — обратился к нему вдовец.
— Не то что не верю, — смутился дьякон, — а так… Молодые жены нынче уж слишком тово… рандеву, соус провансаль…
— Вы сомневаетесь, а я вам докажу-с! Я в ней поддерживал ее верность разными способами, так сказать, стратегического свойства, вроде как бы фортификации. При моем поведении и хитром характере жена моя не могла изменить мне ни в каком случае. Я хитрость употреблял для охранения своего супружеского ложа. Слова такие знаю, вроде как бы пароль. Скажу эти самые слова и — баста, могу спать в спокойствии насчет верности…
— Какие же это слова?
— Самые простые. Я распространял по городу нехороший слух. Вам этот слух доподлинно известен. Я говорил всякому: «Жена моя Алена находится в сожительстве с нашим полицеймейстером Иваном Алексеичем Залихватским». Этих слов было достаточно. Ни один человек не осмеливался ухаживать за Аленой, ибо боялся полицеймейстерского гнева. Как, бывало, увидят ее, так и бегут прочь, чтоб Залихватский чего не подумал. Хе-хе-хе. Ведь с этим усастым идолом свяжись, так потом не рад будешь, пять протоколов составит насчет санитарного состояния. К примеру, увидит твою кошку на улице и составит протокол, как будто это бродячий скот.
— Так жена ваша, значит, не жила с Иваном Алексеичем? — удивились мы протяжно.
— Нет-с, это моя хитрость… Хе-хе… Что, ловко надувал я вас, молодежь? То-то вот оно и есть.
Прошло минуты три в молчании. Мы сидели и молчали, и нам было обидно и совестно, что нас так хитро провел этот толстый красноносый старик.
— Ну, бог даст, в другой раз женишься! — проворчал дьякон.
(обратно)Юристка*
Дочь одного европейского министра юстиции, часто помогавшая своему папа́ в составлении всевозможных законопроектов, говорила своему отцу, будучи
18 лет: Запрети, папа́, в своих законах этим негодным женихам приставать к девушкам! Когда они понадобятся, им скажут! Запрети также, кстати, молодым людям жениться ранее 35 лет. Ранние браки отнимают у нас лучших кавалеров!
20 лет: Можно, пожалуй, папа́, позволить жениться и ранее 30 лет. Сделай уж им уступку! Так и быть…
22 лет: Ах да, кстати… Если увидишь министра внутренних дел, то попроси его, чтобы он предписал губернаторам брать с каждого холостяка штраф в размере 30–40 франков в год.
25 лет: Удивляюсь тебе, папа́! Куда девался твой административный гений? Ты словно не замечаешь, что вокруг тебя делается! Как можно скорей проектируй штраф с холостяков в размере 1 500 франков с каждого ежегодно! Надо же, наконец, принять меры!
28 лет: Ты, папа́, просто глуп… Ну, можно ли вести так дело? В уложении о наказаниях у тебя нет ни одной статьи против этих негодных холостяков! Назначь ежегодно поголовный штраф по крайней мере в 10 000 франков! К этому штрафу прибавь месяца 2 тюремного заключения с лишением некоторых особенных прав и преимуществ, и ты скоро не увидишь в нашем государстве ни одной засидевшейся девушки!
30 лет: Сто тысяч франков! Наконец двести тысяч! Скорее! Год тюремного заключения… 30 горячих! А если вам не будут повиноваться, никто не помешает вам потребовать роту солдат! Скоррее… вварвар!!
35 лет: Смертная казнь через расстреляние! Умоляю, отец! Неужели ты не видишь, что я… готова повыцарапать всем глаза? Смертная казнь… Нет… пожизненное одиночное тюремное заключение! Это посильней будет! Да пиши же поскорей…
40 лет: Папочка… милый… ангел… Сходи к министру финансов и попроси его ассигновать сумму для выдачи ежегодных премий холостякам, намеревающимся жениться… Сходи, милый! Будь так добр! И запрети кстати молодым людям жениться на девушках, не достигших 35-40-летнего возраста… Папочка, голубчик!
(обратно)Из дневника одной девицы*
13-го октября. Наконец-то и на моей улице праздник! Гляжу и не верю своим глазам. Перед моими окнами взад и вперед ходит высокий, статный брюнет с глубокими черными глазами. Усы — прелесть! Ходит уже пятый день, от раннего утра до поздней ночи, и всё на наши окна смотрит. Делаю вид, что не обращаю внимания.
15-го. Сегодня с самого утра проливной дождь, а он, бедняжка, ходит. В награду сделала ему глазки и послала воздушный поцелуй. Ответил обворожительной улыбкой. Кто он? Сестра Варя говорит, что он в нее влюблен и что ради нее мокнет на дожде. Как она неразвита! Ну, может ли брюнет любить брюнетку? Мама велела нам получше одеваться и сидеть у окон. «Может быть, он жулик какой-нибудь, а может быть, и порядочный господин», — сказала она. Жулик… quel[31]…Глупы вы, мамаша!
16-го. Варя говорит, что я заела ее жизнь. Виновата я, что он любит меня, а не ее! Нечаянно уронила ему на тротуар записочку. О, коварщик! Написал у себя мелом на рукаве: «После». А потом ходил, ходил и написал на воротах vis-à-vis: «Я не прочь, только после». Написал мелом и быстро стер. Отчего у меня сердце так бьется?
17-го. Варя ударила меня локтем в грудь. Подлая, мерзкая завистница! Сегодня он остановил городового и долго говорил ему что-то, показывая на наши окна. Интригу затевает! Подкупает, должно быть… Тираны и деспоты вы, мужчины, но как вы хитры и прекрасны!
18-го. Сегодня, после долгого отсутствия, приехал ночью брат Сережа. Не успел он лечь в постель, как его потребовали в квартал.
19-го. Гадина! Мерзость! Оказывается, что он все эти двенадцать дней выслеживал брата Сережу, который растратил чьи-то деньги и скрылся.
Сегодня он написал на воротах: «Я свободен и могу». Скотина… Показала ему язык.
(обратно)В море*
(Рассказ матроса)
Видны были только тускнеющие огни оставленной гавани да черное, как тушь, небо. Дул холодный, сырой ветер. Мы чувствовали над собой тяжелые тучи, чувствовали их желание разразиться дождем, и нам было душно, несмотря на ветер и холод.
Мы, матросы, столпившись у себя в кубрике, бросали жеребий. Раздавался громкий, пьяный смех нашей братии, слышались прибаутки, кто-то для потехи пел петухом.
Мелкая дрожь пробегала у меня от затылка до самых пят, точно в моем затылке была дыра, из которой сыпалась вниз по голому телу мелкая холодная дробь. Дрожал я и от холода и от других причин, о которых хочу здесь рассказать.
Человек, по моему мнению, вообще гадок, а матрос, признаться, бывает иногда гаже всего на свете, гаже самого скверного животного, которое все-таки имеет оправдание, так как подчиняется инстинкту. Может быть, я и ошибаюсь, так как жизни не знаю, но мне кажется, все-таки у матроса больше поводов ненавидеть и бранить себя, чем у кого-либо другого. Человеку, который каждую минуту может сорваться с мачты, скрыться навсегда под волной, который знает бога, только когда утопает или летит вниз головой, нет нужды ни до чего, и ничего ему на суше не жаль. Мы пьем много водки, мы развратничаем, потому что не знаем, кому и для чего нужна в море добродетель.
Но буду, однако, продолжать.
Мы бросали жеребий. Нас всех, не занятых, отбывших свою вахту, было двадцать два. Из этого числа только двоим могло выпасть на долю счастье насладиться редким спектаклем. Дело в том, что «каюта для новобрачных», которая была у нас на пароходе, в описываемую ночь имела пассажиров, а в стенах этой каюты было только два отверстия, которыми мы могли распорядиться. Одно отверстие выпилил я сам тонкой пилкой, пробуравив предварительно стену штопором, другое же вырезал ножом один мой товарищ, и оба мы работали больше недели.
— Одно отверстие досталось тебе!
— Кому?
Указали на меня.
— Другое кому?
— Твоему отцу!
Мой отец, старый, горбатый матрос, с лицом, похожим на печеное яблоко, подошел ко мне и хлопнул меня по плечу.
— Сегодня, мальчишка, мы с тобой счастливы, — сказал он мне. — Слышишь, мальчишка? Счастье в одно время выпало тебе и мне. Это что-нибудь да значит.
Он нетерпеливо спросил, который час. Было только одиннадцать.
Я вышел из кубрика, закурил трубку и стал глядеть на море. Было темно, но, надо полагать, и в глазах моих отражалось то, что происходило в душе, так как на черном фоне ночи я различал образы, я видел то, чего так недоставало в моей тогда еще молодой, но уже сгубленной жизни…
В двенадцать я прошелся мимо общей каюты и заглянул в дверь. Новобрачный, молодой пастор с красивой белокурой головой, сидел за столом и держал в руках Евангелие. Он объяснял что-то высокой, худой англичанке. Новобрачная, молодая, стройная, очень красивая, сидела рядом с мужем и не отрывала своих голубых глаз от его белокурой головы. По каюте из угла в угол ходил банкир, высокий, полный старик-англичанин с рыжим отталкивающим лицом. Это был муж пожилой дамы, с которой беседовал новобрачный.
«Пасторы имеют привычку беседовать по целым часам! — подумал я. — Он не кончит до утра!»
В час подошел ко мне отец и, дернув меня за рукав, сказал:
— Пора! Они вышли из общей каюты.
Я мигом слетел вниз по крутой лестнице и направился к знакомой стене. Между этой стеной и стеной корабля был промежуток, полный сажи, воды, крыс. Скоро я услышал тяжелые шаги старика-отца. Он спотыкался о кули, ящики с керосином и бранился.
Я нащупал свое отверстие и вынул из него четырехугольный кусок дерева, который я так долго выпиливал. И я увидел тонкую, прозрачную кисею, сквозь которую пробивался ко мне мягкий, розовый свет. И вместе со светом до моего горячего лица коснулся удушающий, в высшей степени приятный запах; это был, должно быть, запах аристократической спальной. Чтобы увидеть спальную, нужно было раздвинуть кисею двумя пальцами, что я и поспешил сделать.
Я увидел бронзу, бархат, кружева. И всё было залито розовым светом. В полутора саженях от моего лица стояла кровать.
— Пусти меня к твоему отверстию, — сказал отец. нетерпеливо толкая меня в бок. — В твое лучше видно!
Я молчал.
— У тебя, мальчишка, глаза сильнее моих, и для тебя решительно всё равно, глядеть издали или вблизи!
— Тише! — сказал я. — Не шуми, нас могут услышать!
Новобрачная сидела на краю кровати, свесив свои маленькие ноги на мех. Она глядела в землю. Перед ней стоял ее муж, молодой пастор. Он говорил ей что-то, а что именно — не знаю. Шум парохода мешал мне слышать. Пастор говорил горячо, жестикулируя, сверкая глазами. Она слушала и отрицательно качала головой…
— Чёррт, меня укусила крыса! — проворчал отец.
Я плотнее прижал грудь к стене, как бы боясь, чтобы не выскочило сердце. Голова моя горела.
Говорили новобрачные долго. Пастор, наконец, опустился на колени и, протягивая к ней руки, стал ее умолять. Она отрицательно покачала головой. Тогда он вскочил и заходил по каюте. По выражению его лица и по движению рук я догадался, что он угрожал.
Его молодая жена поднялась, медленно пошла к стене, где я стоял, и остановилась у самого моего отверстия. Она стояла неподвижно и думала, а я пожирал глазами ее лицо. Мне казалось, что она страдает, что она борется с собой, колеблется, и в то же время черты ее выражали гнев. Я ничего не понимал.
Вероятно, минут пять мы простояли так лицом к лицу, потом она отошла и, остановившись среди каюты, кивнула своему пастору — в знак согласия, должно быть. Тот радостно улыбнулся, поцеловал у нее руку и вышел из спальной.
Через три минуты дверь отворилась и в спальную вошел пастор, а вслед за ним высокий, полный англичанин, о котором я говорил выше. Англичанин подошел к кровати и спросил о чем-то у красавицы. Та, бледная, не глядя на него, утвердительно кивнула головой.
Англичанин-банкир вынул из кармана какую-то пачку, быть может, пачку банковых билетов, и подал пастору. Тот осмотрел, сосчитал и с поклоном вышел. Старик-англичанин запер за ним дверь…
Я отскочил от стены, как ужаленный. Я испугался. Мне показалось, что ветер разорвал наш пароход на части, что мы идем ко дну.
Старик-отец, этот пьяный, развратный человек, взял меня за руку и сказал:
— Выйдем отсюда! Ты не должен этого видеть! Ты еще мальчик…
Он едва стоял на ногах. Я вынес его по крутой, извилистой лестнице наверх, где уже шел настоящий осенний дождь…
(обратно)Начальник станции*
Начальника станции «Дребезги» зовут Степаном Степанычем, а фамилия его Шептунов. С ним в минувшее лето случился маленький скандал. Этот скандал, несмотря на свою видимую ничтожность, обошелся ему очень дорого. Благодаря ему он потерял свою новую форменную фуражку и веру в человечество.
Летом поезд № 8 проходил через его станцию в 2 часа 40 минут ночи. Время самое неудобное. Вместо того, чтобы спать, Степан Степаныч должен был гулять по платформе и торчать около телеграфистки почти до утра.
Его помощник, Алеутов, каждое лето ездил куда-то жениться, и бедному Шептунову одному приходилось дежурить. Большое свинство со стороны судьбы! Впрочем, он скучал не каждую ночь. Иногда ночью приходила к нему на станцию из соседнего княжеского имения жена управляющего Назара Кузьмича Куцапетова, Марья Ильинична. Дама эта была не особенно молода, не особенно красива, но, господа, в темноте и столб за городового примешь, да, кстати сказать, скука такая же не тетка, как и голод: всё сойдет! Когда Куцапетова приходила на станцию, Шептунов брал ее обыкновенно под руку, спускался с нею вниз с платформы и шел к товарным вагонам. Там, у вагонов, в ожидании поезда № 8, он начинал свои клятвы и продолжал их вплоть до свистка.
Так в одну прекрасную ночь стоял он с Марьей Ильиничной у вагонов и ожидал поезд. По безоблачному небу тихо, чуть заметно плыла луна. Она заливала своим светом станцию, поле, необозримую даль… Кругом было тихо, спокойно… Шептунов держал Марью Ильиничну за талию и молчал. Она тоже молчала. Оба были в каком-то сладостном, тихом, как лунный свет, забытьи…
— Какая чудная погода! — изредка вздыхал Шептунов. — Ты не озябла?
Вместо ответа она теснее и теснее прижималась к его форменному сюртуку.
В 2 часа 20 минут начальник станции поглядел на часы и сказал:
— Скоро поезд придет… Давай, Маша, глядеть на путь… Кто из нас первый увидит огни поезда, тот, значит, дольше любить будет… Давай глядеть…
Они вперили свой взгляд в глубокую даль. Кое-где на бесконечном пути ласково мигали огоньки. Поезда не было еще видно… Вглядываясь в даль, Шептунов увидел нечто другое… Он увидел две длинные тени, шагавшие через шпалы… Тени двигались прямо к нему и делались всё больше и шире… Одна тень, по-видимому, исходила от человеческой фигуры, другая — от длинной палки, которую держала фигура…
Тень приближалась. Скоро послышалось, что насвистывали из «Мадам Анго»*.
— Не ходить по рельсам! Запрещено… — крикнул Шептунов. — Долой с рельсов!
— Не распоряжайся, сволочь! — послышался ответ.
Обруганный Шептунов рванулся вперед, но в это время Марья Ильинична ухватилась за его фалды.
— Ради бога, Степа! — зашептала она. — Это мой муж! Назарка!
Не успела она это сказать, как Куцапетов стоял уже перед оскорбленным начальником станции. Оскорбленный Шептунов вскрикнул, ударился головой о что-то железное и нырнул под вагон. Выползши на животе из-под вагона, он побежал по полотну. Прыгая через шпалы, спотыкаясь о рельсы, он, как сумасшедший, как собака, которой привязали к хвосту колючую палку, полетел к водокачалке…
«Какая у него, однако… палка!» — думал он, улепетывая.
Добежав до водокачалки, он остановился, чтобы перевести дух, но в это время послышались шаги. Оглянулся он и увидел сзади себя быстро двигавшуюся тень человека с тенью палки. Объятый паническим страхом, он побежал далее.
— Погодите! Постойте! — услышал он за собой голос Куцапетова. — Стойте! Берегитесь! Поезд!
Шептунов поглядел вперед и увидел перед собой поезд с парой страшных, огненных глаз… Волосы его стали дыбом… Сердце застучало и вдруг замерло… Он собрал все свои силы и прыгнул, куда глаза глядят… Секунды четыре он летел в воздухе, потом упал на что-то твердое и покатое и покатился вниз, цепляясь за репейник.
«Насыпь, — подумал он. — Ну, это ничего. Лучше с насыпи скатиться, чем дворянину принять побои от хама».
Через минуту возле его правого уха ступил в лужу большой, тяжеловесный сапог. По спине у него заходили ощупывающие руки…
— Это вы? — услышал он голос Куцапетова. — Вы, Степан Степаныч?
— Пощадите! — простонал Шептунов.
— Что с вами, ангел мой? Чего вы испужались? Это я, Куцапетов! Неужели не узнали? Я бежал за вами, бежал… Кричал, кричал… Чуть было под поезд не попали, ангел мой… Маша, как увидела, что вы побегли, тоже испужалась и на платформе теперь без чувств лежит… Вы, может быть, испужались, что я вас сволочью назвал? Вы не обижайтесь… Я вас за стрелочника принял…
— Ах, не издевайтесь… Если мстить, то мстите поскорей… Я в ваших руках… — простонал Шептунов. — Бейте… увечьте…
— Гм… Что с вами, батюшка? Ведь я к вам по делу шел, благодетель! Я и бежал за вами, чтобы о деле поговорить…
Куцапетов помолчал и продолжал:
— Дело важное-с… Маша моя говорила мне, что вы из-за удовольствия изволите с ней путаться. Я касательно этого ничего-с, потому что мне от Марьи Ильинишны приходится в общем сюжете кукиш с маслом, но ежели рассуждать по справедливости, то соблаговолите со мной договор сделать, потому что я муж, глава все-таки… по писанию. Князь Михайла Дмитрич, когда с ней путались, мне в месяц две четвертные выдавали. А вы сколько пожалуете? Уговор лучше денег. Да вы встаньте-с…
Шептунов поднялся. Чувствуя себя поломанным, исковерканным, он поплелся к насыпи…
— Сколько вы пожалуете? — продолжал Куцапетов. — С вас я четвертную возьму… И потом-с, хотел попросить у вас, нет ли у вас местечка моему племяннику…
Шептунов, ничего не слыша и не видя, кое-как доплелся до станции и повалился в постель. Проснувшись на другой день, он не нашел своей форменной фуражки и одного погона.
Ему и до сих пор совестно.
(обратно)Клевета*
Учитель чистописания Сергей Капитоныч Ахинеев выдавал свою дочку Наталью за учителя истории и географии Ивана Петровича Лошадиных. Свадебное веселье текло как по маслу. В зале пели, играли, плясали. По комнатам, как угорелые, сновали взад и вперед взятые напрокат из клуба лакеи в черных фраках и белых запачканных галстуках. Стоял шум и говор. Учитель математики Тарантулов, француз Падекуа и младший ревизор контрольной палаты Егор Венедиктыч Мзда, сидя рядом на диване, спеша и перебивая друг друга, рассказывали гостям случаи погребения заживо и высказывали свое мнение о спиритизме. Все трое не верили в спиритизм, но допускали, что на этом свете есть много такого, чего никогда не постигнет ум человеческий. В другой комнате учитель словесности Додонский объяснял гостям случаи, когда часовой имеет право стрелять в проходящих. Разговоры были, как видите, страшные, но весьма приятные. В окна со двора засматривали люди, по своему социальному положению не имевшие права войти внутрь.
Ровно в полночь хозяин Ахинеев прошел в кухню поглядеть, всё ли готово к ужину. В кухне от пола до потолка стоял дым, состоявший из гусиных, утиных и многих других запахов. На двух столах были разложены и расставлены в художественном беспорядке атрибуты закусок и выпивок. Около столов суетилась кухарка Марфа, красная баба с двойным перетянутым животом.
— Покажи-ка мне, матушка, осетра! — сказал Ахинеев, потирая руки и облизываясь. — Запах-то какой, миазма какая! Так бы и съел всю кухню! Ну-кася, покажи осетра!
Марфа подошла к одной из скамей и осторожно приподняла засаленный газетный лист. Под этим листом, на огромнейшем блюде, покоился большой заливной осетр, пестревший каперсами, оливками и морковкой. Ахинеев поглядел на осетра и ахнул. Лицо его просияло, глаза подкатились. Он нагнулся и издал губами звук неподмазанного колеса. Постояв немного, он щелкнул от удовольствия пальцами и еще раз чмокнул губами.
— Ба! Звук горячего поцелуя… Ты с кем это здесь целуешься, Марфуша? — послышался голос из соседней комнаты, и в дверях показалась стриженая голова помощника классных наставников, Ванькина. — С кем это ты? А-а-а… очень приятно! С Сергей Капитонычем! Хорош дед, нечего сказать! С женским полонезом тет-а-тет!
— Я вовсе не целуюсь, — сконфузился Ахинеев, — кто это тебе, дураку, сказал? Это я тово… губами чмокнул в отношении… в рассуждении удовольствия… При виде рыбы…
— Рассказывай!
Голова Ванькина широко улыбнулась и скрылась за дверью. Ахинеев покраснел.
«Чёрт знает что! — подумал он. — Пойдет теперь, мерзавец, и насплетничает. На весь город осрамит, скотина…»
Ахинеев робко вошел в залу и искоса поглядел в сторону: где Ванькин? Ванькин стоял около фортепиано и, ухарски изогнувшись, шептал что-то смеявшейся свояченице инспектора.
«Это про меня! — подумал Ахинеев. — Про меня, чтоб его разорвало! А та и верит… и верит! Смеется! Боже ты мой! Нет, так нельзя оставить… нет… Нужно будет сделать, чтоб ему не поверили… Поговорю со всеми с ними, и он же у меня в дураках-сплетниках останется».
Ахинеев почесался и, не переставая конфузиться, подошел к Падекуа.
— Сейчас я в кухне был и насчет ужина распоряжался, — сказал он французу. — Вы, я знаю, рыбу любите, а у меня, батенька, осетр, вво! В два аршина! Хе-хе-хе… Да, кстати… чуть было не забыл… В кухне-то сейчас, с осетром с этим — сущий анекдот! Вхожу я сейчас в кухню и хочу кушанья оглядеть… Гляжу на осетра и от удовольствия… от пикантности губами чмок! А в это время вдруг дурак этот Ванькин входит и говорит… ха-ха-ха… и говорит: «А-а-а… вы целуетесь здесь?» С Марфой-то, с кухаркой! Выдумал же, глупый человек! У бабы ни рожи, ни кожи, на всех зверей похожа, а он… целоваться! Чудак!
— Кто чудак? — спросил подошедший Тарантулов.
— Да вон тот. Ванькин! Вхожу, это, я в кухню… И он рассказал про Ванькина.
— Насмешил, чудак! А по-моему, приятней с барбосом целоваться, чем с Марфой. — прибавил Ахинеев, оглянулся и увидел сзади себя Мзду.
— Мы насчет Ванькина, — сказал он ему. — Чудачина! Входит, это, в кухню, увидел меня рядом с Марфой да и давай штуки разные выдумывать. «Чего, говорит, вы целуетесь?» Спьяна-то ему примерещилось. А я, говорю, скорей с индюком поцелуюсь, чем с Марфой. Да у меня и жена есть, говорю, дурак ты этакий. Насмешил!
— Кто вас насмешил? — спросил подошедший к Ахинееву отец-законоучитель.
— Ванькин. Стою я, знаете, в кухне и на осетра гляжу…
И так далее. Через какие-нибудь полчаса уже все гости знали про историю с осетром и Ванькиным.
«Пусть теперь им рассказывает! — думал Ахинеев, потирая руки. — Пусть! Он начнет рассказывать, а ему сейчас: «Полно тебе, дурак, чепуху городить! Нам всё известно!»
И Ахинеев до того успокоился, что выпил от радости лишних четыре рюмки. Проводив после ужина молодых в спальню, он отправился к себе и уснул, как ни в чем не повинный ребенок, а на другой день он уже не помнил истории с осетром. Но, увы! Человек предполагает, а бог располагает. Злой язык сделал свое злое дело, и не помогла Ахинееву его хитрость! Ровно через неделю, а именно в среду после третьего урока, когда Ахинеев стоял среди учительской и толковал о порочных наклонностях ученика Высекина, к нему подошел директор и отозвал его в сторону.
— Вот что, Сергей Капитоныч, — сказал директор. — Вы извините… Не мое это дело, но все-таки я должен дать понять… Моя обязанность… Видите ли, ходят слухи, что вы живете с этой… с кухаркой… Не мое это дело, но… Живите с ней, целуйтесь… что хотите, только, пожалуйста, не так гласно! Прошу вас! Не забывайте, что вы педагог!
Ахинеев озяб и обомлел. Как ужаленный сразу целым роем и как ошпаренный кипятком, он пошел домой. Шел он домой и ему казалось, что на него весь город глядит, как на вымазанного дегтем… Дома ожидала его новая беда.
— Ты что же это ничего не трескаешь? — спросила его за обедом жена. — О чем задумался? Об амурах думаешь? О Марфушке стосковался? Всё мне, махамет, известно! Открыли глаза люди добрые! У-у-у… вварвар!
И шлеп его по щеке!.. Он встал из-за стола и, не чувствуя под собой земли, без шапки и пальто, побрел к Ванькину. Ванькина он застал дома.
— Подлец ты! — обратился Ахинеев к Ванькину. — За что ты меня перед всем светом в грязи выпачкал? За что ты на меня клевету пустил?
— Какую клевету? Что вы выдумываете!
— А кто насплетничал, будто я с Марфой целовался? Не ты, скажешь? Не ты, разбойник?
Ванькин заморгал и замигал всеми фибрами своего поношенного лица, поднял глаза к образу и проговорил:
— Накажи меня бог! Лопни мои глаза и чтоб я издох, ежели хоть одно слово про вас сказал! Чтоб мне ни дна, ни покрышки! Холеры мало!..
Искренность Ванькина не подлежала сомнению. Очевидно, не он насплетничал.
«Но кто же? Кто? — задумался Ахинеев, перебирая в своей памяти всех своих знакомых и стуча себя по груди. — Кто же?»
— Кто же? — спросим и мы читателя…
(обратно)Сборник для детей*
Предисловие. Милые и дорогие дети! Только тот счастлив в этой жизни, кто честен и справедлив. Мерзавцы и подлецы не могут быть счастливы, а потому будьте честны и справедливы. Не мошенничайте в картах не потому, что за это могут съездить подсвечником, а потому, что это нечестно; почитайте старших не потому, что за непочтение угощают березовой кашей, а потому, что этого требует справедливость. Привожу вам в назидание несколько сказок и повестей…
1. Наказанная скупость. Три приятеля, Иванов, Петров и Смирнов, зашли в трактир пообедать. Иванов и Петров были не скупы, а потому тотчас же потребовали себе по шестидесятикопеечному обеду. Смирнов же, будучи скуп, отказался от обеда. Его спросили о причине отказа.
— Я не люблю трактирных щей, — сказал он. — Да и к тому же у меня в кармане всего-навсего шесть гривен. Надо же и на папиросы себе оставить. Вот что: я скушаю яблоко.
Сказав это, Смирнов потребовал яблоко и стал есть его, с завистью поглядывая на друзей, евших щи и вкусных рябчиков. Но мысль, что он мало потратился, утешала его. Каково же было его удивление, когда на поданном счете прочел он следующее: «2 обеда — 1 р. 20 к.; яблоко — 75 коп.». С этих пор он никогда не скупится и не покупает фруктов в трактирных буфетах.
2. Дурной пример заразителен. Червонец подружился с тестовским рублевым обедом и стал совращать его с пути истины.
— Друг мой! — говорил он рублевому обеду. — Погляди на меня! Я много меньше, но сколь я лучше тебя! Не говоря уже о том сиянии, которое я испускаю из себя, как я дорог! Номинальная моя стоимость равна 5 р. 15 к., а между тем люди дают за меня восемь с хвостиком!
И долго таким образом смущал он рублевый обед. Обед слушал-слушал и наконец совратился. Через несколько времени он говорил русскому кредитному рублю:
— Как жаль мне тебя, несчастный целковый! И как ты смешон! Моя номинальная стоимость равна рублю, а между тем за меня платят теперь в трактирах рубль с четвертаком, ты же… ты! о, стыд! ты дешевле своей стоимости! Ха, ха!
— Друг мой! — кротко заметил ему рубль. — Ты и друг твой, червонец, построили свое величие на моем унижении, и я рад, что мог служить вам!
Рублевому обеду стало стыдно.
3. Примерная неблагодарность. Один благочестивый человек в день своих именин созвал к себе во двор со всего города хромых, слепых, гнойных и убогих и стал угощать их обедом. Угощал он их постными щами, горохом и пирогами с изюмом. «Кушайте во славу божию, братья мои!» — говорил он нищим, упрашивая их есть. Те ели и не благодарили. Пообедав, убогие, хромые, слепые и гнойные наскоро помолились богу и вышли на улицу.
— Ну, что? Как угостил вас благочестивый человек? — обратился к одному из хромых стоявший неподалеку городовой.
Хромой махнул рукой и ничего не ответил. Тогда городовой с тем же вопросом обратился к одному из гнойных.
— Аппетит только испортил! — ответил гнойный, с досадой махнув рукой. — Сегодня нам предстоит еще обедать на похоронах купчихи Ярлыковой!
4. Достойное возмездие. Один злой мальчик имел дурную привычку писать на заборах неприличные слова. Он писал и думал, что не будет за это наказан. Но, дети, ни один злой поступок не проходит без наказания. Однажды, идя мимо забора, злой мальчик взял мел и на самом видном месте написал: «Дурак! Дурак! Дурак!» Проходили мимо забора люди и читали. Прошел Умный, прочел и пошел далее. Прошел Дурак, прочел и отдал злого мальчика под суд за диффамацию.
— Отдаю его под суд не потому, что мне обидно это писанье, — сказал Дурак, — а из принципа!
5. Излишнее усердие. В одной газете завелись черви. Тогда редактор призвал болотных птиц и сказал им: «Клюйте червей!» Птицы стали клевать и склевали не только червей, но и газету, и самого редактора.
6. Ложь до правды стоит. Персидский царь Дарий, умирая, призвал к себе сына своего Артаксеркса и сказал ему:
— Сын мой, я умираю! После моей смерти созови со всей земли мудрецов и предложи им на разрешение эту задачу. Решивших сделай своими министрами.
И, нагнувшись к уху сына, Дарий прошептал ему тайну задачи.
После смерти отца Артаксеркс созвал со всей земли мудрецов и, обратись к ним, сказал:
— Мудрецы! Отец поручил мне дать вам вот эту задачу на разрешение. Кто решит ее, тот будет моим министром.
И Артаксеркс задал мудрецам задачу. Всех мудрецов было пять.
— Но кто же, государь, будет контролировать наши решения? — спросил царя один из мудрецов.
— Никто, — отвечал царь. — Я поверю вашему честному слову. Если вы скажете, что вы решили, я поверю, не проверяя вас.
Мудрецы сели за стол и стали решать задачу. В тот же день вечером один из мудрецов явился к царю и сказал:
— Я решил задачу.
— Отлично. Будь моим министром.
На другой день задача была решена еще тремя мудрецами. Остался за столом один только мудрец, именем Артозостр. Он не мог решить задачи. Прошла неделя, прошел месяц, а он всё сидел за задачей и потел над ее разрешением. Прошел год, прошло два года. Он побледнел, похудел, осунулся, перепачкал сто стоп бумаги, но до решения было еще далеко.
— Вели его казнить, царь! — говорили четыре министра, решившие задачу. — Он, выдавая себя за мудреца, обманывал тебя.
Но царь не казнил Артозостра, а терпеливо ждал. Через пять лет пришел к царю Артозостр, пал перед ним на колени и сказал:
— Государь! Эта задача неразрешима!
Тогда царь поднял мудреца, поцеловал его и сказал:
— Ты прав, мудрый! Эта задача действительно неразрешима. Но, решая ее, ты разрешил главную задачу, написанную на моем сердце: ты доказал мне, что на земле есть еще честные люди. А вы, — обратился он к четырем министрам, — жулики!
Те сконфузились и спросили:
— Теперь нам, стало быть, убираться отсюда?
— Нет, оставайтесь! — сказал Артаксеркс. — Вы хоть и жулики, но мне тяжело с вами расстаться. Оставайтесь.
И они, слава богу, остались.
7. И за зло нужно быть благодарным. «О, Зевс великий! О, сильный громовержец! — молился один поэт Зевсу. — Пошли мне для вдохновения музу! Молю тебя!»
Зевс не учил древней истории. Немудрено поэтому, что он ошибся и вместо Мельпомены послал к поэту Терпсихору. Терпсихора явилась к поэту, и последний вместо того, чтобы работать в журналах и получать за это гонорар, поступил в танцкласс. Танцевал он сто дней и сто ночей напролет, пока не подумал:
«Меня не послушал Зевс. Он посмеялся надо мной. Я просил у него вдохновения, а он научил меня выкидывать коленце…»
И дерзкий написал на Зевса едкую эпиграмму. Громовержец разгневался и швырнул в него одну из своих молний. Так погиб поэт.
Заключение. Итак, дети, добродетель торжествует.
(обратно)В гостиной*
Становилось темней и темней… Свет, исходивший от камина, слегка освещал пол и одну стену с портретом какого-то генерала с двумя звездами. Тишина нарушалась треском горевших поленьев, да изредка сквозь двойные оконные рамы пробивался в гостиную шум шагов и езды по свежему снегу.
Перед камином, на голубой, покрытой кружевной кисеей кушетке, сидела парочка влюбленных. Он, высокий, статный мужчина с роскошными, выхоленными бакенами и правильным греческим носом, сидел развалясь, положа ногу на ногу, и лениво потягивал ароматный дымок из дорогой гаванской сигары. Она, маленькое, хорошенькое созданье с льняными кудрями и быстрыми, лукавыми глазками, сидела рядом с ним и, прижавшись головкой к его плечу, мечтательно глядела на огонь. На лицах обоих была разлита мягкая нега… Движения были полны сладкой истомы…
— Я люблю вас, Василий Лукич! — шептала она. — Ужасно люблю! Вы так красивы! Недаром баронесса глядит на вас, когда бывает у Павла Иваныча. Вы очень нравитесь женщинам, Василий Лукич!
— Гм… Мало ли чего! А как на вас, Настя, профессор смотрит, когда вы Павлу Петровичу приготовляете чай! Он в вас влюблен — это как дважды два…
— Оставьте ваши насмешки!
— Ну, как не любить такое милое существо? Вы прекрасны! Нет, вы не прекрасны, а вы грациозны! Ну, как тут не любить?
Василий Лукич привлек к себе хорошенькое созданье и начал осыпать его поцелуями. В камине раздался треск: загорелось новое полено. С улицы донеслась песня…
— Лучше вас во всем свете нет! Я вас люблю, как тигр или лев…
Василий Лукич сжал в своих объятиях молодую красавицу… Но в это время из передней послышался кашель, и через несколько секунд в гостиную вошел маленький старичок в золотых очках. Василий Лукич вскочил и быстро, в замешательстве, сунул в карман сигару. Молодая девушка вскочила, нагнулась к камину и стала копаться в нем щипцами… Увидев смущенную парочку, старик сердито кашлянул и нахмурился.
— Не обманутый ли это муж? — спросит, быть может, читатель.
Старик прошелся по гостиной и снял перчатки.
— Как здесь накурено! — проговорил он. — Опять ты, Василий, курил мои сигары?
— Никак нет-с, Павел Иваныч! Это… это не я-с…
— Я тебе дам расчет, если еще раз замечу… Ступай, приготовь мне фрачную пару и почисти штиблеты… А ты, Настя, — обратился старик к девушке, — зажги свечи и поставь самовар…
— Слушаю-с! — сказала Настя.
И вместе с Василием вышла из гостиной.
(обратно)В рождественскую ночь*
Молодая женщина лет двадцати трех, с страшно бледным лицом, стояла на берегу моря и глядела в даль. От ее маленьких ножек, обутых в бархатные полусапожки, шла вниз к морю ветхая, узкая лесенка с одним очень подвижным перилом.
Женщина глядела в даль, где зиял простор, залитый глубоким, непроницаемым мраком. Не было видно ни звезд, ни моря, покрытого снегом, ни огней. Шел сильный дождь…
«Что там?» — думала женщина, вглядываясь в даль и кутаясь от ветра и дождя в измокшую шубейку и шаль.
Где-то там, в этой непроницаемой тьме, верст за пять — за десять или даже больше, должен быть в это время ее муж, помещик Литвинов, со своею рыболовной артелью. Если метель в последние два дня на море не засыпала снегом Литвинова и его рыбаков, то они спешат теперь к берегу. Море вздулось и, говорят, скоро начнет ломать лед. Лед не может вынести этого ветра. Успеют ли их рыбачьи сани с безобразными крыльями, тяжелые и неповоротливые, достигнуть берега прежде, чем бледная женщина услышит рев проснувшегося моря?
Женщине страстно захотелось спуститься вниз. Перило задвигалось под ее рукой и, мокрое, липкое, выскользнуло из ее рук, как вьюн. Она присела на ступени и стала спускаться на четвереньках, крепко держась руками за холодные грязные ступени. Рванул ветер и распахнул ее шубу. На грудь пахнуло сыростью.
— Святой чудотворец Николай, этой лестнице и конца не будет! — шептала молодая женщина, перебирая ступени.
В лестнице было ровно девяносто ступеней. Она шла не изгибами, а вниз по прямой линии, под острым углом к отвесу. Ветер зло шатал ее из стороны в сторону, и она скрипела, как доска, готовая треснуть.
Через десять минут женщина была уже внизу, у самого моря. И здесь внизу была такая же тьма. Ветер здесь стал еще злее, чем наверху. Дождь лил и, казалось, конца ему не было.
— Кто идет? — послышался мужской голос.
— Это я, Денис…
Денис, высокий плотный старик с большой седой бородой, стоял на берегу, с большой палкой, и тоже глядел в непроницаемую даль. Он стоял и искал на своей одежде сухого места, чтобы зажечь о него спичку и закурить трубку.
— Это вы, барыня Наталья Сергеевна? — спросил он недоумевающим голосом. — В этакое ненастье?! И что вам тут делать? При вашей комплекцыи после родов простуда — первая гибель. Идите, матушка, домой!
Послышался плач старухи. Плакала мать рыбака Евсея, поехавшего с Литвиновым на ловлю. Денис вздохнул и махнул рукой.
— Жила ты, старуха, — сказал он в пространство, — семьдесят годков на эфтом свете, а словно малый ребенок, без понятия. Ведь на всё, дура ты, воля божья! При твоей старческой слабости тебе на печи лежать, а не в сырости сидеть! Иди отсюда с богом!
— Да ведь Евсей мой, Евсей! Один он у меня, Денисушка!
— Божья воля! Ежели ему не суждено, скажем, в море помереть, так пущай море хоть сто раз ломает, а он живой останется. А коли, мать моя, суждено ему в нынешний раз смерть принять, так не нам судить. Не плачь, старуха! Не один Евсей в море! Там и барин Андрей Петрович. Там и Федька, и Кузьма, и Тарасенков Алешка.
— А они живы, Денисушка? — спросила Наталья Сергеевна дрожащим голосом.
— А кто ж их знает, барыня! Ежели вчерась и третьего дня их не занесло метелью, то, стало быть, живы. Море ежели не взломает, то и вовсе живы будут. Ишь ведь, какой ветер. Словно нанялся, бог с ним!
— Кто-то идет по льду! — сказала вдруг молодая женщина неестественно хриплым голосом, словно с испугом, сделав шаг назад.
Денис прищурил глаза и прислушался.
— Нет, барыня, никто нейдет, — сказал он. — Это в лодке дурачок Петруша сидит и веслами двигает. Петруша! — крикнул Денис. — Сидишь?
— Сижу, дед! — послышался слабый, больной голос.
— Больно?
— Больно, дед! Силы моей нету!
На берегу, у самого льда стояла лодка. В лодке на самом дне ее сидел высокий парень с безобразно длинными руками и ногами. Это был дурачок Петруша. Стиснув зубы и дрожа всем телом, он глядел в темную даль и тоже старался разглядеть что-то. Чего-то и он ждал от моря. Длинные руки его держались за весла, а левая нога была подогнута под туловище.
— Болеет наш дурачок! — сказал Денис, подходя к лодке. — Нога у него болит, у сердешного. И рассудок парень потерял от боли. Ты бы, Петруша, в тепло пошел! Здесь еще хуже простудишься…
Петруша молчал. Он дрожал и морщился от боли. Болело левое бедро, задняя сторона его, в том именно месте, где проходит нерв.
— Поди, Петруша! — сказал Денис мягким, отеческим голосом. — Приляг на печку, а бог даст, к утрене и уймется нога!
— Чую! — пробормотал Петруша, разжав челюсти.
— Что ты чуешь, дурачок?
— Лед взломало.
— Откуда ты чуешь?
— Шум такой слышу. Один шум от ветра, другой от воды. И ветер другой стал: помягче. Верст за десять отседа уж ломает.
Старик прислушался. Он долго слушал, но в общем гуле не понял ничего, кроме воя ветра и ровного шума от дождя.
Прошло полчаса в ожидании и молчании. Ветер делал свое дело. Он становился всё злее и злее и, казалось, решил во что бы то ни стало взломать лед и отнять у старухи сына Евсея, а у бледной женщины мужа. Дождь между тем становился всё слабей и слабей. Скоро он стал так редок, что можно уже было различить в темноте человеческие фигуры, силуэт лодки и белизну снега. Сквозь вой ветра можно было расслышать звон. Это звонили наверху, в рыбачьей деревушке, на ветхой колокольне. Люди, застигнутые в море метелью, а потом дождем, должны были ехать на этот звон, — соломинка, за которую хватается утопающий.
— Дед, вода уж близко! Слышишь?
Дед прислушался, На этот раз он услышал гул, не похожий на вой ветра или шум деревьев. Дурачок был прав. Нельзя уже было сомневаться, что Литвинов со своими рыбаками не воротится на сушу праздновать Рождество.
— Кончено! — сказал Денис. — Ломает!
Старуха взвизгнула и присела к земле. Барыня, мокрая и дрожащая от холода, подошла к лодке и стала слушать. И она услышала зловещий гул.
— Может быть, это ветер! — сказала она. — Ты убежден, Денис, что это лед ломает?
— Божья воля-с!.. За грехи наши, сударыня…
Денис вздохнул и добавил нежным голосом:
— Пожалуйте наверх, сударыня! Вы и так вымокли!
И люди, стоявшие на берегу, услышали тихий смех, смех детский, счастливый… Смеялась бледная женщина. Денис крякнул. Он всегда крякал, когда ему хотелось плакать.
— Тронулась в уме-то! — шепнул он темному силуэту мужика.
В воздухе стало светлей. Выглянула луна. Теперь всё было видно: и море с наполовину истаявшими сугробами, и барыню, и Дениса, и дурачка Петрушу, морщившегося от невыносимой боли. В стороне стояли мужики и держали в руках для чего-то веревки.
Раздался первый явственный треск невдалеке от берега. Скоро раздался другой, третий, и воздух огласился ужасающим треском. Белая бесконечная громада заколыхалась и потемнела. Чудовище проснулось и начало свою бурную жизнь.
Вой ветра, шум деревьев, стоны Петруши и звон — всё умолкло за ревом моря.
— Надо уходить наверх! — крикнул Денис. — Сейчас берег зальет и занесет кригами. Да и утреня сейчас начнется, ребята! Пойдите, матушка-барыня! Богу так угодно!
Денис подошел к Наталье Сергеевне и осторожно взял ее под локти…
— Пойдемте, матушка! — сказал он нежно, голосом, полным сострадания.
Барыня отстранила рукой Дениса и, бодро подняв голову, пошла к лестнице. Она уже не была так смертельно бледна; на щеках ее играл здоровый румянец, словно в ее организм налили свежей крови; глаза не глядели уже плачущими, и руки, придерживавшие на груди шаль, не дрожали, как прежде… Она теперь чувствовала, что сама, без посторонней помощи, сумеет пройти высокую лестницу…
Ступив на третью ступень, она остановилась как вкопанная. Перед ней стоял высокий, статный мужчина в больших сапогах и полушубке…
— Это я, Наташа… Не бойся! — сказал мужчина.
Наталья Сергеевна пошатнулась. В высокой мерлушковой шапке, черных усах и черных глазах она узнала своего мужа, помещика Литвинова. Муж поднял ее на руки и поцеловал в щеку, причем обдал ее парами хереса и коньяка. Он был слегка пьян.
— Радуйся, Наташа! — сказал он. — Я не пропал под снегом и не утонул. Во время метели я со своими ребятами добрел до Таганрога, откуда вот и приехал к тебе… и приехал…
Он бормотал, а она, опять бледная и дрожащая, глядела на него недоумевающими, испуганными глазами. Она не верила…
— Как ты измокла, как дрожишь! — прошептал он, прижимая ее к груди…
И по его опьяневшему от счастья и вина лицу разлилась мягкая, детски добрая улыбка… Его ждали на этом холоде, в эту ночную пору! Это ли не любовь? И он засмеялся от счастья…
Пронзительный, душу раздирающий вопль ответил на этот тихий, счастливый смех. Ни рев моря, ни ветер, ничто не было в состоянии заглушить его. С лицом, искаженным отчаянием, молодая женщина не была в силах удержать этот вопль, и он вырвался наружу. В нем слышалось всё: и замужество поневоле, и непреоборимая антипатия к мужу, и тоска одиночества, и наконец рухнувшая надежда на свободное вдовство. Вся ее жизнь с ее горем, слезами и болью вылилась в этом вопле, не заглушенном даже трещавшими льдинами. Муж понял этот вопль, да и нельзя было не понять его…
— Тебе горько, что меня не занесло снегом или не раздавило льдом! — пробормотал он.
Нижняя губа его задрожала, и по лицу разлилась горькая улыбка. Он сошел со ступеней и опустил жену наземь.
— Пусть будет по-твоему! — сказал он.
И, отвернувшись от жены, он пошел к лодке. Там дурачок Петруша, стиснув зубы, дрожа и прыгая на одной ноге, тащил лодку в воду.
— Куда ты? — спросил его Литвинов.
— Больно мне, ваше высокоблагородие! Я утонуть хочу… Покойникам не больно…
Литвинов прыгнул в лодку. Дурачок полез за ним.
— Прощай, Наташа! — крикнул помещик. — Пусть будет по-твоему! Получай то, чего ждала, стоя здесь на холоде! С богом!
Дурачок взмахнул веслами, и лодка, толкнувшись о большую льдину, поплыла навстречу высоким волнам.
— Греби, Петруша, греби! — говорил Литвинов. — Дальше, дальше!
Литвинов, держась за края лодки, качался и глядел назад. Исчезла его Наташа, исчезли огоньки от трубок, исчез наконец берег…
— Воротись! — услышал он женский надорванный голос.
И в этом «воротись», казалось ему, слышалось отчаяние.
— Воротись!
У Литвинова забилось сердце… Его звала жена; а тут еще на берегу в церкви зазвонили к рождественской заутрене.
— Воротись! — повторил с мольбой тот же голос.
Эхо повторило это слово. Протрещали это слово льдины, взвизгнул его ветер, да и рождественский звон говорил: «Воротись».
— Едем назад! — сказал Литвинов, дернув дурачка за рукав.
Но дурачок не слышал. Стиснув зубы от боли и глядя с надеждою в даль, он работал своими длинными руками… Ему никто не кричал «воротись», а боль в нерве, начавшаяся сызмальства, делалась всё острее и жгучей… Литвинов схватил его за руки и потянул их назад. Но руки были тверды, как камень, и не легко было оторвать их от весел. Да и поздно было. Навстречу лодке неслась громадная льдина. Эта льдина должна была избавить навсегда Петрушу от боли…
До утра простояла бледная женщина на берегу моря. Когда ее, полузамерзшую и изнемогшую от нравственной муки, отнесли домой и уложили в постель, губы ее всё еще продолжали шептать: «Воротись!»
В ночь под Рождество она полюбила своего мужа…
(обратно)Экзамен*
(Из беседы двух очень умных людей)
На днях явился в кабинет отца старший сын и заявил ему, что он желает выйти из-под его опеки и самостоятельно вступить в свет. Заявление это он мотивировал своим недавно наступившим совершеннолетием (ему исполнилось ровно 21 год).
— Хорошо, сын мой! — сказал отец, выслушав его. — Я согласен, но прежде, чем начать самостоятельную жизнь, ты должен выдержать у меня маленький житейский экзамен. Садись, я тебя проэкзаменую…
Сын сел. Отец нахмурился и начал:
— Чем пахнет во рту, когда ешь колбасу?
— Колбасной лавкой.
— Так, сын мой. Что жены мылят без мыла?
— Головы мужей.
— Что было бы, если бы люди ходили вверх ногами?
— Тогда Пироне шил бы шапки, а Поша шил бы сапоги…
— Совершенно верно. Отчего вода в море соленая?
— Оттого, что в нем плавают селедки…
— Старо, старо! Свое что-нибудь придумай!
— Оттого в море вода соленая, что… что… в нем купаются иногда юмористы.
— Пожалуй… Прежде спрашивали: от чего гуси плавают? Мы отвечали: от берега… Теперь ты ответь мне: от чего уплывают гуси лапчатые?
— От долгов, воинской повинности…
— Отчего не носят очков на затылке?
— Потому что очки разбиваются от подзатыльников.
— Почему человека нельзя назвать свиньей?
— Потому что он потащит к мировому.
— Какой чиж кончил курс в университете?
— Доктор Чиж*.
— Кого можно назвать падшим созданием?
— Человека, упавшего с каланчи.
— Где можно взять взаймы денег?..
Сын поднял вверх голову и задумался.
— Не знаешь, сынок? Ну, не годишься же ты в свет… Поживи под моей опекой еще месяц!
Через месяц будет новый экзамен.
(обратно)Либерал*
(Новогодний рассказ)
Прекрасную и умилительную картину представляло собой человечество в первый день нового года. Все радовались, ликовали, поздравляли друг друга. Воздух оглашался самыми искренними и сердечными пожеланиями. Все были счастливы и довольны…
Один только губернский секретарь Понимаев был недоволен. В новогодний полдень он стоял на одной из столичных улиц и протестовал. Обняв правой рукой фонарный столб, а левой отмахиваясь неизвестно от чего, он бормотал вещи непростительные и предусмотренные… Возле него стояла его жена и тащила его за рукав. Лицо ее было заплакано и выражало скорбь.
— Идол ты мой! — говорила она. — Наказание ты мое! Глаза твои бесстыжие, махамет! Иди, тебе говорю! Иди, покедова не прошло время, и распишись! Иди, пьяная образина!
— Ни в каком случае! Я образованный человек и не желаю подчиняться невежеству! Иди сама расписывайся, если хочешь, а меня оставь!.. Не желаю быть в рабстве.
— Иди! Ежели ты не распишешься, то горе тебе будет! Выгонят тебя, подлеца моего, и тогда я с голоду, значит, сдыхай? Иди, собака!
— Ладно… И погибну… За правду? Да хоть сейчас!
Понимаев поднял руку, чтобы отмахнуться от жены, и описал ею в воздухе полукруг… Шедший мимо околоточный надзиратель в новой шинели остановился на секунду и, обратясь к Понимаеву, сказал:
— Стыдитесь! Ведите себя по примеру прочих!
Понимаеву стало совестно. Он стыдливо замигал глазами и отдернул от фонарного столба руку. Жена воспользовалась этим моментом и потащила его за рукав вдоль по улице, старательно обходя всё, за что можно ухватиться. Минут через десять, не более, она дотащила своего мужа до подъезда начальника.
— Ну, иди, Алеша! — сказала она нежно, введя мужа на крыльцо. — Иди, Алешечка! Распишись только, да и уходи назад. А я тебе за это коньяку к чаю куплю. Не буду тебя ругать, когда ты выпивши… Не губи ты меня, сироту!
— Ааа… гм… Это, стало быть, его дом? Отлично! Очень хорошо-с! Рраспишемся, чёрт возьми! Так распишемся, что долго будет помнить! Всё ему напишу на этой бумаге! Напишу, какого я мнения! Пусть тогда гонит! А ежели выгонит, то ты виновата! Ты!
Понимаев покачнулся, пхнул плечом дверь и с шумом вошел в подъезд. Там около двери стоял швейцар Егор с свежевыбритой, новогодней физиономией. Около столика с листом бумаги стояли Везувиев и Черносвинский, сослуживцы Понимаева. Высокий и тощий Везувиев расписывался, а Черносвинский, маленький рябенький человечек, дожидался своей очереди. У обоих на лицах было написано: «С Новым годом, с новым счастьем!» Видно было, что они расписывались не только физически, но и нравственно. Увидев их, Понимаев презрительно усмехнулся и с негодованием запахнулся в шубу.
— Разумеется! — заговорил он. — Разумеется! Как не поздравить его пр-во? Нельзя не поздравить! Ха, ха! Надо выразить свои рабские чувства!
Везувиев и Черносвинский с удивлением поглядели на него. Отродясь они не слыхали таких слов!
— Разве это не невежество, не лакейство? — продолжал Понимаев. — Брось, не расписывайся! Вырази протест!
Он ударил кулаком по листу и смазал подпись Везувиева.
— Бунтуешь, ваше благородие! — сказал Егор, подскочив к столу и подняв лист выше головы. — За это, ваше благородие, вашего брата… знаешь как?
В это время дверь отворилась и в подъезд вошел высокий пожилой мужчина в медвежьей шубе и золотой треуголке. Это был начальник Понимаева, Велелептов. При входе его Егор, Везувиев и Черносвинский проглотили по аршину и вытянулись. Понимаев тоже вытянулся, но усмехнулся и крутнул один ус.
— А! — сказал Велелептов, увидев чиновников. — Вы… здесь? М-да… друзья… Понятно… (очевидно, что его пр-во был слегка навеселе). Понятно… И вас также… Спасибо, что не забыли… Спасибо… М-да… Приятно видеть… Желаю вам… А ты, Понимаев, уж назюзюкался? Это ничего, не конфузься… Пей, да дело разумей… Пейте и веселитесь…
— Всяк злак на пользу человека, ваше — ство! — рискнул вставить Везувиев.
— Ну да, понятно… Как ты сказал? Где злак? Ну, идите себе… с богом… Или нет… Вы были уже у Никиты Прохорыча? Не были еще? Отлично. Я дам вам книги… отнесите к нему… Он дал мне почитать «Странник» за два года… Так вот его надо отнести… Пойдемте, я вам дам… Скиньте шубы!
Чиновники сняли шубы и пошли за Велелептовым. Сначала они вошли в приемную, а потом в большую, роскошно убранную залу, где за круглым столом сидела сама генеральша. По обе стороны ее сидели две молодые дамы, одна в белых перчатках, другая в черных. Велелептов оставил в зале чиновников и пошел к себе в кабинет. Чиновники сконфузились.
Минут десять стояли они молча, не двигаясь и не зная, куда девать свои руки. Дамы говорили по-французски и то и дело вскидывали на них глаза… Мука! Наконец из кабинета показался Велелептов, держа в обеих руках по большой связке книг.
— Вот, — сказал он. — Отдайте ему и поблагодарите… Это «Странник». Я читал иногда по вечерам… А вам… спасибо, что не забыли… пришли почтить… Чиновников моих рассматриваете? — обратился Велелептов к дамам. — Хе, хе… Смотрите, смотрите… Это вот Везувиев, это Черносвинский… а это мой Понимаев. Вхожу однажды в дежурную, а он, этот Понимаев, там машину представляет. Каков? Пш! пш! пш! Свистит этак, ногами топочет… Натурально так выходило… М-да… А ну-ка, изобрази! Представь-ка нам.
Дамы вперили в Понимаева глаза и заулыбались. Он закашлялся.
— Не умею… Забыл, ваше — ство… — пробормотал он. — Не могу и не желаю.
— Не желаешь? — удивился Велелептов. — А? Жаль… Шаль, что не можешь уважить старика… Прощай… Обидно… Ступай…
Везувиев и Черносвинский затолкали в бок Понимаева. Да и сам он испугался своего отказа. В глазах его помутилось… Черные перчатки смешались с белыми, лица покосились, мебель запрыгала, и сам Велелептов обратился в большой кивающий палец. Постояв немного и пробормотав что-то, Понимаев прижал к груди «Странник» и вышел на улицу. Там он увидел свою жену, бледную, дрожавшую от холода и ужаса. Везувиев и Черносвинский стояли уже возле нее и, сильно жестикулируя руками, говорили ей что-то ужасное и сразу в оба уха. «Что теперь будет?!» — читалось в их фигурах и движениях. Понимаев, безнадежно взглянув на жену, поплелся с книгами за приятелями.
Воротясь домой, он не обедал и чаю не пил… Ночью его разбудил кошмар.
Он поднялся и поглядел в темноту. Черные и белые перчатки, бакены Велелептова — всё это заплясало перед его глазами, закружилось, и он вспомнил минувшее.
— Скотина я, скотина! — проворчал он. — Протестуй ты, осел, ежели хочешь, но не смей не уважать старших! Что стоило тебе представить машину?
Более он не мог уснуть. Всю ночь до самого утра промучили его угрызения совести, тоска и всхлипывания жены. Поглядевшись утром в зеркало, он увидел не себя, а чью-то другую физиономию, бледную, истощенную, печальную…
— Не пойду на службу! — решил он. — Всё одно… Один конец!
Весь второй день нового года он посвятил хождению из угла в угол.
Ходил он, вздыхал и думал:
— У кого бы это револьвер достать? Чем этак жить, так лучше уж… право… Пулю в лоб, и конец…
На третий день он бежал от тоски на службу.
«Что-то будет?!» — думали все чиновники, поглядывая на него из-за чернильниц.
То же самое думал и Понимаев.
— Что ж? — шепнул он Везувиеву. — Пусть гонит! Ему же скверно будет, ежели руки на себя наложу.
В 11 часов приехал Велелептов. Проходя мимо Понимаева и взглянув на его бледное, сильно похудевшее, испуганное лицо, он остановился, покачал головой и сказал:
— А здорово ты тогда хватил, братец! До сих пор рожа в свои рамки не вошла. Надо быть, друг, поумеренней… Нехорошо… Долго ли здоровье потерять?
И, похлопав Понимаева по плечу, Велелептов прошел далее.
«Только-то?» — подумало всё присутствие.
Понимаев засмеялся от удовольствия. Даже пискнул по-птичьи — так ему было приятно! Но скоро лицо его изменилось… Он нахмурился и осклабился презрительной улыбкой.
— Счастье твое, что я тогда был выпивши! — проворчал он вслух вслед Велелептову. — Счастье твое, а то бы… Помнишь, Везувиев, как я его отщелкал?
Придя со службы домой, Понимаев обедал с большим аппетитом.
(обратно)Завещание старого, 1883-го года*
Любезнейший сын мой, 1884-й год!
Находясь в здравом рассудке и при полной памяти, несколько, впрочем, «под шефе» (был, знаешь, у Саврасенкова* и хватил перед отъездом ½ бутылки финь-шампань; но «шефе» не возбраняет стряпать нотариальные акты никому, даже нотариусам), завещаю тебе следующее:
1) Весь земной шар с его пятью частями света, океанами, Кордильерами, газетами, компрачикосами*, Парижем, кокотками обоих полов и всех возрастов, Северным полюсом, персидским порошком, театром Мошнина*, мазью Иванова*, Шестеркиным*, обанкротившимися помещиками, одеколоном, крокодилами, Окрейцем* и проч.
2) Денег тебе не завещаю, ибо оных не имею. За всё мое годовое пребывание на земном шаре не видал их нигде, даже в кассе такой богатой дороги, как Лозово-Севастопольская. Нечто похожее на деньги видел я только в ссудных кассах, за голенищами господ кабатчиков, в сундуке таганрогского турка Вальяно* и в карманах московских официантов.
3) Купно с старыми калошами завещаю тебе то, что завещали мне деды и прадеды (начиная с 1800 года) и что придется тебе, вероятно, оставить твоим внукам и правнукам:
a) Хор песенников и рожечников.
b) Композиторов полек и вальсов.
c) Рассказчика Гулевича (автора)*, его фрак, цилиндр и манеры.
Если сумеешь продать это старье старьевщикам-татарам, то тебя назовут по крайней мере благодетелем человечества.
4) Окончи дело Корсова с Закжевским* и в угоду московским барыням начни другое.
5) Расставь в этом завещании знаки препинания, а если сам не умеешь, то поручи это сделать кому-нибудь из сотрудников «Будильника».
6) В качестве секретаря беру с собою в Лету поэта и экс-редактора Сталинского*.
7) Беру с собою и шубу художника Ч.*, чем делаю великое одолжение господам эстетикам.
8) Больше я тебе ничего не завещаю.
Твой отец, 1883 год.
С подлинным верно:
Брат моего брата.
(обратно)Орден*
Учитель военной прогимназии, коллежский регистратор Лев Пустяков, обитал рядом с другом своим, поручиком Леденцовым. К последнему он и направил свои стопы в новогоднее утро.
— Видишь ли, в чем дело, Гриша, — сказал он поручику после обычного поздравления с Новым годом. — Я не стал бы тебя беспокоить, если бы не крайняя надобность. Одолжи мне, голубчик, на сегодняшний день твоего Станислава. Сегодня, видишь ли, я обедаю у купца Спичкина. А ты знаешь этого подлеца Спичкина: он страшно любит ордена и чуть ли не мерзавцами считает тех, у кого не болтается что-нибудь на шее или в петлице. И к тому же у него две дочери… Настя, знаешь, и Зина… Говорю, как другу… Ты меня понимаешь, милый мой. Дай, сделай милость!
Всё это проговорил Пустяков заикаясь, краснея и робко оглядываясь на дверь. Поручик выругался, но согласился.
В два часа пополудни Пустяков ехал на извозчике к Спичкиным и, распахнувши чуточку шубу, глядел себе на грудь. На груди сверкал золотом и отливал эмалью чужой Станислав.
«Как-то и уважения к себе больше чувствуешь! — думал учитель, покрякивая. — Маленькая штучка, рублей пять, не больше стоит, а какой фурор производит!»
Подъехав к дому Спичкина, он распахнул шубу и стал медленно расплачиваться с извозчиком. Извозчик, как показалось ему, увидев его погоны, пуговицы и Станислава, окаменел. Пустяков самодовольно кашлянул и вошел в дом. Снимая в передней шубу, он заглянул в залу. Там за длинным обеденным столом сидели уже человек пятнадцать и обедали. Слышался говор и звяканье посуды.
— Кто это там звонит? — послышался голос хозяина. — Ба, Лев Николаич! Милости просим. Немножко опоздали, но это не беда… Сейчас только сели.
Пустяков выставил вперед грудь, поднял голову и, потирая руки, вошел в залу. Но тут он увидел нечто ужасное. За столом, рядом: с Зиной, сидел его товарищ по службе, учитель французского языка Трамблян. Показать французу орден — значило бы вызвать массу самых неприятных вопросов, значило бы осрамиться навеки, обесславиться… Первою мыслью Пустякова было сорвать орден или бежать назад; но орден был крепко пришит, и отступление было уже невозможно. Быстро прикрыв правой рукой орден, он сгорбился, неловко отдал общий поклон и, никому не подавая руки, тяжело опустился на свободный стул, как раз против сослуживца-француза.
«Выпивши, должно быть!» — подумал Спичкин, поглядев на его сконфуженное лицо.
Перед Пустяковым поставили тарелку супу. Он взял левой рукой ложку, но, вспомнив, что левой рукой не подобает есть в благоустроенном обществе, заявил, что он уже отобедал и есть не хочет.
— Я уже покушал-с… Мерси-с… — пробормотал он. — Был я с визитом у дяди, протоиерея Елеева, и он упросил меня… тово… пообедать.
Душа Пустякова наполнилась щемящей тоской и злобствующей досадой: суп издавал вкусный запах, а от паровой осетрины шел необыкновенно аппетитный дымок. Учитель попробовал освободить правую руку и прикрыть орден левой, но это оказалось неудобным.
«Заметят… И через всю грудь рука будет протянута, точно петь собираюсь. Господи, хоть бы скорее обед кончился! В трактире ужо пообедаю!»
После третьего блюда он робко, одним глазком поглядел на француза. Трамблян, почему-то сильно сконфуженный, глядел на него и тоже ничего не ел. Поглядев друг на друга, оба еще более сконфузились и опустили глаза в пустые тарелки.
«Заметил, подлец! — подумал Пустяков. — По роже вижу, что заметил! А он, мерзавец, кляузник. Завтра же донесет директору!»
Съели хозяева и гости четвертое блюдо, съели, волею судеб, и пятое…
Поднялся какой-то высокий господин с широкими волосистыми ноздрями, горбатым носом и от природы прищуренными глазами. Он погладил себя по голове и провозгласил:
— Э-э-э… эп… эп… эпредлагаю эвыпить за процветание сидящих здесь дам!
Обедающие шумно поднялись и взялись за бокалы. Громкое «ура» пронеслось по всем комнатам. Дамы заулыбались и потянулись чокаться. Пустяков поднялся и взял свою рюмку в левую руку.
— Лев Николаич, потрудитесь передать этот бокал Настасье Тимофеевне! — обратился к нему какой-то мужчина, подавая бокал. — Заставьте ее выпить!
На этот раз Пустяков, к великому своему ужасу, должен был пустить в дело и правую руку. Станислав с помятой красной ленточкой увидел наконец свет и засиял. Учитель побледнел, опустил голову и робко поглядел в сторону француза. Тот глядел на него удивленными, вопрошающими глазами. Губы его хитро улыбались и с лица медленно сползал конфуз…
— Юлий Августович! — обратился к французу хозяин. — Передайте бутылочку по принадлежности!
Трамблян нерешительно протянул правую руку к бутылке и… о, счастье! Пустяков увидал на его груди орден. И то был не Станислав, а целая Анна!* Значит, и француз сжульничал! Пустяков засмеялся от удовольствия, сел на стул и развалился… Теперь уже не было надобности скрывать Станислава! Оба грешны одним грехом, и некому, стало быть, доносить и бесславить…
— А-а-а… гм!.. — промычал Спичкин, увидев на груди учителя орден.
— Да-с! — сказал Пустяков. — Удивительное дело, Юлий Августович! Как было мало у нас перед праздниками представлений! Сколько у нас народу, а получили только вы да я! Уди-ви-тель-ное дело!
Трамблян весело закивал головой и выставил вперед левый лацкан, на котором красовалась Анна 3-й степени*.
После обеда Пустяков ходил по всем комнатам и показывал барышням орден. На душе у него было легко, вольготно, хотя и пощипывал под ложечкой голод.
«Знай я такую штуку, — думал он, завистливо поглядывая на Трамбляна, беседовавшего со Спичкиным об орденах, — я бы Владимира нацепил*. Эх, не догадался!»
Только эта одна мысль и помучивала его. В остальном же он был совершенно счастлив.
(обратно)Контракт 1884 года с человечеством*
Марка в 60 к.
Тысяча восемьсот восемьдесят четвертого года, января 1-го дня, мы, нижеподписавшиеся, Человечество с одной стороны и Новый, 1884 год — с другой, заключили между собою договор, по которому:
1) Я, Человечество, обязуюсь встретить и проводить Новый, 1884 год с шампанским, визитами, скандалами и протоколами.
2) Обязуюсь назвать его именем все имеющиеся на земном шаре календари.
3) Обязуюсь возлагать на него великие надежды.
4) Я, Новый, 1884 год, обязуюсь не оправдать этих надежд.
5) Обязуюсь иметь не более 12 месяцев.
6) Обязуюсь дать всем Касьянам, желающим быть именинниками, двадцать девятое февраля.
7) В случае неисполнения одною из сторон какого-либо из пунктов платится 10 000 рублей неустойки кредитными бумажками по гривеннику за рубль.
8) Договор этот с обеих сторон хранить свято и ненарушимо; подлинный договор иметь Человечеству, а копию — Новому, 1884 году.
Новый, 1884 год руку к сему приложил.
Человечество.
Договор этот явлен у меня, Человека без селезенки, временного нотариуса, в конторе моей, находящейся у чёрта на куличках, не имеющим чина Новым, 1884 годом, живущим в календаре губернского секретаря А. Суворина*, и Человечеством, живущим под луной, лично мне известными и имеющими законную правоспособность к совершению актов.
Городского сбора взыскано 18 руб. 14 коп., на «Корневильские колокола» 3 руб. 50 коп*., в пользу раненных в битве Б. Маркевича с Театрально-литературным комитетом* 1 руб. 12 коп.
Нотариус: Человек без селезенки.
М. П.
(обратно)75 000*
Ночью, часов в 12, по Тверскому бульвару шли два приятеля. Один — высокий, красивый брюнет в поношенной медвежьей шубе и цилиндре, другой — маленький, рыженький человек в рыжем пальто с белыми костяными пуговицами. Оба шли и молчали. Брюнет слегка насвистывал мазурку, рыжий угрюмо глядел себе под ноги и то и дело сплевывал в сторону.
— Не посидеть ли нам? — предложил наконец брюнет, когда оба приятеля увидели темный силуэт Пушкина и огонек над воротами Страстного монастыря.
Рыжий молча согласился, и приятели уселись.
— У меня есть к тебе маленькая просьба, Николай Борисыч, — сказал брюнет после некоторого молчания. — Не можешь ли ты, друг, дать мне взаймы рублей десять — пятнадцать? Через неделю отдам…
Рыжий молчал.
— Я не стал бы тебя и беспокоить, если бы не нужда. Скверную штуку сыграла со мной сегодня судьба… Жена дала мне сегодня утром заложить свой браслет… Нужно ей за свою сестренку в гимназию заплатить… Я, знаешь, заложил и вот… при тебе сегодня в стуколку нечаянно проиграл…
Рыжий задвигался и крякнул.
— Пустой ты человек, Василий Иваныч! — сказал он, покрививши рот злой усмешкой. — Пустой человек! Какое ты право имел садиться с барынями играть в стуколку, если ты знал, что эти деньги не твои, а чужие? Ну, не пустой ли ты человек, не фат ли? Постой, не перебивай… Дай я тебе раз навсегда выскажу… К чему эти вечно новые костюмы, эта вот булавка на галстухе? Для тебя ли, нищего, мода? К чему этот дурацкий цилиндр? Тебе, живущему на счет жены, платить пятнадцать рублей за цилиндр, когда отлично, не в ущерб ни моде, ни эстетике, ты мог бы проходить в трехрублевой шапке! К чему это вечное хвастанье своими несуществующими знакомствами? Знаком и с Хохловым, и с Плевако*, и со всеми редакторами! Когда ты сегодня лгал о своих знакомствах, у меня за тебя глаза и уши горели! Лжешь и не краснеешь! А когда ты играешь с этими барынями, проигрываешь им женины деньги, ты так пошло и глупо улыбаешься, что просто… пощечины жалко!
— Ну оставь, оставь… Ты не в духе сегодня…
— Ну, пусть это фатовство есть мальчишество, школьничество… Я согласен допустить это, Василий Иваныч… ты еще молод… Но не допущу я… не пойму одной вещи… Как мог ты, играя с теми куклами… сподличать? Я видел, как ты, сдавая, достал себе из-под низу пикового туза!
Василий Иваныч покраснел, как школьник, и начал оправдываться. Рыжий настаивал на своем. Спорили громко и долго. Наконец оба мало-помалу умолкли и задумались.
— Это правда, я сильно завертелся, — сказал брюнет после долгого молчания. — Правда… Весь я потратился, задолжался, растратил кое-что чужое и теперь не знаю, как выпутаться. Знаешь ли ты то невыносимое, скверное чувство, когда всё тело чешется и когда у тебя нет средства от этой чесотки? Нечто вроде этого чувства я испытываю теперь… Весь по уши залез в дебри… Совестно и людей и самого себя… Делаю массу глупостей, гадостей, из самых мелких побуждений, и в то же время никак не могу остановиться… Скверно! Получи я наследство или выиграй, так бросил бы, кажется, всё на свете и родился бы снова… А ты, Николай Борисыч, не осуждай меня… не бросай камня… Вспомни пальмовского Неклюжева…
— Помню я твоего Неклюжева, — сказал рыжий. — Помню… Сожрал чужие деньги, налопался и после обеда захотел покейфовать: перед девчонкой расхныкался!..* До обеда, небось, не похныкал… Стыдно писателям идеализировать подобных подлецов! Не будь у этого Неклюжева счастливой наружности и галантных манер, не влюбилась бы в него купеческая дочка и не было бы раскаяния… Вообще подлецам судьба дает счастливые наружности… Все ведь вы купидоны. Вас любят, в вас влюбляются… Вам страшно везет по части женщин!
Рыжий встал и заходил около скамьи.
— Твоя жена, например… честная, благородная женщина… за что она могла полюбить тебя? За что? И сегодня вот, целый вечер, в то время, когда ты врал и ломался, не отрывала от тебя глаз хорошенькая блондинка… Вас, Неклюжевых, любят, вам жертвуют, а тут всю жизнь работаешь, бьешься как рыба об лед… честен, как сама честность, и — хоть бы одна счастливая минута! А еще тоже… помнишь? Был я женихом твоей жены Ольги Алексеевны, когда она еще не знала тебя, был немножко счастлив, но подвернулся ты и… я пропал…
— Ррревность! — усмехнулся брюнет. — А я и не знал, что ты так ревнив!
По лицу Николая Борисыча пробежало чувство досады и гадливости… Он машинально, сам того не сознавая, протянул вперед руку и… махнул ею. Звук пощечины нарушил тишину ночи… Цилиндр слетел с головы брюнета и покатился по утоптанному снегу. Всё это произошло в одну секунду, неожиданно, и вышло глупо, нелепо. Рыжему тотчас же стало стыдно этой пощечины. Он уткнул лицо в полинялый воротник своего пальто и зашагал по бульвару. Дойдя до Пушкина, он оглянулся на брюнета, постоял минуту неподвижно и, словно испугавшись чего-то, побежал к Тверской…
Василий Иваныч долго просидел молча и не двигаясь. Мимо него прошла какая-то женщина и со смехом подала ему его цилиндр. Он машинально поблагодарил, поднялся и пошел.
«Сейчас зуденье начнется, — думал он через полчаса, взбираясь по длинной лестнице к себе на квартиру. — Достанется мне от супруги за проигрыш! Всю ночь будет проповедь читать! Чёрт бы ее взял совсем! Скажу, что потерял деньги…»
Дойдя до своей двери, он робко позвонил. Его впустила кухарка…
— Проздравляем вас! — сказала ему кухарка, ухмыляясь во всё лицо.
— С чем это?
— А вот увидите-с! Смилостивился бог!
Василий Иванович пожал плечами и вошел в спальную. Там за письменным столом сидела его жена Ольга Алексеевна, маленькая блондиночка с папильотками в волосах. Она писала. Перед ней лежало несколько уже готовых, запечатанных писем. Увидев мужа, она вскочила и бросилась ему на шею.
— Ты пришел? — заговорила она. — Какое счастье! Ты не можешь себе представить, какое счастье! Со мной истерика была, Вася, от такой неожиданности… На, читай!
И она, прыгнув к столу, взяла газету и поднесла ее к лицу мужа.
— Читай! Мой билет выиграл 75 000! Ведь у меня есть билет! Честное слово, есть! Я скрывала его от тебя, потому что… потому что… ты бы заложил его. Николай Борисыч, когда был женихом, подарил мне этот билет, а потом не захотел его взять обратно. Какой хороший человек этот Николай Борисыч! Теперь мы ужасно богаты! Ты теперь исправишься, не будешь вести беспорядочную жизнь. Ведь ты кутил и обманывал меня от недостатков, от бедности. Я это понимаю. Ты умный, порядочный…
Ольга Алексеевна прошлась по комнате и засмеялась.
— Вот неожиданность! Ходила я, ходила из угла в угол, бранила тебя за твое распутство, ненавидела и потом села от тоски газету читать… И вдруг вижу!.. Написала всем письма… сестрам, матери… То-то обрадуются, бедные! Но куда же ты?
Василий Иваныч заглянул в газету… Ошеломленный, бледный, не слушая жены, он простоял некоторое время молча, что-то придумывая, потом надел свой цилиндр и вышел из дому.
— На Большую Дмитровку, номера N N! — крикнул он извозчику.
В номерах он не застал того, кто ему был нужен. Знакомый ему номер был заперт.
«Она, должно быть, в театре, — подумал он, — а из театра… ужинать поехала… Подожду немного…»
И он остался ждать… Прошло полчаса, прошел час… Он прошелся по коридору и поговорил с сонным лакеем… Внизу на номерных часах пробило три… Наконец, потеряв терпение, он начал медленно спускаться вниз к выходу… Но судьба сжалилась над ним…
У самого подъезда он встретился с высокой, тощей брюнеткой, окутанной в длинное боа. За ней по пятам следовал какой-то господин в синих очках и мерлушковой шапке.
— Виноват, — обратился Василий Иваныч к даме. — Могу ли я обеспокоить вас на одну минуту?
Дама и мужчина нахмурились.
— Я сейчас, — сказала дама мужчине и пошла с Василием Ивановичем к газовому рожку. — Что вам нужно?
— Я к тебе… к вам, Надин, по делу, — начал, заикаясь, Василий Иваныч. — Жаль, что с тобою этот господин, а то я бы тебе всё рассказал…
— Да что такое? Мне некогда!
— Завела себе новых обожателей, да и некогда! Хороша, нечего сказать! За что ты прогнала меня от себя под Рождество? Ты не захотела со мной жить, потому что… потому что я тебе не доставлял достаточно средств к жизни… Вот ты и неправа, оказывается… Да… Помнишь ты тот билет, что я подарил тебе на именины? На, читай! Он выиграл 75 000!
Дама взяла в руки газету и жадными, словно испуганными глазами стала искать телеграммы из Петербурга… И она нашла…
В это же самое время другие глаза, заплаканные, тупые от горя, почти безумные, глядели в шкатулку и искали билета… Всю ночь искали эти глаза и не нашли. Билет был украден, и Ольга Алексеевна знала, кто украл его.
В эту же самую ночь рыжий Николай Борисыч ворочался с боку на бок и старался уснуть, но не уснул до самого утра. Ему было стыдно той пощечины.
(обратно)Марья Ивановна*
В роскошно убранной гостиной, на кушетке, обитой темно-фиолетовым бархатом, сидела молодая женщина лет двадцати трех. Звали ее Марьей Ивановной Однощекиной.
— Какое шаблонное, стереотипное начало! — воскликнет читатель. — Вечно эти господа начинают роскошно убранными гостиными! Читать не хочется!
Извиняюсь перед читателем и иду далее. Перед дамой стоял молодой человек лет двадцати шести, с бледным, несколько грустным лицом.
— Ну, вот, вот… Так я и знал, — рассердится читатель. — Молодой человек и непременно двадцати шести лет! Ну, а дальше что? Известно что… Он попросит поэзии, любви, а она ответит прозаической просьбой купить браслет. Или же наоборот, она захочет поэзии, а он… И читать не стану!
Но я все-таки продолжаю. Молодой человек не отрывал глаз от молодой женщины и шептал:
— Я люблю тебя, чудная, даже и теперь, когда от тебя веет холодом могилы!
Тут уж читатель выйдет из терпения и начнет браниться:
— Чёрт их подери! Угощают публику разной чепухой, роскошно убранными гостиными да какими-то Марьями Ивановнами с могильным холодом!
Кто знает, может быть, вы и правы в своем гневе, читатель. А может быть, вы и неправы. Наш век тем и хорош, что никак не разберешь, кто прав, кто виноват. Даже присяжные, судящие какого-нибудь человечка за кражу, не знают, кто виноват: человечек ли, деньги ли, что плохо лежали, сами ли они, присяжные, виноваты, что родились на свет. Ничего не разберешь на этой земле!
Во всяком случае, если вы правы, то и я не виноват. Вы находите, что этот мой рассказ не интересен, не нужен. Допустим, что вы правы и что я виноват… Но тогда допустите хоть смягчающие вину обстоятельства.
В самом деле, могу ли я писать интересное и только нужное, если мне скучно и если вот уже две недели у меня перемежающаяся лихорадка?
— Не пишите, если у вас лихорадка.
Так-то так… Но, чтобы долго не разговаривать, представьте себе, что у меня лихорадка и дурное настроение; в это же самое время у другого литератора тоже лихорадка, у третьего беспокойная жена и болят зубы, четвертый страдает меланхолией. Мы все четверо не пишем. Чем же прикажете наполнить номера газет и журналов? Не теми ли произведениями, которые вы, читатели, шлете ежедневно пудами в редакции наших газет и журналов? Из ваших тяжелых пудов едва ли можно выбрать маленький золотничок, да и то с великой натяжкой, с великим усилием.
Мы все, профессиональные литераторы, не дилетанты, а настоящие литературные поденщики, сколько нас есть, такие же люди-человеки, как и вы, как и ваш брат, как и ваша свояченица, у нас такие же нервы, такие же внутренности, нас мучает то же самое, что и вас, скорбей у нас несравненно больше, чем радостей, и если бы мы захотели, то каждый день могли бы иметь повод к тому, чтобы не работать. Каждый день, уверяю вас! Но если бы мы послушались вашего «не пишите», если бы мы все поддались усталости, скуке или лихорадке, то тогда хоть закрывай всю текущую литературу.
А ее нельзя закрывать ни на один день, читатель. Хотя она и кажется вам маленькой и серенькой, неинтересной, хотя она и не возбуждает в вас ни смеха, ни гнева, ни радости, но всё же она есть и делает свое дело. Без нее нельзя… Если мы уйдем и оставим наше поле хоть на минуту, то нас тотчас же заменят шуты в дурацких колпаках с лошадиными бубенчиками, нас заменят плохие профессора, плохие адвокаты да юнкера, описывающие свои нелепые любовные похождения по команде: левой! правой!
Я должен писать, несмотря ни на скуку, ни на перемежающуюся лихорадку. Должен, как могу и как умею, не переставая. Нас мало, нас можно пересчитать по пальцам. А где мало служащих, там нельзя проситься в отпуск, даже на короткое время. Нельзя и не принято.
— Но все-таки могли бы сюжет избрать посерьезнее! Ну что толку в этой Марье Ивановне, право? Мало ли кругом таких явлений, мало ли кругом вопросов, которые…
Вы правы, много и явлений и вопросов, но укажите, что собственно вам нужно. Если вы так возмущены, то укажите, заставьте меня окончательно поверить, что вы правы, что вы в самом деле очень серьезный человек и что ваша жизнь очень серьезна. Укажите же, будьте определенны, иначе я могу подумать, что вопросов и явлений, о которых вы говорите, нет вовсе, что вы просто милый малый, которому иногда нравится от нечего делать потолковать о серьезном.
Но пора, однако, кончить рассказ.
Долго стоял молодой человек перед прекрасной женщиной. Наконец он снял сюртук, стащил с себя сапоги и прошептал:
— Прощай, до завтра!
Затем он растянулся на диване и укрылся плюшевым одеялом.
— При даме?! — изумится читатель. — Да это чушь, чепуха! Это возмутительно! Городовой! Цензура!
Да постойте, не спешите, серьезный, строгий, глубокомысленный читатель. Дама в роскошно убранной гостиной была написана масляными красками на холсте и висела над диваном. Теперь можете возмущаться сколько вам угодно.
И как это терпит бумага! Если печатают такой вздор, как «Марья Ивановна», то, очевидно, потому, что лет более ценного материала. Это очевидно. Садитесь же поскорее, излагайте ваши глубокие, великолепные мысли, напишите целые три пуда и пошлите в какую-нибудь редакцию. Садитесь поскорей и пишите! Пишите и посылайте поскорей!
И вам возвратят назад.
(обратно)Молодой человек*
За столом, покрытым внушительными чернильными пятнами, сидит Правдолюбов. Перед ним стоит Упрямов, молодой человек с выражением легкомыслия на лице.
Правдолюбов (со слезами на глазах). Молодой человек! У меня у самого есть дети… есть сердце… Я понимаю… потому-то мне так и горько. Уверяю вас, как честный человек, что ваше запирательство послужит вам только во вред. Скажите нам откровенно, куда вы шли сейчас?
Упрямов. В… в редакцию юмористического журнала.
Правдолюбов. Гм… Вы, стало быть, юморист? (Качает укоризненно головой.) Стыдитесь! Так молод и так испорчен… А это что у вас в руках?
Упрямов. Рукописи.
Правдолюбов. Дайте их сюда! (Берет и рассматривает.) Тэк-с… посмотрим… Это что такое?
Упрямов. Темы для передовых рисунков.
Правдолюбов (вспыхивает негодованием, но, скоро поборов чувство, становится хладнокровным и беспристрастным à la судебный пристав). Это что же нарисовано?
Упрямов. Это, видите ли, нарисован человек. Одной ногой стоит он в России, другой в Австрии. Он показывает фокусы. «Господа! — говорит он. — Рубль, переложенный из правого кармана в левый, обращается в 65 копеек!» В пандан к этому рисунку приложен другой. Вы видите, вот кредитный рубль с ручками и ножками. Он то и дело падает, а за ним бегает немец и обрезывает его ножницами… Поняли? Это вот кабак… Это вот наша пресса, а это пресс… А это вот насадители березового леса; тут же и дети, просящие каши… Каша, как известно, разная бывает… Тут вот нарисован лакей…
Правдолюбов. А кто это в мышеловке?
Упрямов. Это тайный советник Россицкий; на крючке казенное сало…
Правдолюбов (при слове «сало» облизывается). Тайный Советник… (Краснеет за человечество.) Так молод и так испорчен… Да знаете ли вы, милостисдарь, что тайный советник соответствует в армии генерал-лейтенанту? Неужели вы этого не понимаете? Какое грубое непонимание, какое профанирование! (Вздыхает.) Что же мне теперь делать с вами? Что? (Задумывается, но скоро личное чувство берет верх над чувством долга, и добыча выскользает из рук.) Не могу я вас видеть, жалкий, несчастный молодой человек! Вы мне противны, вы жалки! Идите прочь! Пусть наказанием послужит вам мое презрение!
Упрямов (нисколько не раскаиваясь и улыбаясь двусмысленно, уходит в редакцию).
(обратно)Комик*
Комик Иван Акимович Воробьев-Соколов заложил руки в карманы своих широких панталон, повернулся к окну и устремил свои ленивые глаза на окно противоположного дома. Прошло минут пять в молчании…
— Ску-ка! — зевнула ingénue Марья Андреевна. — Что же вы молчите, Иван Акимыч? Коли пришли и помешали зубрить роль, то хоть разговаривайте! Несносный вы, право…
— Гм… Собираюсь сказать вам одну штуку, да как-то неловко… Скажешь вам спроста, без деликатесов… по-мужицки, а вы сейчас и осудите, на смех поднимете… Нет, не скажу лучше! Удержу язык мой от зла…
«О чем же это он собирается говорить? — подумала ingénue. — Возбужден, как-то странно смотрит, переминается с ноги на ногу… Уж не объясниться ли в любви хочет? Гм… Беда с этими сорванцами! Вчера первая скрипка объяснялась, сегодня всю репетицию резонер провздыхал… Перебесились все от скуки!»
Комик отошел от окна и, подойдя к комоду, стал рассматривать ножницы и баночку от губной помады.
— Тэк-ссс… Хочется сказать, а боюсь… неловко… Вам скажешь спроста, по-российски, а вы сейчас: невежа! мужик! то да се… Знаем вас… Лучше уж молчать…
«А что ему сказать, если он в самом деле начнет объясняться в любви? — продолжала думать ingénue. — Он добрый, славный такой, талантливый, но… мне не нравится. Некрасив уж больно… Сгорбившись ходит, и на лице какие-то волдыри… Голос хриплый… И к тому же эти манеры… Нет, никогда!»
Комик молча прошелся по комнате, тяжело опустился в кресло и с шумом потянул к себе со стола газету. Глаза его забегали по газете, словно ища чего-то, потом остановились на одной букве и задремали.
— Господи… хоть бы мухи были! — проворчал он. — Все-таки веселей…
«Впрочем, у него глаза недурны, — продолжала думать ingénue. — Но что у него лучше всего, так это характер, а у мужчины не так важна красота, как душа, ум… Замуж еще, пожалуй, можно пойти за него, но так жить с ним… ни за что! Как он, однако, сейчас на меня взглянул… Ожег! И чего он робеет, не понимаю!»
Комик тяжело вздохнул и крякнул. Видно было, что ему дорого стоило его молчание. Он стал красен, как рак, и покривил рот в сторону… На лице его выражалось страдание…
«Пожалуй, с ним и так жить можно, — не переставала думать ingénue. — Содержание он получает хорошее… Во всяком случае, с ним лучше жить, чем с каким-нибудь оборвышем капитаном. Право, возьму и скажу ему, что я согласна! Зачем обижать его, бедного, отказом? Ему и так горько живется!»
— Нет! Не могу! — закряхтел комик, поднимаясь и бросая газету. — Ведь этакая у меня разанафемская натура! Не могу себя побороть! Бейте, браните, а уж я скажу, Марья Андреевна!
— Да говорите, говорите. Будет вам юродствовать!
— Матушка! Голубушка! Простите великодушно… ручку целую коленопреклоненно…
На глазах комика выступили слезы с горошину величиной.
— Да говорите… противный! Что такое?
— Нет ли у вас, голубушка… рюмочки водочки? Душа горит! Такие во рту после вчерашнего перепоя окиси, закиси и перекиси, что никакой химик не разберет! Верите ли? Душу воротит! Жить не могу!
Ingénue покраснела, нахмурилась, но потом спохватилась и выдала комику рюмку водки… Тот выпил, ожил и принялся рассказывать анекдоты.
(обратно)Нечистые трагики и прокаженные драматурги*
Ужасно-страшно-возмутительно-отчаянная трррагедия
Действий много, картин еще больше
Действующие лица:
Мих. Вал. Лентовский, мужчина и антрепренер*.
Тарновский, раздирательный мужчина*; с чертями, китами и крокодилами на «ты»; пульс 225, температура 42,8°.
Публика, дама приятная во всех отношениях; кушает всё, что подают.
Карл XII, король шведский; манеры пожарного*.
Баронесса, брюнетка не без таланта; не отказывается от пустяковых ролей.
Генерал Эренсверд, ужасно крупный мужчина с голосом мастодонта*.
Делагарди, обыкновенный мужчина; читает роль с развязностью… суфлера*.
Стелла. сестра антрепренера*.
Бурль, мужчина, вывезенный на плечах Свободина*.
Ганзен*.
Прочие.
Эпилог[32]
Кратер вулкана. За письменным столом, покрытым кровью, сидит Тарновский; на его плечах вместо головы череп; во рту горит сера; из ноздрей выскакивают презрительно улыбающиеся зеленые чёртики. Перо макает он не в чернильницу, а в лаву, которую мешают ведьмы. Страшно. В воздухе летают бегающие по спине мурашки. В глубине сцены висят на раскаленных крючьях трясущиеся поджилки. Гром и молния. Календарь Алексея Суворина* (губернского секретаря) лежит тут же и с бесстрастностью судебного пристава предсказывает столкновение Земли с Солнцем, истребление вселенной и повышение цен на аптекарские товары*. Хаос, ужас, страх… Остальное дополнит фантазия читателя.
Тарновский (грызя перо). Что бы такое написать, чёррт возьми? Никак не придумаю! «Путешествие на Луну» уже было… «Бродяга» тоже был…*(Пьет горящую нефть.) Надо придумать еще что-нибудь… этакое, чтоб замоскворецким купчихам три дня подряд черти снились… (Трет себе лобную кость.) Гм… Шевелитесь же вы, великие мозги! (Думает; гром и молния; слышен залп из тысячи пушек, исполненных по рисунку г. Шехтеля*; из щелей выползают драконы, вампиры и змеи; в кратер падает большой сундук, из которого выходит Лентовский, одетый в большую афишу.)
Лентовский. Здорово, Тарновский!
Тарновский, Ведьмы, Прочие (вместе). Здравия желаем, ваше-ство!
Лентовский. Ну что? Готова пьеса, чёрррт возьми? (Машет дубинкой.)
Тарновский. Никак нет, Михаил Валентиныч… Думаю вот, сижу и никак не придумаю. Уж слишком трудную задачу задали вы мне! Вы хотите, чтобы от моей пьесы стыла у публики кровь, чтобы в сердцах замоскворецких купчих произошло землетрясение, чтобы лампы тухли от моих монологов… Но, согласитесь, это выше сил даже такого великого драматурга, как Тарновский! (Похвалив себя, конфузится.)
Лентовский. Ппустяки, чёррт возьми! Побольше пороху, бенгальского огня, трескучих монологов — вот и всё! В интересах костюмировки возьмите, чёрррт возьми, высший круг… Измена… Тюрьма… Возлюбленная заключенного насилием выдается замуж за злодея… Роль злодея дадим Писареву*…Далее — бегство из тюрьмы… выстрелы… Я не пожалею пороху… Далее — ребенок, знатное происхождение которого открывается только впоследствии… В конце концов опять выстрелы, опять пожар и торжество добродетели… Одним словом, стряпайте по шаблону, как стряпаются Рокамболи и графы Монте-Кристо*…(Гром, молния, иней, роса. Извержение вулкана. Лентовский выбрасывается наружу.)
Действие первое
Публика, капельдинеры, Ганзен и прочие.
Капельдинеры (стаскивая с публики шубы). На чаек бы с вашей милости! (Не получив на чаек, хватают публику за фалды.) О, черная неблагодарность!!! (Стыдятся за человечество.)
Один из публики. Что, выздоровел Лентовский?
Капельдинер. Драться уж начал, значит выздоровел!*
Ганзен (одеваясь в уборной). Удивлю же я их! Я покажу им! Во всех газетах заговорят!
Действие продолжается, но читатель нетерпелив: он жаждет 2-го действия, а посему — занавес!
Действие второе
Дворец Карла XII. За сценой Вальц глотает шпаги и раскаленные уголья*. Гром и молния. Карл XII и его царедворцы.
Карл (шагает по сцене и вращает белками). Делагарди! Вы изменили отечеству! Отдайте вашу шпагу капитану и извольте шествовать в тюрьму!
Делагарди (говорит несколько прочувствованных слов и уходит).
Карл. Тарновский! Вы в вашей раздирательной пьесе заставили меня прожить лишних десять лет! Извольте отправляться в тюрьму! (Баронессе.) Вы любите Делагарди и имеете от него ребенка. В интересах фабулы я не должен знать этого обстоятельства и должен отдать вас замуж за нелюбимого человека. Выходите за генерала Эренсверда.
Баронесса (выходя за генерала). Ах!
Генерал Эренсверд. Я их допеку! (Назначается смотрителем тюрьмы, в которой заключены Делагарди и Тарновский.)
Карл. Ну, теперь я свободен вплоть до пятого действия. Пойду в уборную!
Действие третье и четвертое
Стелла (играет по обыкновению недурно). Граф, я люблю вас!
Молодой граф. И я вас люблю, Стелла, но, заклинаю вас во имя любви, скажите мне, на кой чёрт припутал меня Тарновский к этой канители? На что я ему нужен? Какое отношение я имею к его фабуле?
Бурль. А всё это Спрут наделал! По его милости я попал в солдаты. Он бил меня, гнал, кусал… И не будь я Бурль, если это не он написал эту пьесу! Он на всё готов, чтобы только допечь меня!
Стелла (узнав свое происхождение). Иду к отцу и освобожу его! (На дороге к тюрьме встречается с Ганзеном. Ганзен выкидывает антраша.)
Бурль. По милости Спрута я попал в солдаты и участвую в этой пьесе. Наверное, и Ганзена, чтобы допечь меня, заставил плясать этот Спрут! Ну подожди же! (Падают мосты. Сцена проваливается. Ганзен делает прыжок, от которого становится дурно всем присутствующим старым девам.)
Действие пятое и шестое
Стелла (знакомится в тюрьме с папашей и придумывает с ним план бегства). Я спасу тебя, отец… Но как бы сделать так, чтобы с нами не бежал и Тарновский? Убежав из тюрьмы, он напишет новую драму!
Генерал Эренсверд (терзает баронессу и заключенных). Так как я злодей, то я не должен ничем походить на человека! (Ест сырое мясо.)
Делагарди иСтелла (бегут из тюрьмы).
Все. Держи! Лови!
Делагарди. Как бы там ни было, а мы все-таки убежим и останемся целы! (Выстрел.) Плевать! (Падает мертвый.) И на это плевать! Автор убивает, он же и воскрешает! (Является из уборной Карл и повелевает добродетели торжествовать над пороком. Всеобщее ликование. Улыбается луна, улыбаются и звезды.)
Публика (указывая Бурлю на Тарновского). Вот он, Спрут! Лови!
Бурль (душит Тарновского. Тарновский падает мертвый, но тотчас же вскакивает. Гром, молния, иней, убийство Коверлей*, великое переселение народов, кораблекрушение и сбор всех частей).
Лентовский. А все-таки я не удовлетворен! (Проваливается.)
(обратно)Perpetuum mobile*
Судебный следователь Гришуткин, старик, начавший службу еще в дореформенное время, и доктор Свистицкий, меланхолический господин, ехали на вскрытие. Ехали они осенью по проселочной дороге. Темнота была страшная, лил неистовый дождь.
— Ведь этакая подлость, — ворчал следователь. — Не то что цивилизации и гуманности, даже климата порядочного нет. Страна, нечего сказать! Европа тоже, подумаешь… Дождь-то, дождь! Словно нанялся, подлец! Да вези ты, анафема, поскорей, если не хочешь, чтобы я тебе, подлецу этакому, негодяю, все зубы выбил! — крикнул он работнику, сидевшему на козлах.
— Странно, Агей Алексеич! — говорил доктор, вздыхая и кутаясь в мокрую шубу. — Я даже не замечаю этой погоды. Меня гнетет какое-то странное, тяжелое предчувствие. Вот-вот, кажется мне, стрясется надо мной какое-то несчастие. А я верю в предчувствия и… жду. Всё может случиться. Трупное заражение… смерть любимого существа…
— Хоть при Мишке-то постыдитесь говорить о предчувствиях, баба вы этакая. Хуже того, что есть, не может быть. Этакий дождь — чего хуже? Знаете что, Тимофей Васильич? Я более не в состоянии так ехать. Хоть убейте, а не могу. Нужно остановиться где-нибудь переночевать… Кто тут близко живет?
— Яван Яваныч Ежов, — сказал Мишка. — Сейчас за лесом, только мостик переехать.
— Ежов? Валяй к Ежову! Кстати, давно уж не был у этого старого грешника.
Проехали лес и мостик, повернули налево, потом направо и въехали в большой двор председателя мирового съезда, отставного генерал-майора Ежова.
— Дома! — сказал Гришуткин, вылезая из тарантаса и глядя на окна дома, которые светились. — Это хорошо, что дома. И напьемся, и наедимся, и выспимся… Хоть и дрянной человечишка, но гостеприимен, надо отдать справедливость.
В передней встретил их сам Ежов, маленький, сморщенный старик с лицом, собравшимся в колючий комок.
— Очень кстати, очень кстати, господа… — заговорил он. — А мы только что сели ужинать и буженину едим, тридцать три моментально. А у меня, знаете, товарищ прокурора сидит. Спасибо ему, ангелу, заехал за мной. Завтра с ним на съезд ехать. У нас завтра съезд… тридцать три моментально…
Гришуткин и Свистицкий вошли в зал. Там стоял большой стол, уставленный закусками и винами. За одним прибором сидела дочь хозяина Надежда Ивановна, молодая брюнетка, в глубоком трауре по недавно умершем муже; за другим, рядом с ней, товарищ прокурора Тюльпанский, молодой человек с бачками и множеством синих жилок на лице.
— Знакомы? — говорил Ежов, тыча во всех пальцами. — Это вот прокурор, это — дочь моя…
Брюнетка улыбнулась и, прищурив глаза, подала новоприбывшим руку.
— Итак… с дорожки, господа! — сказал Ежов, наливая три рюмки. — Дерзайте, людие божии! И я выпью за компанию, тридцать три моментально. Ну-с, будемте здоровы…
Выпили. Гришуткин закусил огурчиком и принялся за буженину. Доктор выпил и вздохнул. Тюльпанский закурил сигару, попросив предварительно у дамы позволения, причем оскалил зубы так, что показалось, будто у него во рту по крайней мере сто зубов.
— Ну, что ж, господа? Рюмки-то ведь не ждут! А? Прокурор! Доктор! За медицину! Люблю медицину. Вообще люблю молодежь, тридцать три моментально. Что бы там ни говорили, а молодежь всегда будет идти впереди. Ну-с, будемте здоровы.
Разговорились. Говорили все, кроме прокурора Тюльпанского, который сидел, молчал и пускал через ноздри табачный дым. Было очевидно, что он считал себя аристократом и презирал доктора и следователя. После ужина Ежов, Гришуткин и товарищ прокурора сели играть в винт с болваном. Доктор и Надежда Ивановна сели около рояля и разговорились.
— Вы на вскрытие едете? — начала хорошенькая вдовушка. — Вскрывать мертвеца? Ах! Какую надо иметь силу воли, какой железный характер, чтобы не морщась, не мигнув глазом, заносить нож и вонзать его по рукоятку в тело бездыханного человека. Я, знаете ли, благоговею перед докторами. Это особенные люди, святые люди. Доктор, отчего вы так печальны? — спросила она.
— Предчувствие какое-то… Меня гнетет какое-то странное, тяжелое предчувствие. Точно ждет меня потеря любимого существа.
— А вы, доктор, женаты? У вас есть близкие?
— Ни души. Я одинок и не имею даже знакомых. Скажите, сударыня, вы верите в предчувствия?
— О, я верю в предчувствия.
И в то время, как доктор и вдовушка толковали о предчувствиях, Ежов и следователь Гришуткин то и дело вставали из-за карт и подходили к столу с закуской. В два часа ночи проигравшийся Ежов вдруг вспомнил о завтрашнем съезде и хлопнул себя по лбу.
— Батюшки! Что же мы делаем?! Ах мы беззаконники, беззаконники! Завтра чуть свет на съезд ехать, а мы играем! Спать, спать, тридцать три моментально! Надька, марш спать! Объявляю заседание закрытым.
— Счастливы вы, доктор, что можете спать в такую ночь! — сказала Надежда Ивановна, прощаясь с доктором. — Я не могу спать, когда дождь барабанит в окна и когда стонут мои бедные сосны. Пойду сейчас и буду скучать за книгой. Я не в состоянии спать. Вообще, если в коридорчике на окне против моей двери горит лампочка, то это значит, что я не сплю и меня съедает скука…
Доктор и Гришуткин в отведенной для них комнате нашли две громадные постели, постланные на полу, из перин. Доктор разделся, лег и укрылся с головой. Следователь разделся и лег, но долго ворочался, потом встал и заходил из угла в угол. Это был беспокойнейший человек.
— Я всё про барыньку думаю, про вдовушку, — сказал он. — Этакая роскошь! Жизнь бы отдал! Глаза, плечи, ножки в лиловых чулочках… огонь баба! Баба — ой-ой! Это сейчас видно! И этакая красота принадлежит чёрт знает кому — правоведу, прокурору! Этому жилистому дуралею, похожему на англичанина! Не выношу, брат, этих правоведов! Когда ты с ней о предчувствиях говорил, он лопался от ревности! Что говорить, шикарная женщина! Замечательно шикарная! Чудо природы!
— Да, почтенная особа, — сказал доктор, высовывая голову из-под одеяла. — Особа впечатлительная, нервная, отзывчивая, такая чуткая. Мы вот с вами сейчас уснем, а она, бедная, не может спать. Ее нервы не выносят такой бурной ночи. Она сказала мне, что всю ночь напролет будет скучать и читать книжку. Бедняжка! Наверное, у ней теперь горит лампочка…
— Какая лампочка?
— Она сказала, что если около ее двери на окне горит лампочка, то это значит, что она не спит.
— Она тебе это сказала? Тебе?
— Да, мне.
— В таком случае я тебя не понимаю! Ведь ежели она это тебе сказала, то значит ты счастливейший из смертных! Молодец, доктор! Молодчина! Хвалю, друг! Хоть и завидую, но хвалю! Не так, брат, за тебя рад, как за правоведа, за этого рыжего каналью! Рад, что ты ему рога наставишь! Ну, одевайся! Марш!
Гришуткин, когда бывал пьян, всем говорил «ты».
— Выдумываете вы, Агей Алексеич! Бог знает что, право… — застенчиво отвечал доктор.
— Ну, ну… не разговаривай, доктор! Одевайся и валяй… Как, бишь, это поется в «Жизни за царя»?* И на пути любви денек срываем мы как бы цветок… Одевайся, душа моя. Да ну же! Тимоша! Доктор! Да ну же, скотина!
— Извините, я вас не понимаю.
— Да что же тут не понимать! Астрономия тут, что ли? Одевайся и иди к лампочке, вот и всё понятие.
— Странно, что вы такого нелестного мнения об этой особе и обо мне.
— Да брось ты философствовать! — рассердился Гришуткин. — Неужели ты можешь еще колебаться? Ведь это цинизм!
Он долго убеждал доктора, сердился, умолял, даже становился на колени и кончил тем, что громко выбранился, плюнул и повалился в постель. Но через четверть часа вдруг вскочил и разбудил доктора.
— Послушайте! Вы решительно отказываетесь идти к ней? — спросил он строго.
— Ах… зачем я пойду? Какой вы беспокойный человек, Агей Алексеич! С вами ездить на вскрытие — это ужасно!
— Ну так, чёрт вас возьми, я пойду к ней! Я… я не хуже какого-нибудь правоведа или бабы доктора. Пойду!
Он быстро оделся и пошел к двери.
Доктор вопросительно поглядел на него, как бы не понимая, потом вскочил.
— Вы, полагаю, это шутите? — спросил он, загораживая Гришуткину дорогу.
— Некогда мне с тобой разговаривать… Пусти!
— Нет, я не пущу вас, Агей Алексеич. Ложитесь спать… Вы пьяны!
— По какому это праву ты, эскулап, меня не пустишь?
— По праву человека, который обязан защитить благородную женщину. Агей Алексеич, опомнитесь, что вы хотите делать! Вы старик! Вам шестьдесят семь лет!
— Я старик? — обиделся Гришуткин. — Какой это негодяй сказал тебе, что я старик?
— Вы, Агей Алексеич, выпивши и возбуждены. Нехорошо! Не забывайте, что вы человек, а не животное! Животному прилично подчиняться инстинкту, а вы царь природы, Агей Алексеич!
Царь природы побагровел и сунул руки в карманы.
— Последний раз спрашиваю: пустишь ты меня или нет? — крикнул он вдруг пронзительным голосом, точно кричал в поле на ямщика. — Каналья!
Но тотчас же он сам испугался своего голоса и отошел от двери к окну. Он хотя был и пьян, но ему стало стыдно этого своего пронзительного крика, который, вероятно, разбудил всех в доме. После некоторого молчания к нему подошел доктор и тронул его за плечо. Глаза доктора были влажны, щеки пылали…
— Агей Алексеич! — сказал он дрожащим голосом. — После резких слов, после того, как вы, забыв всякое приличие, обозвали меня канальей, согласитесь, нам уже нельзя оставаться под одной крышей. Я вами страшно оскорблен… Допустим, что я виноват, но… в чем я, в сущности, виноват? Дама честная, благородная, и вдруг вы позволяете себе подобные выражения. Извините, мы более не товарищи.
— И отлично! Не надо мне таких товарищей.
— Я уезжаю сию минуту, больше оставаться я с вами не могу, и… надеюсь, мы больше не встретимся.
— Вы уедете на чем-с?
— На своих лошадях.
— А я на чем же уеду? Вы что же это! До конца хотите подличать? Вы меня привезли на ваших лошадях, на ваших же обязаны и увезти.
— Я вас довезу, если угодно. Только сейчас… Я сейчас еду. Я так взволнован, что больше не могу здесь оставаться.
Затем Гришуткин и Свистицкий молча оделись и вышли на двор. Разбудили Мишку, потом сели в тарантас и поехали…
— Циник… — бормотал всю дорогу следователь. — Если не умеешь обращаться с порядочными женщинами, то сиди дома, не бывай в домах, где женщины…
Себя ли это бранил он или доктора, трудно было понять. Когда тарантас остановился около его квартиры, он спрыгнул и, скрываясь за воротами, проговорил:
— Не желаю быть знакомым!
Прошло три дня. Доктор, окончив свою визитацию, лежал у себя на диване и, от нечего делать, читал в «Календаре для врачей»* фамилии петербургских и московских докторов, стараясь отыскать самую звучную и красивую. На душе у него было тихо, хорошо, плавно, как на небе, в синеве которого неподвижно стоит жаворонок, и это благодаря тому, что в прошлую ночь он видел во сне пожар, что означало счастье. Вдруг послышался шум подъехавших саней (выпал снежок), и на пороге показался следователь Гришуткин. Это был неожиданный гость. Доктор поднялся и поглядел на него сконфуженно и со страхом. Гришуткин кашлянул, потупил глаза и медленно направился к дивану.
— Я приехал извиниться, Тимофей Васильич, — начал он. — Я был по отношению к вам немножко нелюбезен и даже, кажется, сказал вам какую-то неприятность. Вы, конечно, поймете мое тогдашнее возбужденное состояние, вследствие наливки, выпитой у той старой канальи, и извините…
Доктор привскочил и, со слезами на глазах, пожал протянутую руку.
— Ах… помилуйте! Марья, чаю!
— Нет, не надо чаю… Некогда. Вместо чаю, если можно, прикажите квасу подать. Выпьем квасу и поедем труп вскрывать.
— Какой труп?
— Да всё тот же унтер-офицерский, который тогда ездили вскрывать, да не доехали.
Гришуткин и Свистицкий выпили квасу и поехали на вскрытие.
— Конечно, я извиняюсь, — говорил доро́гой следователь, — я тогда погорячился, но всё же, знаете ли, обидно, что вы не наставили рогов этому прокурору… ккканалье.
Проезжая через Алимоново, они увидели около трактира ежовскую тройку…
— Ежов тут! — сказал Гришуткин. — Его лошади. Зайдемте, повидаемся… Выпьем зельтерской воды и кстати на сиделочку поглядим. Тут знаменитая сиделка! Баба ой-ой! Чудо природы!
Путники вылезли из саней и пошли в трактир. Там сидели Ежов и Тюльпанский и пили чай с клюквенным морсом.
— Вы куда? Откуда? — удивился Ежов, увидев Гришуткина и доктора.
— На вскрытие всё ездим, да никак не доедем. В заколдованный круг попали. А вы куда?
— Да на съезд, батенька!
— Зачем так часто? Ведь вы третьего дня ездили!
— Кой чёрт, ездили… У прокурора зубы болели, да и я не в себе как-то был все эти дни. Ну, что пить будете? Присаживайтесь, тридцать три моментально. Водки или пива? Дай-ка нам, брат сиделочка, того и другого. Ах, что за сиделка!
— Да, знаменитая сиделка, — согласился следователь. — Замечательная сиделка. Баба ой-ой-ой!
Через два часа из трактира вышел докторский Мишка и сказал генеральскому кучеру, чтобы тот распряг и поводил лошадей.
— Барин велел… В карты засели! — сказал он и махнул рукой. — Теперь до завтраго отсюда не выберемся. Н-ну, и исправник едет! Стало быть, до послезавтра тут сидеть будем!
К трактиру подкатил исправник. Узнав ежовских лошадей, он приятно улыбнулся и вбежал по лесенке…
(обратно)Месть женщины*
Кто-то рванул за звонок. Надежда Петровна, хозяйка квартиры, в которой происходила описываемая история, вскочила с дивана и побежала отворить дверь.
«Должно быть, муж…». — подумала она.
Но, отворив дверь, она увидела не мужа. Перед ней стоял высокий, красивый мужчина в дорогой медвежьей шубе и золотых очках. Лоб его был нахмурен и сонные глаза глядели на мир божий равнодушно-лениво.
— Что вам угодно? — спросила Надежда Петровна.
— Я доктор, сударыня. Меня звали сюда какие-то… э-э-э… Челобитьевы… Вы Челобитьевы?
— Мы Челобитьевы, но… ради бога, извините, доктор. У моего мужа флюс и лихорадка. Он послал вам письмо, но вы так долго не приезжали, что он потерял всякое терпение и побежал к зубному врачу.
— Гм… Он мог бы сходить к зубному врачу и не беспокоя меня…
Доктор нахмурился. Прошла минута в молчании.
— Извините, доктор, что мы вас обеспокоили и заставили даром проехаться… Если бы мой муж знал, что вы приедете, то, верьте, он не побежал бы к дантисту… Извините…
Прошла еще одна минута в молчании. Надежда Петровна почесала себе затылок.
«Чего же он ждет, не понимаю?» — подумала она, косясь на дверь.
— Отпустите меня, сударыня! — пробормотал доктор. — Не держите меня. Время так дорого, знаете, что…
— То есть… Я, то есть… Я не держу вас…
— Но, сударыня, не могу же я уехать, не получив за свой труд!
— За труд? Ах, да… — залепетала Надежда Петровна, сильно покраснев. — Вы правы… За визит нужно заплатить, это верно… Вы трудились, ехали… Но, доктор… мне даже совестно… муж мой пошел из дому и взял с собой все наши деньги… Дома у меня теперь решительно ничего нет…
— Гм… Странно… Как же быть? Не дожидаться же мне вашего мужа! Да вы поищите, может быть, найдется что-нибудь… Сумма, в сущности, ничтожная…
— Но уверяю вас, что муж всё унес… Мне совестно… Не стала бы я из-за какого-нибудь рубля переживать подобное… глупое положение…
— Странный у вас, у публики, взгляд на труд врачей… ей-богу, странный… Словно мы и не люди, словно наш труд не труд… Ведь я ехал к вам, терял время… трудился…
— Да я это очень хорошо понимаю, но, согласитесь, бывают же такие случаи, когда в доме нет ни копейки!
— Ах, да какое же мне дело до этих случаев? Вы, сударыня, просто… наивны и нелогичны… Не заплатить человеку… это даже нечестно… Пользуетесь тем, что я не могу подать на вас мировому и… так бесцеремонно, ей-богу… Больше, чем странно!
Доктор замялся. Ему стало стыдно за человечество… Надежда Петровна вспыхнула. Ее покоробило…
— Хорошо! — сказала она резким тоном. — Постойте… Я пошлю в лавочку, и там, может быть, мне дадут денег… Я вам заплачу.
Надежда Петровна пошла в гостиную и села писать записку к лавочнику. Доктор снял шубу, вошел в гостиную и развалился в кресле. В ожидании ответа от лавочника, оба сидели и молчали. Минут через пять пришел ответ. Надежда Петровна вынула из записочки рубль и сунула его доктору. У доктора вспыхнули глаза.
— Вы смеетесь, сударыня, — сказал он, кладя рубль на стол. — Мой человек, пожалуй, возьмет рубль, но я… нет-с, извините-с!
— Сколько же вам нужно?
— Обыкновенно я беру десять… С вас же, пожалуй, я возьму и пять, если хотите.
— Ну, пяти вы от меня не дождетесь… У меня нет для вас денег.
— Пошлите к лавочнику. Если он мог дать вам рубль, то почему же ему не дать вам и пяти? Не всё ли равно? Я прошу вас, сударыня, не задерживать меня. Мне некогда.
— Послушайте, доктор… Вы не любезны, если… не дерзки! Нет, вы грубы, бесчеловечны! Понимаете? Вы… гадки!
Надежда Петровна повернулась к окну и прикусила губу. На ее глазах выступили крупные слезы.
«Подлец! Мерзавец! — думала она. — Животное! Он смеет… смеет! Не может понять моего ужасного, обидного положения! Ну, подожди же… чёрт!»
И, немного подумав, она повернула свое лицо к доктору. На этот раз на лице ее выражалось страдание, мольба.
— Доктор! — сказала она тихим, умоляющим голосом. — Доктор! Если бы у вас было сердце, если бы вы захотели понять… вы не стали бы мучить меня из-за этих денег… И без того много муки, много пыток.
Надежда Петровна сжала себе виски и словно сдавила пружину: волосы прядями посыпались на ее плечи…
— Страдаешь от невежды мужа… выносишь эту жуткую, тяжелую среду, а тут еще образованный человек позволяет себе бросать упрек. Боже мой! Это невыносимо!
— Но поймите же, сударыня, что специальное положение нашего сословия…
Но доктор должен был прервать свою речь. Надежда Петровна пошатнулась и упала без чувств на протянутые им руки… Голова ее склонилась к нему на плечо.
— Сюда, к камину, доктор… — шептала она через минуту. — Поближе… Я вам всё расскажу… всё…
Через час доктор выходил из квартиры Челобитьевых. Ему было и досадно, и совестно, и приятно…
«Чёрт возьми… — думал он, садясь в свои сани. — Никогда не следует брать с собой из дому много денег! Того и гляди, что нарвешься!»
(обратно)Ванька*
Был второй час ночи.
Коммерции советник Иван Васильевич Котлов вышел из ресторана «Славянский базар» и поплелся вдоль по Никольской, к Кремлю. Ночь была хорошая, звездная… Из-за облачных клочков и обрывков весело мигали звезды, словно им приятно было глядеть на землю. Воздух был тих и прозрачен.
«Около ресторана извозчики дороги, — думал Котлов, — нужно отойти немного… Там дальше дешевле… И к тому же мне надо пройтись: я объелся и пьян».
Около Кремля он нанял ночного ваньку.
— На Якиманку! — скомандовал он.
Ванька, малый лет двадцати пяти, причмокнул губами и лениво передернул вожжами. Лошаденка рванулась с места и поплелась мелкой, плохенькой рысцой… Ванька попался Котлову самый настоящий, типичный… Поглядишь на его заспанное, толстокожее, угреватое лицо — и сразу определишь в нем извозчика.
Поехали через Кремль.
— Который теперь час будет? — спросил ванька.
— Второй, — ответил коммерции советник.
— Так-с… А теплей стало! Были холода, а теперь опять потеплело… Хромаешь, подлая! Э-э-э… каторжная!
Извозчик приподнялся и проехался кнутом по лошадиной спине.
— Зима! — продолжал он, поудобней усаживаясь и оборачиваясь к седоку. — Не люблю! Уж больно я зябкий! Стою на морозе и весь коченею, трясусь… Подуй холод, а у меня уж и морда распухла… Комплекцыя такая! Не привык!
— Привыкай… У тебя, братец, ремесло такое, что привыкать надо…
— Человек ко всему привыкнуть может, это действительно, ваше степенство… Да покеда привыкнешь, так раз двадцать замерзнешь… Нежный я человек, балованный, ваше степенство… Меня отец и мать избаловали. Не думали, что мне в извозчиках быть. Нежность на меня напускали. Царство им небесное! Как породили меня на теплой печке, так до десятого годка и не снимали оттеда. Лежал я на печке и пироги лопал, как свинья какая непутная… Любимый у них был… Одевали меня наилучшим манером, грамоте для нежности обучали. Бывалыча и босиком не пробеги: «Простудишься, миленькой!» Словно не мужик, а барин. Побьет отец, а мать плачет… Мать побьет — отцу жалко. Поедешь с отцом в лес за хворостом, а мать тебя в три шубы кутает, словно ты в Москву собрался аль в Киев…
— Разве богато жили?
— Обнаковенно жили, по-мужицки… День прошел — и слава богу. Богаты не были, да и с голоду, благодарить бога, не мерли. Жили мы, барин, в семействе… семейством, стало быть… Дед мой тогда жив был, да коло него два сына жили. Один сын, отец мой тоись, женатый был, другой неженатый. А я один паренечек был всего-навсего, всей семье на утеху — ну и баловали. Дед тоже баловал… У деда, знаешь, деньга была припрятана, и он воображение в себе такое имел, что я не пойду по мужицкой части… «Тебе, — говорит, — Петруха, лавку открою. Расти!» Напускали на меня нежность-то, напускали, холили-холили, а вышло потом такое недоумение, что совсем не до нежности… Дядя-то мой, дедов сын, а отцов брат, возьми и выкрадь у деда его деньги. Тыщи две было… Как выкрал, так с той поры и пошло разоренье… Лошадей продали, коров… Отец с дедом наниматься пошли… Известно, как это у нас в крестьянстве… А меня, раба божьего, в пастухи… Вот она, нежность-то!
— Ну, дядя-то твой? Он же что?
— Он ничего… как и следовает… Снял на большой дороге трахтир и зажил припеваючи… Годов через пять на богатой серпуховской мещанке женился. Тысяч восемь за ней взял… После свадьбы трахтир сгорел… Отчего, это самое, ему не гореть, ежели он в обчестве застрахован? Так и следовает… А после пожара уехал он в Москву и снял там бакалейную лавку… Таперь, говорят, богат стал и приступу к нему нет… Наши мужики, хабаровские, видели его тут, сказывали… Я не видел… Фамилия его будет Котлов, а по имени и отечеству Иван Васильев… Не слыхали?
— Нет… Ну, поезжай скорей!
— Обидел нас Иван Васильев, ух как обидел! Разорил и по миру пустил… Не будь его, нешто я мерз бы тут при своей этой самой комплекцыи, при моей слабости? Жил бы я да поживал в своей деревушке… Эхх! Звонят вот к заутрене… Хочется мне господу богу помолиться, чтоб взыскал с него за всю мою муку… Ну, да бог с ним! Пусть его бог простит! Дотерпим!
— Направо к подъезду!
— Слушаю… Ну, вот и доехали… А за побасенку пятачишко следовало бы…
Котлов вынул из кармана пятиалтынный и подал его ваньке.
— Прибавить бы следовало! Вез ведь как! Да и почин…
— Будет с тебя!
Барин дернул звонок и через минуту исчез за резною дубовою дверью.
А извозчик вскочил на козлы и поехал медленно обратно… Подул холодный ветерок… Ванька поморщился и стал совать зябкие руки в оборванные рукава.
Он не привык к холоду… Балованный…
(обратно)Репетитор*
Гимназист VII класса Егор Зиберов милостиво подает Пете Удодову руку. Петя, двенадцатилетний мальчуган в сером костюмчике, пухлый и краснощекий, с маленьким лбом и щетинистыми волосами, расшаркивается и лезет в шкап за тетрадками. Занятие начинается.
Согласно условию, заключенному с отцом Удодовым, Зиберов должен заниматься с Петей по два часа ежедневно, за что и получает шесть рублей в месяц. Готовит он его во II класс гимназии. (В прошлом году он готовил его в I класс, но Петя порезался.)
— Ну-с… — начинает Зиберов, закуривая папиросу. — Вам задано четвертое склонение. Склоняйте fructus!
Петя начинает склонять.
— Опять вы не выучили! — говорит Зиберов, вставая. — В шестой раз задаю вам четвертое склонение, и вы ни в зуб толконуть! Когда же, наконец, вы начнете учить уроки?
— Опять не выучил? — слышится за дверями кашляющий голос, и в комнату входит Петин папаша, отставной губернский секретарь Удодов. — Опять? Почему же ты не выучил? Ах ты, свинья, свинья! Верите ли, Егор Алексеич? Ведь и вчерась порол!
И, тяжело вздохнув, Удодов садится около сына и засматривает в истрепанного Кюнера*. Зиберов начинает экзаменовать Петю при отце. Пусть глупый отец узнает, как глуп его сын! Гимназист входит в экзаменаторский азарт, ненавидит, презирает маленького краснощекого тупицу, готов побить его. Ему даже досадно делается, когда мальчуган отвечает впопад — так опротивел ему этот Петя!
— Вы даже второго склонения не знаете! Не знаете вы и первого! Вот вы как учитесь! Ну, скажите мне, как будет звательный падеж от meus filius[33]?
— От meus filius? Meus filius будет… это будет…
Петя долго глядит в потолок, долго шевелит губами, но не дает ответа.
— А как будет дательный множественного от dea[34]?
— Deabus… filiabus! — отчеканивает Петя.
Старик Удодов одобрительно кивает головой. Гимназист, не ожидавший удачного ответа, чувствует досаду.
— А еще какое существительное имеет в дательном abus? — спрашивает он.
Оказывается, что и «anima — душа» имеет в дательном abus, чего нет в Кюнере.
— Звучный язык латинский! — замечает Удодов. — Алон… трон… бонус… антропос… Премудрость! И всё ведь это нужно! — говорит он со вздохом.
«Мешает, скотина, заниматься… — думает Зиберов. — Сидит над душой тут и надзирает. Терпеть не могу контроля!» — Ну-с, — обращается он к Пете. — К следующему разу по латыни возьмете то же самое. Теперь по арифметике… Берите доску. Какая следующая задача?
Петя плюет на доску и стирает рукавом. Учитель берет задачник и диктует:
— «Купец купил 138 арш. черного и синего сукна за 540 руб. Спрашивается, сколько аршин купил он того и другого, если синее стоило 5 руб. за аршин, а черное 3 руб.?» Повторите задачу.
Петя повторяет задачу и тотчас же, ни слова не говоря, начинает делить 540 на 138.
— Для чего же это вы делите? Постойте! Впрочем, так… продолжайте. Остаток получается? Здесь не может быть остатка. Дайте-ка я разделю!
Зиберов делит, получает 3 с остатком и быстро стирает.
«Странно… — думает он, ероша волосы и краснея. — Как же она решается? Гм!.. Это задача на неопределенные уравнения, а вовсе не арифметическая»…
Учитель глядит в ответы и видит 75 и 63.
«Гм!.. странно… Сложить 5 и 3, а потом делить 540 на 8? Так, что ли? Нет, не то».
— Решайте же! — говорит он Пете.
— Ну, чего думаешь? Задача-то ведь пустяковая! — говорит Удодов Пете. — Экий ты дурак, братец! Решите уж вы ему, Егор Алексеич.
Егор Алексеич берет в руки грифель и начинает решать. Он заикается, краснеет, бледнеет.
— Эта задача, собственно говоря, алгебраическая, — говорит он. — Ее с иксом и игреком решить можно. Впрочем, можно и так решить. Я, вот, разделил… понимаете? Теперь, вот, надо вычесть… понимаете? Или, вот что… Решите мне эту задачу сами к завтраму… Подумайте…
Петя ехидно улыбается. Удодов тоже улыбается. Оба они понимают замешательство учителя. Ученик VII класса еще пуще конфузится, встает и начинает ходить из угла в угол.
— И без алгебры решить можно, — говорит Удодов, протягивая руку к счетам и вздыхая. — Вот, извольте видеть…
Он щелкает на счетах, и у него получается 75 и 63, что и нужно было.
— Вот-с… по-нашему, по-неученому.
Учителю становится нестерпимо жутко. С замиранием сердца поглядывает он на часы и видит, что до конца урока остается еще час с четвертью — целая вечность!
— Теперь диктант.
После диктанта — география, за географией — закон божий, потом русский язык, — много на этом свете наук! Но вот, наконец, кончается двухчасовой урок. Зиберов берется за шапку, милостиво подает Пете руку и прощается с Удодовым.
— Не можете ли вы сегодня дать мне немного денег? — просит он робко. — Завтра мне нужно взносить плату за учение. Вы должны мне за шесть месяцев.
— Я? Ах, да, да… — бормочет Удодов, не глядя на Зиберова. — С удовольствием! Только у меня сейчас нету, а я вам через недельку… или через две…
Зиберов соглашается и, надев свои тяжелые, грязные калоши, идет на другой урок.
(обратно)На охоте*
Собачья выставка с ее борзыми и гончими напомнила мне один маленький эпизод, имевший большое влияние на мою жизнь.
В одно прекрасное утро я получил от дяди, помещика Екатеринославской губернии, письмо. Между прочим он писал:
«Если не приедешь ко мне на будущей неделе, то и племянником считать тебя не буду, отца твоего из поминальной книжки вычеркну… Поохотимся, — приезжай!»…
Надо было поехать.
Дядя встретил меня с распростертыми объятиями и, как это водится даже у самых гостеприимных охотников, не дав мне оправиться после долгой дороги и отдохнуть, повел меня на псарню показывать мне своих лошадей и собак. Собаки, по моему мнению, бывают большие, маленькие и средние, белые, черные и серые, злые и смирные; дядя же различал между ними крапчатых, темно-багряных, сохастовых, лещеватых, черно-пегих, черных в подпалинах, брудастых — совсем собачий язык, и мне кажется, что если бы собаки умели говорить, то говорили бы именно на таком языке. Дядя показывал, целовал собак в морды и всё требовал, чтобы я щупал собачьи морды, трогал лапы.
На другой день утром меня нарядили в полушубок и валенки и повезли на охоту.
Я вспоминаю теперь большой ольховый лес, седой от инея. Тишина в нем царит гробовая. От леса до горизонта тянется белое поле… И конца не видно этому полю. В лесу и по полю скачут на конях полушубки… У всех лица озабоченные, напряженные, словно всем этим полушубкам предстоит открыть что-то новое, необыкновенное… Дядя мой, красный как рак, скачет от одного полушубка к другому, отдает приказания, сыплет ругательства… Слышны трубные звуки… Эту картину вспоминаю я теперь. Помню также, как подъехал ко мне дядя и повел меня на окраину леса.
— Стой тут… Как зверь побежит на тебя из лесу, так и стреляй!
— Но ведь я, дядюшка, и ружья-то держать путем не умею!
— Пустяки… Приучайся… Ну, смотри же!.. Чуть только зверь — пли!!.
Сказавши это, дядя отъехал от меня, и я остался один. Полушубки поскакали в лес. Долго я ждал зверя. Ждал я, а сам в это время думал о Москве, мечтал, дремал…
«А что если я убью зверя? — воображал я. — Убью я, а не они! То-то потеха будет!»
После долгого ожидания послышался наконец сдержанный собачий лай… По лесу понеслось ауканье… Я взвел курок и насторожил зрение и слух… У меня забилось сердце, и проснулся во мне инстинкт хищника-охотника. Затрещали недалеко от меня кусты, и я увидел зверя… Зверь, какой-то странный, на длинных ногах и с колючей мордой, несся прямо на меня… Я нажал пальцем, загремел выстрел, и всё было кончено. Ура! Мой зверь подпрыгнул, упал и закорчился.
— Сюда! Ко мне! — закричал я. — Дядюшка!
Я указал на умирающего зверя. Дядя поглядел на него и схватил себя за голову.
— Это мой Скачок! — закричал он. — Моя собака!.. Моя горячо любимая собака!..
И, прыгнув с лошади, он припал к своему Скачку. А я поскорее в сани — и был таков.
Непреднамеренное убийство Скачка навсегда рассорило меня с дядей. Он перестал мне высылать содержание. Умирая же, три года тому назад, он приказал передать мне, что он и после смерти не простит мне убийства его любимой собаки. И имение свое он завещал не мне, а какой-то даме, своей бывшей любовнице.
(обратно)О женщины, женщины!*
Сергей Кузьмич Почитаев, редактор провинциальной газеты «Кукиш с маслом», утомленный и измученный, воротился из редакции к себе домой и повалился на диван.
— Слава богу! Я дома наконец… Отдохну душой здесь… у домашнего очага, около жены… Моя Маша — единственный человек, который может понять меня, искренно посочувствовать…
— Чего ты сегодня такой бледный? — спросила его жена, Марья Денисовна.
— Да так, на душе скверно… Пришел вот к тебе и рад: душой отдохну.
— Да что случилось?
— Вообще скверно, а сегодня в особенности. Петров не хочет больше отпускать в кредит бумагу. Секретарь запьянствовал… Но всё это пустяки, уладится как-нибудь… А вот где беда, Манечка… Сижу я сегодня в редакции и читаю корректуру своей передовой. Вдруг, знаешь, отворяется дверь и входит князь Прочуханцев, давнишний мой друг и приятель, тот самый, что в любительских спектаклях всегда первых любовников играет и что актрисе Зрякиной за один поцелуй свою белую лошадь отдал. «Зачем, думаю, черти принесли? Это недаром… Зрякиной, думаю, пришел рекламу делать»… Разговорились… То да се, пятое, десятое… Оказывается, что не за рекламой пришел. Стихи свои принес для напечатания…
«Почувствовал, говорит, я в своей груди огненный пламень и… пламенный огонь. Хочется вкусить сладость авторства…»
Вынимает из кармана розовую раздушенную бумажку и подает…
«Стихи, говорит… Я, говорит, в них несколько субъективен, но все-таки… И Некрасов был субъективен…»
Взял я эти самые субъективные стихи и читаю… Чепуха невозможнейшая! Читаешь их и чувствуешь, что у тебя глаза чешутся и под ложечкой давит, словно ты жёрнов проглотил… Посвятил стихи Зрякиной. Посвяти он мне эти стихи, я бы на него мировому подал! В одном стихотворении пять раз слово «стремглав»! А рифма! Ландыше́й вместо ла́ндышей! Слово «лошадь» рифмует с «ношей»!
«Нет, говорю, вы мне друг и приятель, но я не могу поместить ваших стихов…»
«Почему-с?»
«А потому… По независящим от редакции обстоятельствам… Не подходят под программу газеты…»
Покраснел я весь, глаза стал чесать, соврал, что голова трещит… Ну как ему сказать, что его стихи никуда не годятся? Он заметил мое смущение и надулся, как индюк.
«Вы, говорит, сердиты на Зрякину, а потому и не хотите печатать моих стихов. Я понимаю… Па-анимаю, милостивый государь!»
В лицеприятии меня упрекнул, назвал филистером, клерикалом и еще чем-то… Битых два часа читал мне нотацию. В конце концов пообещал затеять интригу против моей особы… Не простившись уехал… Такие-то дела, матушка! 4-го декабря, на Варвару, Зрякина именинница — и стихи должны появиться в печати во что бы то ни стало… Хоть умри, да помещай! Напечатать их невозможно: газету осрамишь на всю Россию. Не напечатать тоже нельзя: Прочуханцев интригу затеет — и ни за грош пропадешь. Изволь-ка теперь придумать, как выбраться из этого ерундистого положения!
— А какие стихи? О чем? — спросила Марья Денисовна.
— Ни о чем… Ерунда… Хочешь, прочту? Начинаются они так:
Сквозь дым мечтательной сигары Носилась ты в моих мечтах, Неся с собой любви удары С улыбкой пламенной в устах…А потом сразу переход:
Прости меня, мой ангел белоснежный, Подруга дней моих и идеал мой нежный, Что я, забыв любовь, стремглав туда бросаюсь, Где смерти пасть… О, ужасаюсь!И прочее… чепуха.
— Что же? Это стихи очень милые! — всплеснула руками Марья Денисовна. — Даже очень милые! Чем не стихи? Ты просто придираешься, Сергей! «Сквозь дым… с улыбкой пламенной»… Значит, ты ничего не понимаешь! Ты не понимаешь, Сергей!
— Ты не понимаешь, а не я!
— Нет, извини… Прозы я не понимаю, а стихи я отлично понимаю! Князь превосходно сочинил! Отлично! Ты ненавидишь его, ну и не хочешь печатать!
Редактор вздохнул и постучал пальцем сначала по столу, потом по лбу…
— Знатоки! — пробормотал он, презрительно улыбаясь.
И, взяв свой цилиндр, он горько покачал головой и вышел из дома…
«Иду искать по свету*, где оскорбленному есть чувству уголок… О женщины, женщины!* Впрочем, все бабы одинаковы!» — думал он, шагая к ресторану «Лондон».
Ему хотелось запить…
(обратно)Наивный леший*
(Сказка)
В лесу, на берегу речки, которую день и ночь сторожит высокий камыш, стоял в одно прекрасное утро молодой, симпатичный леший. Возле него на травке сидела русалочка, молоденькая и такая хорошенькая, что, знай я ее точный адрес, бросил бы всё — и литературу, и жену, и науки — и полетел бы к ней… Русалочка была нахмурена и сердито теребила зеленую травку.
— Я прошу вас понять меня, — говорил леший, заикаясь и конфузливо мигая глазами. — Если вы поймете, то не будете так строги. Позвольте мне объяснить вам всё с самого начала… 20 лет тому назад на этом самом месте, когда я просил у вас руки, вы сказали, что только в таком случае выйдете за меня замуж, если у меня не будет глупого выражения лица, а для этого вы посоветовали мне отправиться к людям и поучиться у них уму-разуму. Я, как вам известно, послушал вас и отправился к людям. Отлично… Придя к ним, я прежде всего оправился, какие есть специальности и ремесла. Один правовед сказал мне, что самая лучшая и безвредная специальность — это лежать на диване, задрав вверх ноги, и плевать в потолок; но я, честный, глупый леший, не поверил ему! Прежде всего я попал по протекции в почтмейстеры. Ужасная, ma chère[35], должность! Письма обывателей до того скучны, что просто тошно делается!
— Зачем же вы их читали, если они скучны?
— Так принято… Да и к тому же нельзя без этого… Письма разные бывают… Иной подписывается «поручик такой-то», а под этим поручиком Лассаля понимать надо или Спинозу… Ну-с… потом поступил я по протекции в брандмейстеры… Тоже ужасная должность! То и дело пожар… Сядешь, бывало, обедать или в винт играть — пожар. Ляжешь спать — пожар. А изволь-ка тут ехать на пожар, если еще и из естественной истории известно, что казенных лошадей нельзя кормить овсом. Раз я велел накормить лошадей овсом, и — что ж вы думаете? — ревизор так удивился, что мне даже совестно стало… Бросил…
Есть, ma chère, на земле люди, которые смотрят за тем, чтобы у ближних в головах и карманах ничего лишнего не было. От брандмейстера к этой должности рукой подать. Я поступил. Вся моя служба на первых порах состояла в том, что я принимал от людей «благодарности»… Сначала мне это ужасно нравилось… В наш практический век такие чувства, как благодарность, могут не нравиться только камню и должны быть поощряемы… Но потом я совсем разочаровался. Люди ужасно испорчены… Они благодарят купонами 1889 года и даже пускают в ход фальшивые купоны. И к тому же — благодарят, а у самих в глазах никаких приятных чувств не выражается… По́шло! От этой должности к педагогии рукой подать. Поступил я в педагоги. Сначала мне повезло, и даже директор несколько раз мне руку пожимал. Ему ужасно нравилось мое глупое лицо. Но увы! Прочел я однажды в «Вестнике Европы» статью о вреде лесоистребления* и почувствовал угрызения совести. Мне и ранее, откровенно говоря, было жаль употреблять нашу милую, зеленую березу* для таких низменных целей, как педагогия.
Выразил я директору свое сомнение, и мое глупое выражение лица было сочтено за подложное. Я — фюйть! Потом поступил я в доктора. Сначала мне повезло. Дифтериты, знаете ли, тифы… Хотя я и не увеличил процента смертности, но все-таки был замечен. В повышение меня назначили врачом в Московский воспитательный дом. Здесь, кроме рецептов и посещения палат, с меня потребовали реверансов, книксенов и уменья с достоинством ездить на запятках… Старший доктор Соловьев*, тот самый, что в Одессе, на съезде, себя на эмпиреях чувствовал, требовал даже от меня, чтобы я делал ему глазки. Когда я сказал, что реверансы и глазки не преподаются на медицинском факультете, меня сочли за вольнодумца и не помнящего родства…
После неудачного докторства занялся я коммерцией. Открыл булочную и стал булки печь. Но, ma chère, на земле так много насекомых, что просто ужас! Какой калач ни взломай, во всяком таракан или мокрица сидит.
— Ах, полно вам чепуху пороть! — воскликнула русалочка, выйдя из терпения. — Кой чёрт просил вас, дурака этакого, поступать в брандмейстеры и булки печь? Неужели вы, скотина вы этакая, не могли на земле найти что-нибудь поумнее и возвышеннее? Разве у людей нет наук, литературы?
— Я, знаете ли, хотел поступить в университет, да мне один акцизный сказал, что там всё беспорядки… Был я и литератором… черти понесли меня в эту литературу! Писал я хорошо и даже надежды подавал, но, ma chère, в кутузках так холодно и так много клопов, что даже при воспоминании пахнет в воздухе клопами. Литературой я и кончил… В больнице помер… Литературный фонд похоронил меня на свой счет. Репортеры на десять рублей на моих похоронах водки выпили. Дорогая моя! Не посылайте меня вторично к людям! Уверяю вас, что я не вынесу этого испытания!
— Это ужасно! Мне жаль вас, но поглядитесь вы в реку! Ваше лицо стало глупее прежнего! Нет, ступайте опять! Займитесь науками, искусствами… путешествуйте, наконец! Не хотите этого? Ну, так ступайте и последуйте тому совету, который дал вам правовед!
Леший начал умолять… Чего уж он только не говорил, чтобы избавиться от неприятной поездки! Он сказал, что у него нет паспорта, что он на замечании, что при теперешнем курсе тяжело совершать какие бы то ни было поездки, но ничто не помогло… Русалочка настояла на своем. И леший опять среди людей. Он теперь служит, дослужился уже до статского советника, но выражение его лица нисколько не изменилось: оно по-прежнему глупое.
(обратно)Прощение*
В прощальный день* я, по христианскому обычаю и по добросердечию своему, прощаю всех…
Торжествующую свинью прощаю за то*, что она… содержит в себе трихины.
Прощаю вообще всё живущее, теснящее, давящее и душащее… как-то: тесные сапоги, корсет, подвязки и проч.
Прощаю аптекарей за то, что они приготовляют красные чернила.
Взятку — за то, что ее берут чиновники.
Березовую кашу* и древние языки — за то, что они юношей питают и отраду старцам подают*, а не наоборот.
«Голос» — за то, что он закрылся*.
Статских советников — за то, что они любят хорошо покушать.
Мужиков — за то, что они плохие гастрономы.
Прощаю я кредитный рубль… Кстати: один секретарь консистории, держа в руке только что добытый рубль, говорил дьякону: «Ведь вот, поди ж ты со мной, отец дьякон! Никак я не пойму своего характера! Возьмем хоть вот этот рубль к примеру… Что он? Падает ведь, унижен, осрамлен, очернился паче сажи, потерял всякую добропорядочную репутацию, а люблю его! Люблю его, несмотря на все его недостатки, и прощаю… Ничего, брат, с моим добрым характером не поделаешь!» Так вот и я…
Прощаю себя за то, что я не дворянин и не заложил еще имения отцов моих.
Литераторов прощаю за то, что они еще и до сих пор существуют.
Прощаю Окрейца за то, что его «Луч»* не так мягок, как потребно.
Прощаю Суворина*, планеты, кометы, классных дам, ее и, наконец, точку, помешавшую мне прощать до бесконечности.
(обратно)Сон репортера*
«Настоятельно прошу быть сегодня на костюмированном балу французской колонии. Кроме вас, идти некому. Дадите заметку, возможно подробнее. Если же почему-либо не можете быть на балу, то немедленно уведомьте — попрошу кого-нибудь другого. При сем прилагаю билет. Ваш… (следует подпись редактора).
P. S. Будет лотерея-аллегри. Будет разыграна ваза, подаренная президентом французской республики. Желаю вам выиграть».
Прочитав это письмо, Петр Семеныч, репортер, лег на диван, закурил папиросу и самодовольно погладил себя по груди и по животу. (Он только что пообедал.)
— Желаю вам выиграть, — передразнил он редактора. — А на какие деньги я куплю билет? Небось, денег на расходы не даст, ска-атина. Скуп, как Плюшкин. Взял бы он пример* с заграничных редакций… Там умеют ценить людей. Ты, положим, Стэнли, едешь отыскивать Ливингстона. Ладно. Бери столько-то тысяч фунтов стерлингов! Ты, Джон Буль, едешь отыскивать «Жаннетту»*. Ладно. Бери десять тысяч! Ты идешь описывать бал французской колонии. Ладно. Бери… тысяч пятьдесят… Вот как за границей! А он мне прислал один билет, потом заплатит по пятаку за строчку и воображает… Ска-а-тина!..
Петр Семеныч закрыл глаза и задумался. Множество мыслей, маленьких и больших, закопошилось в его голове. Но скоро все эти мысли покрылись каким-то приятным розовым туманом. Из всех щелей, дыр, окон медленно поползло во все стороны желе, полупрозрачное, мягкое… Потолок стал опускаться… Забегали человечки, маленькие лошадки с утиными головками, замахало чье-то большое мягкое крыло, потекла река… Прошел мимо маленький наборщик с очень большими буквами и улыбнулся… Всё утонуло в его улыбке и… Петру Семенычу начало сниться.
Он надел фрак, белые перчатки и вышел на улицу. У подъезда давно уже ожидает его карета с редакционным вензелем. С козел соскакивает лакей в ливрее и помогает ему сесть в карету, подсаживает его, точно барышню-аристократку.
Через какую-нибудь минуту карета останавливается у подъезда Благородного собрания. Он, нахмурив лоб, сдает свое платье и с важностью идет вверх по богато убранной, освещенной лестнице. Тропические растения, цветы из Ниццы, костюмы, стоящие тысячи.
— Корреспондент… — пробегает шёпот в многотысячной толпе. — Это он…
К нему подбегает маленький старичок с озабоченным лицом, в орденах.
— Извините, пожалуйста! — говорит он Петру Семенычу. — Ах, извините, пожалуйста!
И вся зала вторит за ним:
— Ах, извините, пожалуйста!
— Ах, полноте! Вы меня конфузите, право… — говорит репортер.
И он вдруг, к великому своему удивлению, начинает трещать по-французски. Ранее знал одно только «merci», а теперь — на поди!
Петр Семеныч берет цветок и бросает сто рублей, и как раз в это время подают от редактора телеграмму: «Выиграйте дар президента французской республики и опишите ваши впечатления. Ответ на тысячу слов уплачен. Не жалейте денег». Он идет к аллегри и начинает брать билеты. Берет один… два… десять… Берет сто, наконец тысячу и получает вазу из севрского фарфора. Обняв обеими руками вазу, спешит дальше.
Навстречу ему идет дамочка с роскошными льняными волосами и голубыми глазами. Костюм у нее замечательный, выше всякой критики. За ней толпа.
— Кто это? — спрашивает репортер.
— А это одна знатная француженка. Выписана из Ниццы вместе с цветами.
Петр Семеныч подходит к ней и рекомендуется. Через минуту он берет ее под руку и ходит, ходит… Ему многое нужно разузнать от француженки, очень многое… Она так прелестна!
«Она моя! — думает он. — А где я у себя в комнате поставлю вазу?» — соображает он, любуясь француженкой. Комната его мала, а ваза всё растет, растет и так разрослась, что не помещается даже в комнате. Он готов заплакать.
— А-а-а… так вы вазу любите больше, чем меня? — говорит вдруг ни с того, ни с сего француженка и — трах кулаком по вазе!
Драгоценный сосуд громко трещит и разлетается вдребезги. Француженка хохочет и бежит куда-то в туман, в облако. Все газетчики стоят и хохочут… Петр Семеныч, рассерженный, с пеной у рта, бежит за ними и вдруг, очутившись в Большом театре, падает вниз головой с шестого яруса.
Петр Семеныч открывает глаза и видит себя на полу, около своего дивана. У него от ушиба болят спина и локоть.
«Слава богу, нет француженки, — думает он, протирая глаза. — Ваза, значит, цела. Хорошо, что я не женат, а то, пожалуй, дети стали бы шалить и разбили вазу».
Протерев же глаза как следует, он не видит и вазы.
«Всё это сон, — думает он. — Однако уже первый час ночи… Бал давно уже начался, пора ехать… Полежу еще немного и — марш!»
Полежав еще немного, он потянулся и… заснул — и так и не попал на бал французской колонии.
— Ну, что? — спросил у него на другой день редактор. — Были на балу? Понравилось?
— Так себе… Ничего особенного… — сказал он, делая скучающее лицо. — Вяло. Скучно. Я написал заметку в двести строк. Немножко браню наше общество за то, что оно не умеет веселиться. — И, сказавши это, он отвернулся к окну и подумал про редактора:
— Ска-атина!!
(обратно)Певчие*
С легкой руки мирового, получившего письмо из Питера, разнеслись слухи, что скоро в Ефремово прибудет барин, граф Владимир Иваныч. Когда он прибудет — неизвестно.
— Яко тать в нощи, — говорит отец Кузьма, маленький, седенький попик в лиловой ряске. — А ежели он приедет, то и прохода здесь не будет от дворянства и прочего высшего сословия. Все соседи съедутся. Уж ты тово… постарайся, Алексей Алексеич… Сердечно прошу…
— Мне-то что! — говорит Алексей Алексеич, хмурясь. — Я свое дело сделаю. Лишь бы только мой враг ектению в тон читал. А то ведь он назло…
— Ну, ну… я умолю дьякона… умолю…
Алексей Алексеич состоит псаломщиком при ефремовской Трехсвятительской церкви. В то же время он обучает школьных мальчиков церковному и светскому пению, за что получает от графской конторы шестьдесят рублей в год. Школьные же мальчики за свое обучение обязаны петь в церкви. Алексей Алексеич — высокий, плотный мужчина с солидною походкой и бритым жирным лицом, похожим на коровье вымя. Своею статностью и двухэтажным подбородком он более похож на человека, занимающего не последнюю ступень в высшей светской иерархии, чем на дьячка. Странно было глядеть, как он, статный и солидный, бухал владыке земные поклоны и как однажды, после одной слишком громкой распри с дьяконом Евлампием Авдиесовым, стоял два часа на коленях, по приказу отца благочинного. Величие более прилично его фигуре, чем унижение.
Ввиду слухов о приезде графа, он делает спевки каждый день утром и вечером. Спевки производятся в школе. Школьным занятиям они мало мешают. Во время пения учитель Сергей Макарыч задает ученикам чистописание и сам присоединяется к тенорам, как любитель.
Вот как производятся спевки. В классную комнату, хлопая дверью, входит сморкающийся Алексей Алексеич. Из-за ученических столов с шумом выползают дисканты и альты. Со двора, стуча ногами, как лошади, входят давно уже ожидающие тенора и басы. Все становятся на свои места. Алексей Алексеич вытягивается, делает знак, чтобы молчали, и издает камертоном звук.
— То-то-ти-то-том… До-ми-соль-до!
— Аааа-минь!
— Адажьо… адажьо… Еще раз…
После «аминь» следует «Господи помилуй» великой ектении. Всё это давно уже выучено, тысячу раз пето, пережевано и поется только так, для проформы. Поется лениво, бессознательно. Алексей Алексеич покойно машет рукой и подпевает то тенором, то басом. Всё тихо, ничего интересного… Но перед «Херувимской» весь хор вдруг начинает сморкаться, кашлять и усиленно перелистывать ноты. Регент отворачивается от хора и с таинственным выражением лица начинает настраивать скрипку. Минуты две длятся приготовления.
— Становитесь. Глядите в ноты получше… Басы, не напирайте… помягче…
Выбирается «Херувимская» Бортнянского, № 7. По данному знаку наступает тишина. Глаза устремляются в ноты, и дисканты раскрывают рты. Алексей Алексеич тихо опускает руку.
— Пиано… пиано… Ведь там «пиано» написано… Легче, легче!
— …ви… и… мы…*
Когда нужно петь piano, на лице Алексея Алексеича разлита доброта, ласковость, словно он хорошую закуску во сне видит.
— Форте… форте! Напирайте!
И когда нужно петь forte, жирное лицо регента выражает сильный испуг и даже ужас.
«Херувимская» поется хорошо, так хорошо, что школьники оставляют свое чистописание и начинают следить за движениями Алексея Алексеича. Под окнами останавливается народ. Входит в класс сторож Василий, в фартуке, со столовым ножом в руке, и заслушивается. Как из земли вырастает отец Кузьма с озабоченным лицом… После «отложим попечение»* Алексей Алексеич вытирает со лба пот и в волнении подходит к отцу Кузьме.
— Недоумеваю, отец Кузьма! — говорит он, пожимая плечами. — Отчего это в русском народе понимания нет? Недоумеваю, накажи меня бог! Такой необразованный народ, что никак не разберешь, что у него там в горле: глотка или другая какая внутренность? Подавился ты, что ли? — обращается он к басу Геннадию Семичеву, брату кабатчика.
— А что?
— На что у тебя голос похож? Трещит, словно кастрюля. Опять, небось, вчерась трахнул за галстук? Так и есть! Изо рта, как из кабака… Эээх! Мужик, братец, ты! Невежа ты! Какой же ты певчий, ежели ты с мужиками в кабаке компанию водишь? Эх, ты осел, братец!
— Грех, брат, грех… — бормочет отец Кузьма. — Бог всё видит… насквозь…
— Оттого ты и пения нисколько не понимаешь, что у тебя в мыслях водка, а не божественное, дурак ты этакой.
— Не раздражайся, не раздражайся… — говорит отец Кузьма. — Не сердись… Я его умолю.
Отец Кузьма подходит к Геннадию Семичеву и начинает его умолять:
— Зачем же ты? Ты, тово, пойми у себя в уме. Человек, который поет, должен себя воздерживать, потому что глотка у него тово… нежная.
Геннадий чешет себе шею и косится на окно, точно не к нему речь.
После «Херувимской» поют «Верую», потом «Достойно и праведно», поют чувствительно, гладенько — и так до «Отче наш».
— А по-моему, отец Кузьма, — говорит регент, — простое «Отче наш» лучше нотного*. Его бы и спеть при графе.
— Нет, нет… Пой нотное. Потому граф в столицах, к обедне ходючи, окроме нотного ничего… Небось, там в капеллах… Там, брат, еще и не такие ноты!..
После «Отче наш» опять кашель, сморканье и перелистыванье нот. Предстоит исполнить самое трудное: концерт. Алексей Алексеич изучает две вещи: «Кто бог велий» и «Всемирную славу». Что лучше выучат, то и будут петь при графе. Во время концерта регент входит в азарт. Выражение доброты то и дело сменяется испугом. Он машет руками, шевелит пальцами, дергает плечами…
— Форте! — бормочет он. — Анданте! Разжимайте… разжимайте! Пой, идол! Тенора, не доносите! То-то-ти-то-том… Соль… си… соль, дурья твоя голова! Велий! Басы, ве… ве… лий…
Его смычок гуляет по головам и плечам фальшивящих дискантов и альтов. Левая рука то и дело хватает за уши маленьких певцов. Раз даже, увлекшись, он согнутым большим пальцем бьет под подбородок баса Геннадия. Но певчие не плачут и не сердятся на побои: они сознают всю важность исполняемой задачи.
После концерта проходит минута в молчании. Алексей Алексеич, вспотевший, красный, изнеможенный, садится на подоконник и окидывает присутствующих мутным, отяжелевшим, но победным взглядом. В толпе слушателей он, к великому своему неудовольствию, усматривает диакона Авдиесова. Диакон, высокий, плотный мужчина, с красным рябым лицом и с соломой в волосах, стоит, облокотившись о печь, и презрительно ухмыляется.
— Ладно, пой! Выводи ноты! — бормочет он густым басом. — Очень нужно грахву твое пение!* Ему хоть по нотам пой, хоть без нот… Потому — атеист…
Отец Кузьма испуганно озирается и шевелит пальцами.
— Ну, ну… — шепчет он. — Молчи, диакон. Молю…
После концерта поют «Да исполнятся уста наша», и спевка кончается. Певчие расходятся, чтобы сойтись вечером для новой спевки. И так каждый день.
Проходит месяц, другой…
Уже и управляющий получил уведомление о скором приезде графа. Но вот, наконец, с господских окон снимаются запыленные жалюзи и Ефремово слышит звуки разбитого, расстроенного рояля. Отец Кузьма чахнет и сам не знает, отчего он чахнет: от восторга ли, от испуга ли… Диакон ходит и ухмыляется.
В ближайший субботний вечер отец Кузьма входит в квартиру регента. Лицо его бледно, плечи осунулись, блеск лиловой рясы померк.
— Был сейчас у его сиятельства, — говорит он, заикаясь, регенту. — Образованный господин, с деликатными понятиями… Но, тово… обидно, брат… В каком часу, говорю, ваше сиятельство, прикажете завтра к литургии ударить? А они мне: «Когда знаете… Только нельзя ли как-нибудь поскорее, покороче… без певчих». Без певчих! Тово, понимаешь… без певчих…
Алексей Алексеич багровеет. Легче ему еще раз простоять два часа на коленях, чем этакие слова слышать! Всю ночь не спит он. Не так обидно ему, что пропали его труды, как то, что Авдиесов не даст ему теперь прохода своими насмешками. Авдиесов рад его горю. На другой день всю обедню он презрительно косится на клирос, где один, как перст, басит Алексей Алексеич. Проходя с кадилом мимо клироса, он бормочет:
— Выводи ноты, выводи! Старайся! Грахв красненькую на хор даст!
После обедни регент, уничтоженный и больной от обиды, идет домой. У ворот догоняет его красный Авдиесов.
— Постой, Алеша, — говорит диакон. — Постой, дура, не сердись! Не ты один, и я, брат, в накладе! Подходит сейчас после обедни к грахву отец Кузьма и спрашивает: «А какого вы понятия о голосе диакона, ваше сиятельство? Не правда ли, совершеннейшая октава?» А грахв-то, знаешь, что выразил? Конплимент! «Кричать, говорит, всякий может. Не так, говорит, важен в человеке голос, как ум». Питерский дока! Атеист и есть атеист! Пойдем, брат сирота, с обиды тарарахнем точию по единой!
И враги, взявшись под руки, идут в ворота…
(обратно)Два письма*
I
Серьезный вопрос
Милый и дорогой мой дядюшка, Анисим Петрович!
Сейчас был у меня Ваш земляк Курошеев и сообщил мне, между прочим, что на днях воротился из-за границы со своей семьей Ваш сосед Мурдашевич. Это известие тем более поразило меня, что ранее ходили слухи, что Мурдашевичи навсегда останутся за границей.
Дорогой и милый дядюшка! Если Вы хотя немного любите вашего племянника, то съездите, голубчик, к Мурдашевичу и узнайте, как поживает его воспитанница, Машенька. Исповедую Вам сокровенную тайну моей души. Только Вам одному могу довериться. Я люблю Машеньку, люблю страстно, больше жизни! Шесть лет разлуки ни на йоту не уменьшили моей любви к ней. Жива ли она, здорова? Напишите, в каком виде Вы ее застали, помнит ли она меня, любит ли по-прежнему? Могу ли я написать к ней письмо? Всё узнайте, голубчик, и опишите обстоятельнее.
Скажите ей, что я уже не тот робкий, бедный студент… Я уже присяжный поверенный, имею практику, деньги… Одним словом, для полного счастья не хватает у меня только ее одной… Только!
В ожидании скорейшего ответа обнимаю.
Владимир Гречнев.
II
Обстоятельный ответ
Милый мой племянник Володя!
Получивши же твое письмо, я на другой день поехал к Мурдашевичу. Славный он человек! Постарел и поседел в загранице, но сохранил в себе воспоминание обо мне, своем старинном друге, так что, когда я вошедши, он обнял меня и, долго смотря мне в лице, сказал робким, нежным возгласом: «Не узнаю!» Когда же я назвал свою фамилию, он еще раз обнял меня и сказал: «Теперь припоминаю». Хороший человек! Будучи у него, выпил и закусил, потом же и за проферансишку сели по одной десятой. Во многих видах и разных манерах объяснял он мне про заграницу и много смешил меня игривым описанием смешных немецких нравов. Но наука, говорит, у немцев далеко пошла. Показывал мне также картину, купленную проездом через Италию, изображающую женского пола одну особу в странной, неприличной одежде. Видел я и Машеньку. Была в богатом платье розового цвета с протчими украшениями драгоценного свойства. Тебя она помнит и даже прослезилась глазами, когда о тебе спрашивала. Ждет от тебя письма и благодарит за память и чувства. Ты пишешь, что имеешь практику и деньги! Береги, душенька, деньги и веди себя умеренно и воздержно. Я, когда будучи в молодости, предавался сластолюбивым излишествам, но кратковременно и воздержно, и все-таки каюсь. Засим благословляю и желаю всего лучшего.
Твой дядя и доброжелатель Анисим Гречнев.
P.S. Пишешь ты хоть непонятно, но очень заманчиво и красноречиво. Показывал твое письмо всем соседям. Прочитавши его, сочли тебя как бы сочинителем, так что даже сын отца Григория, Владимир, переписал его с тем, чтобы послать в газету. Показывал его также Машеньке и ее мужу, немцу Урмахеру, за которого Машенька вышла замуж в прошлом годе. Немец прочел и похвалил. И теперь я всем показываю твое письмо и читаю. Пиши еще! А икра у Мурдашевича очень вкусная.
(обратно)Жалобная книга*
Лежит она, эта книга, в специально построенной для нее конторке на станции железной дороги. Ключ от конторки «хранится у станционного жандарма», на деле же никакого ключа не нужно, так как конторка всегда отперта. Раскрывайте книгу и читайте:
«Милостивый государь! Проба пера!?»
Под этим нарисована рожица с длинным носом и рожками. Под рожицей написано:
«Ты картина, я портрет, ты скотина, а я нет. Я — морда твоя».
«Подъезжая к сией станцыи и глядя на природу в окно, у меня слетела шляпа. И. Ярмонкин».
«Кто писал не знаю, а я дурак читаю».
«Оставил память начальник стола претензий Коловроев».
«Приношу начальству мою жалобу на Кондуктора Кучкина за его грубости в отношении моей жене. Жена моя вовсе не шумела, а напротив старалась чтоб всё было тихо. А также и насчет жандарма Клятвина который меня Грубо за плечо взял. Жительство имею в имении Андрея Ивановича Ищеева который знает мое поведение. Конторщик Самолучшев».
«Никандров социалист!»
«Находясь под свежим впечатлением возмутительного поступка… (зачеркнуто). Проезжая через эту станцию, я был возмущен до глубины души следующим… (зачеркнуто). На моих глазах произошло следующее возмутительное происшествие, рисующее яркими красками наши железнодорожные порядки… (далее всё зачеркнуто, кроме подписи). Ученик 7-го класса Курской гимназии Алексей Зудьев».
«В ожидании отхода поезда обозревал физиогномию начальника станции и остался ею весьма недоволен. Объявляю о сем по линии. Неунывающий дачник».
«Я знаю кто это писал. Это писал М. Д.».
«Господа! Тельцовский шуллер!»
«Жандармиха ездила вчера с буфетчиком Костькой за реку. Желаем всего лучшего. Не унывай жандарм!»
«Проезжая через станцию и будучи голоден в рассуждении чего бы покушать я не мог найти постной пищи. Дьякон Духов».
«Лопай, что дают»…
«Кто найдет кожаный портсигар тот пущай отдаст в кассу Андрею Егорычу».
«Так как меня прогоняют со службы, будто я пьянствую, то объявляю, что все вы мошенники и воры. Телеграфист Козьмодемьянский».
«Добродетелью украшайтесь».
«Катинька, я вас люблю безумно!»
«Прошу в жалобной книге не писать посторонних вещей. За начальника станции Иванов 7-й».
«Хоть ты и седьмой, а дурак».
(обратно)Чтение*
(Рассказ старого воробья)
(обратно)Как-то раз в кабинете нашего начальника Ивана Петровича Семипалатова сидел антрепренер нашего театра Галамидов и говорил с ним об игре и красоте наших актрис.
— Но я с вами не согласен, — говорил Иван Петрович, подписывая ассигновки. — Софья Юрьевна сильный, оригинальный талант! Милая такая, грациозная… Прелестная такая…
Иван Петрович хотел дальше продолжать, но от восторга не мог выговорить ни одного слова и улыбнулся так широко и слащаво, что антрепренер, глядя на него, почувствовал во рту сладость.
— Мне нравится в ней… э-э-э… волнение и трепет молодой груди, когда она читает монологи… Так и пышет, так и пышет! В этот момент, передайте ей, я готов… на всё!
— Ваше превосходительство, извольте подписать ответ на отношение херсонского полицейского правления касательно…
Семипалатов поднял свое улыбающееся лицо и увидел перед собой чиновника Мердяева. Мердяев стоял перед ним и, выпучив глаза, подносил ему бумагу для подписи. Семипалатов поморщился: проза прервала поэзию на самом интересном месте.
— Об этом можно бы и после, — сказал он. — Видите ведь, я разговариваю! Ужасно невоспитанный, неделикатный народ! Вот-с, господин Галамидов… Вы говорили, что у нас нет уже гоголевских типов… А вот вам! Чем не тип? Неряха, локти продраны, косой… никогда не чешется… А посмотрите, как он пишет! Это чёрт знает что! Пишет безграмотно, бессмысленно… как сапожник! Вы посмотрите!
— М-да… — промычал Галамидов, посмотрев на бумагу. — Действительно… Вы, господин Мердяев, вероятно, мало читаете.
— Этак, любезнейший, нельзя! — продолжал начальник. — Мне за вас стыдно! Вы бы хоть книги читали, что ли…
— Чтение много значит! — сказал Галамидов и вздохнул без причины. — Очень много! Вы читайте и сразу увидите, как резко изменится ваш кругозор. А книги вы можете достать где угодно. У меня, например… Я с удовольствием. Завтра же я завезу, если хотите.
— Поблагодарите, любезнейший! — сказал Семипалатов.
Мердяев неловко поклонился, пошевелил губами и вышел.
На другой день приехал к нам в присутствие Галамидов и привез с собой связку книг. С этого момента и начинается история. Потомство никогда не простит Семипалатову его легкомысленного поступка! Это можно было бы, пожалуй, простить юноше, но опытному действительному статскому советнику — никогда! По приезде антрепренера Мердяев был позван в кабинет.
— Нате вот, читайте, любезнейший! — сказал Семипалатов, подавая ему книгу. — Читайте внимательно.
Мердяев взял дрожащими руками книгу и вышел из кабинета. Он был бледен. Косые глазки его беспокойно бегали и, казалось, искали у окружающих предметов помощи. Мы взяли у него книгу и начали ее осторожно рассматривать.
Книга была «Граф Монте-Кристо».
— Против его воли не пойдешь! — сказал со вздохом наш старый бухгалтер Прохор Семеныч Будылда. — Постарайся как-нибудь, понатужься… Читай себе помаленьку, а там, бог даст, он забудет, и тогда бросить можно будет. Ты не пугайся… А главное — не вникай… Читай и не вникай в эту умственность.
Мердяев завернул книгу в бумагу и сел писать. Но не писалось ему на этот раз. Руки у него дрожали и глаза косили в разные стороны: один в потолок, другой в чернильницу На другой день пришел он на службу заплаканный.
— Четыре раза уж начинал, — сказал он, — но ничего не разберу… Какие-то иностранцы…
Через пять дней Семипалатов, проходя мимо столов, остановился перед Мердяевым и спросил:
— Ну, что? Читали книгу?
— Читал, ваше превосходительство.
— О чем же вы читали, любезнейший? А ну-ка, расскажите!
Мердяев поднял вверх голову и зашевелил губами.
— Забыл, ваше превосходительство… — сказал он через минуту.
— Значит, вы не читали или, э-э-э… невнимательно читали! Авто-мма-тически! Так нельзя! Вы еще раз прочтите! Вообще, господа, рекомендую. Извольте читать! Все читайте! Берите там у меня на окне книги и читайте. Парамонов, подите, возьмите себе книгу! Подходцев, ступайте и вы, любезнейший! Смирнов — и вы! Все, господа! Прошу!
Все пошли и взяли себе по книге. Один только Будылда осмелился выразить протест. Он развел руками, покачал головой и сказал:
— А уж меня извините, ваше превосходительство… Скорей в отставку… Я знаю, что от этих самых критик и сочинений бывает. У меня от них старший внук родную мать в глаза дурой зовет и весь пост молоко хлещет. Извините-с!
— Вы ничего не понимаете, — сказал Семипалатов, прощавший обыкновенно старику все его грубости.
Но Семипалатов ошибался: старик всё понимал. Через неделю же мы увидели плоды этого чтения. Подходцев, читавший второй том «Вечного жида», назвал Будылду «иезуитом»; Смирнов стал являться на службу в нетрезвом виде. Но ни на кого не подействовало так чтение, как на Мердяева. Он похудел, осунулся, стал пить.
— Прохор Семеныч! — умолял он Будылду. — Заставьте вечно бога молить! Попросите вы его превосходительство, чтобы они меня извинили… Не могу я читать. Читаю день и ночь, не сплю, не ем… Жена вся измучилась, вслух читавши, но, побей бог, ничего не понимаю! Сделайте божескую милость!
Будылда несколько раз осмеливался докладывать Семипалатову, но тот только руками махал и, расхаживая по правлению вместе с Галамидовым, попрекал всех невежеством. Прошло этак два месяца, и кончилась вся эта история ужаснейшим образом.
Однажды Мердяев, придя на службу, вместо того, чтобы садиться за стол, стал среди присутствия на колени, заплакал и сказал:
— Простите меня, православные, за то, что я фальшивые бумажки делаю!
Затем он вошел в кабинет и, став перед Семипалатовым на колени, сказал:
— Простите меня, ваше превосходительство: вчера я ребеночка в колодец бросил!
Стукнулся лбом о пол и зарыдал…
— Что это значит?! — удивился Семипалатов.
— А это то значит, ваше превосходительство, — сказал Будылда со слезами на глазах, выступая вперед, — что он ума решился! У него ум за разум зашел! Вот что ваш Галамидка сочинениями наделал! Бог всё видит, ваше превосходительство. А ежели вам мои слова не нравятся, то позвольте мне в отставку. Лучше с голоду помереть, чем этакое на старости лет видеть!
Семипалатов побледнел и прошелся из угла в угол.
— Не принимать Галамидова! — сказал он глухим голосом. — А вы, господа, успокойтесь. Я теперь вижу свою ошибку. Благодарю, старик!
И с этой поры у нас больше ничего не было. Мердяев выздоровел, но не совсем. И до сих пор при виде книги он дрожит и отворачивается.
(обратно)Жизнеописания достопримечательных современников*
I
Письмо в редакцию
Милостивый государь, господин редактор!
На прошлой неделе в пятницу скончался раком в желудке мой старший брат Петр Гурьич Хрусталев, штабс-капитан, живший на 2-й Ямской в доме купца Чернобрюхова и называвший себя юмористически по случаю запоя «шнапс-капитаном». Будучи умирая, он подозвал меня к своему смертному одру и сказал жалостным голосом:
— Никифор! Мне капут и предел… Но я не унываю, ибо жизнь человеческая по естеству своему, как и всё прочее, заключена в рамки. Так уж в природе испокон века ведется. Ежели бы все люди жили да не умирали, то не было бы для них места не только в домах, но и на крышах… Слушай! Ты знаешь, что всю мою жизнь я страдал от дурного качества, а именно от запоя. Кроме того, я имел склонность к литературе. Возьми эту тетрадь и после смерти моей отнеси в какую-нибудь редакцию, дабы узнали люди, что я за человек и как я всё понимаю. Попроси, чтоб напечатали крупным шрифтом.
Сказавши это, братец дал мне тетрадь и помер. На тетради этой написано: «Жизнеописания достопримечательных современников». В сочинениях я по невежеству мало понимаю, но «Жизнеописания» братца мне ужасно нравятся. Слогом своим и красноречием они похожи несколько на «Сторонние сообщения» г. Николая Базунова, помещаемые в «Новостях дня»*, а потому имею честь просить, ваше высокоблагородие, не побрезговать и исполнить волю почившего.
Его брат Никифор Хрусталев.
II
Александр Иванович Иванов
Знаменитый изобретатель подседно-копытной, колесной и иных мазей
Александр Иванович Иванов, сей великий подседно-копытный муж, родился в XIX веке от бедных, но благородных родителей, в неизвестном месте. По мнению весьма многих ученых историков и философов, день и час его рождения совпадает с появлением на небе кометы 1848 года*. Парижская же Академия наук отрицает это и днем его рождения называет 23-е марта 1849 г. — день, в который происходило извержение Везувия*. Рассказывают, что А. И. в первую минуту своей жизни, взглянув на принимавшую его повитуху, горько заплакал и этим уже показал свое недовольство современной медициной. В первые же годы опытный глаз мог подметить в младенце его гениальные подседно-копытные и лишайные способности. В то время, когда его сверстники предавались детским забавам, он сидел где-нибудь в уголку и копался в разных жидких хозяйственных необходимостях. Так, он любил размешивать ваксу, лепить человечков из замазки, делать тесто из песочку и прочее подобное, говорящее не столько о пользе совершаемого, сколько о наклонностях и таланте совершающего. Любимое также его занятие было ходить босиком, подсучив брюки, по лужицам и прочим не сухим местам. Семи лет он был отдан родителями на обучение грамоте и числам. Научившись быстро читать, он показал еще новую особенность своего характера. А именно: он стал прилежно и внимательно читать объявления Гюйо, Иоганна Гоффа и соотечественника нашего Леухина*. Когда его спрашивали о причинах, по коим он предпочитает эти объявления всем прочим отраслям науки, то он скромно отвечал: «Я учусь». Научившись чтению, писанию по прописи и арифметике, он бросил науку и посвятил свою жизнь изысканию новых средств для излечения страждущих лошадей, а если хватит способностей, то и людей. Он смешивал песок с медом, мед с ваксой, ваксу с салом и мешал до тех пор эти и многие другие вещества, пока не получалась пертурбация, не имеющая ни запаха, ни вида, но зато годная на всякое употребление. Обмазавшись этою мазью и не умерев от этого, А. И. заключил весьма резонно, что эта мазь целительна и что ее следует продавать по 2 рубля за банку. Заключив таковое, он напечатал в газетах объявления, и с этих пор (1875 год) начинается слава его. Но где слава, там завистники и недоброжелатели. Мазь, могущая излечивать всякие болезни и в то же время употребляемая с успехом вместо помады, ваксы, дегтя и замазки, привела многие недалекие умы в смятение. Посыпались обвинения в шарлатанстве, нахальстве и эксплуатации невежеством. И, к стыду человечества, эти обвинения доходили иногда до того, что великий изобретатель неоднократно был привлекаем в качестве обвиняемого в камеру мирового судьи. Но в то же время не дремала и справедливость. Еще издревле известно, что добродетель торжествует, а порок побеждается. Покупатели толпами ходили к А. И. в его магазин, помещающийся на Страстном бульваре, и нарасхват покупали его мазь. Мало того, тысячи благодарственных адресов посыпались по адресу бессмертного целителя. В довершение всего Неаполитанская Академия наук избрала его в свои почетные члены* и этим ясно показала, что мы не умеем ценить наших. В 1882 г. Варшавская кондитерская* избрала его в свои почетные посетители. В 1883 г. «Венеция» и «Прага» провозгласили великого изобретателя своим почетным потомственным завсегдатаем*, а в сем, 1884 г. за изобретенный им «Рафанистроль»* он попал в мои «Жизнеописания достопримечательных современников». Ибо новою мазью его я не только пользовался от прыщей, но также лечился ею от запоя и употреблял ее от клопов и прочих паразитов.
Штабс-капитан Хрусталев.
(обратно)Трифон*
«И не жаль мне прошлого ничуть».
Лермонтов.У Григория Семеновича Щеглова заломило в пояснице. Он проснулся и заворочался в постели.
— Настюша! — зашептал он, — возьми-ка, мать, спиртику и натри-ка мне спинозу!
Ответа не последовало. Щеглов зашарил около себя руками и не нашел никого. Постель, если не считать самого Щеглова, была пуста.
«Где же она?» — подумал он. — Настя! Настенька!
И на этот раз не последовало ответа. Послышалось только стучанье сторожа в колотушку да треск тухнувшей лампадки. Щеглов, предчувствуя недоброе, вытер на лбу холодный пот и вскочил с постели. Было три часа ночи — время, в которое Настя спала обыкновенно крепким сном ребенка. Не спать могли заставить ее только особенные причины. Щеглов быстро оделся и вышел на двор.
Луна, полная и солидная, как генеральская экономка, плыла по небу и заливала своим хорошим светом небо, двор с бесконечными постройками, сад, темневший по обе стороны дома. Свет мягкий, ровный, ласкающий… На земле и на деревьях не было ни одного зеленого листка, сад глядел черно и сурово, но во всем чувствовался конец марта, начало весны. Щеглов окинул глазами двор. На большом пространстве не было видно никого, кроме теленка, который, запутавши одну ногу в веревку, неистово прыгал. Щеглов пошел в сад. Там было тихо, светло. От темных кустов веяло сырьем, как из погреба.
«А вдруг она в деревню ушла! — думал Григорий Семеныч, дрожа от беспокойства и холода. — Ежели ее в беседке нет, то придется в деревню посылать».
Щеглов знал за Настей две слабости: она часто с тоски уходила от него к родным в деревню и имела также привычку уходить ночью в беседку, где сидела в темноте и пела грустные песни.
«Я старый, дряхлый… — думал Григорий Семеныч. — Ей не сахар со мной…»
Подойдя к беседке, он услышал женский голос. Но этот голос не пел, а говорил… Говорил он что-то быстро, не останавливаясь, без запинки, словно жаловался…
— Брось ты этого старого чёрта! — перебил женскую речь грубый мужской голос. — Сделай милость! В шелку только ходишь да с тарелки хрустальной ешь, а оно, того, дура, не понимаешь, грех ведь выходит… Эххх… Шалишь, Настюха! Бить бы тебя, да некому!
— Беспонятный ты, Триша! Коли б одна голова, ушла бы я от него за сто верст, а то ведь… тятька, вон, избу строить хочет… да брат на службе. Табаку послать или что…
Послышались всхлипыванья, затем поцелуи. По спине Щеглова от затылка до пяток пробежал мороз. В мужчине узнал он своего объездчика Трифона.
«Которую я из грязи вытащил, к себе приблизил и, можно сказать, облагодетельствовал, — ужаснулся он, — заместо как бы жены, и вдруг — с Тришкой, с хамом! А? В шелку водил, с собой за один стол, как барыню, а она… с Тришкой!»
У старика от гнева и с горя подогнулись колени. Он послушал еще немного и, больной, ошеломленный, поплелся к себе в дом.
«А мне наплевать! — думал он, ложась в постель. — Она воображает, может быть, что я без нее жить не могу! Ну, нет… Завтра же ее выгоню. Пусть себе там со своими мужиками мякину жует. А Тришку-подлеца… чтоб и духу не было! Утром же расчет…»
Он укрылся одеялом и стал думать. Думы были мучительные, скверные, а когда воротилась из сада Настя и, как ни в чем не бывало, улеглась спать, его от мыслей бросило в лихорадку.
«Завтра же его прогоню… Впрочем, нет… не прогоню… Его прогонишь, а он на другое место — и ничего себе, словно и не виноват… Его бы наказать, чтоб всю жизнь помнил… Выпороть бы, как прежде… Разложить бы в конюшне и этак… в десять рук, семо и овамо… Ты его порешь, а он просит и молит, а ты стоишь около и только руки потираешь: „Так его! шибче! шибче!“ Ее около поставить и смотреть, как у ней на лице: — Ну, что, матушка? Ааа… то-то!»
Утром Настя, по обыкновению, разливала чай. Он сидел и наблюдал за ней. Лицо ее было покойно, глаза глядели ясно, бесхитростно.
«Я ей ничего не скажу, — думал он. — Пусть сама поймет… Я ее нравственно…. нравственно страдать заставлю! Не буду с ней разговаривать, сердиться на нее буду, а она и поймет… Ну, а что, ежели она послушает подлеца Тришку и в самом деле уйдет?»
Была минута, когда последняя мысль до того испугала его, что он побледнел и сказал:
— Настенька, что ж ты, душенька, кренделечка не кушаешь? Для тебя ведь куплено!
В девятом часу приходил с докладом объездчик Трифон. Щеглову показалось, что мужик глядит на него с ненавистью, презрением, с каким-то победным нахальством.
«Мало прогнать… — подумал он, измеряя его взглядом. — Выпороть бы». — Ничего я тут не пойму! — начал он придираться, пробегая квитанции, поданные Трифоном. — Это какая цифра? 75 или 15? Дубина ты этакая! Закорючку не можешь даже, как следует, над семью поставить! Семь похоже на кочергу, а один — на кнутик с коротким хвостиком. Этого не знаешь? Ду-би-на… За это самое вашего брата прежде на конюшне драли!
— Мало ли чего прежде не было… — проворчал Трифон, глядя в потолок.
Щеглов искоса поглядел на Трифона. Мужик, показалось ему, ехидно улыбался и глядел еще с большим нахальством…
— Пошел вон!! — взвизгнул Щеглов, не вынося трифоновской физиономии.
До вечера Щеглов ходил по двору и придумывал план наказания и мести. Многие планы перебывали в его голове, но что он ни придумывал, всё подходило под ту или другую статью уложения о наказаниях. После долгого, мучительного размышления оказалось, что он ничего не смел…
В третьем часу ночи, стоя возле беседки, он услышал разговор хуже вчерашнего. Трифон со смехом передавал Насте беседу свою с барином:
— Взять бы его, знаешь, за ворот, потрясти маленько этак — и душа вон.
Щеглов не вынес.
— Кого это, прохвост? — взвизгнул он. — Чья душа вон?
В беседке вдруг умолкли. Трифон конфузливо крякнул. Через минуту он нерешительно вышел из беседки и уперся плечом в косяк.
— Кто здесь кричит? Кто таков? А, это вы!.. — сказал он, увидев барина. — Вот кто!
Минута прошла в молчании…
— За это прежде нашего брата на конюшне пороли, а теперь не знаю, что будет… — сказал Трифон, усмехаясь и глядя на луну. — Чай, расчет дадут… Боязно!
Засмеялся и пошел по аллее к дому. Щеглов засеменил рядом с ним.
— Трифон! — забормотал он, хватая его за рукав, когда оба они подошли к садовой калитке. — Триша! Я тебе одно только слово скажу… Постой! Я ведь ничего… Слово одно только… Послушай! Прошу и умоляю тебя, подлеца, на старости лет! Голубчик!
— Ну?
— Видишь ли… Я тебе четвертную дам и даже, ежели желаешь, жалованья прибавлю… Тридцать рублей дам, а ты… дай я тебя выпорю! Разик! Разик выпорю и больше ничего!
Трифон подумал немного, взглянул на луну и махнул рукой.
— Не согласен! — сказал он и поплелся в людскую…
(обратно)Плоды долгих размышлений*
Старшие — те же мертвецы: о них «aut bene, aut nihil»*.
* * *
Мы живем не для того, чтобы есть, а для того, чтобы не знать, что нам есть.
* * *
Нам нужно только то, что нам нужно…
* * *
Женщине легче найти многих мужей, чем одного…
* * *
Прочность и постоянство законов природы заключаются в том, что их не может обойти ни один адвокат (кроме Лохвицкого, конечно)*.
* * *
Водка бела, но красит нос и чернит репутацию.
* * *
Можно сказать: «Я друг этого дома», но нельзя сказать: «Я друг этого деревянного дома». Из этого следует, что, говоря о предметах, нужно скрывать их качества…
* * *
Поостерегись выписывать в пост «Иллюстрированный мир», иначе рискуешь оскоромиться кукишем с маслом*.
(обратно)Несколько мыслей о душе*
По мнению начитанных гувернанток и ученых губернаторш, душа есть неопределенная объективность психической субстанции. Я не имею причин не соглашаться с этим.
У одного ученого читаем: «Чтобы отыскать душу, нужно взять человека, которого только что распекало начальство, и перетянуть ремнем его ногу. Затем вскройте пятку и вы найдете искомое».
Я верую в переселение душ… Эта вера далась мне опытом. Моя собственная душа за всё время моего земного прозябания перебывала во многих животных и растениях и пережила все те стадии и животные градации, о которых трактует Будда…
Я был щенком, когда родился, гусем лапчатым, когда вступил в жизнь. Определившись на государственную службу, я стал крапивным семенем. Начальник величал меня дубиной, приятели — ослом, вольнодумцы — скотиной. Путешествуя по железным дорогам, я был зайцем, живя в деревне среди мужичья, я чувствовал себя пиявкой. После одной из растрат я был некоторое время козлом отпущения. Женившись, я стал рогатым скотом. Выбившись, наконец, на настоящую дорогу, я приобрел брюшко и стал торжествующей свиньей*.
(обратно)Говорить или молчать?*
(Сказка)
В некотором царстве, в некотором государстве жили-были себе два друга: Крюгер и Смирнов. Крюгер обладал блестящими умственными способностями, Смирнов же был не столько умен, сколько кроток, смирен и слабохарактерен. Первый был разговорчив и красноречив, второй же — молчалив.
Однажды оба они ехали в вагоне железной дороги и старались победить одну девицу. Крюгер сидел около этой девицы и рассыпался перед ней мелким бесом, Смирнов же молчал, мигал глазами и с вожделением облизывался. На одной станции Крюгер вышел с девицей из вагона и долго не возвращался. Возвратившись же, мигнул глазом и прищелкнул языком.
— И как это у тебя, брат, ловко выходит! — сказал с завистью Смирнов. — И как ты всё это умеешь! Не успел подсесть к ней, как уж и готово… Счастливчик!
— А ты чего же зеваешь? Сидел с ней три часа и хоть бы одно слово! Молчит, как бревно! Молчанием, брат, ничего не возьмешь на этом свете! Ты должен быть боек, разговорчив! Тебе ничто не удается, а почему? Потому что ты тряпка!
Смирнов согласился с этими доводами и решил в душе изменить свой характер. Через час он, поборов робость, подсел к какому-то господину в синем костюме и стал с ним бойко разговаривать. Господин оказался очень словоохотливым человеком и тотчас же начал задавать Смирнову вопросы, преимущественно научного свойства. Он спросил его, как ему нравится земля, небо, доволен ли он законами природы и человеческого общежития, коснулся слегка европейского свободомыслия, положения женщин в Америке и проч. Смирнов отвечал умно, охотно и с восторгом. Но каково, согласитесь, было его удивление, когда господин в синем костюме, взяв его на одной станции за руку, ехидно улыбнулся и сказал:
— Следуйте за мной.
Смирнов последовал и исчез, неизвестно куда. Через два года он встретился Крюгеру бледный, исхудалый, тощий, как рыбий скелет.
— Где ты пропадал до сих пор?! — удивился Крюгер.
Смирнов горько улыбнулся и описал ему все пережитые им страдания.
— А ты не будь глуп, не болтай лишнего! — сказал Крюгер. — Держи язык за зубами — вот что!
(обратно)Гордый человек*
(Рассказ)
Дело происходило на свадьбе купца Синерылова.
Шафер Недорезов, высокий молодой человек, с выпученными глазами и стриженой головой, во фраке с оттопыренными фалдочками, стоял в толпе барышень и рассуждал:
— В женщине нужна красота, а мужчина и без красоты обойдется. В мужчине имеют вес ум, образование, а красота для него — наплевать! Ежели в твоем мозге нет образованности и умственных способностей, то грош тебе цена, хоть ты раскрасавец будь… Да-с… Не люблю красивых мужчин! Фи донк![36]
— Это вы потому так объясняете, что сами некрасивы. А вон, посмотрите в дверь, в другую комнату, сидит мужчина! Вот это так настоящий красавец! Одни глаза чего стоят! Поглядите-ка! Прелесть! Кто он?
Шафер поглядел в другую комнату и презрительно усмехнулся. Там, развалясь, сидел на кресле красивый черноглазый брюнет. Положив ногу на ногу и играя цепочкой, брюнет щурил глаза и с достоинством поглядывал на гостей. На его губах играла презрительная улыбка.
— Ничего особенного! — сказал шафер. — Так себе… Даже урод, можно сказать. И лицо какое-то дурацкое… На шее кадык в два аршина.
— А все-таки душка!
— По-вашему, красивый, а по-моему — нет. А ежели красивый, то, значит, глупый человек, без образования. Кто он будет?
— Не знаем… Должно быть, не купеческого звания…
— Гм… Готов в лотерею пари держать, что глупый человек… Ногами болтает… Противно глядеть! Сичас я узнаю, что это за птица… какого он ума человек. Сичас.
Шафер кашлянул и смело пошел в другую комнату. Остановившись перед брюнетом, он еще раз кашлянул, немного подумал и начал:
— Как поживаете-с?
Брюнет поглядел на шафера и усмехнулся.
— Понемножечку, — сказал он нехотя.
— Зачем же понемножечку? Нужно всегда вперед идти.
— Зачем же непременно вперед?
— Да так. Всё таперича вперед идет. И елехтричество, ежели взять, и телеграфы, финифоны там всякие, телефоны. Да-с! Прогресс, к примеру, возьмем… Что это слово обозначает? А то оно обозначает, что всякий должен вперед идти… Вот и вы идите вперед…
— Куда же мне, например, теперь идти? — усмехнулся брюнет.
— Мало ли куда идти? Была бы охота… Местов много… Да вот хоть бы к буфету, примерно… Не желаете ли? Для первого знакомства, по коньячишке… А? Для идеи…
— Пожалуй, — согласился брюнет…
Шафер и брюнет направились к буфету. Стриженый официант, во фраке и с белым запачканным галстухом, налил две рюмки коньяку. Шафер и брюнет выпили.
— Хороший коньяк, — сказал шафер, — но есть предметы посущественней… Давайте, для первого знакомства, выпьем красненького по стаканчику…
Выпили по стакану красного.
— Таперича как мы с вами познакомились, — сказал шафер, вытирая губы, — и, можно сказать, выпили…
— Не «таперича», а «теперь»… — поправил брюнет. — Говорить еще не умеете, а про телефоны объясняете. При такой необразованности, будь я на вашем месте, я молчал бы, не срамился… Таперича… таперича… Ха!
— Чего же вы смеетесь? — обиделся шафер. — Я это для смеху говорил «таперича», для шутки… Зубы-то нечего показывать! Это девицам ндравится, а я не люблю зубов-то… Кто вы будете? С какой стороны?
— Не ваше дело…
— Звание ваше какое? Фамилия?
— Не ваше дело… Я не такой дурак, чтоб всякому встречному свое звание объяснял… Я настолько гордый человек, что не очень-то распространяюсь с вашим братом. Я на вас мало обращаю внимания…
— Ишь ты… Гм… Так не скажете, как ваша фамилия?
— Не желаю… Ежели всякому балбесу имя свое произносить и рекомендоваться, то языка не хватит… И я настолько гордый человек, что вы для меня всё едино, как официант… Невежество!
— Ишь ты… Какие вы благородные… Ну, мы сейчас узнаем, что вы за артист будете.
Шафер поднял вверх подбородок и направился к жениху, который в это время сидел с невестой и, красный, как рак, моргал глазами…
— Никиша! — обратился шафер к жениху, кивая на брюнета. — Как фамилия этого артиста?
Жених отрицательно замотал головой.
— Не знаю, — сказал он. — Это не мой знакомый. Должно полагать, отец его пригласил. Ты у отца спроси.
— Да твой отец в кабинете в пьянственном недоумении… храпит, как зверь лютый. А вы не знаете его? — обратился шафер к невесте.
Невеста сказала, что не знает брюнета. Шафер пожал плечами и начал расспрашивать гостей. Гости заявили, что они первый раз в жизни видят брюнета.
— Жулик он, значит, — решил шафер. — Без билета сюда припожаловал и гуляет, будто у знакомых. Ладно! Мы ему покажем «таперича»!
Шафер подошел к брюнету и подбоченился.
— А билет у вас есть для входа? — спросил он. — Извольте показать ваш билет.
— Я настолько гордый человек, что не стану какому-нибудь субъекту свой билет показывать. Отойдите от меня… Чего пристал?
— Стало быть, у вас нет билета? А коли нет билета, значит, вы жулик. Теперь нам известно, с какой вы стороны и как ваше звание. Знаем таперича… теперь, то есть, что вы за агент… Вы жулик — вот и всё.
— Скажи мне эту грубость умный человек, я бы его по морде, а с вас, дураков, и спрашивать нечего.
Шафер забегал по комнатам, собрал человек шесть приятелей и с ними подошел к брюнету.
— Позвольте, милостивый государь, поглядеть ваш билет! — сказал он.
— Не желаю. Отстаньте, пока я не того…
— Не желаете билета показывать? Стало быть, вы без билета вошли? По какому праву? Вы жулик, значит? Извольте уходить отсюда! Пожалуйте-с! Милости просим! Мы вас сичас с лестницы…
Шафер и его приятели взяли под руки брюнета и повели его к выходу. Гости загалдели. Брюнет громко заговорил о невежестве и о своем самолюбии.
— Пожалуйте-с! Милости просим, красивый мужчина! — бормотал торжествующий шафер, ведя его к двери. — Знаем мы вас, красавцев!
У самой двери на брюнета натянули его пальто, надели на него шапку и толкнули в спину. Шафер хихикнул от удовольствия и стукнул его перстнем по затылку… Брюнет покачнулся, упал на спину и съехал вниз по лестнице.
— Прощайте! Кланяйтесь там! — торжествовал шафер.
Брюнет поднялся, похлопал по пальто и, подняв вверх голову, сказал:
— Дураки по-дурацкому и поступают. Я гордый человек и унижаться перед вами не стану, а пусть вам мой кучер объяснит, что я за человек. Пожалуйте сюда! Григорий! — крикнул он на улицу.
Гости спустились вниз. Через минуту в сени вошел со двора кучер.
— Григорий! — обратился к нему брюнет. — Кто я буду?
— Хозяин — Семен Пантелеич…
— А какое во мне звание, и как я до этого звания достиг?
— Почетный гражданин, а до звания этого вы достигли учением…
— Где я нахожусь и какая моя служба?
— Служите-с на фабрике купца Подщекина в механиках по технической части, а жалованья вам положено три тысячи…
— Теперь поняли? А вот вам и мой билет! Приглашал на свадьбу меня женихов отец, купец Синерылов, который теперь в пьяном виде…
— Голубчик мой! Милая ты моя душа! — заголосил шафер. — Чего же ты раньше этого не говорил?
— Гордый я человек… Самолюбие во мне… Прощайте-с!
— Ну, нет, стой… Грех, брат! Поворачивай оглобли, Семен Пантелеич! Теперь видно, что ты за человек такой… Пойдем, выпьем за твое образование… для идеи…
Гордый человек нахмурился и пошел наверх. Через две минуты он стоял уже у буфета и пил коньяк.
— Без гордости на этом свете не проживешь, — объяснял он. — Никому никогда не уступлю! Никому! Понимаю себе цену. Впрочем, вам, невежам, не понять!
(обратно)Альбом*
Титулярный советник Кратеров, худой и тонкий, как адмиралтейский шпиль, выступил вперед и, обратясь к Жмыхову, сказал:
— Ваше превосходительство! Движимые и тронутые всею душой вашим долголетним начальничеством и отеческими попечениями…
— Более чем в продолжение целых десяти лет, — подсказал Закусин.
— Более чем в продолжение целых десяти лет, мы, ваши подчиненные, в сегодняшний знаменательный для нас… тово… день подносим вашему превосходительству, в знак нашего уважения и глубокой благодарности, этот альбом с нашими портретами и желаем в продолжение вашей знаменательной жизни, чтобы еще долго-долго, до самой смерти, вы не оставляли нас…
— Своими отеческими наставлениями на пути правды и прогресса… — добавил Закусин, вытерев со лба мгновенно выступивший пот; ему, очевидно, очень хотелось говорить и, по всей вероятности, у него была готова речь. — И да развевается, — кончил он, — ваш стяг еще долго-долго на поприще гения, труда и общественного самосознания!
По левой морщинистой щеке Жмыхова поползла слеза.
— Господа! — сказал он дрожащим голосом. — Я не ожидал, никак не думал, что вы будете праздновать мой скромный юбилей… Я тронут… даже… весьма… Этой минуты я не забуду до самой могилы, и верьте… верьте, друзья, что никто не желает вам так добра, как я… А ежели что и было, то для вашей же пользы…
Жмыхов, действительный статский советник, поцеловался с титулярным советником Кратеровым, который не ожидал такой чести и побледнел от восторга. Затем начальник сделал рукой жест, означавший, что он от волнения не может говорить, и заплакал, точно ему не дарили дорогого альбома, а, наоборот, отнимали… Потом, немного успокоившись и сказав еще несколько прочувствованных слов и дав всем пожать свою руку, он, при громких радостных кликах, спустился вниз, сел в карету и, провожаемый благословениями, уехал. Сидя в карете, он почувствовал в груди наплыв неизведанных доселе радостных чувств и еще раз заплакал.
Дома ожидали его новые радости. Там его семья, друзья и знакомые устроили ему такую овацию, что ему показалось, что он в самом деле принес отечеству очень много пользы и что, не будь его на свете, то, пожалуй, отечеству пришлось бы очень плохо. Юбилейный обед весь состоял из тостов, речей, объятий и слез. Одним словом, Жмыхов никак не ожидал, что его заслуги будут приняты так близко к сердцу.
— Господа! — сказал он перед десертом. — Два часа тому назад я был удовлетворен за все те страдания, которые приходится переживать человеку, который служит, так сказать, не форме, не букве, а долгу. Я за всё время своей службы непрестанно держался принципа: не публика для нас, а мы для публики. И сегодня я получил высшую награду! Мои подчиненные поднесли мне альбом… Вот! Я тронут.
Праздничные физиономии нагнулись к альбому и стали его рассматривать.
— А альбом хорошенький! — сказала дочь Жмыхова, Оля. — Я думаю, он рублей пятьдесят стоит. О, какая прелесть! Ты, папка, отдай мне этот альбом. Слышишь? Я его спрячу… Такой хорошенький.
После обеда Олечка унесла альбом к себе в комнату и заперла его в стол. На другой день она вынула из него чиновников и побросала их на пол, и вместо них вставила своих институтских подруг. Форменные вицмундиры уступили свое место белым пелеринкам. Коля, сынок его превосходительства, подобрал чиновников и раскрасил их одежды красной краской. Безусым нарисовал он зеленые усы, а безбородым — коричневые бороды. Когда нечего уже было красить, он вырезал из карточек человечков, проколол им булавкой глаза и стал играть в солдатики. Вырезав титулярного советника Кратерова, он укрепил его на коробке из-под спичек и в таком виде понес его в кабинет к отцу.
— Папа, монумент! Погляди!
Жмыхов захохотал, покачнулся и, умилившись, поцеловал взасос Колину щечку.
— Ну, иди, шалун, покажи маме. Пусть и мама посмотрит.
(обратно) (обратно)Другие редакции
Толстый и тонкий
Редакция журнала «Осколки»
На вокзале Николаевской железной дороги встретились два приятеля: один толстый, другой тонкий. Толстый только что пообедал на вокзале, и губы его, подернутые маслом, лоснились, как спелая вишня. Пахло от него хересом и флер-д’оранжем. Тонкий же только что вышел из вагона и был навьючен чемоданами, узлами и картонками. Из-за его спины выглядывала худенькая женщина с длинным подбородком — его жена, и высокий гимназист с бельмом на глазу — его сын. Пахло от него ветчиной и кофейной гущей.
— Порфирий! — воскликнул толстый, увидев тонкого. — Ты ли это? Голубчик мой! Сколько зим, сколько лет!
— Батюшки! — разинул рот тонкий. — Миша! Друг детства! Откуда ты взялся?
Приятели троекратно облобызались и устремили друг на друга глаза, полные слез. Оба были приятно ошеломлены.
— Милый мой! — начал тонкий после лобызания. — Вот не ожидал! Вот сюрприз! Ну, да погляди же на меня хорошенько! Такой же красавец, как и был! Такой же душонок и щеголь! Ах ты, господи! Ну, что же ты? Богат? Женат? Я женат уж, как видишь. Это вот моя жена, Луиза, урожденная Ванценбах… лютеранка… А это сын мой, Нафанаил, ученик III класса. Это, Нафанаилочка, друг моего детства! В гимназии вместе учились!
Нафанаил немного подумал и снял шапку.
— В гимназии вместе учились! — продолжал тонкий. — Помнишь, как тебя дразнили? Ха-ха! Тебя дразнили Геростратом за то, что ты казенную книжку папироской пропалил, а меня Эфиальтом за то, что я ябедничать любил. Ха-ха. Детьми были! Не бойся, Нафанаилочка! Подойди к нему поближе… А это моя жена, урожденная Ванценбах… лютеранка…
Нафанаил немного подумал и спрятался за спину отца.
— Ну, как живешь, друг? — спросил толстый, восторженно глядя на друга. — Служишь где? Дослужился?
— Служу, милый мой! Коллежским асессором уж второй год и Станислава имею. Жалованье плохое… ну, да бог с ним! Жена уроки музыки дает, я портсигары приватно из дерева делаю. Отличные портсигары! По рублю за штуку продаю… Если кто берет десять штук и более, тому, понимаешь, уступка… Пробавляемся кое-как. Служил в департаменте «Предисловий и опечаток», а теперь сюда переведен секретарем по тому же ведомству… Здесь буду служить. Начальник, говорят, скотина; ну да чёрт с ним!.. Уживусь как-нибудь. Однофамилец он твой. Ну, а ты как? Небось, уж статский? А?
— Тэк-с… Так это вы, стало быть, секретарем ко мне назначены? — сказал басом толстый, надувшись вдруг, как индейский петух. — Поздно, милостивый государь, на службу являетесь… Поздно-с…
— Вв…вы? Это вы?.. Я, ваше превосходительство…
Тонкий вдруг побледнел, но скоро лицо его искривилось во все стороны широчайшей улыбкой… Сам он съежился, сгорбился, сузился… Его чемоданы, узлы и картонки съежились, поморщились… Длинный подбородок жены стал еще длинней; Нафанаил вытянулся во фрунт и инстинктивно, по рефлексу, застегнул пуговки своего мундира…
— Я, ваше превосходительство… Очень приятно-с! Друг, можно сказать, детства и в такие магнаты-с! Хи-хи-с…
— Не следует опаздывать-с…
— Извините-с, ваше — ство, не мог к сроку прибыть-с, потому жена, вот, была больна… Луиза вот… лютеранка…
— Надеюсь, милостивый государь, — сказал толстый, подавая тонкому руку. — Надеюсь… Прощайте… Завтра на службу прошу…
Тонкий пожал три пальца, поклонился всем туловищем и захихикал. Жена улыбнулась… Нафанаил шаркнул ногой и уронил шапку. Все трое были приятно ошеломлены.
В море
Редакция журнала «Мирской толк»
Пароход «Принц Гамлет» мчался на всех парах.
Видны были одни только тускнеющие огни оставленной гавани да черное, как тушь, небо. Дул холодный, сырой ветер. Он хлестал по нашим лицам, как плетью, и насквозь пронизывал наши верблюжьи куртки. Ждали дождя и удивлялись, отчего его нет так долго: мы чувствовали над собой тяжелые тучи, чувствовали их желание разразиться дождем, и нам было душно, несмотря на ветер и холод. «Принца Гамлета» качало в стороны, как мелкую шлюпку. Видно было отражение наших цветных фонарей в цене вздымающихся до высоты палубы волн.
Мы, матросы, столпившись у кормы, бросили жеребий. Под вой ветра и грохот «Принца Гамлета» раздавался громкий, пьяный смех тружеников моря. Слова, одно другого отвратительнее, вылетали из наших уст и уносились ветром в черную бездну. Ветру нравились эти слова: он не выкидывал нас в море, а, напротив, хохотал вместе с нами.
Все мы дрожали. Мелкая дрожь пробегала от затылка до самых пят, точно в наших затылках были дыры, из которых сыпалась вниз по голому телу мелкая холодная дробь. Дрожали мы не от холода. Для человека, который привык к воде, как рыба, не существует холода и сырости. Если ему покажется холодно, он может выпить спирту. Дрожали и не от страха. В высоких волнах и темноте ничего нет страшного. Мы дрожали от других причин.
Человек вообще страшно развратен, матрос же развратнее человека. Мало того, матрос развратнее животного, которое подвластно инстинкту. Это не ложь. Человеку, который каждую минуту может сорваться с мачты или скрыться навсегда под высокой волной, который знает бога только тогда, когда утопает или летит вниз головой, нет нужды не развратничать. Мы пьем водку, потому что не знаем, для чего нам может послужить трезвость, и развратничаем, потому что в море добродетель скучней штиля.
Мы бросали жеребий и дрожали от сладкого, томительного ожидания.
Нас всех восемьдесят. Из восьмидесяти двоим могло выпасть на долю счастье. Дело в том, что «каюта для новобрачных», которая имелась на «Принце Гамлете», в описываемую ночь имела пассажиров, а в стенах этой каюты были только два отверстия, находившихся в нашем распоряжении. Одно отверстие выпилил я собственноручно тонкой, как шёлк, пилкой, пробуравив предварительно стену матросским штопором, другую же вырезал ножом один мой товарищ, убитый впоследствии молнией. Я выпиливал ровно десять дней, товарищ — пятнадцать.
— Одно отверстие досталось тебе!
— Кому?
Сотня толстых, мозолистых пальцев указала на меня.
— Другое ему?
— Твоему отцу!
Мой отец, старый горбатый матрос, с лицом, вымоченным в спирту, подошел ко мне и хлопнул меня по плечу.
— Сегодня, мальчишка, мы с тобой счастливы, — сказал он, кривя улыбкой свой мускулистый беззубый рот. — Знаешь что, сын? Мне сдается, что когда мы бросали жеребий, за нас на том свете молилась твоя мать, а моя жена! Ха-ха!
— Мою мать ты можешь оставить в покое! — сказал я.
По телу отца пробежала судорога. Он нетерпеливо топнул ногой и спросил, который час. Было только одиннадцать часов. До вожделенного часа оставалась целая вечность.
Чтобы укоротить время, мы сели пить. Водку мы пьем, как воду, и — странное дело, природа смеется над нами. От водки наши мускулы делаются тверже и крепче, а несдерживаемые страсти не ослабляют нас. Напротив, они делают нас тиграми.
Полил дождь. Я закурил трубку и стал глядеть на море. Было темно, но, надо полагать, и в глазах моих кипела кровь. На черном фоне ночи я различал туманные образы того, что послужило предметом нашего жеребия.
— Я люблю тебя! — задыхался я, протягивая к тьме руки.
Слово «люблю» я знал из книг, валявшихся в буфете на верхней полке.
В двенадцать я прошелся мимо дверей общей каюты и заглянул в нее. Новобрачный, молодой пастор с красивой белокурой головой, сидел за столом и держал в руках Евангелие. Он объяснял что-то высокой, худой англичанке. Новобрачная, молодая, стройная, как мачта, сидела рядом с мужем и не отрывала своих голубых глаз от его белокурой головы. Не мне, матросу, описывать ее лицо. Оно казалось мне неземным. По каюте из угла в угол ходил банкир, высокий, полный старик-англичанин с рыжим антипатичным лицом. Это был муж леди, с которой беседовал о чем-то евангельском новобрачный.
«Пасторы имеют глупую привычку беседовать по целым часам! — подумал я, в отчаянии хватая себя за волосы. — Он не кончит до утра!»
В час подошел ко мне отец и, дернув меня за мокрый рукав, проворчал:
— Пора! Они вышли из общей каюты.
Молнией слетел я вниз по крутой лестнице и направился к знакомой стене. Между этой стеной и стеной корабля был промежуток, полный сажи, воды и крыс. Скоро я услышал тяжелые шаги старика-отца. Старик спотыкался о ящики с керосином и сыпал проклятия.
Я нащупал свое отверстие и вынул из него четырехугольный кусок дерева, выпиленный мною с искусством, которому мог бы позавидовать любой резчик на дереве. Вынув кусок, я увидел тонкую, прозрачную кисею, сквозь которую, как из неволи, пробивался мягкий, розовый свет. Рядом со светом к моему горячему лицу <проник> одуряющий запах аристократической спальной. Чтобы увидеть спальную, нужно было раздвинуть кисею двумя пальцами, что я и поспешил сделать.
Я увидел массу бархата, пуха и кружев. Всё это было залито наркотическим, розовым светом, исходившим от дорогой бронзовой лампы. В полутора саженях от моего лица стояла кровать.
— Пусти меня к твоему отверстию, — сказал мне отец, нетерпеливо толкая меня в бок. — В твое лучше видно!
— Убирайся к чёрту!
— У тебя, мальчишка, глаза сильнее моих, и для тебя решительно всё равно, глядеть ли издали или вблизи! — проговорил отец, отпихивая меня и царапая стену.
Я поднял руку и ударил отца кулаком по темени. Он пошатнулся и пошел к своему отверстию.
Отец уважал мой кулак.
Новобрачная сидела на краю кровати, свесив свои маленькие ноги на тигровую шкуру. Она глядела в землю и дрожащими пальчиками теребила кружева. Перед ней стоял ее муж, молодой пастор. Он говорил ей что-то, а что именно, не знаю. Вой ветра и шум «Принца Гамлета» мешал мне слышать его слова. Он говорил горячо, жестикулируя руками, сверкая глазами. Она слушала и отрицательно качала головой…
— Они будут говорить до утра, чтобы чёрт их побрал! — проворчал отец.
Я плотнее прижал грудь к стене, как бы боясь, чтобы не выскочило мое шумевшее сердце. Голова моя горела, как в огне. Я плюнул бы в отверстие на пастора, если бы плевок мой был смертелен.
Говорили новобрачные долго. Пастор стал наконец на колени и, протягивая к ней руки, стал умолять ее. Она отрицательно покачала головой. Тогда он вскочил и заходил по спальной. По выражению его лица и по движению рук я догадался, что он угрожал.
Новобрачная поднялась, медленно пошла к нашей стене и остановилась у самого моего отверстия. Она ломала руки, а я пожирал глазами ее лицо. Я читал на ее лице, если только способен грубый, каменный матрос читать на лицах с кожей тонкой, как паутина. На лице ее были написаны невыразимое отчаяние, мука и в то же время нерешительность. Она выбирала…
Десять минут мы стояли лицом к лицу. Я глядел на нее и был счастлив, но счастье не вечно.
Она отошла и кивнула своему пастору головой. Тот радостно улыбнулся, поцеловал ее руку и вышел из спальной.
Я услышал возле себя шум. То царапал стену мой старик-отец. За его горбом рвалось на клочья старое сердце. Новобрачная начала быстро раздеваться.
Через три минуты дверь отворилась и в спальную вошел пастор, сопровождаемый высоким, полным англичанином, о котором я говорил выше. Англичанин подошел к кровати и спросил о чем-то красавицу. Та, багровая от стыда, утвердительно кивнула головой.
Сын Альбиона вынул из кармана пачку банковых билетов и подал их пастору. Пастор сосчитал и с поклоном вышел. Старик-англичанин запер за ним дверь…
Я, как ужаленный, отскочил от отверстия. Я, не боявшийся высоких волн и тьмы, в которой мерещатся водяные, испугался. Мне показалось, что ветер разорвал «Принца Гамлета» на сто частей.
Старик-отец, закаленный в бурях и разврате, взял меня за руку и сказал:
— Выйдем отсюда! Ты не должен этого видеть! Ты еще мальчик…
Старый развратник пошатнулся. Я вынес его по крутой, извилистой лестнице наверх, где уже начиналась настоящая, осенняя буря…
(обратно) (обратно)Комментарии
Условные Сокращения
Архивохранилища
ГБЛ — Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина. Отдел рукописей (Москва).
ГЛМ — Государственный литературный музей (Москва).
ГПБ — Государственная публичная библиотека имени М. Е. Салтыкова-Щедрина. Отдел рукописей (Ленинград).
ГЦТМ — Государственный центральный театральный музей имени А. А. Бахрушина (Москва).
ИРЛИ — Институт русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР. Рукописный отдел (Ленинград).
ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства (Москва).
ЦГАМ — Центральный государственный архив г. Москвы.
ЦГИАЛ — Центральный государственный исторический архив (Ленинград).
Печатные источники
Вокруг Чехова — М. П. Чехов. Вокруг Чехова. Встречи и впечатления. Изд. 4-е. М., «Московский рабочий», 1964.
Летопись — Н. И. Гитович. Летопись жизни и творчества А. П. Чехова. М., Гослитиздат, 1955.
ЛН — Литературное наследство, т. 68. Чехов. М., Изд-во АН СССР, 1960.
ПР 1-14 — А. Чехонте (Ан. П. Чехов). Пестрые рассказы. Издание журнала «Осколки». СПб., 1886; Антон Чехов. Пестрые рассказы. Изд. 2-е, исправленное. Изд. и тип. А. Суворина. СПб., 1891; изд. 3-е, 1892; изд. 4-е, 1893; изд. 5-е, 1894; изд. 6-е, 1895; изд. 7-е, 1895; изд. 8-е, 1896; изд. 9-е, 1897; изд. 10-е, 1897; изд. 11-е, 1898; изд. 12-е, 1898; изд. 13-е, 1899; изд. 14-е, 1899.
ПСС — А. П. Чехов. Полное собрание сочинений. Под редакцией А. В. Луначарского и С. Д. Балухатого. М. — Л., 1930–1931.
ПССП — А. П. Чехов. Полное собрание сочинений и писем, т. I–XX. М., Гослитиздат, 1944–1951.
Чехов — Антон Чехов. Рассказы. Изд. А. Ф. Маркса. СПб., 1899 <Сочинения, том I>; Повести и рассказы. СПб., 1900 <Сочинения, том II>; Рассказы. СПб., 1900 <Сочинения, том III>.
Во второй том Полного собрания сочинений А. П. Чехова вошли рассказы и юморески, относящиеся к 1883 — началу 1884 годов.
Из их числа (131 произведение) в прижизненное собрание сочинений (издание А. Ф. Маркса) Чехов включил лишь 26 рассказов. Девять рассказов («Разговор», «Раз в год», «Весь в дедушку», «Отставной раб», «В гостиной», «Марья Ивановна», «На охоте», «Сон репортера», «Два письма») были в 1899 году выправлены для этого издания, но в гранках исключены из его состава.
Как свидетельствуют сохранившиеся в архиве А. П. Чехова перечни рассказов, составленные им при работе над собранием сочинений, а также журнальные вырезки и писарские копии с его пометами, в 1899 г. автором была просмотрена значительная часть художественной прозы 1883–1884 годов. Произведения, не вошедшие в издание А. Ф. Маркса, печатаются по журнальным публикациям, сборнику «Пестрые рассказы» и гранкам прижизненного собрания сочинений.
Пять юморесок этой поры («Майонез», «Краткая анатомия человека», «Репка», «Плоды долгих размышлений», «Несколько мыслей о душе») Чехов включил в подборку «Из записной книжки Ивана Иваныча (Мысли и заметки)». При этом в некоторых журнальных вырезках текст был сокращен и выправлен. Однако работа не была завершена: Чехов решил не включать их в издание А. Ф. Маркса. Рассказы и «мелочишки», вошедшие в «Записную книжку Ивана Иваныча», печатаются в томах II–V по журнальным текстам, а материалы подборки войдут в том XI (раздел «Неопубликованное. Неоконченное»).
Немногочисленные сохранившиеся рукописи свидетельствуют об упорной работе Чехова над словом (в отдельных случаях имеется до пяти вариантов фразы или эпитета) и позволяют выяснить некоторые общие особенности его работы над прозой (см., например, «Двое в одном»*). Впервые в настоящем издании учтена рукопись рассказа «Шведская спичка», подаренная в 1965 г. дочерью М. М. Дюковского Государственному литературному музею в Москве.
Как можно судить по воспоминаниям современников, Чехов уже в 1883–1884 годах делал предварительные творческие наброски и заметки в записной книжке. К. А. Коровин, рассказывая о гулянии в Сокольниках весной 1883 г., отмечал: «Антон Павлович вынул маленькую книжечку и что-то быстро записал в ней» (ЛН, т. 68, стр. 554). З. Е. Пичугин писал о том времени, когда Чехов «был еще студентом, кончавшим университет», т. е. о первой половине 1884 г.: «Обращаясь ко мне, Антон Павлович говорил: „Дайте мне тему, и я напишу рассказ“; я указывал на обилие сюжетов в его записной книжке, но он просил: «Что-нибудь интересное!..“» (там же, стр. 544). Эта записная книжка не дошла до нас.
Полный свод печатных вариантов создает ясную картину авторских переделок ранних текстов для сборников и затем для собрания сочинений. Далеко не всегда эти переделки были существенными (см. «Смерть чиновника»*, «Дочь Альбиона»*). Что касается большой словарно-стилистической работы, проделанной Чеховым при подготовке издания А. Ф. Маркса, то она состояла не только в устранении иностранных слов и просторечной лексики, как это иногда утверждалось. В зависимости от конкретных художественных задач правка шла порой в разных направлениях: иногда просторечные слова заменялись общелитературными, а в других случаях заново вводились просторечная лексика и фразеология и даже вульгаризмы («Умный дворник», «В Москве на Трубной площади»).
1
Подавляющее число рассказов и разного рода «мелочей» 1883 — начала 1884 годов Чехов опубликовал в петербургском юмористическом еженедельнике «Осколки». «Работаю литературно всё больше на Питер», — писал он 26 марта 1883 г. А. Н. Канаеву. В московские журналы, где Чехов активно сотрудничал прежде — «Зритель», «Будильник», «Мирской толк», — уже с середины 1883 г. попадают только или относительно большие по объему рассказы («Он понял!»), или рассказы, отклоненные редактором «Осколков» («Летающие острова», «В Москве на Трубе», «Марья Ивановна»). «Напишу кучу и пришлю Вам на выбор, — писал Чехов Н. А. Лейкину в марте 1883 г., — остальное, после Вашего выбора, Москве-матушке». В 1883 г. Чехов стал главным сотрудником «Осколков». Лейкин в письмах настойчиво просил присылать «литературного товара» к каждому номеру и часто помещал в одном номере несколько рассказов и юморесок Чехова (в № 7 за 1883 год, например, были напечатаны четыре, а в № 6 и № 8 — по пять его вещей).
Лейкин высоко ценил самого талантливого своего сотрудника. «Зная, что у меня есть такой плодовитый сотрудник, как Антон Чехов, — писал он ему 1 марта 1884 г., — я не особенно любезен был с другими, второстепенными беллетристами и рассказчиками, браковал их статьи, отвадил их <…> Так я отвадил Пазухина, Герсона» (ГБЛ). Еще 31 декабря 1882 г., т. е. в самом начале сотрудничества Чехова в «Осколках», Лейкин писал: «…Благодарю Вас за любезное сотрудничество Ваше в „Осколках“ в 1882 году и прошу не оставлять журнал своими литературными вкладами в 1883 году. Вы теперь успели приглядеться и видите, что нужно „Осколкам“. Мне нужно именно то, что Вы теперь посылаете, т. е. коротенькие рассказцы, сценки. Шлите только почаще» (ГБЛ).
Как можно судить по письмам Лейкина, в большинстве случаев, получив от Чехова рукопись, он прямо помечал ее в набор. Известно вместе с тем, что некоторых рассказов коснулась рука не только цензора («Отставной раб»), но и редактора («В ландо», «Либерал»). Однако вмешательство Лейкина не следует преувеличивать. По мнению самого Лейкина, Чехов умел избегать редакторской правки — способом, о котором позднее писал старшему брату: «Не позволяй также сокращать и переделывать своих рассказов… Ведь гнусно, если в каждой строке видна лейкинская длань… Не позволить трудно; легче употребить средство, имеющееся под рукой: самому сокращать до nec plus ultra[37] и самому переделывать» (письмо от 4 января 1886 г.)[38].
Тесные рамки (100–150 строк), определенные в журнале, конечно, стесняли Чехова, и временами он вынужден был насильственно сокращать повествование, даже «самую суть и соль» (см. комментарии к рассказам «Единственное средство»*, «Трагик»*). Показательно, однако, что, включая впоследствии «осколочные» рассказы в сборники и в издание А. Ф. Маркса, он в большинстве случаев не дополнял, а сокращал текст — предельный лаконизм очень рано для него самого стал главнейшим художественным принципом.
Изучение переписки Чехова с редакторами журналов позволило установить дату создания многих его рассказов, которая иногда значительно расходится с датой первой публикации: печатание задерживалось по редакционным или цензурным соображениям. Среди рассказов 1883 г. помещены, в этой связи, «Перепутанные объявления» и «Либерал», появившиеся в печати в 1884 г.
В ряде случаев определен день написания («Смерть чиновника») или хронологические рамки, т. е. начало и конец работы («Он понял!», «Шведская спичка»). Но чаще Чехов сообщал в письмах лишь о том, что уже готово и отправляется для напечатания. Дата же отсылки не всегда соответствует времени написания. Когда случалось написать особенно много, Чехов откладывал готовые вещи «про запас». «Написал Вам пропасть, — сообщал он Лейкину 19 сентября 1883 г., — дал кое-что в „Будильник“ и в чемодан про запас спрятал штучки две-три…» Но работа к сроку, постоянные понукания основного заказчика — Лейкина заставляли Чехова, как видно из его писем и воспоминаний мемуаристов, писать очень часто в самый последний момент перед отправлением почты и не давали, конечно, возможности пополнять «чемодан». «Писал всегда второпях, — вспоминала М. П. Чехова об этом времени. — Едва кончит, вскочит — и к матери: „Мамочка, надо скоренько на вокзал, отправить в Петербург с курьерским, чтобы завтра же могли печатать“» (запись Л. Р. Когана, 1946 г. — ГПБ, ф. 1035, ед. хр. 56, л. 6). Надо полагать, что в большинстве случаев дата сопроводительного письма отстоит от даты завершения рассказа на время, исчисляемое, самое большее, днями.
К сожалению, письменные свидетельства дошли далеко не обо всех рассказах — некоторые письма Чехова к Лейкину этого периода утрачены, очевидно, безвозвратно, а во встречных письмах Лейкина многие вещи вообще не упоминаются. Они датируются по времени публикации (цензурного разрешения) и сообщению Лейкина: «Поспеет в среду поутру Ваше письмо в Питер приехать, то статья может явиться в том №, который выходит в пятницу» (9 января 1883 г., ЦГАЛИ).
Лейкину редко удавалось следовать своему обыкновению откладывать рассказы «про всякий случай». Гораздо чаще он, наоборот, жаловался Чехову, что «целиком убил все рассказы» в один номер, и просил новых. Кроме того, об отложенных печатанием рассказах Лейкин обычно аккуратно — и нередко не один раз — сообщал Чехову.
К началу 1884 года относится кратковременное сотрудничество Чехова в «Русском сатирическом листке» (издатель А. Я. Липскеров). Поместив здесь рассказы «Месть женщины» и «Ванька», он 11 августа 1884 г. сообщал Лейкину: «В этом листке я не работаю (для первых номеров дал несколько крох, а теперь — ни-ни) и оного не читаю». Два рассказа («Экзамен» и «О женщины, женщины!») в конце 1883 — начале 1884 г. опубликованы в газете «Новости дня».
22 марта 1884 г. сотрудник журнала «Зритель» Н. П. Кичеев сообщал Чехову о том, что «31 марта возрождается „Зритель“», и просил его от имени редактора В. В. Давыдова прислать свои произведения «чем скорее, тем лучше» (ГБЛ). Но в вышедших за 1884–1885 годы шести номерах журнала нет ни одного рассказа Чехова.
В октябре 1884 г. Чехов писал брату Ивану Павловичу: «Получаю „Природу и охоту“ как сотрудник», однако после публикации в 1883 г. рассказа «Он понял!» больше в этом журнале не печатался.
2
В 1883–1884 годах Чехов выступал под прежними своими псевдонимами: А. Чехонте, Человек без селезенки; под криптонимами, созданными на их основе: А. Ч., А-н Ч-те, Анче, Ч. Б. С., Ч. без с., а также под новым псевдонимом: Брат моего брата[39]. Некоторые тексты (в московском журнале «Мирской толк») были подписаны: Гайка № 6, Гайка № 9, Шампанский.
В 1883 г. впервые Чехов подписался собственной фамилией — под рассказом «В море» и затем еще под двумя рассказами: «Он понял!» и «Шведская спичка». Редактор газеты «Новости дня» А. Я. Липскеров и редактор-издатель «Московского листка» Н. И. Пастухов самовольно поставили подпись «А. Чехов» под юмористическими рассказами «Экзамен» и «Гордый человек».
А. Чехонте был обозначен и на обложке сборника «Пестрые рассказы», вышедшего в свет в 1886 г. Лишь после настоятельных советов Д. В. Григоровича и А. С. Суворина настоящее имя: Ан. П. Чехов — было поставлено на титульном листе в скобках, вслед за псевдонимом (и повторено в объявлениях о книге).
В сборник Чехов включил 77 рассказов 1883–1886 годов, преимущественно из «Осколков» (47 рассказов) и «Петербургской газеты», где он начал помещать рассказы с мая 1885 года, а как фельетонист печатался еще с ноября 1884 г. Из произведений, составляющих настоящий том, в сборник вошло 25 рассказов.
Как видно из переписки с Н. А. Лейкиным, издававшим «Пестрые рассказы», а также из писем к сотруднику редакции «Осколков» В. В. Билибину и жившему в Петербурге Ал. П. Чехову, корректура сборника автору не присылалась. Значительная часть рассказов была включена в сборник совсем без изменений, иные — с небольшими поправками, и лишь один рассказ «Толстый и тонкий» — основательно переработан.
Более существенной была правка второго издания «Пестрых рассказов», отпечатанного в 1891 г. в типографии А. Суворина. Чехов изменил и состав сборника: из общего, значительно уменьшенного числа рассказов, вошедших в сборник (41), в нем оказалось лишь восемь рассказов 1883 — начала 1884 годов[40]. В последующих изданиях, вплоть до четырнадцатого, выпущенного в 1899 г., состав не менялся, но в отдельные рассказы вносились поправки. Как показывает сличение изданий, авторские исправления есть, после второго, в шестом (1895), десятом (1897) и двенадцатом (1898) изданиях.
3
«Пестрые рассказы» — первый сборник Чехова, вызвавший многочисленные отзывы в печати.
Газеты и журналы в конце 1886 г., по словам самого Чехова, «трепали на все лады» его имя и «превозносили паче заслуг».
Положительные рецензии появились сразу же после выхода книги. С. А. Венгеров имел все основания много лет спустя написать, что сборник Чехова обратил «на себя внимание своею талантливостью» (С. А. Венгеров. Антон Чехов. — «Вестник и библиотека самообразования», 1903, № 32, 7 августа, стлб. 1328).
«Автор, — писал анонимный рецензент «Будильника», — умел соединить легкость и изящество формы с серьезностью внутреннего содержания <…> В нем есть материал юмориста-психолога, способного перейти от маленьких очерков к большим наброскам из житейской ярмарки тщеславия» («Будильник», 1886, № 21, 1 июня, стр. 247).
Рецензенты решительно выделяли Чехова из среды его литературных современников.
«Можно смело сказать, — утверждал в своей рецензии на сборник В. В. Билибин, — что г. Чехов обладает крупным и притом весьма симпатичным талантом, выдвигающим его из рядов „наших молодых беллетристов“ <…> Слог г. Чехова прост, образен, описания природы кратки, но кратки „картинно“, художественно; и природа, и изображаемые автором людишки согреты внутренним огоньком, его чувство искренно и подкупает читателя в пользу того маленького, неудачливого, робкого, подчас с виду смешного человечка, который является героем рассказа. Двумя-тремя штрихами г. Чехов умеет нарисовать тип или характер, на четырех страничках рассказать трогательную жизненную драму. Вместе с тем молодой автор обладает заразительным, струей бьющим юмором» («Петербургская газета», 1886, № 142, 26 мая)[41].
Н. Ладожский (В. К. Петерсен), разделявший рассказы Чехова на «шаржи, типы и жизненные драмы», писал: «Достаточно прочитать вообще какой-нибудь рассказ из разряда драм, чтобы сразу увидеть, что отделяет рассказы этого нового газетного беллетриста от рассказов и сценок Н. Лейкина, Горбунова и даже Глеба Успенского. Сохраняя весь внешний реализм в своих очерках, г. Чехов весьма далек от всякого намерения насмешить своего читателя только словами или позабавить его, так сказать, одною анекдотическою стороною фабулы рассказа <…> Другая особенность дарования молодого автора — прирожденный здоровый юмор, прекрасно рекомендующий себя рядом с вымученным, однообразно-шаблонным юмором Н. Лейкина» («Санкт-Петербургские ведомости», 1886, № 167, 20 июня). Одним из самых «больших и редких» достоинств автора «Пестрых рассказов» Н. Ладожский считал отсутствие явной, прямой тенденциозности, внимание в первую очередь к человеку, а не к его мундиру или политическим мнениям[42].
Однако тогда же в журнале «Новь» (№ 17, 1 июля, подпись: Ф. Змиев <Ф. И. Булгаков>.) была напечатана бранная статья, а в журнале «Северный вестник», кн. 6 (июнь), появилась рецензия А. М. Скабичевского (без подписи), высказавшего сожаление, что Чехов «записался в цех газетных клоунов» и книга его «представляет собою весьма печальное и трагическое зрелище самоубийства молодого таланта» (стр. 126). Н. А. Лейкину об этих статьях Чехов писал: «Про мою книгу заговорили толстые журналы. „Новь“ выругала и мои рассказы назвала бредом сумасшедшего, „Русская мысль“ похвалила, „Северный вестник“ изобразил мою будущую плачевную судьбу на 2-х страницах, впрочем похвалил…». Анонимная статья в июльской книжке «Русской мысли» привлекла, видимо, особенное внимание Чехова. Он сделал выписку из этой статьи: «Имя А. Чехонте хорошо известно читателям „Будильника“, „Осколков“ и др. иллюстрированных и так называемых сатирических журналов и знакомо с очень хорошей стороны. Не все его рассказы одинаково талантливо написаны; конечно, недаром, собравши их вместе, автор назвал их пестрыми» (ГБЛ). Высоко оценены были «Пестрые рассказы» в «Русской мысли» и два года спустя; отмечалось, что они блистают «простотою языка, отсутствием вычурности и претенциозности» («Русская мысль», 1888, № 4, стр. 210). Близким к этим рецензиям по тону и общей оценке был отзыв В. А. Гольцева в «Русских ведомостях»: «Это по большей части умные, бойкие и глубоко честные очерки, которые читаются действительно легко, с живым интересом и с большой пользою. Они не только веселят, но и гуманизируют. От времени до времени в «Пестрых рассказах» слышится нотка заразительного смеха, а то промелькнет и серьезная дума» (1886, № 168, 22 июня).
В конце 1886 г. на критическую заметку анонима («Наблюдатель», № 12), считавшего, что «дарование автора <…> разменялось <…> на мелочь», остроумно отвечал в «Осколках» В. В. Билибин (№ 52, подпись: И. Грэк), защищая книгу Чехонте.
Через год, уже после выхода сборника «В сумерках», с обширной статьей о Чехове выступил в «Вестнике Европы» (1887, № 12) К. Арсеньев. Оценивая «Пестрые рассказы» ниже последующего чеховского сборника — прежде всего за «анекдотический элемент» в них и связанную с этим неправдоподобность сюжетов, — в лучших из «Пестрых рассказов» он всё же видел несомненный талант и начало той оригинальной дороги, которая привела автора к художественным достижениям книги «В сумерках» (подробнее о статье К. Арсеньева см. в т. III).
Первой большой журнальной статьей о Чехове было критическое обозрение Л. Е. Оболенского «Обо всем», напечатанное в декабрьском номере «Русского богатства» за 1886 г. «Его этюды настолько замечательны, что обещают большой, выдающийся талант», — писал Оболенский. Прочитав эту статью, Чехов отозвался о ней в письме к М. В. Киселевой: «Малый восторгается мной и доказывает, что я больше художник, чем Короленко… Вероятно, он врет, но все-таки я начинаю чувствовать за собою одну заслугу: я единственный, не печатавший в толстых журналах, писавший газетную дрянь, завоевал внимание вислоухих критиков — такого примера еще не было…» Сравнивая Чехова с Короленко (с его любовью к экстраординарному), Л. Оболенский отметил в «Пестрых рассказах» особенность, о которой затем критика говорила до конца жизни писателя и долго после — что Чехов принадлежит к числу художников, которые «не сочиняют сюжетов, а находят их всюду в жизни <…> куда он ни посмотрит, везде для него является источник творчества; где мы с вами ничего не увидим, не поймем, не почувствуем, где для нас всё просто, обыденно — там для него целое открытие <…> Чехов <…> видит за всем этим целую жизнь, которую умеет так понять, так полюбить, что и мы начинаем ее любить и понимать!» («Русское богатство», 1886, № 12, стр. 178). Эту же черту Чехова, сохранившуюся у него «до сих пор», Л. Оболенский отмечал и в конце творческого пути писателя (см. «Живописное обозрение», 1902, № 1, стр. 89). Тогда же Оболенский писал в своих воспоминаниях: «Первая в нашей критической литературе безусловно хвалебная статья об этюдах А. П. Чехова принадлежала мне. Но ранее ее появления Н. П. Вагнер в частном разговоре со мною советовал мне обратить внимание на „замечательные“ очерки Чехова. Это талант незаурядный» (Л. Е. Оболенский. Литературные воспоминания и характеристики. 1854–1899. — «Исторический вестник», 1902, № 2, стр. 495).
Незаурядный талант Чехова был отмечен в литературных кругах действительно задолго до появления «Пестрых рассказов».
Еще в 1882 году Л. И. Пальмин писал Чехову: «Читал некоторые Ваши хорошенькие остроумные вещицы, на которые обратил внимание среди действительно бездарной, бесцветной и жидкой бурды московской» (ЦГАЛИ).
«В московских литературных кругах уважали и ценили Чехова задолго до письма Григоровича, — вспоминал впоследствии А. Амфитеатров. — Даже и в «Будильнике» на него никогда не смотрели как на своего «среднего человека» — как на сотрудника довечного, вроде хотя бы тех же А. Д. Курепина, двух Кичеевых, талантливого Пальмина. Всем было ясно, что этот гость — недолгий, залетная птица, которая вскоре развернет свои крылья широко и улетит далеко. С первых же шагов Антоши Чехонте он встретил не только товарищеское признание, но и восторженное подражание» (А. Амфитеатров. Собр. соч., т. XIV. Славные мертвецы, стр. 125). «Какая великая будущность ждет Чехова! — записывал в 1888 году в своем дневнике писатель В. А. Тихонов. — Это я неустанно твержу с 1883 года (тогда я впервые познакомился с его произведениями), и как мне было обидно, когда его не понимали или не хотели понять. Соймонов и я вечно твердили, что у Чехова — громадная будущность» (ЛН, т. 68, стр. 494).
«В недолгое время, — писал Чехову 10 мая 1883 г. сотрудник юмористических журналов В. Д. Сушков, — вы своими трудами очень выдались из числа рядовых тружеников и рабочих, стали, без сомнения, известны в редакциях как молодой даровитый и многообещающий в будущем писатель» (Летопись, стр. 65).
В передаче Чехова известен разговор его с Н. С. Лесковым, произошедший в начале октября 1883 года. Лесков, в несколько своеобразной форме, предрек молодому писателю большое будущее: «Помазую тебя елеем, как Самуил помазал Давида… Пиши» (письмо Чехова к брату Александру Павловичу, октябрь 1883 г. Через три года Н. Лесков упоминал Чехова в ряду с Гаршиным и Короленко — «беллетристов <…> с хорошими дарованиями и <…> со здоровым реальным направлением». — «Новости и биржевая газета», 1886, № 151, 4 июня).
К 1883 году относятся и первые сообщения самого Чехова о своей известности: «Становлюсь популярным и уже читал на себя критики» (письмо к Ал. П. Чехову, февраль 1883 г.); «Мои рассказы не подлы и, говорят, лучше других по форме и содержанию, а андрюшки дмитриевы возводят меня в юмористы первой степени, в одного из лучших, даже самых лучших; на литературных вечерах рассказываются мои рассказы» (письмо к Ал. П. Чехову, 13 мая 1883 г.).
В ближайшие после выхода «Пестрых рассказов» годы критика оценивала их неизменно высоко, отмечая их жанрово-стилистическую оригинальность. «Автор этих рассказов, — писал М. Южный (М. Г. Зельманов), — как не могли не признать критики самых разнообразных лагерей, обнаружил несомненное дарование, может быть, небольшое, но во всяком случае, как всякое истинное дарование, оригинальное и свежее <…> Сразу уже было ясно, что он «пьет» не из «большого стакана», но несомненно из своего собственного» («Гражданин», 1892, № 21, 21 января).
В статье «Осенние беллетристы» Пл. Краснов, кажется, первым отметил роль юмористики и, в частности, «Пестрых рассказов» в формировании стиля зрелого Чехова-художника: «В юмористических листках г. Чехов научился писать легко и даже весело, что умеют далеко не многие наши писатели. А эта способность была очень важною для г. Чехова, потому что сюжеты, на которые предстояло ему писать, изображая русскую жизнь в эпоху минувшего царствования, были далеко не веселые, и, при всей легкости изложения г. Чехова, рассказы его и теперь все же оставляют очень тяжелое впечатление» («Труд», 1895, № 1, стр. 203).
Отзывы о ранних рассказах Чехова в критике 1890-х годов были единичны и случайны. Возрождение интереса к ним падает на 1899–1901 годы и связано с выходом первых двух томов издания А. Ф. Маркса, вызвавших новый поток рецензий и статей.
Эта критика, естественно, весьма отличалась от критики 80-х годов по тону, задачам, по выводам — на нее не могло не влиять последующее творчество Чехова, осознание места писателя в русской литературе конца XIX в.
Прежде всего это влияние сказывалось в общих характеристиках ранних вещей Чехова — в статьях 1900-х годов уже нет оценок отрицательных. «Сама жизнь», «юмор, до сих пор никем не превзойденный», «всё полно жизни, света, юмора», рассказы, «замечательные по искренности чувств, яркой оригинальности, обрисовке типов», «оригинальность, не имеющая ничего себе подобного ни у кого из наших наиболее выдающихся беллетристов», — такие и аналогичные отзывы можно встретить почти в каждой рецензии на первые тома чеховского собрания сочинений. Много писалось о том, что в этих томах можно найти «намеки на то, чему суждено было впоследствии развиться» («Русская мысль», 1900, № 3, стр. 84). В ранних рассказах отыскивались черты, предвосхищающие поздние темы и настроения. «В „Пестрых рассказах“, — писал М. Столяров, — мы встречаемся с юмором легкого, так сказать, характера <…> Однако и здесь уже намечено то, что так сильно выражено в позднейших произведениях талантливого беллетриста» («Новейшие русские новеллисты». Киев, 1901, стр. 44). «В этих незначительных по размеру вещах раннего периода литературной деятельности Антона Чехова, — отмечал А. И. Богданович, — ярко проявляются все те особенности, которые достигают полного развития в его позднейших произведениях. В большинстве их звучит затаенная нотка глубокой грусти, даже в иных самых веселых рассказах чувствуется грустное настроение автора» («Мир божий», 1900, № 11, стр. 92).
На оценку рассказов молодого Чехова влияли и распространенные в 1900-е годы характеристики его как «пессимиста», «меланхолика», «певца сумеречных настроений» и т. п. В «Критическом этюде по поводу последних произведений Чехова», озаглавленном «Трагедия чувства» (СПб., 1900), И. И. П-ский подчеркивал, что «даже в первых, ранних произведениях Чехова можно усмотреть некоторые задатки, некоторые семена того мировоззрения, которое окончательно сложилось, вылилось в определенную форму безнадежного пессимизма значительно позднее» (стр. 22). С. А. Венгеров в «Литературном портрете» Чехова, получившем впоследствии широкую известность благодаря перепечатке в «Энциклопедическом словаре» Брокгауза и Ефрона, также считал, что «если <…> глубже и внимательнее присмотреться к рассказам Чехонте, то нетрудно и в этих наскоро набросанных эскизах усмотреть печать крупного мастерства Чехова и всех особенностей его меланхолического дарования» («Вестник и библиотека самообразования», 1903, № 32, 7 августа, стлб. 1329).
Многие известные критики рассматривали ранние рассказы писателя сквозь призму своих впечатлений, сложившихся на материале его более позднего творчества. Так, Н. К. Михайловский в статье, написанной по поводу выхода I тома в изд. А. Ф. Маркса, явно прикладывал к раннему Чехову свою основную и не раз высказывавшуюся им мысль о «фотографичности» и «безразличии» таланта Чехова: «Автор <…> очень неразборчив и торопливо набрасывает на бумагу решительно всё, что ему подскажут наблюдение, память и воображение» («Русское богатство», 1900, № 4, стр. 120).
Нельзя сказать, что опасность таких «проекций» критикой не осознавалась. А. Басаргин (А. И. Введенский) писал по поводу рассказов I тома изд. А. Ф. Маркса, что «их оценка — задача довольно трудная. Дело в том, что перед глазами критика неотступно стоит Чехов последних лет…» («Московские ведомости», 1900, № 36, 5 февраля). Но, несмотря на стремление самого Введенского от такой «проекции» освободиться и «дать оценку Чехова первой литературной эпохи совершенно независимо от такого сравнения», ни ему, ни другим критикам того времени это не удалось.
4
Произведения 1883 — начала 1884 г. дошли до нас не полностью. Одна из причин этого — цензурные преследования. 11 апреля 1884 г. Н. А. Лейкин писал Чехову: «Крепко поналегли на нас в последнее время; поналегли и давят, душат <…>. А уж что с рисунками делают, особенно с передовыми, так ни на что не похоже! Идейного почти ничего не проходит» (ГБЛ). Речь шла не только об отдельных рассказах, рисунках и подписях, но и общем направлении журнала, о подборе статей. 12 июля 1884 г. Лейкин снова писал Чехову: «Цензора вызывали в Глав<ное> упр<авление> печати, сделали нахлобучку и велели смотреть строже. Был донос. Я это знаю. Вызывали и меня. Говорили, что нужно переменить отрицательное направление, уговаривали переменить дух журнала, быть посмирнее» (ГБЛ). Из-за цензурного запрета не были опубликованы рассказы «Говорить или молчать?» (стр. 373–374 этого тома) и «Наказанная добродетель» — последний остается неизвестным до сих пор.
Расхождение Чехова с Лейкиным в эстетических вкусах, во взглядах на задачи юмористического журнала также приводило к тому, что некоторые рассказы не увидели света. 9 февраля 1884 г. Л. И. Пальмин писал Лейкину о Чехове: «Жалуется всё он, что „Осколки“ носят слишком фельетонный характер и что при малом их объеме слишком мало в них дается поприща для беллетристики и негде разгуляться авторскому перу и его творчеству» (ИРЛИ). Лейкин оправдывался в письме Чехову от 19 февраля 1884 г.: «Вы упрекаете меня, что я придаю фельетонный характер „Осколкам“. Удивляюсь такому упреку! Если бы я мог, я сделал бы „Осколки“ от строчки до строчки фельетоном, но людей нет. Вы забываете, что „Осколки“ журнал, журнал еженедельный, а не сборник, журнал должен откликаться на все злобы дня, как крупные, так и мелкие» (ГБЛ).
Остаются неизвестными произведения 1883 и начала 1884 г., о которых сохранились сведения в переписке Чехова и в воспоминаниях современников:
1. «Мелочишка». «Возвращаю Вам и Вашу маленькую мелочишку. Показалась она мне несколько сальною, а „Осколки“ попали в кружок семейных читателей, так что подчас боюсь сальца-то подпускать» (письмо Н. А. Лейкина, 16 апреля 1883 г., ГБЛ).
2. Рассказ «Ценители». «Рассказов Ваших имеется у меня всего три, из коих один — „Ценители“ — очень испорчен цензурой, так что настоящий смысл и идея утеряны, поэтому благоволите поспешить присылкой новых рассказов» (письмо Н. А. Лейкина, 1 июня 1883 г., ГБЛ). О возвращении этого рассказа Чехову в письмах Лейкина 1883–1884 годов сведений нет. Между тем Лейкин в этом был очень аккуратен. «Всё, что не возвращено Вам обратно по почте, — или уже напечатано, или находится в наборе», — писал он Чехову 8 февраля 1883 г. (ГБЛ). Возможно, рассказ был напечатан в «Осколках» под другим названием. По содержанию заглавие более всего подходит к рассказу «О драме», напечатанному 3 ноября 1884 г. (т. III).
3. Рассказ «по охотницкой части» — «Петров день», первоначально называвшийся «29 июня». Начат в первых числах июня, закончен в конце месяца. «„Петров день“ (рассказ), — писал Чехов Лейкину 25 июня, — вышел слишком длинен. Я его переписал начисто и запер до будущего года, а теперь никуда не пошлю».
4. Рецензия на книгу рассказов Н. Лейкина «Караси и щуки» (СПб., 1883). «Написал я рецензийку на Ваших „Карасей и щук“. Сунулся с ней — и оказывается, что о Вашей книге уже везде говорилось. Был на днях у Пушкарева на даче и просил места в «Мирском толке» (подписчиков много — около 2500–3000) и покаялся, что попросил… Было бы мне без спроса взять и напечатать… Он, видите ли, на мою заметку о его свече разобиделся… За незнанием автора заметки, бранит Вас… Авось, суну куда-нибудь… Время еще не ушло… Я с учено-литературно-возвышенной точки зрения хватил. Высоким слогом и с широковещательной тенденцией… и в то же время весьма искренно» (письмо Чехова к Лейкину, между 31 июля и 3 августа 1883 г.).
5. Водевиль, над которым Чехов работал в конце октября 1883 г. «Никуда не хожу и работаю. Занимаюсь медициной и стряпаю плохой водевиль» (письмо к И. П. Чехову, вторая половина октября).
6. Цикл «Пошехонские рассказы». 19 ноября 1883 г. Лейкин писал Чехову: «Рассказы Ваши, озаглавленные „Пошехонскими рассказами“, позволю себе Вам возвратить. Они не подходят для „Осколков“. Еще летом я их пожалуй бы спулил, а теперь неловко. Сальны» (ГБЛ).
7. Пародия на пьесу Б. Маркевича «Чад жизни». 30 января 1884 г. Чехов писал Лейкину: «Сегодня в театре Лентовского идет пресловутый „Чад жизни“ Б. Маркевича. Если достану билет, то сегодня буду в театре, а завтра (во вторник) утром накатаю пародию или что-нибудь подходящее и пришлю Вам с завтрашним почтовым поездом — имейте это в виду и оставьте на всякий случай местечко». 19 февраля 1884 г. Лейкин сообщал: «Пародия на пьесу Б. Маркевича была уже набрана, когда я получил Ваше письмо с просьбою не печатать пародии, и я ее велел разобрать» (ГБЛ).
8. «Старая верба». Лейкин возвратил рукопись Чехову 27 марта 1884 г.: «Спешу возвратить „Старую вербу“. Совсем не для юмористического журнала» (ГБЛ). Видимо, речь идет о рассказе, написанном к «вербному воскресенью», подобно рассказу «Верба» 1883 года (см. стр. 102–105*).
9. «Княжна Ярыгина». Лейкин писал Чехову 20 апреля 1884 г.: «Простите великодушно, но рассказ Ваш „Княжна Ярыгина“ я принужден Вам возвратить. Он Вам совсем не удался. Сюжет очень сальноват также, и кроме того, рассказ неимоверно растянут» (ГБЛ).
Имеется также глухое упоминание о рассказе, возвращенном редакцией журнала «Развлечение». 23 апреля 1884 г. А. И. Леман писал Чехову: «Отдавая должную справедливость литературному изложению присланной статьи, считаю необходимым сказать, что по содержанию Ваш рассказ не подходит к характеру „Развлечения“» (ЦГАЛИ). Так как ни название, ни содержание рассказа неизвестны, невозможно определить, был ли он уничтожен Чеховым или напечатан в каком-либо другом журнале.
В том не включены следующие рассказы, которые впервые появились в 1883 г. и затем в разное время без достаточных оснований приписывались Чехову:
1. «Зимогоры». — «Зритель», 1883, № 22. Подпись: Ч. Включен в «Библиографию сочинений А. П. Чехова», составленную И. Ф. Масановым (М., 1906). Очевидно, принадлежат Ал. П. Чехову.
2. «Магнетический сеанс». — «Московский листок», 1883, № 22, 23 января, без подписи. Включен в ПССП, т. I, стр. 500–501. Опровержение принадлежности Чехову см. там же, т. XIII, стр. 424.
3. Рассказ-реклама. — «Новости дня», 1883, № 46, 15 августа. Перепечатан в журнале «Чудак», 1929, № 25. Судя по письму С. Д. Балухатого к И. Ф. Масанову от 7 июля 1929 г., публикация в журнале «Чудак» принадлежит Масанову: «А все-таки напрасно Вы напечатали в „Чудаке“ нечеховские рассказы. Докажите мне, что они чеховские, и не требуйте, чтобы я доказал Вам обратное, так как это неправильный метод» (ЦГАЛИ, ф. 317, оп. 1, ед. хр. 53, л. 27).
4. Рассказ «Из дневника человека, „подающего надежды“». — «Будильник», 1883, № 35 (ценз. разр. 10 сентября). Подпись: Неудалый. Перепечатан в дополнительных томах издания А. Ф. Маркса (т. XVIII).
5. Рассказ «Две ночи (совсем прозаическая историйка)». — «Будильник», 1883, № 44 (ценз. разр. 11 ноября). Подпись: Неудалый. Перепечатан в дополнительных томах издания А. Ф. Маркса (т. XIX).
Под псевдонимом «Неудалый» в «Будильнике» в 1877 г. писал А. А. Ходнев. В ГЛМ хранится документ (без даты), в котором А. А. Ходнев пишет: «Не являются моими два рассказа из журнала «Будильник» за 1883 г., № 35 и 44 <…> По моему мнению, эти рассказы принадлежат перу Антона Павловича Чехова». Однако в другом документе — списке своих рассказов, — А. А. Ходнев называет, среди других, печатавшихся в «Будильнике», и эти два рассказа.
На вопрос И. Ф. Масанова А. С. Лазарев (Грузинский) отвечал 13 марта 1910 г.: «Вещи Неудалого похожи на чеховские, но, по-моему, не его, ввиду петербургского характера одной из них» (ЦГАЛИ, ф. 317, оп. 1, ед. хр. 213, л. 3).
Тексты подготовили и примечания составили: Л. Д. Опульская и А. П. Чудаков (1883 г.), Л. М. Долотова (1884 г.). Примечания к рассказам, юморескам и пародиям: «Кое-что», «Список экспонентов, удостоенных чугунных медалей…», «Нечистые трагики и прокаженные драматурги», «Жизнеописания достопримечательных современников» — написаны А. С. Мелковой.
Вступительную статью к примечаниям написал А. П. Чудаков.
Библиографию прижизненных переводов составила Л. П. Северская (некоторые сведения о переводах на венгерский язык даны М. Рев, на японский — В. В. Хрусловой).
РЯЖЕНЫЕ
Впервые — «Зритель», 1883, № 2 (ценз. разр. 5 января), стр. 3–4. Подпись: Человек без селезенки.
Печатается по журнальному тексту с исправлением в последней фразе: Канкан — вместо: Капкан.
Для создания обобщенной картины «ряженого храма» привлечен действительный факт — надпись над сценой в театре М. Лентовского. В фельетоне Мухи (А. Плещеев), напечатанном в журнале «Мирской толк» (1882, № 30), говорилось: «Над самой сценой театра буфф, в арке, венчающей портик, виднеются громаднейшими буквами написанные слова: „Сатира и мораль!“ Это над сценой-то, где исполняется канкан во всех его видах и проявлениях. Лихо, г. Лентовский!! Что лихо, то лихо!
Над храмом дикого канкана Пришла в башку кому-то „шаль“ — Изобразить, должно быть спьяна, Слова: „Сатира и мораль!“»На ту же тему и под тем же названием («Ряженые») Чехов в 1886 г. написал другую юмореску (наст. изд., т. IV). Она выполнена в ином стилистическом ключе, но сюжетная основа «Ряженых» 1883 года сохранена.
(обратно)ДВОЕ В ОДНОМ
Впервые — «Зритель», 1883, № 3 (ценз. разр. 8 января), стр. 2. Подпись: А. Чехонте.
Сохранился черновой автограф рассказа (ЦГАЛИ).
Печатается по журнальному тексту с исправлением по автографу: лицо (стр. 12, строка 2) — вместо: лицо его.
Некоторые детали первоначального замысла были иными. В вагоне, кроме рассказчика, находились только два человека: мужчина и женщина. Но уже в рукописи появился вариант: «Вагон был полон». Там же были сняты слова Ивана Капитоныча: «Нет на них сатирика!» и «Отчего нонче в газетах ничего не пишут? Отчего? Известно отчего…» — единственные, которые воспринимаются без иронии. С исключением их образ канцелярского приобрел законченность и определенность — «либерала», понимающего свободу как возможность курить в конке.
Первоначальный текст отличался большей гиперболичностью стиля: Иван Капитоныч при распекании «умирает и обращается в пыль» (исправлено на: «зябнет и трясется всеми членами»). Зачеркнув несколько фраз, вводящих в действие, Чехов придал повествованию больший динамизм.
По типу главного героя к рассказу «Двое в одном» примыкает другой рассказ 1883 года — «Сущая правда» (см. в этом томе стр. 177*).
(обратно)РАДОСТЬ
Впервые — «Зритель», 1883, № 3 (ценз. разр. 8 января), стр. 7. Заглавие: Велика честь. Подпись: А. Чехонте.
Вошло в издание А. Ф. Маркса.
Печатается по тексту: Чехов, т. I, стр. 312–314.
Для собрания сочинений рассказ был существенно отредактирован Чеховым. Сделаны сокращения — исключены, как это обычно бывало при правке, указания на промежуточные действия персонажа (было, например: «Митя полез в карман и вытащил оттуда номер газеты. Он подал его папеньке» — стало: «Митя вытащил из кармана нумер газеты, подал отцу»). Снято гиперболическое сравнение Мити с человеком, «за которым гонится триста чертей».
При жизни Чехова рассказ был переведен на болгарский, немецкий, польский, сербскохорватский и чешский языки[43].
(обратно)МЫСЛИ ЧИТАТЕЛЯ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ
Впервые — «Осколки», 1883, № 3, 15 января (ценз. разр. 14 января), стр. 6. Подпись: Человек без селезенки.
Печатается по журнальному тексту.
Обыгрывание названий газет и журналов — прием, весьма обычный для малой прессы конца 70-х — начала 80-х годов. Юморески подобного типа, в прозе или в стихах, нередко появлялись и в журналах, где сотрудничал Чехов. Например, Бертрам (В. В. Билибин) в юмореске «Наши обстоятельства» («Осколки», 1882, № 27) писал:
«Всякий беспристрастный „Наблюдатель“ должен сознаться, что „Здоровье“ нашего государственного организма сильно расстроено.
Приверженцы „Русской старины“ приобрели уже слишком большое влияние на ход дел. Отовсюду послышались жалобы на неустройство „Семьи и школы“, и относительно последней они, вероятно, еще более увеличатся. Свобода „Слова“ и „Мысли“ находится в очень шатком и сомнительном положении, и „Голосу“ общественного мнения пришлось совершенно притихнуть <…> Но как ни печально положение „Дела“, все-таки каждый добрый „Сын отечества“ твердо надеется, что придет „Заря“ (конечно, не с „Востока“), и ожидает „Восхода“ более счастливой эры.
Пока, однако, приходится сознаться, что „Страна“ наша велика и обильна, а „Порядку“ в ней нет».
Стр. 14. Уфимские губернские ведомости — еженедельная газета; выходила в Уфе с 1864 г. Редакторы — В. Буткевич, И. Гуревич. Перепечатывала, в основном, статьи и сообщения московских и петербургских газет.
Свет — ежедневная политическая, экономическая и литературная газета; издавалась в Петербурге В. В. Комаровым с 1882 г.
Заря — политическая и литературная ежедневная газета. Издавалась в Киеве с 1880 г. Издатель-редактор П. А. Андреевский.
Радуга — иллюстрированный еженедельный журнал. Начал выходить в Москве с 1883 г. Издатель-редактор Н. П. Гиляров-Платонов.
Свет и тени — еженедельный художественный и карикатурный журнал. Издавался в Москве в 1878–1884 годах Н. Л. Пушкаревым. Чехов сотрудничал в нем в 1882 г.
Луч — еженедельный журнал политики, литературы и общественной жизни. Издавался в Петербурге с 1880 г.; в 1881–1890 годах редактором был реакционный публицист и беллетрист С. С. Окрейц. Чехов в «Визитных карточках» (1886) назвал его «Юдофоб Юдофобович Окрейц».
Огонек — еженедельный иллюстрированный журнал литературы, науки и искусств, выходивший в Петербурге в 1879–1883 годах. Издатель — Г. Д. Гоппе; редактор — Н. П. Аловерт.
Рассвет — еженедельный журнал, орган русских евреев; издавался в Петербурге в 1879–1884 годах.
Наблюдатель — ежемесячный «литературный, политический и ученый» журнал; издавался в Петербурге с 1882 г. А. П. Пятковским.
Инвалид — «Русский инвалид», военная газета, выходившая в Петербурге с 1813 г.; с 1869 г. — орган Генерального штаба.
Сибирь — еженедельная газета, издавалась в Иркутске в 1873–1887 годах.
Развлечение — еженедельный литературный и юмористический журнал; выходил в Москве с 1859 г. В начале 1880-х годов издатель-редактор — Ф. Б. Миллер.
Игрушечка — иллюстрированный журнал для детей; издавался еженедельно в Петербурге с 1880 г. Т. П. Пассек.
Голос — политическая и литературная ежедневная газета, выходившая в Петербурге. Издатели-редакторы — А. А. Краевский и В. А. Бильбасов. В феврале 1883 г. за либеральное направление газета была приостановлена, а в 1884 г. издание прекратилось.
Эхо — ежедневная общественно-политическая и литературная газета; издавалась в Петербурге в 1882–1885 годах. В отделе «Газета газет» постоянно публиковала обзор столичных и провинциальных изданий.
Век — ежемесячный литературный, ученый и политический журнал славянофильского толка. Начал издаваться в Петербурге М. А. Филипповым в 1882 г., но успеха не имел и в начале 1884 г. прекратил существование из-за недостатка подписчиков.
Русь — славянофильская газета; издавалась в Москве в 1880–1886 годах И. С. Аксаковым.
Москва — еженедельный литературно-художественный журнал; издавался в Москве в 1882–1883 годах Е. С. Сталинским. Журнал был рассчитан на демократического читателя, помещал красочные литографии из народного быта. В 1882 г. в «Москве» сотрудничал Чехов.
Русская мысль — ежемесячный научный, литературный и политический журнал либеральной ориентации; издавался с 1880 г. в Москве В. М. Лавровым, редактор — С. А. Юрьев.
Здоровье — научно-популярная гигиеническая газета, издавалась в Петербурге с 1883 г. Ранее (с 1874 г.) под этим же названием выпускался журнал.
Врач — еженедельная медицинская газета, издавалась в Петербурге с 1880 г. К. Л. Риккер под ред. проф. В. А. Манассеина.
(обратно)ОТВЕРГНУТАЯ ЛЮБОВЬ
Впервые — «Мирской толк», 1883, № 2, 16 января, стр. 19, отдел — «Винт № 1». Подпись: Гайка № 6.
Сохранился черновой автограф (ГБЛ).
Печатается по журнальному тексту.
Рассказ был представлен в журнал в начале 1883 г. (не позднее 14 января); 15 января по материалам номера, в котором он был опубликован, цензор Леонтьев сделал доклад на заседании Московского цензурного комитета (ЦГАМ, ф. 31, оп. 3, ед. хр. 214, л. 179).
История псевдонима «Гайка № 6» связана с отделом «Винт» в журнале «Мирской толк». Этот «журнал в журнале» появился впервые в № 2 за 1883 г. с подзаголовком: «Инструмент для привинчивания этикетов ко всем медным лбам, звенящим и блестящим в нашем отечестве». В предисловии от редакции среди перечня отделов, предполагаемых в «Винте», сообщалось, что всякий из сотрудников отдела «Гайки», «по порядку вступления, получает очередной номер, и потому каждая статья будет носить подпись: гайка №…» В первом выпуске «Винта» Чехов получил два «гаечных» номерных псевдонима — Гайка № 6 и Гайка № 9 (см. комментарий к юмореске «Библиография»*).
Стр. 15. …на то испанец он! — Из комической оперы Ж. Оффенбаха «Птички певчие (Перикола)».
Plenus venter ~ passivi! — «Сытое брюхо к ученью глухо» и название грамматической формы в латинском языке.
(обратно)БИБЛИОГРАФИЯ
Впервые — «Мирской толк», 1883, № 2, 16 января, стр. 20, отдел — «Винт № 1». Подпись: в одной части тиража — Шампанский, в другой — Гайка № 9.
Печатается по журнальному тексту. Исходя из специфики юмористического отдела «Винт», где каждому сотруднику присваивался «гаечный» псевдоним, более поздней следует считать подпись «Гайка № 9», заменившую индивидуальный псевдоним «Шампанский». За основу принят текст с этой подписью, отличающийся от другого одним словом: «Посвящение» (строка 17) вместо «Посвящается».
Первоначально объявления о якобы вышедших новых книгах входили в юмореску «Рекламы и объявления», написанную в конце 1882 г., но не отданную Чеховым в печать (т. I, стр. 486–487). В начале 1883 г. часть юморески была изменена, существенно дополнена и составила «Библиографию». Окончательный вариант написан не позднее 14 января 1883 г. (15 января материалы номера уже обсуждались на заседании Московского цензурного комитета).
Стр. 17. …портретом г. Юханцева ~ Соч. Рыкова. — Юханцев, Буш, Макшеев и Рыков — подсудимые в известных судебных процессах конца 70-х — начала 80-х годов о хищениях и взяточничествах (К. М. Юханцев, например, будучи кассиром Общества взаимного и поземельного кредита, растратил около 2 млн. руб. серебром). Эти имена — постоянный объект шуток юмористической прессы 80-х годов. В январе 1883 г. в связи с начавшимся процессом Юханцева Чехов написал рассказ «Единственное средство».
Соч. князя М. Е. Щерского. — О кн. В. П. Мещерском см. т. I, стр. 561 и 585.
(обратно)ЕДИНСТВЕННОЕ СРЕДСТВО
Впервые — «Осколки», 1883, № 4, 22 января (ценз. разр. 21 января), стр. 4. Подпись: А. Чехонте.
Сохранилась вырезка из журнала с пометой Чехова, сделанной в период подготовки издания А. Ф. Маркса: «„Осколки“, 1883, № 4» (ЦГАЛИ)[44].
Печатается по журнальному тексту.
Рассказ был послан в «Осколки», вместе с двумя другими («Случаи mania grandiose» и «Темною ночью»), 12 января 1883 г. (письмо Чехова к Н. А. Лейкину от этого числа). Сетуя, что размер в 100 строк, рамки «от сих и до сих», стесняют его, Чехов писал: «Как образец моих печалей, посылаю Вам ст<атью> „Единственное средство“… Я сжал ее и посылаю в самом сжатом виде, и все-таки мне кажется, что она чертовски длинна для Вас, а между тем, мне кажется, напиши я ее вдвое больше, в ней было бы вдвое больше соли и содержания…». 20 января Лейкин ответил: «С особенным удовольствием получил я Ваше милое письмо с приложением рассказцев. Получил и целиком убил все рассказы в № 4 „Осколков“. Теперь опять неимущ по части Вашего добра и слезно молю о высылке вновь разных литературных „разностев“ к № 5 <…> Полагаясь на то, что Вы не станете злоупотреблять длиннотами, благословляю Вас и на 120 строк, и на 140, и даже на 150, присылайте только непременно что-нибудь к каждому номеру <…> В № 4 идут три Ваших рассказа» (ГБЛ).
(обратно)СЛУЧАИ MANIA GRANDIOSA
Впервые — «Осколки», 1883, № 4, 22 января (ценз. разр. 21 января), стр. 5. Подпись: Человек без селезенки.
Печатается по журнальному тексту.
Юмореска была послана в «Осколки» 12 января 1883 г. (см. комментарий к рассказу «Единственное средство»*).
В образах капитана («Сборища воспрещены») и отставного урядника («А посиди-ка, братец!») разрабатывается сатирический тип, намеченный в рассказах 1880–1881 годов (см. в т. I «Письмо к ученому соседу», «Суд») и завершенный в «Унтере Пришибееве» (1885).
Стр. 21. Вниманию газеты «Врач». — См. комментарии на стр. 486*.
(обратно)ТЕМНОЮ НОЧЬЮ
Впервые — «Осколки», 1883, № 4, 22 января (ценз. разр. 21 января), стр. 6. Подпись: А. Чехонте.
Включено, без исправлений, в первое издание сборника «Пестрые рассказы».
Сохранилась вырезка из журнала с пометой Чехова (ЦГАЛИ).
Печатается по тексту сб. «Пестрые рассказы». СПб, 1886, стр. 30–31, с исправлением по «Осколкам»: странно барахтаться… (стр. 24, строка 34) — вместо: страшно барахтаться…
Рассказ был послан в «Осколки» 12 января 1883 г. (см. комментарий к рассказу «Единственное средство»*).
При жизни Чехова был переведен на сербскохорватский язык.
Стр. 25. — Миша, вспомни кукуевку! — Подробности о крушении на Московско-Курской железной дороге и связанных с ним скандальных происшествиях, участниками которых были путейцы, см. в пародийном «романе» «Тайны ста сорока четырех катастроф, или Русский Рокамболь», т. I, стр. 487 и 601.
(обратно)ИСПОВЕДЬ
Впервые — «Зритель», 1883, № 5, 19 января (ценз. разр. 16 января), стр. 2–3. Подпись: А. Чехонте.
Печатается по журнальному тексту.
(обратно)НА МАГНЕТИЧЕСКОМ СЕАНСЕ
Впервые — «Зритель», 1883, № 7, 24 января (ценз. разр. 22 января), стр. 6–7. Подпись: Человек без селезенки.
Печатается по журнальному тексту.
Непосредственным поводом для написания рассказа послужил сеанс гипнотизера Роберта, проходивший в редакции журналов Н. Л. Пушкарева «Мирской толк» и «Свет и тени» около 20 января 1883 г.
«Г-н Роберт начал с того, — писал „Московский листок“ об этом сеансе в № 22 от 23 января 1883 г., — что взглядом своим в ½ минуты усыпил даму <…> г. Роберт, поводив над дамой ладонями, привел ее в состояние тетануса (окоченение, холод оконечностей и полная нечувствительность) <…> Проделан был и другой опыт: дама лежала на двух стульях, головой на одном и пятками на другом <…> Известные профессора Шарко и Гельмгольц, производившие подобные опыты, объяснение причин уступают будущему». См. также: Вокруг Чехова, стр. 128; А. В. Круглов. Пестрые странички («Исторический вестник», 1895, № 12, стр. 799).
Стр. 32. …насчет хапен зи гевезен… — Тургенев еще в 1853 г., в повести «Два приятеля», употребил в речи персонажа выражение «хабен зи гевезен» — бессмысленное сочетание двух немецких глаголов, бытовавшее в чиновничьей среде как обозначение взятки (по ассоциации с русским «хапать»). «Одно только, чай, досадно: теперь уж нельзя хабен зи гевезен, — и Михей Михеич представил рукой, как будто поймал что-то в воздухе и сунул себе в боковой карман» (И. С. Тургенев. Полн. собр. соч. и писем в 28 тт. Сочинения, т. VI. АН СССР, М. — Л., 1963, стр. 51 и 510). У Чехова то же иносказание сделано более прозрачным.
(обратно)УШЛА
Впервые — «Осколки», 1883, № 5, 29 января (ценз. разр. 28 января), стр. 4. Подпись: А. Чехонте.
Сохранилась вырезка из журнала, сделанная при подготовке издания А. Ф. Маркса (ЦГАЛИ).
Печатается по журнальному тексту.
Фамилия одного из персонажей — Трамб — повторена затем в рассказе «Раз в год» (наст. том, стр. 135).
(обратно)В ЦИРУЛЬНЕ
Впервые — «Зритель», 1883, № 10, 7 февраля (ценз. разр. 31 января), стр. 2–3. Заглавие: Драма в цирульне. Подпись: Человек без селезенки.
Вошло в издание А. Ф. Маркса.
Печатается по тексту: Чехов, т. I, стр. 318–322.
Для собрания сочинений рассказ был существенно переработан. Сделаны не только отдельные стилистические замены в языке персонажей (устранены «пользительно», «таперича», «рупь», «бонба»), но и внесены исправления, изменившие образы персонажей. Так, из речи цирюльника исключено всё, что он говорил о мелких одолжениях Эрасту Иванычу (кокосовое мыло «в презент», апельсин), и все его меркантильные расчеты в связи с женитьбой. Введены новые детали, придающие всему рассказу другой эмоциональный колорит («больной колокольчик» цирюльни; «Оставшись один, Макар Кузьмич садится и продолжает плакать потихоньку»).
При жизни Чехова рассказ был переведен на венгерский, немецкий, польский, сербскохорватский, финский, чешский и шведский языки.
(обратно)СОВРЕМЕННЫЕ МОЛИТВЫ
Впервые — «Зритель», 1883, № 10, 7 февраля (ценз. разр. 31 января), стр. 10, в разделе «И то и се». Подпись: Ч. без с.
Печатается по журнальному тексту.
Стр. 39. Салон де варьете — московское увеселительное заведение. См. рассказ «Салон де варьете» в т. I Сочинений, стр. 90.
Стр. 40. Виктор Александров — псевдоним В. А. Крылова (1838–1906), чрезвычайно плодовитого драматурга.
(обратно)НА ГВОЗДЕ
Впервые — «Осколки», 1883, № 6, 5 февраля (ценз. разр. 4 февраля), стр. 5 Подпись: А. Чехонте.
Вошло без изменений в первое издание сб. «Пестрые рассказы». СПб., 1886.
Печатается по тексту сборника, стр. 75–77.
Рассказ написан в конце января 1883 г. 3 февраля Лейкин писал Чехову: «Сердечно благодарен Вам за Ваш последний присыл. Вещичка Ваша „На гвозде“ совсем шикарная вещичка. Это настоящая сатира. Салтыковым пахнет. Я прочел ее с восторгом два раза. Читал и другим — всем нравится. Она пойдет в следующем (6) номере „Осколков“» (ГБЛ).
(обратно)РОМАН АДВОКАТА
Впервые — «Осколки», 1883, № 6, 5 февраля (ценз. разр. 4 февраля), стр. 5. Подпись: Человек без селезенки.
Печатается по журнальному тексту.
3 февраля 1883 г. Н. А. Лейкин извещал Чехова, что всё, присланное с рассказом «На гвозде», он «опять убил в один номер» (кроме рассказа «Благодарный», оставленного «про запас»).
Возможно, «Роман адвоката» является продолжением намеченного Чеховым цикла, начатого «Романом доктора» и «Романом репортера» в № 2 «Осколков» от 8 января 1883 г. (т. I наст. изд., стр. 481). Подобный тип юморески, построенной как специальный монолог лица какой-либо профессии, находит многочисленные параллели в малой прессе 1880-х годов.
(обратно)ЧТО ЛУЧШЕ?
Впервые — «Осколки», 1883, № 6, 5 февраля (ценз. разр. 4 февраля), стр. 6. Подпись: Человек без селезенки.
Печатается по журнальному тексту.
Стр. 44. «Науки юношей ~ подают». — Неточная цитата из оды М. В. Ломоносова «На день восшествия на всероссийский престол ее величества государыни императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года».
(обратно)БЛАГОДАРНЫЙ
Впервые — «Осколки», 1883, № 7, 12 февраля (ценз. разр. 11 февраля), стр. 4. Подпись: А. Чехонте.
Сохранилась вырезка из журнала с пометой Чехова (ЦГАЛИ).
Печатается по журнальному тексту.
Рассказ послан в «Осколки» в январе 1883 г.
3 февраля Лейкин извещал Чехова, что из всего присыла оставил для следующего номера один этот рассказ. «Но этого, пожалуй, на 7-й номер будет мало, а потому прошу Вас опять поналечь покрепче и прислать мне партийку литературного товара к понедельнику» (ГБЛ). Получив новую партию, Лейкин в письме от 8 апреля снова упоминал рассказ «Благодарный», как оставшийся от предпоследнего присыла (там же).
(обратно)СОВЕТ
Впервые — «Осколки», 1883, № 7, 12 февраля (ценз. разр. 11 февраля), стр. 4. Подпись: Человек без селезенки.
Сохранилась вырезка из журнала с пометой: «NB. В полное собрание не войдет. А. Чехов» (ЦГАЛИ).
Печатается по журнальному тексту.
Рассказ послан в «Осколки» около 6 февраля 1883 г. — вместе с другими, напечатанными в № 7. 8 февраля Н. А. Лейкин писал: «„Большой присыл“ весь в наборе, но весь едва ли войдет в № 7» (ГБЛ). Вероятно, часть материалов, посланных в этот раз, была напечатана 19 февраля в № 8 «Осколков».
(обратно)ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Впервые — «Осколки», 1883, № 7, 12 февраля (ценз. разр. 11 февраля), стр. 6. Подпись: Человек без селезенки.
Печатается по журнальному тексту.
Было послано в «Осколки» около 6 февраля 1883 г. (см. комментарий к рассказу «Совет»*).
Стр. 50. Где может читать неграмотный? ~ В сердцах. — В контексте с другими ответами, говорившими об участке и обыске, этот ответ приобретал злободневный смысл. Ср. у М. Е. Салтыкова-Щедрина в очерках «Убежище Монрепо» и «За рубежом» (1879–1880) о полномочиях становых — «читать в сердцах».
(обратно)КРЕСТ
Впервые — «Осколки», 1883, № 7, 12 февраля (ценз. разр. 11 февраля), стр. 6. Подпись: Человек без селезенки.
Печатается по журнальному тексту.
Было послано в «Осколки» около 6 февраля 1883 г. (см. комментарий к рассказу «Совет»*).
Стр. 51. …видит красный крест ~ который не прицепишь к сюртуку. — Крестами цензоры перечеркивали рукописи и гранки. Чехов писал Н. А. Лейкину 27 июня 1883 г.: «Придется смешить одних только наборщиков да цензора, а от читателей прятаться за красный крест…». Ироническое обыгрывание цензорских «крестов» было характерно для литературной среды того времени. Ср., например, письмо Л. Н. Трефолева Н. А. Лейкину от 25 июля 1891 г. — «Н. А. Лейкин в его воспоминаниях и переписке». СПб., 1907, стр. 218.
(обратно)ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРЕДРАССУДКОВ
Впервые — «Зритель», 1883, № 11, 10 февраля (ценз. разр. 9 февраля), стр. 2–3. Подпись: А. Чехонте.
Сохранилась вырезка из журнала с пометой Чехова (ЦГАЛИ).
Печатается по журнальному тексту.
(обратно)РЕВНИТЕЛЬ
Впервые — «Зритель», 1883, № 12, 15 февраля (ценз. разр. 15 февраля), стр. 2. Подпись: Человек без селезенки.
Печатается по журнальному тексту.
Стр. 57. Краса Демидрона — прозвище газеты А. С. Суворина «Новое время» («Демидрон» — петербургский ресторан). См. К. М. Салтыков. Интимный Щедрин. М. — Пг., 1923, стр. 35. В журнале «Осколки», 1882, № 2, была напечатана, например, юмористическая «Корреспонденция в „Красу Демидрона“ о негоцианте Мальцеве» А. Педро (А. П. Подурова).
(обратно)КОЛЛЕКЦИЯ
Впервые — «Зритель», 1883, № 13, 18 февраля (ценз. разр. 18 февраля), стр. 4, 6. Подпись: Человек без селезенки.
Печатается по журнальному тексту.
В рассказе использован один из псевдонимов Чехова — М. Ковров, которым он в начале 1883 г. подписывал свои фельетоны в журнале «Зритель» (см. т. XVI наст. изд.).
(обратно)БАРАН И БАРЫШНЯ
Впервые — «Осколки», 1883, № 8, 19 февраля (ценз. разр. 18 февраля), стр. 5. Подпись: А. Чехонте.
Сохранилась вырезка из журнала с пометой Чехова (ЦГАЛИ).
Печатается по журнальному тексту.
(обратно)РАЗМАЗНЯ
Впервые — «Осколки», 1883, № 8, 19 февраля (ценз. разр. 18 февраля), стр. 5. Подпись: А. Чехонте.
Рассказ, с небольшими изменениями в пунктуации, был включен в первое издание сб. «Пестрые рассказы».
Сохранилась вырезка из журнала с текстом рассказа (ЦГАЛИ).
Печатается по тексту сб. «Пестрые рассказы». СПб., 1886, стр. 54–56.
При жизни Чехова рассказ был переведен на румынский, сербскохорватский и словацкий языки.
(обратно)РЕПКА
Впервые — «Осколки», 1883, № 8, 19 февраля (ценз. разр. 18 февраля), стр. 6. Подпись: Человек без селезенки.
Сохранилась вырезка из журнала с пометой Чехова (ЦГАЛИ).
Печатается по журнальному тексту.
(обратно)ЯДОВИТЫЙ СЛУЧАЙ
Впервые — «Зритель», 1883, № 14, 22 февраля (ценз. разр. 22 февраля), стр. 3. Подпись: Человек без селезенки.
Печатается по журнальному тексту.
Стр. 65. «Донская пчела» — газета, издававшаяся в Ростове-на-Дону с 1876 г. И. А. Тер-Абрамианом.
(обратно)ПАТРИОТ СВОЕГО ОТЕЧЕСТВА
Впервые — «Мирской толк», 1883, № 8, 27 февраля, стр. 75–76. Подпись: Ч. Б. С.
Включено, со значительными сокращениями, в первое издание сборника «Пестрые рассказы».
Сохранилась писарская копия рассказа с пометой: «NB. В полное собрание не войдет. А. Чехов» (ЦГАЛИ).
Печатается по тексту сб. «Пестрые рассказы». СПб., 1886, стр. 18–19.
Рассказ был написан в феврале 1883 г. и отдан в журнал «Мирской толк» не позднее 23 числа этого месяца.
Вместе с другими юмористическими материалами, напечатанными в № 8 журнала, предназначался для отдела «Винт». Но «Винт» был запрещен цензурой. 15 января 1883 г. на заседании Московского цензурного комитета цензор Леонтьев, которому было поручено наблюдать за журналом «Мирской толк» (ЦГАМ, ф. 31, оп. 3, ед. хр. 214, л. 179), сделал «словесный доклад» о том, что он затрудняется «подписать выпускной билет на 2 № „Мирского толка“, так как внутренний вкладной лист этого журнала имеет вид какой-то особой рубрики под названием „Винт № 1“ и может быть проданным разносчиками за какой-то новый журнал. В программе журнала такой рубрики нет. Комитет усматривает в данном случае нарушение редактором программы по внешности» (ЦГАМ, ф. 31, оп. 3, ед. хр. 2174, л. 16). Билет на выпуск № 2 все-таки был подписан, но редактора журнала Н. Пушкарева решено было вызвать «в заседание 19 января для объяснений» (там же).
Как явствует из протокола заседания Комитета от 19 января 1883 г., «вызванный согласно постановлению предшествовавшего заседания редактор „Мирского толка“ Пушкарев <…> объяснил, что, имея в программе между прочим отдел под названием „Юмористические рассказы“, он безо всякого умысла отдел этот озаглавил словом „Винт“, и поэтому не признает себя виновным в нарушении программы» (там же, л. 19).
Истинные причины недовольства Цензурного комитета появлением «Винта» ясны из следующего документа: «Комитет <…> объяснения г. Пушкарева признал не заслуживающими внимания и объявил ему, что <…> новый отдел есть прямое нарушение утвержденной программы, которое не может быть допустимо <…> Придавая поступку этому тем более значение, что лишнее распространение листа с направлением, вообще неодобрительным, не может быть желательным, Комитет определил об измененном нарушении г. Пушкаревым программы представить на благоусмотрение Главного управления по делам печати» (там же. л. 20).
Главное управление по делам печати, рассмотрев доклад Комитета, предписанием от 16 февраля 1883 г. запретило отдел «Винт»: «Г-н министр внутренних дел приказал сделать редактору издания соответствующее внушение и предложить ему немедленно прекратить печатание отдела „Винт“ <…> Начальник Главного управления по делам печати Феоктистов» (Распоряжения Главного управления по делам печати относительно повременных изданий, № 696, 16 февраля 1883 г. ЦГАМ, ф. 31, оп. 3, ед. хр. 213, л. 1. Ср. «Журнал входящих бумаг», 1883, запись № 71). На заседании Московского цензурного комитета 19 февраля 1883 г. было постановлено ознакомить Пушкарева с этим предписанием, вызвав его в заседание 23 февраля (ЦГАМ, ф. 31, оп. 3, ед. хр. 2174, л. 40; ЦГИАЛ, ф. 776, оп. 5, ед. хр. 75, л. 145).
№ 7 «Мирского толка», еще с отделом «Винт», вышел 20 февраля. № 8, уже без «Винта» (хотя с обычными для «Винта» материалами), вышел 27 февраля. О запрещении отдела Пушкареву сообщили 23 февраля.
(обратно)ТОРЖЕСТВО ПОБЕДИТЕЛЯ
Впервые — «Осколки», 1883, № 9, 26 февраля (ценз. разр. 25 февраля), стр. 4. Заглавие: Торжество победителей. Подпись: А. Чехонте.
Вошло в издание А. Ф. Маркса.
Печатается по тексту: Чехов, т. II, стр. 232–236.
К тексту рассказа Чехов вернулся при подготовке первых томов издания А. Ф. Маркса в мае 1899 г. (см. письмо к Ю. О. Грюнбергу от 21 мая 1899 г.), сопроводив его подзаголовком: «Рассказ отставного коллежского регистратора». В повествовании были усилены черты устного рассказа: введены обращения к слушателям («выразить вам не могу, милостивый государь»), слова «так сказать», «чёрт его знает». Исключен эпизод с Олечкой (см. варианты к стр. 70).
В рецензии на том II издания Маркса А. Басаргин (А. И. Введенский), кроме таких особенностей, как «комизм и незаметный, но неумолимый вседневный трагизм», отметил другую показательную черту ранних рассказов Чехова — изображение «специально русских нравственных недугов» — таких, как холопство. Особенно рельефно этот мотив, по мнению критика, выступил в рассказе «Торжество победителя» (Новый сборник повестей и рассказов г. Чехова. — «Московские ведомости», 1900, № 270, 30 сентября).
При жизни Чехова рассказ был переведен на польский и словацкий языки.
(обратно)УМНЫЙ ДВОРНИК
Впервые — «Зритель», 1883, № 16, 3 марта (ценз. разр. 2 марта), стр. 3–4. Заглавие: Мораль. Подпись: А. Чехонте.
Вошло в издание А. Ф. Маркса.
Печатается по тексту: Чехов, т. I, стр. 315–317.
Для собрания сочинений рассказ был существенно исправлен. В журнальном варианте «проповеди» Филиппа обширней и носят более эмоциональный характер («свинство», «дармоедство»). Были изменены некоторые детали — например, название книги, которую читает дворник. Заменены литературными такие формы, как «зубья», «акромя», «сичас». Убраны некоторые бранные слова в повествовательной речи, но введены новые — в речь помощника пристава («болван», «негодяй», «скотина»).
При жизни Чехова рассказ был переведен на болгарский, румынский и чешский языки.
(обратно)ЖЕНИХ
Впервые — «Осколки», 1883, № 10, 5 марта (ценз. разр. 4 марта), стр. 5. Заглавие: «В наш практический век, когда, и т. д.». Подпись: А. Чехонте.
В списке рассказов, составленном Чеховым при подготовке издания А. Ф. Маркса (ГБЛ), под № 154 помечен этот рассказ, но журнальный заголовок зачеркнут и рукою Чехова вписано новое заглавие: «Жених».
Печатается по журнальному тексту, с изменением заглавия.
(обратно)ДУРАК
Впервые — «Зритель», 1883, № 18, 9 марта (ценз. разр. 5 марта), стр. 3. Подпись: Человек без селезенки.
Печатается по журнальному тексту с исправлением: бедняки (стр. 78. строка 16) — вместо: бедняги.
(обратно)РАССКАЗ, КОТОРОМУ ТРУДНО ПОДОБРАТЬ НАЗВАНИЕ
Впервые — «Осколки», 1883, № 11, 12 марта (ценз. разр. 11 марта), стр. 5. Подпись: А. Чехонте.
Печатается по журнальному тексту.
Сюжет о чиновнике, который при виде начальства автоматически делает нечто совершенно противоположное своим первоначальным намерениям, разработан у Чехова во многих рассказах 1883–1885 годов («Депутат, или Повесть о том, как у Дездемонова 25 рублей пропало», «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Братец», «Вверх по лестнице»).
При жизни Чехова рассказ был переведен на польский язык.
Стр. 80. …нашего Ренана и Спинозу… — Эрнест Жозеф Ренан (1823–1892) — французский историк религии и философ. Бенедикт Спиноза (1632–1677) — выдающийся нидерландский философ.
(обратно)БРАТЕЦ
Впервые — «Осколки», 1883, № 11, 12 марта (ценз. разр. 11 марта), стр. 5–6. Подпись: А. Чехонте.
Сохранилась вырезка из журнала с пометой Чехова (ЦГАЛИ).
Печатается по журнальному тексту.
(обратно)ФИЛАНТРОП
Впервые — «Зритель», 1883, № 19, 14 марта (ценз. разр. 14 марта), стр. 3–4. Подпись: Человек без селезенки.
Печатается по журнальному тексту.
Стр. 85. Дациаро — художественный магазин в Москве; находился на углу Кузнецкого моста и Неглинной, под магазином В. Белкина и рядом с магазинами Ускова и Трамбле.
(обратно)СЛУЧАЙ ИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Впервые — «Зритель», 1883, № 20, 17 марта (ценз. разр. 17 марта), стр. 4. Подзаголовок: (Уголовный рассказ). Подпись: А. Чехонте.
Включено в первое издание сб. «Пестрые рассказы», СПб., 1886.
Печатается по тексту сборника, стр. 51–54.
При включении в сборник рассказ был сокращен (сняты, в частности, прямые обращения к читателю, сентенции рассказчика и конец с разъяснениями адвоката).
В рецензии на «Пестрые рассказы» Ф. Змиев (Ф. И. Булгаков) относил «Случай из судебной практики» (вместе с другими рассказами 1883 г. — «Верба» и «Смерть чиновника») к числу произведений, в которых «проглядывает несомненное дарование» автора («Пестрые рассказы» А. Чехонте. — «Новь», 1886, № 17, 1 июля, стр. 63).
При жизни Чехова рассказ был переведен на сербскохорватский язык.
(обратно)ЗАГАДОЧНАЯ НАТУРА
Впервые — «Осколки», 1883, № 12, 19 марта (ценз. разр. 18 марта), стр. 5–6. Подпись: А. Чехонте.
Включено в сборник «Пестрые рассказы», СПб., 1886.
Вошло в издание А. Ф. Маркса.
Печатается по тексту: Чехов, т. I, стр. 265–267.
Готовя рассказ для собрания сочинений, Чехов внес ряд стилистических поправок и усилил иронический оттенок в характеристике персонажей. См., например, добавление: «помещающий в губернских ведомостях небольшие рассказы или, как сам он называет, „новэллы“ — из великосветской жизни…»
При жизни Чехова рассказ был переведен на болгарский, немецкий, польский, сербскохорватский, чешский, финский, шведский языки.
Стр. 91. Помните Раскольникова? Он так целовал. — См. гл. IV части четвертой романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание».
(обратно)ХИТРЕЦ
Впервые — «Осколки», 1883, № 13, 26 марта (ценз. разр. 24 марта), стр. 4. Подпись: А. Чехонте.
Печатается по журнальному тексту.
Стр. 93. Шли два приятеля ~ вели между собой. — Цитата из басни И. А. Крылова «Прохожие и собаки».
(обратно)РАЗГОВОР
Впервые — «Осколки», 1883, № 13, 26 марта (ценз. разр. 24 марта), стр. 5. Заглавие: Благодетели. Подпись: А. Чехонте.
При подготовке издания А. Ф. Маркса Чехов выправил текст (см. варианты*), но в само издание рассказ включен не был. В исправленном виде — по гранкам, хранившимся в Музее им. Чехова при Публичной библиотеке СССР им. Ленина (Москва), — рассказ был напечатан в издании: А. П. Чехов. Собр. соч. под общей ред. А. В. Луначарского. Т. II, М. — Л., Госиздат, 1929. Нынешнее местонахождение гранок неизвестно.
Печатается по тексту: ПСС, т. II, стр. 132–133.
Стр. 96. У Писемского даже есть кое-что в этом роде… — В романе «В водовороте» (А. Ф. Писемский. Собр. соч. в 9 томах, т. 6. М., 1959, стр. 403–404).
(обратно)РЫЦАРИ БЕЗ СТРАХА И УПРЕКА
Впервые — «Осколки», 1883, № 14, 2 апреля (ценз. разр. 1 апреля), стр. 4. Подпись: А. Чехонте.
Сохранилась вырезка из журнала с пометой: «NB. В полное собрание не войдет. А. Чехов» (ЦГАЛИ).
Печатается по журнальному тексту.
(обратно)ВЕРБА
Впервые — «Осколки», 1883, № 15, 9 апреля (ценз. разр. 7 апреля), стр. 4. Подпись: А. Чехонте.
Включено, с несколькими поправками, в первое издание сборника «Пестрые рассказы».
Сохранилась вырезка из журнала с пометой: «NB. В полное собрание не войдет. А. Чехов» (ЦГАЛИ).
Печатается по тексту сб. «Пестрые рассказы», СПб., 1886, стр. 41–45.
Получив рукописи рассказов «Верба» и «Вор», Н. А. Лейкин писал Чехову, что это «прелестные рассказцы, но немножко серьезны для „Осколков“». Чехов отвечал: «Вы à propos замечаете, что мои „Верба“ и „Вор“ несколько серьезны для „Осколков“. Пожалуй, но я не посылал бы Вам не смехотворных вещиц, если бы не руководствовался при посылке кое-какими соображениями. Мне думается, что серьезная вещица, маленькая, строк примерно в 100, не будет сильно резать глаз, тем более, что в заголовке „Осколков“ нет слов „юмористический и сатирический“, нет рамок в пользу безусловного юмора. Вещичка (не моя, а вообще) легенькая, в духе журнала, содержащая в себе фабулу и подобающий протест, насколько я успел подметить, читается охотно, сиречь не делает суши. <…>. К Троице я пришлю Вам что-нибудь зеленое, à la „Верба“. Буду серьезничать только по большим праздникам» (апрель, после 17, 1883 г.). Следующая такого же типа «серьезная вещица», написанная в 1883 г. (рассказ «Осенью»), была отдана Чеховым в «Будильник».
Сравнивая «Вербу» с рассказом «В рождественскую ночь», критик «Вестника Европы» писал: «В „Вербе“, в „Горе“, в „Старости“ меньше претензий, но психология автора остается до крайности элементарной, и рассказ соприкасается, по временам, с дневником происшествий» (К. Арсеньев. Беллетристы последнего времени. — «Вестник Европы», 1887, № 12, стр. 769.
(обратно)ОБЕР-ВЕРХИ
Впервые — «Осколки», 1883, № 15, 9 апреля (ценз. разр. 8 апреля), стр. 6. Подпись: Человек без селезенки.
Печатается по журнальному тексту.
«Верхи», «Своего рода верхи», «Современные верхи» — один из самых распространенных типов юморесок среди «мелочишек» в малой прессе 80-х годов. Для этого «жанра» существовала определенная форма, например: «Верх влюбчивости — влюбиться в самого себя и себе самому назначать свидания» (Пифагор. — «Стрекоза», 1881, № 23).
Чехов преобразовал форму «верхов», заменив общепринятое определение-афоризм лаконичным и гротескным рассказом о житейском «случае» (ср. в этом томе, стр. 21: Случаи mania grandiosa).
Стр. 106. «Гражданин» — консервативная газета кн. В. П. Мещерского. «Киевлянин» — газета консервативного направления; издавалась в Киеве с 1864 г.
(обратно)ВОР
Впервые — «Осколки», 1883, № 16, 16 апреля (ценз. разр. 15 апреля), стр. 4–5. Подпись: А. Чехонте.
Включено, с небольшими сокращениями, в первое издание сборника «Пестрые рассказы».
Сохранилась вырезка из журнала, сделанная при подготовке издания А. Ф. Маркса (ЦГАЛИ).
Печатается по тексту сб. «Пестрые рассказы», СПб., 1886, стр. 127–131, с исправлениями по «Осколкам»: петличкой, в которой болтался «Станислав» (стр. 107, строки 25–26) — вместо петличкой, на которой болтался «Станислав», и подбежал к тарантасу (стр. 110, строка 17) — вместо побежал к тарантасу.
В письме к Н. А. Лейкину (апрель 1883 г.) Чехов писал об этом рассказе: «Упаси боже от суши, а теплое слово, сказанное на Пасху вору, который в то же время и ссыльный, не зарежет номера».
Анонимным рецензентом журнала «Наблюдатель», в целом отрицательно судившим о «Пестрых рассказах» (см. стр. 476), «Вор», наряду с рассказами «Осенью» и «В рождественскую ночь», отнесен к числу нескольких «действительно замечательных очерков, оставляющих впечатление» («Наблюдатель», 1886, № 12, стр. 38).
«Вор» — первый рассказ, где действительность изображается через восприятие героя и этот принцип выдержан на протяжении всего рассказа. Впоследствии такой способ изображения надолго становится у Чехова определяющим в его художественной манере.
(обратно)ЛИСТ
Впервые — «Осколки», 1883, № 16, 16 апреля (ценз. разр. 15 апреля), стр. 5–6. Подпись: Человек без селезенки.
Печатается по журнальному тексту с исправлением: Росчерка он не подмахивает (стр. 111, строка 17) — вместо Почерка он не подмахивает.
Стр. 112. …старый, как «Сын отечества»… — Журнал «Сын отечества» выходил в Москве с 1812 г.
И на лбу, значит, роковые слова ~ У Некрасова, кажется, так… — Имеется в виду стихотворение Н. А. Некрасова «Убогая и нарядная». Эта цитата (в более полном виде) у Чехова встречается также в пьесе «Безотцовщина» (д. 2, карт. 2, явл. VIII), в рассказе «Либеральный душка» и в «Осколках московской жизни» (1883).
(обратно)СЛОВА, СЛОВА И СЛОВА
Впервые — «Осколки», 1883, № 17, 23 апреля (ценз. разр. 22 апреля), стр. 3. Подпись: А. Чехонте.
Сохранилась вырезка из журнала с пометой Чехова: «NB. В полное собрание не войдет» (ЦГАЛИ).
Печатается по журнальному тексту.
Рассказ написан, по-видимому, в марте — первой половине апреля 1883 г. Н. А. Лейкин сообщал Чехову 16 апреля: «Теперь у меня осталось немного Вашего добра: рассказ о проститутке и телеграфисте, дневничок „26“, попорченный цензором, „Теща“, „Нана“. Все набраны и все пойдут. Присылайте еще» (ГБЛ).
В заглавии рассказа использованы слова Гамлета из II акта одноименной трагедии Шекспира.
(обратно)ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ
Впервые — «Осколки», 1883, № 17, 23 апреля (ценз. разр. 22 апреля), стр. 5–6. Подпись: Человек без селезенки.
Печатается по журнальному тексту.
О датировке и цензурном вмешательстве в текст рассказа см. примечания к рассказу «Слова, слова и слова»*.
(обратно)ТЕЩА-АДВОКАТ
Впервые — «Осколки», 1883, № 18, 30 апреля (ценз. разр. 29 апреля), стр. 4–5. Подпись: А. Чехонте.
Сохранилась вырезка из журнала с пометой: «NB. В полное собрание не войдет. А. Чехов» (ЦГАЛИ).
Печатается по журнальному тексту.
О датировке см. примечания к рассказу «Слова, слова и слова»*.
(обратно)МОЯ НАНА
Впервые — «Осколки», 1883, № 21, 21 мая (ценз. разр. 20 мая), стр. 6. Подпись: Человек без селезенки.
Сохранилась вырезка из журнала с пометой: «NB. В полное собрание не войдет. А. Чехов» (ЦГАЛИ).
Печатается по журнальному тексту.
О датировке см. примечания к рассказу «Слова, слова и слова»*.
Стр. 121. Нана. — Героиня романа Э. Золя «Нана» (1880; в русском переводе появился в том же году); это имя очень быстро стало нарицательным в русской фельетонной прессе. Чехов неоднократно использовал его в своих рассказах.
(обратно)СЛУЧАЙ С КЛАССИКОМ
Впервые — «Осколки», 1883, № 19, 7 мая (ценз. разр. 6 мая), стр. 3–4. Заглавие: Ваня, мамаша, тетя и секретарь. Подпись: А. Чехонте.
Вошло в издание А. Ф. Маркса.
Печатается по тексту: Чехов, т. I, стр. 32–35.
Как видно из ответа Чехова на письмо Н. А. Лейкина от 16 апреля 1883 г., рассказ был отправлен в «Осколки» 17 апреля, в «1-й день Пасхи».
Готовя текст для собрания сочинений, Чехов несколько сократил его, устранив, в частности, упоминание о службе Купоросова секретарем «Губернских ведомостей», его похвалы редактору, и соответственно изменил некоторые детали его характеристики (было, например: «…читал „Ниву“ 1875 года»; исправлено: «…читал „Самоучитель танцев“»).
Слово «классик» в заглавии рассказа — кличка гимназистов, учащихся «классических гимназий».
В рассказе отразились гимназические впечатления Чехова (из-за греческого языка он оставался на второй год). Слова «злое мое произволение» (в речи мамаши) также восходят к таганрогскому материалу (см. письмо Чехова от 20 июня 1878 г. — Письма, т. 1, стр. 28).
В рецензии на том I изд. А. Ф. Маркса А. Басаргин (А. И. Введенский) отмечал, что в рассказах «Случай с классиком» и «Злой мальчик» «тонко подмечены и ярко выставлены аномалии нашего „воспитания“, наши бесконечные недосмотры и ошибки, результатом которых сплошь и рядом бывает физическое и нравственное уродование наших детей, сдаваемых на чужие руки, помещаемых в учебные заведения без всякого предварительного соображения с их способностями и силами, как бы на мучительство и т. д.» (Безобидный юмор. — «Московские ведомости», 1900, № 36, 5 февраля).
Л. Е. Оболенский, рассматривая особенности творчества раннего Чехова, отмечал, как главную черту, «соединение комической формы с трагичностью содержания». К числу наиболее показательных в этом смысле критик относил рассказ «Случай с классиком» (А. П. Чехов в его первых произведениях. — «Одесский листок», 1900, № 173, 6 июля).
При жизни Чехова рассказ был переведен на болгарский, польский, сербскохорватский, чешский и шведский языки.
Стр. 124. Тессараконта и октокайдека — сорок и восемнадцать (греч.).
(обратно)ЗАКУСКА
Впервые — «Осколки», 1883, № 17, 23 апреля (ценз. разр. 22 апреля), стр. 5. Подпись: Человек без селезенки.
Сохранилась вырезка из журнала с пометой: «NB. В полное собрание не войдет. А. Чехов» (ЦГАЛИ).
Печатается по журнальному тексту.
Рассказ написан между 16 и 20 апреля. Еще 16 апреля у Лейкина его не было (см. комментарий к рассказу «Слова, слова и слова»*). С письмом, отправленным до 20 апреля, Чехов послал «Закуску» и «Съезд естествоиспытателей в Филадельфии». Но он писал о «нескольких рассказах», между тем достоверно известны только два. Возможно также, что с этим письмом Чехов послал рассказ «Кот», напечатанный во втором майском номере «Осколков».
(обратно)СЪЕЗД ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ В ФИЛАДЕЛЬФИИ
Впервые — «Осколки», 1883, № 18, 30 апреля (ценз. разр. 29 апреля), стр. 6. Подпись: Человек без селезенки.
Печатается по журнальному тексту.
Рассказ написан между 16 и 20 апреля (см. комментарий к рассказу «Закуска»*).
Стр. 130… газеты «Русь»… — См. комментарий к юмореске «Мысли читателя газет и журналов» (стр. 486).
…бушевских и макшеевских процессов… — См. комментарий к юмореске «Библиография», стр. 487.
(обратно)КОТ
Впервые — «Осколки», 1883, № 20, 14 мая (ценз. разр. 13 мая), стр. 4. Подпись: А. Чехонте.
Сохранилась вырезка из журнала с пометой: «NB. В полное собрание не войдет. А. Чехов» (ЦГАЛИ).
Печатается по журнальному тексту.
(обратно)РАЗ В ГОД
Впервые — «Стрекоза», 1883, № 25, 19 июня (ценз. разр. 16 июня), стр. 7–8. Подзаголовок: (Рассказ). Подпись: А. Ч.
Включено, с некоторыми стилистическими поправками, в сборник «Пестрые рассказы», СПб., 1886. Существенно отредактировано для второго издания сборника; в последующих перепечатывалось почти без изменений.
В 1899 г. исправлено для издания А. Ф. Маркса и набрано в типографии; сохранились гранки набора (ЦГАЛИ).
Получив гранки, Чехов приступил к серьезной переработке рассказа, но выправил лишь первую половину; затем весь текст был перечеркнут крест-накрест с пометой: «Рассказ „Раз в год“ исключить».
Печатается по первоначальному (без учета незаконченной авторской правки) тексту гранок с исправлениями:
Стр. 138, строка 23: поздравьте! — вместо проздравьте! (по С и ПР 1–5).
Стр. 139, строка 22: а тут жена… чахни — вместо тут жена… чахни (по С и ПР 1-11).
Рассказ был написан, очевидно, в начале мая 1883 г. В «Почтовом ящике» журнала «Стрекоза» помещен следующий ответ Чехову: «Москва. 222. Сретенка, Головин пер., А. П. Ч-ву. Условия принимаем и просим сотрудничать. „Раз в год“ написано очень недурно — с удовольствием напечатаем» («Стрекоза», 1883, № 20, 15 мая, ценз. разр. 11 мая, стр. 8).
Н. А. Лейкин, задетый тем, что Чехов, минуя «Осколки», обратился в конкурирующий журнал, писал ему 26 мая 1883 г.:
«Из ответа в „Почтовом ящике“ „Стрекозы“ я вижу, что Вы и в „Стрекозе“ сбираетесь сотрудничать. Не поладите там, помяните мое слово. Люди тяжелые, люди, не ценящие сотрудника. Я работал в „Стрекозе“, так, увы, знаю. Посылайте-ка лучше ко мне в „Осколки“ всё, что напишете. Ведь Вы, кажется, от меня гостеприимством для Ваших рассказов не обижены» (ГБЛ).
Чехов отвечал Лейкину:
«В „Стрекозу“ я сунулся не впервые. Там я начал свое литературное поприще. Работал я в ней почти весь 1880 год, вместе с Вами и И. Грэком. В том же году я бросил работать по причинам, в Вашем письме изложенным. Вы пишете: „каяться будете“. Я уже 25 раз каялся, но… что же мне делать, скажите на милость? Если мне посылать в „Осколки“ всё то, что мне иногда приходится написать за один хороший зимний вечер, то моего материала хватит Вам на месяц. А я, случается, пишу не один вечер, и написываю целую кучу. Куда же мне посылать всю эту кучу? От Москвы я открестился, работаю в ней возможно меньше, а в Питере я знаком только с двумя журналами. Volens-nolens приходится писать и туда, куда не хотелось бы соваться» (4 июня 1883 г.).
Предполагая, что Чехов будет писать для «Стрекозы» и в дальнейшем, редактор журнала И. Ф. Василевский в письме от 31 мая 1883 г. просил его «избрать псевдоним, специальный для „Стрекозы“», и сообщил, что на предложенные им условия гонорара редакция согласна (ГБЛ; рассказ был оплачен из расчета 8 коп. за строку — счет от 26 июля 1883 г., там же).
Однако постоянным сотрудником «Стрекозы» Чехов так и не стал. В этот журнал был послан еще лишь один рассказ: «Шведская спичка» («Альманах „Стрекозы“ на 1884 год»; стр. 201 наст. тома).
В конце июня 1883 г. Чехов писал Лейкину: «К „Стрекозе“ не ревнуйте. Рассказ, напечатанный там, длинен для „Осколков“ (ровно 150 строк). Какие беспорядки в этом „русском J<ournal> Amusant“! В одном рассказе столько опечаток, что читающему просто жутко делается! Вместо „барон“ — „бабон“, вместо „мыльная вода“ — „пыльная вода“ и проч. В 1880 г. было то же самое. Не могут корректора порядочного нанять… Писать туда больше не стану».
Включая «Раз в год» в сборник «Пестрые рассказы», Чехов внес лишь несколько исправлений. В частности, изменены слова Жана, обращенные к швейцару Марку: вместо «Ну, проваливай, морда!..» — стало: «Ну, проваливай!» Во втором издании перемен значительно больше (см. варианты*). Готовя рассказ для собрания сочинений, Чехов еще раз выправил речь персонажей (так, слова Марка «с андилом проздравить» были заменены на: «с ангелом поздравить») и внес в текст ряд других изменений.
Новая переработка текста в корректуре не была завершена и потому не может быть принята в основном тексте (см. раздел «Варианты»*). В письме к А. Ф. Марксу от 18 июня 1901 г. Чехов назвал рассказ «Раз в год» в числе тех, которые «исключены совершенно» и «в полное собрание не войдут».
В рецензии на первое издание «Пестрых рассказов» Н. Ладожский (В. К. Петерсен) отнес «Раз в год» к числу лучших рассказов сборника (Обещающее дарование. — «Санкт-Петербургские ведомости», 1886, 20 июня, № 167. Перепечатано в газете «Новости дня», 1886, № 168, 22 июня).
При жизни Чехова рассказ был переведен на венгерский, немецкий, сербскохорватский и чешский языки.
(обратно)КОЕ-ЧТО
Впервые — «Будильник», 1883, № 19 (ценз. разр. 21 мая), стр. 147. Подпись: Брат моего брата.
Печатается по журнальному тексту.
Зарисовки Чехова связаны с постановками труппой М. В. Лентовского (1843–1906) спектаклей в саду «Эрмитаж». Труппа эта выступала в «Эрмитаже» с 1 мая по 1 сентября.
Современник Чехова С. И. Васюков вспоминал: «По праздникам вся Таганка и Рогожская присутствовали в „Эрмитаже“. Разодетые в бархат и шёлк дамы, непременно в платках на голове, и их благоверные супруги в сапогах „бутылками“ составляли едва ли не большинство публики <…> Купцы обожали Михаила Валентиновича за русскую удаль, силу молодецкую и за то, что он умел угодить им замечательными зрелищами и выдумками <…> Даже русская поддевка ему помогала, льстя московскому патриотизму, людям в платках и сапогах „бутылками“» («Исторический вестник», 1907, № 4, стр. 107–108).
Стр. 140. И турков, и черкесов, и туркестанцев… — В труппу Лентовского часто входили цирковые актеры разных национальностей.
Высокий, чрезвычайно статный, широкоплечий брюнет ~ хламида стянута в красивые складки… — Ср. в мемуарах С. И. Васюкова: «Во время „Эрмитажа“ и оперетки все его силы и способности уходили на внешность, обстановку, на рисовку и рекламу собственной особы <…> тогда работала его фантазия, доходя до крайности, чтобы удивить, ошарашить москвичей» («Исторический вестник», 1907, № 4, стр. 108).
Стр. 141. …известный звукоподражатель г. Егоров. — Егоров в качестве звукоподражателя отмечен в труппе Лентовского с 1883 г. (С. А. Попов. Воспоминания о деятельности режиссера Лентовского М. В. Лето 1883 г. Сад «Эрмитаж». Машинопись, 1937. — ГЦТМ, ф. 216, Поповых, № 217). 6 февраля 1883 г. он читал «Рассказ из мира животных», а 22 апреля исполнял «Сцену из жизни животных». «Известным звукоподражателем» Егоров назван впервые на афише 1 мая (ГЦТМ, афиши).
Стр. 142. …г. Родона. — В. И. Родон (1846–1892) — опереточный актер; работал в труппе Лентовского с 1877 г. Выступал в амплуа комика-буфф и в эксцентрических ролях. В текст своих ролей часто вставлял злободневные фразы и считался мастером находчивой импровизации, что и обыгрывается в юмореске.
…Чернов и Вальяно… — А. Я. Чернов (баритон) и Г. С. Вальяно (один из комиков и режиссеров театра) значились в составе труппы опереточного театра «Буфф» в 1882 г. (см.: ГЦТМ, ф. 144, Лентовских, № 701). Оба актера выступали 5 и 14 мая в «Корневильских колоколах» — комической опере (перевод с французского А. Невского; музыка Планкетта).
(обратно)БЕНЕФИС СОЛОВЬЯ
Впервые — «Осколки», 1883, № 21, 21 мая (ценз. разр. 20 мая), стр. 5. Подпись: А. Чехонте.
Сохранилась вырезка из журнала с пометой: «NB. В полное собрание не войдет. А. Чехов» (ЦГАЛИ).
Печатается по журнальному тексту.
(обратно)ДЕПУТАТ, или ПОВЕСТЬ О ТОМ, КАК У ДЕЗДЕМОНОВА 25 РУБЛЕЙ ПРОПАЛО
Впервые — «Осколки», 1883, № 22, 28 мая (ценз. разр. 27 мая), стр. 3–4. Подпись: А. Чехонте.
Сохранилась вырезка из журнала с пометой: «В полное собрание не войдет. А. Чехов» (ИРЛИ).
Печатается по журнальному тексту.
Рассказ посвящен поэту Лиодору Ивановичу Пальмину (1841–1891), с которым Чехов был близко знаком. В 80-е годы Пальмин сотрудничал в тех же журналах, что и Чехов, — «Будильнике», «Стрекозе», «Осколках». Чехов в шутку называл его «осколочный Феб».
По воспоминаниям Н. А. Лейкина, Пальмин познакомил его с Чеховым («Н. А. Лейкин в его воспоминаниях и переписке», СПб., 1907, стр. 242–243, и ЛН, т. 68, стр. 499–500).
Отзывы Чехова о Пальмине см. в его письмах к В. В. Билибину (от 1 февраля 1886 г.) и Н. А. Лейкину (от 30 сентября 1886 г.).
(обратно)ГЕРОЙ-БАРЫНЯ
Впервые — «Осколки», 1883, № 23, 4 июня (ценз. разр. 3 июня), стр. 5. Подпись: А. Чехонте.
Вошло в первое издание сборника «Пестрые рассказы».
Сохранилась вырезка из журнала с пометой: «NB. В полное собрание не войдет. А. Чехов» (ЦГАЛИ).
Печатается по тексту сб. «Пестрые рассказы», СПб., 1886, стр. 25–30.
Судя по письму Лейкина к Чехову от 1 июня 1883 г., рассказ «Герой-барыня» находился у него еще до письма Чехова от 26 мая, на которое Лейкин отвечал.
В рецензии В. А. Гольцева на сборник Чехова рассказ «Герой-барыня» вместе с рассказом «Патриот своего отечества» отнесен к «замечательно удачным» («Русские ведомости», 1886, № 168, 22 июня).
При жизни Чехова рассказ был переведен на финский язык.
(обратно)О ТОМ, КАК Я В ЗАКОННЫЙ БРАК ВСТУПИЛ
Впервые — «Осколки», 1883, № 24, 11 июня (ценз. разр. 10 июня), стр. 4. Подпись: А. Чехонте.
Печатается по журнальному тексту.
Рассказ послан в журнал 25 мая 1883 г. 26 мая Н. А. Лейкин писал Чехову: «Сегодня получил Ваш конвертик с рассказом „О том, как я женился“, пометил его для набора и завтра посылаю в типографию» (ГБЛ).
При жизни Чехова рассказ был переведен на словацкий язык.
(обратно)ИЗ ДНЕВНИКА ПОМОЩНИКА БУХГАЛТЕРА
Впервые — «Осколки», 1883, № 25, 18 июня (ценз. разр. 17 июня), стр. 5. Подпись: Человек без селезенки.
Вошло в издание А. Ф. Маркса.
Печатается по тексту: Чехов, т. I, стр. 198–200.
Рассказ был послан в «Осколки» с письмом от 8 июня 1883 г.
«Письмецо Ваше с приложением трех рассказцев получил вчера, — писал Н. А. Лейкин Чехову 10 июня, — и приношу сердечную благодарность. Правда, рассказцы не совсем вытанцевались (кроме „Дневника помощника бухгалтера“), но что делать… как-нибудь сойдет. И печь печет разные хлебы» (ГБЛ).
Дневник — один из самых распространенных жанров малой прессы 80-х годов. В любом годовом комплекте «Стрекозы», «Шута», «Будильника» можно насчитать десятки «выписок», «выдержек», «отрывков» из дневников: «Из дневника акционера», «Из записок провинциального антрепренера», «Из дневника одной вдовушки», «Из записей майора», «Из дневника провинциала в Петербурге», «Из записок чревоугодника», «Из откровенного дневника члена земской управы», «Из дневника одного молодого и легкомысленного дачника» и т. п. Обычно это или развернутая иллюстрация заголовка — однообразные вариации обозначенной в нем темы (мытарства акционера, ежедневные размышления влюбленного о своем предмете или девицы о замужестве, перечисление блюд в записках гурмана) или сюжетный рассказ, в котором форма дневника не играет конструктивной роли (например, нет дат — одного из важнейших признаков жанра).
В 1883 г. Чехов трижды обращался к дневниковой форме. Но если «Двадцать шесть» и «Из дневника одной девицы» примыкают к юмористической традиции, то «Дневник помощника бухгалтера» резко выбивается из нее. «Дневники» юмористических журналов — это обычно подборка эпизодов, имевших целью изобразить именно антрепренера, «молодого человека», «чревоугодника». Но в них нет характера. В рассказе «Из дневника помощника бухгалтера» он создан с исключительным художественным лаконизмом и новаторским использованием внутренних возможностей жанра. Вся жизнь помощника бухгалтера сведена к нескольким мотивам; уже их немногочисленность создает особый художественный эффект, который усиливается повторением этих мотивов через различные промежутки времени: 1863 г., 1865 г., 1867 г., 1870 г., 1878 г., 1883 г., 1886 г. Правка для издания А. Ф. Маркса шла именно в этом направлении: повторяемость мотивов в новой редакции усилена.
Приведенный в рассказе рецепт от катара имел реальный источник. По сообщению Ал. П. Чехова, некоторые из снадобий, упомянутых в этом рецепте, входили в состав «гнезда» — лекарства «от всех и некоторых особенных» болезней, которым торговал в своей таганрогской аптеке П. Е. Чехов: калган (альхемилла, или лапчатка, или камчужник), острая водка (азотная кислота), семибратняя кровь (нерастворимый коралл). См. А. Седой (Чехов). Из детства Антона Павловича Чехова. СПб., 1912, стр. 40–41; «Чехов в воспоминаниях современников», М., 1960, стр. 35.
При жизни Чехова рассказ был переведен на болгарский, немецкий, польский, сербскохорватский и чешский языки.
(обратно)ВЕСЬ В ДЕДУШКУ
Впервые — «Осколки», 1883, № 25, 18 июня (ценз. разр. 17 июня), стр. 5. Подпись: А. Чехонте.
Для издания А. Ф. Маркса Чехов выправил текст, но в само издание рассказ включен не был. По гранкам, хранившимся в Музее им. Чехова при Публичной библиотеке СССР им. Ленина (Москва), рассказ был впервые напечатан в издании: ПСС, т. II. Нынешнее местонахождение гранок неизвестно.
Печатается по тексту: ПСС, т. II, стр. 181–182, с исправлением по журналу «Осколки»: громко чешется (стр. 158, строка 21) — вместо громче чешется.
Рукопись была послана в «Осколки» в одном конверте с юморесками «Из дневника помощника бухгалтера»* и «Козел или негодяй?»* 8 июня 1883 г. (см. комментарий к этим рассказам).
Для собрания сочинений Чехов существенно отредактировал текст, устранив черты, свойственные «осколочной» юмористике. Стилистическая правка значительна по всему тексту (см. варианты*).
(обратно)КОЗЕЛ ИЛИ НЕГОДЯЙ?
Впервые — «Осколки», 1883, № 30, 23 июля (ценз. разр. 22 июля), стр. 6. Подпись: Человек без селезенки.
Печатается по журнальному тексту.
Рассказ был послан в редакцию 8 июня 1883 г. Н. А. Лейкин извещал Чехова 10 июня о получении трех рассказов. Один из них он называет сам — «Из дневника помощника бухгалтера». Другой предназначался для ближайшего номера, так как, кроме сильно испорченных цензурой «Ценителей», которых Лейкин не хотел по этой причине давать, у него из прошлых присылов не осталось ничего. В № 25 (от 18 июня) был напечатан рассказ «Весь в дедушку». Это второй рассказ из полученных редактором. 25 июня Лейкин писал Чехову: «От Вас так давно не было литературного присыла. № 26 вышел уже без Вашего рассказа, ибо у меня находятся в распоряжении только две Ваши безделушки: „Козел или подлец?“ и „Ценители“. Обе они набраны. Одна из них плохенькая, а другая обезображена цензором — вот почему я и не поставил их в № 26, которым начинается второе полугодие издания, стало быть, № должен быть составлен потщательнее» (ГБЛ). Рассказ «Ценители», видимо так и не напечатанный и остающийся неизвестным, находился у Лейкина уже 1 июня (письмо от этого числа). Таким образом, третий рассказ из полученных — «Козел или негодяй?». Название «Козел или подлец?» в письме Лейкина, возможно, ошибка памяти. Не исключено также, что по цензурным или редакционным соображениям при печатании заглавие было изменено.
КОЕ-ЧТО
Впервые — «Будильник», 1883, № 24 (ценз. разр. 24 июня), стр. 193. Подпись: Брат моего брата.
Печатается по журнальному тексту.
Стр. 161. …Гулевич (автор)… — А. А. Гулевич — один из молодых комиков в театре М. В. Лентовского. В основном выступал как исполнитель собственных сценок и на афишах обозначался: «Гулевич (автор)». В мае — июне 1883 г. в его репертуаре много раз повторялась сцена под названием «Если вам будет угодно». На афишах «Эрмитажа» фамилии Гулевича и Егорова стоят рядом: «Чтец (автор) А. Гулевич, звукоподражатель г. Егоров».
В пятницу, 10 июня… — В этот день в саду «Эрмитаж» состоялся «Большой, блестящий, небывалый в Москве праздник „Возрождение весны“» (ГЦТМ, афиши).
…звукоподражатель г. Егоров… — См. примечание к стр. 141*.
Стр. 162. Впрочем, я шучу. — В журнальном тексте к этой фразе дана сноска: «Редакция „Будильника“ с своей стороны свидетельствует, что автор шутит и что вся эта история с начала до конца выдумана, к великому удовольствию г. Гулевича. Примеч. ред.»
Стр. 163. …певец Ш-мов… — Шеромов — один из главных теноров опереточного театра М. В. Лентовского.
…из «Калиостро». — «Калиостро в Вене». Комическая опера в 3-х действиях. Текст Ф. Целля и Р. Жене. Муз. И. Штрауса. В саду «Эрмитаж» шла (в пер. В. А. Крылова) под названием «Калиостро, великий чародей, в Вене».
(обратно)СМЕРТЬ ЧИНОВНИКА
Впервые — «Осколки», 1883, № 27, 2 июля (ценз. разр. 1 июля), стр. 4–5. Подзаголовок: (Случай). Подпись: А. Чехонте.
Включено в сборник «Пестрые рассказы», СПб., 1886 и перепечатывалось во всех последующих изданиях сборника.
Вошло в издание А. Ф. Маркса.
Печатается по тексту: Чехов, т. II, стр. 46–49.
Рассказ написан 25–26 июня 1883 г. 25 июня, посылая обозрение «Осколки московской жизни», Чехов писал Лейкину: «Сейчас сажусь писать для Вас. Суббота у меня Ваш день». С письмом от 27 июня «экспромтец» был отправлен, а 29 июня Лейкин уже извещал Чехова: «Получил от Вас „Осколки московской жизни“, получил рассказ „Смерть чиновника“. И то и другое прелестно» (ГБЛ).
Журнальный текст рассказа «Смерть чиновника» сохранялся во всех переизданиях в первоначальном виде; Чехов внес в него лишь единичные стилистические коррективы.
По сообщению М. П. Чехова, действительный случай, происшедший в московском Большом театре и близкий к изображенному в «Смерти чиновника», рассказал Чехову инспектор репертуара и затем директор московских театров В. П. Бегичев (М. П. Чехов. Антон Чехов и его сюжеты. М., 1923, стр. 32; Вокруг Чехова, стр. 150). Однако неясно, был ли Чехов знаком с Бегичевым в 1883 г.
Некоторое сходство рассказ «Смерть чиновника» обнаруживает с широко известным в театральных кругах анекдотом об Александре Михайловиче Жемчужникове. Наступив намеренно в театре на ногу высокопоставленному сановнику, Жемчужников затем ежедневно приходил к нему с извинениями, пока разгневанный сановник его не выгнал (см.: Б. Я. Бухштаб. Козьма Прутков. — Предисловие к кн.: Козьма Прутков. Полное собр. соч. М. — Л., 1965, стр. 8).
Не лишено основания предположение В. Д. Седегова еще об одном источнике. Таганрогский корреспондент Чехова А. В. Петров писал 4 января 1882 г.: «Накануне Рождества, т. е. в сочельник, наш почтмейстер (известнейший изверг и педант) пригрозил одному чиновнику (старшему сортировщику К. Д. Щетинскому) отдать его под суд, кажется, за нарушение дисциплины, словом, за личное оскорбление; а тот сдуру после попытки попросить прощение ушел из конторы да в городском саду — в ночь под 25-е декабря — за несколько часов до утрени и повесился, где его нашли уже на 2-й день святок, т. е. 27-го; весь город почти собрался хоронить его» (ГБЛ). См. В. Седегов. Чехов и Таганрог. — Сб. «Великий художник». Ростовское книжное издательство, 1960, стр. 363–364.
Долгое время — начиная с первого отзыва 1886 г. — критика видела в рассказе Чехова прежде всего шарж и анекдот. Н. Ладожский (В. К. Петерсен) хотя и писал, что этот шарж «невольно заставляет улыбаться», однако с удовлетворением замечал, что таких шаржей в «Пестрых рассказах» немного, и выражал надежду, что у Чехова «будет своя, и притом хорошая, дорога» (Критические наброски. — «Санкт-Петербургские ведомости», 1886, № 167, 20 июня). Карикатурой, далекой от жизни и «способной вызвать только улыбку», считал рассказ А. Измайлов (Литературное обозрение. — «Биржевые ведомости», 1898, № 200, 24 июля).
Черты «анекдотичности и даже прямого шаржа» находил в рассказе и С. А. Венгеров. Но, в отличие от предыдущих критиков, он писал, что сквозь этот шарж ярко пробивается «психологическая и жизненная правда». «Не умрет <…> в действительности чиновник от того, что начальник в ответ на его чрезмерно угодливые и надоедливые извинения <…> в конце концов крикнул ему „пошел вон“. <…> Но забитость мелкого чиновника, для которого сановник в полном смысле слова какое-то высшее существо, опять-таки схвачена в этом шарже в самой своей основе. Во всяком случае, веселого в „юмористических“ шаржах Чехонте весьма мало. Общий тон мрачный и безнадежный» («Вестник и библиотека для самообразования», 1903, № 32, стлб. 1329).
П. Н. Краснов увидел в рассказе отражение настроений времени. В статье «Осенние беллетристы» он писал: «Чехов посвятил свой талант изображению общественного настроения своего времени. Его рассказы открывают нам тайные стороны души современного общества, ее недуги, ее безнадежность, ее апатию <…> Прежде всего средний современный человек отличается болезненным, чисто нервным, беспокойством. Это нервное беспокойство весьма ярко было выражено еще в „Пестрых рассказах“. Достаточно вспомнить чиновника („Смерть чиновника“), чихнувшего в театре на лысину сидевшего перед ним генерала, как этот человек страшно обеспокоился, стал надоедать генералу с извинениями и наконец умер от тревоги» («Труд», 1895, № 1, стр. 205–206). В более поздней статье критик, снова вспоминая «Смерть чиновника», распространял эти черты на все творчество Чехова: «В последующих произведениях та же беспокойная нервность, намеренно утрированная в „Пестрых рассказах“, получает более реальное, но и более мрачное выражение» (Пл. Краснов. Молодые беллетристы-академики. — «Книжки недели», 1900, кн. IV, стр. 180).
А. Басаргин (А. И. Введенский), характеризуя раннего Чехова, писал: «Некоторые рассказы проникнуты таким душу щемящим настроением, что иногда кажется, будто перед тобою страница романа Достоевского. Тип человека „униженного и оскорбленного“ здесь встречается довольно часто». В герое рассказа — «парии из мира чиновников» критик увидел «новую разновидность „униженных и оскорбленных“» («Московские ведомости», 1900, № 270, 30 сентября).
При жизни Чехова рассказ был переведен на болгарский, венгерский, немецкий, польский, румынский, сербскохорватский, словацкий, финский и чешский языки.
Стр. 164. …глядел в бинокль на «Корневильские колокола». — Оперетта Р.-Ж.-Л. Планкетта (1848–1903). Возможно, что Чехов знал ее еще с гимназических лет. По воспоминаниям В. В. Зелененко (ЦГАЛИ), в Таганроге в конце 70-х годов большим успехом пользовалась эта оперетта, с участием Е. Неделина, Чернова, Райчева. Следует, однако, отметить, что впервые оперетта была поставлена в Париже в 1877 г. и в «Перечне пьес, шедших в театре и на любительских сценах в г. Таганроге в 1870-е годы», составленном М. Л. Семановой, оперетта эта не значится (см. «Уч. зап. Ленинградского гос. пед. ин-та им. Герцена». Т. 67. Кафедра русской литературы, Л., 1948, стр. 195–201; то же в кн.: А. П. Чехов. Сб. статей и материалов. Вып. 2, Ростов-на-Дону, 1960, стр. 172–184).
Стр. 165. …в «Аркадии»… — Петербургский летний сад с театром, где давались комические представления.
(обратно)ОН ПОНЯЛ!
Впервые — «Природа и охота», 1883, том IV, № 11 (ценз. разр. 3 декабря 1883 г.), стр. 75–84. Подзаголовок: Этюд. Подпись: А. Чехов.
Включено в первое издание сборника «Пестрые рассказы».
В ялтинском Доме-музее хранится 11-й номер журнала «Природа и охота», с правкой Чехова в рассказе «Он понял!». Исправления сделаны при подготовке «Пестрых рассказов» — все они учтены в тексте сборника. При включении рассказа в сборник были внесены новые небольшие исправления (см. варианты*).
Печатается по тексту сб. «Пестрые рассказы». СПб., 1886, стр. 357–368.
Рассказ был начат в конце мая или первых числах июня и закончен в конце июня 1883 г. В журнальном тексте авторская дата: «29 июня 1883 г. Воскресенск».
4 июня 1883 г. Чехов писал Лейкину: «У меня почти готов для Вас один (относительно) большой рассказ „До 29-го июня“ и скоро будет готов другой „29-е июня“. Оба по охотницкой части. Кончу их и пришлю». В ответном письме от 10 июня Лейкин выражал опасение, что рассказы будут слишком велики: «Вы пишете, что готовите два больших рассказа: „До 29 июня“ и „29 июня“. Не делайте их, пожалуйста, чересчур длинными. Верите ли, как трудно помещать большие рассказы!» 27 июня Чехов опять писал о первом рассказе: «„До 29-го июня“ написал, но никуда не послал. Для Вас длинно <…> Строк в рассказе много. Мерять не умею, а думаю, что 200–250 будет minimum. Заглавие не важно. Изменить можно… Сокращать жалко». Совершенно очевидно, что речь шла о рассказе, напечатанном под названием «Он понял!»[45]. Основания следующие: 1) это единственный, кроме «Шведской спички», большой рассказ 1883 года; 2) это рассказ «по охотницкой части»; 3) в нем идет речь об охоте до 29 июня; 4) дата, стоящая в конце журнального текста, близка к сообщенной Чеховым в письме к Лейкину.
В «Осколки» рассказ послан не был (возможно, Чехов опасался, что Лейкин сократит его по своему усмотрению). «Ждал от Вас, — писал Лейкин Чехову 25 июня 1883 г., — обещанного рассказа „До 29 июня“ и не дождался до сих пор. Уж не попал ли и он в „Стрекозу“?» Лейкин был не далек от истины. 18 июля редактор «Стрекозы» И. Ф. Василевский просил Чехова прислать к 15 августа рассказ для альманаха «Стрекозы» (ГБЛ), и в конце июля или первых числах августа Чехов послал ему рассказ «Он понял!». В сопроводительном письме, до нас не дошедшем, Чехов, судя по ответу Василевского, выражал сомнение в пригодности рассказа для альманаха. Василевский возвратил рассказ. «Присланный Вами этюд, — писал он Чехову 5 августа 1883 г., — действительно не совсем подходит для „Альманаха“. Очерк почти лишен юмористического характера, и его несложная фабула не соответствует относительно значительному объему. Для сборника нужно что-нибудь забавно задуманное и более тщательно в литературном отношении выполненное» (там же). Чехов послал рассказ в журнал «Природа и охота». 23 октября 1883 г. редакция ответила: «Картинка Ваша „Он понял!“ найдена редакцией вполне подходящей для журнала и очень хорошенькой, так что мы с удовольствием напечатали бы, если бы Вы отдали ее нам бесплатно. Средства журнала так еще ограниченны, что мы можем платить только за фундаментальные статьи, дающие какие-либо сведения. Ваша же статья — хорошенькая игрушечка или пирожное: мы, конечно, не прочь полакомиться, но лишь в том случае, если лакомство даровое» (ГБЛ). Стесненные обстоятельства журнала, вероятно, были и ранее известны Чехову, так как неоднократно служили мишенью для острот юмористических журналов (и, в частности, «Стрекозы»). Очевидно, Чехов согласился на условия редакции и даже решил не подписываться псевдонимом (см. об этом в его письме Лейкину от 25 декабря 1883 г.). Это было второе после рассказа «В море» произведение, увидевшее свет под настоящим именем писателя (рассказ «В море» был написан позднее рассказа «Он понял!», но в печати появился раньше — см. стр. 530).
(обратно)СУЩАЯ ПРАВДА
Впервые — «Осколки», 1883, № 28, 9 июля (ценз. разр. 8 июля), стр. 5. Подпись: А. Чехонте.
Сохранилась вырезка из журнала с пометой: «NB. В полное собрание не войдет. А. Чехов» (ЦГАЛИ).
Печатается по журнальному тексту.
(обратно)ЗЛОЙ МАЛЬЧИК
Впервые — «Осколки», 1883, № 30, 23 июля (ценз. разр. 22 июля), стр. 5. Заглавие: Скверный мальчик (Рассказ для маленьких дачников). Подпись: А. Чехонте.
Вошло в издание А. Ф. Маркса.
Печатается по тексту: Чехов, т. I, стр. 201–203.
Готовя рассказ для собрания сочинений, Чехов значительно сократил его, опустив, в частности, две сцены (Коля, ворующий варенье; сцена за обедом в финале).
В текст рассказа были внесены многочисленные стилистические поправки, устранившие привкус «осколочной» юмористики. Например, фраза: «Уста нечаянно слились в один из тех первых, стереотипных поцелуев, которые, если верить рассказам моих коллег, сладки своею новизною и продлинновенностью» — исправлена так: «Уста нечаянно слились в поцелуй».
Новое заглавие совпадает с названием рассказа третьестепенного литератора 1880-90-х гг. Крымского (А. Д. Бродского). Рассказ Бродского «Злой мальчик» Чехов в 1883 г. в не дошедшем до нас письме к автору подробно разбирал (см. письмо А. Бродского к Чехову от 19 ноября 1883 г. — ГБЛ) и по поводу него выступал даже доверенным лицом в Московском цензурном комитете (см. подпись Чехова, заверяющую выдачу ему рассказа Бродского. «Книга рукописей», 19 ноября 1883 г. — ЦГАМN, ф. 31, оп. 3, ед. хр. 2374, л. 273). Разумеется, вряд ли здесь можно говорить о сознательном использовании.
Изменив заглавие, Чехов снял и подзаголовок, связывавший рассказ с «сезонной» (дачной) тематикой журнала.
Рассказ, очевидно, явился откликом на предложение Лейкина, высказанное им еще в письме от 16 апреля 1883 г.: «Недели через две хватите о дачах. Я о петербургских дачах заведу свою шарманку, а Вы о московских» (ГБЛ).
Л. Е. Оболенский назвал рассказ в числе «сцен, обличающих безобразия и самодурство нашей семейной жизни» («Одесский листок», 1900, № 173, 6 июля).
При жизни Чехова рассказ был переведен на болгарский, немецкий, сербскохорватский, чешский, шведский языки.
(обратно)3000 ИНОСТРАННЫХ СЛОВ, ВОШЕДШИХ В УПОТРЕБЛЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА
Впервые — «Осколки», 1883, № 30, 23 июля (ценз. разр. 22 июля), стр. 6. Без подписи.
Печатается по журнальному тексту.
Авторство устанавливается на основании заключенного в тексте псевдонима А. П. Чехова — Человек без селезенки.
(обратно)ПЕРЕПУТАННЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Впервые — «Осколки», 1884, № 2, 14 января (ценз. разр. 13 января), стр. 6. Подпись: Человек без селезенки.
Печатается по журнальному тексту.
Датируется 25–26 июля 1883 г. по письму Чехова к Н. А. Лейкину между 31 июля и 3 августа 1883 г.: «Просматривал сейчас последний номер „Осколков“ и к великому ужасу (можете себе представить этот ужас!) увидел там перепутанные объявления. Такие же объявления я неделю тому назад изготовил для „Осколков“ — и в этом весь скандал. Пропали, значит, мои объявления! Вещичка ерундистая и не стоит возиться с ней в двух номерах… Во всяком случае посылаю. Если годятся, то спрячьте и пустите месяцев через 5–6». Юмореска действительно была напечатана через полгода, хотя Н. Лейкин в ответном письме (от 4 августа 1883 г.) писал: «Объявления же (перепутанные) действительно придется отложить, но далеко не на такое время, как Вы предлагаете. Я их помещу недели через 3–4» (ГБЛ).
Жанр «курьезных» или «перепутанных объявлений» (с мотивировкой путаницы или без мотивировки) был весьма распространен в юмористической прессе 80-х годов. Юмореска Чехова выполнена целиком в этих жанровых традициях. Ср., например, в «Стрекозе» (1883, № 20, 15 мая): «В прошлом году все наборщики типографии „N-ских ведомостей“ перепились до чёртиков на именинах метранпажа и приступили затем к набору „объявлений“. Вот в каком виде вышел из их пьяных рук последний лист газеты (понятно, не пущенный в продажу).
Знатокам и любителям предлагают приют для беременных <…>
Датский дог ищет средних лет приличную особу, знающую в совершенстве французский язык <…>
Нужны с академическим образованием пуделя; без личных аттестатов не являться (Архивариус Моисей Ветчина)».
Или в «Новостях дня» (1883, № 170, 17 декабря): «Голубой песец, кончивший курс юридических наук, с пересылкой по железной дороге, желает получить горячие кулебяки и расстегаи. Особых приглашений не будет».
Стр. 183. «Цветы и змеи» Л. И. Пальмина… — Сборник стихотворений Л. И. Пальмина, изданный «Осколками» в 1883 г.
(обратно)ТРАГИК
Впервые — «Осколки», 1883, № 41, 8 октября (ценз. разр. 7 октября), стр. 5. Подзаголовок: (Историйка). Подпись: А. Чехонте.
Включено в сборник «Сказки Мельпомены», М., 1884.
Вошло в издание А. Ф. Маркса.
Печатается по тексту: Чехов, т. II, стр. 165–169, с исправлением по «Осколкам» и «Сказкам Мельпомены»: Обед прошел не скучно (стр. 185, строка 12) — вместо Обед прошел скучно.
Как явствует из переписки Чехова с Н. А. Лейкиным, рассказ был отослан в журнал не позднее 20-х чисел июля 1883 г. В первых числах августа Чехов спрашивал: «Какова судьба моего „Трагика“? Неплохой рассказ вышел бы, если бы не рамки… Пришлось сузить даже самую суть и соль… А можно было бы и целую повесть написать на эту тему».
По ряду причин Лейкин не торопился с печатанием «Трагика». 4 августа 1883 г. он ответил: «Вы спрашиваете о судьбе Вашего „Трагика“. Рассказ набран, пропущен цензурой и пойдет в № 32, если Вы к тому времени пришлете еще какой-нибудь рассказец. Дело в том, что при ужасных цензурных условиях я всегда должен иметь у себя запасной набор. Вот я и берегу „Трагика“. Иначе может случиться, что и № не выйдет. Бывает так, что цензор херит 1/3 посылаемого к нему» (ГБЛ).
Однако в № 32 «Осколков» рассказ не пошел. 27 августа Лейкин писал: «Рассказ Ваш „Трагик“ набран, пропущен цензурой и, как несезонный, также лежит в запасе. Его можно поместить и осенью, и зимой, и летом» (там же). В письме от 1 октября 1883 г. Лейкин снова просил Чехова не смущаться тем, что публикация «Трагика» задерживается. «Рассказ прелестен, — писал он, — но великоват, и я всё никак не могу его втиснуть». Но затем добавлял: «Теперь разгар театрального сезона, рассказ является рассказом à propos, и я его непременно помещу в октябре месяце» (там же).
При подготовке «Сказок Мельпомены» рассказ был дополнен (появился, например, новый монолог Лимонадова: «Даже глупо с твоей стороны!..») и стилистически отредактирован.
Существенно текст рассказа Чехов переработал для издания А. Ф. Маркса. Как явствует из сопроводительного письма Ю. О. Грюнбергу от 21 мая 1899 г., работа эта была осуществлена в мае 1899 г. Чехов сократил рассказ, опустив при этом ряд побочных сюжетных мотивов, и провел сплошную стилистическую правку, преобразившую первоначальный текст. При этом последовательно устранялись утрированно-комические подробности и вульгаризмы, присущие стилю малой прессы: фамилия «Гемофилов» изменена на «Феногенов»; «…у всякого индивидуя» исправлено: «у всякого человека»; «Все, кроме бабья!» — «Все приходите, кроме женского пола», и т. д.
В анонимной рецензии на «Сказки Мельпомены» рассказ этот приводился как один из примеров изображения драматизма в жизни артистов («Наблюдатель», 1885, № 4, стр. 68). Позднейший критик считал, что в «Трагике», как и других рассказах раннего Чехова об актерах, замечается «преобладание внешних черт или некоторый шаблон» (А. П. Липовский. Представители современной русской повести и оценка их литературной критикой. — «Литературный вестник», 1901, № 5, стр. 5).
При жизни Чехова рассказ был переведен на сербскохорватский язык.
Стр. 184. Давали «Князя Серебряного». — Переделка для сцены одноименного романа А. К. Толстого.
Стр. 186. ingénue — амплуа актрисы, исполняющей роль простушки, наивно-прямодушной девушки.
(обратно)ПРИДАНОЕ
Впервые — «Будильник», 1883, № 30 (ценз. разр. 30 июля), стр. 261–262. Подзаголовок: (История одной мании). Подпись: А. Чехонте.
Вошло в издание А. Ф. Маркса.
Печатается по тексту: Чехов, т. I, стр. 365–371.
Для собрания сочинений Чехов значительно сократил рассказ, опустив при этом ряд побочных сюжетных мотивов, пейзажных описаний, бытовых подробностей и деталей в характеристике персонажей (см. варианты*). Устранены также черты юмористического фельетона и прямые авторские высказывания: «Если бы я был гласным городка, в котором живут мои герои…» и т. п.
При жизни Чехова рассказ был переведен на итальянский и болгарский языки.
(обратно)ДОБРОДЕТЕЛЬНЫЙ КАБАТЧИК
Впервые — «Осколки», 1883, № 32, 6 августа (ценз. разр. 5 августа), стр. 4. Подпись: А. Чехонте.
Включено в сборник «Пестрые рассказы», СПб., 1886.
Сохранилась вырезка из журнала с пометой: «NB. В полное собрание не войдет. А. Чехов» (ЦГАЛИ).
Печатается по тексту 1886 г. с поправкой (по журналу «Осколки»): зоологией и ботаникой (стр. 193, строки 13–14) — вместо зоологией.
Н. А. Лейкин писал Чехову 4 августа: «Письмо Ваше с двумя статейками получил. „Добродетельный кабатчик“ будет помещен в нынешнем, т. е. № 32, „Осколков“» (ГБЛ).
В рецензии Ф. Змиева (Ф. И. Булгакова) на первое издание «Пестрых рассказов» — в целом отрицательной — среди «семи-восьми рассказов», «в которых проглядывает несомненное дарование», «Добродетельный кабатчик» отмечен наряду с «Вербой», «Смертью чиновника», «Случаем из судебной практики» («Новь», 1886, № 17, 1 июля, стр. 63).
Стр. 193. Плач оскудевшего. — Слово «оскудевший» употреблено здесь в значении, которое оно приобрело после очерков Сергея Атавы (Терпигорева) «Оскудение» (1880). Ощущается и сюжетно-тематическая перекличка с этой книгой. Чехов хорошо знал и ценил С. Атаву как писателя. В его письмах разных лет находятся весьма положительные отзывы о рассказах и очерках С. Атавы, о его художественной манере. Запись на IV томе Собр. соч. С. Атавы (СПб., 1899) — один из самых восторженных отзывов Чехова о литературных произведениях: «Совсем хорошо! А дальше всё лучше и лучше. Читаю с большим удовольствием, веселое настроение! Еще раз так хорошо, что нет никакой моей возможности! А. Чехов».
(обратно)ДОЧЬ АЛЬБИОНА
Впервые — «Осколки», 1883, № 33, 13 августа (ценз. разр. 12 августа), стр. 4–5. Подпись: А. Чехонте.
Включено в сборник «Пестрые рассказы», СПб., 1886; перепечатывалось во всех последующих изданиях сборника..
Вошло в издание А. Ф. Маркса.
Печатается по тексту: Чехов, т. II, стр. 9-13.
Как видно из сопроводительного письма к Н. А. Лейкину от 6 августа 1883 г., Чехов опасался, что рассказ окажется для «Осколков» чрезмерно большим: «Один рассказ („Дочь Альбиона“) длинен. Короче сделать никак не мог. Если не сгодится, то благоволите прислать его мне обратно». Лейкин ответил: «Рассказ Ваш „Дочь Альбиона“ длинноват, но мне нравится, хорошенький рассказ, оригинальный, хотя англичанка и утрирована в своей беззастенчивости. Послал его набирать в типографию» (10 августа 1883 г., ГБЛ).
Журнальный текст явился, в сущности, окончательным: Чехов сохранил его во всех переизданиях, внеся лишь мелкие стилистические поправки.
М. П. Чехов называл «Дочь Альбиона» «чисто бабкинским» рассказом (М. П. Чехов. Антон Чехов и его сюжеты. М., 1923, стр. 33); Ю. Соболев также приводил свидетельства местных жителей о том, что в Бабкине жила «рыжая англичанка, которая удила рыбу» (Ю. Соболев. По чеховским уголкам. В Бабкине. — «Рампа и жизнь», 1914, № 27, стр. 13).
Литературная критика увидела в рассказе «Дочь Альбиона» даже не «утрировку», о которой писал Лейкин, а «невероятность», к которой «присоединяется скабрезность» (К. Арсеньев. Беллетристы последнего времени. А. П. Чехов. К. С. Баранцевич. Ив. Щеглов. — «Вестник Европы», 1887, № 12, стр. 768). Подобным образом оценили «Дочь Альбиона» и некоторые читатели-современники. Так, В. П. Горленко нашел рассказ «пошлым» (Г. А. Бялый. Заметки о художественной манере А. П. Чехова. — Ученые записки Ленинградского ун-та, № 339, вып. 72, 1968, стр. 127).
В одной из позднейших статей высказывалось мнение о связи с «Дочерью Альбиона» образа Шарлотты из «Вишневого сада» (И. И. П-в. <И. И. Попов>. Из записной книжки туриста. — «Восточное обозрение», 1904, № 31, 6 февраля).
При жизни Чехова рассказ был переведен на венгерский, немецкий, польский, румынский, сербскохорватский и чешский языки.
(обратно)КРАТКАЯ АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА
Впервые — «Осколки», 1883, № 34, 20 августа (ценз. разр. 19 августа), стр. 6. Подпись: Человек без селезенки.
Печатается по журнальному тексту.
Юмореска была отправлена Н. А. Лейкину 6 августа 1883 г. 10 августа 1883 г. Лейкин извещал: «Письмецо ваше от 6 августа с приложением мелочишек и рассказа получил» (ГБЛ).
Стр. 200. «Модный свет» — «иллюстрированный журнал для дам»; издавался в Петербурге с 1868 г. Г. Д. Гоппе.
(обратно)ШВЕДСКАЯ СПИЧКА
Впервые — «Альманах „Стрекозы“ на 1884 год», СПб., 1884 (ценз. разр. 5 декабря 1883 г.). Подпись: А. Чехов.
Включено в сборник «Пестрые рассказы», СПб., 1886. Для второго издания текст был выправлен заново; в 3-14 изданиях сборника перепечатывался почти без изменений.
Вошло в издание А. Ф. Маркса.
Сохранился черновой автограф рассказа (ГЛМ).
Печатается по тексту: Чехов, т. II, стр. 106–129, с исправлениями:
Стр. 204, строка 7: Вот след от колена… — вместо: Вот следы от колена… (по автографу).
Стр. 209, строка 15: о синих волосках — вместо: о синих полосках (по автографу, «Альманаху „Стрекозы“» и «Пестрым рассказам»).
Автограф поступил в ГЛМ от наследников М. М. Дюковского в 1965 г. Рукопись на 13 листах (лл. 1–6 и 13 — на писчей бумаге, лл. 7-12 — на сложенных вдвое линованных листах из конторской бумаги), содержит полный черновой текст рассказа. Заглавия нет; на первой странице помета: «Рукопись повести Антона Пав. Чехова „Шведская спичка“, подаренная автором М. Дюковскому в 1886 г.» Последний, 13-й лист взят из другой, более поздней рукописи — конец л. 12 повторен здесь в отредактированном виде, фамилия письмоводителя изменена (Дюковский вместо Акчицкий, как было на предыдущих листах).
Сюжет рассказа и основные его персонажи вполне определены уже в первоначальной рукописи, но окончательный текст в сравнении с черновым дает множество расхождений и вариантов (замена фамилий и имен, многочисленные уточнения в описаниях, портретных и речевых характеристиках, сплошная стилистическая правка; см. варианты*).
Принадлежавший Чехову экземпляр «Альманаха „Стрекозы“ на 1884 год» находится в ялтинском Доме-музее. В текст этого экземпляра внесены изменения и поправки, сделанные при подготовке сборника «Пестрые рассказы».
Предложение написать рассказ для альманаха исходило от редактора «Стрекозы» И. Ф. Василевского, который писал Чехову 18 июля 1883 г.: «Позвольте мне обратиться к Вам со следующим предложением: не пришлете ли Вы чего-либо подходящего для заготовляемого журналом „Альманаха“ — разнообразного сборника рассказов, очерков, стихов, сцен, мелочей и проч. Довольно значительный объем сборника позволяет мне принимать в нем к напечатанию вещи относительно крупные, доходящие по своим размерам до половины печатного листа. <…> Крайним сроком для представления материалов в „Альманах“ следует считать 15 августа» (ГБЛ). В следующем письме (27 июля) И. Василевский особо отметил, что альманах, «будучи иллюстрированным, будет и подцензурным», и уточнял срок присылки — «не позже 6 августа».
Первоначально Чехов предназначал для «Альманаха „Стрекозы“» рассказ «Он понял!», который, однако, был отклонен И. Василевским (см. его письмо к Чехову от 5 августа 1883 г. в комментарии к рассказу, стр. 513 наст. тома). В этом письме Василевский назначал новый срок: «Я могу предоставить еще в Ваше распоряжение срок по 1-ое сентября, если Вы не расстанетесь с мыслью приготовить для „Альманаха“ что-нибудь подходящее» (ГБЛ).
Чехов дал рассказ «Шведская спичка», который был одобрен и принят к печати: «Присланный Вами рассказец будет помещен в „Альманахе“. Редакция была бы обязана, если бы Вы участили свое сотрудничество в журнале высылкою преимущественно небольших сцен и очерков» (письмо И. Василевского от 22 августа 1883 г., ГБЛ).
Из этих писем можно сделать заключение, что рассказ «Шведская спичка» был написан между 7 и 20 августа 1883 г.
Извещая 15 января 1884 г., в ответ на несохранившееся письмо Чехова от 13 января, о высылке гонорара[46], издатель Г. Корнфельд писал: «Очень рады будем Вашему участию в „Стрекозе“ по возможности мелкими статейками» (ГБЛ).
В письме к Н. А. Лейкину, который весьма ревниво относился к работе Чехова в «Стрекозе» (см. комментарий к рассказу «Раз в год», стр. 504 наст. тома), Чехов объяснял:
«Недавно я искусился. Получил я приглашение от Буквы написать что-нибудь в „Альманах Стрекозы“… Я искусился и написал огромнейший рассказ в печатный лист. Рассказ пойдет. Название его „Шведская спичка“, а суть — пародия на уголовные рассказы. Вышел смешной рассказ» (19 сентября 1883 г.).
Называя «Шведскую спичку» пародией на уголовные рассказы, Чехов, несомненно, имел в виду многочисленные сочинения «уголовного» жанра (русские и переводные), занимавшего весьма видное место в малой прессе 80-х годов.
О сочинениях подобного рода Чехов отзывался так: «Наши газеты разделяются на два лагеря: одни из них пугают публику передовыми статьями, другие — романами <…> Таких страшилищ (я говорю о романах, какими угощают теперь публику наши московские бумагопожиратели, вроде Злых духов, Домино всех цветов и проч.) еще никогда не было. Читаешь и оторопь берет <…> Убийства, людоедство, миллионные проигрыши, привидения, лжеграфы, развалины замков, совы, скелеты, сомнамбулы и… чёрт знает, чего только нет в этих раздражениях пленной и хмельной мысли!» («Осколки московской жизни», 1884, № 22).
При жизни Чехова рассказ был переведен на датский, немецкий, польский, румынский и чешский языки.
Стр. 202. …любимец богов ~ как выразился Пушкин… — В стихотворении «Песнь о вещем Олеге» («Скажи мне, кудесник, любимец богов…»).
Стр. 205. А сербы опять взбудоражились! ~ Ах, Австрия, Австрия! Твои это дела! — После русско-турецкой войны 1877–1878 годов Сербия получила независимость от Турции, но правитель Сербии князь Милан заключил в 1881 г. конвенцию, поставившую страну в полную зависимость от Австро-Венгрии. В октябре 1883 г. в Сербии вспыхнуло восстание.
Стр. 208. …прозвал ее Наной. — См. примеч. к стр. 121*.
Стр. 216. …начитавшийся Габорио… — Эмиль Габорио (1835–1873) — французский писатель, автор сенсационно-уголовных романов (в частности, романа «Господин Лекок»), многократно переводившихся на русский язык. Чехов неизменно отрицательно отзывался о детективах Габорио.
Стр. 422 (варианты). Граф Шамбор… — Последний представитель старшей линии Бурбонов (1820–1883).
(обратно)ПРОТЕКЦИЯ
Впервые — «Осколки», 1883, № 35, 27 августа (ценз. разр. 26 августа), стр. 5. Подпись: А. Чехонте.
Сохранилась журнальная вырезка с пометой: «NB. В полное собрание не войдет. А. Чехов» (ЦГАЛИ).
Печатается по журнальному тексту.
Рассказ послан с письмом, написанным между 21 и 24 августа, вместе с «Осколками московской жизни»: «Настоящий присыл принадлежит к неудачным. Заметки бледны, а рассказ не отшлифован и больно мелок. Есть темы получше, и написал бы побольше и получил, но судьба на этот раз против меня! Пишу при самых гнусных условиях. Передо мной моя нелитературная работа, хлопающая немилосердно по совести, в соседней комнате кричит детиныш приехавшего погостить родича, в другой комнате отец читает матери вслух „Запечатленного ангела“… Кто-то завел шкатулку, и я слышу „Елену Прекрасную“… <…> Для пишущего человека гнусней этой обстановки и придумать трудно что-либо другое <…> Обстановка бесподобная. Браню себя, что не удрал на дачу, где, наверное, и выспался бы, и рассказ бы Вам написал». В ответном письме, написанном в тот же день, когда вышел номер «Осколков» с посланными Чеховым заметками и рассказом (27 августа 1883 г.), Лейкин согласился с авторской оценкой: «Последняя „Московская жизнь“ и рассказец Ваш действительно слабоваты, но что делать. И из одной пени бывают разные хлебы. Вы рассказываете в письме, при какой обстановке Вы писали статьи эти. Знаю» (ГБЛ).
(обратно)СПРАВКА
Впервые — «Осколки», 1883, № 36, 3 сентября (ценз. разр. 2 сентября), стр. 4–5. Заглавие: Ошибка. Подпись: А. Чехонте.
Вошло в издание А. Ф. Маркса.
Печатается по тексту: Чехов, т. I, стр. 189–192.
Для собрания сочинений Чехов изменил заглавие, ввел новое лицо (швейцар), существенно переработал финал и стилистически отредактировал весь текст.
При жизни Чехова рассказ был переведен на болгарский, польский, сербскохорватский, словацкий и чешский языки.
(обратно)ОТСТАВНОЙ РАБ
Впервые — «Осколки», 1883, № 37, 10 сентября (ценз. разр. 9 сентября), стр. 5. Подпись: А. Чехонте.
Включено в первое издание сборника «Пестрые рассказы», СПб., 1886. Входило во все последующие издания сборника.
Сохранились гранки рассказа, подготовленного для издания А. Ф. Маркса, с некоторыми стилистическими отличиями от 14-го издания «Пестрых рассказов». Текст гранок перечеркнут; на полях надпись Чехова: «Рассказ „Отставной раб“ исключить» (ГБЛ). В письме к А. Ф. Марксу от 18 июня 1901 г. рассказ также назван в числе тех, которые «в полное собрание не войдут».
Печатается по тексту гранок с исправлением — стр. 229, строка 21 — по «Осколкам» и сборнику «Пестрые рассказы»: а зимой — вместо и зимой.
Как отмечал в своем письме Н. А. Лейкин, рассказ «Отставной раб» претерпел серьезную цензурную правку, связанную, по-видимому с судьбой Тани, которая стала проституткой: «Не удивляйтесь, что рассказ Ваш „Отставной раб“ и „Московская жизнь“ явятся в № 37 урезанными. Это не редакторская длань, а цензорская. На нас легкая невзгода. Обращено внимание на чересчур (?) либеральное направление „Осколков“ и велено поприжать нас <…> На рассказ Ваш „Раб“ цензор также навалился и всю скоромь, все скоромные блестки выхерил. Верно, предполагается „Осколки“ рекомендовать для чтения в женских институтах» (8 сентября 1883 г., ГБЛ).
Рецензент «Пестрых рассказов» причислил рассказ «Отставной раб» к лучшим произведениям сборника (Н. Ладожский <В. К. Петерсен>. Обещающее дарование. — «Санкт-Петербургские ведомости», 1886, № 167, 20 июня).
В. А. Гольцев в своей лекции о Чехове, читанной в марте 1893 г. (опубликована в 1894 г.), приводил этот рассказ как «доказательство того, что Чехов хорошо понимает зло несправедливых и несвободных общественных условий, хотя и редко затрагивает такие темы». В рассказе, по словам Гольцева, «с необыкновенною яркостью изображено то нравственное искалечение, которому подвергались люди при крепостном праве» («Русская мысль», 1894, № 5, стр. 49).
При жизни Чехова рассказ был переведен на венгерский, немецкий и сербскохорватский языки.
(обратно)МОИ ЧИНЫ И ТИТУЛЫ
Впервые — «Осколки», 1883, № 37, 10 сентября (ценз. разр. 9 сентября), стр. 6. Без подписи.
Печатается по журнальному тексту.
Авторство устанавливается на основании заключенного в тексте псевдонима Чехова — Человек без селезенки.
(обратно)ДУРА, или КАПИТАН В ОТСТАВКЕ
Впервые — «Осколки», 1883, № 38, 17 сентября (ценз. разр. 16 сентября), стр. 5. Подпись: А. Чехонте.
Печатается по журнальному тексту.
Основная ситуация сценки и некоторые реплики героя: «Кто я ~ Бобыль» (стр. 232); «Без образования ~ простой характер» (стр. 233) и другие использованы Чеховым в первой части рассказа «Хороший конец» (1887).
(обратно)МАЙОНЕЗ
Впервые — «Осколки», 1883, № 38, 17 сентября (ценз. разр. 16 сентября), стр. 5. Подпись: Человек без селезенки.
Печатается по журнальному тексту.
Следуя традиции юмористических журналов, Чехов часто объединял под одним заглавием самый разнородный материал: афоризмы, анекдоты, коротенькие сценки. Насколько этот жанр был распространен в малой прессе, можно судить хотя бы по перечню названий для циклов «мелочей» такого рода в одной только «Стрекозе» за 1883 г.: «Мысли и афоризмы», «Всего понемножку», «Крупинки и пылинки», «Кое-что», «Анекдоты, шутки, вопросы, ответы», «Мелочи», «Комары и мухи», «Каламбуры, анекдоты, шутки», «Из архивной пыли».
(обратно)ОСЕНЬЮ
Впервые — «Будильник», 1883, № 37 (ценз. разр. 24 сентября), стр. 343–344. Подпись: А. Чехонте.
Включено в первое издание сб. «Пестрые рассказы», СПб., 1886.
Печатается по тексту сборника, стр. 186–193.
Сообщение Чехова в письме к Н. А. Лейкину от 19 сентября 1883 г. «…дал кое-что в „Будильник“» может относиться только к рассказу «Осенью»: другие произведения Чехова в сентябре-октябре в «Будильнике» не появлялись, а еще о двух, напечатанных в этом журнале в ноябре-декабре («В Москве на Трубной площади»* и «В рождественскую ночь»*) имеются дополнительные сведения (см. комментарии к этим рассказам).
Рассказ лег в основу сюжета драматического этюда Чехова «На большой дороге» (I–III картины), написанного в 1884–1885 гг. и запрещенного цензурой.
Заключительная фраза: «Весна, где ты?» — цитируется в одном из писем 1885 г. к Лейкину (сентябрь, не позднее 6).
(обратно)В ЛАНДО
Впервые — «Осколки», 1883, № 39, 24 сентября (ценз. разр. 23 сентября), стр. 4–5. Подпись: А. Чехонте.
Печатается по журнальному тексту.
Чехов отправил рассказ Н. А. Лейкину с письмом от 19 сентября 1883 г.: «Посылаю Вам „В ландо“, — писал он, — где дело идет о Тургеневе» (И. С. Тургенев умер 22 августа 1883 г.).
До нас не дошел полный текст рассказа: конец его, содержащий разговор барона Дронкеля с лакеем (Порфирием?), не понравился Лейкину, и тот выбросил его. «В рассказе Вашем „В ландо“ я урезал конец, — писал Лейкин Чехову 1 октября 1883 г. — Не буду врать. Это не цензор, а я. Урезал я также не потому, чтобы рассказ был длинен для „Осколков“. Нет. Но мне казалось, что барон в натуре не станет так разговаривать с лакеем, да и лакей не станет так отвечать. Мне казалось это деланным, казалось, что конец портит прекрасное начало. Урезав конец, сделал я это не без зрелого размышления, даже посоветовавшись с одним из собратьев по перу» (ГБЛ).
В результате рассказ приобрел концовку, характерную для сценок Лейкина, чаще всего содержащих картину или набор картин, никак не завершающихся сюжетно. В качестве примера можно привести концовку рассказа Лейкина «На похоронах». «Процессия приблизилась к кладбищу. Дроги остановились. Сопровождающие начали снимать гроб» («Осколки», 1883, № 40).
(обратно)В МОСКВЕ НА ТРУБНОЙ ПЛОЩАДИ
Впервые — «Будильник», 1883, № 43 (ценз. разр. 5 ноября), стр. 417, в разделе «Калейдоскоп „Будильника“». Заглавие: В Москве на Трубе. Подпись: А. Чехонте.
Вошло в издание А. Ф. Маркса.
Печатается по тексту: Чехов, т. II, стр. 155–159, с исправлением по «Будильнику»: полосовал кнутищем (стр. 246, строки 24–25) — вместо полосовал кнутовищем.
В основу рассказа легли самые ранние московские впечатления Чехова: его первая квартира в Москве была на Драчевке, или Грачевке (ныне Трубная ул.), рядом с описанным рынком. «Московский» характер рассказа подчеркивал и сам Чехов, посылая его в «Осколки» 19 сентября 1883 г.: «Рассказ, — писал он, — имеет чисто московский интерес. Написал его, потому что давным-давно не писал того, что называется легенькой сценкой». Чехов действительно после «Встречи весны» и «Ярмарки» (см. т. I наст. изд., стр. 140 и 247), напечатанных в 1882 г., более года не писал бесфабульных рассказов очеркового типа. Лейкин, вообще холодно относившийся к очерковому жанру (в 1882 г. в «Осколках» было напечатано всего несколько таких рассказов), отклонил и этот рассказ. «Рассказец Ваш „В Москве на Трубе“, — писал он Чехову 1 октября 1883 г., — принужден возвратить Вам и прилагаю его при сем. Видите ли: он имеет чисто этнографический характер, а такие рассказы для „Осколков“ не идут. Я поместил бы еще, может быть, его летом, но теперь, в последнюю четверть года, нужно пришпориться и держаться строго раз намеченного плана». В результате рассказ был отдан Чеховым в «Будильник».
Рассказ перерабатывался для издания А. Ф. Маркса в апреле 1899 г. В письме Марксу от 30 апреля 1899 г. Чехов отослал его в отредактированном виде, правда, еще с прежним названием. Новое заглавие было дано, очевидно, в корректуре. Внесенные в рассказ добавления усилили его лирическую тему («и это воспоминание о весне возбуждает мысль и уносит ее далеко-далеко») и еще больше подчеркнули любовь посетителей Трубы к животным («расскажет с восхищением, страстно», «Но никто не смеется. Мальчишка стоит возле и, прищурив один глаз, смотрит на него серьезно, с состраданием»). Особенно отчетливо выражены обе эти линии в новом конце очерка, где об этом говорится прямо от автора, а также в лирической авторской концовке — о поэтичности жизни Трубы и ее особом мире.
Словарно-стилистическая работа над рассказом велась в различных направлениях. Так, некоторые просторечия журнального текста были заменены словами общелитературного языка («ели» вместо «лопали», «оттуда» вместо «оттеда»). Но в ряде случаев правка носила обратный характер: «из эстого» вместо «из того»; «этих самых рыбов» вместо «их».
Рецензент «Одесского листка» писал о чеховских рассказах очеркового типа: «Сама жизнь — вот наиболее точное и наиболее подходящее определение, которым можно было бы объединить все эти небольшие анекдоты, картинки, иногда лишенные даже сюжета (например, „В Москве на Трубной площади“), по-видимому, беспретенциозные, но, благодаря поразительной наблюдательности и таланту автора, полные глубокого смысла» (Ив. П. Сама жизнь. — «Одесский листок», 1900, № 256, 4 октября).
В статье «Дети и природа в рассказах А. П. Чехова» В. А. Гольцев отмечал «живое, яркое и трогательное описание рынка на Трубной площади» (Дети и природа в рассказах Чехова. — «Детское чтение», 1904, № 2, стр. 249).
(обратно)НОВАЯ БОЛЕЗНЬ И СТАРОЕ СРЕДСТВО
Впервые — ПСС, т. IV, стр. 78 (по гранке, хранившейся в Музее А. П. Чехова при Публичной библиотеке СССР им. Ленина).
Печатается по тексту названного издания. Нынешнее местонахождение гранки неизвестно.
Написано, очевидно, в сентябре 1883 г. «Шуточка Ваша „Новая болезнь и старое средство“, — писал Чехову Н. А. Лейкин 1 октября 1883 г., — не прошла сквозь горнило цензуры, а была бы очень кстати для „Осколков“ <…> Оттиск шуточки посылаю Вам для памяти» (ГБЛ).
(обратно)ТОЛСТЫЙ И ТОНКИЙ
Впервые — «Осколки», 1883, № 40, 1 октября (ценз. разр. 30 сентября), стр. 5. Подпись: А. Чехонте.
В измененной редакции включено в сборник «Пестрые рассказы», СПб., 1886.
Вошло с небольшими изменениями в издание А. Ф. Маркса.
Печатается по тексту: Чехов, т. I, стр. 21–23.
Сюжет рассказа «Толстый и тонкий» в его первоначальной редакции основывался на анекдотическом казусе, а конфликт между персонажами возникал случайно, из-за невольной оплошности «тонкого».
Редакция 1886 года, будучи в целом текстуально близкой к редакции 1883 г., немногими внесенными изменениями существенно переменила смысл рассказа. Был устранен мотив служебной подчиненности: «тонкий» теперь пресмыкается перед «толстым» без всякой практической надобности — «по рефлексу». Рассказ получил гораздо большую сатирическую заостренность и обобщенность.
Готовя текст для собрания сочинений, Чехов внес стилистические поправки — в частности, устранявшие привкус «осколочного» фельетона (опущено, например, название департамента во фразе: «Служил, знаешь, в департаменте „предисловий и опечаток“»).
В обзорной статье о творчестве Чехова («Изъяны творчества») П. Перцов отнес рассказ «Толстый и тонкий» (вместе с «Загадочной натурой» и некоторыми другими) к вещам, которые «представляют просто филигранную работу, и в них, кажется, ни одной строчки нельзя ни прибавить, ни убавить» («Русское богатство», 1893, № 1, стр. 50).
При жизни Чехова рассказ был переведен на болгарский, венгерский, немецкий, польский, сербскохорватский, финский и чешский языки.
Стр. 250. Эфиальт — см. т. I, стр. 581.
(обратно)ПРИЗНАТЕЛЬНЫЙ НЕМЕЦ
Впервые — «Осколки», 1883, № 40, 1 октября (ценз. разр. 30 сентября), стр. 6. Подпись: Человек без селезенки.
Печатается по журнальному тексту.
(обратно)МОИ ОСТРОТЫ И ИЗРЕЧЕНИЯ
Впервые — «Осколки», 1883, № 42, 15 октября (ценз. разр. 14 октября), стр. 5–6. Подпись: Человек без селезенки.
Печатается по журнальному тексту.
В письме от 1 октября 1883 г. Н. А. Лейкин сообщал: «Кроме „Трагика“, одной мелочишки и „объявлений“ у меня теперь ничего нет Вашего». Из «мелочишек» (не рассказов) до конца года в «Осколках» были напечатаны только «Мои остроты и изречения» и «Список экспонентов, удостоенных чугунных медалей по русскому отделу на выставке в Амстердаме».
Стр. 253. «Если обращаться ~ кто же избавится от пощечины?» — «Гамлет» (акт второй, сцена 2) В. Шекспира.
Джон Стюарт Милль (1806–1873) — английский философ и логик. В России до 1883 г. его «Система логики» выходила в 1865–1867 и 1878 годах.
(обратно)СПИСОК ЭКСПОНЕНТОВ, УДОСТОЕННЫХ ЧУГУННЫХ МЕДАЛЕЙ ПО РУССКОМУ ОТДЕЛУ НА ВЫСТАВКЕ В АМСТЕРДАМЕ
Впервые — «Осколки», 1883, № 42, 15 октября (ценз. разр. 14 октября), стр. 6. Подпись: Человек без селезенки.
Печатается по журнальному тексту.
23 сентября 1883 г., в № 209 «Правительственного вестника», был опубликован «Список экспонентов, удостоенных похвальных наград по русскому отделу на международной выставке колониальных произведений и отпускных товаров в Амстердаме». Ряд газет воспроизвел эту публикацию. Русские экспоненты были удостоены почетных дипломов, золотых, серебряных, бронзовых медалей и почетных отзывов. «Новости дня» писали, что колониальной выставке в Амстердаме «предстояло быть иллюстрацией далеких, неведомых стран», но она получила и иное назначение, став «выставкой главнейших статей вывозной торговли». Русский отдел «возбудил живейший интерес и в публике и в собраниях экспонентов. Некоторые оригинальные, чисто русские отрасли промышленности заставили заговорить о себе всю иностранную печать» (1883, № 102, 10 октября).
Чехов использовал для своей юморески форму опубликованного «Списка экспонентов» (например: «Айвазовский, И., профессор — за живопись <…> Елисеев, Е., Москва — за кондитерские изделия»).
Стр. 254. Нижегородская ярмарочная комиссия ~ анонимные письма… — Нижегородская ярмарка была местом всероссийской торговли с 1817 года. Продолжалась с 25 июля по 25 августа.
23 сентября 1883 г. в «Новостях и биржевой газете» (№ 173) была перепечатана заметка из «Томских губернских ведомостей»: «Нам известно, что г. начальник губернии почти ежедневно получает несколько анонимных писем с разными „разоблачениями“».
Полковник Грачев в Симферополе ~ сочинительство. — 27 июня 1883 г., в № 85 «Новостей и биржевой газеты», рассказывалось о состоявшемся 15 июня в камере мирового судьи г. Симферополя разбирательстве: жена доктора медицины С. А. Арендт возбудила дело против отставного полковника Ив. Грачева, который распространял про нее слухи, будто она «поставила в часовне, находящейся в Симферополе, на базаре, изображение казненной государственной преступницы Софии Перовской». 6 октября, в № 186 той же газеты, говорилось о вынесении приговора Грачеву: два месяца ареста.
Город Москва — за купца Кукина. — 29 сентября 1883 г. «Московский листок» в статье «Смерть миллионера Кукина» (№ 269) извещал о кончине этого потомственного почетного гражданина в ночь на 28 сентября. 30 сентября, в заметке «Еще о К. А. Кукине» (№ 270), шла речь о «громадном, сказочном богатстве, состоящем, по словам близких его родственников, из нескольких десятков миллионов рублей, 150 лавок, 30 домов в Москве и нескольких имений в разных губерниях». (В 40-х годах Кукин был в Москве городским головой.) Темы, связанные с Кукиным, в первой половине октября 1883 г. стали в Москве сенсацией. Ряд газет печатал статьи о его несметных богатствах и беспримерной скупости. О Кукине Чехов упоминал также в «Осколках московской жизни» («Осколки», 1883, № 45, 5 ноября).
Уездный помпадур Шлитер в Оренбурге ~ фальшивых векселей. — 2 октября 1883 г. «Русские ведомости» (№ 270) сообщали, что в Оренбурге «самым сенсационным происшествием недели является увольнение от службы <…> исправника, подполковника Шлитера». Он был только что переведен из Орла и тут же составил фальшивый вексель в 5000 рублей; сознался в этом и находится на поруках.
Администрация театра в Ростове-на-Дону ~ в день тургеневских похорон. — И. С. Тургенев скончался 22 августа (3 сентября) 1883 г. в Буживале (Франция). Похороны его происходили 27 сентября в Петербурге, на Волковом кладбище. 1 октября 1883 г., в № 93 «Новостей дня», помещена была заметка: «Беззастенчивость ростовских театралов». В ней говорилось, что 25 сентября в Ростове-на-Дону было устроено торжество в память писателя; оно заканчивалось «„апофеозом И. С. Тургенева“, состоявшим из четырех живых картин». Первая изображала надгробный памятник с бюстом Тургенева; вторая «явила миру следующее небывалое как по оригинальности, так и по дерзкой смелости явление: „памятник превращается в склеп“ (как гласит афиша), из склепа выходит на сцену И. С. Тургенев, читающий отрывок из записок умершего художника: „Довольно“».
Управа в Могилеве-на-Днестре — за подложные свидетельства. — 1 октября в ряде газет появилось сообщение: «Могилев-на-Днестре, 29 сентября. В здешней управе обнаружено злоупотребление по делам о воинской повинности; замешано несколько лиц, изготовлявших подложные свидетельства евреям, желавшим избавиться от воинской повинности».
К.-Х.-А… — Курско-Харьково-Азовская железная дорога.
Г-н Пчельников и его фактотум ~ за циркуляр к балеринам в особенности. — П. М. Пчельников — управляющий Конторою императорских московских театров, отставной гвардии поручик; К. Р. Гершельман (фактотум) — его секретарь, гвардии поручик («Адрес-календарь разных учреждений г. Москвы на 1883 г.». М., 1883, стр. 17). Фактотум — здесь в ироническом смысле: лицо, вмешивающееся во все дела. 30 мая 1883 г. в газете «Московский листок» было сообщено, что Моск. театр. управлением «возбужден вопрос о совершенном упразднении самостоятельной деятельности балетной московской труппы, и предполагалось оставить только необходимый персонал для оперного балета». 10 октября та же газета (№ 280) уведомляла, что состав балета «не будет превышать 100 человек, тогда как прежде он имел до 240 персонажей». Многие балерины, которые не дослужились до пенсии и которым не полагается никакого обеспечения, «никак не могут помириться с мыслью о своей отставке». Это же распоряжение Пчельникова и Гершельмана Чехов описал в «Осколках московской жизни» («Осколки», 1883, № 43, 22 октября).
(обратно)ДОЧЬ КОММЕРЦИИ СОВЕТНИКА
Впервые — «Осколки», 1883, № 42, 15 октября (ценз. разр. 14 октября), стр. 5. Подпись: А. Чехонте.
Печатается по журнальному тексту,
(обратно)ОПЕКУН
Впервые — «Осколки», 1883, № 43, 22 октября (ценз. разр. 21 октября), стр. 4–5. Подпись: А. Чехонте.
Сохранилась журнальная вырезка с пометой: «NB. В полное собрание не войдет. А. Чехов» (ЦГАЛИ).
Печатается по журнальному тексту.
(обратно)ЗНАМЕНИЕ ВРЕМЕНИ
Впервые — «Осколки», 1883, № 43, 22 октября (ценз. разр. 21 октября), стр. 6. Подпись: Человек без селезенки.
Печатается по журнальному тексту.
(обратно)В ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ
Впервые — «Осколки», 1883, № 44, 29 октября (ценз. разр. 28 октября), стр. 5. Подпись: А. Чехонте.
Вошло в издание А. Ф. Маркса.
Печатается по тексту: Чехов, т. I, стр. 216–217.
Готовя текст для собрания сочинений, Чехов усилил комическую характерность речи персонажей: добавлены иностранные слова, употребляемые ими в неверном или приблизительном значении («рандеву, соус провансаль», «так сказать стратегического свойства, вроде как бы фортификации», «вроде как бы пароль»). Ср. подобные случаи в рассказах: «О том, как я в законный брак вступил», «Депутат, или Повесть о том, как у Дездемонова 25 рублей пропало». Этот комический прием получил дальнейшее развитие в поздней прозе Чехова.
В статье, посвященной первому тому издания А. Ф. Маркса, Н. К. Михайловский противопоставлял этот и ряд других рассказов раннего Чехова таким его произведениям, как «Муж»: «И остроумный почтмейстер Сладкоперцев, и все слушатели его рассказа — всё это продукты той же житейской пошлости, которая выработала грубое животное Шаликова <из рассказа „Муж“>. Но разница — в отношениях к ним автора. К Шаликову он относится с очень сложным чувством, берет его со всеми корнями и ветвями», тогда как герои рассказов типа «В почтовом отделении» «ему просто смешны, и рассказывает он про них именно на смех» (Ник. Михайловский. Литература и жизнь. Кое-что о г. Чехове. — «Русское богатство», 1900, № 4, стр. 123).
При жизни Чехова рассказ был переведен на болгарский, немецкий, сербскохорватский, финский, чешский и шведский языки.
(обратно)ЮРИСТКА
Впервые — «Осколки», 1883, № 44, 29 октября (ценз. разр. 28 октября), стр. 5. Подпись: Человек без селезенки.
Сохранилась журнальная вырезка, сделанная при подготовке издания А. Ф. Маркса (ЦГАЛИ), но в само издание рассказ включен не был.
Печатается по журнальному тексту.
(обратно)ИЗ ДНЕВНИКА ОДНОЙ ДЕВИЦЫ
Впервые — «Осколки», 1883, № 44, 29 октября (ценз. разр. 28 октября), стр. 5. Подпись: Человек без селезенки.
Печатается по журнальному тексту.
(обратно)В МОРЕ
Впервые — «Мирской толк», 1883, № 40, 29 октября, стр. 470–471, без подзаголовка. Подпись: А. Чехов.
В иной редакции и под новым заглавием («Ночью») напечатано в альманахе «Северные цветы», изд. «Скорпион», М., 1901. Подпись: Антон Чехов.
В той же редакции — с небольшой стилистической правкой, под первоначальным названием и с подзаголовком «Рассказ матроса» — вошло во второе (1903, приложение к журналу «Нива») издание А. Ф. Маркса.
Печатается по тексту названного издания, т. XII, стр. 126–129.
В архиве А. П. Чехова (ГБЛ) сохранилось письмо негласного редактора журнала «Мирской толк» Н. В. Путяты, датированное 1883 годом и относящееся, несомненно, к рассказу «В море»:
«Статья уже набрана и вверстана в №. След<овательно>, вернуть я ее не могу. Что же касается Вашего негодования, то, во 1-х, Вы сами писали мне не смущаться (?) сальностью середины рассказа, а во 2-х, мне было бы гораздо приятнее получить от Вас — извините — нечто менее сальное, более содержательное и более пахнущее русской жизнью. Ваш Н. Путята»[47].
Рассказ «В море» был резко осужден Московским цензурным комитетом, пристально следившим за направлением журнала «Мирской толк». 9 ноября 1883 г. цензор Леонтьев докладывал комитету:
«За последнее время бесцензурная еженедельная газета „Мирской толк“, издаваемая Пушкаревым, стала, как известно уже по докладам г. Назаревского, всё более и более обнаруживать свое вредное направление. Последние два нумера ее (40 и 41) почти сплошь составлены из статей более или менее непозволительного духа… Обращаю внимание комитета на <…> „В море“, перевод с английского. Ужасный рассказ про пастора, который продает на 1-ю ночь свою новобрачную богатому банкиру, и про двух матросов, отца и сына, которые вместе приготовляют себе в стенке отверстие, чтобы смотреть на дела этой ночи» (ЦГАМ, ф. 31, оп. 3, ед. хр. 2174, лл. 208–210).
Предполагая включить рассказ «В море» в том I собрания сочинений, Чехов в мае 1899 г. послал его А. Ф. Марксу (см. письмо Ю. О. Грюнбергу от 21 мая 1899 г.). Однако ни в первый, ни в какой-либо другой из томов первого издания рассказ не вошел. В 1901 г., когда И. А. Бунин попросил у Чехова для издательства «Скорпион» что-нибудь, еще не известное широкой публике, Чехов дал рассказ 1883 года в переработанном виде.
Не затрагивая сюжетной основы, Чехов устранил те своеобразные стилевые черты, которые придавали тексту 1883 г. характерный оттенок «переводного» рассказа и, в известной степени, тон литературной пародии. Были сняты, например, фразы: «…громкий, пьяный смех тружеников моря»; «…несдерживаемые страсти не ослабляют нас. Напротив, они делают нас тиграми»; «Всё это было залито наркотическим, розовым светом, исходившим от дорогой бронзовой лампы»; «… в море добродетель скучней штиля» и т. п. Текст был несколько сокращен — главным образом за счет морских и бытовых описаний.
Книгоиздательство «Скорпион» использовало имя Чехова для рекламы, опубликовав в газете «Русские ведомости» (8 марта, № 66) объявление, о котором Чехов отозвался очень резко: «…публикует „Скорпион“ о своей книге тоже неряшливо, выставляя меня первым, — и я, прочитав это объявление в „Русск<их> ведом<остях>“, дал себе клятву больше уж никогда не ведаться ни со скорпионами, ни с крокодилами, ни с ужами» (письмо И. А. Бунину от 14 марта 1901 г.).
Присоединив к письму Бунину от 20 апреля 1901 г. вырезку из объявления:
«Новый рассказ А. П. Чехова Северные цветы. Альманах к-ва „Скорпион“, ц. 1 р. 50 к.»,
Чехов заявлял: «Во-первых, я никогда не писал рассказа „Северные цветы“, а во-вторых, зачем Вы ввели меня в эту компанию, милый Иван Алексеевич? Зачем? Зачем?»
Получив письмо и увидев готовую книгу, Бунин писал Чехову: «Альманах вышел дурацкий, но мог ли я предполагать, что „Скорпионы“ поступят так по-мальчишески, составят его чуть не из пародий и будут даже объявления составлять нелепо. Ведь издавали они пока всё чудесные вещи. Альманах хотели сделать на редкость… Наговорили мне с три короба… Я, ей-богу, ничего подобного не ожидал! Я напишу им, чтобы они хоть Ваше имя оставили в покое. Пожалуйста, не сердитесь» (30 апреля 1901 г. — ЛН, т. 68, стр. 411).
В альманахе «Северные цветы на 1901 год», в частности, выступили З. Гиппиус, Ю. Балтрушайтис, К. Бальмонт, А. Добролюбов, Ф. Сологуб, А. Курсинский, А. Миропольский, И. Коневский, В. Я. Брюсов (Бунин напечатал здесь рассказ «Поздней ночью»). Появление Чехова среди этих имен привело критику в недоумение и замешательство. За исключением анонимного восторженного отзыва в «Русском листке» («вещь дивная по форме и глубокая по содержанию» — 1901, № 110, 22 апреля), критики единодушно — иные в очень резких выражениях — обрушились на Чехова за сотрудничество в «декадентском альманахе». «По непостижимой игре судьбы, — писал Н. Е. Эфрос, — в компанию юродивых и шарлатанов попал Антон Чехов, и она сделала из него вывеску для своего альманаха и орудие рекламы <…> Его и не узнаешь в этом очерке <…> Ничего из чеховских мотивов, чеховских настроений, даже чеховской манеры и стиля» (Али <Н. Е. Эфрос>. Юродивые. — «Новости дня», 1901, № 6414, 24 апреля). Обозреватель «Мира божьего» также считал, что рассказ совсем не напоминает «того Чехова, которого мы знаем по его прелестным мелким рассказам <…> публикуя подобные никчемные во всех отношениях пустяковины, г. Чехов унижает себя как писателя» (С. Ашевский. Беллетристика. — «Мир божий», 1901, № 6, стр. 100). А. В. Амфитеатров называл рассказ «непристойным по теме и небрежным по письму» (Old Gentleman <А. В. Амфитеатров>. Литературный альбом. — «Россия», № 776, 25 июня). И. И. Ясинский (псевдоним — Орест Ядовиткин) выступил в своем журнале со стихотворной пародией («Ежемесячные сочинения», 1901, № 5, стр. 75).
Никто из критиков не знал, что «Ночью» — это рассказ почти двадцатилетней давности; поэтому он был воспринят как явное подражание Мопассану, имя которого как раз в эти годы приобрело в России огромную популярность[48]. Критик «Русского вестника», например, писал: «Читатель найдет прекрасный новый рассказ Чехова „Ночью“, производящий, несмотря на свои незначительные размеры, весьма сильное впечатление и напоминающий по сжатой энергии повествования и по безотрадно мрачному настроению лучшие произведения Мопассана» (1901, № 5, стр. 212).
Еще определеннее о влиянии Мопассана говорил рецензент «Недели»: «Миниатюрный рассказ Чехова „Ночью“ <…> блестяще написанный <…>, ярок, определенен, силен, но… если бы скрыть имя автора, то всякий читатель был бы уверен, что рассказ переводный, и почти уверен, что он — из Мопассана. В последнее время у Чехова вообще прискорбное влечение к „мопассановщине“, но все-таки никогда еще он не доходил до такого печального обезличения…» (1901, № 17, стр. 586).
«Новое время» опубликовало оскорбительный отзыв В. П. Буренина: «Г-на Чехова издатели привлекли в альманах, конечно, в качестве „знаменитого“ писателя, и он дал рассказец в две с половиною странички, по-моему, достаточно плохой и кроме того рассчитанный на дурные читательские инстинкты. <…> Очень пикантный анекдотец, что и говорить! <…> Сам Мопассан, кажется, спасовал бы пред таким циническим фактом, но г. Чехов идет еще дальше Мопассана: „Знай-де наших, мы россияне! Мы как начнем оплевывать человеческую природу, так уж так оплюем, что мое почтенье-с. И куда бы плевок ни попал — нам всё равно“. Притом же и пора ведь г. Чехову над Мопассаном превознестись: великий он у нас теперь писатель, „глава“» (1901, № 9037, 27 апреля).
О «новом наклоне» творчества Чехова писал и А. А. Измайлов: «Рассказ „Ночью“ выписан с обычным мастерством автора, но было бы грустно, если бы он намечал новый наклон творчества талантливого художника. Это — рассказ для холостой компании, совершенно во вкусе известной категории откровенных новелл Мопассана». С произведениями Мопассана сопоставлял рассказ «В море» и Волжский (А. С. Глинка) в книге о Чехове (СПб., 1903, стр. 59). Любопытно, что ни Волжский, ни Измайлов, впоследствии тоже автор большой книги о Чехове (Чехов. Биографический набросок. М., 1916), так и не догадались, что рассказ «Ночью» — один из самых ранних рассказов Чехова, написанный задолго до того, как имя Мопассана приобрело в России популярность и славу.
При жизни Чехова рассказ был переведен на болгарский язык.
(обратно)НАЧАЛЬНИК СТАНЦИИ
Впервые — «Осколки», 1883, № 45, 5 ноября (ценз. разр. 4 ноября), стр. 4–5. Подпись: А. Чехонте.
Сохранилась журнальная вырезка с пометой: «NB. В полное собрание не войдет. А. Чехов» (ЦГАЛИ).
Печатается по журнальному тексту.
Стр. 273. …насвистывали из «Мадам Анго». — Ср. упоминание об этой же оперетте в рассказе 1882 г. «Двадцать девятое июня» (т. I, стр. 227).
(обратно)КЛЕВЕТА
Впервые — «Осколки», 1883, № 46, 12 ноября (ценз. разр. 11 ноября), стр. 4–5. Подпись: А. Чехонте.
Включено в сборник «Пестрые рассказы», СПб., 1886; печаталось в последующих изданиях сборника.
Вошло в издание А. Ф. Маркса.
Печатается по тексту. Чехов, т. II, стр. 101–105.
Рецензент «Одесского листка» рассматривал рассказ «Клевета» (вместе со «Смертью чиновника») как пример такого типа произведений, где «автор говорит о мелочах обыденной жизни, о мелочах, ничтожных и пошлых, говорит „смешно“ и как будто даже улыбаясь, а читатель не может отвести глаз от людей, стонущих, страдающих и даже гибнущих в тине этих мелочей и пустяков жизни…» (Ив. П. «Сама жизнь». — «Одесский листок», 1900, № 256, 4 октября).
При жизни Чехова рассказ был переведен на болгарский, венгерский, немецкий, сербскохорватский, словацкий и чешский языки.
(обратно)СБОРНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ
Впервые — «Осколки», 1883, № 49, 3 декабря (ценз. разр. 2 декабря), стр. 5, № 50, 10 декабря (ценз. разр. 9 декабря), стр. 5. Подпись: А. Чехонте.
Печатается по журнальному тексту.
19 ноября 1883 г. Н. А. Лейкин писал Чехову: «На № 48 у меня есть рассказ, ежели Вы не можете прислать такового; но для № 49 пожалуйста уж озаботьтесь прислать рассказец» (ГБЛ). Однако новый присыл успел к № 48, и Лейкин поместил из него в этом номере рассказ «В гостиной», а имевшийся ранее пошел в № 49, так как второй рассказ из нового присыла был возвращен Чехову (см. ниже примечания к рассказу «В рождественскую ночь»*).
(обратно)В ГОСТИНОЙ
Впервые — «Осколки», 1883, № 48, 26 ноября (ценз. разр. 25 ноября), стр. 5. Заглавие: Ирония судьбы. Подпись: А. Чехонте.
Сохранилась вырезка из журнала с правкой Чехова и набранные с нее гранки для издания А. Ф. Маркса (ЦГАЛИ); однако в само издание рассказ не вошел.
Печатается по журнальному тексту, с авторскими поправками, сделанными в 1899 г.
25 ноября 1883 г. Н. А. Лейкин сообщал Чехову: «Получил Ваше письмо с приложением двух рассказов. Один из них я поместил в № 48» (ГБЛ).
Для собрания сочинений Чехов переменил заглавие рассказа и отредактировал весь текст. Были устранены, в частности, черты «осколочного» юмора: вместо «баронесса Фюнфцен пялит на вас глаза» стало «баронесса глядит на вас»; вместо «профессор Турнюров улыбки строит» стало «профессор смотрит» и т. п.
(обратно)В РОЖДЕСТВЕНСКУЮ НОЧЬ
Впервые — «Будильник», 1883, № 50 (ценз. разр. 22 декабря), стр. 509–511. Перед текстом: Посвящается М. П. Чеховой. Подпись: А. Чехонте.
Включено в первое издание сб. «Пестрые рассказы», СПб., 1886.
Печатается по тексту сборника, стр. 178–186.
«В рождественскую ночь» — тот самый рассказ, который в ноябрьской и декабрьской переписке Чехова с Н. А. Лейкиным называется «Беда за бедою». Получив его, Лейкин сообщал: «„Беда за бедою“ у Вас совсем не вытанцовался, и я его не могу поместить ни в № 49, ни 50 — одним словом, ни в декабре, ни в январе, так как теперь надо помещать только удачное. Рассказ „Беда за бедою“, во-первых, очень водянист, а во-вторых, не имеет ни сюжета, ни подкладки. Пусть он полежит до половины февраля, а Вы к № 49 попробуйте написать что-нибудь другое. Может быть, и выйдет удачнее <…> Впрочем, если у Вас для него есть другое место и Вы полагаете его поместить где-нибудь поскорее, то черкните — и я Вам его возвращу» (ГБЛ). «Рассказ „Беда за бедой“ не печатайте, — отвечал Чехов 10 декабря 1883 г. — Я нашел ему пристанище в первопрестольном граде. Назад тоже не присылайте. Я черновик отдал».
Рукопись была передана в «Будильник».
«В рождественскую ночь» — единственный рассказ конца 1883 г., нашедший «пристанище» в московском журнале.
Еще 10 декабря 1883 г. редактор «Будильника» А. Д. Курепин обратился к Чехову с письмом, прося «что-нибудь хорошенькое для декабрьских номеров»: «Не вдохновят ли Вас святки или Новый год?» (ГБЛ). Содержание рассказа соответствует названию «Беда за бедой». Новое заглавие рассказ мог получить, будучи напечатанным в рождественском номере.
Ал. П. Чехов в своих воспоминаниях о старом Таганроге, печатавшихся в «Таганрогском вестнике» в 1912 г., писал о случае из времен детства Чехова, схожем с описанным в рассказе, когда «несколько ватаг рыбаков было застигнуто <…> бурей в море на льду и ночной звон производился для них, чтобы указать им путь к берегу» (А. Седой (Александр Чехов). Записки случайного туриста. — «Таганрогская правда», 1970, № 104, 26 мая. Публ. И. М. Сельванюка).
Налет мелодраматизма в рассказе был замечен критикой. «От времени автор старается уже не позабавить, а тронуть или потрясти читателей, но это ему редко удается, — писал К. Арсеньев, — потому что склад рассказа все-таки остается, большею частью, анекдотический. Разница заключается в том, что вместо „происшествия“ смехотворного берется „происшествие“ страшное — например, зимняя буря на море, лодка, погибающая среди льдин, дурачок, ищущий в смерти избавления от мучительной боли<…> Автор, очевидно, усиливался быть патетичным, но результатом его усилий явилось только нечто вроде пародии на крик Тамары в лермонтовском „Демоне“. Мелодрама заканчивается, как и быть надлежит, катастрофой и метаморфозой; постылый муж добровольно идет на смерть, а в сердце жены, пораженной его великодушием, ненависть внезапно уступает место любви» (К. Арсеньев. Беллетристы последнего времени. — «Вестник Европы», 1887, № 12, стр. 769).
Об этом же писал в своей рецензии на первое издание «Пестрых рассказов» Н. Ладожский (В. К. Петерсен). «Рассказ этот по замыслу совершенно невероятен, — отмечал критик. — Женщина, ненавидящая своего мужа, не стала бы рисковать здоровьем, ожидая его возвращения на берегу моря в такую страшную непогоду. Старик Денис не пустил бы дурачка Петрушу в лодку и еще менее пустил бы его в разъяренное море в рождественскую ночь. Наконец, и поступок мужа <…> вышел чересчур героичен». Однако Н. Ладожский оценил рассказ в целом в высшей степени положительно. «И вот, несмотря на этот очевидный недостаток рассказа, он все-таки один из лучших в книге. Читая его, вы верите автору, что так было, вопреки очевидности, и трагедия на берегу моря невольно, но властно захватывает вас. В этом рассказе есть какая-то открытая внутренняя правда, заставляющая прощать скомканность всей трагедии на протяжении восьми страничек рассказа и одной сумасшедшей минуты, завершившей долго длившееся событие. Читая этот рассказ, вы вспоминаете многие несообразности, случающиеся в жизни, которая далеко не может похвастаться логикою, и серьезно допускаете себя наслаждаться правдивостью трогательной фигуры дурачка Петруши и величавым спокойствием непоколебимо верующего старика Дениса» («Санкт-Петербургские ведомости», 1886, № 167, 20 июня; то же — «Новости дня», 1886, № 168, 22 июня).
Анонимный рецензент журнала «Наблюдатель» (1886, № 12) также отнес рассказ «В рождественскую ночь» к числу немногих очерков сборника, «оставляющих впечатление».
В противоположность мнению К. Арсеньева и В. К. Петерсена, в позднейшем отзыве (при обсуждении в печати плагиата Н. Борисова, напечатавшего рассказ «Воротись!» — см. «Новое время», 1897, № 7830, 13 декабря; «Курьер», 1897, № 40, 15 декабря), подчеркивались как раз «естественность» концовки рассказа и «художественное чутье» автора, в ней обнаруженное (И. А. Письмо в редакцию. — «Новое время», 1897, № 7828, 11 декабря).
При жизни Чехова рассказ был переведен на венгерский, немецкий, сербскохорватский и словацкий языки.
(обратно)ЭКЗАМЕН
Впервые — «Новости дня», 1883, № 178, 25 декабря (ценз. разр. 24 декабря), стр. 3, раздел «Жженка». Подпись: А. Чехов.
Печатается по газетному тексту.
Газета «Новости дня» начала выходить в Москве с 1 июля 1883 г. под редакцией А. Я. Липскерова. О своей «мелочишке» и подписи под ней Чехов сообщал Н. А. Лейкину в день выхода номера с «Экзаменом»: «„Новости дня“ под одной маленькой ерундой, которую я постыдился бы послать в „Осколки“ и которую я дал однажды Липскерову, подмахнули тоже мою полную фамилию (а давал я Липскерову мелочишку под псевдонимом…) <…> Буду впредь осторожен. Липскеров был у брата, художника, и я ему так, от нечего делать, дал мелочишку».
Стр. 294. Доктор Чиж — петербургский врач-психиатр.
(обратно)ЛИБЕРАЛ
Впервые — «Осколки», 1884, № 1, 7 января (ценз. разр. 5 января), стр. 5. Подпись: А. Чехонте.
Сохранилась журнальная вырезка с пометой: «NB. В полное собрание не войдет. А. Чехов» (ЦГАЛИ).
Печатается по журнальному тексту.
Рассказ написан в самых последних числах декабря 1883 г. (после 25), что видно из писем Чехова к Н. А. Лейкину. 10 декабря 1883 г. он писал: «И на сей раз не шлю Вам рассказа. 16-го декабря и 20-го у меня экзамены. Боюсь писать. Не сердитесь». 25 декабря Чехов повторял: «В ночь под Рождество хотел написать что-нибудь, но ничего не написал <…> Не посылал Вам рассказов потому, что окончил свои экзамены только 20-го дек<абря> вечером». Лишь 31 декабря Чехов смог отправить свой «транспорт». Лейкину он писал: «Простите, что посылаю немножко поздно. Впрочем, Вы, согласно Вашему последнему письму, получите мой транспорт 1-го января. И заметки длинны и новогодний рассказ длинен — каюсь. Но ради (впрочем, здесь ни к селу ни к городу это „но“), ради того, что новогодний нумер должен быть отменно хорош, прошу Вас на сей раз не поцеремониться и сократить, елико возможно. Сам я не взялся сокращать: Вам виднее, что идет к делу, что лишнее». Из ответного письма Лейкина от 5 января 1884 г. известно, что он сделал сокращения в рассказе и изменил первоначальное, не известное нам заглавие: «Два письма Ваши от 25-го и 31 декабря получил, получил и статьи. Статьи — как московское обозрение, так и рассказ Ваш — сократил. Нельзя было не сокращать, слишком много срочных новогодних статей накопилось, таких статей, которые непременно должны идти в № 1 <…> В рассказе Вашем я переменил заглавие и назвал рассказ: „Либерал“. Так и короче и лучше» (ГБЛ).
(обратно)ЗАВЕЩАНИЕ СТАРОГО, 1883-го ГОДА
Впервые — «Будильник», 1884, № 1 (ценз. разр. 5 января), стр. 5. Подпись см. в тексте.
Сохранилась писарская копия первопечатного текста с пометой: «NB. В полное собрание не войдет. А. Чехов» (ЦГАЛИ).
Печатается по журнальному тексту.
Жанр и терминология юридических документов часто использовались в малой прессе для новогодних юморесок. Так, Бертрам (В. В. Билибин) в это же время поместил в «Осколках» «Три документа о 1883 годе. I. Обвинительный акт. II. Гражданский иск. III. Приговор суда истории» («Осколки», 1884, № 1, 7 января, стр. 6); 1883 год именуется в юмореске Билибина «сыном вечности», а приговор суда истории гласит: «Убытки же, причиненные им, взыскать вдвое с законного наследника его, 1884-го года». У Чехова в этом жанре см. также «Контракт 1884 года с человечеством»*.
Стр. 300. …был, знаешь, у Саврасенкова… — К. Е. Саврасенков — владелец московской гостиницы и ресторана при ней.
…с его ~ компрачикосами… — Компрачикосы вошли в литературу с романом В. Гюго «Человек, который смеется», где им посвящена вторая глава первой части (русский перевод вышел в 1869 г.). Скептическое отношение молодого Чехова к творчеству В. Гюго проявилось также в его пародии 1880 года «Тысяча одна страсть, или Страшная ночь» (Сочинения, т. I).
…театром Мошнина… — В фельетоне «Будильника» «Среди милых москвичей» о театре Мошнина сказано: «Этот театр, как известно, летом сдавался под прачечную или кузницу, а зимою в нем за весьма умеренную арендную плату ломали драму любители» («Будильник», 1884, № 41, стр. 492).
…мазью Иванова… — См. «Жизнеописания достопримечательных современников» (стр. 365–366 наст. тома) и примечания*.
…Шестеркиным… — И. И. Шестеркин — старшина московской мещанской управы. Чехов писал о нем в «Осколках московской жизни» в декабре 1883 г.
…Окрейцем… — С. С. Окрейц (р. 1834) — редактор реакционного еженедельного журнала «Луч».
Нечто похожее на деньги видел я ~ в сундуке таганрогского турка Вальяно… — Таганрогский купец Марк Вальяно нажил себе состояние на торговле контрабандным товаром. См. у Чехова о нем ранее в пародии «Тайны ста сорока четырех катастроф, или Русский Рокамболь» (т. I Сочинений).
…Рассказчика Гулевича (автора)… — Чтец и рассказчик Гулевич, выступавший на эстраде «Эрмитажа», постоянно вызывал насмешки в юмористической прессе — и надоевшим репертуаром и особенно подчеркиванием своего авторства — см. о нем в наст. томе «Кое-что. 1) Гулевич (автор) и утопленник»*.
Окончи дело Корсова с Закжевским… — Б. Б. Корсов (наст. имя — Г. Г. Геринг, 1845–1920) и Ю. Ф. Закжевский — артисты императорской оперы в Москве. О длительном судебном процессе по обвинению Закжевского Корсовым в клевете Чехов писал в «Осколках московской жизни» дважды, в ноябре и декабре 1883 г.
Стр. 301. …беру с собою в Лету поэта и экс-редактора Сталинского. — Е. Сталинский с 1881 г. был редактором журнала «Москва», проданного в 1883 г. с торгов Н. Руссиянову.
…шубу художника Ч. — Шутка относится, очевидно, к Н. П. Чехову.
(обратно)ОРДЕН
Впервые — «Осколки», 1884, № 2, 14 января (ценз. разр. 13 января), стр. 4–5. Подпись: А. Чехонте.
Перепечатано в сборнике «Пестрые рассказы», СПб., 1886, и в последующих его изданиях.
Вошло в издание А. Ф. Маркса.
Печатается по тексту: Чехов, т. II, стр. 42–45.
Чехов правил рассказ в основном при подготовке второго издания сборника «Пестрые рассказы». Перед включением в собрание сочинений он внес в текст мелкие поправки.
Рассказ «Орден» вызвал критические отзывы по выходе сборника «Пестрые рассказы» (СПб., 1886). Были оценки одобрительные: так, Ф. Змиев (Ф. И. Булгаков) отнес «Орден» к тем рассказам, в которых «проглядывает несомненное дарование» («Новь», 1886, т. XI, № 17, 1 июля, стр. 63). К. Арсеньев же, в статье «Беллетристы последнего времени», выбрал этот рассказ для доказательства своего тезиса о преобладании в «Пестрых рассказах» анекдотического элемента: «Легковесный, рассчитывающий только на минутное любопытство, анекдот мало заботится о естественности, о вероятности; его пикантность коренится, сплошь и рядом, именно в его несообразности. Не слишком-то правдоподобно, например, чтобы двум учителям прогимназии пришла, в одно и то же время, мысль украсить свою грудь не принадлежащим ей орденом и с этим украшением отправиться на званый обед; но положение обоих самозванцев, неожиданно очутившихся друг против друга, может вызвать улыбку — и г. Чехов пишет рассказ „Орден“» («Вестник Европы», 1887, № 12, стр. 768).
Более поздние отзывы уже принимали во внимание последующее творческое развитие Чехова, что не помешало, однако, критикам оценить рассказ «Орден» иной раз прямо противоположно. Ф. Е. Пактовский отнес его к «безделушкам художника» (Современное общество в произведениях А. П. Чехова. — «Чтения в О-ве любителей русской словесности в память А. С. Пушкина при имп. Казанском ун-те», вып. III, Казань, 1901, стр. 8). Г. Качерец назвал «Орден» «чушью» и «оскорблением читателя» (Г. Качерец. Чехов. Опыт. М., 1902, стр. 7). П. Перцов отнес «Орден» к образцам «филигранной работы» — см. статью «Изъяны творчества. (Повести и рассказы А. Чехова)». — «Русское богатство», 1893, № 1, стр. 50.
Глубже других истолковал этот рассказ П. Н. Краснов в статье «Осенние беллетристы», связав его содержание с общей проблематикой творчества Чехова: «Отсутствие общественных интересов, подавленное, мрачное настроение, обусловленное застоем и выжидательным настроением в нашей внутренней политике, отразились и на отдельных лицах <…> Тут при полной внешней незанятости проявляется истинная сущность человека, которая всегда есть пошлость <…> Порою она проявляется в смешных формах, как, например, у учителей, надевающих на купеческие именины не принадлежащие им ордена и затем мучительно скрывающихся друг от друга» («Труд», 1895, № 1, стр. 207).
При жизни Чехова рассказ был переведен на болгарский, венгерский, немецкий, польский, сербскохорватский, финский и чешский языки.
Стр. 304. И то был не Станислав, а целая Анна! — Орден Анны 3-й степени был рангом выше ордена Станислава 3-й степени.
…левый лацкан, на котором красовалась Анна 3-й степени. — В тексте «Осколков» и первого издания сборника «Пестрые рассказы» — «правый лацкан», в то время как по правилам ношения знаков отличия этот орден помещался во второй петле левого борта (см.: А. Н. Лобачевский. Памятная книжка о ношении орденов, медалей и других знаков отличия. СПб., 1886; И. Г. Спасский. Иностранные и русские ордена до 1917 года. Л., 1963).
Стр. 305. «Знай я такую штуку ~ я бы Владимира нацепил». — Орден Владимира 4-й степени был следующим по восходящей линии после ордена Анны 3-й степени.
(обратно)КОНТРАКТ 1884 ГОДА С ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ
Впервые — «Осколки», 1884, № 2, 14 января (ценз. разр. 13 января), стр. 6. Подпись см. в тексте.
Печатается по журнальному тексту.
Стр. 306. …Новым, 1884 годом, живущим в календаре губернского секретаря А. Суворина… — Очередная книжка календаря — «Русский календарь на 1884 год А. Суворина» — уже вышла к этому времени в Петербурге.
…на «Корневильские колокола» 3 руб. 50 коп.…— Упоминание об оперетте Р. Планкетта, очевидно, связано со скандальным событием театральной хроники: в «Русском календаре на 1885 год А. Суворина», в отделе «Русская летопись», под 7 января 1884 г. напечатано: «Известный антрепренер Лентовский, за постановку 6-ти опереток без разрешения авторов, приговорен Московским окружным судом к заключению в смирительном доме».
…в пользу раненных в битве Б. Маркевича с Театрально-литературным комитетом… — Драма Б. М. Маркевича «Чад жизни» была, по его выражению, «отвергнута Литературно-театральным комитетом» и «забракована дирекцией императорских театров» (см. «Письма Б. М. Маркевича к графу А. К. Толстому, П. К. Щебальскому и друг<им>». СПб., 1888, стр. 184, 191, а также: Полн. собр. соч. Б. М. Маркевича, т. XI, СПб., 1885). На сцены частных театров решение дирекции императорских театров не распространялось, поэтому драма «Чад жизни» была поставлена в театре М. В. Лентовского 30 января 1884 г. Чехов писал об этом спектакле в «Осколках московской жизни»: «Видели мы и обоняли „Чад жизни“ — драму известного московского франта и салонного человека, Б. Маркевича, ту самую драму, которая с таким треском провалилась сквозь землю в Театрально-литературном комитете. С не меньшим треском провалилась она и в театре Лентовского…» («Осколки», 1884, № 7, 18 февраля). О несохранившейся пародии Чехова на пьесу Маркевича см. выше, стр. 481.
(обратно)75 000
Впервые — «Будильник», 1884, № 2 (ценз. разр. 13 января), стр. 21–23. Подпись: А. Чехонте.
Сохранилась писарская копия рассказа с пометой: «NB. В полное собрание не войдет. А. Чехов» (ЦГАЛИ).
Печатается по журнальному тексту.
Стр. 308. Знаком и с Хохловым и с Плевако… — П. А. Хохлов (1854–1919) — певец, артист императорской оперы в Москве; Ф. Н. Плевако (1843–1908) — известный юрист и судебный оратор.
Помню я твоего Неклюжева ~ перед девчонкой расхныкался!.. — Имеется в виду сцена из комедии А. И. Пальма «Наш друг Неклюжев», поставленной впервые на сцене Малого театра 25 ноября 1879 г. (д. II, картина 2).
(обратно)МАРЬЯ ИВАНОВНА
Впервые — «Будильник», 1884, № 13 (ценз. разр. 31 марта), стр. 162–163. Подпись: А. Чехонте.
Рассказ был переработан Чеховым и набран для издания А. Ф. Маркса, но не вошел в него; в посмертном XIX-м томе второго издания (СПб., 1911) воспроизведен текст первой публикации рассказа в «Будильнике». Переработанный Чеховым текст был впервые опубликован по гранкам, хранившимся в Музее им. Чехова при Публичной библиотеке СССР им. Ленина: А. П. Чехов. Собр. соч. Под общей ред. А. В. Луначарского. Т. II. Приложение к журналу «Огонек» за 1929 год. М. — Л., Госиздат, 1929, стр. 259–261. Тот же текст повторен в издании: ПСС, т. II. Нынешнее местонахождение гранок неизвестно.
Печатается по тексту: ПСС, т. II, стр. 349–351.
Рассказ был написан в первой половине января 1884 г. 22 января Чехов писал Лейкину: «Выехал я из дому 14-го января, отправив Вам пакетец, который Вы, если помните, получили ранее обыкновенного. Только 19-го попал я обратно в Москву». Здесь Чехов получил 22 января письмо Лейкина с возвращенным рассказом «Марья Ивановна». Лейкин так мотивировал свой отказ: «Рассказ ваш „Марья Ивановна“ я не нашел удобным поместить в „Осколках“. Простите великодушно, но он уж очень интимно написан, а я этого избегаю в „Осколках“. Да и не удался он Вам, растянут, а говорится в нем в сущности ни о чем. Позволяю себе возвратить его Вам» (ГБЛ).
Возврат рассказа явился для Чехова неожиданностью. «Дело в том, — писал он Лейкину, — что я сегодня же, до получения Вашего письма, думал: «В „Осколках“ у меня лежит один большой рассказ. Туда спешить, стало быть, незачем. Напишу куда-нибудь в другое место…» И вдруг Ваше письмо с „возвратом“!» Рассказ был передан в «Будильник».
Для тома II собрания сочинений Чехов заново переписал рассказ — сильно сократил текст и убрал упоминания о своих связях с редакцией «Будильника» и о событиях, злободневных для 1884 г. 30 апреля 1899 г. он писал А. Ф. Марксу: «Мною уже собрано и проредактировано более ста рассказов, не считая тех, которые Вами уже получены <…> посылаю 10 рассказов, которые, по моему мнению, должны войти в первые два тома. Вот названия этих рассказов: 1) „Марья Ивановна“ <…> 3) „На охоте“ <…> 8) „Сон репортера“…» Однако 21 октября 1899 г. в письме Ю. О. Грюнбергу Чехов упомянул «Марью Ивановну» в числе рассказов, «которые не войдут в полное собрание и должны быть разобраны».
Вместе с тем Чехов откликнулся на просьбу редакции журнала «Будильник» дать один из его ранних рассказов для перепечатки в юбилейном сборнике «XX век» (письмо А. С. Лазарева-Грузинского Чехову от 19 января 1899 г. — ГБЛ). 15 ноября 1899 г., когда для Чехова уже был решен вопрос о невключении рассказа «Марья Ивановна» в собрание сочинений, он писал Лазареву-Грузинскому: «Недавно я послал Вл<адимиру> Д<митриевич>у <Левинскому — редактору „Будильника“> рассказ „Марья Ивановна“. Если Маркс разрешит напечатать его в приложении к „Будильнику“ (XX век), то корректуру пришлите». Очевидно, А. Ф. Маркс не дал согласия на печатание в сборнике, так как 12 декабря 1899 г. Лазарев-Грузинский писал Чехову в ответ на неизвестное нам устное или письменное его распоряжение: «Согласно Вашему желанию, „Марья Ивановна“, конечно, в „XX веке“ не появится» (ГБЛ).
Прием умолчания об истинном предмете повествования был довольно распространен в юмористической прессе, где он служил не только созданию эффекта неожиданности в конце, но и нередко для грубой игры на двусмысленностях — см.: Инок (Е. Ф. Кони). Конец венчает дело. — «Стрекоза», 1884, № 3, стр. 8; Субъект. Финтифлюшки. — «Новости дня», 1884, № 100, 13 апреля; Риваль (В. А. Прохоров). Майская ночь. (Дачная идиллия). — «Новости дня», 1884, № 141, 24 мая. Традиционное использование у Чехова этого композиционного приема — в сценке «Дачное удовольствие» (т. III Сочинений); в рассказе «Марья Ивановна» тот же прием сочетается с иным, не только юмористическим заданием.
Стр. 449 (варианты). Даже присяжные, судившие Свиридова, не знали, кто виноват: Свиридов ли, деньги ли, что плохо лежали… — Речь идет о длительном процессе Свиридова, товарища управляющего Обществом взаимного кредита в Киеве, в кассе которого была обнаружена растрата на сумму триста с лишним тысяч («Стрекоза», 1882, № 38, 19 сентября, стр. 2, фельетон «Всякие „злобы дня“»). В. Михневич так охарактеризовал Свиридова: «Свиридов — киевский Тартюф <…> Обкрадывая киевский банк на сотни тысяч, Свиридов украшал храмы, учреждал стипендии, благодетельствовал сирым и убогим и молился… Нашлись среди киевских жюри добряки, которые эти черты жития лицемерного вора признали „смягчающими вину обстоятельствами“. Отсюда тот жестокий кавардак, который произвело свиридовское дело в печати…» (Фельетонный словарь современников <…> В. Михневича. СПб., 1884, стр. 283).
Стр. 450. …на основании 119 статьи, т. е. только по «внутреннему убеждению»… — В статье 119 «Устава уголовного судопроизводства» сказано: «По выслушании сторон и по соображении всех доказательств, имеющихся в деле, мировой судья решает вопрос о вине или невинности подсудимого по внутреннему своему убеждению, основанному на совокупности обстоятельств, обнаруженных при судебном разбирательстве…» («Судебные уставы с разъяснением их по позднейшим решениям кассационных департаментов Правительствующего сената и с приложением уложения о наказаниях», 1880, стр. 96).
…сам Захарьин предсказал близкую кончину… — Г. А. Захарьин (1829–1895), врач-терапевт, профессор Московского университета.
…повержены в скорбь закрытием, например, в Москве детской лечебницы… — О закрытии Московской детской больницы см. в фельетоне «Среди милых москвичей» («Будильник», 1884, № 3, ценз. разр. 21 января); рисунок на обложке номера — на ту же тему.
(обратно)МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК
Впервые — «Осколки», 1884, № 5, 4 февраля (ценз. разр. 3 февраля), стр. 5. Подпись: Человек без селезенки.
Печатается по журнальному тексту.
Сценка написана, вероятно, в первой половине января 1884 г. Весь декабрь 1883 г. Чехов был занят подготовкой к университетским экзаменам и новогодние рассказы отправил Лейкину только 31 декабря. 21 января 1884 г. Лейкин писал Чехову: «Ваших вещиц у меня в наборе всего одна маленькая мелочишка <…> разговор, изложенный в драматич<еской> форме» (ГБЛ). В письме Лейкину от 5 или 6 февраля 1884 г. Чехов сообщал об отзывах московских читателей: «Мой „Молодой человек“ вызывает удивление своею нецензурностью… Удивляются наши цензурные москвичи! Да и трудно не удивляться: у нас вычеркивается „кокарда“, „генерал от медицины“…»
(обратно)КОМИК
Впервые — «Осколки», 1884, № 4, 28 января (ценз. разр. 27 января), стр. 5. Подпись: А. Чехонте.
Включено в первое издание сб. «Пестрые рассказы», СПб., 1886.
Печатается по тексту сборника, стр. 341–343.
Рассказ был написан, по-видимому, 22 января 1884 г. «Если Вы желаете, — писал Лейкин Чехову 21 января, — чтобы в № 4 было что-нибудь помещено Ваше, то доставьте ко вторнику» (ГБЛ). Чехов отвечал Лейкину 22 января: «На сей раз посылаю Вам маленькую ерундишку <…> Знай я ранее, что „Марья Ивановна“ не сгодится, я, быть может, написал бы что-нибудь и подельнее». Из этого письма видно, что Чехов перед 22 января не работал для «Осколков», надеясь на публикацию рассказа «Марья Ивановна» (см. примечания к этому рассказу*).
Отзыв К. Арсеньева о рассказе «Комик» см. в примечаниях к рассказу «Певчие»*.
(обратно)НЕЧИСТЫЕ ТРАГИКИ И ПРОКАЖЕННЫЕ ДРАМАТУРГИ
Впервые — «Будильник», 1884, № 4 (ценз. разр. 28 января), стр. 50–51. Отдел: Домашний театр «Будильника». Подпись: Брат моего брата.
Сохранилась рукописная копия рассказа с пометой: «NB. В полное собрание не войдет. А. Чехов» (ЦГАЛИ).
Печатается по журнальному тексту.
Пародия Чехова связана с премьерой 19 января в Театре М. и А. Л. *** (театр М. В. и А. В. Лентовских), о которой заранее извещали рекламы: «В непродолжительном времени представлена будет новая пьеса К. А. Тарновского: „Чистые и прокаженные“, драма в 5-ти действиях, с прологом; новые декорации» («Новости дня», 1884, № 9, 10 января). В ГЦТМ сохранилась подробная афиша представления: «Чистые и прокаженные» — переделка с немецкого К. А. Тарновского. Оригинальная музыка Маурера.
В газетных рецензиях отмечалась посредственность содержания и языка пьесы, но в то же время говорилось о роскоши оформления спектакля (в частности, о декорации второго действия: «Снеговой обвал, пожар и разрушение») и о мастерстве отдельных актеров, в особенности А. В. Лентовской (роль Стеллы) (там же, № 20, 21 января).
Театральный рецензент «Русских ведомостей» назвал эту мелодраму «томительною и мало естественною». Передав запутанное содержание пьесы, он замечал: «К концу <…> дело разъясняется, и хотя добродетель вполне торжествует, а порок наказывается, пьеса не особенно нравится публике» (1884, № 22, 22 января).
Стр. 319. Мих. Вал. Лентовский, мужчина и антрепренер. — Лентовский прославился как антрепренер. В 1878 г. он организовал в летнем саду «Эрмитаж» театр оперетты; собрал лучшие опереточные силы, разбросанные до того по провинции; в 1882 г., 1 июля, на территории сада открыл «Фантастический театр»; 29 декабря 1882 г. — Новый театр (зимнее помещение театра оперетты); 5 ноября 1882 г. — театр «Скоморох» (1-ый) и в 1885 «Скоморох» (2-ой). Кроме того, он держал антрепризу в Нижнем Новгороде, арендовал в Петербурге загородный сад «Ливадия», дав ему название «Кинь-Грусть».
Тарновский, раздирательный мужчина… — К. А. Тарновский (1826–1892), псевдонимы К. А. Нарский, Берендеев, Евстахий, Райский, Семен. Автор большого числа пьес, переделанных им для театра М. В. Лентовского.
Карл XII, король шведский ~ пожарного. — Действие пьесы происходит в Швеции, во времена Карла XII. Роль короля играл В. Л. Форкатти.
Генерал Эренсверд ~ мастодонта. — По пьесе Тарновского — граф, в руках которого находился документ, оправдывавший Делагарди (см. ниже); комендант Христианштадтской крепости.
Делагарди, обыкновенный мужчина ~ суфлера. — Статс-секретарь, приближенный короля. Он — «прокаженный» (ошибочно заподозрен в измене и заключен в Христианштадтскую крепость).
Стелла, сестра антрепренера. — А. В. Лентовская-Рюбан, опереточная актриса; исполняла роль Стеллы, незаконной дочери Делагарди и Эльзы, жены Эренсверда.
Бурль, мужчина, вывезенный на плечах Свободина. — П. М. Свободин (1850–1892) исполнял роль простачка Бурля. С похвалой о его игре отзывался Чехов в фельетоне «Гамлет на Пушкинской сцене» (1882); позже написал о нем заметку в «Новом времени» (1890, № 4990, 19 января).
Ганзен. — В афишах — И. Гансен (род. 1841), балетмейстер Королевского лондонского и императорских московских театров, сценический постановщик пьесы «Чистые и прокаженные»; исполнял в ней роль немого Акселя.
Календарь Алексея Суворина ~ истребление вселенной… — «Русский календарь на 1884 г. А. Суворина», СПб., 1883. Раздел «Астрономический календарь» включал сообщения о «Затмениях в 1884 г.».
Стр. 320. …повышение цен на аптекарские товары. — Этой злободневной теме Чехов посвятил подпись под рисунком «Аптекарская такса» (1885; см. т. III наст. изд.).
«Путешествие на Луну» ~ «Бродяга» тоже был… — «Путешествие на Луну» (Voyage dans la Lune), фантастическая оперетта А. Ванло, Летерье и А. Мортье. Музыка Оффенбаха. Перевод с франц. А. Я. Фон-Ашеберга. СПб., 1878 (ГЦТМ). В течение января 1884 г. прошла в театре М. и А. Л. *** более двадцати раз. «Бродяга» — «Лесной бродяга» (Les pirates de la Savane), сцены из мексиканской жизни Анисе-Буржуа и Дюгэ. Перевод К. А. Нарского. Музыка Юлия Гербера. 1863. Б-ка С. Ф. Рассохина. Рукопись — в ГЦТМ. Пьеса шла в театре М. и А. Л.*** в январе 1884 г. (ГЦТМ, афиши; «Новости дня», 1884, №№ 1, 7, 12 — 1, 8, 13 января). Отрицательную оценку этих пьес Чеховым см. в «Осколках московской жизни» («Осколки», 1883, № 47, 19 ноября; 1884, № 3, 21 января).
…тысячи пушек, исполненных по рисунку г. Шехтеля… — Ф. О. Шехтель (1859–1926) — художник, друг Н. П. Чехова; принимал участие в оформлении спектаклей театра Лентовских.
Роль злодея дадим Писареву… — М. И. Писарев (1844–1905) — актер, педагог, критик. В 1880–1882 годах играл в Пушкинском театре А. А. Бренко и в театре Корша. В 1883–1884 годах — в провинции, в 1-м Товариществе русских актеров, организованном им совместно с В. Н. Андреевым-Бурлаком. Как актер участвовал в пьесе «Чистые и прокаженные».
…стряпайте по шаблону, как стряпаются Рокамболи и графы Монте-Кристо… — «Воскресший Рокамболь». Кн. 1–6, СПб., 1868, сочинение французского писателя Понсона дю Террайля (Ponson du Terrail, 1829–1871). «Граф Монте-Кристо» — роман А. Дюма-отца (1802–1870). Позже Чехов редактировал «Графа Монте-Кристо» для издания А. С. Суворина, сокращая роман, о чем вспоминал М. П. Чехов (см.: Вокруг Чехова, стр. 184–185).
Стр. 321. Драться уж начал, значит выздоровел! — В афише на 6 января 1884 г. сказано: «Вечером представлено будет „Фрол Скабеев“, для первого выхода по выздоровлении М. В. Лентовского» (ГЦТМ, афиши). 22 января Лентовский и его актеры Леонидов-Гуляев, Ярон и Михайлов участвовали в происшествии, выразившемся «в нарушении общественной тишины и оскорблении полиции». Дело об этом разбиралось у мирового судьи 2 мая; Лентовский был приговорен к аресту на месяц («Новости дня», 1884, № 120, 3 мая). Об избиении Лентовским статиста Михайлова в январе 1883 г. см. «Новости дня», 1883, № 101, 9 октября.
…Вальц глотает шпаги и раскаленные уголья. — К. Ф. Вальц — машинист Большого театра, декоратор; был привлечен Лентовским для устройства феерических представлений. Автор воспоминаний «Шестьдесят пять лет в театре». Л., Academia, 1928. Восхищение мастерством Вальца Чехов выразил в рецензии «Калиостро, великий чародей, в Вене» (1883).
Стр. 322. …убийство Коверлей… — См. примеч. в т. I наст. изд., стр. 580. Премьера пьесы состоялась в театре Лентовского «Скоморох» 14 февраля 1883 г. В Театре М. и А. Л. *** пьеса шла 4 января 1884 г. (ГЦТМ, афиши; «Новости дня», 1884, №№ 2 и 3–3 и 4 января).
(обратно)PERPETUUM MOBILE
Впервые — «Осколки», 1884, № 11, 17 марта (ценз. разр. 16 марта), стр. 3–5, с подзаголовком: (Рассказ). Подпись: А. Чехонте.
Вошло в издание А. Ф. Маркса.
Печатается по тексту: Чехов, т. II, стр. 223–231.
Рассказ написан, вероятно, в январе 1884 г., судя по письму Чехова Лейкину от 12 февраля 1884 г.: «Написал я рассказ. Написал уже давно, но послать Вам не решаюсь. Уж больно велик для „Осколков“. 300–350 строк. Рассказ вышел удачный, юмористический и сатирический. Действующие лица: мировой съезд, врачи… Клубничен отчасти, но не резко. Не посылаю Вам, боясь огорчить Вас длиною. Так как он мне удался, то я его никому не отдам из московских. Спрячу в чемодан. Паче чаяния, ежели понадобится Вам большой рассказ, если будет безматериалье или другая какая казнь египетская, то черкните строчку: я перепишу его начисто и пришлю». Лейкин ответил 19 февраля: «Вы пишете о фельетоне в 300 строк. Если хорош — пришлите. Велю набрать и пусть лежит в запасе» (ГБЛ). Чехов не сразу переписал и прислал рассказ — 1 марта Лейкин повторил свою просьбу (ГБЛ).
Время переработки рассказа для собрания сочинений определяется письмом Чехова Ю. О. Грюнбергу от 21 мая 1899 г., в котором рассказ «Perpetuum mobile» стоит в числе посылаемых для второго тома. Какие-то поправки могли быть внесены и в корректуре, которую Чехов прочел вторично четыре месяца спустя (об этом говорится в его письме Грюнбергу от 28 сентября 1899 г.). При этом текст рассказа был сокращен. Сюжетная линия осталась в основном без изменений, существенной правке подверглись характеристики Гришуткина и Надежды Ивановны. В образе вдовушки Чехов сгладил черты откровенного кокетства, в речи Гришуткина устранил некоторые замечания о ее доступности и бранные слова по адресу доктора и Ежова. В речь Ежова введено выражение «тридцать три моментально», которое употреблял Ал. П. Чехов (см., например, его письмо от 29 марта 1887 г. — Письма А. П. Чехову его брата Александра Чехова. М., 1939, стр. 158). В рассказе изменено время действия: осенью — вместо: зимой. Изменены фамилии следователя и доктора: Гришуткин вместо Гришкин, Свистицкий вместо Свистолюбов.
При рассмотрении издания А. Ф. Маркса в Министерстве народного просвещения 17 ноября 1903 г. рассказ «Perpetuum mobile» был отнесен к числу «непригодных для чтения учащимися в средних учебных заведениях» (Журнал заседаний Ученого комитета Министерства народного просвещения — ЦГИАЛ, ф. 734, оп. 3, ед. хр. 101, л. 1181).
Обозреватель «Одесского листка» особо отметил правдоподобие описания «провинциальных общественных деятелей», «жизненность деталей» рассказа, «на первый взгляд неправдоподобных и карикатурных» (Ив. П. Сама жизнь. — «Одесский листок», 1900, № 256, 4 октября).
При жизни Чехова рассказ был переведен на сербскохорватский и чешский языки.
Стр. 326. Как, бишь, это поется в «Жизни за царя»? — Во втором действии оперы «Иван Сусанин», в сцене бала у начальника польского отряда, женский хор поет: «И на лету Любви денек Срываем здесь Как бы цветок!» (Жизнь за царя. Большая опера в 4-х действиях, с эпилогом. М. И. Глинки. Текст барона Розена. СПб., 1883, стр. 24).
Стр. 328. …читал в «Календаре для врачей»… — Полное название периодического издания: «Календарь для врачей всех ведомств на…год». Специальные разделы в нем составляли списки «Московские врачи» и «Петербургские врачи».
(обратно)МЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ
Впервые — «Русский сатирический листок», 1884, № 4, 2 февраля (ценз. разр. 2 февраля), стр. 7. Подпись: Анче.
Печатается по журнальному тексту.
(обратно)ВАНЬКА
Впервые — «Русский сатирический листок», 1884, № 5, 9 февраля (ценз. разр. 9 февраля), стр. 6–7. Подпись: А. Чехонте.
Сохранилась журнальная вырезка с пометой: «NB. В полное собрание не войдет. А. Чехов» (ЦГАЛИ).
Печатается по журнальному тексту.
(обратно)РЕПЕТИТОР
Впервые — «Осколки», 1884, № 6, 11 февраля (ценз. разр. 10 февраля), стр. 4, с подзаголовком: (Сценка). Подпись: А. Чехонте.
Включено без подзаголовка в сборник «Пестрые рассказы», СПб., 1886.
Вошло в издание А. Ф. Маркса.
Печатается по тексту: Чехов, т. I, стр. 118–121.
Рассказ написан, по-видимому, в последних числах января или первых числах февраля 1884 г. 30 января Чехов писал Лейкину: «Фельетон посылаю заказным. Рассказ же, который сейчас пишу, пошлю с почтовым поездом, если кончу, разумеется… Дам лихачу 40 коп. и, авось, домчусь до вокзала к сроку…» Возможно, что о «Репетиторе» же Чехов сообщил Лейкину 5 или 6 февраля: «Посылаю Вам рассказец».
Готовя рассказ для собрания сочинений, Чехов внес две небольшие вставки, убрал некоторые бранные слова в речи персонажей и сделал отдельные словесные и пунктуационные замены (вместо экспрессивных знаков — нейтральные).
Очевидно, в рассказе отразился личный опыт Чехова, занимавшегося репетиторством в последние гимназические годы в Таганроге и в первые годы жизни в Москве (см. Вокруг Чехова, стр. 71, а также воспоминания А. С. Яковлева — ЛН, т. 68, стр. 598). Зиберов — фамилия гимназического товарища Чехова, о котором он упоминает в письме И. И. Островскому 11 февраля 1893 г.
Рассказ «Репетитор» вызвал резко отрицательный отзыв Ф. Змиева (Ф. И. Булгаков), основанный на неприятии чеховской поэтики. В статье о первом издании сборника «Пестрые рассказы» Ф. И. Булгаков отнес «Репетитора» к таким рассказам («Егерь», «Сонная одурь», «Кухарка женится» и др.), которые «похожи скорее на полубред какой-то или болтовню ради болтовни об ужаснейшем вздоре, нежели на мало-мальски отчетливое изложение осмысленной фабулы» («Новь», 1886, № 17, 1 июля, стр. 62).
При жизни Чехова рассказ был переведен на болгарский, немецкий и словацкий языки.
Стр. 336. …засматривает в истрепанного Кюнера. — «Элементарная грамматика латинского языка» Р. Кюнера (СПб., 1863, русский перевод И. Коссовича) служила в течение десятилетий учебным пособием по латинскому языку для гимназий и прогимназий. По этой грамматике учился латинскому языку и Чехов — см. об этом в воспоминаниях Ал. П. Чехова («А. П. Чехов в воспоминаниях современников», М., 1960, стр. 29).
(обратно)НА ОХОТЕ
Впервые — «Будильник», 1884, № 6 (ценз. разр. 11 февраля), стр. 78–79. Заглавие: Дядюшка и собака. (По случаю выставки собак). Подпись: А-н Ч-те.
Для собрания сочинений Чехов переписал рассказ, сократив его, изменил заглавие. 30 апреля 1899 г. он послал «На охоте» А. Ф. Марксу для набора (см. примечания к рассказу «Марья Ивановна»*). Но в издание А. Ф. Маркса рассказ не вошел. 21 октября 1899 г., в письме Ю. О. Грюнбергу, Чехов назвал рассказ «На охоте» в числе тех, «которые не войдут в полное собрание и должны быть разобраны». По гранкам, хранившимся в Музее им. Чехова при Публичной библиотеке СССР им. Ленина, рассказ был впервые напечатан в издании: А. П. Чехов. Собр. соч. Под общей ред. А. В. Луначарского. Т. II. М.-Л., Госиздат, 1929. (Приложение к журналу «Огонек»). Тот же текст повторен в ПСС, т. II. Нынешнее местонахождение гранок неизвестно.
Печатается по тексту: ПСС, т. II, стр. 349–351.
(обратно)О ЖЕНЩИНЫ, ЖЕНЩИНЫ!..
Впервые — «Новости дня», 1884, № 45, 15 февраля (ценз. разр. 14 февраля), стр. 3. Подпись: Анче.
Печатается по тексту газеты.
Чехов использовал здесь сюжет своего водевиля, известного только по воспоминаниям М. П. Чехова:
«В студенческие годы Антон Павлович написал очень смешной водевиль „Бритый секретарь с пистолетом“, в котором была представлена редакция захудавшего журнала и фигурировала на сцене двуспальная кровать. Но водевиль этот Чехов в театральную цензуру не посылал, и о судьбе его я, к сожалению, ничего не знаю.
Из этой пьесы я помню только следующее стихотворение, в котором целые шесть раз подряд попадается слово „стремглав“. Его приносит в редакцию для напечатания армянский князь и производит целый скандал, когда ему в этом отказывают» (М. П. Чехов. Антон Чехов. Театр, актеры и «Татьяна Репина». Пг., 1924, стр. 8–9). Далее М. П. Чехов приводит полный текст стихотворения «Прости меня, мой ангел белоснежный»; на принадлежность его Н. П. Чехову указал В. А. Брендер в кн.: Собрание писем А. П. Чехова. Т. I. М., 1910 — вклейка, поправка к стр. 202: «Это стихотворение ошибочно приписывают А. П. — его написал брат его, Николай Павлович». Полный текст другого стихотворения — «Последнее прости» («Сквозь дым мечтательной сигары…») — был послан Чеховым Е. И. Юношевой 2 ноября 1883 г.
Стр. 343. Иду искать по свету… — Неточная цитата из заключительного монолога Чацкого в комедии Грибоедова «Горе от ума».
О женщины, женщины! — Чехов употреблял это выражение неоднократно, со ссылкой на Шекспира (см. «Календарь „Будильника“ на 1882 год. — Март», раннюю редакцию рассказа «Кривое зеркало» и рассказ «Светлая личность»). Видимо, это перефразировка известного восклицания Гамлета «О женщины, ничтожество вам имя!» из одноименной шекспировской трагедии (д. I, явл. 2), в переводе Н. А. Полевого (М., 1837). Ср. аналогичное употребление этого выражения в фельетоне «Всякие „злобы дня“»: «„О женщины, женщины!“ — воскликнул некогда Шекспир…» («Стрекоза», 1882, № 48, 28 ноября, стр. 2); повторено в фельетоне под тем же названием («Стрекоза», 1883, № 4, 23 января, стр. 3). Несовпадение этой цитаты с существовавшими русскими переводами «Гамлета» могло объясняться и тем, что сценические редакции трагедии Шекспира часто отличались в ту пору от печатных текстов.
(обратно)НАИВНЫЙ ЛЕШИЙ
Впервые — «Осколки», 1884, № 7, 18 февраля (ценз. разр. 17 февраля), стр. 4–5. Подпись: Человек без селезенки.
Печатается по журнальному тексту.
12 февраля 1884 г. — вероятно, при отправке «Наивного лешего» — Чехов писал Лейкину: «P. S. В сказке я упоминаю про наш Воспитательный дом. В нем ревизия. Происходит нечто скандальное. Подчиненным тошно от начальства — суть в этом». Лейкин остался недоволен рассказом и отвечал Чехову 19 февраля: «Ну-с. — Сказки Вашей про „Лешего“ я положительно не понял, не понял, в чем тут соль, и поместил ее только за недостатком материала» (ГБЛ).
Ревизия, о которой пишет Чехов, была назначена в связи с растратой, обнаруженной в Московском воспитательном доме. Процесс по делу казначея Ф. Мельницкого и его детей тянулся с конца 1882 г. до 1884 г. Чехов писал о нем в «Осколках московской жизни».
Стр. 345. Прочел я однажды в «Вестнике Европы» статью о вреде лесоистребления… — В июньской книжке «Вестника Европы» за 1882 г., в разделе «Внутреннее обозрение» — заметка по поводу нового закона о лесных порубках (стр. 816–817).
…жаль употреблять нашу милую, зеленую березу… — Чехов еще ранее, в сентябре 1883 г., откликнулся в «Осколках московской жизни» на полемику о допустимости в средних учебных заведениях телесных наказаний (см. также примечания в т. 1 Писем, стр. 359).
Старший доктор Соловьев… — А. Н. Соловьев, главный врач Императорского воспитательного дома в Москве («Календарь для врачей всех ведомств на 1884 год», СПб., 1884, стр. 193 и 262).
(обратно)ПРОЩЕНИЕ
Впервые — «Осколки», 1884, № 7, 18 февраля (ценз. разр. 17 февраля), стр. 6. Подпись: Человек без селезенки.
Печатается по журнальному тексту.
По-видимому, к «Прощению» относятся слова Чехова о «мелочишке», посланной вместе с его письмом Лейкину 12 или 13 февраля 1884 г.
Стр. 347. В прощальный день… — На 19-е февраля в 1884 г. приходилось воскресенье — последний день масленицы и канун великого поста; в это воскресенье, по обычаю, просили друг у друга прощенья и прощали сами.
Торжествующую свинью прощаю за то… — Образ восходит к драматической сцене Салтыкова «Торжествующая свинья, или Разговор свиньи с правдою», включенной им в гл. VI цикла «За рубежом».
Березовую кашу… — См. примечание к рассказу «Наивный леший»*.
…они юношей питают и отраду старцам подают… — См. выше примечание к стр. 44*.
Прощаю ~ «Голос» — за то, что он закрылся. — «Голос» — ежедневная политическая и литературная газета, выходила в Петербурге с 1863 г.; издатель-редактор А. А. Краевский. При всей умеренности политических требований газета подвергалась многократным цензурным взысканиям, в 1881 г. была приостановлена на полгода, а в 1884 г. окончательно прекратилась (вышел только один номер).
Прощаю Окрейца за то, что его «Луч»… — См. примечания к «Завещанию старого, 1883-го года» (стр. 537 наст. тома)*.
Прощаю Суворина… — А. С. Суворин (1834–1912) — журналист, издатель газеты «Новое время».
(обратно)СОН РЕПОРТЕРА
Впервые — «Будильник», 1884, № 7 (ценз. разр. 18 февраля), стр. 86–87. Заглавие: Французский бал (Сонная фантазия). Подпись: А. Чехонте.
Чехов заново переписал рассказ для издания А. Ф. Маркса, однако уже в корректуре исключил его из состава собрания сочинений.
Печатается по тексту авторской корректуры (ИРЛИ).
Непосредственным поводом к написанию рассказа послужило устройство в Москве «французского бала», который усиленно рекламировался в газетах. В «Новостях дня» 12, 13 и 16 февраля (№№ 42, 43 и 46) было опубликовано следующее объявление:
«В пятницу, 17-го февраля 1884 года,
Большой праздник в пользу французского благотворительного общества.
Дан будет комитетом этого общества, основанного в Москве в 1829 году, во всех залах Российского благородного собрания.
Большой костюмированный бал-паре.
Часть сбора с бала будет предоставлена в пользу недостаточных студентов Московского университета. Большой оркестр под управлением г. Рябова. Военный оркестр. Залы будут богато убраны цветами, растениями, эмблемами и проч.
Большое аллегри, в состав выигрышей которого войдет большое количество ценных предметов. Главный выигрыш:
Ваза севрского фарфора, дар президента французской республики.
2-й выигрыш — прибор для камина, стоящий 600 р., пожертвованный г. Шопен.
Прохладительные напитки и мороженое будут предлагаться публике бесплатно. В беседках будут продаваться живые цветы, выписанные из Ниццы, а также шампанское».
В рассказе «Сон репортера» обыграны детали этой рекламы — «знатная француженка», выписанная «из Ниццы вместе с цветами», и проч. Рассказ, видимо, был написан сразу же вслед за появлением в газетах извещения о французском бале, т. е. 12–15 февраля 1884 г.[49]
При переработке рассказа для собрания сочинений Чехов сильно сократил его, устранил намеки и упоминания, утратившие к 1899 году злободневность. 30 апреля 1899 г. Чехов послал А. Ф. Марксу «Сон репортера» вместе с другими рассказами для второго тома (см. примечания к рассказу «Марья Ивановна»*). С выправленной Чеховым рукописной копии или журнальной вырезки был набран текст, который вновь был прочитан Чеховым в сентябре 1899 г. «В настоящее время я читаю корректуру второго тома», — писал он А. Ф. Марксу 28 сентября 1899 г. В корректуре Чехов сделал еще несколько поправок чернилами (вычерки и добавление в конце) и карандашом. Карандашная правка не вполне закончена, поэтому она не учтена в основном тексте рассказа, а лишь отражена в вариантах (см. варианты гранок к стр. 349, строки 1 и 12).
Стр. 348. Взял бы он пример ~ столько-то тысяч фунтов стерлингов! — Речь идет об известных путешественниках по Африке Дэвиде Ливингстоне (1813–1884) и Генри-Мортоне Стэнли (наст. имя: Джон Роулендс, 1841–1904). Книга Стэнли «How I found Livingston» переведена на русский язык в 1873 г. Во вступлении автор передает свой разговор с Гордоном Беннетом, издателем газеты «New York Herald», который посылает его в Африку на розыски пропавшего без вести Ливингстона; на вопрос Стэнли о возможных издержках Беннет отвечает: «Хорошо, я скажу вам, что вы должны сделать. Теперь возьмите тысячу фунтов, когда издержите эти деньги, возьмите другую тысячу, когда вы и это израсходуете, возьмите следующую тысячу, когда же и этой тысячи не станет, еще берите тысячу и так далее; но отыщите Ливингстона» (Как я нашел Ливингстона. Ч. 1–2. СПб., 1873, стр. 5–6).
Ты, Джон Буль, едешь отыскивать «Жаннетту». — «Жаннетта» — судно, на котором 8 июля 1879 г. отправился в экспедицию к Северному полюсу лейтенант американского военно-морского флота Дж.-В. де Лонг (1844–1881). 13 июня 1881 г. судно было затерто льдами; в октябре 1881 г. капитан «Жаннетты» де Лонг и часть его экипажа погибли (см. «Во льдах и снегах. Путешествие в Сибирь для поисков экспедиции капитана Делонга. Уильяма Гильдера, корреспондента газеты „Нью-Йорк Геральд“». СПб., 1885). Останки их были обнаружены в конце марта 1882 г. в устье р. Лены и только 15 января 1884 г. доставлены из Якутска в Москву для отправки на родину («Новости дня», 1884, № 15, 16 января; «Будильник», 1884, № 3). В разыскании пропавшей экспедиции принимали участие корреспонденты американских и английских газет — отсюда, очевидно, упоминание о Джоне Буле, герое политической сатиры Д. Арбетнота «История Джона Буля» (1712), чье имя стало нарицательным для англичан.
В первопечатном тексте рассказа (см. варианты, стр. 459) упоминаются журналисты, художники и редакторы: А. Я. Липскеров (1851–1910) — редактор-издатель газеты «Новости дня»; Мясницкий — псевдоним писателя И. И. Барышева (1854–1911); Барон Галкин — псевдоним журналиста и переводчика А. М. Дмитриева (ум. 1886); Л. И. Пальмин (1841–1891) — поэт, сотрудник юмористических журналов; М. Г. Ярон — журналист и переводчик, сотрудник мелкой юмористической прессы; о нем Чехов писал также в «Осколках московской жизни» («Осколки», 1884, № 11, 17 марта); А. М. Герсон (1857–1889) — журналист, сотрудник «Осколков», «Будильника», «Московского листка»; Кичеев — неясно, какой из двух Кичеевых имеется в виду: Николай Петрович (1848–1890), журналист и театральный критик, или Петр Иванович (1845–1902), поэт и театральный критик; Ф. О. Шехтель (1859–1926) — художник, в 1880-х годах сотрудник «Будильника» и «Сверчка», впоследствии академик архитектуры; художник Чехов… — Н. П. Чехов (1858–1889), брат писателя.
(обратно)ПЕВЧИЕ
Впервые — «Осколки», 1884, № 8, 25 февраля (ценз. разр. 24 февраля), стр. 4–5. Подпись: А. Чехонте.
Включено в сборник «Пестрые рассказы», СПб., 1886, и во все последующие издания сборника.
Вошло в издание А. Ф. Маркса.
Печатается по тексту: Чехов, т. III, стр. 147–152.
При подготовке собрания сочинений Чехов внес в текст рассказа отдельные поправки. Корректура третьего тома сочинений посылалась Чехову дважды (письма Ю. О. Грюнберга от 22 июня и 19 сентября 1900 г. — ГБЛ). 9 августа и 24 сентября Чехов сообщал Грюнбергу об отправке третьего тома, прочитанного им.
В рассказе отразились личные впечатления Чехова — см. его письмо от 9 марта 1892 г. И. Л. Леонтьеву (Щеглову), а также воспоминания: Ал. П. Чехов. А. П. Чехов — певчий («Чехов в воспоминаниях современников», М., 1960, стр. 30–38); М. П. Чехов. Антон Чехов и его сюжеты, М., 1923, стр. 6-11; Вокруг Чехова, стр. 58–60.
К. К. Арсеньев, оценивая в статье «Беллетристы последнего времени» книгу «Пестрые рассказы», отделил рассказ «Певчие» от остальных, найдя в нем не столько «элемент анекдотический», сколько «картинку нравов»: «Противоположность между предшествующей суетой и последующим разочарованием производит истинно комическое впечатление, достигаемое без всяких усилий со стороны автора» («Вестник Европы», 1887, № 12, стр. 769). К числу «очень недурных» Арсеньев отнес и рассказ «Комик», где также «источник комизма заключается в контрасте <…> вполне естественном и жизненном» (стр. 769–770).
При жизни Чехова рассказ был переведен на сербскохорватский язык.
Стр. 352. …ви…и…мы… — Певчие тянут первые слова «Херувимской песни» — «Иже херувимы…» (Полное собрание духовно-музыкальных сочинений Дм. Бортнянского. Издание пересмотренное и исправленное П. Чайковским. Песнопения, употребляемые на божественной службе. Отдел 1б. Вып. I. М., Юргенсон, б. г., стр. 33).
Стр. 353. После «отложим попечение»… — Последние слова «Херувимской песни»: «Всякое ныне житейское отложим попечение. Аминь».
…простое «Отче наш» лучше нотного. — Возможно, что под «нотным» «Отче наш» имеется в виду песнопение на музыку Бортнянского (там же, стр. 41–42).
Стр. 354. Очень нужно грахву твое пение! — Слово «грахв» было в употреблении у Е. М. Чехова. 5 мая 1885 г. Ал. П. Чехов писал брату: «Радуюсь, Антоша, что ты заводишь знакомства и живешь на дачах у грахва Киселева (как сказал бы дедушка Егор Мих<айлович>, удивлявшийся при виде косого и плюгавенького графа Платова-родственника, — что он — тоже их грахв)» (Письма А. П. Чехову его брата Александра Чехова. М., 1939, стр. 119).
(обратно)ДВА ПИСЬМА
Впервые — «Осколки», 1884, № 10, 10 марта (ценз. разр. 9 марта), стр. 5. Подпись: С подлинным верно. Человек без селезенки.
Печатается по тексту т. XIX Полного собрания сочинений А. П. Чехова (СПб., изд. т-ва А. Ф. Маркс, 1911). стр. 216–217.
Рассказ был написан, по-видимому, в конце февраля 1884 г., так как 1 марта Лейкин сообщил Чехову: «Получил Ваше письмо с обозрением и статейкой „Два письма“. Статейка „Два письма“ — преплохонькая, хотя я ее и послал в набор за недостатком материала» (ГБЛ).
Для собрания сочинений Чехов сократил текст, во втором письме устранил некоторые искаженные слова и выражения, а также намеренные орфографические погрешности. В прижизненные тома собрания сочинений не вошло; указание Чехова на этот счет неизвестно.
(обратно)ЖАЛОБНАЯ КНИГА
Впервые — «Осколки», 1884, № 10, 10 марта (ценз. разр. 9 марта), стр. 6, с подзаголовком: (Копия). Подпись: А. Чехонте.
Вошло в издание А. Ф. Маркса.
Печатается по тексту: Чехов, т. I, стр. 248–249.
Для собрания сочинений Чехов произвел в тексте сокращение, сделал одну вставку и перенес в конец две записи: «Прошу в жалобной книге ~ а дурак»; были также изменены некоторые фамилии.
По словам М. П. Чехова, в «Жалобной книге» отразились личные жизненные впечатления Чехова: «Я помню, как он со смехом рассказывал о такой книге где-то на станции Донецкой дороги» (В сб.: Памяти А. П. Чехова, М., 1906, стр. 43).
И. А. Бунин писал о широкой популярности «Жалобной книги», о том, что долгое время для «большой публики» Чехов «был только занятный рассказчик, автор „Винта“, „Жалобной книги“» (А. П. Чехов в воспоминаниях современников, М., 1960, стр. 519).
Высоко оценил «Жалобную книгу» А. Басаргин (А. И. Введенский) в статье «Критические заметки. Безобидный юмор» («Московские ведомости», 1900, № 36, 5 февраля). А. Басаргин нашел, что «Жалобная книга» чрезвычайно характерна «для определения особенностей литературно-художественной техники» Чехова, его искусства «имитации»: «Видно, что автор не только внимательно изучал психологию той среды, из которой брал сюжеты для своих рассказов, но усвоял и своеобразный круг представлений своих героев, самый их жаргон».
«Жалобная книга» вызвала спор между читателями о жизненной достоверности написанного Чеховым. В его архиве сохранилось письмо некоего А. В. Ковалева, от 4 февраля 1903 г., который просил ответить: представляет ли собою «Жалобная книга» «полнейший произвол Вашей фантазии» или «значительная часть написанного в Вашей „Жалобной книге“ взято Вами „с натуры“» (ГБЛ). Разумеется, «Жалобная книга» — свободное художественное обобщение, которое нельзя связать с каким-то одним определенным жизненным впечатлением Чехова, хотя в ней, например, и упомянуто имя Воскресенского почтмейстера: «Кто найдет кожаный портсигар, тот пущай отдаст в кассу Андрею Егорычу».
При жизни Чехова рассказ был переведен на болгарский и чешский языки.
(обратно)ЧТЕНИЕ
Впервые — «Осколки», 1884, № 12, 24 марта (ценз. разр. 23 марта), стр. 4–5. Заглавие: Осторожней с огнем! (Рассказ «старого воробья»). Подпись: А. Чехонте.
Вошло в издание А. Ф. Маркса.
Печатается по тексту: Чехов, т. I, стр. 44–48.
Для собрания сочинений Чехов внес в текст рассказа некоторые поправки (см. варианты*).
При жизни Чехова рассказ был переведен на болгарский, сербскохорватский и чешский языки.
(обратно)ЖИЗНЕОПИСАНИЯ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНЫХ СОВРЕМЕННИКОВ
Впервые — «Волна», 1884, № 12 (ценз. разр. 23 марта), стр. 12–13.
Печатается по журнальному тексту.
Принадлежность Чехову «Жизнеописания» установил И. Ф. Масанов: «Эта статья А. П. Чехова была напечатана в журнале „Волна“ (1884, № 12). Разыскана она была мною благодаря указанию, сделанному мне в 1910 г. редактором этого журнала И. И. Клангом» («Чеховский сборник. Найденные статьи и письма», М., 1929, стр. 31).
Как видно из писем И. И. Кланга от 20 и 28 марта 1884 г. (ГБЛ), предполагалось, что Чехов подготовит несколько жизнеописаний современников; однако известна лишь одна публикация в журнале «Волна».
А. И. Иванов был известен в Москве с середины 70-х годов как продавец целебных мазей. Во второй половине 1883 г. рекламировалась его «подседо-копытная мазь», как «весьма полезная для лошадей» («Новости дня», 1883, № 87, 91–25, 29 сентября). 16 февраля 1884 г. в газетах появилось сообщение о суде над Ивановым за продажу «копытной мази своей фабрикации без установленного разрешения». После судебного разбирательства рекламы Иванова продолжали печататься в «Новостях дня». Но в № 8 «Русского сатирического листка» (1 марта 1884 г.) помещена была карикатура на Иванова; изображена банка с мазями, к которой прикреплен рецепт; «нахальства 10 фунтов, невежества 15 фунтов, глупости 1 пуд и шарлатанства 2 п. 15 ф.». В результате возникло новое судебное дело — А. И. Иванова и А. Я. Липскерова, редактора-издателя журнала «Русский сатирический листок» и газеты «Новости дня». Об А. И. Иванове Чехов упоминал в «Завещании старого, 1883-го года» (наст. том, стр. 300) и в «Осколках московской жизни» («Осколки», 1884, № 21).
Стр. 364. …похожи ~ «Сторонние сообщения» г. Николая Базунова, помещаемые в «Новостях дня»… — Эти сообщения многократно появлялись в февральских и мартовских номерах газеты за 1884 год.
Стр. 365. …с появлением на небе кометы 1848 года. — Известны кометы Шезо 1844 г. и Биэлы 1845–1846 годов.
…23-е марта 1849 г. ~ извержение Везувия. — По-видимому, дата вымышлена. В начале января 1884 г. было зафиксировано активное действие вулкана («Новости дня», 1884, № 6, 7 января).
…объявления Гюйо, Иоганна Гоффа и соотечественника нашего Леухина. — Капсюли Гюйо (от простуды) рекламировались, например, в журнале «Будильник», 1883, №№ 2–5. Иоганн Гофф — придворный поставщик экстрактных препаратов (пива, конфет, шоколада). См. его рекламы, например, во «Всемирной иллюстрации», 1880, № 589, 19 апреля, стр. 347. Чехов упоминал о нем в «Календаре „Будильника“ на 1882 год» и в пародии «Летающие острова» (т. I Сочинений, стр. 148, 519, 585), а в фельетоне «Сара Бернар» (1881) писал о нем как о человеке, сделавшем себе имя рекламой. Леухин С. И. — издатель и продавец книжной макулатуры. См. о нем в т. I наст. изд. «Комические рекламы и объявления», стр. 122, 573–574.
Стр. 366. …Неаполитанская Академия наук избрала его в свои почетные члены… — В № 46 «Новостей дня» (1884, 16 февраля) сообщалось, что «поверенный Иванова предъявил судье свидетельство международной (?) медицинской академии, выданное его доверителю для продажи всех без исключения медикаментов, изготовляемых им». В № 55 той же газеты от 26 февраля сказано, что «удостоверение выдано г. Иванову из международной Неаполитанской академии вместе с золотою медалью».
…Варшавская кондитерская… — Находилась в Москве, в конце Тверского бульвара, д. Боргест.
…«Венеция» и «Прага» ~ завсегдатаем… — Ресторан «Венеция» находился в Москве, на Кузнецком мосту. В заметке «Новостей дня» «Прелести ресторана „Венеция“» говорилось о несвежих битках, подаваемых посетителям, и о грубом с ними обращении в этом ресторане (1884, № 165, 17 июня). Гостиница и ресторан «Прага» — в Москве же, у Арбатских ворот.
…изобретенный им «Рафанистроль»… — В «Московских ведомостях», 1884, № 60, 1 марта помещено и затем многократно повторялось, как и в «Новостях дня» объявление о новом средстве Иванова для лечения кожи, разрешенное московским врачебным управлением. Вскоре стало известно, что рафанистроль был изобретен москвичом С. А. Кельцевым и перепродан им Иванову («Новости дня», 1884, № 78, 20 марта).
(обратно)ТРИФОН
Впервые — «Осколки», 1884, № 13, 31 марта (ценз. разр. 30 марта), стр. 5. Подпись: А. Чехонте.
Включено с несколькими поправками в первое издание сб. «Пестрые рассказы».
Сохранилась писарская копия рассказа с пометой: «NB. В полное собрание не войдет. А. Чехов» (ГБЛ).
Печатается по тексту сборника «Пестрые рассказы», СПб., 1886, стр. 152–156.
Эпиграф — строка из стихотворения Лермонтова «Выхожу один я на дорогу».
При жизни Чехова рассказ был переведен на сербскохорватский язык.
(обратно)ПЛОДЫ ДОЛГИХ РАЗМЫШЛЕНИЙ
Впервые — «Осколки», 1884, № 15, 14 апреля (ценз. разр. 13 апреля), стр. 5. Подпись: Человек без селезенки.
Печатается по журнальному тексту.
Очевидно, к этой заметке относятся слова Лейкина в письме Чехову от 11 апреля 1884 г. о полученных «мелочишках» (см. примечания к заметке «Говорить или молчать?»*).
К жанру шуточных афоризмов Чехов обращался неоднократно (см. «Философские определения жизни» и «Мои остроты и изречения»*).
Стр. 371… «aut bene, aut nihil» — Полностью: «De mortuis aut bene, aut nihil» («О мертвых — либо хорошее, либо ничего» — лат.).
…не может обойти ни один адвокат (кроме Лохвицкого, конечно). — Чехов еще ранее, в «Осколках московской жизни», писал об адвокате А. В. Лохвицком (1818–1884): «доктор разных прав и не прав — Лохвицкий» («Осколки», 1883, № 49, 3 декабря). Резко отозвался о беспринципности Лохвицкого и В. В. Билибин в «Дополнении к каталогу музея Лента» («Осколки», 1884, № 16, 21 апреля, стр. 5). Эта известная современникам черта Лохвицкого не была обойдена даже в его некрологе («Всемирная иллюстрация», 1884, № 805, 9 июня, стр. 486).
…рискуешь оскоромиться кукишем с маслом. — Задержки в выходе книжек «Иллюстрированного мира» вызывали постоянные насмешки в юмористической прессе над издателем журнала В. П. Турбой. В тех же «Осколках» «Иллюстрированный мир» был отнесен к числу журналов, «периодически выходящих в свет только при полном затмении солнца или в день рождения издателей» (К. — И. Счастливый и несчастливый. — «Осколки», 1884, № 33, 18 августа, стр. 5).
(обратно)НЕСКОЛЬКО МЫСЛЕЙ О ДУШЕ
Впервые — «Осколки», 1884, № 15, 14 апреля (ценз. разр. 13 апреля), стр. 6. Подпись: Человек без селезенки.
Печатается по журнальному тексту.
Видимо, к этой заметке относятся слова Лейкина в письме Чехову от 11 апреля 1884 г. о полученных «мелочишках» (см. примечания к заметке «Говорить или молчать?»*).
Стр. 372. …я приобрел брюшко и стал торжествующей свиньей. — См. примечания к заметке «Прощение» (стр. 550 наст. тома).
(обратно)ГОВОРИТЬ ИЛИ МОЛЧАТЬ?
Впервые — в журнале «Красный архив», 1925, т. 1 (8), стр. 237–239. (Публикация С. Любимова.)
Печатается по тексту гранок, сохранившихся в деле журнала «Осколки», в бумагах С.-Петербургского цензурного комитета (ЦГИАЛ, ф. 777, оп. 3, д. 97, л. 111). Подпись: Человек без селезенки.
Написано, вероятно, в начале апреля 1884 г. 11 апреля Н. А. Лейкин писал Чехову: «Мелочишки недурны, но боюсь, что одна из них, о Крюгере и Смирнове, пожалуй, не пройдет сквозь горнило цензуры» (ГБЛ). Заметка была набрана, но задержана цензором. 18 апреля она была представлена на рассмотрение С.-Петербургского цензурного комитета с отзывом цензора П. Г. Сватковского, который нашел «невозможным дозволить» статью «Говорить или молчать?», поскольку в ней «изображен правительственный шпион, в синем костюме, в присутствии которого автор советует держать язык за зубами и не болтать лишнего, чтобы не быть арестованным и не настрадаться до истощения своих сил». В «Говорить или молчать?», так же, как и в других четырех статьях, по мнению цензора, «наша внутренняя государственная жизнь представляется в крайне безобразном виде; повсюду шпионство, лицемеры и льстецы, которые душат и губят ум, светлые идеи и либеральные мысли, и за такое усердие к отчизне щедро награждаются, честные же мыслящие люди считаются вольнодумцами». Резолюция С.-Петербургского цензурного комитета: «Признавая, согласно мнению цензора, указанные им статьи не удовлетворяющими условиям подцензурной печати, определено: к напечатанию оные не дозволять» (ЦГИАЛ, ф. 777, оп. 3, д. 97, лл. 109–110). К л. 111 дела о журнале «Осколки» подклеена гранка рассказа «Говорить или молчать?». В тексте подчеркнуто цензорским красным карандашом: «господину в синем костюме», «господин в синем костюме ~ за мной»; на полях отчеркнуто: «Смирнов горько ~ вот что!»
20 апреля 1884 г. Лейкин писал Чехову: «В этот же посыл захерена и Ваша блесточка, очень хорошенькая, „Говорить или молчать?“, корректурку которой при сем провождаю для сохранения на память. Я, кажется, предсказывал Вам, что этот рассказ не пройдет. Так и вышло» (ГБЛ). По этим гранкам, отосланным Лейкиным Чехову, текст «Говорить или молчать?» был опубликован в издании: А. П. Чехов. Собрание сочинений. Т. II. М. — Л., 1929. (Приложение к журналу «Огонек»). Местонахождение их в настоящее время неизвестно. Однако отличия текста, опубликованного в собрании сочинений 1929 г., от текста гранок, сохранившихся в деле журнала «Осколки», настолько незначительны, что не могут быть отнесены за счет авторской правки.
(обратно)ГОРДЫЙ ЧЕЛОВЕК
Впервые — «Московский листок», 1884, № 112, 24 апреля, стр. 3. Подпись: А. Чехов.
Сохранилась газетная вырезка с пометой: «NB. В полное собрание не войдет» (ЦГАЛИ).
Печатается по газетному тексту.
Есть основания думать, что рассказ был подписан не псевдонимом помимо желания Чехова. В письме Лейкину от 25 декабря 1883 г. Чехов высказал ему свою досаду на редактора «Московского листка» Н. И. Пастухова, который дает читателям повод считать Чехова постоянным сотрудником газеты, подписывая рассказы его брата: «А. Чехов». Чехов прибавлял: «Полной фамилией я подписуюсь только в „Природе и охоте“ и раз подписался под большим рассказом в „Альманахе Стрекозы“, готов, пожалуй, подписываться везде, но только не у Пастухова» (т. 1 Писем, стр. 94).
(обратно)АЛЬБОМ
Впервые — «Осколки», 1884, № 18, 5 мая (ценз. разр. 4 мая), стр. 4–5. Подпись: А. Чехонте.
Вошло в издание А. Ф. Маркса.
Печатается по тексту: Чехов, т. I, стр. 29–31.
Рассказ написан, очевидно, в последних числах апреля 1884 г. 3 мая Лейкин писал Чехову: «Письмо Ваше с рассказом „Альбом“ получил. Рассказ идет в № 18» (ГБЛ).
Для собрания сочинений Чехов сильно сократил текст рассказа, сняв пространные характеристики, которые дает чиновникам Жмыхов в семейном кругу. В первой части рассказа были сделаны небольшие вставки в спич Закусина и ответ Жмыхова.
А. Басаргин (А. И. Введенский) отнес рассказ «Альбом», вместе с такими, как «Толстый и тонкий», «Чтение», к числу произведений, где «старые и застарелые <…> грехи» чиновничества — «традиционное низкопоклонство, взяточничество <…> бездушный формализм» — обрисованы «чрезвычайно ярко» (Критические заметки. Безобидный юмор. — «Московские ведомости», 1900, № 36, 5 февраля).
При жизни Чехова рассказ был переведен на болгарский, немецкий, польский, сербскохорватский, чешский, шведский и японский языки.
(обратно) (обратно)Прижизненные переводы на иностранные языки
АЛЬБОМ
Болгарский язык
Албомът. Прев. Яско. — Българска сбирка, X, кн. 2, 1903, 1 февруари
Албум. Прев. К. Т. Митишев. — А. Чехов. Съчинения. Т. I. София, 1904
Албом. Разказ. Прев. Вл. Блясков. — Свят, VI, кн. I, 1904, януари
Албом. — А. Чехов. Разкази — Библиотека, 1904, кн. 3
Немецкий язык
Das Album. — Agramer Zeitung, Zagreb, 75, 1900, br. 247
Польский язык
Album. Tłum. G. W. — Czas, 1901, nr. 24
Album. Tłum. J. Jankowski. — Czechow A. Opowiadania. Wwa, 1904
Сербскохорватский язык
Album. Črtice Antuna Čechova. Prev. M. Mareković. — Vienac, Zagreb, XXXII, 1900
Албум. С рус. Рајко. — Нова Задруга, I, 1901, № 62
Album. — Carigradski glasnik, Carigrad, 8/1902, br. 32
Поклон. — Дневни Лист, XX, 1902, № 244
Album. — Novice gospodarske, obrtniške in narodne, Ljubljana, 60/1902, list 52
Албум. — Србобран, 1902, № 163
Album. Prev. J. Š. Bjelovarac. — Tjednik bjelovarsko-križevački, Bjelovar, 14/1903-1904, br. 14
Чешский язык
Album. Př. R. Vlček. — Narodnie Listy, 1901, nr. 231
Album. — Čechov A. P. Humoresky. Přel. A. Drábek. Praha, Otto, 1904
Шведский язык
Albumet. — Satir och Humor ur Russlands nyare diktning. Hlsgfs., 1900
Японский язык
Сясинтё. Пер. Сэнума Каё. — Син — сёсэцу, 1903, август.
В МОРЕ
Болгарский язык
В морето. Прев. Босяк. — Работническо дело, II, бр. 3, 1904, март
В ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ
Болгарский язык
В пощенското отделение. — Вечерна поща, II, бр. 161, 1901, 1 август
В пощенското отделение. Прев. Д. Георгиев. — А. Чехов. Разкази. София, 1904
След погребението. Прев. К. Т. Митишев. — А. Чехов. Съчинения. Т. I. София, 1904
Немецкий язык
Auf der Post. — Tschechoff A. P. Gesammelte Werke. Übers. v. W. Czumikow u. M. Budimir. Bd. I. Jena, Diederichs, 1901
Сербскохорватский язык
U poštanskom odjelu. Črtice Antuna Čechova. Prev. M. Mareković. — Vienac, Zagreb, XXXII, 1900
На дађи. — Двадесети век, II, 1902, № 323
Финский язык
Postikonttorissa. — Lukutupa, 1903, s. 13-14
Чешский язык
Poštmistrova žena. — Čechov A. P. Vybrane črty humoristické. Přel. B. Prusík. Praha, Hejda a Tuček, 1902
V poštovním oddělení. — Čechov A. P. Humoresky. Přel. A. Drábek. Praha, Otto, 1904
Шведский язык
På postkontoret. — Satir och Humor ur Russlands nyare diktning. Hlsgfs., 1900
В РОЖДЕСТВЕНСКУЮ НОЧЬ
Венгерский язык
Térj vissza. — A Hét, II. 33. sz. 1891. VIII. 16.
Немецкий язык
In der Christnacht. — Tschechow A. Russische Leute. Geschichten aus dem Alltagsleben. Übers.: J. Treumann. Leipzig, Reissner, 1890
In der Christnacht. — Die Gegenwart, 1894, nr. 51
In der Christnacht. — Tschechow A. Die Hexe und andere Novellen. Übers.: T. Kroczek. Halle, O. Hendel, 1904
Сербскохорватский язык
Badnja večer. — Dom i sviet, Zagreb, 12/1899, br. 24
Silvestrovo. — Dom i sviet, Zagreb, XIII, 1900, br. 1, 2
Božično pismo. — Glas naroda, New York, X, 1902, br. 151
Na Silvestrovo. — Obzor, Zagreb, 45/1904, br. 298
Словацкий язык
V svátej noci. Přel. J. Klen. — Narodnie noviny, 1901, č. 126, 127
В ЦИРУЛЬНЕ
Венгерский язык
A borbély. — Ország — Világ, 1900, 39. sz.
Немецкий язык
In der Barbierstube. — Tschechoff A. P. Gesammelte Werke. Übers. v. W. Czumikow u. M. Budimir. Bd. I. Jena, Diederichs, 1901
In der Barbierstube. — Tschechow A. Hatshi!! und andere Geschichten. Übers.: Josephsohn. Berlin, Globus-Verlag, 1903
In der Barbierstube. — Tschechow A. Die Hexe und andere Novellen. Übers.: T. Kroczek. Halle, O. Hendel, 1904
Польский язык
W golarni. Tłum. G. W. — Czas, 1901, nr. 77
U cyrulika. Tłum. J. Jankowski. — Czechow A. Opowiadania. Wwa, 1904
Сербскохорватский язык
У берберници. — Застава, XXXV, 1900, № 267
У берберници. — Београдске Новине, VII, 1901, № 255
Код берберина. — Мали Журнал, VII, 1901, № 192
У берберници. — Србобран, XVIII, 1901, № 253
V brivnici. — Slovenec, Ljubljana, 1902, br. 298
Берберин. — Мали Журнал, X, 1903, № 314, 315
Фризер. — Београдске Новине, X, 1904, № 328
У берберници. — Браник, XX, 1904, № 131, 132
Финский язык
Parturilla. — Vuoksi, 1900, no 104
Parturilla. — Inkeri, 1903, no 49
Чешский язык
V holírně. — Čechov A. P. Sňatek z lásky a jiné humoresky. Přel. V. Unzeitig. Praha, Vilímek, 1903
Шведский язык
I rakstugan. — Satir och Humor ur Russlands nyare diktning. Hlsgfs., 1900
ГЕРОЙ-БАРЫНЯ
Финский язык
Sankari-nainen. — Suom. E. — N. — Uuden Suomett, Juttu-Tupa, 1891
ДОЧЬ АЛЬБИОНА
Венгерский язык
Albion leánya. — Csehov A. Tarka históriák. Ford. Zsatkovics K. Ungvár, Lévai Mór, 1903.
Немецкий язык
Eine Tochter Albions. — Tschechoff A. Gesammelte Werke. Übers.: W. Czumikow. Bd. 2. Leipzig — Jena, Diederichs, 1901
Польский язык
Córa Albionu. Tłum. J. Bissinger. — Czechow A. Zbiór nowel. T. 2. Lwów, 1904
Córa Albionu. Tłum. J. Jankowski. — Czechow A. Opowiadania. Wwa, 1904
Румынский язык
Fiica Albionului. Trad. de S. D. — Lumea Nouă, Buc., I, 1895, iulie 27, p. 2
Fiica Albionului. — Munca literară şi ştiintifică, Piatra Neamţ, I, 1904, p. 293–294
Сербскохорватский язык
Kći Albiona. Prev. A. Harambašić. — Obzor, Zagreb, 1888, br. 229.
Ćerka Albijanova. Prev. J. Perić. — Branik, Novi Sad, XIV, 1898, br. 127
Ђерка Албијонова. — Нови Дневни Лист (вечернее издание), I, 1898, № 50, 51
Kći Albiona. — Zvekan, Zagreb, X, 1899, br. 24
Чешский язык
Dcera Albiona. — Národní Politika, 1901, n. 199
ЖАЛОБНАЯ КНИГА
Болгарский язык
Оплаквателна книга. — Родина, V, кн. 12, 1903, декември
Оплаквателна книга. Прев. К. Т. Митишев. — А. Чехов. Съчинения, т. I. София, 1904
Книгата за оплаквания. Прев. Д. Георгиев. — А. Чехов. Разкази. София, 1904
Сербскохорватский язык
Pritužena knjiga. Prev. M. Mareković. Črtice Antuna Čechova. — Vienac, Zagreb, XXXII, 1900, s. 390-392
Књига за жалбе. — Мали Журнал, XI, 1904, № 26
Чешский язык
Kniha stížností. — Čechov A. P. Rozmarné humoresky. Přel. B. Prusík. Praha, Hejda a Tuček, 1903
Z knih stížností. — Narodnie Listy, 1903, nr. 277
ЗАГАДОЧНАЯ НАТУРА
Болгарский язык
Загадочна натура. Разказ. Прев. Б. Е. — в. — Летописи, I, бр. 22, 1900, 15 септември
Загадъчната натура. Прев. Д. Георгиев. — А. Чехов. Разкази. София, 1904
Необяснима натура. Прев. К. Т. Митишев. — А. Чехов. Съчинения. Т. I. София, 1904
Немецкий язык
Ein räthselhafter Character. — Slavonische Presse, Osijek, 13/1897, br. 295
Eine problematische Natur. — Tschechoff A. P. Gesammelte Werke. Übers. v. W. Czumikow u. M. Budimir. Bd. I. Jena, Diederichs, 1901
Польский язык
Zagadkowa natura. Tłum. G. W. — Czas, 1901, nr. 62
Kobieta zagadkowa. Tłum. J. Jankowski. — Czechow A. Opowiadania. Wwa, 1904
Сербскохорватский язык
Zagonetna narav. Prev. M. Mareković. — Prosvjeta, Zagreb, 3/1895, br. 15
Zagonetna narav. Prel. A. Banković. — Slovenska, Trst, 2/1898, br. 4
Čudna ćud. — Obzor, Zagreb, XL, 1899, br. 154
Čudovita narava. — Slovenski narod, Ljubljana, XXXII, 1899, br. 153
Zagonetna narav. — Zvekan, Zagreb, 11/1900, br. 11
Њена судбина. — Србобран, XVII, 1900, № 113
Проблематична природа. — Београдске Новине, VII, 1901, № 186
Загонетна природа. — Трговински гласник, XIV, 1904, № 271
Чешский язык
Záhadná povaha. — Čechov A. P. Vybrane črty humoristické. Přel. B. Prusík. Praha, Hejda a Tuček, 1902
Podivný človek. — Čechov A. P. Povídky a humoresky. Přel. K. Kysela. Praha, Topič, 1903
Záhadná povaha. — Čechov A. P. Humoresky. Přel. A. Drábek. Praha, Otto, 1904
Финский язык
Salaperäinen luonne. Suom. Santeri Grönberg. — Poimintoja, 1903, s. 97-100
Шведский язык
En gåtfull natur. — Satir och. Humor ur Russlands nyare diktning. Hlsgfs., 1900
ЗЛОЙ МАЛЬЧИК
Болгарский язык
Зло момче. Прев. от рус. Г. — Звезда, I, кн. 6, 1900, юни
Лошо момче. Прев. К. Т. Митишев. — А. Чехов. Съчинения. Т. I. София, 1904
Немецкий язык
Der böse Knabe. — Tschechoff A. P. Gesammelte Werke. Übers. v. W. Czumikow u. M. Budimir. Bd. I. Jena, Diederichs, 1901
Der böse Knabe. — Tschechow A. Hatschi!! und andere Geschichten. Übers.: Josephsohn. Berlin, Globus-Verlag, 1903.
Der böse Knabe. — Tschechow A. Ein Glücklicher und andere Geschichten. Übers.: E. Roth. Berlin, H. Steinitz, 1903
Der böse Knabe. — Tschechow A. Die Hexe und andere Novellen. Übers.: T. Kroczek. Halle, O. Hendel, 1904
Сербскохорватский язык
Љубазни дечко. — Београдске Новине, VI, 1900, № 315
Љубазни дечко. — Застава, XXXV, 1900, № 249
Мио деран. — Србобран, XVII, 1900, № 252
Мали лола. — Наш Календар за 1902, с. 42–43
Досадан дечко. — Нишки заставник, II, 1903, № 66
Dosadan dečko. — Carigradski glasnik, Carigrad, IX, 1903, br. 28
Dosadan dečko. — Ustavna Srbija, Beograd, I, 1903, br. 118
Dosadan dečko. — Veliki orao (kalendar), Novi Sad, 1904, s. 84-85
Чешский язык
Zly hošik. Př. Z. Bielecky. — Narodnie Listy, 1901, nr. 169
Zlý chlapec. — Čechov A. P. Rozmarné humoresky. Přel. B. Prusík. Praha, Hejda a Tuček, 1903
Шведский язык
Förlovningslycka. — Satir och Humor ur Russlands nyare diktning. Hlsgfs., 1900
ИЗ ДНЕВНИКА ПОМОЩНИКА БУХГАЛТЕРА
Болгарский язык
Из дневника на помощник книговодителя. Прев. Д. Георгиев. — А. Чехов. Разкази. София, 1904
Немецкий язык
Aus dem Tagebuch eines Sanguinikers. — Tschechow A. Hatschi!! und andere Geschichten. Übers.: Josephsohn. Berlin, Globus-Verlag, 1903
Aus einem Tagebuch. — Tschechow A. P. Die Hexe und andere Novellen. Übers.: T. Kroczek. Halle, O. Hendel, 1904
Польский язык
Z pamiļtnika pomocnika buchaltera. Tłum. G. W. — Czas, 1901, nr. 108
Сербскохорватский язык
Из дневника једног подкњиговоđе. — Новая искра, 1900, № 7
Из дневника једног сановника. — Застава, XXXVI, 1901, № 136
Из дневника једног подкњиговоđе. — Српска Застава, XIII, 1903, № 23, 24
Чешский язык
Z deníku druhého knihvedoucího. — Čechov A. P. Vybrane cřty humoristické. Přel. B. Prusík. Praha, Hejda a Tuček, 1902
КЛЕВЕТА
Болгарский язык
Клевета. Прев. Ружа Барбар. — Вечерна поща, IV, бр. 563, 1903, 21 януари
Клевета. Прев. С. — Развитие, I, бр. 4, 1903, 20 юни
Клевета. Разказ. Прев. Орфей. — Право дело, VII, кн. I, 1904, януари
Венгерский язык
Pletyka. — Csehov A. Falusi asszonyok. Fordít. Szabó E. Bdp., Lampel R., 1898.
Egy csettintés. — Pesti Napló, 54. 227. sz. 1903.
Немецкий язык
Die Verleumdung. — Tschechoff A. Р. Gesammelte Werke. Übers. v. W. Czumikow u. M. Budimir. Bd. I. Jena, Diederichs, 1901
Ein Klatsch. — Agramer Tagblatt, Zagreb, 18/1903, br. 181
Сербскохорватский язык
Kleveta. Prev. A. Harambašić — Hrvatska, Sušak — Zagreb, V, 1890, br. 182
Клевета. — Застава, XXIX, 1894, № 100
Клевета. — Застава, XXXV, 1900, № 219
Kleveta. — Zvekan, Zagreb, XI, 1900, br. 12
Сплетка. — Србобран, XVII, 1900, № 92
Kleveta. Prev. M. Mareković. — Hrvatska, Sušak — Zagreb, 1901, br. 84
Ogovaranje. Prev. V. Miroslavljević. — Carigradski glasnik, Carigrad, X, 1904, br. 3
Словацкий язык
Klebety. — Slovenský denník, I, 1900, č. 17
Kleveta. — Ľudove noviny, 1903, č. 15
Чешский язык
Klep. — Čechov A. P. Sňatek z lásky a jiné humoresky. Přel. V. Unzeitig. Praha, Vilímek, 1903
Kleveta. — Čechov A. P. Povídky a humoresky. Přel. K. Kysela. Praha, Topič, 1903
О ТОМ, КАК Я В ЗАКОННЫЙ БРАК ВСТУПИЛ
Словацкий язык
Ako ma oženili. — Slovenské noviny, 1901, č. 228-230
ОРДЕН
Болгарский язык
Орден. Разказ. (Превод от международния език «Есперанто»). — Свят, IV, кн. 2, 1901, 15 декември
Орден. Прев. Чудрин. — Антон Чехов. Разкази. — Библиотека, 1904, кн. 1
Венгерский язык
A rendjel. — Fővárosi Lapok. 1901. Fordít. Kóró.
A rendjel. — Csehov A. A parasztok és egyéb elbeszélések. Bdp., Légrády Testvérek, 1901.
A rendjel. — Csechov A. Elbeszélések. Fordít. Barabás A. Bdp., Lampel R., 1903.
A rendjel. — Csehov A. Tarka históriák. Fordít. Zsatkovics K. Ungvár, Lévai Mór, 1903.
A rendjel. — Csehov A. A parasztok és egyéb elbeszélések. 2 kiadás. Bdp., Légrády Testvérek, 1904.
Немецкий язык
Der Orden. — Tschechoff A. P. Gesammelte Werke. Übers. v. W. Czumikow u. M. Budimir. Bd. I. Jena, Diederichs, 1901
Польский язык
Order. — Dziennik Poznański, 1901, nr. 216
Order. Tłum. J. Bissinger. — Czechow A. Zbiór nowel. T. I. Lwów, 1903
Сербскохорватский язык
Орден. — Домовина, II, 1890, № 136 (ошибочно: Алекс. Чехов)
Orden. Prev. A. Harambašić. — Hrvatska, Zagreb, V, 1890, br. 132
Orden. — Zastava, Pešta, Novi Sad, XXV, 1890, br. 109
Орден. — Либерал, VI, 1893, № 73 (ошибочно: Алекс. Чехов)
Орден. — Нови Дневни Лист (вечернее издание), II, 1899, № 53 (ошибочно: Алекс. Чехов)
Red. — Slovenski narod, Maribor — Ljubljana, XXXII, 1899, br. 256
Orden. — Zvekan, Zagreb, 1899, br. 23
Орден. — Србобран, XVII, 1900, № 12
Орден. — Српски Вјесник, IV, 1900, № 35
Sv. Stanislav. — Narodna odbrana, Osijek, 2/1903, br. 258
Орден. — Застава, XXXVIII, 1903, № 79
Финский язык
Kunnian merkki. Suom. E. — N. — Uuden Suomett, Juttu-tupa, 1891
Stanislaikka. — Itä-Karjala, 1899, nr. 70
Чешский язык
Řád. Přel. E. Bílá. — Národní Politika, 1895, č. 164 (príloha)
Řád. — Čechov A. P. Vybrane črty humoristické. Přel. B. Prusík. Praha, Hejda a Tuček, 1902
ОТСТАВНОЙ РАБ
Венгерский язык
A nyugalomba vonult szolga. Fordít. Szabó E. — A Hét, VIII. 19/384. sz. 1897. V. 9.
Közönséges történet. — Csehov A. A parasztok és egyéb elbeszélések. Bdp., Légrády Testvérek, 1901.
Közönséges történet. — Csehov A. A parasztok és egyéb elbeszélések. 2 kiadás. Bdp., Légrády Testvérek, 1904.
Немецкий язык
Ein alter Leporello. — Simplicissimus, II Jahrg., 1898, n. 12
Ein alter Leporello. — Tschechow A. Starker Tobak und andere Novellen. Übers.: W. Czumikow. München, A. Langen, 1898
Ein alter Leporello. — Tschechow A. Starker Tobak und andere Novellen. Übers.: W. Czumikow. 2. Aufl. München, A. Langen, 1901
Сербскохорватский язык
Uvek njen rob. — Carigradski glasnik, Carigrad, 6/1900, br. 32
Увек њен роб. — Србобран, XVII, 1900, № 137
Стари Лепорело. — Београдске Новине, VII, 1901, № 208
Uvek njezin sluga. — Dom i sviet, Zagreb, 16/1903, br. 23
ПЕВЧИЕ
Сербскохорватский язык
Певачки збор. Прев. В. Мир. (Нови Сад). — Бранково коло, 1899, V, бр. 31
PERPETUUM MOBILE
Сербскохорватский язык
Perpetuum mobile. — Osgijek, III, 1904, br. 7, 8
Чешский язык
Perpetuum mobile. — Čechov A. P. Povídky a humoresky. Přel. K. Kysela. Praha, Topič, 1903
Perpetuum mobile. — Čechov A. P. Humoresky. Přel. A. Drábek. Praha, Otto, 1904
ПРИДАНОЕ
Болгарский язык
Чаиз. Прев. К. Т. Митишев. — А. Чехов. Съчинения. Т. I. София, 1904
Итальянский язык
Il corredo. Trad. Behr. — Domenica del Corriere, Milano, 1901, nr. 49, 8. XII
РАДОСТЬ
Болгарский язык
Радост. — Вечерна поща, II, бр. 156, 1901, 24 юли
Радост. — Отечество, I, бр. 20, 1902, 22 май
Радост. Прев. С. Х. Чакъров. — Мода и домакинство, VI, бр. 4, 1903, 15 февруари
Радост. Прев. К. Т. Митишев. — А. Чехов. Съчинения, Т. I. София, 1904
Радост. — Ученическа беседа, IV, кн. 8, 1904, април
Радост. Прев. Г. П. Домусчиев. — Българска сбирка, XI, кн. 2, 1904, 1 февруари
Немецкий язык
Freude. — Agramer Zeitung, Zagreb, 75/1900, br. 223
Польский язык
Uradowany. Tłum. G. W. — Czas, 1901, nr. 86
Chluba. Tłum. J. Jankowski. — Czechow A. Opowiadania. Wwa, 1904
Сербскохорватский язык
Радост. — Застава, XXXVI, 1901, № 206
Radost. — Prev. F. Steržaj Pavletov. — Slovenec, Ljubljana, XXIX, 1901, br. 134
Radost. Prev. Jaklić. — Slovenec, Ljubljana, XXXI, 1903, br. 219
Радост. — Дневни Лист, XXII, 1904, № 104, 105
Радост. С рус. М. К. Николић-Расински. — Јавност, II, 1904, № 89
Радост. С рус. В. Топаловић. — Народни Покрет, I, 1904, № 42 (автор не указан)
Чешский язык
Radost. — Čechov A. P. Vybrané črty humoristické. Přel. B. Prusík. Praha, Hejda a Tuček, 1902
РАЗ В ГОД
Венгерский язык
Egyszer egy évben. — A Hét, III. 9/113. sz. 1892. II. 28.
Egyszer esztendőben. — Fővarosi Lapok, 1893. I. 5.
Egyszer egy évben. — Csehov A. Falusi asszonyok. Fordít. Szabó E. Bdp., Lampel R., 1898.
A Hercegnő nevenapja. — Csehov A. A parasztok és egyéb elbeszélések. Bdp., Légrády Testvérek, 1901.
Egyszer egy esztendőben. — Csehov A. Tarka históriák. Fordit. Zsatkovics K. Ungvár, Lévai Mór, 1903.
A Hercegnő nevenapja. — Csehov A. A parasztok és egyéb elbeszélések. 2 kiadás. Bdp., Légrády Testvérek, 1904.
Немецкий язык
Einmal im Jahr. — Tschechow A. Russische Leute. Geschichten aus dem Alltagsleben. Übers.: J. Treumann. Leipzig, Reissner, 1890
Einmal im Jahr. — Agramer Tagblatt, Zagreb, 12/1897, br. 259
Einmal im Jahr. — Die Gegenwart, 1897, nr. 19
Einmal im Jahr. — Tschechoff A. P. Gesammelte Werke. Übers. v. W. Czumikow u. M. Budimir. Bd. I. Jena, Diederichs, 1901
Einmal im Jahr. — Agramer Tagblatt, Zagreb, XVII, 1902, br. 185
Сербскохорватский язык
Jednom u godini. Prev. A. Harambašić. — Hrvatska, Sušak — Zagreb, V, 1890, br. 131
Једанпут у години. — Застава, XXIX, 1894, № 109
Једанпут у години. — Застава, XXXV, 1900, № 75
Једанпут у години. — Србобран, 1902, № 101
Једно презиме. — Застава, XXXIX, 1904, № 47
Чешский язык
Jednou do roka. Přel. E. Bílá. — Národní Politika, 1895, č. 142
РАЗМАЗНЯ
Румынский язык
Guvernanta. Din rus. de Svil. — Patriotul, Buc., I, 1900, sept. 24
Сербскохорватский язык
Popustljivka. Prev. A. Harambašić. — Vienac, Zagreb, XX, 1888, br. 43
Popustljivka. — Zvekan, Zagreb, X, 1899, br. 22
Попустљива. — Србобран, XVII, 1900, № 183
Словацкий язык
Povoľná. — Slovenské noviny (Horňánskeho), VI, 1891, č. 149.
РАССКАЗ, КОТОРОМУ ТРУДНО ПОДОБРАТЬ НАЗВАНИЕ
Польский язык
Bez tytułu. Tłum. G. W. — Głos Narodu, 1903, nr. 3
РЕПЕТИТОР
Болгарский язык
Частен учител. Прев. С. Чилингиров. — Съзнание, V, бр. 40, 1903, 17 май
Репетитор. Прев. К. Т. Митишев. — А. Чехов. Съчинения. Т. I. София, 1904
Немецкий язык
Der Repetitor. — Tschechoff A. P. Gesammelte Werke. Übers. v. W. Czumikov u. M. Budimir. Bd. I. Jena, Diederichs, 1901
Словацкий язык
Repetítor. — Slovenské Noviny, 1901, č. 215
СЛУЧАЙ ИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Сербскохорватский язык
Slučaj iz sudbene prakse. Prev. A. Harambašić. — Hrvatska, Zagreb, V, 1890, br. 188
СЛУЧАЙ С КЛАССИКОМ
Болгарский язык
Случай с един гимназист. Прев. К. Т. Митишев. — А. Чехов. Съчинения. Т. I. София, 1904
Польский язык
Wypadek z klasykiem. Tłum. J. Jankowski. — Czechow A. Opowiadania. Wwa, 1904
Сербскохорватский язык
Ispit. — Zvekan, Zagreb, XI, 1900, br. 7
Догаћај с класиком. — Трговински Гласник, XIV, 1904, № 271
Чешский язык
Po zkoušce. — Čechov A. P. Vybrané črty humoristické. Přel. B. Prusík. Praha, Hejda a Tuček, 1902
Шведский язык
En förödmjukad klassiker. — Satir och Humor ur Russlands nyare diktning. Hlsfgs., 1900
СМЕРТЬ ЧИНОВНИКА
Болгарский язык
Смъртта на един чиновник. Очерк. — Мода и домакинство, III, бр. 12, 1899, 15 септември
Смъртта на чиновника. Прев. Ив. К. В-ски. — Родина, II, кн. 2–3, 1900, февруари — март
Смъртта на един чиновник. Прев. Н. — Летописи, III, кн. 10, 1902, 15 август
Смъртта на един чиновник. Прев. С. — Развитие, I, бр. 3, 1903, 10 юни
Смъртта на един чиновник. Прев. К. Т. Митишев. — А. Чехов. Съчинения. Т. I. София, 1904
Венгерский язык
Tragikomikum. — A Hét, IX. 42/459. sz. 1898. X. 16.
A hivatalnok halála. — Csehov A. Tarka históriák. Fordít. Zsatkovics K. Ungvár, Lévai Mór, 1903.
Немецкий язык
Der Tod des Beamten. — Agramer Tagblatt, Zagreb, V, 1890, br. 160
Der Tod eines Tschinownik. — Magazin für die Litteratur des Auslandes, 1894, nr. 19
Bureaukratentod. — Die Gegenwart, 1895, nr. 22
Tragikomisch. — Tschechow A. Starker Tobak und andere Novellen. Übers.: W. Czumikow. München, A. Langen, 1898
Tragikomisch. — Tschechow A. Starker Tobak und andere Novellen. Übers.: W. Czumikow. 2. Aufl. München, A. Langen, 1901
Hatschi!! — Tschechow A. Hatschi!! und andere Geschichten. Übers.: Josephsohn. Berlin, Globus-Verlag, 1903
Польский язык
Śmierć urzędnika. — Dziennik Poznański, 1901, nr. 177
Śmierć urzędnika. Tłum. J. Bissinger. — Czechow A. Zbiór nowel. T. I. Lwów, 1903
Zgon urzędnika. Tłum. J. Jankowski. — Czechow A. Opowiadania. Wwa, 1904
Румынский язык
Moartea funcţionarului. Trad. de S. D. — Lumea Nouă, Buc., I, 1895, mai 8
Сербскохорватский язык
Smrt činovnika. Prev. A. Harambašić. — Vienac, Zagreb, XX, 1888, br. 39
Чиновникова смрт. — Застава, XXIX, 1894, № 58
Кинуо. С рус. Борко. — Застава, XXXIV, 1899, № 64 (ошибочно: Чехов Анатолие)
Uradníkova smrt. — Slovenski narod, Maribor — Ljubljana, 32/1899, br. 39
Шта је узрок. — Србобран, XVI, 1899, № 139
Činovnička smrt. Prev. V. Miroslavljević. — Carigradski glasnik, Carigrad, VI, 1900, br. 10
Жалостан свршетак једног званичника. — Застава, XXXVI, 1901, № 233
Smrt činovnika. — Narodna odbrana, Osijek, II, 1903, br. 263
Словацкий язык
Smrť úradňíkova. Poviedka z ruského života. — Slovenské noviny (Horňánskeho), VI, 1891, č. 88
Финский язык
Virkamiehen kuolema. — Kansan Toveri, 1900, s. 78-79
Чешский язык
Smrt úředníka. — Čechov A. P. Rozmarné humoresky. Přel. B. Prusík. Praha, Hejda a Tuček, 1903
СПРАВКА
Болгарский язык
Една справка. Прев. К. Т. Митишев. — А. Чехов. Съчинения. Т. I. София, 1904
Польский язык
Informacja. Tłum. G. W. — Czas, 1901, nr. 54
Сербскохорватский язык
Informacija. — Naprej! Idrija — Ljubljana, I, 1903, br. 9
Словацкий язык
Poptávka. — Narodní Listy, 1903, nr. 78
Чешский язык
Informace. — Čechov A. P. Rozmarné humoresky. Přel. B. Prusík. Praha, Hejda a Tuček, 1903
ТЕМНОЮ НОЧЬЮ
Сербскохорватский язык
Tamnon noćju. Prev. A. Harambašić. — Hrvatska, Zagreb, 5/1890, br. 188
ТОЛСТЫЙ И ТОНКИЙ
Болгарский язык
Дебел и тънък. — Вечерна поща, II, бр. 157, 1901, 26 юли
Тлъст и тънък. Разказ. Прев. Ал. Л — в. — Българска сбирка, X, кн. 5, 1903, 1 май
Дебеличък и тънък. Прев. Б. Редкин. — Знание, I, бр. 12, 1903, 15 април
Венгерский язык
A pufók és a nyurga. — Pesti Napló, 1902. 272 sz.
Немецкий язык
Der Dicke und der Dünne. — Tschechoff A. P. Gesammelte Werke. Übers.: W. Czumikow u. M. Budimir. Bd. I. Jena, Diederichs, 1901
Польский язык
Gruby i cienki. Tłum. G. W. — Czas, 1901, nr. 64
Chudy i tłusty. Tłum. J. Jankowski. — Czechow A. Opowiadania. Wwa, 1904
Сербскохорватский язык
Дебели и танки. — Застава, XXV, 1890, № 109
Debeli i tanki. — Hrvatska, Sušak — Zagreb, V, 1890, br. 133
Debeli i mršavi. Prev. M. Mareković. — Vienac, Zagreb, XXXII, 1900, s. 390-392
Debeli i tanki. — Zvekan, Zagreb, XI, 1900, br. 9
Tolsti in suhi. — Slovenski list, Ljubljana, 8/1903, br. 20
Дебељко и мршавко. — Политика, I, 1904, № 109
Финский язык
Lihava ja laiha. Suom. S. Grönberg. — Poimintoja, 1903, s. 11-14
Чешский язык
Tlustý a hubený. — Čechov A. P. Vybrané črty humoristické. Přel. B. Prusík. Praha, Hejda a Tuček, 1902
Tlustý a tenký. — Čechov A. P. Humoresky. Přel. A. Drábek. Praha, Otto, 1904
ТОРЖЕСТВО ПОБЕДИТЕЛЯ
Польский язык
Tryumf zwyciężcy. (Z opowiadań dymisyonowanego kolegialnego registratora). Tłum. J. Jankowski. — Czechow A. Opowiadania. Wwa, 1904
Словацкий язык
Viťazov triumf. Prel. J. Maro. — Narodni noviny, 1901, č. 150
ТРАГИК
Сербскохорватский язык
Трагичар. С рус. М. О. Глушчевић. — Самоуправа, IV, 1904, № 66
ТРИФОН
Сербскохорватский язык
Trifon. Prev. A. Harambašić. — Hrvatska, Zagreb, 5/1890, br. 183
Trifon. — Zvekan, Zagreb, 11/1900, br. 13
УМНЫЙ ДВОРНИК
Болгарский язык
Умният дворник. Прев. К. Т. Митишев. — А. Чехов. Съчинения. Т. I. София, 1904
Румынский язык
Portarul inteligent. Trad. de D. Goldenbaum. — Adevărul, Buc., XVII, 1904, 7 iulie
Чешский язык
Vzděláný dvorník. — Čechov A. P. Vybrané črty humoristické. Přel. B. Prusík. Praha, Hejda a Tuček, 1902
ЧТЕНИЕ
Болгарский язык
Четене. Прев. К. Т. Митишев. — А. Чехов. Съчинения. Т. I. София, 1904
Четение. Прев. Х. К. — Народен живот, I. кн. 8–9, 1904, януари и февруари
Сербскохорватский язык
Лектира. — Србобран, XVII, 1900, № 148
Čitanje. — Tjednik bjelovarsko-križevački, Bjelovar, XV, 1904–1905, br. 4
Чешский язык
Knihy. — Čechov A. P. Povídky a humoresky. Přel. K. Kysela. Praha, Topič, 1903
ШВЕДСКАЯ СПИЧКА
Датский язык
Den svenske taedenstik. — Tschekhov A. Mit liv og andere fortaellinger. Overs. af W. v. Gerstenberg. København — Kristiania, Christiansen, 1899
Немецкий язык
Das schwedische Zündholz. — Neue Zeit, 1900, s. 573
Das schwedische Zündholz. — Tschechoff A. P. Gesammelte Werke. Übers.: W. Czumikow u. M. Budimir. Bd. I. Jena, Diederichs, 1901
Das schwedische Streichholz. — Tschechoff A. Das schwedische Streichholz und andere Geschichten. Übers.: C. Berger. Berlin. J. Gnadenfeld & Co., 1903
Das schwedische Streichholz. — Tschechow A. Das schwedische Streichholz und andere Geschichten. Übers.: C. Berger. Stuttgart, Franck, 1904
Польский язык
Szwedzka zapałka. Kryminalna opowieść. — Przedświt, 1901, nr. 221-228
Szwedzka zapałka. Kryminalna opowieść. Tłum. J. Bissinger. — Czechow A. Zbiór nowel. T. 2. Lwów, 1904
Румынский язык
Chibritul suedez. — Cehov A. P. Chibritul suedez. Roman trad. din rus. Buc., 1902
Сербскохорватский язык
Švedska šibica. Prev. A. Harambašić. — Prosvjeta, Zagreb, 1/1893, br. 37-40
Чешский язык
Švédská sirka. — Čechov A. P. Sňatek z lásky a jiné humoresky. Přel. V. Unzeitig. Praha, Vilímek, 1903
Švédská sirka. — Čechov A. P. Povídky a humoresky. Přel. K. Kysela. Praha, Topič, 1903
(обратно)Иллюстрации
А.П. Чехов. Москва, 1883 г.
«Двое в одном». Первая страница чернового автографа
«Сказки Мельпомены». Обложка сборника рассказов А. П. Чехова
«Раз в год». Первая страница корректуры для издания Л.Ф. Маркса
«Шведская спичка». Страница чернового автографа
(обратно)Выходные данные
Печатается по решению Редакционно-издательского совета Академии наук СССР
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Н. Ф. БЕЛЬЧИКОВ (главный редактор), Д. Д. БЛАГОЙ, Г. А. БЯЛЫЙ, А. С. МЯСНИКОВ, Л. Д. ОПУЛЬСКАЯ (зам. главного редактора), А. И. РЕВЯКИН, М. Б. ХРАПЧЕНКО
Текст подготовили и примечания составили Л. М. Долотова, Л. Д. Опульская, А. П. Чудаков
Редактор второго тома А. С. Мясников
Редактор издательства А. И. Корчагин
Оформление художника И. С. Клейнарда
Художественный редактор С. А. Литвак
Технические редакторы Т. В. Полякова, Р. М. Денисова
Корректоры Е. Н. Белоусова и Ф. Г. Сурова
Сдано в набор 26/IX 1974 г.
Подписано к печати 6/III 1975 г.
Формат 84×108 1/32. Бумага № 1.
Усл. печ. л. 31,9. Уч. — изд. л. 28,7.
Тираж 300 000 экз.
Изд. № 2206. Тип. зак. № 1853.
Цена 2 р. 06 к.
Издательство «Наука», 103717 ГСП Москва, К-62, Подсосенский пер., 21.
Ордена Трудового Красного Знамени Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
Москва, М-54, Валовая, 28
(обратно)Примечания
1
В переводе сие значит: «О, лучше убей меня, но выйди! Коли не выйдешь, кровь моя брызнет в твое окно! умираю!» Примеч. переводчика.
(обратно)2
«она» (франц. objet).
(обратно)3
Так проходит мирская слава! (лат.)
(обратно)4
дорогая (франц.).
(обратно)5
«Да погибнет!» (лат.).
(обратно)6
братство (франц. fraternité).
(обратно)7
вы понимаете (франц.).
(обратно)8
Вы понимаете? (франц.).
(обратно)9
модных нарядов (франц.).
(обратно)10
мамочка (нем. Mutterchen).
(обратно)11
дитя мое (франц.).
(обратно)12
мой ангел (франц.).
(обратно)13
дорогая (франц.).
(обратно)14
журфикс (франц.).
(обратно)15
«она» (франц. objet).
(обратно)16
ради хлеба! (франц. pour manger).
(обратно)17
Тетушка (франц.).
(обратно)18
«прелестная» (франц.).
(обратно)19
Где мой галстук, который прислал мне отец из Курска? (франц.).
(обратно)20
Ах, разве, Мария… (франц.).
(обратно)21
У нас же человек, очень мало нам знакомый… (франц.).
(обратно)22
Очень рада снова видеть вас. (франц.).
(обратно)23
Я прошу вас (франц. Je vous prie).
(обратно)24
враг людей и друг дьявола и женщин (лат.).
(обратно)25
нет сомнения (лат.).
(обратно)26
Пришел, увидел, победил! (лат.).
(обратно)27
Глупой улице (нем.).
(обратно)28
Ослиной улице (нем.).
(обратно)29
Tres faciunt consilium (лат.) — трое составляют совет.
(обратно)30
я вас прошу, начинайте, дорогуша! (искаж. франц. — je vous prie allez, ma chère).
(обратно)31
какой (франц.).
(обратно)32
Я хотел было поставить: «Пролог» но редакция говорит, что тут чем невероятнее, тем лучше. Как им угодно! Прим. наборщ.
(обратно)33
мой сын (лат.).
(обратно)34
богиня (лат.).
(обратно)35
моя дорогая (франц.).
(обратно)36
Фу! (франц. Fi donc!)
(обратно)37
до крайних пределов (лат.)
(обратно)38
Здесь и в дальнейшем все цитаты из писем Чехова приводятся по текстам настоящего издания (серия «Письма»).
(обратно)39
Происхождение этого псевдонима связано с тем, что в тех же юмористических журналах печатался старший брат Чехова — Александр Павлович.
(обратно)40
Не вошли даже «Толстый и тонкий», «Загадочная натура», «Репетитор», впоследствии включенные в издание А. Ф. Маркса.
(обратно)41
Короткая сочувственная рецензия В. В. Билибина появилась также в журнале «Осколки», 1886, № 21, 24 мая.
(обратно)42
Отзыв Чехова об этой статье см. в письме к Н. А. Лейкину от 24 июня 1886 г.
(обратно)43
Библиографические данные о прижизненных переводах на иностранные языки — на стр. 560–577.
(обратно)44
Ниже в случаях, где говорится о пометах Чехова на сохранившихся вырезках с текстами его произведений, авторские указания о месте их публикации не приводятся, поскольку те же указания — применительно к источникам, из которых сделаны вырезки, — даны каждый раз в самом начале текстологической части примечаний.
(обратно)45
Впервые предположение о том, что сначала рассказ назывался иначе, сделал М. П. Кленский. См. сб.: «А. П. Чехов. Затерянные произведения. Неизданные письма. Воспоминания. Библиография». Л., 1925, стр. 272. Позднее догадку о том, что «До 29-го июня» и «Он понял!» один и тот же рассказ, высказала Ф. Шушковская в заметке «Потерянный рассказ Чехова». — «Русская литература», 1960, № 1, стр. 196.
(обратно)46
Рассказ был оплачен из расчета 6 коп. за строку.
(обратно)47
Письмо Чехова, на которое отвечал Н. Путята, а также предшествующее письмо, в котором Чехов просил «не смущаться сальностью середины рассказа», до нас не дошли.
(обратно)48
Чехова вообще нередко в эти годы сближали с Мопассаном — Пл. Краснов, Д. Н. Овсянико-Куликовский, автор критического этюда о Чехове «Трагедия чувства» (СПб., 1900) И. И. П-ский и др.
(обратно)49
Отзыв Чехова о французском бале в «Осколках московской жизни» не имеет отношения к событию, описанному в «Сне репортера», хотя они и ставились в связь (ПССП, т. III, стр. 584). Заметка в «Осколках московской жизни» появилась 7 января 1884 г., т. е. почти за полтора месяца до того французского бала, который описан в рассказе: в ней идет речь о новогодних празднествах.
(обратно)

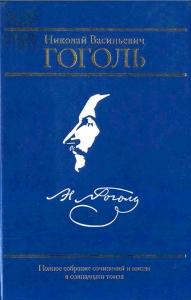

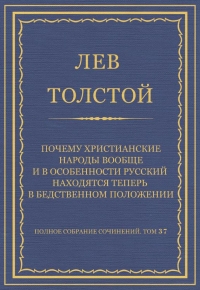
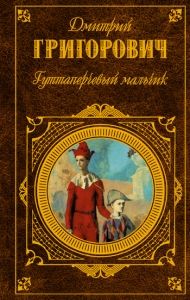
Комментарии к книге «Том 2. Рассказы, юморески 1883-1884», Антон Павлович Чехов
Всего 0 комментариев