Станкевич. Возвращение
СТАНКЕВИЧ
I
Он сидел, привалясь к печке, ощущая, как постепенно наливается теплом окоченевшее от холода тело.
Воздух в комнатке был сырой и спертый. Офицеры дремали — кто лежа на разостланной на полу шинели, кто сидя у стены, подвернув под себя ноги. Над его головой сушились на веревке портянки. Коптила керосиновая лампа, почти не давая света. Стена напротив была обклеена вырезанными из газеты фотографиями — какой-то праздник на железной дороге. В углу стоял наполовину наполненный водой чугунный котел, в котором плавали окурки.
Временами во сне, а может, просто в дреме перед ним маячила фигурка миниатюрного божка на такой же миниатюрной подставке. Фигурка источала приятный экзотический запах. Знакомая, вот только не вспомнить, где он ее видел. Он не мог этого вспомнить ни во сне, ни наяву, и потому сон был столь мучительным. Фигурка и связанные с ней воспоминания, давние-давние и такие смутные… На этот мираж — сон и действительность — накладывалась мелодия фортепьяно. Сперва модерато, потом быстрая, уже бурная, переходящая в радостное скерцо, которое оканчивалось продолжительным пассажем. Минута тишины, и вновь те же тихие и неторопливые звуки, спокойные, гармоничные, но не печальные, совсем напротив — обещающие скорое и веселое завершение. Добродушная физиономия божка была, как и музыка, словно заткана в кокон — липкий, таящий угрозу и бессилие. Редкая, податливая на ощупь, но готовая поглотить паутина… Фигурка была вырезана из твердого коричневатого дерева, а звуки фортепьяно пробивались сквозь подрагивающий от зноя воздух. Знакомые звуки, все более быстрые, веселые, плясовые, и рядом что-то еще, несочетаемое с изящной музыкой и внушающим доверие божком. Его ручки, карикатурно короткие, были прижаты к полной, почти женской груди. Божок вместе с подставкой, на которой он сидел, умещался в кулаке.
Дверь скрипнула, и вошел молодой человек, рослый и плечистый, в коротком полушубке и забрызганных грязью кавалерийских сапогах. Запавшими, в красных прожилках глазами он, щурясь, обвел комнату. Подошел к Станкевичу и, склонившись над ним, проговорил вполголоса, чтоб не будить спящих:
— Тебя зовет князь.
— Что стряслось? — спросил Станкевич, лениво поднимая голову.
Он приподнялся: чтоб стряхнуть с себя сон, требовалось время. После семидесятичасового марша — в дождь, в грязь, на пронизывающем ветру — немолодое тело взбунтовалось против того насилия, какое над ним учиняли за последние несколько месяцев.
— Окостенел так, что дальше некуда, — проворчал он. Натянул сапоги, с усилием встал, подвернув полы шинели, шагнул в ноябрьскую непогодь.
Пересек утопающую в грязи улицу и вошел в темный дом начальника станции. Внутри стоял холод и пахло дешевым табаком. У большого, заваленного картами стола сидел майор артиллерии. В стороне, заложив руки за спину и глядя в окно, стоял кряжистый мужчина.
— Подойдите, полковник, — сказал он, не отрывая от окна взгляда.
Майор отодвинулся от стола, видимо желая уступить место. Станкевич обратил внимание на цветы на широких подоконниках обоих окон. Они были пышные и свежие, значит, до последнего времени кто-то за ними ухаживал. Горшки обернуты красной бумагой и перевязаны лентами того же цвета.
— Шкуро опять отступил. — В холодной, зябкой пустоте комнаты, освещенной несколькими свечами, слова прозвучали резко, с осуждением.
Князь отвернулся от окна, медленно подошел к столу и положил свою широкую сильную руку на карту. Его круглая, стриженная ежиком голова огромной тенью покачивалась на противоположной стене.
— Хутора Арнейский, Глинник и Лепетиха — пустые. Там ни красных, ни наших. — Голос у князя был хриплый, а тон, которым это было сказано, давал основания думать, что он предпочел бы не разговаривать вовсе. Он ткнул коротким пальцем в черные точки на карте: — Эти населенные пункты имеют для нас огромное значение. Как только подтянется Измайлов, мы установим там артиллерию и будем держать под обстрелом реку, хотя бы на этом участке. Несколькими верстами ниже Лепетихи находится единственная в этой местности переправа через Днепр. Так или не так, Леднев?
— Так точно, ваше превосходительство, — ответил майор, закуривая.
Князь продолжал:
— У нас есть данные, что Махно окончательно порвал с красными, но в Гуляй Поле уже не вернется. На сегодняшний день у него в войсках полный разброд, и нет данных, что в ближайшее время что-то изменится. Он неопасен, однако хутора ему нужны. Там провиант и лошади. По той же причине нужны они, разумеется, и красным. — Генерал перешел на другую сторону стола, отпил чаю из металлической кружки. Сказал с тихим раздражением, постукивая пальцем по карте: — Короче, необходимо их занять, пока там не расквартировались батька или большевики. Вы возьмете, полковник, столько людей, сколько у вас есть готовых в дорогу лошадей. Дам вам несколько пулеметов и два легких орудия; этого мало, но больше дать не могу. Займете Арнейский и Глинник, они рядом. Распоряжения на этот счет уже сделаны, детали оговорите с Лором. Выступать сегодня же ночью. — Князь поднял голову, у него было широкое лицо и раскосые татарские глаза. Он заставил себя улыбнуться и, притронувшись пальцами к плечу Станкевича, добавил: — Вы устали, я знаю, последние недели у вас были нелегкие. Догадываюсь, как тяжело будет сегодня, но выбора у нас нет.
Станкевич оперся о стол и несколько раз кивнул. Плечо ноет, рана хоть и неопасная, но отравляющая жизнь.
— Мне надо, чтоб там был человек крутой, но в то же время опытный и с чувством ответственности. Старайтесь избегать конфликтов с крестьянами, без пощады пресекайте всякие эксцессы со стороны наших людей.
— Понимаю, — ответил Станкевич и, выпрямляясь, спросил: — Когда вы ждете Измайлова, ваше превосходительство?
— Бог его знает, — развел руками князь. — Никакой связи у меня с ним нет. Утонул в грязи, погода для артиллерии неподходящая.
— Через два дня от Дроздовского прибудет бронепоезд с тремя батальонами, — заметил майор, гася папиросу в пустой консервной банке.
Князь вновь подался к окну и добавил, заложив руки за спину:
— Если пробьются, я пришлю вам один из этих батальонов. Они прекрасно вооружены. К тому же хорошие солдаты.
— Это все? — спросил Станкевич.
— Да! — ответил князь и, не поворачивая головы, по-прежнему всматриваясь в ночь, добавил: — Постарайтесь продержаться там хоть несколько дней.
До Арнейского и Новоспасовки было около тридцати верст. Дорога тяжелая, особенно для подвод, вязнувших в размокшей степи. Лошади были неплохие, но подзапущенные. Людей выбрал Гришка Абрамов, сын каспийского миллионера, известного своими аферами и финансовыми скандалами. Были это в основном курсанты офицерских школ Одессы и Екатеринодара, завербованные еще Корниловым, отважные и беспощадные юнкера, гражданская война превратила их в хороших солдат и не ведающих жалости людей. Те, кому суждено было погибнуть, погибли, кто намеревался дезертировать — дезертировал, остались самые закаленные, самые отчаянные, которым светила еще звезда удачи. Возвращаться им было некуда. Родители либо расстреляны, либо поумирали, либо сидели по тюрьмам. Их сестер, невест и жен, всех этих Наталий, Раис и Любаш, хорошеньких эмансипированных девушек, сентиментальных до невозможности, разметало во все стороны света. Ураган, который пронесся по стране в течение этих двух страшных лет, смел с лица земли все, чему они радовались и чем жили. Провалились в тартарары малые и большие усадьбы, теплые, уютные, пахнущие вареньем, яблоками и нафталином. Неожиданно, в считанные дни, исчезли рояли, на которых они с таким усердием разучивали бесчисленные этюды под суровой опекой гувернанток и учительниц. Упорхнули книги со стихами Бунина, Северянина и Блока, восхищавшие утонченных пансионерок. Околели с пронзительным визгом все их любимые Рексы, Пайты, Азорки и Луны. Изысканная мебель, хранившая на политуре блеклое отражение предков, переходившая из поколения в поколение, обратилась в пепел и дым и тоже улетела вместе с диким, враждебным ветром. Что со всем этим случилось? Как, почему, зачем? Они скитались по просторам страны с неразлучным карабином за спиной, с выражением безграничного удивления в широко, по-детски раскрытых глазах и всюду натыкались на одни лишь черепки, из которых ничего уже не склеишь. В восемнадцатом их мир перестал существовать. Некуда было возвращаться. Им не светила надежда, ибо не было веры в возрождение. Дисциплинированные и отважные в бою, во всем остальном они были грубиянами и хамьем. Большинство затянула офицерская рутина, нигилизм, бравада, презрение к чужой и собственной жизни, цинизм и сентиментальность дурного толка. Ширма, скрывавшая растерянность и беспомощность, стала для большинства как бы второй натурой.
Такими, во всяком случае, их видел Станкевич. Его это не огорчало и не радовало. Ему все было безразлично, так же как безразлично было уже не первый год многое другое.
До Арнейского добрались в полдень. Оказалось, что это большое, живописно расположенное в излучине Днепра село. Земля тут была урожайная, мужики в основном зажиточные. До Глинника — полторы версты. Большевики придут, скорее всего, с севера, молодцы батьки — с любой стороны. Станкевич послал в Глинник всего сорок человек, полагая, что красные, решась на атаку, ударят прежде всего на Арнейский. Укрепили четыре хаты, по две с каждого конца. Со стороны степи использовали естественный земляной вал длиной метров в сорок, на котором установили два пулемета, хорошенько их замаскировав и сделав нечто вроде импровизированных землянок. Одну из пушек втащили в школу. Людей разместили по хатам, примерно в каждой второй — юнкера. Приготовили мешки с песком — забаррикадировать окна. Лошадей и подводы Станкевич велел держать наготове, чтоб в любой момент можно было отойти за каких-нибудь пятнадцать минут. Посты ввиду крайнего утомления распорядился менять каждые два часа. Отдав все приказы и проследив за исполнением, что отняло время до позднего вечера, Станкевич, скинув лишь шинель и сапоги, повалился на широкую кровать, застланную голубым покрывалом. В соседней комнате расположился Абрамов. Хозяева переселились кто на кухню, кто в амбар. В десять дородная хохлушка подала им борщ с копченой грудинкой и бутыль самогону. Позже, когда они уже беседовали, попивая чаек и покуривая, в хату вошел капитан с седыми висками (он служил во взводе у Станкевича еще в ту пору, когда они воевали на Кубани) и доложил о трудностях с овсом. Мужики продают только сено. Этак лошадь не накормишь. Жалуются на конников Щуся, который неделю назад бесчинствовал в этих краях, забрав все подчистую. Щусь, рассорившись с Махно, говорили они, превратился в настоящего бандита, грабит без разбору. Станкевич вызвал поручика Кабаева, известного ловчилу, прошедшего в свое время неплохую школу у кого-то из казачьих атаманов, и поручил ему произвести вечером осторожный, но внезапный обыск — перетрясти все: подполья, чердаки, каждый хлев и свинарник, — и добыть овес хоть из-под земли, а за укрывательство — двадцать пять шомполов по голой спине. После этого несколько дней на хуторе царило спокойствие. Кто не стоял на часах, тот отсыпался. Играли в карты — на патроны, на папиросы, на обесцененные керенки. Чинили обмундирование и сапоги, чистили оружие. О большевиках ни слуху ни духу. Один из мужиков рассказал, что ночью в нескольких верстах от хутора прошла большая банда, человек с тысячу. Станкевич основательно допросил мужика, но, кроме того, что банда, хоть и пешая, гнала перед собой с сотню лошадей, так ни о чем и не дознался. Но понял: оба хутора — бандитские и молодежь из них уходит как в армию Махно, так и в грабительские шайки доморощенных атаманов. На четвертый день вечером, вернувшись из Лепетихи, где он вместе с Абрамовым и еще двумя-тремя офицерами осмотрел переправу через Днепр, выяснив попутно, что переправа — это всего-навсего прохудившийся паром, способный в лучшем случае перевезти в сутки полдивизии, оба зашли в хату, в которой были на постое кадеты. Резались в винт. Учтивость преобладала над азартом, и тон задавал высокий тощий брюнет с большими влажными глазами уроженца южной России. То и дело раскуривая гаснувшую трубку, он рассказывал анекдоты, над которыми сам же и хохотал. Станкевич видел его когда-то в окружении генерала Боровского и намеревался было спросить, не состоял ли он, случаем, у того в адъютантах, как вдруг его внимание привлек Арнсхольт, прибалтийский немец, очутившийся неведомо как на Украине в девятнадцатом году. Студент-юрист из Юрьева. Всей семье вместе с отцом, главой адвокатской конторы, посчастливилось бежать из Петрограда в Финляндию. У молодого человека было несимпатичное бледное и длинное лицо северного немца, в водянистых глазах сквозило порой безумие. Он не обращал внимания на игроков. Сидел на кровати, привалившись широкой спиной к стене, и непрестанно дергал браслет на запястье. Он был так погружен в себя, что даже не заметил появления командира.
— С вами что-то случилось? — спросил Станкевич.
Арнсхольт посмотрел отсутствующим взглядом, затем сжал виски, словно намереваясь втиснуть пальцы в узкий череп, и замер в неподвижности. После чего встал и сказал:
— Все в порядке, полковник, кабы не то, что скука, что хочется напиться, что хочется женщины, что хочется скакать куда глаза глядят, кабы не такая усталость, что хочется послать все к чертовой бабушке, кабы не это, все в порядке, полковник.
Один из кадетов рассмеялся и, глянув на немчика поверх карт, заметил:
— Ну, Ральфа опять понесло. Нынче, если не упьется вдрызг, ночью будет опасен. Помните, что он сотворил с анархистами в Гомеле?
Молодые люди расхохотались.
— Если сегодня упьется, его либо разжалуют, либо расстреляют, — спокойно отозвался Станкевич.
— Это такая метафора или гипербола, правда, полковник? — осведомился один из кадетов.
— Нет, это действительность, — сухо пояснил Станкевич.
— Действительность… — фыркнул кадет. — А мне все кажется, что разговор о действительности — бессмыслица. Два года, да, ровно два года мы не имеем дела с действительностью. Все происходящее иррационально, и лишь принцип иррациональности позволил нам еще продержаться. И потому, повторяю, потому, что бы ни сделал Арнсхольт…
Красавец брюнет хлопнул кадета по спине, воскликнув:
— Брось, Левка! Карты к орденам. Лисевский запускает зенки…
— Вы отлично представляете себе, полковник, — не отступался кадет, — всякое рациональное действие с нашей стороны в нынешней обстановке…
Станкевич оборвал его:
— Только благодаря разумному или, если угодно, рациональному действию армия может еще существовать и побеждать. Командование, слава Богу, придерживается иных взглядов, нежели вы. И вообще прекратите! Разговор не имеет смысла. Беспокоит меня только Арнсхольт, вот и все.
— А мне кажется, полковник, — все еще не сдавался кадет, — что бы он ни сделал…
Станкевич подошел вплотную и проговорил с расстановкой:
— Не люблю таких разговорчиков. Но раз вы столь упрямы, то извольте заткнуться. Это приказ.
Юноша покраснел и встал, неловко опрокинув стул.
— Слушаюсь, — пробормотал он.
Станкевич улыбнулся, порывистым движением пригладил волосы и вышел из хаты.
Уже поздним вечером, когда он, обойдя посты, возвращался на ночлег, перед ним замаячила на дороге приземистая фигура мужика, катящего перед собой колесо. Грязи на дороге было по щиколотку, и большое, с массивным металлическим обручем колесо вязло по ступицу в вязкой жиже. Станкевич нагнал мужика и метров, наверное, через десять оглянулся. Собственно, он и сам не понимал, почему оглянулся. Мужик с колесом от фуры на деревенской улице — зрелище будничное, не возбуждающее любопытства, тем не менее он оглянулся — из мрака блеснули полные ненависти глаза. Он быстро повернул голову и толкнул дверь своей хаты. Прошедший мимо крестьянин растворился в темноте. И вдруг Станкевичу вспомнилась деревянная фигурка мучившего его в сновидении божка, и хотя мужик с колесом ничем не напоминал пузатую безмятежную фигурку, он и этот божок как-то наложились внезапно друг на друга. Сопоставление поразительное и непостижимое.
Хата, которую он отыскал, содержалась лучше других, выделяясь даже в этом зажиточном хуторе опрятностью и достатком. Строение обширное, добротное, в отличие от прочих крытое железом. Пахло свежевыпеченным хлебом. Большой стол с вышитой льняной скатертью стоял вдоль стены, отделенный от нее длинной лавкой. Старик сидел у печи и подбрасывал в огонь коротко нарубленные веточки. Станкевич стал над ним и спросил:
— Ты меня узнаешь?
Старик пожал плечами и поднял голову. Лицо загорелое, окаймлено аккуратно подстриженной бородой, пегой от седины. Глаза, меняющие цвет в зависимости от освещения, с черными крапинками в радужной оболочке, таили в себе, несмотря на странное равнодушие, хищность.
— Сказывали, вы командуете сотней, что вошла в хутор.
В хате царил мирный полумрак. Свет шел лишь от печки да от лампады перед иконостасом. Тепло и уютно.
— А я запомнил тебя на всю жизнь, — заметил Станкевич. — Узнал сразу. — Не дождавшись ответа, он продолжал: — Когда обогнал тебя там на дороге, что-то заставило меня обернуться, и сразу узнал по глазам, хоть много воды утекло с той поры, как я разобрался, что к чему. — Он глянул в тлеющий жар и, присев, продолжал: — Тогда, помнишь, лет двадцать тому назад, я все раздумывал, понимаешь ли ты, чего мне надо, но был не уверен, не уверен и сейчас. Ты бестия, но примитивная бестия. Однако так уж повелось на свете: есть вина и есть наказание. Счет полагается оплатить.
Старик заморгал, принялся шарить в бездонных карманах шаровар. Станкевич уставился на огонь в печке. И про себя думал: есть, значит, невидимая нить, которая тянется от человека к человеку и связывает порой судьбы совсем отдаленные и разные. Если эти судьбы находятся в противостоянии и существуют лишь за счет взаимной энергии, они будут стремиться к сближению, пусть даже в самых невероятных условиях, пока не наступит обоюдное уничтожение.
Он перевел взгляд на крестьянина, а тот неуверенно улыбнулся и сказал:
— А вы изменились, ваше благородие, постарели.
— Зато ты держишься молодцом. Сколько тебе?
— Да уж годков семьдесят будет, а то и больше.
— Почему не вернулся к своим?
— Не захотелось. Край тут богатый, земля урожайная, а река, может, даже побольше и покрасивее.
Станкевич покивал, помолчал немного, потом вдруг оторвался от стола, схватил старика за руку выше локтя и вывел из дома. Под пальцами пружинился округлый бицепс, время еще не тронуло его. В амбаре было холодно. На какое-то мгновение его охватила слабость, но он тотчас поборол это чувство. Голова пухла от хаоса звуков, сквозь которые пробивалась беспечная музыка, то заглушая их, то исчезая в чередовании мерзкого смеха, конского ржания, женского визга и лая собак. Но это не порождало ни волнения, ни страха — напротив, он чувствовал успокоение. Только прикинул, в своем ли он уме. То были, казалось, две наложенные друг на друга проекции. Одна — жестоко оборванное детство, другая — вся остальная жизнь. Ему было грустно, ибо он знал: после того, что совершится, останется один только мрак. Но логика событий была неумолима. Не сулила ни бодрости, ни надежды, на что он, впрочем, не рассчитывал, хотя возможность закрыть дело чисто механическим способом была неожиданностью, которой он не предвидел. И потому, когда мужик повернул к нему побледневшее лицо, рука не дрогнула. Он не торопясь вытянул из кобуры наган и разворотил старику всю грудь, всадив в нее друг за другом три пули подряд.
Ночью красные из Крымской армии Дыбенко переправились через Днепр вблизи Бердянска и внезапно ударили на хутора с юга. Отряд, застигнутый врасплох атакой с неожиданного направления, перегруппировался и стал отважно обороняться. Но хорошо вооруженный противник нагрянул силами целого полка. Бой был непродолжительным и жестоким, пало немало кадетов и немало красных. Гришка Абрамов дрался как лев и рухнул с простреленной головой. Арнсхольт, раненный в бедро, дополз до пулемета, установленного по ту сторону дороги, и на гумне, прикрытом какими-то строеньицами, скосил не менее пятнадцати большевиков, пока его самого не прихлопнули гранатой. Отвечавший за лошадей капитан защищался с полчаса в школе, стреляя из пушки, пока не вышли снаряды. Кабаев, отстреливаясь по очереди из двух наганов, добрался до конюшни и, может, оказался бы в числе немногих, кому удалось спастись, если б не случайность. Уже за хутором он наткнулся на дозор из Новоспасовки, и командир дозора снес ему голову добрым казацким ударом с так называемым подсеком.
Сам Станкевич прикончил из нагана бойца, пытавшегося взломать дверь в хату, выбежал во двор, но там напоролся на двух матросов, тащивших пулемет, одного из них проткнул штыком, другой шарахнул его прикладом в лоб и свалил в грязь. Падая, он услышал словно сквозь вату: «Не тронь, это офицер». Пришел в себя на табуретке в той самой хате, где был на постое. Еще не рассвело. Под щеткой жестких, стриженных ежиком волос он ощутил огромную шишку. Голова звенела, и левый глаз обжигало болью. Высокий худой человек с красной физиономией и рыжими волосами, спадающими немыслимым чубом на правую скулу, стоял перед ним, широко расставив ноги в начищенных до блеска хромовых сапогах.
— Ну что, ожил?
Станкевич подумал: немало, должно быть, времени уходит у этого молодца на то, чтобы содержать в таком состоянии сапоги при нынешней грязи.
За столом сидел молодой человек в очках и, поминутно слюнявя карандаш, строчил что-то в блокнотике. У двери стоял солдат, небрежно опираясь на длинную австрийскую винтовку.
— Ну что, ожил? — повторил рыжеволосый.
— Вроде да.
— Ага! — крикнул он и, заложив руки за пояс, добавил уже тише: — Ну как там князь?
Станкевич пожал плечами и буркнул без всякого выражения:
— Нормально. Давит большевиков, как вшей.
— Ну, здесь-то не очень, — с насмешкой протянул рыжий. — Если откровенно, то как раз наоборот.
— На войне по-всякому бывает, — заметил Станкевич.
— Да, по-всякому, — согласился рыжий и, скользнув ладонью по голенищам сапог, которые были, вероятно, предметом его гордости, спросил уже резко, официально: — Бронепоезд от Дроздовского уже прибыл?
Станкевич поднял голову и, вглядываясь в окно, негромко проговорил:
— Дурацкий вопрос.
Рыжий подскочил и отвесил ему оплеуху. Удар был не такой уж сильный, однако Станкевич ощутил его как бы вдвойне и вскрикнул от боли.
— Оставь, Иван, — пробурчал очкарик, не отрываясь от своего блокнотика. — Так нельзя.
Тот не обратил внимания и рявкнул:
— Отвечай, офицерская сволочь!
Станкевич продолжал молча всматриваться в окно. Рыжий ударил снова, на этот раз кулаком, широко, наотмашь, по-мужицки. Станкевич качнулся на табурете и молча полетел к печи. Молодой человек отложил карандаш, закрыл блокнотик и грозно произнес:
— Пошел прочь, Иван! — Затем встал из-за стола и, задирая голову, сказал: — Если такое снова при мне повторится, отдам под суд.
— Не суйся, Кузьма, — прошипел рыжий. — Командую здесь я.
— Командуешь ты, а отдам тебя под суд я, если еще разок кого-то ударишь, ясно? — Потом взял стул, сел на него верхом, опершись руками о спинку. Кивнул солдату, и тот посадил Станкевича обратно на табурет.
Иван отошел к окну и стал смотреть во двор, насвистывая какой-то мотивчик и демонстрируя тем самым свое безразличие к дальнейшему ходу допроса.
Молодой человек снял очки и сунул в боковой карман кожаной куртки.
— Так или иначе, вам крышка, времени на нежности не остается, — сказал он Станкевичу спокойно, с той вызывающей раздражение самоуверенностью, на какую способна порой молодость.
Станкевич внимательно на него посмотрел:
— Сколько вам лет?
— Двадцать два, — ответил молодой человек и поспешно добавил: — Но вопросы здесь задаю я. У меня их, в сущности, два. Есть ли у князя связь с Деникиным и пришел ли к вам бронепоезд от Дроздовского?
Станкевич приложил платок к разбитым губам. Из левого уха вытекла тоненькая струйка крови и загустела на воротнике кителя.
— Объясните мне, пожалуйста, молодой человек, уж вы извините, что я к вам так обращаюсь, не знаю, как вас титуловать, — так вот, объясните, какой мне смысл отвечать на ваши вопросы, если вы меня все равно расстреляете?
— Ну что же, — молодой человек отклонился на стуле и скрестил на груди руки, — в категориях выгоды судить об этом действительно трудно. Мы, большевики, не торгуем индульгенциями, но с вашей стороны это могло бы быть актом искупления.
— Какая чушь! Ну а что конкретно я получу взамен? Жизнь?
— Не могу вам этого обещать.
— Ну, тогда какую-то надежду сохранить жизнь, какой-то шанс, скажем. Сколько процентов?
— Бухгалтерией мы не занимаемся.
Станкевич хрипло рассмеялся:
— Вот и дураки. Данные, которые я в состоянии сообщить, могут представить, я полагаю, для вас ценность. Что вам стоит купить их ценой жизни старого человека? Но ведь вы идейные. Вы, большевики, реформаторы вселенной, идеалисты, а фактически глупцы, лишенные всего, кроме надежды. А чья мать надежда, это вы, наверное, молодой человек, знаете?
— Значит, говорить не будете?
— Нет.
Молодой человек встал со стула и одернул куртку.
— В таком случае с вами поговорят в штабе. — И крикнул солдату: — Под замок и беречь как зеницу ока!
II
— Карусель… Луна-парк… Карусель… — (Солдат уставился на него с изумлением. У него было широкое русское лицо.) — Луна-парк, карусель, — повторил Станкевич и тихонько засмеялся.
Они вошли в огромный, добротно построенный амбар. Там стоял мрак, можно было лишь догадываться, какой формы и размеров предметы он скрывает. Солдат поднял лампу и, щурясь, стал осматриваться. Было много свободного места, пахло сеном и деревом. Карусель все еще крутится, но он уже сходит с нее. Где он это видел? Нико… Николаевск, должно быть. Все крутится, трещит, воет, летит вверх и вниз, вспыхивает фейерверк, к небу возносит людей в гондолах колесо-обозрение, каждую минуту из зелененького домика выскакивает большая механическая баба, срывает штаны с подвыпившего сапожника и лупит его по тощей заднице, а тот жалобно скулит, рядом движется с лязгом страшный паноптикум с пошловатым Ганнибалом, Юлием Цезарем, с князем Рюриком, с астеническим Иваном Грозным, бочкообразными боярами, с Марией Антуанеттой, которая держит под мышкой свою собственную голову, с Наполеоном, с атлетическим Бисмарком, с Толстым и с большим вопросительным знаком в самом конце. Паноптикум исчезает, а из мерцающей огнями дымки выплывают зеркала с отражением чудовищно разбухших голов, тучных туловищ на коротких ножках в семимильных сапогах, следом выкатывается дешевое кабаре — с веселой музыкой, всякий раз той же самой, с неизменным запахом моченых яблок и сосисок с хреном. Где-то что-то рушится, с тем чтобы мгновение спустя с воем взмыть в усеянное звездами равнодушное небо и рухнуть вниз с лязгом всяких механизмов, колес, рычагов, валов, шестеренок. А посредине гигантская карусель, вращающаяся и днем и ночью — с одинаковой скоростью. Одни спрыгивают с нее и исчезают в сутолоке и криках, другие садятся, полные надежд и ожиданий. Карусель по-прежнему крутится, но уже без него. Никто этого не заметил. Он отдаляется от огней луна-парка, впереди — сплошной туман, а дальше мрак, который сгущается, и никаких огоньков.
Он осмотрел амбар. Большой и почти пустой. Посредине — двуколка, для тех мест редкость. Рядом, весь в зазубринах, чурбан для колки дров. Повсюду валяются щепки. На вколоченных в балки гвоздях развешаны мешки, заполненные чем-то до половины. С сеновала доносится запах сена. Солдат постоял минуту, проверил, туго ли затянута на связанных назад руках веревка, грозно проворчал что-то и вышел, не заперев за собой ворота.
Там он пустился в разговор с другими красноармейцами, разведшими костер метрах в двенадцати от амбара. На селе стояла тишина, только временами лениво перекликались солдаты. Из какой-то хаты ветер донес звуки гармошки. Станкевич опустился на землю, пытаясь прислонить к чему-нибудь стянутые в запястьях руки. В конце концов сел на покосившийся чурбан. Сидеть было неудобно, хотя появилась возможность опереться. Болели глаз и рассеченные ударом вспухающие губы. Его била дрожь, он почувствовал, что поднимается температура.
Ну и когда же оно завертелось, это его красное буддийское колесо? Если хронологически, то в небольшой усадьбе километрах в двадцати от Варшавы, а вернее, в саду, который навалился на стены усадьбы, навалился в буквальном смысле слова, потому что располагался на склоне. Там появилась она, эта нить, с нанизанными на нее обидами и узелками отмщения, похожая на коралловые бусы, что продаются на ярмарках. Это случилось помимо его воли, независимо от него, почти вне сознания. Тридцать лет спустя он мог разорвать все, остановить. Потекла бы его жизнь тогда по-другому? Не исключено. Тогда в нем проявилось бы то, что заложено в каждом — ближе к поверхности или глубже, — некий кладезь доброты, из которого можно черпать, мудро стимулируя жизнь благородными и направленными к некой цели поступками.
Врезался в память и знойный день пышного кавказского лета. Они возвращались тогда в крепость после учений. Лошади заморенные, дорога трудная. Собственно, не дорога, а тропа, прорубленная в скалах, проложенная меж грудами камней. Они ехали так довольно долго, несколько часов. Местами можно было передвигаться по двое в ряд, но чаще — гуськом, на расстоянии нескольких метров друг от друга. Перевал остался позади. Метрах в пятидесяти внизу клубились луга в обрамлении ельника. Внезапно, перед крутым поворотом, за которым дорога была и шире, и удобней, лошадь под молодым офицером, ведшим отряд, затанцевала в смятении на камнях и прижалась к покрытой порослью почти отвесной скале.
— Что случилось? — крикнул вахмистр, который следил за строем.
— Труп! — отозвался один из солдат впереди.
— Труп… — повторил офицер.
Подъезжали не спеша, кое-кто спрыгнул наземь, кони храпели, приседали на задние ноги. Образовался затор.
— Вперед! Вперед! — надрывался вахмистр, размахивая нагайкой.
Некоторые, проехав, развернулись на расширившейся за поворотом дороге, спешились. Подошли ближе.
Воейкин, тощий придурковатый казак, заорал:
— Джигит, патронташи крест-накрест!
— Джигит! — повторили за ним другие.
Осторожно направляя лошадь, подъехал и Станкевич.
— Там лежит человек без головы, ваше благородие, — доложил унтер-офицер.
На камнях, поперек тропинки, лежал труп, вытекшая кровь застыла в красно-коричневых лужах. Это простертое навзничь тело с подвернутой ногой, облепленное роем мух, не реагировавших на людей, поражало своими удивительными пропорциями: мускулистые икры, до половины затянутые в мягкие сапоги из козьей кожи; черные брюки в обтяжку подчеркивали силу длинных ног, выстреливающих из узких, почти мальчишеских бедер, тонкая талия, перетянутая широким ремнем с серебряным набором, и поразительно изящные кисти рук с удлиненными пальцами, где явственно обозначен каждый сустав.
Станкевич долго смотрел на джигита. Как он молод и красив. Пока еще красив и красивым будет, может, день или два, а потом посереет, набрякнет, разбухшее тело расползется от гниения, начнется распад — вот и все. Он ощущал печаль, но каким же иным было чувство, испытанное им много лет назад, когда он смотрел на изувеченное подобным же образом тело, отнюдь не такое красивое, напротив — лишенное привлекательности, подточенное болезнью. Там была смесь разных ощущений: жалости, отчаяния, досады, страха, любви и даже стыда. Здесь лишь печаль по поводу бессмысленно уничтоженной красоты.
— Интересно, а где голова? — заверещал Воейкин, разражаясь пискливым смехом.
— Может, закопать, а? — неуверенно спросил офицер, все еще пытаясь совладать с испуганной лошадью, плясавшей над опасным провалом.
— Стемнеет — свои заберут, — с уверенностью произнес вахмистр.
— Утром, наверное, убили или как? — спросил кто-то из солдат.
— Ночью! — коротко пояснил вахмистр и повернулся к Станкевичу: — Какие-то ихние счеты.
— Ихние, а может, и не ихние, — буркнул солдат.
— Напишете рапорт, Ильин, — бросил Станкевич офицеру и, привстав в стременах, крикнул: — Трогай!
Солдаты сформировали строй и, комментируя событие, поскакали по раздавшейся вширь дороге. В какое-то мгновение обгонявший отряд Станкевич услышал, как один из солдат сказал товарищу: «Из наших только Василь так может». Василь… Он помнит, помнит это имя. Только откуда? Это мучило его весь остаток пути. «Василь, Василь…» — твердил он про себя. И лишь в крепости, а верней, перед самой крепостью, бросив взгляд на одичавшие черешни, высаженные на краю ненужного уже теперь рва, вдруг вспомнил: именно это имя произнес тогда в саду старый казак, с беспокойством осматривая гнедую лошадь.
Он вызвал солдата и спросил, о ком это он говорил товарищу. Тот прикинулся сперва дурачком, сделал вид, будто пытается вспомнить, о ком речь, но, припертый к стенке, хмуро сообщил, что имел в виду унтер-офицера из сотни есаула Рогатинского.
Он отыскал его в тот же самый день. Сильно он изменился, сильно, чему, впрочем, вряд ли стоило удивляться, если учесть, что последний раз, да и вообще всего только раз, он видел его тридцать лет назад. Похудел, потемнел от загара, плечи раздались чуть ли не до карикатурной ширины, руки вислые, обезьяньи. Глаза только прежние — в них покой, бездумие и жестокость. Крепость была небольшая, и Станкевич, несомненно, с ним встречался, но у него не было привычки всматриваться в солдат — перекатывавшуюся на глазах серо-зеленую массу… с приливами и отливами, характерными для времен года.
Василь Демьянчук не скрывал: да, молодым еще парнем бывал в Польше. Где точно, не помнит, но наверняка в Варшаве и в Литве. Их перебрасывали с места на место — по обстоятельствам. Было это давно, в ту пору ему исполнилось всего восемнадцать. Он пошел добровольцем. Батюшка царь нуждался тогда в казаках. Там было какое-то восстание, бунт или что-то в этом роде. Сражаться много не довелось. Даже ни одного боя не запомнилось, хотя разок перебили бунтовщиков на берегу какой-то речки, да стоит ли вспоминать — всего полчаса, и делу конец. Откуда у него слава рубаки? Да тут в горах несколько лет назад черкесы затеяли бузу, тогда их выманили на большую поляну, порубали да постреляли. Он, Василь, снес башку какому-то аге и тело разрубил до самого паха. Кое-кто из офицеров отказывался верить, поехали специально посмотреть, делали даже картинки таким черным аппаратом, вроде гармошки. Рубил ли он в Польше? Да, было разок, но особенно хвастать нечем. Зеленый был, горячий, глупый, хотел отличиться. Нужды в том не было. Станкевич выпытывал осторожно, стараясь не вызвать у солдата подозрений. Ответы были ясные и толковые. Говорил о себе просто и без утайки, как если б невозможно было прожить жизнь иначе. Армию любит, получил повышение, стал унтером, служит почти тридцать лет, за это время побывал во многих странах, но этот год уже последний. Отложил из жалованья деньжат, он предусмотрительный, запасливый, пьет, что и сам Бог велел, но чаще не на свои. Купит себе домишко с хозяйством, женится там или не женится — еще неизвестно, но уж бабу заведет себе непременно. Здоровый, в силе, еще поживет.
Они разговаривали более часа, покуривая папиросы, которые Демьянчук охотно брал про запас, и Станкевич пришел к выводу, что никакой ненависти к нему не испытывает, напротив, этот деловой, спокойный, уверенный в себе мужик, здоровый и полный жизненной мощи, как те степи, которые его породили, вызывает в нем скорее симпатию. Он был даже по-своему красив — этакая мужская жестокая силища. Станкевич завидовал его спокойствию и уверенности в себе. Уверенности, что жизнь имеет смысл, что все происходит именно так, как должно, что одни наверху, другие внизу, одни убивают, другие принимают смерть. И даже эти глаза ястребиного чучела казались Станкевичу порой красивыми, такие чистые в своей хищности и жестокости.
Несколько дней спустя они встретились на плацу. Василь, как всякий оторванный от родных мест человек, ценил любой к себе интерес. А если еще им интересовался кто-то из начальства, то внимание ценилось вдвойне. И потому, сперва отдав честь, но желая затем подчеркнуть неофициальный, интимный, что ли, характер знакомства, которое получит, возможно, дальнейшее развитие, продолжись то, что лишь наметилось в разговоре, лукаво ухмыльнулся и сверкнул рядами своих белоснежных зубов. Станкевич ответил на улыбку. И в ту же секунду почувствовал свое двоедушие. Предательство по отношению к тому мальчику в матросском костюмчике, который мало что понял из разыгравшейся перед ним драмы, хотя в тот момент совершилось нечто, повлиявшее на всю его судьбу, — длинноволосому мальчику со сжатыми в кулачки ручонками, возбужденному и пытавшемуся разобраться в происходящем. И, глянув в глаза, которым светившее вкось солнце придало желтоватый оттенок, так что они стали вдруг похожи на торчащие за конюшней подсолнечники, он пришел к решению, а может, это кто-то невидимый рядом с ним пришел к такому решению и от его имени: тот счет будет оплачен.
В конце августа в крепости формировался конвой, которому надлежало доставить инженерному батальону, работавшему в горах, дюжину ящиков с динамитом. Предполагалось, что конвой поведет Ильин. Скучающий в крепости Станкевич попросил у коменданта разрешения сопровождать транспорт под предлогом, что ему надо решить какой-то срочный вопрос с командиром инженерного батальона. Охрана транспорта была поручена двум казачьим разъездам под началом Юрьева и Демьянчука.
Выступили с рассветом. До полудня накрапывал дождик, потом перестал, и где-то около двух вышло солнце. Когда перевал остался позади, один из мулов оступился на глинистой тропе и соскользнул на несколько метров вниз, зацепившись на травянистом выступе над пропастью, где клокотал на дне бешеный поток. Когда сходил снег, поток превращался в настоящую реку. Рекой сейчас он, правда, не был, но пропасть оттого не стала меньше, и если б несчастный мул сорвался, то, как говорится, и костей бы не собрали. Терпеливое животное замерло на месте, но притороченный по бокам груз кренился в сторону бездны, грозя увлечь его вниз.
— Сардо слазает, Сардо как кошка! — крикнул кто-то из солдат.
— Эй, браток, тут все не так просто, — ответил другой, уважительно глянув в пропасть.
— Сардо спустится по веревке, ребята подстрахуют, — принял решение Юрьев.
Сардо, худощавый паренек, родившийся, судя по всему, в этих местах, присел на камень и покрепче принялся шнуровать ботинки. Станкевич равнодушно наблюдал за приготовлениями, но, когда горец начал повязывать вокруг пояса веревку, вздрогнул, точно вдруг вспомнил что-то, и, вытянув голову, крикнул:
— Стой! — Затем шепотом обратился к Ильину: — Извините, корнет, но здесь нужен опытный солдат, Сардо сопляк и растяпа, а вы пошлите вот этого, — и он покривившимся пальцем указал на Демьянчука, — или… или, может, разрешите, я сам буду руководить операцией.
— Ну разумеется, не может быть никаких возражений, — буркнул недовольный корнет, которого раздражало присутствие Станкевича, ограничивавшее его самостоятельность.
— Демьянчук! — крикнул Станкевич.
Подъехал удивленный Демьянчук, и его «слушаюсь» прозвучало как вопрос: «Что это взбрело тебе в голову, приятель?»
— Бери веревку и спускайся!
Василь посмотрел вниз, потом перевел глаза на солдат и, не глядя на Станкевича, спокойно сказал:
— Место дюже крутое, я непривычный, из степей.
В голосе не было ни страха, ни раздражения, он ответил так, словно поручение капитана было обычным предложением, от которого можно и отказаться. Василь просто удивился. Еще бы, того капитана, который всего две недели назад так долго и сердечно с ним разговаривал, а потом был таким доброжелательным и любезным, точно подменили. Он избегал его всю дорогу. А Василь искал случая поговорить. Повод для разговора был самый подходящий: есаул намеревался продать Станкевичу кобылку. Лошаденка, разумеется, нестарая, ладная, только засекается, да и мерин Армедеева в свою очередь зарывается на спусках мордой в землю: сорваны передние ноги. Нет, уж если покупать лошадь, то в Нальчике, там кабардинцы торгуют лучшими на свете конями, и недорого, а есаул просит за свою кобыленку как за англизированную лошадь. Все это хотел сказать Станкевичу Василь и дивился, что никак не подворачивался случай, а тут на тебе: бери веревку — и вниз! Нашел, действительно, дело: велит лезть за каким-то дурацким мулом, да что он, в самом деле, рекрут, что ли, чтоб им так помыкали? И потому, уловив неуверенный взгляд Станкевича, старавшегося не смотреть ему в глаза, улыбнулся и тихо сказал:
— Сардо пойдет. — И дернул поводья, словно хотел заворотить лошадь.
Тогда Станкевич подъехал к нему вплотную, привстал на стременах и, сжав руку в кулак, ударил что есть силы. Василь, не готовый к удару, откачнулся в седле и повалился на круп лошади, повисел несколько секунд, потом медленно выпрямился и, сморкнувшись кровью, пробурчал:
— Слушаюсь, ваше благородие.
Станкевич осадил лошадь, опустился на седло и проговорил едва ли не с нежностью в голосе:
— Спускайся, Василь, только ты поосторожней, а то и в самом деле круто.
Солдаты подали веревку. Демьянчук перекинул ее через плечо и, хватаясь за травку, начал спускаться вниз. Двигался он неуверенно, без сноровки. Колени дрожали; превозмогая страх, Василь долго искал, куда поставить ногу. Крестьянину из степного края ничто не внушало боязни, кроме обрывов и круч, неизменно пугающих жителя равнины своей непредсказуемостью и хаосом.
Несколько минут спустя он оказался рядом с мулом, тот, почуяв спасение, дружелюбно к нему потянулся. Мулы — славные животные, у них впечатлительность лошади и спокойствие осла. К тому же они доверчивы; может, именно поэтому присутствие человека повлияло на животное, и мул, как бы желая помочь, рванулся в его сторону; в тот же момент один из ящиков с динамитом, съехавший до этого на спину, заскользил в сторону пропасти, и весь груз разом потянул мула вниз. Демьянчук что-то крикнул и схватил мула в последнее мгновение за узду, стараясь подтащить животное к себе. Солдаты потянули. Вися боком, Демьянчук хватался левой рукой за веревку, другой конец которой болтался над пропастью, а правой поддерживал мула, испуганного перемещением груза и пытающегося удержаться передними копытами за выступ в скале.
— Вяжи его поперек! — заорал Юрьев. — За узду не удержишь.
— Ничего не выйдет, — заметил кто-то из солдат, — третьей-то руки у него нету.
— Пусть лезет Сардо или кто еще, Ваське не справиться, — посоветовал пожилой казак, наклоняясь над пропастью.
Толстощекий парень-крепыш швырнул наземь шапку, перекрестился и, проворно перебирая веревку, заскользил вниз.
— Назад! — приказал Станкевич.
Солдат остановился и посмотрел вверх.
— Ваше благородие, я только веревку закреплю, Василю не управиться.
— Назад! — повторил Станкевич.
Юрьев соскочил с лошади и подошел к Станкевичу. Во взгляде его усталых светлых глаз была не только просьба, но и решимость.
— Пусть спускается. Подцепит подпругу, и вытянем. А так и скотина сгинет, и человек.
Станкевич наклонился и прошипел ему в лицо:
— Заткнись, Юрьев. Еще слово, и съезжу нагайкой по роже!
Окинул быстрым взглядом отряд. Солдаты, опустив головы, смотрели в землю, Ильин стоял в стороне, положив руку на круп лошади. Станкевич достал портсигар, вытянул папиросу, закурил.
— Тяните, ребята, — сказал он спокойно. — Удержит Демьянчук — его счастье, не оборвется узда — счастье мула.
Солдаты принялись осторожно тянуть веревку.
— Руки вырвет, — проворчал, наклонившись над пропастью, казак.
Василь со стоном пытался свести разрываемые в разные стороны руки. Под полотняной гимнастеркой напряглись могучие мышцы, обозначились их узловатые контуры. Солдаты тянули, умеряя взаимно свое усердие, руководил ими Юрьев. Медленно-медленно Василь и мул въезжали вверх по отвесному почти склону. Крепкая плетеная узда впилась в тонкую шкуру мула. Могучая шея Демьянчука стала красной, затем багровой, потом на ней проступила путаница жил. Мул цеплялся копытами за влажные, скользкие пучки травы. Один из ящиков сорвался и тащился на ремне в метре сзади, подскакивая на выступах. Наконец минут через десять над обрывом показались широкие плечи Демьянчука и голова мула. Василь, осторожно пощупав ногой грунт, перенес ногу через край, солдаты наклонились, схватили животное за подпругу, втащили его наверх. С минуту стояла тишина, слышался лишь шум бесновавшегося внизу потока, затем солдатик, намеревавшийся прийти на помощь, заверещал во всю глотку:
— Ну и молодец ты, Васька!
Демьянчук стоял, склонясь всем телом и тяжело дыша. Юрьев подсунул ему портсигар. Мул фыркнул два-три раза, по его гладкому красивому телу прошла дрожь, затем, волоча за собой ящик, направился к краю дороги и принялся щипать траву. Казаки сматывали веревку. Демьянчук глубоко вздохнул, откашлялся, сплюнул и глянул, выпрямившись, на Станкевича — ни досады, ни ненависти, ни триумфа. То же, что и много лет назад: взгляд стеклянных глаз ястребиного чучела. Станкевич, докуривая папиросу, последний раз глубоко затянулся, швырнул окурок в пропасть, повернулся в седле и кивнул Ильину. Корнет кашлянул, одернул мундир и срывающимся голосом крикнул:
— Трогай!
— Трогай! — уже громче и решительнее повторил Юрьев.
Солдаты сформировали строй и двинулись в путь.
Так создается ненависть, вернее, закладываются ее основы. После этого происшествия Станкевич ощутил, как в его равнодушном поначалу отношении к Василию что-то изменилось. История у пропасти не принесла радости, одну только муку. В течение этих трех-четырех минут, а может, и четверти часа у него столько раз появлялось желание крикнуть: «Сардо, полезай, зацепи за подпругу, помоги, помогайте все!» И сам сдерживался, чтобы не соскочить с лошади, не схватиться за веревку. Жаль было ему и мула, и казака. Но испытание ненавистью, спровоцированное, чем он был, кстати, доволен, этим случайным стечением обстоятельств, прошло успешно. Не будь все таким абсурдом, у него появился бы повод для гордости. Но он был достаточно умен, чтоб не признаться в этом самому себе, зато он радовался, что перелом свершился. Он сумел разорвать интеллигентскую схему добра и чувствительности, точнее, слабости и слюнтяйства.
Тремя днями позже, уже в крепости, есаул Рогатинский не упустил случая заметить Станкевичу, что тот зря издевался над казаком. Станкевич пожал лишь плечами, но вечером заявился к есаулу с бутылкой коньяку и за дружеской выпивкой просидел с ним до поздней ночи. Попутно он выяснил, что на зиму в крепости остается лишь полусотня, и пока неизвестно, под чьим началом, потому что подъесаул Карабанцев намерен хлопотать о должности адъютанта при штабе Войска Донского, а он, Рогатинский, окончательно и бесповоротно уходит в отставку.
Это известие заставило Станкевича написать рапорт коменданту крепости — с позитивной резолюцией майора Штока, — где содержалась просьба доверить ему временно командование над полусотней в добавление к тем обязанностям, какие он исполняет. Комендант выразил согласие, и осенью Станкевич сделался непосредственным начальником Василия.
Настали для казака черные дни. Экспедиции в горы, патрули, учения, сыпавшиеся то и дело наряды вне очереди. Если в ту пору в армии можно было сделать все что угодно с солдатом, то с унтером, да еще из казачьего войска, где существовали свои писаные и неписаные законы, было куда труднее. Чтоб отравить жизнь Демьянчуку, Станкевичу пришлось призвать на помощь всю свою изобретательность. Он не раз ловил себя самого на том, что это его терзает, что усилия далеко не соответствуют результату. Все свободное время — а было его последние дни не так-то много, если принять во внимание дополнительные обязанности, связанные с командованием полусотней, — все свободное время отнимали у него разнообразные проекты и предприятия, связанные с издевательством над Демьянчуком. А еще и спешка, ибо он знал: через полгода выходит срок службы Василия. К тому же струя ненависти, захлестнувшая его там, в горах, расплылась в рутине будней. Никаких чувств к казаку он, в сущности, не испытывал. Ни злых, ни добрых. Он обнаружил, что, пытаясь раздуть в себе ненависть к этому человеку, остается к нему, по существу, равнодушен. Лишь где-то внутри маячила верность данному самому себе обещанию, вот только неизвестно, реальному или вымышленному, лишь будоражила спортивная жилка, подстегивал особый азарт: что ж это я, интересно, еще выдумаю, удастся или не удастся, выдержит он или не выдержит, а если не выдержит, то что произойдет?
В октябре прибыли рекруты. Унтера занимались с ними по очереди. Учения продолжались с утра до вечера. Станкевич, хоть это и не входило в его обязанности, следил за ними, вернее, за Василем, который трудился без роздыху. Погода в ноябре испортилась вконец: две недели подряд ветер и дождь со снегом. Василь мок и мерз с утра до вечера и часами не покидал плаца. Даже его сильный организм не справлялся с нагрузкой. Хотя он и пытался вылечиться водкой, а все же хрипел, изнывал от насморка, трясся от дрожи. Солдаты шептали меж собой, что капитан взялся за Демьянчука не на шутку и что, если дальше так пойдет, замучает человека насмерть. Унтера стали открыто роптать. Один из них, когда Станкевич уходил как-то с плаца, бросил ему вслед:
— Падаль вонючая, сволочь!
Василь был дисциплинированный. Поди догадайся, сколько тут было субординации, а сколько дальновидности. Однако равнодушие в его глазах таяло.
Однажды Станкевич возвращался с вечернего чая от кого-то из офицеров. Было темно, выл ветер, сек ледяной дождь. И вдруг из темноты в нескольких метрах впереди вынырнула — как выныривает иногда на рассвете дерево среди окутанного летней мглой луга — хорошо знакомая квадратная фигура. Станкевич остановился, сделал шаг назад. Посмотрел по сторонам — пусто, только кое-где в окошечках казармы поблескивают последние огоньки.
— Василь? — спросил он неуверенным голосом; и уже громче: — Демьянчук, это ты?
Человек напротив замер, ничего не отвечая. Внезапный порыв ветра хлестнул струями дождя, за которым фигура размазалась и как бы удалилась. Станкевич зажмурился и спросил сам себя: «Что ж это, черт возьми, вроде я трезвый?» Когда вновь открыл глаза, все исчезло.
Он вернулся домой с неприятным ощущением, по спине пробегали мурашки. Прежде чем лечь в постель, тщательно запер дверь, забаррикадировал ее столом и затворил ставни, чего до сих пор никогда не делал.
В начале декабря Василь на плац не явился. Станкевич велел ему прийти с докладом. Прибежал солдат, сообщил, что Демьянчук не может стоять на ногах. Станкевич отправился в казарму. Казак лежал навзничь. Лицо, исхудалое, красное, напоминало стручок перца. Губы запеклись, он тяжело дышал. Станкевич велел ему встать, одеться, дав на это уставные три минуты. Демьянчук лежал все так же без движения, уставясь в потолок. Станкевич повторил приказ.
— Не могу, ваше благородие, Богом… Богом клянусь, не могу, — прохрипел он в ответ.
И тогда на Станкевича нахлынула и горечь, и жалость, вместе с тем он почувствовал некий непредсказуемый и чуждый ему императив; неведомый злой дух, как, верно, выразился бы кто-нибудь из его предков, велел ему схватить казака за полы грубой льняной рубахи и, сбросив рывком с кровати, протащить до крутой винтовой лестницы, наградить там пинком и спустить по ступенькам вниз.
— Подыхай, казачья собака! — крикнул он, когда грузное тело Демьянчука как-то медленно и плавно заскользило по лестнице.
Минуту царила тишина, потом Василь, тяжело наваливаясь на перила, начал со стоном подниматься. Длилось это долго, очень долго.
— Ко мне! — крикнул Станкевич.
Василь стал карабкаться вверх, опускаясь порой на четвереньки. Наверху покачнулся и чуть было не рухнул вниз снова. Наконец, шатаясь из стороны в сторону, обрел равновесие и стал по стойке «смирно».
— Чтоб через пять минут был на плацу! — крикнул Станкевич и, застегнув полушубок, сбежал с лестницы.
Дело приняло, однако, неожиданный оборот. Демьянчук дотащился до постели и, начав одеваться, потерял сознание. Вызванный в казарму врач констатировал воспаление легких. Некоторые офицеры возмутились, доложили коменданту крепости. Полковник Лодинский, дельный вояка, получивший офицерские погоны еще при Воронцове, сделал Станкевичу внушение, сказав, что он слишком суров с подчиненными.
— Некоторые ваши коллеги, — продолжал он свою негромкую речь, копаясь в разбросанных по широкому столу бумагах, — склонны подозревать вас даже в садизме. Я, разумеется, далек от этого, но считаю: способы, которыми вы воздействуете на некоторых из своих подчиненных, слишком суровы. Видите ли, капитан, когда я был в вашем возрасте, такое отношение к солдатам и унтер-офицерам считалось нормой, более того — поощрялось, но теперь, как вы знаете, бесславная николаевская эпоха канула, слава Богу, в Лету. Что же до конкретного случая, то, насколько мне известно, именно этот унтер-офицер имеет безупречную репутацию. Мне будет очень приятно, капитан, если к этому вопросу возвращаться более не придется.
III
Пожелание полковника исполнилось, однако по неожиданной причине. Вскоре после Нового года Станкевич получил телеграмму с сообщением о смерти матери.
Январь начался небывалыми холодами. Даже здесь, на юге, выпало много снега и с середины декабря держался мороз в несколько градусов. Станкевич направился через Тифлис в Ростов, там выяснилось, что на Дону все занесено снегом и такие метели, что сообщение с Москвой прервано, нужно ехать через Одессу. До Одессы поезд тащился целые сутки, потом до Москвы через Киев — двое, в результате поездка из крепости заняла пять дней. Он приехал после похорон.
Костя, постаревший, с опухшими от слез красными глазами, встретил его в прихожей. Он бродил по огромной квартире и, всхлипывая, твердил одно и то же:
— Так неожиданно, так неожиданно, самое страшное — что все случилось так неожиданно.
— Мама болела? — спросил Станкевич, стряхивая снег с сапог.
— С некоторых пор жаловалась, что не хватает воздуха, что нечем дышать. Был доктор, говорил, дескать, нервы, ничего особенного… А тут вдруг… Ужасно, ужасно.
— Где вы ее похоронили?
— На Новодевичьем, было уйма народу, я попросил Никитского, чтоб сказал что-то, сам понимаешь, я-то совсем… совсем… потерял голос. — Костя повернулся спиной и зарыдал.
Станкевич отдал шубу лакею, сел в кресло и закурил. Костя долго не мог успокоиться.
— Почему на Новодевичьем? — резко спросил Станкевич и в ту же секунду пожалел о своем тоне. — Это кладбище православное.
Костя отвернулся от окна и, удивленный, ответил:
— А как же иначе? Там похоронены все мои родственники, а твоя мама была человеком, который… ну, она не ходила в костел.
— Но не ходила и в церковь…
— В самом деле, насчет этого я никогда с ней не разговаривал. Знаешь, мне казалось, ей это было безразлично…
— Безразлично… Что именно безразлично?
— Ну… вера, религия… к религии она была совершенно равнодушна, это ее не волновало. — Он прошел, горбясь, по комнате и, повернув голову к Станкевичу, сказал с уверенностью: — Ей было все равно. Я убежден.
Подали завтракать. Костя с трудом сжевал два куска булочки и выпил чашку кофе. Станкевич съел с аппетитом яйца всмятку и добрую порцию ветчины.
— Ты наверняка захочешь поехать на кладбище? — спросил Костя, вытирая салфеткой губы.
— Разумеется. Но не сейчас, позже.
Костя закрыл глаза. У него были длинные, густо присыпанные сединой волосы, гладко зачесанные назад, что подчеркивало неровности черепа. Узкое породистое лицо бледно, точно преждевременно увяло, Хотя ему не было и пятидесяти, в облике сквозило что-то старческое.
— Знаешь, — проговорил он, оживляясь, а оживляясь, он всегда клал руку на шею, — у нее в комнате есть шкатулка, я туда сложил все личные вещи, фотографии, несколько польских книжек, какой-то медальон — это, разумеется, твое, есть там, кажется, две-три памятные вещицы твоего отца, кстати, его часы.
— Хорошо, — буркнул Станкевич и погладил Костину узкую мягкую руку.
Во второй половине дня он съездил на кладбище, а вернувшись, сел в комнате матери и открыл шкатулку. Сверху был завернутый в серую бумагу пакет. Когда он его развернул, из неплотно закрытой коробки вывалились два небольших жестяных медальончика с изображением Богоматери и похожий по форме, только, по-видимому, серебряный воинский значок. Лежала там великолепно изданная в 1854 году во Львове поэма Адама Мицкевича «Пан Тадеуш» и еще две книжки в синих картонных переплетах неизвестных ему польских писателей. Часы оказались золотыми, с двойной крышкой и, судя по дате, выгравированной на оборотной стороне одной из крышек, были свадебным подарком отцу. Потом несколько фотографий неизвестных ему людей и письмо. Оно было в большом твердом конверте, надписанном наклонными, не слишком четкими буквами. Станкевич зажег лампу и, осторожно вскрыв конверт, погрузился в чтение.
«Дорогой мой сын! Мне бы хотелось, чтоб письмо попало в твои руки, когда ты начнешь понимать всю сложность этого мира, и чтоб ты возвращался к нему в тяжелые минуты своей жизни, которых наверняка не избегнешь. Мало я тебе оставляю, кроме нескольких моих советов, но они, возможно, окажутся в твоей жизни путеводной вехой. Будь добрым католиком и не отступай от веры, каковы бы ни были обстоятельства твоей жизни. Помни, что Божий Промысел печется о нас даже тогда, когда мы этого не ощущаем. В своей ежедневной молитве повторяй слова псалма: «Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю»[1]. Это главное. А второе — наша Отчизна. Видишь ли, сынок, на картах ее нет. Потому что кровавые захватчики разорвали ее на части. Но до той поры, пока мы носим ее в своем сердце, Польша есть. Мы должны ради нее работать и ради нее бороться, потому что, повторяю, она есть. Вопреки всем превратностям и жестокостям судьбы. Помни всегда об этом. Что может случиться, если такие, как ты, об этом забудут? Я отдал ей то, что мог, а мог немногое, отдал свое здоровье. И наконец, помни о матери. Люби ее и заботься о ней, человек она святой. Беспредельная печаль наполняет мое сердце при мысли, что тогда, когда ей, может быть, более всего будет необходима моя поддержка, меня уже не будет на свете. Да пребудет с тобой Господь, дорогой мой, единственный сын.
Твой, любящий тебя, отец».Он перечитал письмо несколько раз. Итак, письмо отца, о котором он ничего не знал. Завещание, которое до сих пор не попало ему в руки. Почему мать его не показывала? Почему она так редко вспоминала об отце? Почему они никогда о нем не разговаривали? Как могло случиться, что он вычеркнул человека из своей памяти, человека, которого, правда, не знал, но, во всяком случае, помнил.
Внизу стояла дата: 14.IV.1864 г.
Итак, прошло почти тридцать лет. Он погасил лампу. Время близилось к четырем, и в комнате стояли густые сумерки.
Станкевич, с детства столь привязанный к матери, с течением времени стал от нее отдаляться. Открывал в ней черты, которых не любил в себе самом, это его раздражало. Последний раз он виделся с ней года два тому назад. Ее смерть не была для него тяжкой утратой, но он почувствовал страшное одиночество. Одиночество, порожденное не отсутствием общества или друзей, но отсутствием той почвы, на которой он вырос. Что это за почва — семья, родина, традиция? Понять этого он не мог. И стал прикидывать: может, это нечто иное — такое, чего мы не в состоянии понять и охватить разумом, явление едва ли не космического значения и масштаба, берущее начало не из нашей физической сути, а из нашей метафизики, нечто несомненно существующее и имеющее касательство только к нам самим? Станкевича посещали мысли, какие посещают нас, когда мы теряем близких, мысли об одиночестве и вместе с тем ненасытное желание подтверждения, надежда, что акт смерти не есть окончательное завершение чего бы то ни было, что ни они там, ни мы здесь не пребываем в одиночестве.
Весь следующий день он бродил в шлафроке по квартире, а вечером отправил в Тифлис телеграмму с просьбой предоставить месячный отпуск, чтобы привести в порядок дела, связанные со смертью матери. Ответ пришел через неделю. Командование Кавказским военным округом сообщило, что отпуск предоставлен и в случае необходимости может быть продлен еще на месяц.
В один из тех дней, когда телеграммы еще не было, Костя извлек из кипы валявшихся на комоде бумаг серую тетрадь и продемонстрировал ему свои переводы с французского.
— Обрати внимание, — говорил он, — всё малоизвестные у нас имена, а если даже известные, то по сквернейшим, манерным переводам. Вот Рембо, стихотворение о ночи, а вот одержимый безумием гений де Нерваль, о котором у нас ни сном ни духом никто не ведал. Но лучший среди них — Поль Верлен. Вот послушай. — И тут Костя принялся читать мягким, вибрирующим баритоном:
Une aube affaiblie Verse par les champs La mélancolie Des soleils couchants. La mélancolie…[2]— Отвяжись! — в сердцах крикнул Станкевич. — Я не люблю поэзии, терпеть ее не могу, не понимаю, как взрослый человек способен восторгаться этой меланхолической чушью про зарю, этими вечными бреднями о закате.
— Но ведь это замечательно, какой метр, какие ассонансы…
— Возможно, — прервал вновь Станкевич, — только я этого не выношу, ты отлично знаешь, не выношу.
— Ты никогда мне об этом не говорил, — спокойно ответил Костя и с грустью добавил: — Твоя мама тоже не любила поэзии. Иногда я ей читал, она слушала, но без интереса.
— И чего ты все время твердишь «твоя мама»? — крикнул с раздражением Станкевич. — Ведь это была твоя жена.
— Ты прав, — ответил Костя и понурился, как наказанный гимназистик.
Станкевич встал и, гремя сапогами, принялся мерить большими шагами комнату.
— Прости, Костя, — сказал он уже спокойнее, — но там, в гарнизоне, я так далек от поэзии, особенно последнее время. — Он подошел к Косте и чмокнул его в худую щеку. — Я очень люблю тебя, старина, — прошептал он и отправился к себе в комнату.
На следующий день он уехал в Польшу, прихватив сверток в серой бумаге.
IV
Он смотрел на дом с деревянным крыльцом, на двор, на то место, где был сад, превращенный теперь в огород, на покрашенный в розовый цвет флигель, на кусок кирпичной стены, поросшей диким виноградом, на кроны огромных старых каштанов, которые стояли рядами за домом, на аллею, сбегающую вниз, к реке, — все это казалось ему таким чужим. Не иным, а именно чужим. Собственно говоря, кроме того, что сад был вырублен, ничто не изменилось, сам дом и хозяйственные постройки были, пожалуй, в лучшем состоянии, чем он представлял себе по памяти, однако не этого ему хотелось, не этого. Он не ощутил волнения, какое охватывает человека, когда по прошествии лет тот возвращается в места своего детства. Позднее он выяснил у здешнего ксендза, что имение, иначе говоря, усадьба вместе с семьюстами гектарами земли и участком леса была конфискована и перешла в собственность житомирской купеческой гильдии, которая основала тут свое представительство и устроила склады. Лес продали евреям, часть земли после парцелляции — местным крестьянам. Дела гильдии пришли, как выяснилось, в конце семидесятых годов в упадок, и восемь лет назад усадьбу вместе со всем, что от нее осталось, купил лодзинский фабрикант, человек уважаемый и большой любитель порядка. А вот где похоронили отца, Станкевич так и не выяснил. Ксендз те времена не помнил, а костельный сторож, невзрачный, тощий пьяница, показал ему какую-то старую заброшенную могилу, потом передумал, показал другую, потом повел в дальний конец кладбища к гранитной плите, окованной железными скобами со следами вырванных букв.
— Сколько ж этой могиле лет? — спросил Станкевич.
— Да уж лет сто будет, — сообщил сторож, ставя ногу на гранит.
Станкевич махнул рукой и вернулся в усадьбу. Спускались сумерки, голые сучья каштанов отчетливо проступали на погожем и, казалось, не зимнем небе. Вверху кружила огромная стая ворон. Станкевич прошелся по засыпанному гравием двору. Попытался было заглянуть в окна, но они все были закрыты и занавешены. Возвращаясь с кладбища, он узнал от случайно встреченного по дороге мужика, что за усадьбой присматривает сторож, но он ушел, надо полагать, в деревню и вернется, наверное, только на ночь. Он присел в углу двора на срубе старого, давно заброшенного колодца, завернулся в шубу и закрыл глаза.
Так как же это все выглядело, если всмотреться трезвыми глазами, без эмоций, объективно? Возможно ли восстановить события почти тридцатилетней давности? Разумеется, ответил он сам себе, если отбросить второстепенные детали, даже факты, несущественные в той череде картин, которую он начал сам себе рисовать.
Итак, из дома доносилась музыка. То не был наверняка ни Шопен, ни кто-либо из великих немцев, скажем Бах, Гайдн или Бетховен. Что-то легкое, галантное и красивое, скорее всего что-то из итальянской оперной музыки, может, Лист или Шуберт, впрочем, не столь это важно. Дверь в гостиную была открыта, легкий ветерок колыхал тюлевую занавеску. Играла молодая, очень красивая женщина. При взгляде со спины четко вырисовывались ее крепкие ягодицы, обтянутые голубой юбкой, узкая талия и широкие плечи, склоненная головка со свисающими вбок длинными глянцевитыми прядями каштановых волос. В игре было изящество, ощущение ритма, хотя звуки порой слабели, казалось, она не помнила, что будет дальше, потом играла увереннее, но, пройдя какой-то пассаж, вновь приглушала мелодию, торопясь перескочить на то место, которое было ей хорошо знакомо. Во дворе, дразня прутиком желтого щенка, возился пятилетний мальчик. Он-то первый и заметил казаков. Май шагнул к середине, день стоял летний, почти знойный. В саду, на специально сконструированной складной деревянной кровати, лежал молодой мужчина, а вокруг все зеленело, но белый пух сохранялся еще на некоторых деревьях, как бы покрывая заодно и выстреливающие вверх стебли трав. У одетого в матросский костюмчик мальчика спереди была челка, сзади волосы падали прядями на широкий отложной воротничок. Из кузницы вместе с перезвоном молотов долетала перебранка. Старая легавая спала, свернувшись клубком, у риги. Когда казаки остановились возле дома, в гостиной по-прежнему звучал рояль. Их было пятеро. Мальчик вышел навстречу. Из дому выскочила с лаем молодая черная овчарка, лошади шарахнулись, один из казаков замахнулся на пса пикой. Они устали. Двое отправились поить лошадей, а один, постарше, худой, с длинными запорожскими усами, расседлал лошадь и заботливо ощупывал холку. Легавая приподнялась, взглянула на гостей слезящимися глазами, опустила голову и вновь погрузилась в дремоту. Звуки рояля по-прежнему долетали из дома, но с того места, где остановились казаки, музыкантши не было видно. В кузнице по-прежнему ковали и спорили. Приставленная к конюшне девка пересекла двор с ведрами в руках и исчезла в риге. Мальчик, махая прутиком, приближался к казакам. Один из них улыбнулся, пытаясь объяснить ему что-то знаками, но мальчик с интересом следил за старшим казаком, который точно искал что-то на спине у лошади.
Стоял полдень, и, хотя был всего лишь май, пахло летом. Молодой мужчина, лежащий в саду, был незаметен. Из риги вышла все та же девка, уже без ведер, и исчезла за домом. Мальчик пнул обломок доски, торчавший из засохшей грязи, и помчался в дом. Казаки напоили лошадей, напились сами и расселись вокруг колодца, покуривая длинные самокрутки. Рояль умолк, на крыльцо вышла молодая женщина, за ней — мальчик. Они смотрели на казаков. Минуту спустя женщина ушла в дом, но рояль больше не зазвучал. Мальчик спустился с крыльца, однако к колодцу не пошел. Минут через десять казаки поднялись, вскочили на коней. Двое из них проехали мимо дома и заглянули в сад. Желтый щенок выкатился неожиданно во двор и затявкал на троих отставших казаков, но тотчас его внимание отвлекли воробьи, тучей копошившиеся у конюшни, и он бросился за ними. Тут один из казаков, подъехавших к саду, окликнул остальных и на что-то им показал, те вытянули шеи, а один громко расхохотался. Мальчик посмотрел туда же. Между деревьями бежал, пошатываясь, молодой черноволосый мужчина в белой пышной рубашке со сборками и в зеленых брюках. Он был босиком. Тот, который его заметил, крикнул что-то бегущему, хлестнул коня поводьями и взял с места легким неторопливым галопом. Сад взбирался по склону вверх, и потому со двора все было видно как на ладони. Всадник поравнялся с бегущим мужчиной, что-то крича ему на ходу. Так, во всяком случае, казалось, потому что он свесился с седла. Четверо застыли на месте, один из них все еще посмеивался. Мальчик поднялся на крыльцо, чтоб лучше видеть. Черноволосый мужчина бежал все медленнее, не столько бежал, сколько качался из стороны в сторону, натыкаясь на деревья и отскакивая. Казак танцевал возле, легко поигрывая лошадью, и вдруг в какое-то мгновение выхватил шашку и словно нехотя взмахнул ею. Клинок живописно сверкнул на солнце, опустившись на обнаженную шею мужчины, и тут в яркие и сочные краски лета ворвался яркий и сочный багрянец. Голова внезапно исчезла. Словно по мановению волшебной палочки; и мальчик, наблюдавший за всем с крыльца, подпрыгнул от неожиданности. Обезглавленное туловище застыло на какое-то мгновение, верней, повисло, опираясь о сук яблони, затем мягко осело в траву.
— Ты что, Василь? — спросил подъехавшего всадника старый казак.
— Это бунтовщик, — спокойно ответил тот, вытирая шашку вынутой из-под седла тряпицей.
В эту секунду раздался страшный нарастающий крик, крик нутряной, дикий. Молодая женщина выбежала из гостиной и спросила, скорее удивленная, чем напуганная:
— Что случилось? Кто так кричит?
Мальчик, взбудораженный, сбежал с крыльца, показывая рукой в сад. Женщина направилась в ту сторону. Легавая, словно предчувствуя что-то, тяжело выкарабкалась из своей ямки и косоватой трусцой заспешила следом. Одна из казачьих лошадей заржала, ей ответило ржание из конюшни. В эту самую минуту у мальчика что-то выпало из руки. И он стоял в нерешительности, как бы борясь с самим собой, то ли смотреть в сад, то ли искать пропажу. Придерживая волосы, падавшие светлыми прядями на лицо, он наклонился и стал шарить глазами по земле, не уверенный, что потеря где-то рядом. Спустя примерно минуту он сделал несколько шагов, наклонился, поднял с земли какой-то небольшой предмет неопределенного цвета, нечто похожее или на стреляную гильзу, или на миниатюрную лодку, выструганную из коры. Дикий крик за домом достиг кульминации и, постепенно замирая, напоминал звук диковинного инструмента. Ребенок с предосторожностями очищал свою находку от песчинок или от налипшей грязи, оттирая ее о штанишки. Женщина вернулась. Ее лицо ничего не выражало, оно было очень бледно, будто это ее кровью только что оросили сад. Тот, который рубанул, молоденький паренек, почти мальчик, вновь повторил:
— Это бунтовщик!
— Правда это? — спросил старый казак, внимательно глядя на женщину.
— Правда, — сказала она тихо, потом подняла глаза и повторила громче: — Правда. — И вцепилась в стремя, и закричала: — Правда, правда, правда!
Казак повернул лошадь, но она ни за что не отпускала, тогда он отодвинул ногу, выдернул нагайку и, хватив ею женщину по спине, рассек платье. Но она, держась за стремя, не умолкала. Казак ударил еще раз, сильнее, женщина упала ничком. Из кузницы вышли люди, они равнодушно наблюдали за происходящим. Девка, которая, вероятно, кричала, появилась из-за дома и с тихим завыванием присела на корточки, оголив толстые белые бедра. Казаки ускакали. Тот, который зарубил, — последним. Возле заросшей диким виноградом стены он обернулся и посмотрел на мальчика. У него было круглое, почти детское лицо с хищными жестокими глазами. Четыре всадника исчезли за деревьями, замелькали поднятые вверх пики, а он все смотрел на мальчика. Этот взгляд не выражал ничего, взгляд ястребиного чучела со стеклянными глазами, но мальчик запомнил его на всю жизнь.
В Варшаве Станкевич остановился в «Европейской». Наступила пора карнавала, и гостиница, переполненная зажиточными помещиками из Волыни и Подолии, кипела жизнью. Единственный польский адрес, какой у него оказался, — это адрес, который мать еще в детстве написала ему в блокноте: «Хожая, 59 — тетя Анеля». Когда он постучал в обшарпанные двери, изнутри донеслось шарканье ног и низкий, почти мужской голос спросил, в чем дело. Он ответил, что его фамилия Станкевич и что он приехал из России. После некоторой паузы дверь открылась. На пороге стояла высокая дама в очках. Он щелкнул каблуками и, козырнув, весело воскликнул:
— Докладывает капитан Губерт Станкевич, гарнизон Казба, Кавказ.
— Пожалуйста, проходи, здесь темно, проходи.
Станкевич скинул пальто и вступил в небольшую комнатку, заваленную книгами, ворохами газет, одеждой, сложенной кучей за серой занавесью, отчего та вспучилась, грязной посудой и всевозможной рухлядью, в центре возвышался пыльный сундук, выполняющий явно роль стола, поскольку на нем красовались остатки трапезы.
— Боже мой! Губерт! Не верю, не верю, прости, пожалуйста, не знаю, о чем говорить, про что спрашивать, столько всего сразу в голове. Стой! Дай-ка я тебя сперва рассмотрю, иди, иди сюда. — Она потянула его к окну, внимательно вглядываясь в лицо маленькими близорукими глазками. Они были примерно одного роста, а Станкевич был высоким мужчиной. Лицо у тетки длинное, что называется — лошадиное, с большой челюстью, голова посажена на тощую и жилистую, покрытую как бы птичьим пухом шею. — Боже мой, до чего ты похож на Влодю! — воскликнула она. — Только чуть ниже и полнее. — Она отступила на шаг. — Да, несомненно, полнее, а может, просто у тебя более широкая кость. Ну а глаза материнские, только глаза, да, да, только глаза…
— Вот и жаль, — ответил Станкевич, приветливо улыбаясь.
— Ну ты, наверное, голодный. А я, представь себе, не ждала гостя. Дал бы заранее знать… Чай, конечно, есть, да, да, чай есть. Выпьешь чаю?
— С удовольствием, — отозвался Станкевич, все еще улыбаясь.
Тетка закрутилась сначала в одну, потом в другую сторону, словно испорченная ветряная мельница.
— Да, да, — твердила она, — да, чай, разумеется, с сахаром, с лимоном или с вареньем… — И тут она в растерянности глянула на Станкевича (было это очень трогательно, такая беспомощность) и спросила: — Ты ведь, верно, привык пить чай из чашки?
— Да, тетя, но могу из стакана или из чего хотите.
— Вот видишь, — воскликнула тетка, кидаясь в сторону темной кухни, — я так и думала, а у меня, понимаешь, ни того, ни другого, только чайник для заварки. Может, хочешь курить, есть английские папиросы, получила в подарок от Зули. Ты Зулю знаешь?
— Не очень… Боюсь, что нет, — ответил он, пытаясь на что-либо усесться.
Тетка нырнула головой под занавеску, и вскоре из объемистого сундука, который вместе с этой занавеской выполнял функции шкафа, начали вылетать разные предметы: кинжал с выложенной жемчугом рукояткой, юбки, простыня, части конской сбруи, книжки, яблоки…
— Тетя, не надо, тетя, папиросы у меня есть, — проговорил он, с опаской усаживаясь на бугристый диван, отчего вверх взметнулся фонтан пыли, которая, не ведая, где осесть, меланхолически устремилась к потолку.
— Есть папиросы? — радостно воскликнула тетка и, не дождавшись ответа, добавила: — Это замечательно, а то мои куда-то запропастились, может, Зуля их вообще не приносила. — Она откинула волосы, упавшие на лоб, и села на стул напротив.
Он протянул ей коробку с папиросами, но тетка только помотала головой, тогда он закурил и невольно стал шарить глазами по комнате.
— Пепельница… стой, пепельница! — Тетка схватилась за виски и сделала такой жест, словно собиралась возобновить свое вращение.
— Нет, нет! — воскликнул он. — Не надо, я ведь могу и не курить. Я только что выкурил папиросу в пролетке.
— Ах, так ты приехал в пролетке?
— Да, из гостиницы.
— Любопытно, я, видишь ли, совсем не езжу пролеткой. Ты, наверное, нашел меня с трудом, да?
— Да, действительно, но, как видите, все-таки нашел.
— О Боже! — Тетка вскочила со стула. — Ты же так хотел чаю!
— Нет, тетя, я как раз собирался сказать, что пил чай в гостинице, перед уходом.
— Ну, тогда пирожные, где-то у меня остались пирожные от Зули, она приносила мне к празднику… — Тетка вновь нырнула под занавеску, и раздались сопутствующие поискам звуки.
— Может, они на кухне? — высказал робкое предположение Станкевич.
— Какое там на кухне! — проворчала тетка придушенным от усилия голосом.
— Ага, понятно! — воскликнул он, воспринимая уже происходящее как некую игру.
— Что? — спросила из-за занавески тетка, повернувшись к нему своим плоским угловатым задом.
— Я вспомнил: я не люблю пирожных, просто ненавижу!
— Так бы сразу и сказал. А то я тут такой балаган устроила…
— Ничего, тетя, мы сейчас приберем.
Он поднялся и, забавляясь мыслью, что тетка малость не в себе, стал осторожно подбирать с пола все те предметы, которыми был нафарширован ее «шкаф», похожий вместе с этой вздутой занавеской на корабль под парусами.
— Оставим в покое чай, пирожные и папиросы, сядем и поговорим, затем я сюда и приехал, — сказал он, беря тетку под локоть.
Они сели на диван, поглядели друг на друга с улыбкой, после чего Станкевич спросил:
— Как вы живете, тетушка, чем? Это единственное ваше жилище? В общем, расскажите немножко о себе.
— Что там я, рассказывать нечего. Как живу, сам видишь, — махнула рукой тетка. — Расскажи лучше ты о себе.
— Что именно вас интересует?
— Боже мой, все: чем ты занимаешься, где живешь, есть ли у тебя семья, ведь я не знаю, абсолютно ничего не знаю, больше двадцати лет никакой связи…
Он провел рукой по жесткой щетке темных волос и, устроившись удобней, словно намереваясь приступить к длинной истории, сказал:
— Семьи у меня нет, я холост.
— Погоди, — перебила тетка, — ведь тебе, по-моему, больше тридцати.
— Тридцать четыре, — ответил он, покачав головой, словно желая тем самым выразить известную истину, что старость — не радость.
— Ах, как летит время, — вздохнула тетка. — Я помню тебя еще совсем маленьким мальчиком. Ты живешь в Москве?
— На Кавказе.
— На Кавказе?.. А что ты там делаешь?
— Служу.
— Где?
— В армии.
— Вот оно что, — прошептала тетка, и по ее некрасивому лицу скользнула тень то ли стыда, то ли неприязни.
Он заметил это, удивился и, ощутив раздражение, сказал отчеканивая каждое слово — пусть не остается сомнений:
— Я офицер, кадровый офицер.
— Вот оно что, — протянула тетка и минуту спустя спросила, с достоинством выпрямляясь и поднимая голову: — Ну а как там Ванда?
— Мамы нет в живых, умерла две недели назад.
Наступило молчание, оно так затянулось, что он подумал про себя, не пора ли прощаться. Тетка, вытянувшись всего минуту назад, как гренадер на смотру, вдруг осела, и выражение беспечной насмешки и веселья на ее лице сменилось смущением и неуверенностью. Она придвинулась к нему и, взяв его руку в свою мужскую костистую ладонь, тихо сказала:
— Выходит, ты сирота, потерял обоих родителей, нет у тебя никого, ты сирота. Твой приезд в Польшу связан со смертью матери?
— Да, — буркнул он. — Это одна из причин моего приезда в Польшу. — «Одна из причин» он выделил особо. — Я ощутил одиночество и понял: надо искать опору в чем-то более солидном и прочном, чем приятели или, скажем, товарищи по полку.
Тетка вздохнула и, поглядев на него своими близорукими глазами, похожими на две черные точки за толстыми стеклами очков, проговорила:
— Если я правильно тебя поняла, ты ищешь опоры у родственников. Это вполне естественно.
— Конечно, конечно, — ответил он и подумал, что тетка не такая уж сумасшедшая и не такая дура, как ему показалось…
— Близких родственников у тебя никого нет — кроме меня, разумеется. Нас в семье было пятеро, но только твой отец и я достигли зрелого возраста, остальные умерли в детстве. Из семьи твоей матери, насколько я знаю, никого уже не осталось. Она была единственной дочерью, правда?
— Да.
— Вот так-то. Еще есть, разумеется, двоюродные братья и сестры, и с одной и с другой стороны, живут даже не очень далеко от Варшавы, потом еще куча дядюшек и тетушек, но это дальние родственники.
— Что касается близких, то вас, тетя, мне вполне достаточно, — сказал он с теплотой в голосе, давая меж тем понять, что не он нуждается в поддержке и утешении, а сам, напротив, готов предложить их тетке.
— Отчего умерла твоя мать?
— Не знаю. Это произошло внезапно. Наверное, сердце.
— Да, — вздохнула тетка, поправила салфетку на подлокотнике и, глядя куда-то вбок, неторопливо произнесла: — Должна тебе сказать, брак Ванды с этим москалем произвел ужасное впечатление. Через несколько лет после восстания, после всего того, через что прошел наш народ, после усиления русификации… Ванду всюду осуждали.
— А вы, тетя? Как отнеслись к этому вы, тетя?
— Так же, мой друг, так же, во всяком случае вначале. Потом я подумала: жизнь, в конце концов, всего одна, и, в конце концов… Видишь, Губ, твоя мать была редкой красавицей, она нравилась мужчинам… Знаешь, вопреки традиционным представлениям и то и это не всегда совпадают. Она была очень красивой и очень ravissante[3], я всегда ей завидовала.
Потом говорили о детских годах Станкевича в России, о гимназии, о военном училище, о Кавказе. Тетка расспрашивала осторожно, старательно избегая всего, что имело отношение к отчиму. Чувствовалось, многое ее интересует, тем не менее она сдерживала себя, не давая воли любопытству. Этим она напоминала старца, в котором рассказ молодого человека о его рискованных похождениях вызывает борьбу сладострастного интереса с порожденной воспитанием невозмутимостью.
Станкевич рассказывал о людях, с которыми познакомился, о своих симпатиях и антипатиях, об огромных просторах той страны, о существующих в армии порядках, о природе и о пейзажах, он старался излагать ясно и объективно, растолковывая все, чего тетка не понимала: вещи далекие и экзотические, все то, что без дополнительных разъяснений могло остаться загадкой. Она же тактично, любезно и деликатно демонстрировала свое отрицательное отношение к его жизни, словно ее собственное существование в маленькой грязной квартирке темного и мрачного дома, который она вряд ли покидала последние тридцать лет, было наилучшим выходом из положения.
— Ладно! Хватит про меня! — воскликнул он наконец. — Очень мне все-таки хочется услышать кое-что и про вас.
Она сняла очки, вытерла платком глаза.
— Не знаю, право, не знаю, о чем можно рассказать. Преподаю английский язык. Последнее время у меня неладно с глазами. Я даю лишь разговорные уроки. Есть две таких семьи. Никуда не выезжаю, нигде не бываю. Как тебе, верно, известно, так и не вышла замуж. Нет, нет, ничего интересного сказать о себе не могу.
— Значит, вы живете уроками?
— Да. А ты английский знаешь?
— Всего несколько слов. В гимназии я учил французский и греческий.
Прощаясь, он предложил тетушке постоянную денежную помощь, но та бурно запротестовала. Они договорились, что он навестит ее на будущей неделе. А пока решил навестить родственников-помещиков неподалеку от Лодзи, их адрес дала ему тетка.
Варшава не произвела на Станкевича благоприятного впечатления. Город небольшой, грязный, провинциальный. Может, сказалась и погода. Было сумрачно и сыро. Вдоль домов и тротуаров лежал серый талый снег. Люди какие-то замкнутые, говорят торопливо, тихо, выглядят подавленными. Не тот ли это город, подумал он, где жители, погрузившись в повседневные заботы, сами не знают, для чего они существуют? Нет фривольной фантазии Одессы, нет изощренной жажды жизни и наслаждения ею, как водится в Петербурге, нет изобилия всех мыслимых товаров под дымкой добродушия и покоя, что характерно для Москвы. Варшава, правда, не производила впечатления оккупированного города, но вместе с тем не была независимым, свободным городом, это тоже как-то ощущалось. Давали себя знать мягкий, всепроникающий, побуждающий к покорности диктат и своеобразное сопротивление ему, скорее в интеллектуальной, чем в эмоциональной, сфере и потому не всеобщее.
«Что такое Польша? — рассуждал он сам с собой, огибая лужи. — Привислинский край, такой же, как, скажем, Приамурский и всякий другой. Много всяких краев в империи, и этот — один из них. Даже надписи всюду русские, что там говорить «Польша», просто смешно».
Не обнаружил он в городе ни красивых экипажей, ни пышных выездов. Да и в России отошли в прошлое времена, когда знать обеих столиц щеголяла своими выездами. Хотя там и сейчас хватало великолепных ландо, карет и тарантасов, а зимой саней, запряженных сытыми норовистыми рысаками с колокольчиками. Здесь тащились по улицам обшарпанные пролетки, запряженные полуживыми, вызывающими жалость клячами.
В ресторане гостиницы обед был вкусным, но не изысканным, не утонченным, готовил его ремесленник, не повар, думающий о рафинированном клиенте, а ведь — черт побери — мог появиться и такой! Зато прислуга в гостинице была скромной и ненавязчивой. На следующий вечер он отправился в театр. Давали французский фарс «Жак в затруднении», играли плохо, на провинциальном уровне. Герой то и дело хватался за голову, крича, что больше ему не выдержать, что он бросится в пруд, после чего убегал за кулисы и минуту спустя возвращался в платье, с которого ручьями текла вода. В зависимости от ситуации это были то визитные брюки, то рабочий костюм, то ночная рубашка. Публика всякий раз долго хлопала и кричала «браво», разрушая тем самым и без того лишенное темпа представление. С «Аиды» он ушел в середине второго действия. Он не был знатоком оперы, но не надо было и быть знатоком, чтобы понять: оркестр здесь сам по себе, певцы сами по себе, декорации, по всей видимости, из другого спектакля, голоса плохо поставлены и вообще никуда не годятся. Он вспомнил ту же оперу пятнадцать лет назад в Александрийском театре в Петербурге, где был тогда вместе с матерью и Костей. А здесь он просто побывал на скверной репетиции Верди.
Зато ему понравилось по-своему изысканное Краковское Предместье, великолепная Замковая площадь и Рынок. Его внимание привлекли несколько нарядных и выдержанных в хорошем стиле дворцов, не уступающих дворцам в Петербурге. Он обратил внимание и на простой люд, который показался ему столь же бедным, как и в России, пожалуй, только менее примитивным и грубым. Но два-три положительных момента не сглаживали общего неблагоприятного впечатления. Все эти разговоры насчет второго Парижа — явное преувеличение, подумал он, возвращаясь как-то ночью к себе в гостиницу.
Родственники, с которыми посоветовала встретиться тетка, жили между Варшавой и Лодзью. Деревня называлась Соботты. До Ловича он ехал поездом, оттуда — двенадцать километров на нанятой у еврея бричке. Хотя он прибыл без предупреждения, его, как водится, приняли гостеприимно, правда, с той ноткой переполоха, какую вносит приезд абсолютно незнакомого человека.
Он был двоюродным братом хозяйки дома Эльжуни Рабской, молодой женщины, подурневшей от преждевременной тучности. Хозяин дома уехал по делам и должен был вернуться лишь к ужину. Эльжуня обменялась со Станкевичем двумя-тремя фразами и подкинула его, весьма кстати, очень милому старику в чемарке, занявшись своими материнскими обязанностями.
— Обед в четыре! — обернулась она, скрываясь в дверях.
Старикан провел Станкевича по поместью, показал каких-то необыкновенно породистых свиней, завезенных из Англии, после чего пригласил к себе в комнату и битых два часа рассказывал забавные истории из жизни австрийской армии. В четыре сели обедать, Станкевича представили грозной старухе, готовой, казалось, пожрать не только обед, но и сотрапезников. Это была мать Ксаверия Рабского, мужа Эльжуни. После супа старуха, сложив под подбородком маленькие сморщенные ручки и чмокнув вялыми губами, произнесла неожиданно громко и отчетливо:
— Замечательный суп, с сельдереем, очень хороший суп. — И, обращаясь к Станкевичу, спросила: — D’où venez-vous?[4]
— De Russie, madame.
— Ah oui, Moscou, St. Pétersbourg, oui, oui… Russie[5].
После обеда раскапризничавшиеся за отдельным столом дети были отправлены в постель, старушка удалилась к себе, а Эльжуня, произнеся со вздохом: «Наконец-то минута покоя», велела подать кофе в гостиную и пригласила туда Станкевича. Гостиная была невелика, но со вкусом обставлена. На светлых обоях представлены стилизованные под старину гравюры, охотничьи сцены. Над камином портрет толстяка в польском национальном костюме. Дверь в соседнюю комнату была приоткрыта, и виднелась часть стены со штуцером на фоне красных обоев.
— Кабинет Ксаверия, — пояснила Эльжбета, плюхнувшись на диван и указав Станкевичу кресло напротив. Лакей внес кофе и сливки. Эльжуня разлила кофе по объемистым чашкам и равнодушно осведомилась: — Ну как там тетя?
Станкевич погрузился меж тем в созерцание мужчины на портрете — полное лицо, мягкие черты и выражение какого-то безразличия, скорее, отчужденности. Все это, казалось, кого-то ему напоминало. И потому, не слыша вопроса, а может, не обратив на него внимания, он спросил, указывая на портрет:
— Кто это?
— Стольник Марек Солтанович, прадед моего мужа.
— Вот как, — буркнул он, словно слегка разочарованный.
— Я спрашивала про тетю Ванду, — сказала Эльжуня, держа обеими руками чашку.
— Про мою мать? Она умерла.
— А мы ничего не знали. Когда это случилось?
— Недавно, совсем недавно.
Эльжбета кивнула и безучастно произнесла:
— В таком случае мои соболезнования, мои, Ксаверия и всей семьи. — Затем добавила: — Потерять мать — всегда потрясение.
Этим «всегда» она как бы хотела сказать: «какова бы она ни была». Получилось как-то неестественно и недружелюбно.
С самого начала, с первых слов приветствия, Станкевич ощутил неприязнь к этой молодой, сильно располневшей женщине, полусонной и скорее дурно воспитанной, чем несимпатичной. У нее были сальные рыжие волосы, торчащие коком и перехваченные лентой. Вместе с запахом пота от нее исходили те женские флюиды, которых Станкевич не выносил.
— Ну а как твои успехи? — спросила она все тем же равнодушным тоном.
— Не так уж плохо. — Станкевич допил кофе и, вытягивая ноги, сказал: — Когда мы были маленькими, мы играли в серсо, это я хорошо помню. Ты была горластая командирша, отобрала у меня однажды палочку и велела играть только одной рукой. Не знаю, как это тебе удавалось, но ты всегда выигрывала, хотя я был быстрей и проворней.
Эльжуня улыбнулась, обнажив красивые белые зубы:
— Что ж, не иначе как пресловутое женское коварство.
— Где ж это было?
— Это могло быть только у моих родителей в Шепелювке. Ты приезжал туда с тетей на лето. Ты был худой и прожорливый. Мог поглотить невероятное количество пищи. Отвратительная жадность.
Станкевич улыбнулся и тихо произнес:
— Думаю, Эльжуня, я просто-напросто изголодался. В Кельцах нам с мамой случалось жить впроголодь.
— Не преувеличиваешь ли?
— Мы жили только на то, что мама зарабатывала игрой на фортепиано. Надо было платить за комнату, за дрова, за доктора, лечившего меня от моих вечных бронхитов, на еду оставалось не так уж много.
— Все равно никогда не пойму, как тетя могла выйти за этого Дябилева, или как его там.
— За Тягилева, — поправил он.
— Ужасно, — вздохнула Эльжуня. — Говорят, порох, а не человек, кажется, татарин по происхождению.
Станкевич расхохотался:
— Костя? Да, жуткий азиат, совершенный Чингисхан. — И он представил себе утонченного Костю, как тот в бурке на косматой лошаденке бешено мчится, догоняя цивилизацию, топча степную траву. Это его изрядно позабавило. — И тем не менее, — продолжал он, не прекращая смеяться, — он переводит Рембо.
— А это кто такой? — спросила Эльжбета, обескураженная его реакцией.
— Французский поэт, очень талантливый.
— Ужасно, — буркнула она, причем было непонятно, относится ли это к Косте или к Рембо.
Станкевич встал и заглянул в кабинет, подошел к стене, снял ружье. Это был короткоствольный самозарядный бельгийский штуцер с оптическим прицелом.
— У тебя муж охотник? — спросил он, рассматривая штуцер.
— Да, немного.
— Где он охотится?
— Тут поблизости есть лес.
— И что стреляют?
— Зайцев, иногда кабанов.
Он повесил штуцер и, сунув руки в карманы, подошел к окну.
— А у нас, — сказал он, — осенью или в начале зимы, пока нет снега, охотятся с лошадей на волков. Например, в имении у старика Тягилева. — И он глянул на пейзаж за окном. Часть парка, вдали поля и на горизонте низкий рахитичный сосняк вперемежку с лугами.
— Тетя очень мучилась? — спросила Эльжбета, оборачиваясь после минутной паузы к окну.
— Нет-нет, не думаю, она умерла от сердца, а это, как правило, легкая смерть.
— Да ведь я не про то спрашиваю. Я спрашиваю тебя, была ли она там, в России, несчастна? Тяжело ли ей было?
Он медленно приблизился и, склонившись над ней, заговорил спокойно, хотя в тоне сквозило раздражение:
— Вижу, Эльжуня, ты все превратно понимаешь. Правда, мать не была, как я полагаю, влюблена в Тягилева, но, может, именно потому, что их связывало нечто иное, чем любовь, брак оказался удачным. Настолько удачным, что их ставили другим в пример. Их связывали общие интересы, страсть к музыке. Они любили своих друзей и знакомых. Были друг к другу снисходительны, но никогда, насколько мне известно, не перешли той границы, за которой снисходительность превращается в равнодушие. У мамы была камеристка, горничная и парикмахерша. Ложа в московском театре, а когда бывала в Петербурге, то пользовалась ложей Шереметьевых или Авгинских. Когда поехала с друзьями на воды в Германию, Костя заказал салон-вагон, но вовсе не затем, чтобы кичиться богатством, а лишь из одной только заботы об удобствах и комфорте. Да, моя дорогая, тот самый комфорт, который ей компенсировал годы бедности, грязи и прозябания здесь, в ее отечестве, бок о бок с сытыми, веселыми и, разумеется, любящими родственниками. И мама это ценила, была благодарна, жила в комфорте, который для Кости был чем-то само собой разумеющимся, а для нее — соблазнительным и желанным. У нее было двадцать платьев, для каждого месяца в зимний сезон — меховое манто. Она обожала конную езду и ездила на лучших лошадях, какие только были на конном заводе у Сухотина. У нее была масса свободного времени, она могла посещать картинные галереи, было достаточно денег, чтоб приобретать хорошие картины. А муж не был диким азиатом, это умный, утонченный человек, в молодости красавец. Прости, но причин для одичания не было. Я думаю, — он отодвинулся от Эльжбеты и сел в кресло, — то было лучшее время в ее жизни.
— А в твоей? — осведомилась Эльжбета, отчасти уже убежденная в правильности того выбора, который сделала ее тетка.
Он улыбнулся и, барабаня пальцами о полированный подлокотник кресла, ответил:
— Когда я покинул Польшу, мне было десять лет. Россия — вся моя жизнь. Я ни в чем не нуждался, кончил хорошую школу, у меня работа, которая, смею надеяться, мне по душе, достаточно денег. В эту страну я уже врос. À propos[6], как я говорю по-польски?
— Превосходно, хотя иногда смешно растягиваешь слова. Ты говорил с тетей по-польски?
— Да, разумеется.
— Ты сын повстанца. Не было у тебя в связи с этим никаких трудностей?
— Как же, были. С математикой в гимназии, а потом в военном училище.
— И это все?
— Из серьезных трудностей — да.
— То, что ты говоришь, очень печально. — Эльжуня встала и прошлась взад-вперед по гостиной. — После ужасной смерти твоего отца, после конфискации имения, которое было в конце концов не утратой скольких-то там моргов земли, а прежде всего духовной потерей, после того, что стало и является уделом всех нас, живущих здесь, рассуждать так, как ты, предосудительно, просто невозможно.
— Не понимаю. — И он склонился в ее сторону с вопросом в глазах.
Эльжбета вздохнула и немного помолчала.
— Ты, кажется, видел смерть отца?
— Да, мне было тогда пять или шесть лет.
— Какая ужасная смерть, не так ли?
— Как всякая иная.
— О нет, мой друг, то была особая смерть.
— Допустим. Я думаю, отец был тогда не в себе. Он вряд ли понимал, что с ним происходит.
— Вряд ли понимал?..
— Как тебе известно, у отца были больные легкие, в лесу наступило обострение. Когда его после кровотечения принесли весной на шинели, он был в ужасном состоянии, по существу, он так и не оправился. Недели за две до гибели у него началась горячка, он бредил, терял надолго сознание, как потом говорила мать. В тот день он лежал в саду, вдруг увидел казаков, и мгновенно произошла реакция, фатальная по своему исходу.
— Как можешь ты так говорить! Как можешь! Кто понарассказал тебе этой чуши? — Эльжбета двинулась в кресле, словно желая отстраниться от Станкевича.
— Разумеется, вполне я в этом не уверен, ведь я тогда был совсем маленьким мальчиком и наблюдал издалека, но полагаю, что так оно и было.
— Но ведь он хотел остеречь! — Эльжбета так ударила по столику, что подскочили чашки. — Бежал, чтоб остеречь, дать знать!
— Остеречь кого?
— Товарищей, своих товарищей. Бежал, чтоб их остеречь, сообщить, что в деревне казаки. Не понимаешь ты этого?
— Эльжуня, извини, но я думаю…
— Меня не интересует, что ты думаешь, — ответила она резко. И вновь принялась расхаживать по гостиной.
Он опустил голову, в раздражении стиснул зубы. Решил, что дискуссия лишена всякого смысла, потому что один Господь Бог ведает, если, конечно, он существует, что намеревался сделать его отец, вскочив со своего смертного ложа. Но если только в принципе этот спор возможен, то его собственная интерпретация все-таки ближе к истине.
За ужином он познакомился с Ксаверием Рабским, славным толстяком, который пригласил его на бал, даваемый по случаю карнавала его дядюшкой в Недомышах.
Они опоздали, и, когда их ввели в залу, убранную сосновыми ветками с ленточками фольги, там было уже множество народу. На обитом красным плюшем возвышении разместился еврейский оркестр из пяти человек.
К ним подошел высокий тонкий мужчина с приятным открытым лицом и, дружески обняв, сказал, что их опоздание вызвало беспокойство, что ужин через полчаса, а пока он предлагает шампанского. Он дал знак молоденькому лакею в ливрее, и тот благоговейно, словно поднося святые дары, приблизился с подносом. Эльжуня, в фиолетовом платье, которое отчасти скрадывало ее пышные формы, была простой и обаятельной. Ксаверий во фраке, несколько узковатом для него, напоминал задравшимися вверх полами веселящегося поросенка. Станкевич отпил из бокала и оглядел зал. Было тесновато, зал не больно велик, и потому все точно вжаты друг в друга. Поворачиваются и двигаются медленно и осторожно, стараясь не толкнуть соседа и не наступить ему на ногу. Приоткрытая двустворчатая дверь вела в столовую, откуда доносилось бряканье расставляемых тарелок и звон рюмок. Он подумал, что присутствующие, видимо, хорошо знакомы друг с другом и что это скорее семейная вечеринка, чем бал, сулящий и тайны, и сюрпризы. Мужчины все были во фраках, дамы одеты скромно, неброско, почти без декольте. Разговаривали оживленно, но тихо, улыбались сдержанно, атмосфера была теплой и непринужденной.
Славно тут, уютно, безопасно, подумал он, никто никому не даст пощечины, никого из девушек не соблазнят, никто из мужей не будет обманут, никто из юношей не загорится любовью.
— Позволь, Оля, это наш друг, кстати, свойственник Ксаверия, пан Станкевич. — И хозяин представил Губерта невысокой полной блондинке, чей облик как-то не вязался с ролью тетки пана Рабского. — Вообрази, пан Станкевич приехал к нам из России.
Дама протянула Станкевичу крохотную потную лапку. Он по-военному щелкнул каблуками и кивнул.
— О, так вы, вероятно, офицер, — протянула она, зардевшись от удовольствия.
— Да, к сожалению, — ответил он тем тоном, каким сразу, почти машинально и без раздумья, разговаривают с определенной категорией женщин.
— Почему ж «к сожалению»? Армия была мне всегда по душе. Будь я мужчиной, я б стала гренадером. Знаете… — Какую-то долю секунды она колебалась, а потом с улыбкой спросила: — Как ваше имя?
— Губерт.
— Так вот, пан Губерт, год назад у нас в округе после каких-то там маневров, я не знаю, после чего-то там еще стоял полк лейб-гвардии. Они были очаровательны. Тадеуш пригласил нескольких офицеров на ужин — правда, после моих усиленных просьб. Очаровательны, скажу я вам, очаровательны и все превосходно говорили по-французски.
— Я служу в менее привилегированных частях, — сказал он, поигрывая пустым бокалом, — зато на Кавказе.
— Замечательно! — воскликнула дама. — Но это же потрясающе! А татар вы видели?
Он отдал бокал проходившему мимо лакею и, склонившись над ней, доверительно зашептал:
— Татар, увы, там нет, зато есть черкесы, народ еще более дикий и жестокий. И очень красивый. Но это абсолютная тайна.
— Да, я сохраню, сохраню! — воскликнула дама и, лукаво щуря глаза, добавила: — И несмотря на это, а может, именно благодаря этому Кавказ должен быть восхитителен.
— Он восхитителен еще и по иным причинам. Но скажите, вы ли приходитесь пану Рабскому тетушкой или он вам дядей?
— К сожалению, первое. Это тем более ужасно, что Ксаверий старше меня лет на десять. Я имела неосторожность выйти замуж за его дядю.
— Да, да, полнейшая глупость. Ксаверий всю дорогу только и говорил: тетушка то, тетушка сё, и я, извините за откровенность, рассчитывал встретить старую развалюху, а тут тетушка, которой многие могут позавидовать.
Дама от души рассмеялась и, пожелав ему хорошенько повеселиться, направилась к двум толстякам, рассуждавшим о прошлогодних ценах на хлеб.
В девять в соседнем зале подали ужин, потом начались танцы. Станкевич в связи с трауром по матери участия в них не принимал. Зато с интересом наблюдал за девушками, за молодыми женщинами, кое с кем даже заговаривал. И убедился, что это все милые, хорошо воспитанные, однако почти сплошь глупые и некрасивые существа. Пожалуй, «некрасивые» было не то слово. Красота была у них какая-то смутная, размытая, лишенная определенности и силы. Невысокие, коротконогие, с мелкими зубами, невыразительными глазами. Они нервно комкали в потных ладошках платочки и отвечали не размышляя, с боязнью и невпопад.
Мучаются, бедненькие, подумал он с сочувствием, танцуют, бегают, улыбаются — и все-таки мучаются.
И ему вспомнился хлеботорговец из Подолии, с которым несколько дней назад он завтракал в гостинице. Разговор шел о женщинах.
— С чего бы это им, сударь, быть хорошенькими, — ворчал хлеботорговец, пожирая огромную яичницу, — если они, извините за выражение, спариваются только со своими родственниками. Дядюшка с кузиной, кузен с теткой, тетка с дядюшкой и так далее. Все друг другу родня — дальше ехать некуда. Это у них называется «связи». К чертям деньги, к чертям здоровье, к чертям здравый смысл! Связи — вот что для них главное. И, выходит, ни полета, ни размаха. Ножка коротенькая, часто кривая, грудь как кроличье ухо, глазки маленькие, подслеповатые с рожденья, волосики — мышиная шерсточка. Вот в России, сударь, женщины — это да, там и украинец постарается, и прибалт, и татарин, и армянин. Там все перемешалось, так и умираешь от любви. Граф возьмет себе цыганочку, держит неделю, держит месяц, держит год, надоест — прогонит к матери-перематери, не надоест — будет жить с ней до старости, родит она ему ребеночка, так он его признает, часом даже полюбит. Да вы сами не хуже меня разбираетесь. Был у меня там один такой знакомый, сударь, женился на графине, красивая даже, только с самого начала было ему что-то не того, через год — развод, попьянствовал малость, погулял, взял потом себе самую что ни на есть простую казачку, и живут до сих пор, нарожала ему ребятишек — пальчики оближешь, а он, сударь мой, князь, да, да, князь. Здесь этакое себе представить трудно.
И теперь, глядя на этих девушек, он подумал, что в вульгарной болтовне случайного соседа по столу заключалось зерно истины. Именно потому, надо полагать, все эти люди показались ему столь похожими друг на друга, не хватало удивительных и поражающих глаз контрастов, вызванных несхожестью человеческих типов. Здесь разница сводилась лишь к возрасту, к полу, возможно, к комплекции.
«Да, да, — твердил он про себя, — это одна семья, к тому же не лучшая».
Разговоры показались ему пресными. Мужчины толковали о делах, которые шли неважно, женщины мило улыбались и слегка сплетничали или рассказывали о детях. Добрые, милые люди, подумал он, но какая скука.
И он вспомнил о Сашеньке Джалакаревой, подруге матери, и рассмеялся про себя, посадив ее, к примеру, вон там, у печи, между матронами и группкой взбудораженной чем-то молодежи. И в самом деле, было б забавно. Сашенька, которая семнадцатилетней девушкой позировала Шницлеру для статуи Афродиты. Сашенька, которая переодевается по нескольку раз на дню и строит себе экстравагантную и сказочно красивую виллу на Ланжероне в Одессе. Сашенька, которая купается нагишом в фонтане под окнами великого князя в Архангельском. Сашенька, разъезжающая зимой дюжиной троек по Дону и пьющая из ведра самогон с казаками. Сашенька, в которой так безрассудно бурлила кровь калмыков, русских, казаков и черт знает кого еще. Это о ней рассказывал распутный купец, это ее имел он в виду, перечисляя сражающих наповал красоток империи. О чем стала бы она разговаривать с Ксаверием Рабским или вон с той мышкой, только что пытавшейся сплясать оберек, что могла бы она сказать тем матронам у печи, одетая в платье, которое обнажало ее широкую смуглую спину едва ли не до самой талии?
В полночь подали пунш. Танцевали до двух. Шестеро гостей уехало, несколько пожилых мужчин устроилось в кабинете за картами, остальные легли кругом на полу, словно у костра. Возобладало благоговейное настроение. Вот-вот заявится какой-нибудь достопочтенный ксендз и отслужит мессу, подумал Станкевич. И месса действительно состоялась, только без ксендза. Одна из пожилых женщин, все еще сидевших у печи, запела песню, остальные подхватили. То была трогательная история солдата, сражавшегося во имя важного и благородного, а следовательно, обреченного на гибель дела. У Станкевича перехватило дыхание. Потом спели еще несколько песен, но ни одна не была столь прекрасной и печальной, как первая.
— Вот наши повстанческие песни, вернее, молитвы, — шепнула ему на ухо Эльжбета.
Она тоже была растрогана, ее пухлое лицо стало почти красивым.
Неожиданно Ксаверий подвел его к сидевшей возле окна пожилой даме. Станкевич давно обратил на нее внимание. С самого начала она сидела, не двигаясь и опираясь на трость, в специально, надо полагать, приготовленном для нее кресле. Лицо умное и печальное одновременно.
— Я слышала, вы из России, — сказала она так громко, что несколько гостей повернулись в их сторону. Он кивнул и, заложив руки за спину, стал рядом, наклонившись к ней.
— Ксаверий мне говорил, что вы собираетесь вернуться в Польшу?
— О, это пока еще не решено.
Она покачала головой и минуту спустя, уже тише, сказала:
— Возвращайтесь. Нам сейчас как никогда нужны образованные и энергичные люди. Как раз такие, как вы, не зависящие от имений, от земли. — Она повернула голову, глянула на него быстрыми, живыми глазами. — Я хорошо знала вашего отца. Я дальняя родственница ваша и Эльжуни Рабской.
Станкевич кивнул и пробурчал нечто неопределенное.
— Возвращайтесь! — повторила она настойчиво и, стукнув палкой о пол, добавила: — Я живу в Лодзи, там много фабрик, но ни одна не принадлежит поляку. Владельцы — евреи, немцы, русские и черт знает кто, но только не поляки; это значительно хуже, чем проигранное восстание. Мы судорожно цепляемся за приходящие в упадок поместья, теряя самое важное. Промышленность — вот сила, а сила — это власть. Здесь нужны молодые, образованные, независимые люди. Земля дает нам возможность существовать, однако не прибавляет силы. Ваш отец был отважным и порядочным человеком, но привязан был к тому, что кануло в вечность. — Она глубоко вздохнула и, поправившись в кресле, продолжала: — Все, кого вы здесь видите, — люди дельные и порядочные. Только что проку? И потому возвращайтесь. Вы одинокий, вам нечего там искать. Ваша страна здесь. Кавказ оставьте в покое. Наверняка прекрасные края, но не наши. — Она опустила голову и добавила что-то еще, но так тихо, что Станкевич не расслышал. К утру сплясали мазурку. Все были усталые, сонные, но, когда грянул красивый, стремительный мотив, с огоньком исполненный оркестром, танцоры сразу вошли в ритм и заплясали вовсю. Прислонясь к стене, Станкевич не без удовольствия наблюдал мчащиеся мимо пары. Пока ехали обратно в Собботы, он всю дорогу напевал эту мелодию.
В Варшаве он проторчал еще около двух недель. Побывал в нескольких кафе, еще раз в театре, теперь уже на весьма забавной комедии Балуцкого.
В начале февраля наступили солнечные, почти весенние дни, и он много бродил по городу, по Лазенкам, Уяздовским Аллеям, полюбил с наступлением сумерек смотреть из Старого Города на Вислу. Как-то вечером поужинал с молодым пехотным поручиком, трапеза завершилась отчаянной попойкой. Фамилия поручика была Кузнецов, он отличался феноменальной глупостью и с плебейским энтузиазмом относился ко всему, чем в настоящий момент увлекался. Весь вечер, не умолкая, он твердил, что Варшава — самый симпатичный из всех известных ему городов. Станкевич не возражал, и, кстати, не ошибся, потому что, как выяснилось позднее, Кузнецов, кроме Варшавы, знал только Кострому, где родился. В полночь заглянули к девочкам, там было и в самом деле весьма славно.
В один из таких погожих, почти весенних дней он отправился в фиакре на Хожую и забрал тетю Анелю на прогулку по городу. Они проехали королевским трактом до Рынка, потом спустились вниз, к Висле, и дальше направились по набережной. Он обратил внимание на большое количество барж с песком, на землечерпалки. На берегу крутилось множество людей, решавших какие-то дела, было немало рабочих, занятых своим трудом. Внезапно тетка указала на громадные форты слева от дороги.
— Это Цитадель, — сказала она с оживлением, — здесь содержатся самые мужественные и самые честные поляки.
И тут он понял: пора излить раздражение, копившееся все дни его пребывания в Варшаве, — оно, это раздражение, позволяло ему улыбаться, разговаривать, слушать других, но росло, усиливалось, как растет в человеке усталость на долгом, изнурительном марше.
— Итак, это тюрьма, — произнес он громко. — Ничего особенного, у нас тоже есть тюрьмы, там держат бандитов, проституток, иногда анархистов и вообще всякую сволочь.
— Да ты что?.. — перебила его тетка. — Это место, где сидят борцы за свободу… борцы… — И она замахала рукой в грязной шерстяной перчатке.
— Дорогая тетя, не вижу оснований убиваться из-за людей, которых по тем или иным причинам пришлось изолировать от общества, ибо жить в обществе они не смогли. Совершенно безразлично, женщина ли это, которая продает себя на улице, анархист ли, который мечет бомбу в карету государственного чиновника. — Он хватил себя рукой по колену и добавил со злостью: — Одна и та же сволочь!
За Цитаделью они повернули влево и доехали полями до города. Это было дня за два до возвращения в Россию. Они сердечно распрощались, и ему удалось вырвать у тетки обещание, что, в случае если со зрением у нее станет хуже или по какой другой причине прекратятся ее уроки, она разрешит ему переводить иногда ей деньги. Тетка начертала у него на лбу крест, поручая божьей опеке.
Расположившись в удобном пульмановском вагоне, он подумал, что поездка в Польшу была удачной, но, в сущности, ничего не изменила. Он уезжает точно таким же, каким приехал, ничуть не лучше, ничуть не умнее, хотя в то же время не хуже и не глупей. Он не мог вспомнить, с какими надеждами прибыл, кроме надежды отыскать близких, которые были бы для него чем-то большим, чем близкие люди в России.
Ему было не совсем ясно, зачем он взял с собой шкатулку с памятками от родителей: за месяц своего пребывания он так ни разу в нее и не заглянул. Он не нашел в Польше того духа, который постоянно ощущал в матери независимо от места и времени ее обитания, в душе не ожили столь сладкие воспоминания детства, не нашли осуществления и те неопределенные и смутные желания, исполнение которых было бы для него сюрпризом, чем-то таким, чего он не мог предвидеть, но на что в глубине души рассчитывал. Итак, всего этого он не обнаружил. Но было очевидно и другое: поездка в Польшу не обернулась неприятностью. Напротив. Он хорошо ел, много спал, изрядно гулял, имел возможность познакомиться с любопытными вещами, поговорить с милыми людьми. Нараставшее в течение месяца раздражение как рукой сняло, едва он занял место в вагоне, собственно, исчезло оно даже раньше, в минуту прощания с теткой, и он приписал это своему внутреннему упрямству, тому духу противоречия, который был присущ ему с самого детства. В одном только он был уверен: если не возникнет необходимости, он сюда не вернется.
Когда поезд тронулся, в купе постучался пожилой, элегантно одетый господин, представился и пригласил его на коньяк в вагон-ресторан. Станкевич с удовольствием согласился.
V
В крепость он вернулся в начале апреля. Товарищи встретили его сердечно, некоторые вроде бы даже смущенные тем, что упрекали прежде в садизме и жестокости. Лодинский от имени офицеров принес ему соболезнование. В первый же день он выяснил, что Демьянчука уже нет. Он проболел всю зиму, были осложнения, подозревали даже туберкулез, кончилось, однако, все благополучно, и в середине марта Василь после почти тридцатилетней службы вышел в отставку.
Станкевич выслушал все это внимательно и с удовлетворением. Пришлось бы разбираться с Демьянчуком до конца, думал он, но раз его нет, то на нет и суда нет, слава Богу, что нет. Он с удовольствием окунулся в жизнь гарнизона.
Наступила непередаваемая кавказская весна. Любая поездка: учения, патрульная служба, конвои — заставляла его любоваться ошеломляющей природой этого края. Потом пришло знойное лето, и Станкевич вместе с Ильиным, с которым сдружился, купался в протекавшей возле крепости речке, кто-то из солдат научил его ловить руками форель.
Осенью три или четыре раза он побывал в Тифлисе, заглянул в трактир, где выступал неплохой цыганский хор. Зима ударила вдруг, в начале ноября, продолжалась всего две недели, потом снег растаял, и до середины декабря шли дожди. Настали темные, хмурые, печальные дни, несущие сплин и тоску. Он рано возвращался домой, ложился в постель и читал. В эту зиму перечитал множество книг, среди них и те, что обнаружил в вещах матери. Одной из них была «Небожественная комедия» Красинского, и она нагнала на него скуку, затем последовала какая-то дешевенькая история о духах и привидениях в стиле модного в свое время готического романа, перечитал вновь, растроганный, «Пана Тадеуша». В ту пору на него несколько раз накатывала тоска, вызванная чувством уходящего времени, промчавшейся молодости. Такие приступы он лечил алкоголем. Несколько раз садился за карты, но и они не забавляли его — он постоянно проигрывал. Потом вновь грянула весна — как всегда, неожиданная и ошеломляющая своим кипением. Так шли годы, отмеряемые сменой сезонов, прибывающими и убывающими пополнениями солдат, все более дикими эскападами в Тифлис. Часом приходило письмецо от Кости, который много теперь ездил по свету. Дважды он получал письма от тети Анели. В первом было выражено предположение, что она скоро его увидит, во втором — удивление, что этого не случилось. Он не ответил ни на одно из них, послал только дважды по пятьсот рублей.
В 1904 году он получил чин майора и стал комендантом крепости, которая к тому времени утратила свое стратегическое значение, превратившись понемногу в базу снабжения инженерных частей, строящих в горах дороги и мосты. Здесь было полно щебня, извести, досок, канатов, кабеля. В прежнем арсенале устроили склад для цемента. Уменьшился личный состав, в редких случаях здесь находилось более двухсот-трехсот человек. Казацкую полусотню перевели отсюда несколько лет назад, уехал и кое-кто из офицеров, в том числе Ильин.
Станкевичу исполнилось сорок четыре года, остальным офицерам едва ли перевалило за тридцать, то были, как правило, люди из простого сословия, с которыми Станкевич, несмотря на всю свою, как он считал, простоту, не находил общего языка. Все сильней докучало одиночество. Работы было немного, а та, какую он выполнял, сложностью не отличалась. Большую часть времени он проводил у себя в кабинете за огромным письменным столом, где в пятидесятые и шестидесятые годы восседал генерал, в семидесятые, восьмидесятые и девяностые — полковник, а теперь он, майор, что говорило, конечно, об упадке некогда могущественной крепости, ставшей ныне промежуточной базой и складом строительных материалов.
В хорошую погоду он велел иногда седлать лошадь и совершал в сопровождении трех-четырех солдат длительные прогулки. Кроме того, кое-что читал, два раза в месяц напивался до бесчувствия. Случалось, испытывал приливы энергии, и тогда устраивались ротные смотры, делались уборки на плацу, просеивали гравий, накручивали канаты на кабестаны, драили полы, белили известью казармы, он разносил офицеров за упущения, но длилось это недолго, через несколько дней, с молчаливого одобрения гарнизона, он уединялся вновь в кабинете и часами украшал листы бумаги геометрическими фигурами, сплетавшимися в удивительнейшие созвездия. Ему были присущи удобный для подчиненных холодок к службе и убеждение, что, несмотря на все его действия, мало что меняется в обстоятельствах жизни, которые, как правило, не зависят от нашей воли.
На карьеру он уже не рассчитывал. Для штабной работы ему не хватало терпения и таланта, возможно, он был бы неплохим строевым офицером, но не представился случай проявить себя, а служба в гвардии или при дворе из-за его происхождения, а также по некоторым иным причинам была для него закрыта.
Спустя несколько лет в хмурый осенний день, когда ветер бился в окно комнаты ветками винограда, он пришел к выводу, что, если останется в крепости хотя бы еще на зиму, он, несомненно, спятит. Тогда он сел и написал рапорт об отставке, попросив, если можно, перевести на иную должность в город. Обосновал это скверным состоянием нервов и меланхолией, вызванной долгим, более чем двадцатилетним, пребыванием в одном и том же отдаленном гарнизоне. Ответ пришел после Нового года. Ему предложили должность мобилизационного инспектора в Одессе. Предложение он принял без колебаний, не ставя условий. Он не рассчитывал на приятные сюрпризы в новой работе, да их и не было, так же как не оказалось и неприятных. В присутствие он ездил к десяти, в три обедал в городе, а затем, в зависимости от надобности, от самочувствия и настроения, возвращался на службу или же велел ехать домой.
В 1912 году он получил чин полковника и решил, что независимо от того, как сложится его дальнейшая служба, он останется в Одессе навсегда. Город и в самом деле был прекрасен, и Станкевич едва ли не каждый день находил в нем все новые прелести. Привыкший к спартанским условиям существования в крепости, он наслаждался теперь жизнью в своей удобной четырехкомнатной квартире с превосходным видом на парк. Несколько месяцев длился его роман с хозяйкой прачечной, страстной и хорошенькой армяночкой, которая была моложе его лет на двадцать. Сначала он был ошеломлен и отчасти даже сбит с толку, потом привык, а потом эта связь показалась ему банальной и несколько смешной. Кроме того, ненасытность Феды, как она велела себя именовать, была утомительной. В ней обнаружилась та чувственность, скорее даже, алчность, которая не могла растревожить или приковать к себе надолго пятидесятилетнего мужчину. Поскольку о браке не могло быть и речи, в один прекрасный день они расстались без сожаления, но с уверенностью, что пережитое было именно таким, каким могло и должно было быть в их ситуации, а продолжать роман смысла уже не имело.
Лето 1914 года он провел вместе с Костей на даче в Кирилловке верстах в шестидесяти к западу от Москвы. Косте исполнилось шестьдесят пять, и он сильно сдал, постарел. Ходил медленно и осторожно, руки дрожали, чай расплескивался, когда подносил чашку ко рту. Голос сделался пискливый, кожа — тонкая, белая, без морщинок и как бы растянутая, словно полотно на подрамнике. Налицо были типичные признаки старения, проистекающие у некоторых не от повышенной активности, не от того, что превышена мера, а от непосильного напряжения духовной жизни, которая для жизнедеятельности убийственнее табака, алкоголя, женщин и всякого рода распутства. В безукоризненно белом костюме он просиживал целыми днями на веранде, читал книги и газеты. Увлечение французской поэзией ослабло, теперь он предсказывал великую эпоху поэзии русской, несмотря на то презрение, какое испытывал ко всякого рода школам, школкам и направлениям, которым, как он утверждал, эта поэзия была пока что подчинена.
— Но это детская болезнь, — пищал он, размахивая узкой прозрачной ладонью. — Тут есть таланты, настоящие жемчужины, через три-четыре года произойдет такая вспышка, которая поставит Европу на колени.
Он рассказывал о Сашеньке, та вот уже несколько лет как живет в Париже и приезжает в Россию раз или два в году на несколько недель. Теперь она уже не прежняя ослепительная красавица, а стареющая чудачка, которая щеголяет в брюках, выкуривая несметное количество папирос. Она по-прежнему эксцентрична, богата и расточительна, занимается лепкой, покровительствует нескольким молодым дарованиям. Она упоминала о юном баске, которого друзья зовут Пикас и который весьма забавен.
— Погляди, — говорил Костя, останавливаясь во время вечерней прогулки к пруду, — погляди, — повторял он и чертил на песке нечто напоминающее треугольник, — что это такое?
Станкевич пожимал плечами и бурчал:
— Не знаю, похоже на треугольник.
— Ну а теперь? — спрашивал Костя, перечеркивая фигуру штрихами в разных направлениях.
— Представления не имею, — отвечал все так же нехотя Станкевич.
— Вот именно, — пищал Костя. — А ведь это петух, теперь это петух, ну скажи, разве не гениально? Проведешь две-три линии — и получишь петуха. В этом таится смысл, потому что петух и в самом деле похож на треугольник, хотя, разумеется, не похож в том смысле, в каком похож на вертикальную линию высокий худой человек. С петухом совсем по-иному, это куда более благородный строй ассоциаций. Да, у этого Пикаса есть фантазия.
— Не сулю ему успехов, — ответил Станкевич, поглядев на небо и прикидывая, какая будет завтра погода.
— И я не сулю, — засмеялся Костя, — но вообще-то, — добавил он, воодушевляясь, — это, разумеется, извечная проблема: форма или содержание. Потому что одно с другим сосуществовать на высшем уровне не может. С той же проблемой мы имеем дело, рассматривая нашего забавного петуха. Ты, разумеется, помнишь Федорова, он бывал у нас в Химках. Всегда держался за содержание, утверждал, что проблемы формы не существует, что форма — это чушь. Да… Но то было тридцать лет назад, а теперь? Представь себе, зимой мне подвернулся один художественный журнал, и что я там читаю? Наш дорогой Федоров в интервью по причине какого-то там юбилея самым решительным образом подчеркнул значение формы, утверждая вдобавок, — и тут Костя поднял вверх длинный тонкий палец, — что форма, если ей суждено раскрыть универсальное содержание, должна быть современной, адекватной тому времени, в какое мы существуем, а коль скоро это не так, значит, ничего художественного в этом произведении и нет. Ничего себе, а? Но разумеется, — и он тяжело навалился на трость, — лет двадцать назад не было ни дадаистов, ни имажинистов, ни футуристов…
Станкевич поддакивал, не вслушиваясь в рассуждения отчима. Общих тем у них не было. Костя из вежливости интересовался иногда кое-какими проблемами службы, но чувствовалось: и его в свою очередь это ничуть не волнует. Станкевич отвечал сухо и коротко, и разговор обрывался. Зато им нравилось просиживать вместе по нескольку часов сряду, не произнося ни слова. Два столь разных человека, они провели друг с другом так много времени… Они дивились своей взаимной несхожести, но одобряли ее. Сближали их и воспоминания старых добрых лет.
В середине июля приехала племянница Кости, студентка из Киева, такая же, как Костя, изысканная, изящная и тоненькая. Она исполняла вечерами входившего тогда в моду Скрябина, наигрывала аргентинское танго, делавшее в Европе головокружительную карьеру, пока, правда, в кабаре. Станкевич любил музыку. Он унаследовал от матери и впечатлительность, и слух, но общаться с музыкой приходилось ему редко. Теперь он с удовольствием слушал фортепьяно. Его посещали меланхолия и грусть, однако это было не столько сожалением о прожитом, сколько об упущенном. Глядя на хрупкую фигурку девушки над роялем, наделенной, несомненно, тонким чутьем, сентиментальной, он думал, каким чудесным стал бы этот отпуск, скажем, хотя бы тридцать, ну, двадцать лет назад, когда он мог бы взять ее за тоненькую талию, притянуть к себе, не рискуя вызвать при этом возмущение или улыбку жалости. Убаюканный музыкой в эти теплые летние вечера, он думал: никогда он не прижмет к своей груди юного, столь чудного в своей наивной надежде девичьего тела… Так много ушло от него навеки.
Однажды в начале августа в знойную послеобеденную пору они пили на веранде чай. Внезапно явился сосед по даче, известный московский адвокат Нерненко, и, не произнеся ни слова, швырнул на столик газету. Костя бросил на него рассеянный взгляд, нацепил очки и поднес листок к глазам. Длилось это мгновение. Он окинул взглядом присутствующих, снял очки и, не выпуская газету из рук, упал в кресло. На веранду вбежал пестренький котенок с вечно торчащим вверх хвостиком, удивительно длинным и пушистым. Он прыгнул в нагретый солнцем горшок, в котором росли цветы, притопывая лапками и громко мурлыкая, выжидательно поглядел на людей. Костя опустил веки и, не видя котенка, которым всегда умилялся, прошептал:
— Это конец, да, конец России.
— Что вы там говорите, Константин Кириллович, — закричал Нерненко, — совсем даже наоборот. Я считаю, что для нас это великолепный шанс. Извольте почитать еще, настроения самые патриотические, самые!.. Эта война будет для нашей усталой, раздираемой конфликтами России очищением. Великое очищение, вы поймите, Константин Кириллович, катарсис!
Костя махнул рукой и попросил дать ему папироску.
Станкевич уехал ранним утром следующего дня. Когда он сидел уже в бричке, увозившей его на станцию, Костя крикнул ему что-то из окна комнаты. Он был в алом халате, из-под которого торчала ночная шелковая рубашка. Станкевич сделал движение, словно собираясь вылезти и подойти к окну, но Костя замахал руками и опустил штору. Потом он не раз жалел, что не подошел и не переспросил. Может, Костя хотел сообщить ему нечто важное, нечто такое, что собирался сказать давно, но откладывал на потом, полагая, что еще представится случай? Так он никогда и не узнал, потому что никогда больше не было возможности увидеться с отчимом. Войну он провел в Одессе. Мобилизация по причине возраста его обошла. Он работал в комитете опеки над ранеными моряками. Отречение царя и Февральскую революцию он воспринял с облегчением и с общим для всей русской интеллигенции убеждением, что пришел, надо полагать, конец чему-то, может, весьма живописному, но вместе с тем и анахроническому, что называлось российским самодержавием.
Программа Керенского была ему безразлична, как безразлична была, по существу, политика, но он не нашел в ней ничего такого, что могло б вызвать протест, занимайся он политикой всерьез. Большевистская революция представлялась ему следствием той безалаберщины и бестолковщины, какая пришла вместе с либерализмом. Он отнесся к ней с неприязнью, соединенной с надеждой, что вскоре кто-нибудь свернет ей шею. Кем должен был быть этот «кто-то» — он не думал, как не думали и тысячи других, рассуждавших подобным же образом.
Революция не понравилась Одессе. Город был слишком пестрый, впечатлительный и грешный, чтоб суровость и серость большевиков в сочетании с исходящим от них душком навязчивой экзальтации могли произвести на кого-либо благоприятное впечатление. И потому вступление австрийцев и немцев рассматривали как не слишком почетный, но все же пока приемлемый выход из положения.
Где-то в начале февраля Станкевич узнал от Абрамова, офицера, изгнанного из армии Советом солдатских депутатов, с которым он игрывал в бильярд в кафе Дорошевского, что генерал Лавр Корнилов организует корпус кадровых офицеров, задачей которого будет наведение порядка в России.
Через две недели они двинулись к Корнилову, который с горсточкой офицеров пробивался в Екатеринодар. Вопрос о том, почему так поступил Станкевич, был столь же бессмысленным, как вопрос, почему крутятся колеса, когда экипаж в движении. Столь же бессмысленным было бы и предположение, что это решение может принести ему некую выгоду. То была абстракция, чисто интуитивное решение, без идеи, без эмоции и без участия разума. Большевики грозили ему не более, чем кому бы то ни было другому из его среды. Он не был ни буржуем, ни помещиком, не был замешан в махинациях или интригах, не имел ни связей при дворе, ни друзей-аристократов. Он не служил в гвардии, не учился в пажеском корпусе. Он окончил хорошее военное училище, его товарищами были сыновья врачей, адвокатов, ремесленников, даже богатых крестьян. Он не гноил солдат в окопах на фронте, не расстреливал за пораженческие настроения. Чем была для него программа Корнилова, жесткая, юнкерская? Абсолютно ничем. Царь, двор, великая Россия — то были чуждые ему понятия. Он любил эту страну, но не чувствовал по отношению к ней ни долга, ни обязательств. Со всем этим обстояло, пожалуй, как с бильярдом, в который он последнее время дулся с утра до вечера: результат партии был безразличен, его увлекал сам процесс. Кроме того, делать ему было нечего.
Когда он представился сухому невысокому генералу, тот не стал добиваться, отчего он просится в строй, и это его порадовало. Вопросы были короткие и деловые: звание, ордена, продвижение по службе, был ли на фронте, возраст, состояние здоровья. В своих ответах он ничего не приукрасил. Когда пробурчал год рождения, худое калмыцкое лицо генерала скривилось в гримасе неудовольствия: пятьдесят восемь лет, многовато, выдержит ли? Кампания предстоит тяжелая. Пока не хватает всего. Людей у него несколько тысяч, а перед ними море большевистской анархии, тут же под боком формируется стотысячная армия Сорокина. Впрочем, с офицерским аттестатом он берет всех. Звание пока солдатское и никаких обещаний и гарантий на будущее.
Он записался в корпус Корнилова в начале марта 1918 года, теперь середина ноября 1919-го. Двадцать минувших месяцев — марш в колонне, наступление в цепи — падай-вставай, — опять наступление в цепи, марш в колонне. Он начал с боя за Афипскую и ее захвата, там офицерам представился случай довооружиться и раздобыть кое-какие боеприпасы. Он переправился через Кубань, брал Екатеринодар, где странным и глупым образом погиб Корнилов. Потом, уже под водительством Деникина, они двинулись на северные кубанские станицы, добывая внезапными бросками оружие, фураж и жратву у большевиков. Постепенно волчьи стаи офицеров стали отъедаться и приводить себя в порядок. В апреле или мае явился трехтысячный отряд юнкеров генерала Дроздовского, который, огрызаясь направо и налево, пробился из Румынии через Украину на Кубань. То была солидная помощь, и теперь Добровольческая армия насчитывала десять тысяч штыков, была неплохо вооружена и снабжена продовольствием.
Перед ней отступала стотысячная армия Сорокина и весь большевистский фронт. Красные угрожали, судили командующих, митинговали, яростно бились, не щадя ни людей, ни снаряжения.
Белые на каждом шагу противопоставляли им спокойствие, тактику, железную дисциплину, последовательность и индивидуальное владение приемами боя. Куда ударяли, там побеждали. Рвали на куски большевистский фронт, затем этот фронт методично и последовательно уничтожали по частям. Дроздовский, Марков, Тильмановский, Казанович, Боровский — генералы тридцати с небольшим лет — внимательно, решительно и искусно вели отряды своих юнкеров редкими цепями в бой. Силы красных были во много раз больше, но офицерские полки противопоставляли им холодный расчет, решительность и незаурядное военное искусство. В конце июля разгромили Сорокина, перепахали большевистский фронт, и Деникин стал хозяином Кавказа, Кубани и восточного Причерноморья.
Ранней весной 1919 года Добрармия, обросшая уже кубанскими и донскими казаками, новыми добровольцами, беженцами из центральной России, дезертирами из Красной Армии, бандами уголовников, отрядами кабардинских, текинских, балкарских ханов и князьков и другой всевозможной сволочью, как выражались юнкера, ударила широким фронтом от Дона до Днепра на Москву. Кончился романтизм ледового похода и отчаянных рейдов, началась методическая, нормальная война, которая велась с помощью танков, самолетов, тяжелой артиллерии. Большевики, разбитые, дезорганизованные, видящие всюду измену, отступали в беспорядке, бросая оружие и амуницию. Армия под началом Деникина, теперь уже главковерха, была велика, разнородна, хорошо вооружена, снабжалась союзниками, чьи суда всю зиму подвозили в черноморские порты продовольствие, лекарства, оружие. Добровольцы слились с армией. Стали одним из ее элементов. Но, отдавая себе отчет в своем значении и боевой ценности, с презрением посматривали на прочие формирования, в особенности на казаков, которые платили им той же монетой. Армия была разнородна, именно поэтому ее раздирали амбиции, эмоции и партикуляризм. Одного хотели кавказские князья, другого — казаки, совсем иные желания были у дезертиров, и ничего похожего у уголовников и авантюристов. И хотя офицерские полки были в меньшинстве, Деникин и его штаб отдавали себе отчет в том, что именно они стержень армии, единственный ее постоянный элемент. Кроме того, программа командования полностью совпадала с индивидуальной программой каждого юнкера и кадета. Разгромить красных, взять Москву, вырезать большевиков, эсеров, анархистов, всех сторонников парламентаризма, демократов и либералов, восстановить самодержавие, введя, быть может, на переходный период военную диктатуру. Никаких переговоров и политических компромиссов. Не может быть и речи о земельной реформе и национализации капитала. Фабрикант возвращается на фабрику, помещик — в усадьбу, конец русскому духовному разладу, конец интеллигентским колебаниям. Народ — стихия грозная: либо вы над ним властвуете, либо он вас пожирает.
Что же Станкевич? Маршировал днем и ночью, в снег, мороз, дождь, в метель и зной. Маршировал, печатая шаг, твердо ставя ногу, носком немного внутрь, и подаваясь корпусом вперед, с неразлучной винтовкой, болтавшейся за спиной. Он был, пожалуй, одним из самых пожилых добровольцев, но не уступал молодым ни на марше, ни в бою. Он мало изменился. Не похудел, а тот жирок, что откладывался кое-где в течение последних двадцати лет, превратился в мышцы. Он всегда был костистым и рослым, а теперь стал похож на шкаф. Солнце и ветер опалили кожу, массивное лицо, изборожденное глубокими морщинами, было, казалось, сплетено из ремней, подстриженные ежиком жесткие, как щетина, волосы напоминали текинскую шапочку. Все в нем дышало решимостью и силой, даже вульгарностью, чего в молодости не было. Взгляд был тяжелый и неприятный, толстая шея наводила на мысль о бычьей свирепости. Когда-то большие, но красивые руки превратились в лопаты, густо поросли волосом.
Однажды, маршируя через очередную станицу, он посмотрел на себя в зеркало в белой изящной раме, выброшенное из хаты какого-то иногородца, похитившего его, вероятно, некогда в помещичьей усадьбе, посмотрел и гнусно выругался: из зеркала на него глянула мрачная апоплексическая харя.
— Ну и ну, — проворчал он, — ряха как у будочника.
Он старался быть все время в хорошей форме, чего прежде никогда не делал. Прежде он был здоров, и точка. Теперь осознавал: у возраста есть свои законы и то, что молодым дается без труда, он может достичь, лишь рационально расходуя силы. Вместе с мягкостью он выработал экономность движений и шел слегка наклонясь вперед, держа тело под углом. Каждый день внимательно осматривал ступни ног. В станицах и хуторах смазывал их жиром или салом и не набивал поэтому мозолей — источника мучений всех офицеров. При первой же возможности стирал портянки и сушил их на солнце или на ветру. Еще в начале кампании ему удалось купить в москательной лавочке две бутылки скипидара, и он каждый раз натирал тело, стоило почувствовать озноб или приближение насморка. Водку пил только во время еды, и то понемногу, курение ограничил несколькими папиросами в день. Он старался, если была хоть малейшая возможность, уснуть и научился засыпать мгновенно в пятнадцатиминутные привалы. Однажды заснул даже в цепи, во время перекура, когда атаковали позиции большевистских пулеметов.
— По-моему, ты решил явиться к Господу Богу в наилучшей форме, — шутил Гришка Абрамов.
Благодаря этим стараниям и природному здоровью он мало чем отличался в смысле кондиции от своих товарищей, которые были вдвое его моложе.
Отношение офицеров к Станкевичу было смесью уважения, интереса и неприязни. Им импонировал этот отважный пожилой мужчина, интриговало его молчание, сама его личность, но и задевала злая ирония. Начальство ценило в нем спокойную и разумную отвагу, абсолютную дисциплину и, как казалось, полнейшее отсутствие высоких чувств.
И потому осенью 1918 года в период затяжных боев с Таманской армией Станкевич получил в командование взвод и был произведен в полковники.
Белые продвигались на север, красные отступали, но делали это медленно и, отступая, тут же налаживали оборону. Во все отряды Красной Армии пришли комиссары, преданные делу, твердые коммунисты. Митинги ограничили до минимума.
В подразделениях стали вводить дисциплину, случалось, красноармейцев расстреливали за плохое состояние личного оружия. Командиров начали снимать с должности не только за отсутствие решительности и отваги, но также и за ее избыток, за то, что отвага превращалась в риск, а решительность становилась бравадой. Таким образом потрепали многих степных атаманов. Сорокина, человека редкой отваги, отличного строевого офицера, главнокомандующего Кавказской армии, отдали под суд и в тот же день расстреляли за диктаторские замашки. В Красную Армию влились новые полки и дивизии, как, например, реорганизованная Железная дивизия Шелеста, латышские стрелки, красногвардейские формирования коммунистов — рабочих крупнейших заводов Москвы и Петрограда, конница Буденного. Произошли перемены в командовании, энтузиастов заменили спецами, иногда офицерами генерального штаба бывшей царской армии. На юг шли целые эшелоны, их тут же перебрасывали на фронт.
Меж тем в той же степени, в какой дела поправлялись у красных, они ухудшались у белых. Нарастал антагонизм. Казаки самовольно покидали район боевых действий сотнями и даже полками. Сотни Шкуро оказались почти сплошь обыкновенными бандитами, немногочисленные кавказские отряды уже не представляли собой боевой ценности. Дезертиров и пленных из Красной Армии интересовали в основном грабежи. Немногочисленные формирования, присланные союзниками, бились бестолково и трусливо. Поредевшими офицерскими полками затыкали все дыры, их перебрасывали в самые уязвимые места, в невралгические пункты, но офицеров становилось все меньше и меньше. Погиб Марков, из отряда Дроздовского уцелело всего несколько сотен, лучших людей потерял Кутепов, Казанович пал вместе с половиной своего полка, убили Ранского. И тем не менее стоило красным увидеть длинные, приталенные шинели, погоны и худые лица юнкеров, перебегавших, подобно волкам, в поредевших цепях, как они заворачивали обратно или же, принуждаемые комиссарами к сопротивлению, гибли от метко направленной пули, от штыка в ближнем бою, в котором офицеры не знали себе равных. И потому, а может, не только потому, все более многочисленная, лучше управляемая и неплохо вооруженная Красная Армия отступала перед малочисленными, раздираемыми внутренними конфликтами и все более измотанными деникинцами. Ранней весной 1919-го стало ясно, что положение красных отчаянное. Кутепов занял Орел и Тулу, конница Мамонтова совершала глубокий опустошительный рейд по тылам большевиков. Под угрозой оказалась Москва.
И вот тут-то белые лопнули, как чрезмерно раздутый пузырь. Казаков потянуло на тихий Дон, свободный не только от красных, но и от белых. Кулацким сынкам куда милее был Махно, и они валом валили к нему, а Добрармия, точнее говоря — ее остатки, достигла стадии физического и психического кризиса.
Как раз в этот момент Станкевича вместе с несколькими взводами и трехсотенным отрядом курляндских дворян перебросили на Днепр с задачей помочь немногочисленным белым формированиям, взятым в клещи бандами Махно и полками Крымского фронта под командой талантливого Дыбенко.
Началось разложение. Белые сражались все так же мужественно, но уже в силу инерции, они смертельно устали, были взвинчены, между офицерами дело доходило до ссор и драк. Оставался профессионализм, но не было прежнего духа. Кое-кто стал задумываться, чем кончится вся эта затея. Стоит ли бороться с собственным народом? И можно ли этот народ победить? Опыт подсказывал, вроде бы так. От Стеньки Разина и Емельки Пугачева до 1905 года. Но возможно ли это теперь? Однако они сражались, ибо делать в этой стране больше им было нечего, а сдаваться незачем и некому. Размышлять и сомневаться Станкевичу не приходилось. Он констатировал факт разложения, вернее, полного истощения сил, но это его не удручило. Поражения не наполняли горечью точно так же, как не радовали прежде победы. Товарищи по оружию твердили, что вязнут в большевиках, во всей этой паршивой голытьбе, что они — это пуля, раздирающая перину, которая рвет холст, входит в глубину, но теряет убойную силу и, увязая в пуху, не в состоянии пробиться наружу. Он соглашался с ними. Они уверяли, что это порождает своеобразную военную клаустрофобию, и тогда он заявлял, что это действительно так, но значения не имеет. Если же его спрашивали, что, собственно, в их ситуации имеет значение, он отвечал: пожалуй, ничего.
VI
Станкевич прислонился к балке и вытянул ноги. Сквозь щели в досках тянуло холодом. Из-за приоткрытой двери долетал говор часовых. Разбитые губы вспухли и не закрывались. Озноб усиливался. Тело колотило от лихорадки и холода. Левый глаз, должно быть, заплыл — он ничего им не видел. Хотелось пить. Безжалостно стянутые веревками и выкрученные назад руки горели так, словно их сжимали раскаленными обручами. Ладоней он не ощущал. Попробовал было шевельнуть пальцами и не понял, ворочаются ли они или висят без движения. Ему представлялось, что ладони превратились в толстые белые подушки. Через час-два начнет, по-видимому, светать. Войдут красноармейцы, может, вместе с комиссаром, посадят его в бричку, повезут в штаб Крымской армии, которая, надо полагать, продвинулась немного вперед, иначе говоря — на северо-восток. Шкуро отступил. Добрармия не подошла, фронт оголился, чем и не преминул воспользоваться Дыбенко. Где он может быть теперь, этот простой матрос Балтийского флота, который превратился в красного командарма? Наверное, еще на правом берегу Днепра. Полк, который их вчера разгромил, скорее всего, авангард. Итак, провезут его десять, а может, тридцать верст и введут в какое-нибудь строение, наполненное перестуком телеграфа и деловой беготней, втолкнут в сизую от папиросного дыма комнату, начнут расспрашивать, небрежно и снисходительно, как расспрашивают тех, чья участь решена. Не выяснят ничего любопытного, хотя, впрочем, любые сообщения не окажут никакого влияния на его дальнейшую судьбу. Ему достанет сил на высокомерное презрение. Затевать дискуссию он не станет, для этого он слишком стар и слишком плохо себя чувствует. Потом расстреляют. Цацкаться с ним не будут. Расстреляют где попало и все равно как. Это не будет церемонией, которая для обреченного служит чем-то вроде утешения, давая ему на десять-пятнадцать минут ощущение своей значительности. Не будет ни духовника, ни барабанной дроби экзекуционной команды, ни щеголеватого офицера, угощающего последней папироской. У них есть дела поважнее. Они спасают сейчас мир, борются за новую жизнь. Кто из них станет морочить себе голову театральным представлением? А может, вообще никуда не повезут. Прикончат здесь, в амбаре, вот и вся недолга. Может, им уже известно то, что хотели знать вчера, а может, они этого не только не знают, но и не желают знать? Рыжий командир, деревенский цезарь, храпит сейчас, поди, под тяжелой периной, изрядно хлебнув самогону. Может, это еще тот самый самогон, который они начали вместе с Гришкой? Утром зевнет, осведомится, который час, идет ли дождик, встал ли уже комиссар, по-прежнему ли гнедой вздергивает головой, есть ли вести из штаба, и среди всех прочих вопросов, которые в таких случаях задаются, осведомится, позевывая и почесывая лохматую грудь, про этого старого сукина сына, которого они вчера допрашивали с комиссаром, и тогда вестовой доложит, что держат его, соответственно приказу, под стражей, связанного, как и полагается. А командир зевнет, опять почешет грудь и, натягивая сапоги, между прочим буркнет: «Да прикончите вы его… Васька, или кто там еще, за амбар — и пулю в лоб». Вестовой гаркнет: «Слушаюсь, товарищ командир!» — и выскочит из хаты. Но рыжий его остановит, встанет, стукнет пятками о пол, чтоб ступни влезли в сапоги, и, слюнявя химический карандаш, выведет прыгающими в разные стороны буквами на вырванном из блокнота листке, что по приговору советской власти и согласно воле трудящихся… и отдаст вестовому с вопросом: «А Васька-то грамотный?» «Грамотный!» — гаркнет вестовой. «Тогда порядок, — буркнет рыжий, посматривая, где он, таз с водой, — пусть сперва прочтет, а потом пристрелит. — Махнет рукой и добавит: — А то как удобней. Сперва пристрелит, а потом прочтет — один черт. А комиссара ни в коем разе не будить! — бросит он грозно вслед исчезающему вестовому, который уже не заметит, как в куриных глазках командира замелькали веселые огоньки. — Пусть дитятко поспит», — буркнет командир, принимаясь за чай.
Он встал и прошелся по амбару. Ног не чувствовал, ходил легко, словно был уже духом.
Любопытно, подумал он, что случилось бы, послушай я тогда ту старуху на балу в Недомышах? Как сложилась бы моя жизнь, сделай я то, на что она меня подбивала? Пеклась она, надо полагать, не обо мне, а о Польше. Что они там с этой Польшей? Не одна эта старуха, но и дурочка Эльжуня, и его тетка, у которой не все дома. Что такое для них Польша? Клочок земли, на котором родились, и, кстати, совершенно случайно? Или форма сознания? А может, стремление к чему-то, чего все равно не достигнешь? Может, я отличаюсь от них, а может, просто воспринимаю вещи такими, каковы они есть? Если так, то я честнее. Выходит, я честнее их всех; для них патриотизм — это ширма, за которой они прячут страх и беспомощность.
Он ходил взад и вперед, втягивая в легкие холодный влажный воздух. Да, все именно так, как я себе представляю, а если даже иначе, никакого значения это не имеет.
Он пнул створку двери, та подалась с писком.
— Тебе чего? — спросил один из часовых, сидевших у костра. Даже не приподнялся, повернул лишь голову и глянул с неприязнью. Двое других смотрели по-прежнему в тлеющий огонь, у одного голова была замотана шарфом.
— Мне бы помочиться, — ответил Станкевич хрипло.
— Ну и мочись, — отозвался часовой, словно с облегчением, что дело всего лишь в этом.
Тот, с шарфом на лбу, поднял голову. Лицо у него было бледное, в морщинах. Он поправил винтовку, зажатую между коленями, и глуповато ухмыльнулся.
— У меня руки связаны, — сказал Станкевич.
Часовой зло на него взглянул и заорал:
— Ах ты, такая-рассякая твоя мать, хочешь мочиться — мочись, не хочешь — не надо, не приставай к людям ночью с пустяками.
Обвязанный шарфом засмеялся и вновь опустил голову, вглядываясь в огонь. Станкевич постоял минуту, потом повернулся и вошел в амбар.
— Мерзость, все мерзость, — прошептал он. — Пустяк, без значения, а все равно мерзость.
Он расставил пошире ноги, постоял так недолго с выражением страдания на лице. Потом отрывисто рассмеялся и вновь сел на чурбак. Вспомнился случай, произведший на него тогда большое впечатление.
Было позднее лето 1918 года. Овладев Кавказом, белые добивали остатки отходящих на восток большевиков. Ночью, в момент ожесточенной перестрелки, его ранили в ключицу. Пуля разорвала кожу вместе с мышцей плеча, рана была не тяжелая, но жгло как огнем. К тому же еще стояла сорокаградусная жара. Со стороны Азовского моря дул горячий ветер, поднимая облака пыли, степь была серая, гнетущая. Он сидел на подводе, привалясь спиной к стойке. Рядом, на сене, прикрытый брезентом, лежал молоденький подпоручик. Его била дрожь, и он, не открывая глаз, стонал. Вдруг умолк, а мгновение спустя поднял руку, как бы желая заслонить лицо, и прошептал по-польски:
— Матка Боска… Боже, Боже…
Станкевич повернулся к раненому и спросил:
— Хотите пить? Может, повернуть на бок, солнце не будет слепить глаза.
Юноша ничего не ответил, только вытянулся в струнку, и желто-белая кожа стала впитываться, казалось, в его череп.
«Кончается», — подумал Станкевич и отвернулся. Возница, пожилой плечистый казак, напевал тихонько, наверное уже с час, какую-то песню. Их обогнал в облаке пыли идущий крупной рысью эскадрон из дивизии Улагая.
— Боже, Боже, — прошептал опять офицерик и, не открывая глаз, поднял голову.
— Через час будет легче, — пробурчал Станкевич, пододвигаясь к раненому, — зайдет солнце. Воды дать?
Подпоручик помотал в ответ головой.
— Вы поляк? — спросил Станкевич.
Юноша открыл глаза и метнул на Станкевича быстрый, вполне осмысленный взгляд.
— Да. Где мы находимся?
— Преследуем остатки красных. Ночью будем в Нарине.
Юноша приподнялся на локте, вскрикнул и упал навзничь на сено. Казак, не прерывая песни, обернулся.
— А вы?.. Вы знаете польский?
— Да, — пробурчал Станкевич.
— Простите, не расслышал, — сказал офицерик.
— Да, знаю, — отозвался Станкевич громко и неохотно. Потом, отерев потное лицо, спросил: — Куда вам засадили?
Юноша откинул край брезента, правая нога была обмотана кровавыми тряпками.
— Осколок гранаты, — сказал он, — разодрало от колена до паха.
Станкевич усмехнулся:
— До свадьбы заживет.
Молодой человек закрыл глаза. Станкевич покивал головой и, не глядя на раненого, повторил по-польски:
— До свадьбы заживет. — И тут же оживился: — Так говорила в детстве моя мать, когда я показывал ей свои синяки и царапины.
— Что мы тут делаем? — спросил офицерик таким тоном, словно только что пробудился от глубокого сна.
Но Станкевич не ответил, вслушиваясь в нахлынувшие воспоминания. Лишь минуту спустя бросил на юношу рассеянный взгляд:
— Вы, кажется, о чем-то спрашивали?
— Что мы тут делаем, полковник? Здесь, в этой степи?
— Воюем.
— Так. А за что?
Казак хлестнул кнутом лошадь, та пошла рысью; поправив шапку, он запел во весь голос, то и дело обрывая фразу, которую только что старательно вывел.
— Заткнись! — крикнул Станкевич. — Сволочь…
Казак смолк, но не сразу, а так, словно песенка все еще булькала в глотке независимо от его воли.
— Оставьте его, он мне не мешает, — сказал юноша и, посмотрев внимательно на Станкевича, добавил: — Так вы тоже поляк?
— Да, и не единственный в этой армии, — ответил с раздражением Станкевич. Помолчав, добавил: — Нет, не поляк. Родители были поляками. Впрочем, неважно…
— Может, и было неважно, да теперь все изменилось. В Польше создан, говорят, какой-то Регентский совет. Есть своя армия. Появился шанс на независимость.
— Ну и что?
Юноша заслонил глаза рукой, его вновь трясла лихорадка. Гудя, пронесся в пыли открытый «даймлер» с генералом в очках, тот сидел выпрямившись, скрестив руки на трости.
Поднялась туча пыли, накрывая дорогу. Кони, фыркая, замедлили шаг. Возница стеганул по крупам, но это не дало результата: лошади лишь для виду пробежали немного рысью. Ветер поутих, и сухости как бы поубавилось. Метрах в сорока впереди шел отряд кадетов.
— Что мы делаем здесь, полковник? — вновь спросил юноша.
— Связан ли ваш вопрос с Польшей? Точней сказать, с этим, как вы определили, шансом на независимость?
— Не знаю, не знаю…
— На него вы должны ответить себе сами. Армия, в которой вы служите, называется добровольческой и таковой является в действительности. Что же до меня, то, видите ли, поручик, я офицер, кадровый офицер, и война — моя профессия. Ничего иного делать в данный момент я не умею, а не делать в этой стране ничего — значит погибнуть, что не является, впрочем, худшим выходом из положения. Но пока есть еще возможность пожить, стоит воспользоваться.
— Но ведь это не имеет смысла!
— Что именно?
— То, что делаем мы, поляки, — и с той, и с этой стороны.
— Я не являюсь, поручик, вашим непосредственным начальником, но, думаю, вы сами отдаете себе отчет, что…
— Знаю, знаю! — крикнул в сердцах юноша, нервно перебирая пальцами край брезента.
— В принципе я с вами согласен, — произнес Станкевич, доставая портсигар. — Это столь же бессмысленно, как и все остальное. Кажется, у молодежи это сейчас в моде: отрицать все на свете, но я говорю это не потому, что следую моде, а потому, что думаю так на самом деле, вдобавок не первый день. Вы, разумеется, могли оказаться на стороне красных, могли торчать в немецком окопе или во французском, по другую линию фронта, могли кутить сейчас где-нибудь в Вене или маршировать в легионах Пилсудского, могли, разумеется, вообще не маршировать, а сидеть в своей квартире в Москве, или в Киеве, или там, где вы ее изволите иметь, хрупать сухари, запивать их водой и ждать чуда или же, наоборот, работать в каком-нибудь комитете во имя такой или этакой идеи. Что тоже было бы столь же бессмысленно, как и то, что вы делаете сейчас. Сколь ни печально, нам не повлиять на ход событий, потому я советую вам не морочить себе голову, а подумать о ноге. Без Польши жить можно, без ноги — труднее.
По некрасивому, но одухотворенному лицу пробежала тень скорбной тоски. На высоком бледном лбу выступили капли пота, юноша сдвинул брезент, оставив закрытой лишь раненую ногу. Станкевич понял: хоть и жарко, не хочет демонстрировать свое кровавое тряпье. Эта деликатность его растрогала. И подумал: хорошо бы юноше сказать что-нибудь утешительное, что-нибудь такое, что бы его успокоило, но, во-первых, ничего не приходило в голову, во-вторых, испытывая к нему уважение, нечто вроде братского чувства, он понял: банальные слова ни к чему. Впрочем, даже банальные не вертелись на языке. Но прерывать разговора не хотелось, и он спросил, сильно ли докучает рана, получил ли он какое-нибудь обезболивающее средство. Юноша ответил, что нога у него одеревенела, он ее не чувствует, а мучают его тошнота и лихорадка. Потом они ехали молча. Солнце шло к закату, стало прохладней. Станкевич некоторое время наблюдал за забавными зверьками, похожими на кроликов, но с длинненькими лисьими мордочками и огромными, как бы улыбающимися глазами. Они дерзко появлялись на краю дороги, стояли столбиками, с интересом наблюдая за проходящей армией.
— Что это за зверюшки? — спросил Станкевич казака, махнув в сторону обочины рукой.
— Сущая дрянь, ваше благородие, — отозвался казак, — мясо у них отдает кошачьим дерьмом.
— Зато хорошенькие, — сказал Станкевич.
— Но не для харча, — бросил казак.
Подпоручик заснул, или, может, так только казалось, он лежал, вытянув руки вдоль туловища, равномерно дыша. Станкевич смочил водой из манерки платок и приложил к его лбу. Молодой человек открыл глаза.
— Спите, спите, — сказал Станкевич, наклоняясь.
— Исключено. — И юноша горько улыбнулся. — Я пытаюсь уснуть вот уже два дня.
— Может, папиросу?
— Нет, спасибо.
Станкевич поскреб свой щетинистый затылок и, все еще склоняясь над юношей, тихо и как бы с усилием произнес:
— Знаете что, поручик, раз вам так нужна мотивировка, то, я думаю, вы всегда можете себе сказать, что воюете здесь во имя цивилизации и культуры, и тогда вопрос «Что мы тут делаем?» не будет риторическим.
Юноша стиснул скулы, под тонкой кожей проступили узелки мышц, и ответил спокойно, но холодно:
— Шутите, полковник.
— Я был бы последним негодяем, если бы в такую минуту позволил себе шутить с вами. Не знаю, так ли оно на самом деле, но, уверяю вас, я говорю то, что думаю.
— За цивилизацию, за культуру… — буркнул юноша и выпятил красиво очерченные губы. — Нет, это ж смехотворно…
Станкевич отодвинулся от него и, привалившись вновь к стойке, сказал:
— Не понимаю, почему это кажется вам смехотворным.
— Кто борется здесь за цивилизацию? Белые? Офицеры? Кадеты?.. Почему? Потому что говорят по-французски? Потому что чистят ногти? Нет, вы шутите, полковник.
— Вот… вот мы и дошли до сути. Вам кажется, это лишено смысла, потому что вы над этим не размышляли, а цивилизация, культура — это несколько или, может, несколько десятков мелочей, которые людям определенной категории облегчают жизнь. И вы, и я — оба мы относимся именно к этой категории, уж не знаю, к сожалению или к счастью.
— Ну и что ж это такое?
— Как раз то, о чем вы вели речь. Французский, чистые ногти — да, да, это все цивилизация и культура, можно к этому добавить еще две-три детали: вилку, например, следует брать выпуклой стороной вверх, а не вниз, сморкаться в платок, а не в рукав, собак держать для удовольствия, а не только для пользы, залезать на даму не сразу, а предварительно с ней побеседовать, пригласить в театр, сыграть что-нибудь на рояле — в общем, отличать вещи красивые от безобразных и, поелику возможно, окружать себя этими первыми, ну и так далее и так далее. Это как раз то, ради чего мы воюем. Ну, может, еще кое-что другое. Если этого не существует, остается нагой человек, а нагой человек, поручик, — это животное.
— Вы и в самом деле так думаете?
— Да, в самом деле. Хотя смотрю на все как бы со стороны. Я во всем этом и одновременно рядом. Полагаю, что большевички, если победят, произведут тотальный погром всего, к чему мы привыкли и привязались, и на руинах начнут строить то, что уничтожили. От основания, но то же самое. На первый взгляд это абсурд, однако кто знает, может, такая ротация необходима. Истории известны подобные случаи. Может, мы уже вырождаемся, деградируем. Может, все, что достигнуто нами, годится лишь в переплавку.
— Значит, тем более нам нечего здесь искать.
Станкевич пожал плечами, словно желая вновь сказать, что это мало его волнует.
Солнце зашло, и стало холоднее. На небе вспыхнуло сразу несколько звезд. Степь пробудилась, послышался треск кузнечиков, над подводой засновали какие-то птички, на небе обозначился клин диких гусей, летевших к югу. Повеяло бодростью, широтой, закат был удивительный, казалось, небо на западе подсветили прожектором. Солнце обозначает здесь однообразие, подумал Станкевич, стоит ему зайти, и мир становится многоцветным. Он всматривался в горизонт, четко обозначенный, несмотря на сумрак, и очень-очень далекий. Уничтожить это, подумал он, никто не в силах. Кто знает, может, из всего красивого в здешнем краю останется людям только это.
Казак, не раз уже пытавшийся погнать лошадей рысью, отказался от своего намерения и, свесив голову, задремал.
От конских крупов шел резкий приятный запах. Ветер, как всегда вечером, унялся, слышался характерный шум движущегося войска, столь знакомый Станкевичу: тарахтение подвод, фырканье лошадей, далекий гул моторов, шорох марширующей по дорожной пыли пехоты, скрип орудийных лафетов. Юноша поднял голову и, поглядев на Станкевича, который жадно вглядывался в горизонт, спросил прерывающимся голосом:
— Как вы считаете, есть у меня шансы попасть в Польшу?
— Как прикажете это понимать?
— Ну, есть у меня возможность вырваться из этого русского ада? Что с матерью — я не знаю, отца утопили в шахте, он был горным инженером. В добровольцы я пошел вместе с товарищем по гимназии. Мы бредили романтическими приключениями, героическими схватками. Вадик погиб через две недели при взятии Тихорецкой, а я… сами видите.
Станкевич с теплотой глянул на молодого человека и погладил его светлые мягкие волосы.
Поздней ночью они въехали в Нарин, то ли городок, то ли станицу, вспугивая своим появлением черно-белых свиней, нежившихся в холодке на главной улице. Поручика забрали в передвижной лазарет, а Станкевич отправился к фельдшеру на перевязку.
Прощаясь, они крепко пожали друг другу руки. Станкевича так и тянуло поцеловать впалую щеку юноши, но тот, словно предугадывая его намерение, отвел голову и бросил выразительный взгляд: не надо, дела у меня не так уж плохи.
Внезапный порыв ветра ударил в двери амбара. Они с силой распахнулись, следующий порыв захлопнул их вновь. Станкевич вздрогнул, по спине прошел озноб. Из щелей потянуло холодом. Под крышей что-то шевельнулось, и сильно запахло сеном. Он поднял голову и взглянул вверх, но увидел одни только затянутые огромной паутиной балки. Температура, как обычно к утру, упала. Не было уже ни ломоты в костях, ни головной боли, только в распухшем незрячем глазу пробегали временами непонятные проблески. Холода он не ощущал, лишь невероятную усталость и желание спать. Он перегнулся вперед, упер лоб в колени. Связанные руки торчали за спиной, как крылья. Он был похож на дрофу, огромную, тяжелую серо-зеленую дрофу, чьи крылья представляют собой не орган движения, а только воспоминание о нем. Казалось, он готовится к полету и ждет знака. Даже длинные полы шинели, раскинутые по обеим сторонам чурбака, словно приготовились планировать в небесах. Выглядело это тем более забавно, что он был, наверное, последним в этом амбаре предметом, способным летать. Чересчур тяжелый, массивный, грузный.
Грудь сдавило и обожгло изнутри огнем. Было ему в этой диковинной позе удобно, несмотря на то что появилась боль. Дышал он с усилием, при каждом вдохе и выдохе где-то между горлом и грудью рождался повизгивающий храп. Он вслушивался в него с интересом. Ритмичный, как ход часов, он, казалось, как часы, что-то отмеряет. Неведомая птица затрепыхалась под крышей. Ему хотелось взглянуть, но он знал: стоит выпрямиться, не станет уже силы упереться вновь лбом в колени, а это необходимо — согнутому легче. Какая-то внутренняя сила неудержимо рассаживала грудь. Всю ночь он терпел неудобство, и лишь теперь, на рассвете, когда нашел наконец, как сидеть на этом проклятом чурбаке, не испытывая мучений, вдруг появилась боль — незваный гость, предваряемый, правда, всю ночь какими-то непонятными ему до сих пор сигналами, и тем не менее гость нежданный. Он ощутил на коленях что-то теплое и липкое. Кровь, подумал Станкевич, она течет либо изо рта, либо из ушей. Лапа у рыжего тяжелая, а еще раньше угостили меня прикладом, но голова в порядке, неприятностей с головой нет, да, голова в порядке, я ее не ощущаю, стравливает только потихоньку кровь, осторожно, чтобы я этого не видел, зато в груди что-то бунтует, набухает, хрипит, колотится, точно хочет выскочить наружу. Перед ним медленно и величественно проплыло нечто очень широкое, плоское, необозримое, без начала и конца. Он увидел сам себя, как он идет по равнине четким, размеренным шагом, ставя носки слегка внутрь, и удаляется, уменьшаясь при этом. Он один, никто его не сопровождает, никто не указывает путь. Он уходит, ни к чему не приближаясь. Пространство без начала и конца, нет в нем ничего такого, к чему можно было бы приблизиться. Нет ничего печального, ничего веселого, ничего угрожающего, ничего ласкового, все бесцветное, безликое. Он уже маленький, почти невидимый. В ту же секунду он вдруг почувствовал: надо подняться, но это было уже выше его сил; кто-то прижал его седую круглую голову к коленям, и он лишь затрепетал торчащими вверх, сведенными веревкой руками и застыл как раз в тот момент, когда потерял сам себя из виду.
Утром в амбар вошел часовой с винтовкой под мышкой. Он поглядел по сторонам, втянул в легкие приятный запах сена и сказал негромко, но явственно:
— Ну, старик, собирайся, поедешь в штаб.
Окинул взглядом двуколку и подошел к одному из свисающих с балки мешков. Дунул в сжатый кулак и ударил дважды по мешку, затем пнул валявшийся под ногами котел с прогоревшим дном и, обращаясь в сторону чурбака, сказал громче:
— Вставай, пошли!
Выставил винтовку и ткнул изогнувшееся тело стволом в плечо. В ответ — лишь вялое сопротивление, такое же, как от удара по мешку. Он толкнул сильнее, и тело упало на молотильный ток, усеянный щепой и соломой. Часовой наклонился и буркнул, разочарованный:
— Вот те на, такая история! — Он вышел из амбара и крикнул: — Никон, бегом к комиссару, офицер помер!
Полк Ивана Федца был в соответствии с догадкой Станкевича лишь авангардом, главные силы большевиков стояли еще за рекой. Утром Федец получил сообщение, что на станцию Васильевка прибыл бронепоезд с дроздовцами, в связи с чем ему надлежит, немедленно покинув захваченные хутора, отойти обратно за Днепр. Федец выл не меньше часа от ярости, набил морду вестовому, поклялся комиссару Богом, в которого не верил, что устроит в штабе резню, но, разумеется, это был уже не восемнадцатый год, и приказ пришлось выполнять.
Сельчанам оставили несколько десятков трупов, которые следовало как можно скорее закопать, потому что осень была туманная, дождливая и морозов пока не предвиделось. И потому, матерясь не хуже Федца, они принялись за проклятую работу так, как берется за нее мужик, если он на что-то решился. Среди мертвецов были и Станкевич, и Демьянчук. Демьянчука в амбаре за молотилкой нашла соседская девчонка.
Для деревенских возникла некая моральная проблема, которую, возможно, они сразу б и не решили, не возникни дело какого-то Фрола и какой-то Анастасии, которое взволновало всех. Говоря «всех», нельзя сбросить со счета и детей, тащивших тяжелые, мокрые и как бы набухшие от влаги трупы. Да, нелегко приходилось ребятишкам, ноги и руки покойников были скользкими и неподатливыми, но усилия компенсировались замечательной игрой: когда тело валилось с земляного бугра в глубокую яму, разгорался спор на конфеты, резинки для рогаток, на птичьи яйца и на папиросы — ничком бухнется или навзничь.
Так вот, насчет Демьянчука. Тут все было не так просто. Мужики потолковали на перекуре и пришли к выводу, что хотя Демьянчук мужик, конечно, богатый, уважаемый и толковый, но, с другой стороны, нездешний, приблудный, одни говорили — с Урала, другие — с Дона. Одинокий, жена померла, дочка шалавит у Махно — ни найти, ни известить. В церкви почти не бывал; словом, учитывая все это, обиды ему никакой не будет, если и он вместе с остальными, которые, может, даже лучше его, здесь же ляжет в землю.
Бросили его на самый верх и дружно взялись за лопаты, тем более что с реки набежал холодный пронзительный дождь. Офицеров перед похоронами обыскали основательно, но взяли немногое. Хутор был богатый, кулацкие сынки хаживали с бандами, и сапоги, шарф или там зеркальце не производили ни на кого впечатления; хотя и брали кое-что, но, скорее, порядка ради, по привычке.
Станкевича собирались похоронить в чем был. Но в последний момент какая-то девочка позарилась на металлический образок Пресвятой Девы, один из тех, что он взял из вещей матери.
Двумя неделями позже, когда свежую могилу присыпало первым снегом, Димка, деревенский дурачок, поставил на ней крест, но ребятишки его повалили. На следующий день он поставил другой, сделанный из трех прутиков, связанных берестой, и тот простоял до самого лета.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
I
— Самое горькое, что может ждать мужчину, — повторил невысокий и коренастый, обращаясь к тому, который сидел в кожаном кресле в углу комнаты. Сказано это было в тот момент, когда темно-зеленый автомобиль бесшумно затормозил перед домом.
В дверях появился молодой человек и, обведя взглядом комнату, заваленную книгами, которые громоздились кипами до потолка, валялись грудами на полу, сказал не слишком громко, но достаточно уверенно, зная, как видно, что его приезда ждут:
— Рогойский!
Произнес спокойно, с легким оттенком превосходства, что при иных обстоятельствах было б, может, незаметно вообще, а сейчас осталось незамеченным, поскольку у тех двоих не было повода вслушиваться в интонацию, вроде естественную, таящую лишь намек на дерзость.
Один из двоих, еле различимый по причине опущенных штор (возможно, именно поэтому в фамилии «Рогойский» слышался также вопрос), подошел к молодому человеку, не вынимая рук из карманов и подавшись массивной головой вперед, сказал:
— Слушаю вас.
Слова его напоминали отрывистый лай. Если вопрос прибывшего казался вежливым, даже изысканным, то в ответе прозвучали лишь раздражение и неприязнь.
Мужчина в кресле шевельнулся в своем углу, видимо пытаясь встать, но коренастый махнул рукой, чтоб не поднимался.
В комнате стоял запах лежалой бумаги и дорогого табака. Был еще некий неуловимый душок, людям с тонким обонянием и склонностью к анализу он сказал бы, что комната долго была необитаемой и что прежде здесь жил одинокий мужчина.
— Ну так что? — спросил тот, чью фамилию назвали, проведя рукой по мускулистой, темной от загара груди, которую прикрывала кое-как застегнутая и небрежно заправленная в брюки рубаха.
Прибывший стоял, чуть выпятив живот и откинув назад плечи, как стоят очень высокие худые люди. Он посмотрел в угол, словно желая пробиться взглядом сквозь полумрак, столь привлекательный и желанный в этот знойный день и, возможно, даже обещающий нечто вроде прохлады.
— Нам нужно поговорить с глазу на глаз, — бросил он, взглянув на мужчину в кресле.
Но тот, к кому это было обращено, стоял уже к гостю спиной. Их разделял широкий стол, на котором валялись бритвенные приборы и белое льняное полотенце с полоской запекшейся крови.
Резким движением Рогойский распахнул дверцу лежащего на полу и оттого похожего на дорожный саквояж шкафчика, извлек оттуда бутылку водки, выдернул пробку, сделал несколько глотков из горлышка и показал бутылку своему компаньону, тот лишь помотал головой, и тогда, держа бутылку в одной и пробку в другой руке, хозяин повернулся к молодому человеку, который стоял все на том же месте в двух шагах от двери, и тряхнул бутылкой. Молодой человек скривил в улыбке лицо, выпятив губы с полоской хилых усиков под носом. Ни капли замешательства, вновь чувство превосходства, и коренастый у стола, конечно же, это заметил, он пожал плечами и удовлетворенно поглядел на того в кресле, давая понять взглядом свое отрицательное отношение к визиту. И даже казалось, это привело его в хорошее расположение духа, как бывает, когда обворованного радует известие, что в такое же время и при подобных обстоятельствах был обворован еще кто-то другой; он швырнул бутылку обратно в шкафчик, выстланный, надо полагать, чем-то мягким, потому что звука от падения не последовало, и спросил вновь, но не поворачиваясь к гостю:
— Ну так что?
Мужчина в кресле поднял голову, посмотрел на молодого человека у двери, взмахнул рукой, давая понять, что вопрос обращен к нему.
Молодой человек переступил с ноги на ногу и откинул голову назад, отчего вместе с бедрами подался еще более вперед, а фигура приняла форму вопросительного знака. После чего изрек:
— Я уже сказал: разговаривать мы должны без свидетелей, — и, поглядев на мужчину в кресле, улыбнулся, как бы намекая, что весьма сожалеет об этом.
Человек в углу встал и вышел из комнаты. Хозяин не пытался на этот раз вмешаться. Сквозь штору, прикрывающую открытое окно, долетали отголоски городской жизни, трамвайные звонки и пыхтение парохода на реке.
— Ну ладно, — буркнул мужчина в расстегнутой рубахе, вновь засовывая руки в карманы. — Не буду притворяться: ваш приезд для меня полная неожиданность.
Молодой человек сделал несколько шагов и, положив на стол черную элегантную папку, оглядел комнату, он, видимо, пытался найти в полутьме стул, на который можно было бы сесть, но, не обнаружив его, а может, решив, что большой нужды в этом нет, оперся обеими руками о коричневую столешницу и сказал:
— Если вы, майор Рогойский, не возражаете, я перейду к сути.
— Только этого и жду, — буркнул Рогойский.
Молодой человек, слегка наклонив голову и не глядя на собеседника, чуть растягивая слова, начал тихим голосом, каким говорят о делах абсолютно безразличных для говорящего:
— У меня тут полное ваше досье. Служба на фронте, сведения о пребывании в больнице в Ровно и в полевом госпитале под Киверцами, награды, звания, характеристики начальников и так далее. — Он хлопнул рукой по папке. — Вы прирожденный солдат. Храбрость, преданность делу, быстро ориентируетесь в обстановке, хорошая реакция. Короче, ваших солдатских и командных качеств никто не оспаривает. Ваши политические взгляды не вызывают сомнений. Наступление на Острогорск, после него ночной рейд по тылам противника — верх мастерства. Весь штаб армии того же мнения.
— Тогда к делу, — прервал Рогойский, прохаживаясь от окна к двери, отчего молодой человек наблюдал его то справа, то слева, и фигура казалась несимметричной — вероятно, следствие контузии (диагноз по-латыни был в папке), а может быть, Рогойский горбился, что при его атлетическом сложении и ширине плеч давало эффект асимметрии.
— Генерал Романовский, — продолжал молодой человек монотонным голосом, подчеркивая обыденность своей миссии, но подчеркивая как-то слишком старательно, а потому фальшиво, — просил меня передать вам следующее: будучи о вас как о солдате наилучшего мнения и руководствуясь также мнением вашего начальника генерала Казановича, равно как и мнением вашего командира подполковника Азнаняна, он не без некоторых сомнений назначил вас командиром батальона. Тот факт, что всего год назад вы были на унтер-офицерской должности, не явился, по словам генерала, формальным препятствием, поскольку назначение с низшей должности на высшую совершается в Добрармии порой без соблюдения какой бы то ни было очередности. Как вам, возможно, майор, известно, каждое продвижение по службе, равно как и понижение, независимо от звания и должности производится, если речь идет об офицерских полках, с согласия верховного главнокомандующего. Таковы закон и обычай в этой армии, они нетипичны, как нетипична она сама. Верховный желает, чтобы ему докладывали о каждом таком перемещении. К кадровым вопросам он относится с исключительным вниманием. Информируя особу верховного главнокомандующего о вашем назначении, генерал Романовский нарушил неукоснительно соблюдаемый порядок — не представил вашу характеристику. Сделал он это преднамеренно, желая утвердить свои кадровые принципы, связанные с операциями, которыми он руководит. Увы, опасения генерала в отношении вашей особы подтвердились во время вашей службы на новом месте. В связи с чем генерал Романовский, не переговорив с главковерхом, но будучи убежденным, что действует в духе его предписаний — даже если он в свое время, способствуя вашему продвижению по службе, не доложил обо всех обстоятельствах, — желает предложить вам должность, более соответствующую вашему темпераменту, нежели та, какую вы занимали до сего времени.
Рогойский ходил беспрерывно от окна к двери; теперь, когда молодой человек умолк, он поднял голову, и четко обозначился его греческий профиль с ровной линией лба и носа, лицо, обтянутое гладкой смуглой кожей.
— Говорили вы тут, говорили… Назначение, акт, кадровые принципы и прочее… А в чем, собственно, дело?
— Вы напрасно сердитесь, — ответил с улыбкой молодой офицер. — Если б дело было простое, я бы принес приказ, положил его на стол. Простите, закурить можно?
— Разумеется, — буркнул Рогойский, заложив руки за спину.
Офицер вынул кисет с табаком, жестяную коробочку с гильзами и миниатюрную серебряную машинку для набивки папирос. Все очень изящное, коробочка даже с монограммой. Он принялся набивать гильзу табаком. Несмотря на кое-какую сноровку, дело не клеилось. Лишь после долгой паузы он сунул папиросу в мальчишеские пухлые губы, красиво очерченные под небольшими рыжими усиками. Теперь он шарил по карманам в поисках спичек, даже на мгновение открыл папку, но тотчас захлопнул снова, как если б опомнился, что к такому в конце концов пустяковому делу, как поиски спичек, нельзя приобщать папку, содержащую личное дело офицера, с которым он разговаривает, ибо папка, хоть сама по себе, может, не столь уж важна, является, однако, символом его деятельности, смыслом его службы в армии. Не будь в штабе таких небольших плоских папок, не существовало бы и таких, как он, адъютантов, и кто знает, может, не было бы и штабов, как не существовали бы и сами штабы, не будь пишущих машинок и телеграфа.
Тут он положил на рассыпанные по столу табачные крошки голубой ровный прямоугольник носового платка и брелок с витыми веревочными висюльками. Из другого кармана извлек белый квадратный конверт и футляр для очков, затем пилочку для ногтей и карандаш; все это он разложил аккуратно возле папки. Рогойский продолжал расхаживать взад и вперед, делая вид, что не замечает поисков, но на его губах играла ироническая улыбка, верней, по лицу расползалась гримаса, которая относилась скорее не к тому, что он видел, а выражала охватившее его раздражение.
— Простите, не могу найти спичек, — с решимостью произнес смущенный поисками молодой человек. — Огонька у вас не найдется?
— Разумеется, — буркнул Рогойский и щелкнул вынутой из кармана зажигалкой, но не подошел к офицерику, тот тоже не двинулся с места, и пламя погасло. Рогойский пустил зажигалку по столу в сторону адъютанта, а сам повернулся и направился к окну.
Молодой человек закурил и, не вынимая папиросы изо рта, несколько раз торопливо затянулся, как это делают школяры, если перемена коротка или если они хотят доказать, что курение для них — вещь привычная.
— Какая изящная вещица, — сказал молодой человек и, повертев зажигалку в руках, обошел стол и положил ее на то место, откуда ее перекинул Рогойский. — Итак, к делу, — сказал он и, видимо недовольный тем, как эти слова прозвучали, повторил их вновь, уже громче и решительнее, словно его целью было не упростить разговор, ради которого он сюда прибыл, а напомнить майору, объяснить ему, если он недопонимает, что время дорого и что он явился сюда не любоваться на его спину.
Рогойский вернулся к столу и сел боком на столешницу. Теперь между ними было не более полутора метров. Они обменялись внимательным взглядом и, вероятно, оба пришли к выводу, что трудно найти двух более несходных людей, во всяком случае — внешне, и что это различие не облегчит им взаимопонимания, а подсознательная неприязнь, появившаяся в первые же секунды, была и остается в значительной мере следствием этого различия.
— Итак, к делу. Я не считаю, майор, что подозрение, будто ваши заслуги не ценят, имеет под собой почву.
Рогойский, ожидавший более подробных объяснений и оттого подавшийся всем корпусом вперед, ощутил себя как бы обманутым краткостью вступления. В то же время он понял: офицерик ждет либо согласия, либо протеста, по всей видимости — бурного, и в силу этой причины решил не отвечать. По-видимому, он угадал, потому что офицерик кашлянул, повернул папку тыльной стороной, поднял голову и кашлянул вновь, явно рассчитывая на возражения. Рогойский, однако, молчал, даже опустил веки, и было непонятно, готов ли он протестовать или со всем согласен. Молодой человек, манипулируя папиросой, повременил немного и, решив, что молчание неприлично затягивается, перешел в атаку:
— Я коснулся вашего темперамента, майор. Солдат без темперамента — явление жалкое, но Боже избавь нас от тех, у кого он в избытке. Генерал Романовский полагает, что во время кампании вам не раз изменяла выдержка или, если угодно, вы нарушили своими выходками устав.
Атака принесла кое-какие результаты. Рогойский открыл глаза и произнес со злостью, накопившейся, вероятно, не только во время этой встречи, но еще в связи с какими-то давними пересудами:
— Так, значит, загвоздка в этих двух еврейчиках?
— Между прочим, в них тоже.
— А еще?
— Дел несколько. Я думаю, вы человек достаточно умный, чтоб знать, когда поступаете как полагается, когда — нет. Перечислять все не имеет ни малейшего смысла, и не в том цель моего приезда. — Офицерик произнес это очень уверенно, ощутив наконец превосходство, которого добивался, и, намереваясь нанести решительный удар, негромко добавил: — Все, конечно, зафиксировано. — И бросил выразительный взгляд на папку. — Но это, разумеется, только бумажки, и в зависимости от обстоятельств они могут иметь или не иметь значения.
Рогойский уперся руками в короткие тугие бедра, поднял голову и проговорил, стараясь скрыть раздражение:
— Меня абсолютно не интересует, что у вас там нацарапано в ваших бумажонках.
— Ну что ж, по-своему вы правы, — любезно подтвердил молодой человек, — я уже говорил: это, возможно, не будет иметь значения.
— А те два еврейчика…
Адъютант перебил его:
— В самом деле, майор, стоит ли тратить время на каждый пункт в отдельности? Хотя, если вернуться к этой ночной операции…
— Это был верх мастерства, — иронически заметил Рогойский.
— С чисто тактической точки зрения — несомненно, — согласился офицерик, — но…
— Что «но»? — оборвал Рогойский, когда молодой человек, заколебавшись, попытался найти слова критики, которые не противоречили бы всему сказанному. Теперь реакция Рогойского пришлась, как видно, ему на руку, и он выпалил с облегчением:
— Операция не была согласована ни со штабом армии, ни со штабом дивизии.
— Я не обязан всякое дерьмо согласовывать со штабом армии…
— Допустим. Но генерал Казанович был тоже не в курсе.
— Чушь, вздор! Между нами говоря, это был не рейд, а взятие укреплений противника с марша. Короче говоря, марш, захват укреплений противника и снова марш.
— Чересчур глубокий, насколько я понимаю. Из-за этого марша несколько эскадронов кавалерии пришлось перегруппировать ранее намеченного срока. Впрочем, не будем об этом.
Рогойский кивнул. Молодой человек придавил окурок в мыльнице, и Рогойский подумал, что всего десять минут назад тот не позволил бы себе ничего подобного и держал бы окурок до тех пор, пока не прижег пальцы, тогда бы он выронил его, будто по недосмотру, на пол и потом, наверное, растер ногой. Факт оставался фактом: офицерик чувствовал себя все уверенней. Он сказал лишенным эмоций голосом, каким говорил в самом начале, но теперь это прозвучало уже естественно, без деланного спокойствия, без фальши:
— Генерал Романовский полагает, что ради дела, ради блага армии, а также ради вас лично, майор, и ради ваших подчиненных вам стоит перейти в ту формацию, где ваши склонности могут быть использованы с большей отдачей, нежели до сих пор. Генерал считает, что служба в основных частях, в добровольческих отрядах, предъявляет к солдатам и офицерам такие требования, какие в состоянии выполнить не каждый, но не в силу непрофессионализма, а по причинам столь различным, что их логическая систематизация попросту невозможна.
— Будьте добры, выражайтесь яснее, — сказал Рогойский, спрыгнув со стола и внимательно глянув на офицера.
— Мне трудно выразить яснее то, что уже достаточно ясно сформулировано генералом Романовским, — спокойно ответил молодой человек и пригладил редкие светлые волосы с пробором посредине — на прусский лад. Тут же он добавил: — Генерал склонен полагать…
— Хватит! — рявкнул Рогойский, сунул руки в карманы и вновь стал прохаживаться по комнате.
— Дело, по которому я пришел, — поспешно продолжал офицерик, опасаясь, что его прервут, — не согласовано с главковерхом. По крайней мере до настоящего момента. Вот доказательство, что генерал желает решить его к удовлетворению обеих сторон. Уверяю вас, майор, множество подобных дел решалось однозначно и проще. Ваша несомненная популярность в армии — вот причина, по которой генерал хочет выказать максимум доброй воли.
Рогойский пнул книжку, выпиравшую из кипы в левом углу комнаты, и, наклонив голову, сгорбившись, насколько это ему позволяла широкая выпуклая грудь гладиатора, принялся безошибочно и с хорошим чувством ритма насвистывать «Кампанеллу». Офицерик наблюдал за ним, пока его внимание не привлекла муха, зажужжавшая под потолком, украшенным по углам лепниной. Муха кружилась некоторое время над окном, затем с двумя или тремя своими спутницами села на свисающую на проводе с потолка лампу в двух метрах над столом. Офицерик оглядел комнату, словно только сейчас обратил внимание на ее размеры и красоту, на белые гладкие стены удивительных пропорций. Собственно, это была даже не комната, а скорее зал, немного запущенный, но, будто живое существо, примирившийся с этим неуважением к своим возможностям и с отсутствием интереса к простой своей красоте. Где-то очень близко, под самым окном, залаяла собака и тут же заплакал ребенок. Солнце меж тем, поднимаясь, проникало все глубже вовнутрь и ложилось яркими полосами на интарсию дубового паркета. Рогойский внезапно остановился, перестал насвистывать и, не поворачиваясь к молодому человеку, спросил его таким тоном, словно не было никакого разговора и словно офицерик, опиравшийся на столешницу кончиками длинных, тонких пальцев, явился сюда всего минуту назад:
— Чего надо генералу?
Посланный ответил не сразу. Его деловитость, его готовность к разговору как бы расплылась в сонной атмосфере летнего полдня — может, размагнитила красота интерьера, в котором он пребывал? Он перевел взгляд с привлекшей его внимание стены на книги по другую сторону стола, в особенности на ту, пострадавшую от пинка Рогойского и теперь открытую, с разметавшимися страницами, похожую на поруганную внезапным насилием женщину, которая не имеет силы, а может, и желания оправить белье на своем белом теле.
— Генерал хочет, чтоб вы, майор, отнеслись с пониманием к тому, что он вам предлагает. — Офицерик улыбнулся и мягко выронил: — Я думаю, генералу важно, чтоб вы ему доверяли.
Рогойский пожал плечами:
— Доверял?
— Да, думаю, именно так и следует к этому относиться. Но это мое личное мнение. Мое частное суждение о деле, с которым я приехал.
— Что за предложение?
— В двух словах затруднительно… Дело в том, что меня уполномочили детально обсудить вопрос, проанализировать новую ситуацию и обрисовать, возможно, ваши новые задачи и обязанности. Включая технические детали. Мои полномочия довольно широки, и визит в штаб не потребуется. Простите… — Молодой человек, будто снова в поисках спичек, стал шарить по карманам, только делал это теперь медленнее, как бы во сне, непроизвольно. Случайным движением сбросил кисет, рассыпав табак по полу. Махнул рукой и докончил: — Вы, кажется, кавалерист?
Рогойский кивнул и, повернувшись к столу, спросил:
— Ну а если я отнесусь к предложению генерала без понимания?
Не глядя на Рогойского, молодой человек ответил спокойно, как старший отвечает задиристому подростку:
— Но ведь вы на военной службе, майор.
— Вы там помянули что-то насчет моей популярности в армии?
— Да, я помянул об этом.
— В таком случае, выходит, это приказ?
Офицер отклеился от пола и, забавно ставя ступни носками вовнутрь, на чуть согнутых ногах подошел к окну и поднял поврежденную книжку. Отогнул папиросную бумагу, взглянул на фотографию.
— Это Бунин, — сообщил он, — избранные стихи и рассказы. — Он закрыл книгу и осторожно положил на стол. Припомнив вопрос Рогойского, ответил резче, но все еще спокойно, не как человек, достигший преимущества, а как тот, кого достигнутое не тешит: — Я же вам сказал: будь то приказ, я бы оставил его на столе.
— Но он у вас с собой.
— Нет. — И как бы нехотя присовокупил: — Я редко вожу приказы. Для этого в штабе существуют курьеры.
Рогойский стиснул зубы, окинул быстрым взглядом офицера и подошел к перевернутому шкафчику, откуда вновь извлек бутыль толстого зеленого стекла, вынул пробку, сделал несколько больших глотков, выполоскал рот и выплюнул содержимое на пол. Потом, обойдя груду книг, вытянул стул с распоротым сиденьем, из которого, будто кошачьи усы, торчали две проволоки, и поставил его за спиной офицерика. Сам сел в кресло, стоявшее в темном углу комнаты. Теперь кроме расстояния их разделял еще и полумрак. Через минуту он поднялся, с усилием подтащил массивное кресло к столу — правда, не пытаясь создать впечатление, будто готов усесться, но все же поставил его поближе, чтоб в случае необходимости им воспользоваться. Прикрыл веки, отчего лицо у него стало вдруг какое-то тяжелое, а сам он будто сразу постарел, произнес негромко, однако покорности не прозвучало:
— Я слушаю.
Украина, лето 1919-го. Армии стоят друг против друга уступом. Между ними петляет Днепр, разделяя их не разделяя. Юго-восточный угол — это в основном белые, северо-западный — красные. Все это не столь очевидно, не столь просто, как две параллельные прямые на карте. Штабные работники обеих сторон наносят обстановку неуверенной рукой, понимая нереальность всех этих кружочков, черточек, пунктирных и прямых линий, выпуклых и вогнутых закруглений, позиций и контрпозиций, всех этих великолепных схем, нанесенных цветными карандашами на толстые шелестящие полотнища бумаги.
Эпицентр вальса гражданской войны перемещается на восток от Днепра и вот уже несколько месяцев неумолимо приближается к Москве. Одни считают, что слишком медленно, другие полагают — с угрожающей быстротой. Левое крыло белых отбрасывает армию красных, как нож снежного плуга, на запад. Там их кровавые остатки терзают гайдамаки Вышиванного, Скоропадского, Петлюры и всяких прочих, худших и лучших, выборных или самозваных гетманов.
Мало этого, по южным землям прокатился в ту и в другую стороны стальной поток, прокладывая перед собой железнодорожные линии, мосты, дороги. Да, сталь, организация, агрессия и мастерство. Тощие подагрические генералы с орлиными носами, с высоко подбритыми висками, нередко с моноклем в глазу, тонкие в талии офицеры с лицами румяней яблока, какие бывают у светлокожих людей с льняными волосами. Они регулярно занимаются физическими упражнениями на свежем воздухе, утром, встав с постели, растирают тело влажной рукавицей. Самонадеянные фельдфебели.
Ну, и солдаты — вечно голодная и усталая, однако дисциплинированная серо-зеленая масса — и с ними всадники в остроконечных касках на крупных сытых лошадях, это немцы, они пришли и ушли, грабя, что попадет под руку. Грабя легально, именуя это контрибуцией, провожаемые чувством ненависти, облегчения, порой даже сожаления. После них остается где уткнувшееся стволом в землю орудие, где опрокинутая фура с колесами на резиновом ходу, где танк-амфибия, тронутый первой, несмелой еще ржавчиной, какие-то железнодорожные рельсы, уходящие в никуда, обрывающиеся в степи, устои взорванного моста, каска на обочине пыльного тракта. А трактом прет гайдаматчина в широченных шароварах, с намасленными чубами, прет густо, лавой, стремя к стремени, с гармошкой, с песнями; и когда проходит на рысях эту теперь уже бесполезную и словно пораженную параличом технику, кажется, встречаются две эпохи: та, что была, с той, что еще будет.
А Нестор Махно, вождь крестьянского войска, окруженный штабом своих идеологов, в равной мере умных и жестоких, усердных и алчных, свирепствует между двумя армиями, терзая белых и полосуя иногда красных пятнадцатью тысячами шашек своих молодцов, которые мечутся по просторам страны верхом, в бричках, в ландо, в каретах с проворством и лисьим коварством, вечно наскакивают, вечно от кого-то убегают и настигают кого-то. Нестор Махно безумствует, ибо для него свобода не имеет границ, ибо в этой безграничности он дает волю жажде безумного и неосознанного крестьянского мщения, топит свою тревогу в реках крови — панской, немецкой, солдатской, любой, какая прольется; и по мере того как растут его одичание и дерзость, растет любовь к нему сотоварищей, ни он, ни они уже понятия не имеют, где начало всему этому, где конец и что такое свобода: то, к чему стремишься, или полное отсутствие чего бы то ни было?
И, как в давние-давние годы, теплой ночью, среди благоухания лип и черешневых садов пролетает ватага всадников на низкорослых мохнатых лошадках, у них и цокот особый, не похожий на цокот господской кавалерии, гайдамацких куреней, на цокот махновской конницы или рослых ганноверских лошадей немецких уланов, — это тот самый цокот, от которого веками спирало дыхание в груди, от которого замирала в тревоге эта прекрасная, богатая земля. И молодка приподнимается на своей постели, выставляет белое плечо, заводит за спину черную толстую, заплетенную на ночь косу, отбросив ее на темный от загара треугольник между лопатками, пробуждаясь вдруг с капельками пота на верхней губе, еще не проснувшись хорошенько, вслушивается в отголоски, вся уже начеку, отличая их от всех прочих шестым чувством, которого прежде в себе не подозревала, вслушивается так же, как вслушивались ее прабабки, и, когда топот отдаляется, шепчет спекшимися от зноя губами: «Но, хвалит Бог, произдилы».
С востока тоже стало просачиваться сюда войско, пробуждая у одних надежду, у других — неприязнь, у третьих — ненависть. Молодые люди, ироничные, с презрительной улыбкой на тонко вычерченных бледных, несмотря на зной, лицах, в длинных приталенных шинелях, накинутых на плечи, сражаются спокойно, с мастерством, исключающим всякий энтузиазм. Безжалостные, но не жестокие, уверенные в себе, но не самонадеянные, утратившие надежду, но гордые и независимые. Мужики, глядя на них, пожимают плечами, а интеллигенты, те, что еще уцелели, сочувственно и даже растроганно делятся друг с другом: эти молодые точно вышли живьем из стихов символистов или из романсов Вертинского, а барышни и дамы невольно ищут взглядом пианино или рояль, чтоб излить чувства в звуках. Так бывало в некоторых городах.
И вместе с лавиной противоборствующих или равнодушных армий, занятых взаимным и диким истреблением или обходящих друг друга стороной, как бы обнюхивая противника, катилась лавина эмоций, надежд, желаний и разочарования. Святое дело трудящихся масс и «Боже, царя храни…», анархическое «Громи, хохочи и живи» и либеральная программа осторожных реформ, алчные польские взоры на Восток и ностальгическое «Хай живе истынна Украйна». А на это взирало все то же знойное летнее небо с зависшим в высоте сарычом, такое же, как в ту пору, когда синеглазые бородачи в стройных ладьях со щитами на борту пугали кипчаков, прятавшихся на косматых лошаденках между курганами.
Именно в такую летнюю пору, в конце июля, часа в четыре вечера на хуторе Веревка майор Максимилиан Рогойский, взбежав по слегка замшелым каменным ступеням, вошел в небольшую горницу, где сгрудились офицеры за самоваром.
Оглядевшись, он обратился к загорелому мужчине лет под сорок в расстегнутом генеральском мундире, с широкоскулым восточным лицом, со светло-серыми дерзкими до непристойности глазами:
— Ваше превосходительство!
— Я слушаю, — отозвался генерал.
Тощий блондин, положивший задранную ногу щиколоткой на колено, поморщился, как если бы обращение было слишком громким и прозвучало диссонансом в этой сонной вечерней тишине, словно охваченной цепкими объятиями зноя.
— Моя фамилия Рогойский.
— Это замечательно, — ответил генерал, и на его толстых чувственных губах появилась улыбка, в то время как серые глаза, упрятанные глубоко в глазницы загорелого лица, смотрели холодно и выжидающе.
— Майор Рогойский.
— Поздравляю со званием. Чем обязан?
Не знает, сволочь, или прикинулся, подумал Рогойский и в ту же секунду почувствовал, как в душе нарастает злоба, кровь отхлынула куда-то вниз и он холодеет. Появились неприязнь и презрение к этим людям за низким столиком, где кроме самовара стоит блюдо с нарезанными вдоль огурцами, банка с медом и тарелка с кусками сладкого пирога. Мгновение он боролся с собой, чтоб не поддать сапогом снизу стол и не понаслаждаться фейерверком из кипятка и звоном разбитой посуды. Знал: он не сделает этого, но искушение было велико.
Он вытянул вперед шею и спросил:
— Так вы не знаете, ваше превосходительство?
— Это я задал вопрос. — Генерал подпер рукой голову.
— Вы обязаны этим, как я полагаю, беспричинному беспокойству штабных крыс.
Генерал улыбнулся вновь, но улыбка была ни дружеская, ни веселая, а глаза глядели все с тем же выражением.
— Документы!
Рогойский вытащил конверт и протянул генералу, тот, не читая, перекинул его развалившемуся на стуле исполину с массивным черным и жестоким лицом. От него исходил тошнотворный запах пота. Под расстегнутой рубахой виднелась белая, мохнатая грудь. По-видимому, украинец. Вновь воцарилась тишина, нарушаемая гудением мух, которые летали по комнате, огибая висящую над высоким и нарядным самоваром липучку. Худощавый блондин прихлебнул чаю, а украинец, бегло просмотрев поданные ему бумаги, перебросил их на подоконник, не удосужившись даже вложить обратно в конверт. Он подался к Рогойскому, открыл было рот, желая, вероятно, что-то сказать или спросить, но его внимание отвлек огурчик, он жадно его схватил, обмакнул в мед и отправил себе в пасть. Генерал, точно вспомнив о чем-то, поднялся внезапно из-за стола и вышел из комнаты. Рогойский на секунду задумался, как быть, и вышел следом. На крыльце генерал обернулся, испытующе глянул на Рогойского, тот столь же испытующе посмотрел на генерала. Какое-то время они стояли молча, похожие друг на друга — приземистые, широкоплечие, с кривыми ногами кавалеристов, загорелые, с холодными и самоуверенными глазами. Генерал дождался, когда солдат подведет коротконогого мерина, и тихо бросил:
— В десять в этом самом доме. Прошу вас.
И, не всунув ногу в стремя, взвился с нижней ступеньки прямо в седло. Мерин осел и тронул с места резвым галопом. Метров через двадцать к генералу присоединилась охрана из десяти всадников на таких же низкорослых крепких лошадках.
Привалившийся к стене дома мужчина в этот миг что есть мочи заорал:
— Чингисхан, Мунке, Темуджин! — и расхохотался, обнажив великолепные зубы.
Рогойский глянул на него и тоже расхохотался.
— А не хотите ли, майор, умыться, побриться и выпить чаю? — спросил мужчина, по-прежнему не отрываясь от стены.
— С удовольствием, — откликнулся Рогойский.
После этого мужчина отклеился от стены и ленивым шагом, переваливаясь с боку на бок своим длинным телом, подошел к Рогойскому, протянул загорелую руку и сказал:
— Моя фамилия Сейкен, капитан артиллерии, в данный момент партизан. Прошу за мной.
Стояла теплая, но темная и дождливая сентябрьская ночь. Четверо всадников с запасной лошадью подъехали шагом к краю оврага. Внизу, между деревьями, показалась деревня, дальней своей стороной она притулилась к широкому, разъезженному бесчисленными тонкими колеями тракту. Там расположилось войско. Несмотря на темноту, виднелись накрытые брезентом подводы и группки солдат у костров. Тесно поставленные хаты смыкались еще теснее за крутизной оврага. Из-за отсутствия керосина все были погружены в темноту, кроме четырех или пяти, где, судя по неровному, мерцающему пламени, жгли либо сало, либо подсолнечное масло. Было около часа. Двое всадников остались при лошадях, лишь сошли пониже, за кромку оврага, на заросшую буйной травой площадку, а двое других, проворно и сноровисто хватаясь за кусты, торопливо спускались по глинистому склону. Шелест дождя заглушал звуки. Эти двое быстро очутились внизу. На мгновение затаились за развесистым каштаном, его крона касалась противоположного, гораздо более низкого склона, по которому шла вверх крутая, извилистая тропка, она-то, надо полагать, и вела в деревню. Один из мужчин двинулся вперед, теперь уже с большей предосторожностью, то и дело останавливаясь и прислушиваясь. Вернулся он минут через десять, посовещался шепотом с напарником, и оба медленно двинулись по тропке, то и дело озираясь. В деревне царила тишина, дома казались обезлюдевшими. Кое-где ворота стояли настежь, словно жители покидали свое хозяйство в спешке. Только ржание лошадей и запах костров, долетающий вместе с низко стелющимся дымом, свидетельствовали о том, что здесь на постое войско.
Прибывшие обошли задами первую хату; прыгая через лужи, перебрались на другую сторону дороги. Один поскользнулся и выматерился вполголоса, другой засмеялся в поднятый воротник расстегнутого френча.
Они побежали, таясь, вдоль дырявого плетня, юркнули в полуоткрытую калитку, но здесь их спугнула визгливым лаем собачонка, они отскочили, пробежали несколько метров и перемахнули плетень за побеленным известью кирпичным коровником, который задней стеной выходил на дорогу. Присели на корточки и переждали минуты две-три, не опасаясь уже собачонки, лаявшей, скорее, для проформы и равнодушной, надо полагать, к ночным посетителям. Перебрались на соседний двор, пересекли его наискосок и проникли в амбар. Там, нащупав лестницу, забрались наверх, пролезли сквозь сено к окошечку и высунули в него головы. Теперь можно было осмотреть несколько ближних дворов. Два из них, похоже, были покинуты, в одном месте валялась павшая лошадь. Их особо заинтересовала ближайшая хата, расположенная на одной линии с пристройками. Она была самая богатая. Перед воротами по дороге прохаживался солдат с винтовкой под мышкой, в свисающей до пят расстегнутой шинели и забрызганных грязью лаптях.
Из хаты сочился свет. Один из прибывших показал на трех лошадей под седлами, привязанным за уздечки к поручням крыльца, другой кивнул, давая понять, что видит и принимает к сведению. Тот, что был пониже, отполз от окна амбара и расположился на сене, упершись ногами в стропило. На нем была почти такая же, как на часовом, шинель, перехваченная в поясе веревкой, а за пазухой, нелепо раздувая левый бок, топорщился некий массивный предмет. Другой, выше и худее, одетый в такую же шинель, наблюдал неотрывно из окна, крутя временами от неудовольствия головой. Через четверть часа они сменились. Дождь прекратился, зато из степи пополз на деревню туман. Это был ночной туман, редкий, без густых клубов, но он размазал очертания предметов и ограничил видимость. Огонь в хате по-прежнему мерцал, однако часового и лошадей окутала плотная мгла, и если б наблюдатели об этом не знали, то вряд ли разглядели бы лошадей у забора, а часового спутали бы со спиленным до половины деревом. Стало холодать, с полей донесся запах поднятой зяби. Прошел час, а огонек все мерцал, и все так же ходил взад и вперед у крыльца часовой, лошади сбились в кучу. Наконец дверь скрипнула, из хаты вышли четверо мужчин, с минуту постояли на крыльце, о чем-то разговаривая, потом трое вскочили в седла и заспешили рысью в направлении войска, а четвертый, помедлив, вернулся в хату. Несколько минут спустя свет погас. Было половина третьего. Туман, как внезапно появился, так же внезапно и исчез, опять заморосил дождь. Двое мужчин подождали еще полчаса, потом спустились вниз, обошли амбар, перелезли через плетень, отделяющий его от крохотной болотистой лужайки, на которой виднелись еще клочья тумана, а может, уже утренней осенней мглы, и затаились в развесистых лопухах. Часовой разгуливал всего в каких-нибудь пятнадцати метрах от них. Где-то невдалеке взвизгнули свиньи. Мужчины поднялись, пробежали еще несколько шагов, на мгновение присели, тот, что повыше, вытащил из кармана складной нож с заточенным с обеих сторон лезвием, пригибаясь на ходу, подскочил сзади к часовому и нанес ему короткий, но сильный удар в шею, чуть ниже челюсти. Часовой пискнул, как поддетый ногой щенок, вздохнул, изрытая смешанную со слюной кровь, и осел на колени. Нападавший отер лезвие о его шинель и кивнул товарищу. Они торопливо припали к стене хаты. Прислушались, потом осторожно подкрались к солдату, лежащему ничком, с подвернутыми ногами, и уволокли тело в лопухи. Вернулись к хате, прошли мимо крыльца, и тот, который снял часового, затаился на углу, достав из-за пазухи наган, второй, что был пониже, обошел дом. Приблизился к низко посаженному окошку, толкнул раму. Она была закрыта. Оглянулся. Дом этой стороной выходил к тракту, удаленному, однако, метров на двести. Между ним и трактом было еще несколько усадеб, огороженных плетнями, где расположились солдаты. Метров за сорок мелькали костры. Мужчина толкнул еще, но рама не поддавалась. Тогда он уперся ногой в узкий подоконник, нащупал щель между досками, приподнялся и дотянулся левой рукой до козырька, обстоятельно проверил его на прочность, потом ухватился за него другой рукой, оттолкнулся что есть силы от подоконника и ввалился в хату вместе с остатками окна. Звон разбитого стекла и грохот падающего столика были мгновенно впитаны влажной дождливой ночью, а рослый мужчина, спящий с открытым ртом, из которого слюна по небритой щеке стекала на красный наперник подушки, даже глаз не успел открыть. Открыл он их лишь тогда, когда нападавший сидел на нем уже верхом и больно выкручивал руку. Но спящий мужик оказался не из слабых, он был исполином, так что момент внезапности не сыграл решающей роли и оба, сопя и подвывая от усилий, скатились на пол. Какое-то время спустя нападавший, который был моложе и проворней, да к тому же еще отличался какой-то хищной повадкой, бился с особым ожесточением, но спокойно, как дерутся дикие звери и бандиты, улавливая в борьбе каждую ошибку противника, вцепился гиганту всей пятерней в лицо так, что тот вскрикнул от боли (до сих пор борьба велась почти бесшумно), и подмял его под себя. Не отпуская лица, которое он терзал и корежил сильной смуглой рукой с длинными пальцами, он уперся коленями в живот и поджал диафрагму, но не дал воздуху выйти из легких наружу, а заткнул ладонью рот, другой же рукой нажал дважды на гортань — не очень сильно, если не сказать — осторожно. Жертва вытянулась, стукнула ладонью несколько раз об пол и замерла. В следующий миг лежащий получил еще сильный удар в висок.
Нападавший, тяжело дыша, поднялся, подошел к окну, жадно втянул влажный воздух. Поправил на себе одежду и тыльной стороной ладони отер разбитые в кровь губы. Прихрамывая, подошел к низкой двери, минул сени с запахом квашеной капусты и отодвинул деревянный засов. Второй с наганом наготове вошел в дом. Они перевернули тяжелое тело на живот, скрутили за спиной руки. Связали и ноги. Низкорослый вытянул из-за пазухи большой холщовый мешок с веревочными петлями по бокам, и они натянули его на пленника. Высокий с наганом выскочил наружу, тут же вернулся и кивнул, давая понять, что все в порядке. Они взялись за петли и вытащили мешок из хаты. Теперь почти не оборачиваясь, едва ли не бегом двинулись вниз по улице, поволокли за собой мешок к крутому склону оврага. Тот, который хромал, вновь поскользнулся и осел на колено, зашипев от боли. Его товарищ вновь засмеялся — как перед этим, пряча рот в складках расстегнутого воротника. Дождь все моросил, опять пополз туман, а может, заклубились испарения от деревьев. Видимость вновь ухудшилась, и лишь в последний момент они успели заметить метрах в десяти силуэты трех солдат с винтовками через плечо. Один из похитителей вскинул пистолет, но товарищ схватил его за руку. Возникшая перед ними троица не проявила особого интереса к столь неожиданной встрече, в своих долгополых шинелях они исполняли, казалось, некий причудливый танец, подчиняясь таинственному ритму, приседая на корточки, делая два-три прыжка и опять приседая, дергаясь то направо, то налево, то замирая с раскоряченными ногами и растопыренными руками.
Коренастый подошел к солдатам и спросил требовательным, уверенным голосом:
— А вы чего тут?..
Молоденький солдатик в нерешительности обернулся и промямлил:
— А мы это самое…
Но так и не кончил, потому что его товарищ, высокий, тощий, с наглым взглядом и замашками забияки, рявкнул, разозлясь:
— А тебе какое дело? — Подошел к плетню и, ткнув в мешок, спросил: — Чего тащите, дьяволы рогатые?
— Сам ты дьявол рогатый, а чего тащим — наше дело. Пустых дворов сколько хочешь, кое-что и приспособить можно. Завсегда пригодится.
— Вроде и так, — примирительно буркнул молоденький солдатик, нерешительно глянув на своих товарищей.
— Держи сукина сына! — заорал третий, в шинели до пят, с руками, утопающими в рукавах, забавно подскакивая на коротеньких косолапых ножках.
В ту же секунду захлопали крылья и из тумана выскочил золотисто-коричневый петух с ободранным хвостом. Солдаты бросились за ним, а малехонький, по-видимому — заводила, растопырив руки, загородил ему дорогу. Один из солдат кинулся на петуха, но тот, закудахтав и оттолкнувшись, как надувной шарик, от земли, отлетел метров на двенадцать. Солдат плюхнулся в грязь — наверное, уже не первый раз, судя по шинели, сверху донизу облепленной темной жижей.
— Сука, — простонал он, поднимаясь с болтающейся между ногами на длинном ремне винтовкой.
Коренастый подошел к солдатам, цыкнул сквозь стиснутые зубы и приложил палец к губам, показав рукой на костры. Солдаты, полагая, что их всех теперь спаяло мародерство, закивали с одобрением. Мужчина подошел к мешку, возле которого замер его несколько оробевший, но тем не менее готовый к схватке сообщник, уверенно ухватился за петлю и прошептал:
— Двигай!
Когда они проходили мимо солдат, поглощенных облавой на петуха, они услышали, как молоденький солдатик, почти мальчик, выдохнул с горечью и разочарованием:
— Полчаса бьемся с этим гадом, падла бесхвостая!
И еще какое-то время, волоча, как тяжелые сани по мокрому снегу, мешок по грязи, они слышали кудахтанье петуха и огорченные голоса ловцов.
Добравшись до каштана, похитители разделились: кто-то поспешно вскарабкался по склону оврага и вскоре вернулся с одним из тех, кто оставался при лошадях. Принесли длинную веревку, продели в петли мешка, потом, натянув ее, несколько раз дернули. Наверху четвертый из ночных налетчиков огрел лошадь лозиной, та рванулась, впиваясь копытами в скользкую траву, и выскочила на край, потянув за собой мешок. Прошло минут пятнадцать, прежде чем люди со своим грузом выбрались из оврага. Когда закидывали мешок на седло запасной лошади, пленник застонал. Тотчас один из караульщиков, раскрыв мешок, поднес к его губам манерку с водой; не приходя в сознание, человек застонал вновь. Наконец, вскочив в седла, похитители рысью погнали лошадей в темную, занавешенную туманом и дождем степь.
Когда подъезжали к большому селу Решетиловка, где были расквартированы белые, уже рассветало. Печененко, тот самый рослый украинец, который просматривал документы Рогойского, вышел навстречу. Хмуро глянул на четырех всадников, въезжающих в обширный двор, затем, увидев мешок поперек пятой лошади, одобрительно кивнул. Указал на сероватое строеньице с выбитыми окнами. Почесывая спину, шибая потом и вонью грязного белья, огромный, черный, растрепанный, с распухшими от водки глазами, наглый, омерзительный, буркнул равнодушно двум калмыкам у себя за спиной:
— На крюк! — Затем, обращаясь к одному из всадников все тем же сонным, лишенным эмоций голосом, добавил: — Чистая работа, Рогойский. — Не поворачиваясь, расстегнул ширинку и помочился под ноги лошади.
В следующее мгновение массивное, тяжелое тело еще не пришедшего в себя человека повисло на подтянутой к крюку веревке, затрещали выворачиваемые руки.
— Через полчасика запоет, как донской соловей, — пробурчал Печененко и неуклюже заковылял к хате, возле которой стояло элегантное коричневое ландо, запряженное парой крупных, упитанных меринов.
Двое из прибывших двинулись на лошадях шагом по размокшему проселку.
— Не худо бы выспаться, — заметил один из них, вынимая ноги из стремян.
— Не худо, — отозвался второй.
Вскоре они свернули в узкую аллейку, обсаженную каштанами и ведущую к двухэтажному дому с плоской кровлей, напоминавшему то ли школу, то ли склад, а может, контору волостного старосты или же загородную дачу зажиточного горожанина.
— У меня есть бутылка самогону. Не желаете? — осведомился тот, который заговорил первым.
Второй глянул ему в лицо и, словно обеспокоенный чем-то, сказал:
— Все это до чертиков просто. Так же просто, как смерть того солдата, которому вы три часа назад перерезали горло, Сейкен.
— Не в том дело. Я просто хотел предложить вам рюмку водки, майор.
Рогойский поднял голову и, посмотрев в светлеющее полосками небо, спросил:
— В самом деле? Только и всего?
— Разумеется. Хотя… хотя нравственная проблема… я не люблю таких слов, ими злоупотребляют…
— Никакой проблемы не существует, — прервал его безмятежно Рогойский. — Идет война, вот и все. — И, вновь посмотрев на небо, добавил: — День будет, наверное, хороший. Отоспитесь, а вечером — к Лизочке, она так славно поет.
Ослепительный фейерверк, огненно-золотая корона. Красивое лицо девушки, ее большие глаза, спокойные и внимательные, устремлены в изумительное зрелище, в них отражается эта неожиданная иллюминация. Ударившие в небеса снопы искр. Чьи-то вопли, очередной взрыв. Шипение огня, бегущего по бикфордову шнуру, и опять вспышка. Водяной вал, обдающий берег и доски, бревна, трухлявые деревяшки, все перемешанное и на мгновение остановившееся в прохладном воздухе погожей ночи. Фантасмагория уничтожения и мгновение немоты. Ощущение собственной силы, почти божественной сути. Капельки воды на лице, затем порыв ветра и жар, исходящий от огненного спектакля. Мечущиеся и отчаянно жестикулирующие фигурки людей, разбегающиеся во все стороны, и смрад паленого. Еще несколько взрывов уже едва слышны, почти не привлекают внимания. Искры падают в воду и тут же гаснут. Побледневшее лицо девушки полно надежды. Постепенное умиротворение и одновременно все более яркий свет. Непередаваемая красота зрелища, медленно замирающего, замечательного своими всплесками, еще не оконченного, но уже прошедшего кульминацию. Мгновение тишины после сотворения мира, а может, его гибели. Ощущение, что великое зависит не только от совместного длительного усилия, от бесконечного труда, от всеобъемлющей идеи, но также и от некоего начала, отрицающего эти ценности, то есть от каприза, от прихоти, от возникшего в скуке, забаве, в бессоннице ночи или в радости дня желания, которое подтверждает: не только общество диктует личности свои законы, но и личность может диктовать обществу. Апокалипсис, рожденный нашими возможностями: смерть, ужас, уничтожение, — и красота и мгновение покоя, необходимое, чтоб охватить рассудком происшедшее. Девушка с губами то ли приоткрытыми в улыбке, то ли застывшими в гримасе экстаза. Только запах словно иной и тепло, изменившее свой характер. Сухой шелест, может, высокой травы в знойный день да все усиливающийся запах, не имеющих ничего общего с огнем, бьющим в усеянное звездами небо. Лицо девушки, вытянувшееся почти до гротеска, словно отраженное в кривом зеркале, и губы, теперь уже сжатые, забавно округленные, чересчур дерзкие, и глаза, теряющие свой таинственный блеск. Чувство безопасности, но и некая ограниченность. Давление в висках, неприятный привкус во рту. Глаза невидящие, чем-то заслоненные и ощущение ограниченности пространства. Справа как бы доски, поставленные торчком, одна возле другой, а может, водруженные друг на друга — трудно распознать, поскольку глаза заслонены. При малейшем движении тупая боль в голове и потеря ориентировки, точно все расплывается в густой, грязной жиже. Глаза, глядящие в щель между досками, кажутся доброжелательными и бессмысленными. Вверху над головой нечто белое, затканное кое-где паутиной. Ни пламени, ни людей, только временами то с одной, то с другой стороны приглушенные стоны-вздохи. Клетка, в которой он не одинок. Он пытается вернуться к той действительности, а может, недавнему сну, к ощущению могущества, когда он полностью контролировал ситуацию, но этого уже не воссоздашь, все разорвано на клочки, которые ровным счетом ничего не значат. Нет взрыва, иллюминации, пламени — только тишина, теснота и вонь. Однако он не один. Кто-то разделяет с ним и пространство, и время. Присутствие, пожалуй, случайное, не связанное с причиной, ради которой он тут сидит, а точнее сказать — лежит. Теперь ему известно, что шелест — это не трава, высушенная солнцем и колеблемая ветром, а солома или сено, скорее солома, судя по прикосновению.
Только что из-за досок выглядывали маленькие серенькие глазки и большие нахальные губы, он видел их расплывчато, смутно, словно сквозь затемненные и грязные очки. Он пытается поднять веки, но они склеены и падают вниз. Он пытается еще и еще, но его усилия, не вызывающие, впрочем, боли, настолько неприятны, что приходится напрячь всю волю, сконцентрировать всю энергию для новой попытки. Он шевельнул рукой, потом ногой — руки и ноги, как колоды, бесчувственные, одеревеневшие. Сделал глубокий вдох, но облегчения не последовало. Привкус во рту был по-прежнему омерзительный, а ниже, в гортани, позыв к рвоте, все усиливающийся. Он повернул голову направо. Толстые губы с дырками наверху — у самого лица. Над губами — светлая кожа, какая встречается у некоторых блондинок, и махонькие круглые глазки, напоминающие угольки в голове снеговика, наблюдают за ним с холодным интересом. «Что за милая мордашка», — думает он и в тот же миг слышит похрюкиванье, не оставляющее ни малейшего сомнения насчет общества, в котором он пребывает. «Итак, я в хлеву», — прошептал он. Когда поднял голову, тупая боль усилилась до невозможности. Преодолев ее, он наконец сел. Через какое-то время встал и вышел из-за загородки. Выяснил, что хлев сообщается с амбаром, кирпичным просторным строением, в настоящее время пустым. Он прошелся вдоль загородок, тоже пустых, кроме крайней, занятой очаровательной хрюшкой. Шел и прихрамывал на левую ногу. Попытался было потянуться, но боль в плече и в руке заставила его отказаться от этого. Заныло в животе, вновь повторились позывы к рвоте, и увеличилась слабость. Он потер рукой подбородок: жесткая трехдневная щетина. «Надо полагать, видок у меня не очень», — подумал он и приблизился к низкой массивной двери со ржавыми петлями. Толкнул, но дверь не поддалась. Значит, заперта снаружи; ситуация стала яснее. Что ни говори, он не забрел на ночлег в случайное место по необходимости, следовательно, его водворили в специально выбранное для этой цели помещение. Огорчал факт, что придется предпринимать какие-то меры для выяснения своего статуса. И потому, бросив взгляд на распахнутые оконца, некоторые с разбитыми стеклами, он порадовался тому, что они достаточно высоко и, следовательно, это автоматически избавляет его от попыток вылезти наружу. Он вернулся к двери и пнул ее без всякой надежды. Как он и полагал, никто не отозвался. Для очистки совести он пнул еще разок-другой и, уже направляясь к своему стойлу с гостеприимно разостланной соломой, услышал слова, которые его не утешили, поскольку свидетельствовали о том, что его фарисейские потуги дали некий результат.
— Друша, — произнес чей-то сонный голос, — колотится. Позови Игнатьева.
Через несколько минут засов отодвинули, в хлев вошли молодой мужчина в чине капитана и пожилой мужик в сердаке, надетом на голое тело. Капитан внимательно посмотрел на узника и махнул рукой. Мужик вышел, заперев за собой дверь.
— Чтоб вас черти взяли, — сказал капитан. — Мы, конечно, слыхали про вас всякое, но то, что вы устроили нам нынче ночью, превзошло все ожидания.
Офицер прошелся по хлеву, глядя себе под ноги и стараясь не вляпаться в навоз, валявшийся там и сям сухими кучками на цементном полу.
— Я бы не простил себе, майор Рогойский, если б не сказал, что восхищаюсь вами. Ваши энергия, динамизм, ваша бесшабашность превзошли все ожидания. В этом было даже некоторое очарование. Лиза на вас в обиде, в смертельной обиде. Что, впрочем, знает эта гусыня о подлинных мужских страстях? Ровным счетом ничего. Хороша собой, молода, привлекательна, но глупа, лишена воображения и нетерпима, как, отметим, все женщины на свете. Но ваш вчерашний бенефис… не знаю, стоит ли это назвать, вернее, имеет ли смысл выразить…
Рогойский, который меж тем стоял, тяжело опираясь на перегородку, с капельками пота на лбу, бледный, измученный, прервал капитана, поднеся руку к всклокоченным волосам с торчащими в них стебельками соломы:
— Отвяжитесь… — Он прошелся растопыренными пальцами по шевелюре и сел на солому.
После паузы, скрашенной похрюкиваньем свиньи, скучающей, надо полагать, по недавнему компаньону, более того, очарованной прежним интимным общением, которое грубо нарушило появление офицера, — так вот, после паузы, более длительной, чем то молчание в разговоре, которое возникает порой оттого, что мнение одного собеседника является сенсацией для другого, Рогойский махнул рукой и выдавил из себя, казалось, совсем не то, что намеревался:
— Вы извините, что принимаю вас не так, как следует. Впрочем, сами видите…
Офицер собрался было что-то ответить, подался даже вперед, чуть раздвинув ноги над навозом, но Рогойский жестом дал понять, что еще не кончил, и, поглядев с отвращением на свои ноги, спросил:
— Не можете ли вы мне сообщить, где мой второй сапог?
— Не понял, — ответил капитан, еще более подаваясь вперед.
— Вы что, близорукий? — осведомился Рогойский.
— Да нет, зрение нормальное. Я служил строевым офицером.
— Тогда, я думаю, вы видите, что на ногах у меня всего один сапог. Да и тот как будто не мой.
— Опасаюсь, что вряд ли смогу удовлетворить вашу любознательность, господин майор.
Рогойский закивал, давая понять, что принял объяснение офицера к сведению. И принялся извлекать соломинки из своей шевелюры, потом, глубоко вздохнув, окинул взглядом хлев.
Офицер, как если б ему хотелось компенсировать разочарование, вызванное его неосведомленностью относительно сапога, весело воскликнул:
— Зато я могу сообщить, сколько зубов потерял в ту ночь майор Печененко!
— Выходит, если я правильно понял, его посетил дантист, не так ли? — пробормотал Рогойский, опуская голову на грудь.
Капитан расхохотался:
— Всю работу взяли на себя вы. Лишили господина Печененко четырех зубов, к тому же передних. Выбили самоваром. — Он помедлил минуту, а потом, не обнаружив реакции на эту, как ему казалось, волнительную новость, сказал с ноткой хвастовства, словно сам был героем тех событий, о которых сообщал: — Все началось, собственно, с какого-то пари, даже не с Печененко, а, помнится, с Савицким, с этим вислозадым из разведки. Тут оказалась замешана Лиза, так мне это представляется, а предметом спора была какая-то безделица, сущий пустяк. Сначала это никого не заинтересовало, только малость поругались и покричали. Потом Лиза вдруг расплакалась, что тоже никого не взволновало, а вы затянули какую-то песенку, не слишком пристойную, ибо были уже изрядно на взводе. Печененко сделал вам замечание, вы продолжали петь, Лиза — плакать, и тут Савицкого разобрало. Тогда вы треснули его по башке, и Савицкий скатился под стол. Печененко вновь сделал вам замечание, сославшись при этом на свои функции при генерале. Вы это проигнорировали, песня зазвучала еще неприличнее и громче, после чего вы вышли во двор и начали крушить заборы. Савицкий выбрался из-под стола, выбежал следом и принялся вас ругать на чем свет стоит. Вы шарахнули его еще разок. Минуту спустя, уже завывая, не плача, нет, завывая, во двор выскочила Лиза. Савицкий, который меж тем пришел в себя, приблизился к Лизе и стал жаловаться. Трое-четверо ребят выбежали из хаты, среди них Печененко. Лиза крыла отборным матом. Савицкий вообразил, что это она его, и бросился на чердак, вы — за ним. Савицкий закрылся. Тогда вы приставили лестницу и поперечиной от забора принялись колошматить по кровле. Кликнули Бабкина, он попытался что-то вам объяснить. Стоял задрав голову, и на него сыпалась сверху солома. Ребята смеялись, но кое-кто уже смекнул, что ничего забавного больше нету, к ним относился Печененко. Лиза потеряла сознание и упала навзничь. Бабкин пригрозил судом чести. Печененко поддакнул, упомянув попутно о неких специальных средствах, используемых в особых обстоятельствах. Сказано было как-то туманно, тем не менее это вас разъярило. Да, да, это точное определение, именно разъярило, не рассердило, потому что в вашем геройстве было пока нечто мальчишеское, вы меня простите, больше молодечества, чем злости. Но после слов Печененко вас охватила злоба. Вы спрыгнули с крыши и с выражением холодной ярости на лице пошли на Печененко, тот спрятался за Бабкина. В этот момент во двор въехал на бричке Покиванов. Он прибыл от генерала, отмахав за день пятьдесят верст, весь в пыли и голодный как черт. Подошел к вам и предложил выпить чаю. Отмахай за день бричкой пятьдесят верст, и не будешь знать, что кому когда предложить. Вы, майор, вбежали в хату и выскочили оттуда с самоваром. Печененко бросился наутек, вы — следом. Где-то что-то подобное я видел… Ага, в кинематографе, в Москве. Мчится человек с ведром кипятка, а от него удирает черная рослая баба в мантилье. Что потом?.. Кажется, он обдал ее кипятком. Да, облил и изнасиловал, впрочем, суть не в том. Печененко за бричку, вы — за ним. Печененко обежал бричку, а вы присели, тут Печененко решил выяснить, что вы делаете, и высунулся, а вы хрясть его самоваром по морде, даже ручка отлетела. Спичин с кем-то вдвоем уносили Лизу, Савицкий вылезал через дыру на крыше, а вы перевернули бричку, сломав дышло. Покиванов в досаде — чаю не будет, самовар развалился, кипятка нету — устроил некий инцидент, а может, и демонстрацию, на которую вы вначале не обратили внимания, сосредоточившись на бричке, но новое замечание о специальных средствах, оброненное кем-то невзначай и не связанное непосредственно с вами, вызвало новый взрыв ваших бушующих чувств. Отметим хотя бы, что вся торцовая стена хаты, занимаемой…
Повествование офицера явилось как бы аккомпанементом усилиям Рогойского. Сперва он встал на ноги, на что затратил больше сил, чем в первый раз, еще до прихода офицера. Прошелся в стойле, вертя при этом головой на онемевшей шее, как на ржавом винте, с треском и похрустыванием. Когда рассказ дошел до обморока Лизы, Рогойский вышел из-за загородки, добрался до угла, где стояло грязное ведро. Там его вырвало слюной и желчью. Затем протер руки, лицо и грудь пучком соломы и, поднеся его к носу, несколько раз понюхал. В яслях обнаружил лужицу грязной, затхлой воды и, превозмогая себя, не без колебания и даже с отвращением смочил ею палец и протер веки. Провел несколько раз пятерней по голове, пытаясь привести взлохмаченные волосы в порядок. И сказал, прервав капитана как раз в момент, когда тот живописал, как из хаты, занимаемой двумя ротмистрами и штабс-капитаном, посыпались стекла и следом вылетела бочка с солеными огурцами, прямо под ноги подбежавшим кадетам:
— Ну ладно. Хорошо бы выкупаться, а лучше всего — попариться в баньке, а потом выпить простокваши, — и направился к полуоткрытой двери. Шага за два до двери остановился, освещенный солнцем, пробившимся сквозь щель, и поглядел на свои ноги, точно только сейчас их заметил, — облаченные в нечто широченное, багрово-красное, с золотыми лампасами. И тут он спросил офицера, рассматривая это пышное диво: — Не можете ли вы сказать, капитан, что это такое?
Офицер тоже глянул, затем тоже подошел к двери и пожал плечами, выражая, казалось, изумление, как можно не разобраться в собственном костюме, да еще то ли из кокетства, то ли по неучтивости прервать рассказчика как раз в момент, когда сам процесс повествования стал тому забавен, глянул и ответил церемонно и сухо:
— Это брюки, господин майор. В здешних местах их надевают по праздникам. Называются шароварами.
Рогойский ухватился пальцами за лампасы и растянул руки во всю ширину, разведя штанины, как гармошку.
— Вы не знаете, как они на мне оказались?
— Понятия не имею, — ответил капитан. — Насколько я помню, вы, по-моему, приехали в них из Пирятина.
— Любопытно, — буркнул Рогойский, не выпуская из рук обе брючины. Он потоптался на месте, поворачиваясь то влево, то вправо, потом медленным движением опустил руки. — Мне кажется, вы милый молодой человек. Не будете ли вы так любезны и не пригласите ли сюда капитана Сейкена?..
Офицер прервал:
— Сейкен болен. Три дня как в постели. У него ангина.
— И все-таки, — заметил Рогойский, — зайдите к нему и попросите принести мне сапог, а еще лучше — два, ну и, разумеется, брюки. Я, пожалуй, тут подожду.
Офицер скользнул тыльной стороной ладони по черному усу и игриво улыбнулся. Уже на выходе, повернувшись боком под низкой притолокой, сказал:
— Бабкин добивается, чтоб состоялся суд чести. Мне кажется, из этого ничего не выйдет. Разумеется, вы свободны, майор.
Рогойский повернулся к загородке. Оперся локтями о жердь и повторил настойчиво:
— Любые брюки и любые сапоги, капитан.
Был погожий осенний день, солнце ласково сияло сквозь дымку, нити бабьего лета плавали в теплом и спокойном воздухе. Майор Рогойский пересек деревню, прошел орешник и свернул на тропку, шедшую с небольшим подъемом к лесу. Слева на пологих холмах черно-коричневыми полосками лежала земля, распаханная под озимь. Вдали маячила мельница с огромным замершим ветряком. Весь мир, как это случается осенью в деревне, был золотисто-рыжим. Позади остался сад с побеленными, но потемневшими за лето стволами деревьев и зонтиками ветвей, ровно подстриженных, с уже снятыми плодами. На вершине холма раскинулся скромный, но аккуратный и ухоженный хутор. Рогойский остановился и осмотрел окрестности. Никакое насилие не смогло разрушить сонный покой и безмятежность пейзажа. Пахло землей. Деревья в ближайшем лесу еще не золотились, хотя уже утратили свою прежнюю зелень и напоминали женщину пока без явных признаков старения, но уже с приметами возраста. Вот почему осенний пейзаж, трогательный, пастельный, навевает тревогу: нет явных симптомов перемен, однако угадывается конец. Атмосфера безмятежности и покоя обманчива и неправдива. Именно об этом он и думал, глядя на утопающие в дымке окрестности.
В следующее мгновение, мелко шагая и чуть сгорбившись, он двинулся вперед.
За садом виднелась усадьба с узенькой, как ниточка, дорожкой среди ульев. Он прошел мимо и поравнялся с одиноко стоящим домом. Во дворе женщина перебирала арбузы. Из-за деревянной загородки высунул голову теленок. Два серых гуся величественно разгуливали у колодца. На завалинке грелась кошка. Рогойский оперся о трухлявый плетень и осмотрел усадьбу. Гуси заметили чужого и загоготали, не меняя, однако, своего маршрута. Женщина извлекла из груды большой темно-зеленый арбуз, покрытый белым налетом, и протянула через плетень Рогойскому. Она была тонколицая, с высоким лбом и добрыми умными глазами. Он вырезал перочинным ножом четвертинку, остальное отдал женщине. Та вернулась к своей работе. Постоял еще с минуту, разглядывая двор. Кусок арбуза опустил мякотью вниз, обильный сок капал, как девичьи слезы, на жухлую траву. Он двинулся вперед. Слева сплошной стеной шли заросли терновника с сизыми шариками, ожидавшими первых заморозков. После заморозков их соберут. Он приблизился к лесу, но не углубился в него, а пошел вдоль опушки, набрел на удивительный в своей одинокости треугольник нескошенной пшеницы, примыкающий широкой стороной к лесу и отделенный от распаханных полей мелиорационной канавой. Он вошел в хлеба, раздвигая свободной рукой осыпающиеся колосья. Прошел клин пшеницы, затем вернулся в нее, пересек теперь уже наискосок и двинулся в обратном направлении. Он с радостью купался в этой забытой пшенице, как изнемогший от жары, усталый путник купается в знойный день в прохладных освежающих водах. Потом завернул к лесу и сел на опушке на теплую от солнца лиственную подстилку. Примятые колосья не поднялись, стебли утратили упругость, в пшенице зияли проходы, прорезавшие ее в разных направлениях. Он принялся за арбуз. Резал на ломтики, вгрызался в мякоть, а бесцветный сладкий сок стекал по подбородку. Кончив, бросил за спину обгрызенные корки и, привалясь к дубу, подставил солнцу лицо. Пахло осенним лесом. Паутинка бабьего лета скользнула рядом и задергалась на щеке. Он дунул, и ниточка исчезла. Он вытянул ноги, сел ниже, опершись о комель шеей, ощущая спиной древесный корень. Полный покой. Закрыл глаза, а когда открыл, то увидел обращенную к нему светло-серую птичью гузку. Гузка подалась в сторону, появилась небольшая головка на изящном холеном тельце. Куропатка, отъевшаяся за лето, за урожайную осень, неминуемая добыча охотника или браконьера, жертва силков или дроби, пока еще живая и, по всей видимости, спокойная и уверенная в будущем, как и человек, которого она рассматривала.
Вскоре она исчезла в хлебах и больше не появлялась, хотя лежащий под дубом мужчина ждал, вглядываясь замгленным благостной ленью и дремой взором в то место, где ее только что видел.
Он прикрыл веки и, убаюканный солнцем и тишиной, перешел постепенно из яви в сон, не забывая, однако, о том, что его окружало, прислушиваясь к лесу, к пшенице, к полям, умиротворенный ласково-терпким запахом осени.
Тремя днями ранее, после того как с помощью бывшей анархистки Ады Нелиной был взорван мост под Пирятином, что отрезало от остальной армии две бригады большевистской конницы, после этого обреченные на гибель, ибо бригады, опасаясь потерять легкую артиллерию, которой располагали, ринулись на восток и попали в лапы приготовившихся к такому повороту событий белых, — так вот, тремя днями ранее майор Рогойский в темно-сером костюме и белой замызганной рубахе с высоким воротничком, в черном засаленном галстуке, в штиблетах с задранными вверх носками, в очках, со свертком под мышкой, в котором он нес краюху хлеба, две луковицы, пригоршню чаю, три яйца вкрутую и краткий курс арифметики для гимназических репетиторов, похожий и вместе с тем непохожий на русского интеллигента, скажем — на учителя гимназии для благородных девиц или на репортера газеты «Гомельские ведомости», прошел ночью, а также и днем двадцать пять верст, предъявляя дважды большевистским патрулям документ на имя Силина, подписанный каким-то только что избранным председателем совдепа в Нежине и заполненный от руки каллиграфическим почерком, где указывалось, что вышепоименованный направляется в район Гадяча, Богодухова, Люботина с целью сбора математико-статистических данных, необходимых для народной власти. Внизу документ был снабжен размашистой, внушающей доверие канцелярскими завитушками подписью и несколько размазанной печатью. Вскоре после полудня, миновав хутор, не то Панино, не то Ганино, Рогойский залег на четверть часа в придорожной канаве, после чего вместе со своим отощавшим свертком, из которого исчезли последнее яйцо и предпоследний ломоть хлеба, залез на поросший кустарником холмик с намерением вздремнуть часочек. Длительность сна намного превзошла ожидания, и, когда он выбрался из кустов, наступил уже вечер, от плоских, простиравшихся во все стороны полей повеяло холодом. Тогда, памятуя об изысканности костюма, он привел его в порядок, причесал волосы, нацепил очки, вышел на дорогу и двинулся дальше.
Не пройдя и полверсты, он услышал за спиной вскрики, гортанный смех и перестук колес.
Его догоняли впряженные в деревенскую повозку, идущие рысцой лошадки. Он вежливо посторонился. Мужики миновали его, но метров через двадцать возница, лихой парень с шапкой черных лохматых волос, весело крикнул:
— Залазь на воз! Подвезем!
Рогойский уселся. Лошади вновь пошли неспешной рысцой. Кроме возницы на возу был еще пожилой жилистый мужик, клетка с курами и две бабы: одна — старая, безобразная, другая — молодая и, пожалуй, хорошенькая, обе в праздничном наряде здешних крестьянок. Одетые ярко и со вкусом, с изящной вышивкой на белых льняных рубашках. Обе пьянехоньки. Молодая лежала растопырив ноги, откинувшись назад, юбка сползла на бедра, и с того места, где сидел Рогойский, было видно, что исподнего под юбкой у нее нету. Старуха, втиснутая между курами и мешками, похрапывала, время от времени выпуская газы. Старик принялся рассказывать, что они возвращаются с базара, где продали гречу, купили десяток кур, завернули по пути к знакомому попу, родственнику невестки, и тот угостил их так, что они, собираясь быть дома к полудню, вернутся никак не раньше полуночи. Греча, по словам старика, подорожала против прошлогоднего вдвое, точно так же мука и другие крупы, но более всего подорожал овес — все из-за конницы, теперь лошадей что кроликов, — зато куры в цене упали, и за мешок гречи они купили целую клетку. Приторговывали и свинку, но так, больше для куража, с самого начала разобрались, что какая-то не такая, слишком много сала, да и кондиция не та. Народ пуганый, веселья на ярмарке что мышь насрала, не попади они в гости к родичу, можно сказать, что и ездить-то было незачем. Уже смерклось, когда возница ни с того ни с сего повел красивым, от природы поставленным тенором частушки, дважды завершая на самой высокой ноте.
Рогойский повернулся и глянул на возницу, сидящего теперь почти боком, подвернув одну ногу под себя. Старик меж тем вытащил из-за мешков немецкий штык, и когда Рогойский повернулся в его сторону, он, добродушно улыбаясь и не переставая болтать о том о сем, саданул что было силы штыком, целя Рогойскому в живот. Однако тот молниеносно, даже не приподнявшись, скользнул вбок, и штык прошел мимо. Старик полетел вперед, но, как видно сноровистый и еще в силе, быстро обрел равновесие, приняв ту же позу. Рогойский меж тем сунул руку за жилет, выхватил небольшой черный браунинг и, прежде чем старик смог повторить выпад, приставил ствол к жилистой шее. Возница поперхнулся частушкой. Местность была пустынная и плоская — без деревьев, ночь — безоблачная, хоть и темная. Тщательно смазанные колеса большой фуры катились почти без шума. Лошади бежали ровной рысцой, как движутся здоровые, хорошо откормленные, уверенные в себе животные. Рогойский в темном костюме, в очках не отводил руку с пистолетом от шеи старого кряжистого крестьянина с добродушным загорелым лицом, который, приподняв руку, вяло опустил штык. Пьяная молодуха шевельнула головой, пытаясь ее приподнять. В этот момент Рогойский отодвинулся от мужика как можно дальше и выстрелил, держа пистолет в вытянутой руке. Пуля разорвала горло, во все стороны брызнула кровь. Старик запрокинулся и повалился с фуры. Рогойский повернулся к вознице и приставил браунинг к виску. «Не шевелиться», — сказал, прежде чем нажать на спусковой крючок. Щелкнул выстрел, и возница осел на козлы. Остановив лошадей, он сбросил тело на обочину. То же самое проделал с бабами и оставил их на дороге. Они валялись, как два растоптанных цветка после церковной процессии. Вытянув лошадей кнутом, Рогойский помчался вперед.
К полуночи он добрался до местечка Лубы, завернул на пустую и грязную рыночную площадь, где продремал на фуре до утра. Чуть свет разбудил корчмаря, обменял у него фуру с лошадью, курами и пятью пудами муки на круг колбасы, литр водки и старинные часы в латунном футляре, в десять утра сел в узкоколейку, которая двинулась с черепашьей скоростью на Полтаву.
Около полудня поезд остановила гетманская стража, охотящаяся за евреями, коммунистами, интеллигентами, махновцами и за всякой другой сволочью. Людей выгоняли из вагончиков, разбрасывали багаж, вспарывали узлы в поисках книг, газет, золота и драгоценностей. Обладание любым из этих предметов было с точки зрения вооруженного отряда в высшей степени аморально и достойно порицания. Большая часть из них была пьяна, остальные — под хмельком, но весь отряд в целом выглядел браво и молодцевато. Мелькали шаровары с лампасами, начищенные до блеска юфтевые сапоги. Рожи румяные, самодовольные и веселые. Впрочем, извлеченная из поезда толпа не сулила ничего ни в смысле политики, ни в смысле корысти. Были это в основном местные мужики, садившиеся и выходившие на бесчисленных станциях, перемещавшиеся из хутора в хутор, добиравшиеся то до города, то до местечка в надежде решить свои мелкие мужицкие интересы. Здесь яйца, там масло. Здесь коса, там самогон. Но вооруженные люди не были въедливыми формалистами, не делали из мухи слона и удовлетворились тем, что вываляли в грязи некоего худосочного юношу в очках, от которого разило, по их мнению, интеллигентщиной, хотя молодой человек клялся матерью и отцом, что неграмотный, что не умеет ни писать, ни читать, и в доказательство требовал дать ему газету, где, как он уверял с угрозой в голосе, и в заголовках-то не разберется. Он заткнулся, когда рот ему залепили кровью, хлынувшей из его же разбитого рта, и грязью, в которую его втоптали. Обнаружили также, потехи ради, двух евреев, пожилой умер достойно, бормоча что-то себе под нос, а юноша, доказывая рассматривавшим его с интересом спутникам, что у него все так же, как у других, спустив при этом до колен брюки, хряпнулся на землю перед самым входом в вокзальчик с простреленной головой. Трое блюстителей порядка занялись какой-то молодицей, потащив ее в ближние кусты, в то время как двое других вступили в беседу с ее мужем на абстрактные, надо полагать, и далекие от действительности темы, потому что мужичок то и дело надевал и снимал свою войлочную, обшитую барашком шапку, что являлось прямым признаком концентрации мысли.
Остальные молодцы расселись на платформе, пили сырые яйца, заедая их черным хлебом. Самый молодой и самый пьяный гарцевал на коне, радостно сыпя разнообразной, не повторяющейся ни в одном слове матерщиной. Именно он разглядел в окне последнего вагончика Рогойского, который сидел там, положив ноги на противоположную скамейку. Указал на него «провиднику», и минуту спустя в вагон вошли трое. Первый был дородный и рослый — блестящий образчик украинца с чудесным, нигде более не встречаемым цветом кожи: смесь смуглой бледности с шоколадным загаром, словно на картинах Джотто или делла Франчески; соединение здоровья и силы с абсолютным отсутствием человеческого достоинства, смешение примитивизма с безошибочным ощущением звука, цвета и формы, мешанина фантазии с приземленностью и с не знающей удержу жадностью к чужому и удивительным пренебрежением ко всему собственному. Он глянул на Рогойского огромными воловьими глазами, тот ответил взглядом спокойным и разящим, как клинок, и украинец, глупый, но бывалый, храбрый, но осторожный, тут же сообразил, что вряд ли это тот, на кого стоит нарываться, что его не зачислишь ни в одну категорию, то есть его нельзя ни расстрелять, ни поиздеваться над ним, да и не заметить тоже нельзя, иначе говоря, он проблема, превосходящая его возможности, значит, надо либо подумать, либо посоветоваться. Но если думать, то когда, а если советоваться, то с кем, чтоб их всех черти!.. поскольку те двое за его спиной так же беспомощны, как он сам.
И когда Рогойский, равнодушно глядя в окно и не снимая ног со скамейки, сунул руку за спину и извлек едва початую бутыль самогону, вынул пробку, взболтнул и сделал изрядный глоток, то «провидник», довольный таким оборотом дела, сулящим ему время для принятия решения, которое не лезло в голову, улыбнулся, обнажив два ряда великолепных белых зубов и молитвенно прошептав «горилка», шагнул к пассажиру и потянулся к бутылке огромной, как буханка, рукой. Но тот, не отводя взгляда от окна, поднял ногу, согнул ее в колене и затем стремительно выпрямил, ударив молодца в живот, да так, что тот рухнул на скамейку, громыхнув плечищами о деревянную спинку. Хотел было встать, но Рогойский рявкнул:
— Сидеть! — и добавил, указав на двух других: — А вы — пошли вон!
Те глянули друг на друга, но с места не двинулись, ну а «провидник», огорошенный таким приемом, все глядел с надеждой на бутылку, словно именно она сулила выход из ситуации, которая портила настроение и подрывала веру в свои силы.
— Эти двое — вон! — повторил Рогойский.
«Провидник» указал им глазами на дверь. Оба вышли из вагона. Рогойский вновь потянулся к бутылке, отпил два-три глотка, сделал на стекле ногтем отметку и протянул бутылку украинцу. Тот вытер влажные руки об огромные алые шаровары, заправленные в голенища сапог и ниспадающие на них обильными складками, приставил бутыль ко рту, откинулся назад и сделал несколько глотков, отчего в глотке у него загудело.
Рогойский открыл глаза. Приближался вечер, застилающий солнце облачками осенней дымки. Рогойский посмотрел на небо, висевшее низко и скорей белое, чем голубое. Оно напомнило ему затянутый паутиной потолок в том самом хлеву, где он прошлой ночью нашел себе столь дивное пристанище.
Он ощущал невероятную близость неба, пшеничного поля, дубравы. Все было и рядом, и одновременно в нем самом. Он был напоен терпким, дымным запахом, идущим от поля. Лежа на остывающей уже земле, полузакрыв глаза, откинув набок голову, он не чувствовал грани между собой и тем, что его окружает, например дубом, под которым расположился, зайчонком, который прыгал по тропке. Легкое дуновение, первое за весь день, принесло прохладу и запах гниющей древесины. Он приподнялся на локте и, вертя между пальцами стройный стебелек с филигранно вырезанным листком, вгляделся в линию горизонта.
Несколько дней тому назад он встретился с женщиной лет двадцати пяти — у нее были красивые узкие ладони с длинными, тонкими пальцами. Как ловко она манипулировала динамитными шашками, нацепленными гроздьями на проволоку! Они вдвоем подорвали мост, склад боеприпасов и несколько зданий, о назначении которых ничего не знали.
Она ослабла от месячных и два дня ничего не ела. И голод, и нездоровье переносила с трудом. Потом они продрались сквозь красный кордон, что совсем не гарантировало безопасности. В какой-то деревне он раздобыл черного хлеба и луковицу, уговорил ее поесть. С трудом проглотила она два куска, и тут же ее вырвало. А он поел и ощутил, что подкрепился. Полдня они шли пешком и остановились в какой-то странной лачуге на опушке соснового бора. У женщины подскочила вдруг температура, началось кровотечение, утром температура спала, она почувствовала себя лучше, но начались рези в животе. Днем опять повторилось кровотечение, обильное, сильнее предыдущего, и женщина умерла. Но он жил. Оставив ее тело на растерзание лисицам и одичавшим собакам, двинулся дальше один. Его хотел прирезать старый тощий мужик из категории тех достойных поселян, что жаждут в первую очередь часов, костюма и штиблет, но он опередил его.
Потом он приворожил гайдамака, напоил до бесчувствия и пристрелил, оставив без брюк в сошедшем с рельсов вагончике. Совсем недавно, двумя или тремя часами ранее, он пробирался в некошеных хлебах, съел арбуз, вдыхал терпкий запах леса, погрелся на ласковом солнышке, а теперь, вечером, его окутал туман, днем на него посматривала куропатка, кто знает, может, все еще посматривает.
Где-то в середине октября особый отряд батьки Махно, давно уже оторвавшийся от своей родной армии и насчитывающий что-то около трех тысяч клинков, все на отличных лошадях, без артиллерии, обоза и даже без тачанок, под водительством бывшего акушера из Белой Церкви Семена Чорда настиг после двухнедельного преследования большевистский полк имени Красного пролетариата Харьковского паровозного депо и истребил его мастерски и жестоко. Не спасся никто, тех, кого схватили живьем, разорвали лошадьми, прибили к заборам, ободрали до мяса, сожгли на кострах. Отчего так произошло — неизвестно. Не мог понять этого и сам батька, которому по природе многое дано было понять и который не сторонился всяких фантасмагорических затей и безумств. Происшедшее носило иррациональный характер. Началось с того, что кудлатый, налитой салом, немолодой уже хохол, ехавший следом за Чордом, насвистывая «Севастопольский вальс», заметил следы лошадиных копыт и глубокую колею, а чуть дальше — едва видимые, почти смытые дождем отпечатки человеческих ног. Ткнув толстым, распухшим пальцем, он пробурчал:
— Красные!
— Белые! — как эхо отозвался Чорд, который, кстати сказать, мог даже не заметить этих неожиданных и смутно обозначенных следов, пересекших им дорогу, поскольку был занят изучением содержимого свисающего с его седла замшевого мешочка.
— Красные! — повторил хохол, хотя то место, где отпечатались следы, осталось метрах в пятнадцати позади. — Прошли дня два-три назад!
— Белые! — повторил Чорд, поднял голову и глянул на товарища сквозь заляпанные пальцами стекла очков с табачными крошками, налипшими на проволочную оправу. Затем добавил, придержав коня: — Однако не повредит проверить!
Так началось. Отряд пошел по следам — не слишком поспешно, как бы нехотя, узнавая по пути по селам о составе полка, о направлении марша и о его предполагаемой цели. Собранные сведения были очень разноречивы, неточны, иногда взаимно исключали друг друга. Одно лишь не вызывало сомнений: шли за красными. Семена Чорда это обстоятельство рассердило, он был человеком интеллигентным и бывалым, ошибался редко. Люди у батьки, которые ошибались, не делали карьеры, а если ошибки превращались в систему, то атаманы отдавали свой командный пост чаще всего вместе с головой.
После нескольких дней этого беспорядочного и ленивого преследования в Чорде и его людях проснулся охотничий азарт. Теперь они принялись тщательно изучать следы и прибавили скорости. Красные, догадавшись, что следом движется какой-то большой отряд, тоже поднажали, однако не так, как поднажали бы, будь уверены, что за ними идут белые. Наддали и махновцы, и примерно через неделю обе эти человеческие массы приобрели определенный смысл — охотник и дичь. Чорда и его сотоварищей распирало сознание силы и своего превосходства, красных охватило чувство тревоги и неуверенности. Через десять дней красные были уже напуганы, среди солдат дурным духом поползла паника, а махновцы все более убеждались в том, что поступают справедливо и последовательно. Неприязнь, вот уже несколько месяцев обоюдно испытываемая большевиками и махновцами, не лишенная, впрочем, взаимного любопытства, даже солидарности, которая проистекала из происхождения, из провозглашенной, по крайней мере теоретически, общей борьбы, переродилась в злобу, вскоре и в ненависть. Бегство становилось все более очевидным, преследование — все более решительным. Не было уже речи о насмешках и добродушном или хотя бы злом подшучивании, что порой случалось. Красные знали, что за ними идут хлопцы батьки, хлопцы — что преследуют большевиков. Обе эти группы разделяло теперь абсолютно все. Лишь расстояние сокращалось. Клички даны были друг другу короткие, исчерпывающие и оскорбительные, а на сосредоточенных, хмурых лицах не мелькало и следа той веселости, какая сопутствует зачастую людям в этой части страны даже в самые трудные минуты. Вспомнили взаимные обиды и унижения, которые по глупости и капризу, в силу случайных разговоров переросли в преступления, в какую-то вековечную вину. Недели через две это была уже сплошная ярость, слепая ненависть и обоюдная жажда мести. Красные, которые до сих пор лишь убегали, тоже возжаждали борьбы. Сражение состоялось на семнадцатый день после начала преследования, казавшегося сперва лишь игрой, лишь буйством исполненной азарта молодежи. Махно, который был с некоторых пор с Чордом в натянутых отношениях и считал, что этот бывший акушер, этот несостоявшийся фельдшер рано или поздно собьется с пути, вот уже несколько месяцев стал особо чувствителен к участившимся случаям несубординации и анархии и поэтому велел одному из своих секретарей сочинить решительное послание, не оставляющее сомнений по поводу моральной и политической недопустимости истребления собственных союзников — во всяком случае, еще не врагов, — истребления массового, чреватого однозначными служебными и личными последствиями для адресата, если тот не раскается, не выразит сожаления, не даст гарантии, что подобное не повторится, а если и раскается, то и это, впрочем, не спасет ни его самого, ни его клевретов и подлипал от ответственности.
Письмо было длинное, цветистое, не очень логичное, эпитеты вроде «ты, белоцерковское дерьмо» перемежались с предостережениями «потому как в противном случае с испугу сожрешь собственные причиндалы», и завершалось оно итоговым «так или сяк, свиная харя, угодить тебе башкой в навоз». Письмо повезли сразу несколько гонцов, возвратившиеся неделю спустя без ответа, зато с не зажившими еще рубцами на спине от нагаек. Тогда батька выслал немногочисленную, но снабженную тачанками и мортирами карательную экспедицию под водительством анархиста Землянюка, чьим заданием было усмирение отряда, ликвидация заводил и пленение любой ценой Семена Чорда, смерть которого — а батька уже прикидывал, каков будет ее характер, ее аксессуары, — станет последним предупреждением для всех бунтовщиков и дегенератов. Через два дня экспедиция между Тальным и Шполой наткнулась на тридцать гайдамацких куреней, шедших сомкнутыми рядами в Винницу присягать Петлюре. В пятой роте одиннадцатого куреня, а шли они в строгом порядке, в соответствии с номерами, скакал рослый и дородный гайдамак, изрядно под хмельком, с гармонией, притороченной одним концом к седлу, а другой ее конец волочился с растянутыми мехами по земле, причем инструмент при каждом шаге лошади издавал вздох, будто пускал ветры, и было страшно забавно, но гайдамака это абсолютно не интересовало; неприятие гармонии представлялось скорее следствием небрежности, чем рассеянности. Весьма также возможно, что не было ни того, ни другого, а была всего лишь кавалерийская удаль и показуха: вот, поглядите на меня — на этой прекрасной земле я, один из ее плодов, творю что мне взбредет в башку и с предметами, и с людьми, такова уж моя запорожская воля, и горе тому, кто мне воспротивится.
Именно так это истолковал молоденький воин из карательной экспедиции, сидевший боком на тачанке с соломинкой в зубах, и когда они сблизились с гайдамаком на длину поводьев, он произнес паскудное словцо, какое только хохол может сказать хохлу, желая его оскорбить мешаниной добродушной иронии с уничижительной издевкой. Не существует той меры благодати, какая воспрепятствует гайдамаку при полном параде, с намасленными волосами, что означало и означает состояние самоупоения и демонстрации молодецкой гордости и достоинства, дать ответ на какое бы то ни было оскорбление. И ответ последовал — краткий, ясный, хамский, без метафор и сравнений, в то же время не слишком прозаический, соразмеренный, по существу, с ситуацией. Грянул выстрел, и гайдамак рухнул наземь. Наступило мгновение тишины, изумления и замешательства. Отношения между Махно и всякого рода гетманами были не слишком хорошими. Махно даже бился с ними, и не без успеха. Зато отношения между хлопцами батьки и гетманов едва ли поддавались однозначному определению в разных местах и регионах. Порой это было презрение, порой — всего лишь недоверчивость и неприязнь, порой — робкое любопытство, а случалось, и симпатия. Бывало, люди Махно перебегали к гетману, а гетманские — к Махно.
Ни те, ни другие не знали толком, велика ли численность встреченного войска, что оно, собственно, из себя представляет, какова его главная идея или по крайней мере цель. И тут и там можно было кое-чем поживиться, повеселиться, а для большинства к этому все и сводилось. И потому тишина, наступившая после внезапного выстрела, затянулась, и не исключено, что она вновь переродилась бы в перестук копыт, скрип возов, беспорядочное пение, перемежаемое ругательствами, двумя-тремя грубыми шутками, взрывами хищного хохота. Так бы, может, оно и случилось, подосадуй сам на себя паренек с соломинкой в зубах, на эту свою шутку, раскайся он, что так поддел земляка, и пренебреги его ответом. Но этого не случилось. Хлопец пожелал подтвердить свою позицию. Он развернул тачанку и пустил очередь из пулемета в цветастые, словно нанизанные на шнурок роты. Заржали лошади, и на тракт, как зрелые груши, повалились тяжелые, обожравшиеся свининой, капустой, гречей, насосавшиеся горилки и рассола тела. Мгновение спустя ей ответили другие очереди, теперь уже с соседних тачанок. Хлопцы батьки припадали к земле, заряжая маузеры. То же делали и гайдамаки, только бестолковей и в суматохе. Да оно и понятно: одни шли на праздник, другие — на войну. Началась свара, которая минут через пятнадцать перешла в стычку, та через полчаса — в сражение. На стороне гайдамаков был численный перевес, махновцы оказались проворнее. Предводители той и другой сторон, понимая весь идиотизм ситуации и бессмысленность столкновения, пытались вначале унять буйство и погасить конфликт, но предводителями были молодые, горячие головы, из той породы людей, что вдвоем разгоняют целые свадьбы, ночью с оберегаемых свирепыми псами дворов уводят лошадей, являются грозой шинков и ярмарок, и было бы в самом деле удивительно, если б и их не опутало в конце концов безумие и если б над едва созревшими качествами вождя не возобладали мужицкие страсти.
Бой шел на открытом месте. Численное превосходство гайдамаков уравновесило выучку махновцев, и через два часа, когда сгустились сумерки, когда перегрелись стволы пулеметов, притомились лошади, когда там и сям стала иссякать амуниция, а вечерняя прохлада остудила горячие головы, ни одна из сторон не добилась перевеса. Гайдамаки, забрав раненых, потащились в Винницу, хлопцы батьки — на север, а на полях осталось несколько сотен трупов.
В тот же день майор Рогойский покинул после безуспешного штурма переходившие не раз из рук в руки Черкассы, где в тот день не удалось ликвидировать большевистской власти, выказывавшей удивительную живучесть всюду, где появлялись условия для ее возникновения, и, потеряв половину своих людей, возвращался в исходный район во главе отряда в две сотни человек — цвет Добровольческой армии, иначе говоря, строевые офицеры, профессионалы, которых неудачный штурм скорее удивил, чем раздосадовал, ибо они к нему подготовились, не совершили в бою ни одной ошибки, а практика доказала, что внезапные и решительные атаки приводят к успеху, даже если число оборонявшихся в несколько раз превосходит число атакующих.
С наступлением ночи в деревню Маяковку вошло двести измотанных, голодных и злых мужчин, а местный дьячок, который в равной степени не переваривал гайдамаков и махновцев, а еще более большевиков, сообщил, что в широкой лощине верстах в трех на запад расположились махновцы числом в несколько сотен, изрядно потрепанные в стычке с гайдамаками. У них, по словам дьячка, добрые кони, подводы, запасы продовольствия, много оружия и амуниции. Белые, ощущавшие с некоторых пор перебои в снабжении, сочли это подарком судьбы, а Рогойский увидел возможность хотя бы частичной реабилитации.
Дав людям несколько часов отдыху, он поднял их на ноги, и, промаршировав три версты с гаком, они глубокой ночью почти вплотную подошли к яру. Через час вернулись разведчики, подтвердив данные дьячка. Офицеры бесшумными перебежками приблизились к самому краю оврага. Рогойский поделил отряд на три группы. Первой командовал он сам, второй, которая получила задание обойти низину и занять позиции напротив, предводительствовал капитан Сейкен, а третья, самая многочисленная, во главе с Иваном фон Хольстом должна была заблокировать выход из оврага. Эта группа, заняв выгодный исходный рубеж на пологих холмах, поросших можжевельником, повела с зарей неторопливую и обстоятельную атаку, не слишком стремительную, которую полчаса спустя махновцы отразили. Совсем уже рассвело, когда фон Хольст атаковал вновь — так же как и первый раз, без особого пыла. Этот нерешительный удар вызвал контратаку махновцев, дав, судя по всему, результаты, потому что фон Хольст отошел метров на пятьдесят. Это явно раззадорило дезориентированных вначале махновцев, и после непродолжительной артподготовки они ринулись в решающую контратаку, явив при этом добрую отвагу и хорошую выучку. Но фон Хольст был слишком опытным солдатом, чтобы позволить захватить себя врасплох, и не выпустил хлопцев из оврага, закупорив выход. И тут слева и справа застрекотали пулеметы, начался точный, хорошо рассчитанный обстрел обоих флангов. Хлопцы батьки, встревоженные таким оборотом дела, нажали на Хольста с удвоенной силой, но тот держался, как крепко вогнанная в бутылку пробка. И тут махновцы поступили так, как поступать ни в коем случае не следовало, — отошли в глубь оврага, который с каждым шагом становился все у́же, все глубже и все труднее для обороны. Случилось то, что должно было случиться по логике вещей, если за войну берутся крестьяне — здоровые, сильные, отважные, по-своему неглупые, но лишенные опыта и фантазии, — а предводительствует ими анархист, в прошлом рецидивист и беглый каторжник. Теперь все было вопросом времени. Удирающих вначале группами, а затем в одиночку махновцев, карабкающихся по крутым, заросшим кустами склонам, обезвреживали спокойно, без эмоций, стараясь не подранить сбившихся в кучу перепуганных лошадей. Был уже день, когда то, что началось ранним утром как сражение, переродилось в легкую и довольно скучную охоту. Поскольку запас амуниции, которой располагал отряд Рогойского, был невелик, стреляли только наверняка. Нескольким десяткам хлопцев удалось спастись бегством, неподалеку стоящий хутор стал прибежищем для тех, кто вырвался из котла. Трудно сказать, сколько их там набралось, можно лишь предполагать, что не более ста — перепуганные мужики, бродяги, воры, иные без оружия, иные раненые, выбитые навсегда или по крайней мере на долгое время из жизненной колеи, спасающие свою шкуру, как зайцы. Кто лучше чуял опасность, тот, прихватив в хуторе какую-либо малость — кто каравай хлеба, кто шмат мяса, — мчался в степь, а менее опытные и раненые попрятались по хатам, по амбарам, по хлевам в надежде, что на них не обратят внимания, что рука барского войска до них не дотянется. Рогойский решил, однако, их подрастрясти. Это не было продиктовано, разумеется, ни ситуацией, ни необходимостью. Если эти люди и представляли собой угрозу для белых полков, то уж никак не в то туманное утро, ибо ни для кого угрозы тогда они не представляли вообще. Хотели лишь, спасая жизнь, расползтись по округе и больше не возвращаться к батьке.
Так бы оно, верно, и случилось. Часть из них вернулась бы в свои деревни, часть — в городские малины, часть промышляла бы по ярмаркам игрой в козла, в дурака или очко. Но война не всегда логична, особенно гражданская, которая в силу своей природы склонна ко всяческим аберрациям независимо от целей, идеалов и доктрин. И потому Рогойский, тоже блудный сын своего времени, решил напасть на них и истребить. Истребить или не истребить — об этом он и сам еще не знал; но, уж во всяком случае, выследить, как подранков, а потом решить вопрос жизни и смерти — это можно сказать уже наверняка. На месте недавнего боя остался Сейкен с половиной людей, ему предстояло вместе с подводами, тачанками, трофейными лошадьми и амуницией выбраться как можно скорей из яра и двинуться на Харьков. Рогойский взял восемьдесят человек, скомандовал «в седло» и бросился за беглецами. То, что наступило потом, было для самого Рогойского столь же потрясающим, сколь и нереальным, а раз нереальным, значит, в нравственном плане нейтральным. Это было то же чувство, какое овладело им после взрыва моста, только более сильное и продолжительное во времени. Нечто противное естеству, но возбуждающее, влекущее и очищающее, несмотря на жестокость и бесправие, если это слово в условиях гражданской войны что-либо значило. Нечто противоречащее тем канонам, в которых его воспитала, сформировала, вернее, в которые его втиснула история, страна, семья — все те, кто влиял на его созревание, характер, мысли и взгляды. Это было как бы освобождением от всего, что в течение тридцати с лишним лет жизни обволакивало его наподобие кокона. Он прошел новую школу ощущений. До сих пор война была делом, которое он старался делать так, чтоб оно приносило ему как можно меньше неприятностей, занятием, где он в силу своего характера, выносливости, здоровья сталкивался с вещами для него приятными и забавными гораздо чаще, чем другие люди; полосой жизни, где он испытывал моменты воодушевления, а быть может, лишь предчувствие воодушевления. Теперь же оно явилось ему в чистом виде, само, обнажив без ложного стыда все, что послушный инструмент способен выдать в звуке, в обстановке, в настроении. Эти неуловимые пылинки, разрозненные мерцающие огоньки, летучие паутинки… Употребив менее метафизическое сравнение, можно сказать, что после долгого, порой мучительного, порой тягостного, не лишенного, однако, удовольствия и захватывающих переживаний любовного усилия, которое в конце концов не всегда является сплошным праздником, наступил оргазм.
Под вечер, когда подожженный с разных сторон хутор пылал, как груда старых досок, когда братья Гаврилка и Илья, сыновья степного помещика графа Растницкого, осмоленные дымом, с хлопьями пепла на лице, оба огромные и светлоголовые, вырванные войной из пажеского корпуса и перенесенные в окопы под Барановичами, дравшиеся под командой генерала Маркова в Добрармии, а после смерти генерала разделявшие дичайшие забавы с самыми отъявленными авантюристами, служившими у Шкуро, тащили на веревках захлебывающихся от ужаса махновцев, кололи их штыками, приподнимаясь на стременах, палили куда попало, не заботясь, в кого угодит пуля, когда под мычание выводимых из горящего хлева коров, под визгливое ржание лошадей им обоим взахлеб помогали Костя Абраков и Ваня Познацкий, парочка славных мальчиков, которые держались всегда вместе, когда пятидесятилетний поручик Пальене, кирасир его величества, не продвинувшийся по службе в связи со скандалами и безобразиями, какие он учинял три-четыре раза в год с точностью швейцарских часов, стоял раскорячась посреди дороги, напоминая гнома, и палил из револьвера в каждого, кто выскакивал из хаты на дорогу, когда Измаил Най-баг, сын башкирского эдега, вросший в коня, с безжизненно свисающей простреленной рукой и струйкой крови на бледном костистом лице метал головни в раскрытые двери и окна хат, когда Ландрен, как говорили про него, мошенник и уголовник, произведенный в порядке исключения в пехотные офицеры за отвагу и доблесть, проявленную на Карпатском фронте, вбегал в горящие строения и выволакивал оттуда кого придется, — к Рогойскому подошел Хольст и сказал с сильным немецким акцентом, обтирая поразительно чистым и белым платком покрасневшие веки:
— Это абсолютно не нужно, жестоко и отвратительно, кончайте с этим.
В констатации этого факта проявилось желание умыть руки, избавиться от всей этой мерзости, обнаружилась его немецкая культура, ощущение цели и порядка.
И тогда Рогойский, не взглянув на него, поднял голову, втянул в ноздри смешанный с дымом воздух и с горечью подумал, что этот полковник, отличный солдат, первоклассный офицер и порядочный человек, который черт знает почему очутился в этой своеобразной экзотической банде, какой была формация Шкуро, все-таки прав и что он, Рогойский, разумеется, сразу прекратит безобразие. Сделает то, что предписывает и ситуация, и совесть, и хорошее воспитание.
Хольст стоял рядом, высокий, широкоплечий, с блондинистой острой бородкой, красивый стареющий мужчина, чьи благообразные черты заострились от досады и отвращения. Ближайшие хаты догорали. Дорогу перебегал обожженный до черноты гусь. Под забором приходил в себя наглотавшийся дыма пятилетний ребятенок в коротенькой бумазейной рубашонке. Где-то вдали завыла собака, промчалось несколько всадников, дорогу пересек высоченный мужик в бараньем сердаке. Слева, точно выпалила пушка, взлетело облако пуха, фон Хольст все ждал, а Рогойский все колебался, залюбовавшись этим адом, завороженный им и им же потрясенный. Минуту спустя он до крови закусил губу и, подняв руки вверх, проорал что-то, чего и сам не понял, что вырвалось откуда-то из глубин естества, вскочил на гнедую кобылу и погнал хутором.
В течение двух ближайших дней они сожгли еще четыре хутора, отметив свой путь множеством беспримерных зверств и истязаний. Ни в одном из хуторов не обнаружили ни одного из хлопцев батьки.
Под Харьков Рогойский вернулся усталый, бледный, с обгоревшими бровями и ресницами, сгорбленный больше обычного, с аскетически заострившимся лицом, с плотно сжатыми губами, внутренне очищенный, с ощущением едва ли не религиозного экстаза. По прибытии выяснил, что красные предприняли наступление, по всей видимости хорошо подготовленное, что на многих фронтах, в том числе в Поволжье, на Дону и на Украине, они перехватили инициативу и что положение скверное.
Влажная и ветреная осень началась во второй половине октября. Еще несколько случайных дней бабьего лета прошествовало в арьергарде и слегка озарило мир — верно, для того, чтоб создать разительный контраст с тем, что наступило потом: мерзкий монотонный дождичек, обращающий все в липкую, тяжкую, жирную жижу. С надеждой ждали первых морозов. Их ждали люди, животные и машины. Война превратилась в невыносимый, тяжкий труд, начисто лишенный романтики. Армии не только боролись друг с другом, но еще и воевали с распутицей, грязью, вшами.
Вечерами людей трясла, сваливая с ног, похожая на малярию лихорадка, ночью спина покрывалась потом, под утро легкие разрывались от сухого непрерывного кашля. Смрадное дыхание, перепревшие портянки, немытые тела. Водка была в ходу и в цене по ту и по эту линию фронта. С летней поры многое изменилось. Гетманы пали и расплылись в монотонно секущем дожде. Махно пытался одолеть неврастению неправдоподобными порциями спирта, хлопцы бросали его, возвращаясь на зиму в хутора. Тот, кто блистал красками на расцвеченной южным солнцем украинской палитре, теперь сливался либо с белым, либо с красным цветом либо исчезал совсем, высушенный этим солнцем дотла. Лишь эти две краски не утратили своего значения. Армии плясали все на том же выступе, но этот выступ сместился на юг. Положение белых, еще так недавно, по крайней мере со стратегической точки зрения, заслуживающее предпочтение, за несколько недель изменилось к худшему. Их спихивали в море. Иные даже уверяли, что никакого положения, собственно, уже нету, остались лишь судороги добиваемого зверя. Были и такие, которых падение зачаровывало.
В середине ноября, в столь сумрачный полдень, что даже в хате пришлось жечь коптилку, в одном из хуторов над картой с обтрепанными краями склонились трое. Один из них курил сигару, роняя пепел на стол. Пепел угодливо смахивал болезненно тощий блондин с хлюпающим носом.
— Где? — спросил человек с сигарой.
Тощий блондин, чей поношенный и выгоревший мундир штабс-капитана поражал воображение той же элегантностью, какой поражает залетных воробьев холщовый мешок на пугале, — повел пальцем с грязным ногтем по контуру главного выступа, расцвеченного красными кружочками и треугольничками.
— Где? — прозвучал вновь вопрос. — Пожалуйста, по очереди и точнее.
— И здесь, и здесь, ваше превосходительство, да, да, всюду… — Блондин намеревался сказать что-то еще, но громоподобное чиханье прервало его речь, и над столом повисло облачко, от которого генерал отскочил с выражением гадливости на лице.
Прежде чем вступить вновь в кружок света, он проворчал с нескрываемым отвращением:
— Ну конечно, у людей болезни, я понимаю, золотуха там, насморк, то да се, но послушайте, Ланской, как можно без платка… Смотрите, всю карту обсморкали. — И, обращаясь с раздражением к рослому брюнету, забрызганному грязью и навозом, рявкнул: — Сколько людей за рекой?
— Из тех, кто был там раньше, около пятисот. Несколько дней назад подошло подкрепление с востока. Но их численность и состав точно неизвестны, ваше превосходительство.
— Кто привел?
— Полковник Станков, а может, Станкевич, что-то в этом роде, во всяком случае, от генерала Казановича.
— Вооружение?
— Не самое лучшее. Ждут артиллерию.
— Когда должна подойти артиллерия?
— Неизвестно, ваше превосходительство.
— Отходим.
Генерал с сигарой в зубах, в наброшенном на квадратные плечи френче стремительно прошелся по хате, затем остановился, расставив свои кривоватые ноги, перед офицером, докладывавшим положение, и крикнул с раздражением, с яростью, с обидой:
— Отходим! Надеюсь, ясно, Печененко?!
Граната зашипела, прокатилась еще несколько метров по желтой мокрой траве и ухнула, обдав фонтаном земли с десяток людей, замерших между подбитой английской танкеткой с раскуроченной гусеницей и баррикадой из досок, дышл, ящиков с надписью «Corned beef»[7] и обломков забора. Из-за баррикады ударил пулемет. Стрекотание вновь прервала мортира, шарахнув откуда-то из-за пологого холма, метрах в ста правее. И тут же из дубравы посыпались скрюченные фигурки в матросских бушлатах нараспашку, двухцветные ленточки развевались на ветру. Из-за баррикады кто-то в ярости проорал:
— Идите, идите сюда, красные ублюдки, сыщется для вас и молитвенничек, и брошюрка, трепаная ваша мать! — после чего очереди из двух пулеметов прижали морячков к, земле.
Рогойский отодвинул какой-то узел, упершись винтовкой в шкворень перевернутой вверх колесами повозки, ждал конца очереди и внимательно целился. Откуда-то сзади примчалась галопом тачанка, обдав его грязью. Высокий мужчина подбежал, горбясь, и прошептал, словно сообщая тайну и опасаясь, что все по ту и по эту сторону баррикады попытаются, навострив уши, ее услышать:
— Я приготовил лошадей, думаю, пора сматываться.
Рогойский ничего не ответил, старательно целясь в поднимавшихся с земли матросов. Выстрел оказался метким, краснофлотец согнулся пополам, пробежал еще несколько шагов и рухнул.
— Второй, — буркнул Рогойский, перезаряжая.
Вновь из-за соседнего холма ударила мортира, и вновь фонтаны земли и грязи, клочья дернины осыпали обороняющихся. На этот раз не все отряхнулись — кое-кто неподвижно распластался ничком, а один, с вырванным куском мяса в спине, с обнаженными ребрами, пополз на локтях и коленях в сторону повозок.
— Неужто никому не совладать с этим дьяволом? — простонали рядом.
Старший офицер в забрызганной грязью большой не по росту шинели поднялся на колени и, повернув назад бледное лицо, крикнул:
— Абраков, Познацкий!
Двое похожих друг на друга юношей, которые, казалось, были не только братьями, но и близнецами, подбежали, согнувшись. Офицер указал рукой на холм, из-за которого била мортира. Юноши кивнули и, засовывая гранаты за туго затянутый и без того пояс, поспешно и вместе с тем с предосторожностями поползли в направлении вражеской огневой точки. Красные, которых то и дело вжимали в землю пулеметные очереди, продвигались тем не менее вперед, и от баррикады и повозок их первые ряды отделяло теперь не более двухсот шагов. Из дубравы меж тем сыпались все новые фигурки, формируя шеренги, приближаясь перебежками.
— Третий, — отозвался Рогойский на новое предложение Сейкена.
Слева примчалась на рысях кавалькада всадников с генералом во главе, который сидел в седле слегка набок, сливаясь с лошадью в единое целое.
— Полковник Бабкин, — прокричал он, — чего вы, черт вас дери, тут застряли? Немедленно отходите! — и круто повернул коня, выбросив вверх для равновесия правую руку со свисающей с кисти нагайкой.
Вслед за всадниками, которые, мчась во весь опор, исчезли в жерле насупленного предвечерья, пролетело еще четыре тачанки. Одна из них остановилась, и молодой офицер с длинными льняными волосами, развевающимися на ветру, заверещал:
— Сматываться, господа, сматываться! Тут вы уже ничего не дождетесь! Могу обеспечить только отход. — И рассмеялся, обнажив черные зубы, отчего голова его сделалась похожа на голову насекомого.
— Назаров прав, — зашипел Сейкен. — Это уже не геройство, это дурь, это…
Но его речь покрыло стрекотание пулеметов, полоснувших по первой шеренге красных. Теперь и те ответили выстрелами. Секунду спустя вскочили и, поддержанные огнем второй линии, пробежали несколько метров.
— Давай ленту! — крикнул темноголовый красавец в коротком полушубке, отведя назад одну руку и любовно поглаживая другой ствол пулемета.
— Последняя, — предупредил человек с окровавленной повязкой на голове, подавая ему хрустящую змею патронной ленты, — последняя, Митька!
Мортира ухнула еще разок, но затем умолкла, и на баррикаду вернулся один из юношей, заливаясь истерическим смехом, перешедшим в долгое страстное детское рыдание.
Рогойский повернулся на бок, сунул руку в карман шинели и извлек портсигар. Открыл, подсунул Сейкену.
— Хватит паясничать! — рявкнул Сейкен. Приблизил свое лицо к лицу Рогойского и сказал: — У меня две добрых лошади, их сторожит Ефимыч. Накормленные, напоенные, оседланные, полверсты отсюда, в рощице, у ручейка. Послезавтра будем в порту. Это не дезертирство, это веление разума.
Рогойский закурил папиросу, затянулся и с папиросой в зубах уставился в землю, перебирая пальцами забрызганные грязью короткие стебельки травы. Он изменился, однако не так, как остальные. Был грязен, отощал, но такими были все. Его тело отличалось особой конструкцией: там мало что можно было испортить. Кожа плотная, эластичная, смуглая, на ней почти не появлялись прыщи, нарывы и фурункулы. Она была биологически столь нейтральна, что к ней не прилипала даже чесотка. Кто наблюдал, как он обнажает в смехе зубы, тот не сомневался, что они выпадут лишь после смерти. Шевелюру он сбрил, едва заприметил вшей в волосах товарищей. В системе почти звериных мышц и гибких костей, стянутых мощными сухожилиями, ничто не могло само по себе сломаться, вывихнуться или растянуться. Похудев, он стал интереснее, а его слишком широкое и полноватое лицо приобрело черты благородства.
После Черкасс он редко улыбался, шутил или дурачился, но то была не печаль, а напряженность и сосредоточенность. Изнутри его освещал некий пламень, который ни в коем случае нельзя было считать банальным внутренним огоньком или лучом надежды. Он был спокоен, уверен в себе, но уже не так неуживчив и дерзок. Был похож на жреца какого-то монашеского ордена, где четки — пулеметная лента, молитвы — ритуал команд и приказов, Господь Бог куда-то запропастился, а Евангелие съели черти, но то была служба необъяснимому, поклонение абсолюту.
Он выплюнул окурок, перевернулся на живот, дыхнул на ладонь, чтоб согрелась, обхватил рукоятку маузера. Приложился щекой к холодной, скользкой стали и выстрелил, но на этот раз результат не соответствовал действию, и единственным эффектом был глухой щелчок, тут же потонувший в вихре прочих звуков.
— Осечка, — констатировал он и толкнул локтем Сейкена. Вобрав голову в сильные покатые плечи, тот сидел с ним рядом. Но Сейкен не отреагировал, и тогда Рогойский повторил громче: — Осечка! — таким тоном, словно факт, что он стрелял впустую, был ему столь же приятен, как и предыдущие удачные выстрелы.
Он потянулся к подсумку и бросил взгляд на Сейкена. Тот сидел все так же на корточках, привалясь теперь к двум связанным вместе дышлам, упертым одним концом в груду узлов, а другим — в землю.
— Вадим! — прошептал он, и неуверенность, с какой было произнесено имя, его самого удивила, а потому напугала.
Сейкен не ответил: рот оскален в зловещей усмешке, один глаз навыкате, над другим — едва приметная дырочка. Рогойский провел пальцем по лицу — еще теплое, но, вне всякого сомнения, уже лицо трупа. Из сгустившихся сумерек выплыла фигура полковника Бабкина с обритым наголо черепом. Он повернулся спиной к наступающим морякам и, разведя руками в жесте отчаяния и бессилия, двинулся к танкетке. Защитников оставалось совсем немного, только что отъехали две повозки с людьми, готовилась к эвакуации третья с погруженным на нее пулеметом, он теперь стал лишним: кончились патроны. Черный, как дьявол, хохол подогнал несколько оседланных лошадей. Офицеры вскакивали в седла, уходили наметом в степь. Остался один пулемет на тачанке, на которой подъехал к баррикаде щерящий зубы, похожий на призрак Назаров.
— Что делаем, господин майор? — спросил Рогойского пожилой седой офицер с бледным, как бы помятым лицом.
— Разумеется, сматываемся, — ответил Рогойский, — только не сейчас. Красные вроде бы поутихли. Хочется полюбоваться на их хари вблизи. Подпустим две первые шеренги и положим перед баррикадой, а потом, увы, adieu. Скажите Назарову, чтоб взял на тачанку двоих. Он уедет последним. — И, уже не оборачиваясь, глядя прямо перед собой, слегка подавшись вперед, пробурчал: — Что ж, Вадим, ты не пожелал досмотреть спектакль до конца.
Полчаса спустя, когда жухлую траву перед баррикадой белых усеяли тела матросов Черноморского флота, а задние шеренги оказались достаточно далеко, чтоб можно было эвакуироваться в сравнительно безопасных условиях, и вместе с тем довольно близко, чтоб медлить, Рогойский созвал всех, усадил на повозки и на дюжину лошадей, по два на каждую, поцеловал Сейкена в холодную и уже окостеневшую щеку и ускакал, провожаемый беспорядочной пальбой красных, разочарованных этим их отходом. Спустился мрак, и одновременно полил холодный, мерзкий дождь.
Несколько часов спустя, посреди ночи, они наткнулись на блуждающий в степи небольшой отряд большевиков, этой встречей явно озадаченных. Хлопнула граната, и лошадь, на которой сидел вместе со своим коноводом Рогойский, встала на дыбы, заржала и повалилась на бок, подминая обоих всадников. Коновод тотчас вскочил, подхватывая обеими руками вывалившиеся из нутра серо-белые кишки, так мужики подхватывают посыпавшееся из распоротого мешка зерно, и, качаясь из стороны в сторону, но не так, как пьяный, а как человек, не решивший еще, куда направиться, пошел вперед — однако не в том направлении, в каком удирал отряд, частью которого он до сих пор являлся. Большевики, как внезапно появились, так же внезапно исчезли, все еще изумленные и не пришедшие в себя после того, что случилось. Единственным доказательством стычки были бьющаяся в агонии лошадь и мускулистое скрюченное тело майора Рогойского. На все ушло секунд сорок, не более минуты. Ночь, как бездна, всосала в себя и грохот гранаты, и внезапную короткую вспышку.
Из мрака вынырнула, преодолевая сопротивление вязкого грунта мотором в пятьдесят лошадиных сил, светло-бежевая «ланча», открытая, длинная и элегантная, похожая на дикого гуся в полете, с серебристой никелировкой, вся какая-то безукоризненно чистая в этом простирающемся вокруг царстве грязи, несущая в себе, около себя и над собой ощущение независимости и мечты. На пустынных и плоских пространствах, которые она преодолевала, машина была явлением поэтическим. Она проскользнула мимо подводы с задранным вверх дышлом, мимо трупа мужчины с распоротым животом, простертого на петляющем среди ковыля тракте. Метров через двадцать, когда машина поравнялась с павшей лошадью, молодой элегантный мужчина, один из трех, сидящих в «ланче», произнес с оживлением, указывая вправо худой длинной ладонью в черной перчатке:
— Погоны!
Старик генерал, упрятавший голову в воротник шинели, тихо отозвался:
— В таком случае прошу остановиться.
Молодой человек сделал жест рукой и, наклонив голову, стал что-то объяснять, но старик столь же тихо, сколь решительно, повторил:
— Прошу остановиться и проверить. Если убит, забрать документы, письма, фотографии — все, что у него есть.
Офицер состроил обиженную гримасу и, перегнувшись вперед, ткнул кончиками пальцев шофера в спину. Ловко спрыгнул с тормозящей «ланчи» и подошел к скрюченному телу с закинутой за голову рукой и прижатыми к груди ногами. Он присел, отбросив полы элегантного, шитого в талию френча, и стал обшаривать карманы. Извлек дешевый жестяной портсигар, какими пользовались в царской армии, грязный носовой платок, перочинный нож. Ему было никак не добраться до внутреннего кармана шинели, и потому, посильней дернув лежащего, он перевернул его на спину. Мужчина застонал и шевельнул рукой. Офицер отскочил, вытирая руки о френч, словно прикоснулся к прокаженному. Лежащий застонал снова, после чего жадно втянул в себя воздух и посмотрел на офицерика осмысленным взглядом. Тот, смешавшись и не очень себе представляя, что теперь делать и как себя вести, буркнул на всякий случай: «Простите». Лежащий глядел в небо, тяжело дыша. В двух-трех шагах от него стоял офицерик, сбоку на траве валялись извлеченные из карманов вещи. Через полминуты незнакомец сел, а офицерик вновь буркнул: «Простите».
— Ничего страшного, — отозвался человек. Голос у него был хрипловат, но говорил он вполне нормально. — Скажите, я не ранен?
— Об этом мне следовало бы спросить у вас, — ответил офицерик и глянул на старика генерала, сидевшего в автомобиле, не отрывая взгляда от горизонта, после чего, поправив лихо сползшую на ухо фуражку, воскликнул, чтоб скрыть тем самым свое недавнее смятение: — Если вы тут решили соснуть, то выбрали неподходящее место и час, господин майор.
— Дайте-ка руку, — сказал мужчина и протянул широкую загорелую ладонь с длинными пальцами и грязными ногтями.
Офицерик помог ему подняться.
— Спасибо, — буркнул человек и сделал на растопыренных ногах два шага.
Он намеревался сделать еще и третий, но покачнулся и, если б не офицерик, наверняка упал бы. Провел рукой по лицу, тело его свела судорога, затрещали кости. Он сердито вырвал локоть из рук адъютанта и, схватившись руками за голову, постоял так некоторое время, потом задрал полы шинели и осмотрел ноги и живот. Попросил офицерика, чтоб тот взглянул на спину.
— Ни малейших следов крови, господин майор! — воскликнул офицер достаточно громко, чтоб его мог услышать генерал в автомобиле, и вполголоса добавил: — Может, что-то внутри? Вы чувствуете боль?
— Не знаю, — пробурчал человек и шаткой походкой направился к автомобилю. — Майор Рогойский из особого соединения генерала Шкуро.
Старик, не глядя на него, указал головой на разложенное уже откидное сиденье напротив. Адъютант подобрал с земли портсигар, платок и перочинный нож, вскочил в автомобиль и, хлопнув дверцей, так же как и перед этим, вытянутыми вперед пальцами ткнул в широкую спину шофера. Тот выжал сцепление, дал газ, колеса забуксовали на скользкой земле. Автомобиль дернулся, как взбодренный нагайкой конь, и, сползая то влево, то вправо, утопая по спицы в густой жиже, покатился вперед.
Рогойский расселся на мягком сиденье и вытянул ноги, удивленный вместимостью автомобиля. Бездумный взгляд скользил по элегантной отделке машины, отмечая про себя поистине артистическое искусство, с каким были выполнены детали. Он чувствовал себя прилично, только мучил холод, и потому он то и дело запахивал мокрую шинель, которая, по-видимому, растянулась, впитав влагу, потому что полы все больше заходили друг за друга.
В голове шумело, но это ему не докучало, напротив, напоминало приятное похмелье, как легкость и слабое помрачение после бутылки шабли.
Адъютант оказался веселым парнем и говоруном, но то, о чем он болтал, было столь далеко от жизни, что действовало на нервы. Приятный тембр голоса, живые и вместе с тем сдержанные движения, умный взгляд голубых глаз из-за очков — все в хорошем тоне, все естественно, без пафоса и без цинизма, деланного или настоящего. Это было неразрывно связано с поездкой, как рокот мотора, как свист воздуха.
Генерал абсолютно не реагировал на слова молодого человека, тем не менее они его, вероятно, не раздражали, как, впрочем, и не вызывали интереса. В какой-то момент офицерик наклонился к Рогойскому и спросил громко, в расчете на то, что услышит генерал, а движение тела означало, что вопрос предназначается одному только майору, а вовсе не генералу, но при этом вежливость и правила приличия требовали, чтоб разговор не был доверительным:
— Вы, вероятно, полагаете, что первую же ночь в Париже я проведу в объятиях какой-нибудь мидинетки, а то и просто в борделе, правда?
— В самом деле, я так и решил, обдумывая эту проблему, — ответил, поразмыслив, Рогойский.
— О нет! — воскликнул офицерик. — Ничего подобного!
— В самом деле? А мне казалось, что вы из тех, кто не сторонится женщин, чтоб не сказать больше.
— Разумеется, тут вы правы, но дело не в моем отношении к женщинам, а в том, как я проведу первую ночь в Париже.
— Крайне любопытно, как вы ее проведете, — проговорил Рогойский, запахивая на себе шинель.
— А вот представьте себе, просижу на бульварах у Сены, просто так, на скамейке.
— Один?
— Абсолютно один.
— Всю ночь?
— Ну разумеется. От заката до рассвета. В декабрьском парижском тумане, в этой сырости, в которой человек чувствует себя так, словно купается в холодной воде. Тишина, покой, никто в вас не стреляет, никто не бросает бомб, не пытается зарубить шашкой. А утром, где-то около шести, пойду в одно из этих маленьких кафе, где заваривают крепкий ароматный кофе и подают горячие булочки.
Рогойский закрыл глаза. Офицер замолк, но чувствовалось, что ненадолго, что его мысль упорно работала, выискивая в лабиринтах памяти какую-нибудь новую тему, чтоб тут же ее прополоскать в обаятельных волнах красноречия и дилетантизма.
Местность стала меняться, близ дороги замелькали заросли и кусты, в отдалении маячили высокие курганы, автомобиль без ощутимых усилий преодолевал теперь небольшие подъемы. Но ни привлекательности, ни радости в пейзаже не было. Все зависело от света, вернее, от отсутствия света. Низко висело свинцовое небо, и казалось, вот-вот пойдет дождь. Окрестность была пустынна, уже долгое время на горизонте ни малейших признаков жилья. Это действовало угнетающе. В какой-то момент, за гребнем холма, шофер остановил машину и влил в бак содержимое двух больших бидонов, которые он извлек из-под дорожного кофра. Офицерик предложил генералу совершить небольшой моцион, чтоб поразмять кости, но встретил такой взгляд, словно это было равносильно приглашению побарахтаться в пруду или вываляться в луже.
Едва машина тронулась, Рогойский приоткрыл глаза и проговорил так тихо, что офицерику, чтобы услышать, пришлось вновь наклониться к нему:
— Знаете, я размышлял над тем, что вы сказали, и считаю: осуществить полностью это невозможно. Ваш замысел не совсем реален.
— Это почему же?
— Опасаюсь, что в шесть, — пробурчал Рогойский, — булочек еще не бывает. Булочки появляются позднее, где-то около семи-восьми, а то и в девять.
— Вы уверены? — забеспокоился офицерик.
— Мне не доводилось бывать в Париже, — пояснил Рогойский, — но где-то я читал, что выпечка появляется там поздно, к примеру позже, чем в Лондоне.
— Зато она лучше, — махнул рукой офицерик, и неуверенность перемешалась с надеждой.
— Французы не любят рано вставать, — добавил Рогойский. — То ли я это где-то читал, то ли мне кто-то рассказывал… — Он смолк, с изумлением и опаской уставясь на внутренность автомобиля, обитую черной кожей, на никелированные планки, на серебряные вензеля, скрещенные на внутренней стороне дверок, на металлические кружочки с эмблемой завода, изящно вкрапленные в резиновый коврик на полу. Мгновение ему казалось, что он ни с кем не разговаривает, никуда не едет, что просто стоит на обочине и без интереса рассматривает длинный светлый автомобиль, столь контрастирующий с серым пейзажем, автомобиль, в котором двое придвинувшихся друг к другу людей беседуют с оживлением и один из них, тот, что ближе к шоферу, похож на него самого. Рванувшийся вперед автомобиль постепенно исчезает из глаз, словно вонзается в низко висящее небо, но он не жалеет, что среди едущих нет его самого, точно так же как не жалеет, что остался один на открытых холодным ветрам просторах, ибо и там, в этих просторах, его тоже нету. Офицер о чем-то спрашивал, но вопрос не доходил до Рогойского, а может, он просто его проигнорировал, поскольку махнул рукой и с некоторым даже раздражением сказал, развивая тему, которая его не интересовала: — Ну, пойдете в кафе, а после?
Молодой человек откинулся на сиденье и, не обращая внимания на генерала, который не сделал пока ни единого жеста, не поправил шинели, не кашлянул, не потянул носом, а сидел окаменевший, ссутулившийся, с провисшими широкими плечами, — итак, не обращая внимания на генерала и тем самым нарушив правила, им же самим установленные, и поступив, следовательно, наперекор своей натуре, которая этим правилам, не вытекающим, впрочем, из необходимости, долга и ситуации, была до сих пор, как можно полагать, подчинена, молодой человек хватил кулаком по сиденью и помрачнел, как если бы то обстоятельство, что в Париже в шесть утра может не быть булочек, безмерно осложнило его существование здесь, на Украине, и в его гримасе было столько неудовольствия и досады, что это могло бы растрогать самого равнодушного наблюдателя, и Рогойский на это отреагировал, как отреагировал, кажется, и генерал. Пожалуй, это должно было их позабавить, но оба витали мыслями далеко, что исключало сочувствие Рогойского, а тем более генерала. И все-таки Рогойский сказал:
— Ну, предположим, вы попали в кафе, где булочки есть с самого утра…
Молодой человек раскрыл ладонь и вытянул пальцы, казавшиеся в черной, облегающей руку длинной перчатке какими-то особенно тонкими и длинными.
— Все-таки я помню… На улице Лизбон есть такое бистро, называется «Рио-7», открыто круглые сутки. В тысяча девятьсот четвертом году я вместе с матерью прожил полгода в Париже. Мы остановились в меблированных комнатах напротив этого бистро. Я ходил тогда на уроки рисования к профессору Гранье и страдал невропатией. Все, кто ходил на уроки рисования к профессору Гранье, страдали невропатией по причине его хамства, которое немногочисленные поклонники профессора называли темпераментом. Мне было тогда десять лет, и случалось, что на рассвете — а была как раз такая парижская зима, какую я себе сейчас представляю, — меня будили вывалившиеся из «Рио» живописные ее завсегдатаи, таких уже тогда было не так много. Мужчины разных возрастов, представители богемы, как о них думали или, вернее, как думали они о себе сами, крикливые, но не вульгарные, разумеется, экстравагантные, вызывающие у обывателей скорее чувство жалости и сочувствия, нежели отвращения и страха, причем им-то хотелось, скорей, как раз последнего, — так вот, эти мужчины, которым было в основном под пятьдесят, часто с рукописями под мышкой, проскальзывали по тротуару мимо невзрачных сонных работниц с соседней картонажной фабрики, коротконогих француженок с отставленными задами, в каждой из которых есть нечто от дамы и нечто от проститутки. Эти девушки спешили в «Рио» на утренний кофе и рогалики, в этом я уверен, потому что рогалики они из-за спешки доедали на ходу. Убежден, это было не позже чем между шестью и семью. Из-за этого проклятого недомогания мне случалось рано просыпаться.
Офицер глянул с удовлетворением на Рогойского, а потом скосил глаза на генерала, как бы желая сказать: «Дела обстоят лучше, чем казалось вначале, старина».
— Далеко это от бульваров? — спросил Рогойский с некоторым даже отчаянием в голосе, что доказывало: он потерял надежду, что тема свежей выпечки во Франции, на которую он сам же так неосмотрительно навел собеседника, будет вскоре исчерпана.
— Какое там! — воскликнул с энтузиазмом офицер. — Самое большее четверть часа пешком.
Рогойский поправился на откидном сиденье. Высокое переднее стекло защищало его от ветра, который, надо думать, на задних сиденьях ощущался куда сильнее, потому что лицо генерала побурело, сливаясь цветом с высоким стоячим воротником застегнутой на верхний крючок шинели. Лицо офицерика не казалось таким гнилостно-зеленым, но и он выглядел не лучшим образом — осунувшиеся щеки, под глазами круги. Занятый до сих пор своими мыслями, Рогойский лишь теперь заметил, что оба они невероятно, чудовищно утомлены, что генерал, видимо, махнул на все рукой, а офицерик еще хорохорится и держится гоголем, потому что в противном случае просто расплачется. И внезапно, тронутый этим, он с чувством произнес:
— Желаю вам добраться до Парижа, очень желаю. — И добавил, поколебавшись: — Хоть это не так-то просто.
— А вы? — спросил адъютант.
— О, мне гораздо ближе до дома, — ответил Рогойский, щелкнув пальцами по никелированной ручке.
— Знаете, — офицер вновь наклонился к Рогойскому, — возвращаясь к этим рогаликам… Мне вспомнилась еще одна деталь. Забавно, как такие мелочи врастают в память. Так вот, господин майор, часть из них с маком и они вовсе не так уж хороши, пока свежие. Лучше их есть через несколько часов после выпечки и не мазать маслом, зато самые свежие должны быть непременно с тмином или с солью. — Он беспомощно улыбнулся и развел руками, похожий на затравленного зверька, слишком самолюбивого, чтоб демонстрировать страх. Рогойский понял: этот юноша — всего лишь смесь хорошего тона, петушиного гонора, явной беспомощности и еще, пожалуй, эгоизма, хотя две первые черты больше бросались в глаза и, по-видимому, преобладали. Он еще добавил: — Я всегда придерживался того мнения, что наша жизнь складывается из безделушек и пустячков, а не каких-то там… — и прочертил в воздухе круг. — А вы так не считаете?
Рогойский с одобрением кивнул.
Через пять часов езды после переправы через Буг, когда они проскочили по искореженному, накрененному вправо настилу моста, где шофер продемонстрировал и хладнокровие, и мастерство и провел машину по той его части, которая выступала из воды, цепляясь колесами за доски и опрокинутые перила, как альпинист цепляется за выступ, за малейшую выемку, — так вот, после пяти часов путешествия по безлюдному степному тракту, проложенному еще половцами, а может, и кипчаками, тракту, по которому двигались орды Чингисхана и турецкие войска, а в воздухе, если вслушаться, висят вскрики несмолкших янычарских пищалок и завывание запорожских бандур, они выскочили на шоссе Николаев — Одесса, контролируемое еще белыми войсками. Там было полно эвакуирующихся, точнее, бегущих солдат, много гражданских экипажей. Мелькали и пешие с узлами на спине и чемоданами в руках, среди которых попадались элегантные саквояжи из мастерских новодугинских умельцев, сделанные нередко по заказу, со следами наклеек знаменитых отелей, еще так недавно бережно переносимые лакеями во всех этих «Савоях», «Метрополях», «Георгах» и «Асториях».
В начале дня в нескольких верстах от города, когда уже долетал соленый запах моря, а в отдалении замаячили виллы предместья, их остановил казачий патруль. Старший, офицер в чине подъесаула, при виде генеральских эполет спрыгнул с лошади и с самым почтительным видом, впрочем, не без некой тайной иронии, что могло быть, кстати, следствием неосознанных флюидов, хотя, возможно, неосознанной была сама почтительность, а ирония явилась результатом того, что произошло с армией в последние месяцы, приблизился к автомобилю, отдал честь и спросил, куда они направляются.
— На дачу! — ответил, не размышляя, офицерик, а Рогойский громко и нагло расхохотался.
Подъесаул опешил, но тут же рассердился и соответствующим тоном заявил, что они по приказу коменданта города патрулируют шоссе, следят за порядком и обязаны независимо от званий…
— Генерала ожидает в порту французский миноносец, он доставит его в Марсель, — прервал его офицерик, — и меня, разумеется, тоже.
Тогда казачий подъесаул кивнул генералу и не без удовлетворения сообщил, что два французских миноносца и один корвет действительно стоят на рейде в нескольких милях от порта, но вряд ли приблизятся к берегу.
— В таком случае нам вышлют шлюпку, — заявил нимало не смущенный этим офицерик.
— Сомневаюсь, чтоб шлюпка могла добраться до берега, море вот уже две недели штормит, как это бывает осенью, — ответил подъесаул.
— Это уж не ваша забота, — заметил офицерик.
— Есть ли у вас при себе документы, топографические схемы, карты или же письменные приказы? — обратился командир патруля к Рогойскому.
— Нет, — ответил тот.
— Вас тоже предполагают эвакуировать в Марсель?
— Сомневаюсь.
— Ваш род войск?
— Кавалерия.
— По всей видимости, вы направляетесь в город, чтоб выехать из России?
— Хотите предложить мне что-то иное?
— Пожалуй. Если у вас ничего не получится, поступайте в распоряжение полковника Измайлова. Командующий тяжелой артиллерией. У него приказ обеспечить эвакуацию и оборонять город до конца.
Рогойский кивнул.
Подъесаул оглядел автомобиль, ткнул рукой в мотор и спросил:
— А автомобиль…
— Моя частная собственность, — ответил офицерик.
— Я должен удостовериться в этом, таковы мои обязанности, — сказал, как бы оправдываясь, подъесаул. — Документы при вас?
— Да. Реквизиция оформлена распиской. Вот только, боюсь, она уже просрочена.
— Разрешите взглянуть.
Офицерик протянул небольшого формата конверт из плотной бумаги. Казаки сидели в седлах разморенные и осовевшие. Один даже задремал, и фуражка съехала ему на нос.
— Благодарю. — Подъесаул вернул квитанцию и вежливо добавил: — Я отмечу еще модель и номер машины. Это «ланча»?
— Да.
— Благодарю, — повторил казачий офицер, обращаясь на этот раз исключительно к генералу, козырнул и, неуклюжим рывком поправив седло, взгромоздился на лошадь.
Когда они, въехав в город, остановились перед огромным серым зданием с нарядным фасадом, наступил уже вечер. Окна были безжизненно-темные. У главного подъезда группка солдат резалась в карты. Они не обратили внимания на подъехавший автомобиль и пропустили мимо ушей ругательства, которыми их наградил офицерик. Шофер посигналил, но из здания так никто и не вышел. Адъютант взбежал по ступеням, и солдаты пропустили его, не потребовав документов, они равнодушно расступились, и было совершенно ясно, что, кроме картонной коробки, служившей им столиком, их ничто не волнует.
Вскоре адъютант вернулся вместе с суетливым толстячком в тужурке с прилепленными к черепу бриллиантином черными волосами и высоким небритым мужчиной в светлом летнем костюме и наброшенной на плечи солдатской шинели. Толстячок подхватил генерала под локоть и, что-то ему втолковывая, повел в темнеющее нутро дома.
Мужчина в шинели остался, с интересом разглядывая великолепную машину. Рогойский, прощаясь с офицериком, осведомился, с кем имел честь совершить столь приятное путешествие.
— Камцев, — ответил ему офицерик.
— А фамилия генерала, если, конечно, это не тайна?
— Теперь уже, пожалуй, нет. — Адъютант заколебался. — А почему вы спрашиваете?
— Да так, — сказал Рогойский и усмехнулся.
— Начальник штаба Добровольческой армии генерал Романовский.
— Ах вот оно что, — пробурчал Рогойский и добавил: — Приятно было с вами познакомиться, Камцев.
— Взаимно, — бросил офицерик, вновь натягивая перчатку. — Удачи, господин майор.
Рогойский кивнул и, поплотней запахнувшись в шинель, поскольку с моря шел холодный, влажный ветер, двинулся вперед по широкой и грязной улице.
Две недели он проторчал в городе, выискивая или, скорее, выжидая возможности покинуть Россию. Он снял чердачок в одном из домов на главной улице, но там было холодно, если дул ветер, а дул он ежедневно, и сыро, потому что текла крыша. Дня через три он перебрался в дрянную гостиницу возле порта, где на серой, недостиранной простыне он ночами валялся без сна по причине докучавших ему клопов, которые покрывали ее красными пятнышками, испуская при этом ужасающий смрад, прилипчивый и мерзкий. Днем в гостинице стояла вонь от бараньего сала, на котором в ресторане готовили месиво из риса, гадкое по виду и по вкусу, но с изысканным названием «risotto à la duke of Edinburgh»[8].
Гостиница была блеклая и унылая, с тем убийственно холодным зловонием, когда разные запахи — кухонные, клопиный, табачный — зависают в воздухе плотными пластами. Серым и унылым был также район порта, а люди, живущие, здесь в жалких норах, походили, скорее, на копошащихся червей. Рогойский, который неплохо знал Россию, не предполагал, что в этой стране существуют такие регионы мерзости и запустения.
Впрочем, город, в особенности в центре, в восточной своей части, представлялся сверкающей витриной великой империи, и трудно было себе представить, что империи больше нет, а в витрине — лампы, которые выключили, и свечи, которые задули. Склады ломились от товаров, колониальные лавки, визитная карточка города, торговали как в старые добрые времена, не было отбою от покупателей. В ресторанах подавали изысканные блюда и не менее изысканные напитки, которые пользовались, заметим, небывалым спросом. Заказывали охлажденную водку с инеем на горлышках бутылок и английский портвейн комнатной температуры. Шотландский виски и французское шампанское. В уютные, с мраморным полом залы, покрытые роскошными коврами, въезжали тележки, уставленные батареями белых и красных вин — с Кавказа и из Молдавии, из Италии и из Германии, — и все это под аккомпанемент веселых и интересных разговоров, и лишь их торопливость, не позволяющая задумываться над вопросами и ответами, их нервозность, несвойственная этой нации, но придающая речам изысканность и легкость, свидетельствовали о порочности ситуации. Женщины, которые здесь, в калейдоскопе фраков и мундиров, были в меньшинстве, сияли красотой, изяществом или драгоценностями — старинными, не имеющими цены.
Без конца дымили сигарами и папиросами. Звучала музыка, то бравурная, то меланхолическая, веселая и печальная, оркестранты подлаживались под настроение публики. Чаще всего просили «Севастопольский вальс» и тут же, как бы для контраста, фокстрот, завезенный английскими моряками, где простенькая мелодия шла об руку с бесхитростными словами: «Ах, малышка Мегги, рыженькая свинка…»
Выпив около десяти поданный в постель кофе, Рогойский валялся обычно до полудня, чтоб оттянуть момент вставания. (Клопы с рассветом унимались.) Потом долго возился с утренним туалетом и где-то после двенадцати выходил в город, с тем чтоб вернуться поздно вечером или ночью. Десять-двенадцать часов между уходом и возвращением тратились на изыскание — теоретическое — какой-либо возможности выбраться из города. Минуя ежедневно ларек, где хорошенькая девушка, то ли цыганка, то ли евреечка, предлагала ему купить соленых орешков, он лишь улыбался, но не покупал, внутренне призывая себя приступить к действию: отправиться в порт или по крайней мере в контору каботажного плавания черноморского пароходства, функционирующего, признаться, чисто символически. Пройдя десяток-другой шагов, он возле какого-то мрачного дома сворачивал влево, на улицу, ведшую в верхнюю часть города и потому направленную в глубь страны, а не за ее пределы. Потом, до самого вечера, шатался без цели, рассматривал витрины, заглядывал в кафе и рестораны, где заказывал что-нибудь подешевле, а то и вовсе ничего не заказывал, наблюдая, как это делают другие. И люди, и их поступки были ему любопытны. Он ловил обрывки разговоров. Вслушивался в споры, в дискуссии, в смех, в плач, хотя последнее случалось редко. Сумма денег, которой он располагал, точнее, набор вещей, которые можно было менять на еду, табак и услуги, и без того малый, катастрофически таял. Впрочем, предметом торговли было все, начиная с прелых портянок и кончая брильянтовыми колье. Часы в латунном корпусе обеспечили ему не такие уж дурные обеды в портовом кабачке. Гостиницу он оплатил заранее единственным ценным предметом, который имел, — золотым австрийским гульденом.
Он понимал: время работает не на него, причиной тут и отсутствие денег, и красные, которые, надо полагать, еще до зимы возьмут город. Но ничего не предпринимал, чтобы покинуть Одессу. Точно так же как и все эти пришлые люди, запрудившие улицы, захватившие гостиницы, занявшие рестораны и трактиры. Для них ход времени был еще менее благоприятен, но они поступали так, словно все было наоборот. Каждый твердил про отъезд, но немногие покидали город. Ждали. Сначала высадки союзников, теперь — когда прибудет «Фальмут». Из уст в уста бежала весть об английском лайнере, который вошел уже якобы в Черное море. Длиной с полверсты, высотища — как новгородский собор. Девятьсот кают и две тысячи мест в трюме. Восемь оркестров дуют без перерыва, в четыре смены. На верхней палубе — тысяча шезлонгов, на нижней — теннисные корты, бассейн с подогретой водой, крикет и кегли. Всякий, кто слушал или рассказывал, был убежден: «Фальмут» и в самом деле прошел Босфор, вскоре прозвучит его колокол и так или иначе все устроится. Ибо в случае необходимости судно совершит два или три рейса. Рогойский не верил в «Фальмут», но тоже ждал и в бессонные ночи, поедаемый клопами, рисовал в своем воображении подробности путешествия на комфортабельном лайнере, он уже ощущал запах лаванды от накрахмаленных простынь, и ему мерещились безвкусные овсяные хлопья на завтрак.
К концу второй недели он выиграл в кости у какого-то биндюжника, обедающего в том же самом трактире, двадцатипятирублевую серебряную монету и решил потратить ее на хороший ресторан с музыкой. Выбрал один из самых элегантных, расположенный внизу, возле парка. Часов около девяти вошел в набитый людьми зал, похожий величиной и простотой интерьера на манеж. Обширность ресторана поразила его до такой степени, что, замерев на своих, как обычно, слегка раскоряченных, кривоватых ногах, он уже раздумывал, не смотаться ли отсюда прочь и не попросить ли обратно деньги за входной билет, но, повернув голову, краешком глаза заметил раздвижные двери, а в глубине — уютный полумрак и жужжание голосов. Он направился туда. В ноздри ударил жаркий, если не сказать — спертый, воздух, секунд через пятнадцать он освоился.
Этот круглый зал был намного меньше и ниже первого. Стены увешаны яркими по колориту, дерзкими, приковывающими взор своей хищностью картинами с изображенными на них невиданной стройности женщинами и мужчинами с едва обозначенными признаками пола. Все были обнажены, все схвачены в движении, в прыжке, в беге, исполнены экспрессии, повернуты друг к другу одинаковыми треугольными лицами с миндалевидными глазами. Чем-то они напоминали святых с картин Эль Греко. Только у этих лица были плоские, холодно-равнодушные, не выражающие никаких чувств, хотя их руки, ноги, тела, по-осиному тонкие, были одержимы страстью.
Посредине, чуть справа, висела подсвеченная небольшой лампой со стеклянным абажуром картина, на ней был изображен мальчик с поднятой вверх, согнутой в колене ногой. В его позе поражала стремительность, казалось, фигурка вот-вот сойдет с полотна, а откинутая назад, не поспевающая за туловищем голова усиливала это впечатление.
Рогойский приблизился к большому и тоже круглому столу, уставленному блюдами и салатницами с холодным мясом, с копченостями, с разными сортами рыбы, с нанизанными на тонкие прутики маслинами, с тарелками, полными маринованных и соленых грибов, и стал рассматривать картину, заинтересовавшую его больше, чем все эти кушанья, хоть он и ощущал голод. Потом, уже положив себе в тарелку порцию заливной рыбы, ломтик мяса, добавив к этому редиски, облив все это татарским соусом и взяв из рук официанта во фраке рюмку водки, он вдруг подумал, что если вновь взглянет на картину, то мальчика там не обнаружит, придется искать его на другом полотне, ибо его не покидало впечатление, что фигуры перескакивают с картины на картину, что они в постоянном движении и только люди этого не замечают, поскольку им это неинтересно. А мальчик оленьими прыжками обегает зал, равнодушный к тому, что происходит внизу, на круглом столе, точно так же как равнодушны те, кого этот стол влечет, к постоянным перемещениям эфеба.
Рогойский выпил водки и, подцепив на вилку ломтик мяса, с удивлением обнаружил, что мальчик не сбежал с картины, что он все еще пытается перескочить посеребренную раму, но не хочет либо не желает этого сделать, а возможно, вернулся на прежнее место или вовсе не покидал его ради внимательного зрителя, для прочих же существуя и как бы не существуя где-то в иной сфере.
Из соседнего зала долетали звуки глупенькой песенки с коротким плясовым припевом. За спиной он уловил благоухание духов, оно приблизилось, а тот, кто был сзади, повторял один и тот же вопрос, на который не было ответа:
— Но почему, скажите, пожалуйста, почему?
Обернувшись, Рогойский увидел высокого мужчину с гладко выбритым лицом и рядом женщину-брюнетку — толстая коса стянута жгутом на затылке.
— Но почему, скажите, Савин, все-таки почему?
Повторение вопроса становилось назойливым и мучительным. Не хотелось слушать. Было непонятно, отчего мужчина по фамилии Савин, хотя бы ради собственного покоя, не отзовется хоть единым словом, пусть даже соврет, чтобы отсечь вопрос, слетающий через равные промежутки, словно с граммофонной пластинки. Он отставил тарелку и, повернувшись, сказал:
— Господин Савин, вы не подумайте, что я подслушиваю или что-то еще… — и осекся, поняв, что хорошенькой женщине вовсе не нужен ответ, а высокого мужчину не раздражают повторения. Они были словно манекены, действующие сообразно с волей того, кто накрутил пружину.
Он отошел от них и очутился возле двух пожилых мужчин, безукоризненно одетых, стоящих в обнимку и не спускающих друг с друга глаз. У одного из кармана жилета торчала хризантема. Едва он миновал их, как вновь почувствовал запах тех же самых духов и представил себе, что эти манекены проталкиваются следом за ним сквозь толпу, а у той, которая спрашивает, на уме вовсе не Савин, а он, Рогойский. Тогда он произнес громко:
— Савин, объясните, в конце концов, почему? — подделываясь под знакомый ему чуть гнусавый альт.
Но то были лишь похожие духи. Полная рыжая дама говорила, смеясь, восемнадцатилетнему юноше, должно быть — камер-юнкеру:
— Фома Васильевич, у вас такой мечтательный и бестолковый вид. Вы что, влюблены? Если да, то любите капельку веселее. Печаль вам не к лицу.
Рогойский вновь остановился у картины, чувствуя на лице тепло лампы. И опять стал вглядываться в мальчика. Потом еще дважды взял у официанта водку, закусывая зажатой в руке редиской. Но вот его тело содрогнулось от тоскливой и судорожно подхваченной гитарой песни, которую приветствовали бурей аплодисментов. Он вернулся в большой зал, где на эстраде увидел цыганский хор человек в тридцать.
Кто-то рядом прошептал:
— Восхитительно, великолепно! Кто-то другой сказал вполголоса:
— Ансамбль Джугиных, последний концерт. Они уезжают в Париж.
Кто-то еще спросил:
— В Париж? Это любопытно. А как они намереваются туда добраться?
— Не знаю, может, пешком, — отозвался собеседник, и оба тихо рассмеялись.
Песня была прекрасна, слишком прекрасна. Это была песня для людей маловпечатлительных, неэмоциональных, ибо все остальные с трудом выдерживали напряжение, вызванное идущими из сердца вскриками, ритмом, модуляцией, окраской. Это была та музыка, которая, по мнению знатоков, слишком действует на физиологию и поэтому ее трудно признать благородной. В середине песни, ощутив, как по телу проходит дрожь, а ладони становятся влажными, Рогойский покинул зал и при выходе задел плечом одного из двоих офицеров из кавалерии Эрдели, входящих в ресторан. Оба были бледные, небритые, изможденные. У того, который посчитал, что его оскорбили, лицо исказилось в гневной гримасе, и он процедил сквозь стиснутые зубы:
— Эй вы, будьте повнимательней, майор, черт вас возьми!
Тут Рогойский почувствовал нечто близкое, простое, нормальное, оно вернулось к нему из того мира, который был ему понятен, и какое-то время, глядя на обоих, он взвешивал, ответить им со злостью и по-хамски или, может, сказать два-три слова с иронией, что наверняка вызовет скандал, а быть может, доставить себе удовольствие и, не говоря ни слова, тут же пустить пулю в первого молодчика, в его тщедушную грудь, а тому, второму, если кинется защищать, перешибить надлежащим ударом нос или сломать челюсть. Но это был всего лишь миг мечты, которая не осуществилась, потому что ее осуществление что-либо изменить уже не могло: так или иначе наступал конец. И он сказал вполголоса «Простите», «Я задумался» или что-то еще в этом роде и, сгорбившийся, с руками в карманах брюк, отвернулся, а женщина, которая была с ними, тоже высокая и тощая, с большим орлиным носом, с колье на дряблой шее и с лисой на покатых плечах, испускавшей запах нафталина, может, мать, может, куртизанка, окинула Рогойского сочувственным взглядом, но этого он уже не видел, устремясь мелкими шажками по дорожке из кокосового волокна к распахнутой настежь двери. Последнее, что он еще заметил в этом покидаемом им мире, были четверо вышибал снаружи, все в ливреях, из которых выпирали их мускулистые тела.
Тремя сутками позже, во влажный и ветреный вечер, в обмен на портупею, пистолет и горсть патронов его занесли в список пассажиров греческого суденышка, которое, прижимаясь к берегу, прячась в лиманах от шквалов, притащилось в начале января 1920 года в румынский порт Констанца.
На Украине меж тем настали наконец ясные, безоблачные и морозные дни.
II
Он сидел за столом напротив молодой красивой женщины с чашкой чаю в руках и рассматривал из-под опущенных век комнату, которая так хорошо была ему знакома, но теперь казалась меньше и изящнее, чем тогда, когда он в обществе дюжины особ обоего пола находился здесь последний раз.
Посреди стола стояло блюдо с котлетами из ягнятины, рядом другое, с рисом, поменьше, а чуть сбоку салатница с квашеной капустой и ломтиками тонко нарезанных яблок. Перед ним бутылка красного вина и налитая до половины рюмка на высокой ножке. Справа, на дощечке, кусок пирога с вареньем. Перед ним и перед женщиной две тарелки, белые и гладкие, с остатками еды, и потемневшие от времени тяжелые серебряные ножи и вилки. Над столом широкий розовый абажур, яркая лампа освещает круг метра два в диаметре, остальное тонет в уютном полумраке. От низенькой печи вместе с теплом исходит запах сосновых поленьев, которые за ней сушатся. Слуга копошится рядом, то и дело что-то забирая, принося или поправляя, вот он только что передвинул на несколько сантиметров хрустальную вазу на буфете, а теперь исчез из светового круга, готовый в любой момент исполнить каждое их желание, как если бы перемещение салатницы или сахарницы было слишком важным действом, чтоб предоставить его случаю или пропустить вовсе.
Кажется, слуга стоит за его спиной, потому что он отчетливо ощущает тепло и кисловатый дух, исходящий от старика. Он сидит так уже с полчаса, не сказав ни единого слова, кроме «Да», «Разумеется», «Нет», «Не знаю», и, слегка опустив голову, ощупывает взглядом по очереди мебель и стены. Делает это без поспешности. Взгляд, скользнув по саксонской гравюре, остановился на гобелене с изображением охотничьей сцены. Гобелен огромный, в полстены. Под ним низенький полированный столик с гнутыми тоненькими ножками, соединенными полочкой, на которой лежит яркая картонная коробка. Столешница с желтоватой и коричневой инкрустацией в виде шахматной доски покрыта пылью. Хотя он не был уверен, но ему казалось, что столик перенесли сюда из какой-то комнаты верхнего этажа. Да и консоль, стоящая рядом, здесь бесполезная, украшала собой прежде другое помещение. Мебель из мастерских Жюста Мессонье и Шарля Кресана, изготовлена в XVIII веке. Секретер у противоположной стены не отличался ни древностью, ни изяществом, но в нем великое множество ящичков и тайничков, запираемых ключами разного размера и формы, от темной латуни до седого серебра. Этот секретер с коваными краями и претенциозными завитками в форме листьев аканта, сделанный из дерева с забавным названием «птичий глаз», был вещью некрасивой, тяжелой и полезной. Он задержал взгляд на красном плюшевом диване между окнами, напротив дверей, потом перевел его на свои руки, резко выделявшиеся на белизне скатерти, еще раз взглянул в сторону, за световой круг, где на верхней полке буфета сиял небольшой белый сосуд благородной формы. Наконец, взглянув на женщину, тряхнул головой, как если бы хотел сказать: «Ну ладно, теперь говори, что собиралась», а она, разморенная сном, теплом, вся в пастельных тонах, улыбчивая, но не смеющаяся, произнесла тихим голосом, в котором пульсировали нетерпение и счастье:
— Может, это неразумно, Макс, но я схожу за Ежиком. Ничего не случится, если я его разбужу и приведу сюда.
— Уже ночь, — отозвался он тихо и вновь опустил голову.
— Ничего страшного, Макс. Только на минуточку.
Он так и не взглянул на нее, только кивнул головой, а когда она вышла, отодвинул тарелку и чашку с недопитым чаем и закурил.
Слуга поставил перед ним бронзовую пепельницу. Повернув голову вправо, он нашарил взглядом вазу из майолики в буфете, а выше, над ней, миниатюрную греческую амфору.
Несколько минут спустя женщина вернулась с четырех- или пятилетним мальчуганом в ночной рубашке и в заячьей шубке, накинутой на плечи. Она подтолкнула его к мужчине, а сама, оставаясь в тени, произнесла:
— Ты только погляди, Ежик, кто приехал.
— А кто? — спросил мальчик, с такой ясностью воспринимая окружающее, точно его не вытащили только что из кроватки.
Женщина склонилась над ребенком, все еще смотрящим на нее, и сказала:
— Ну а сам-то ты как думаешь?
— Не знаю, — ответил мальчик, не глядя на сидящего, — может, папа.
Женщина рассмеялась и, поцеловав в головку, про-шептала:
— Правильно. Папа приехал. Издалека.
Мальчик вошел в круг света, их взгляды встретились. Мужчина вытянул руку, словно хотел погладить ребенка или, возможно, прикоснуться к нему, но тот был далеко, и рука повисла в воздухе. Мужчина вновь повернул голову и вновь посмотрел на скатерть, а про вытянутую руку, казалось, забыл, и она висела в воздухе в нескольких сантиметрах от головы ребенка.
— Добрый вечер, папа, — выдавил из себя мальчик и посмотрел на мать, как бы ища подтверждения, что он сделал все и ему можно вернуться в постель.
— Папа приехал с войны, его не было пять лет, — сказала мать с упреком.
Однако ребенка это не убедило, он повернулся, давая понять, что хочет в спальню. Огромная коричневая ручища, поросшая черным волосом и грозно к нему протянутая, не произвела на него благоприятного впечатления.
— Хочешь лечь? — спросила женщина, садясь за стол, после того как проводила ребенка.
Он только помотал головой.
— Налить тебе чаю, вина?
— Нет, спасибо, — буркнул он в ответ и закурил вновь папиросу.
Женщина подперла голову ладонями и подалась в его сторону. Золотисто-рыжие волосы рассыпались вокруг лица. У нее были светлые глаза и нежный цвет кожи.
— Вовсе даже неплохое вино, — заметила она, — поставляют со склада Гершека из Гамбурга, прямо в бутылках. — Он закивал, потом улыбнулся, не глядя на нее. Она продолжала, уже громче: — Прежде Гершек, как мне думается, обманывал, доливал воды, теперь это невозможно.
Он откинулся, налег спиной на высокую, обитую кожей спинку стула.
— Отчего бы тебе не попробовать еще этого вина?
— Нет, спасибо, — отозвался он, сделав затяжку.
Она вздернула голову, откинула назад волосы и скрестила руки, не убирая их со стола.
— Где-то здесь должен быть твой табак. Еще с довоенных времен. Станислав мог бы приготовить тебе папироску-другую. От твоих такой запах…
Слуга приблизился к столу.
— Ступай спать, — сказал ему мужчина и, глянув на женщину, пояснил: — Это румынские папиросы.
— А как называются?
— Понятия не имею.
Помолчав и упершись подбородком в ладони, она произнесла неуверенно:
— Знаешь, за чаем я посылаю Калину в Брест, опять появился цейлонский. По-моему, он хороший. Это важно. Тебе чай понравился?
— Да, да.
Она полузакрыла глаза и со вздохом прошептала:
— Боже мой, ведь Цейлон — это так далеко, правда?
— Да уж, наверное, — ответил он, поглядывая на буфет.
Он заметил, что слуга еще не ушел, копошится у двери, что-то поправляет. Надо повторить, чтобы тот шел спать, только хотелось, чтоб это сделал кто-то вместо него. Старик не раздражал его, как раз напротив, он был растроган его заботливостью, его собачьей преданностью и потому желал, чтоб тот отдохнул.
— Ведь это Азия, — сказала женщина.
— Не понял, — отозвался он.
— Ну Цейлон — Азия, правда?
— Да, — подтвердил он негромко.
— Ты в самом деле больше ничего не хочешь? — спросила женщина снова.
— Нет, мне ничего не надо. Вот только посидеть так еще немного. — И, обхватив руками край стола, вновь стал всматриваться в мебель и вещи, вот перед ним саксонская гравюра, гобелен, диванчик с позолотой между окнами, затянутыми толстыми красными портьерами.
Тихая морозная ночь разрисовала стекла фантастическими узорами. Сквозь тюлевую занавеску на большом окне в спальню сочился холодный свет. Он откинул голову на сложенную пополам подушку и лежал навзничь, расстегнув на широкой смуглой груди рубашку и прижимая к себе женщину правой рукой, другая его рука скользила взад и вперед по белому краю простыни. Он ощущал еще тепло горячей ванны, распарившей, укрепившей плоть и прогнавшей сонливость. Женщина прижалась к нему своим упругим телом, лицо ее закрывали пряди длинных, распущенных на ночь волос. Он ощущал пальцами плоскую спину с ложбинкой посредине. Его глаза были расширены и неподвижны, губы полуоткрыты, и время от времени он облизывал их кончиком языка. Его тело застыло в оцепенении на шелестящей простыне, грудь поднималась и опускалась в такт размеренному дыханию. Откинутая в сторону левая нога касалась деревянной спинки кровати, правая, согнутая в колене, была прижата бедром женщины. Ощущая ее тепло, глядя через окно на расплывчатые, но четко очерченные ветки, покрытые ледяной коркой, он представлял себе мысленно тела всех женщин, которых в течение этих пяти лет, пока его не было дома, он обнимал точно так же, как обнимает сейчас жену, и точно так же их тела отдавали ему свое тепло и выделяли похожий запах. Настя — великанша казачка, столь огромная, что в кровати лежала наискосок, красивая и печальная, с диким лицом, почти индианка. Солдатка Настя, ожидающая мужа с надеждой и любовью, но без верности. Раиса Шомбург из Саратова, толстая и вульгарная, но исполненная сексуальных соблазнов. Какая-то то ли Галина, то ли Фелина в какой-то гостинице, может, еще в России, а может, уже на Украине, а еще раньше Иоанна, некрасивая интеллигентная полька, вдова полкового товарища, вымаливающая нежности и тепла перед теми холодными днями, которые ее ожидали. Все похожие, и все разные, не более и не менее близкие, чем собственная жена, одарившие тем же наслаждением и столь же глубокой тишиной после любовных утех.
Первая ночь дома. Чистая постель, тепло, запах сосновых поленьев, тишина. Вот именно, тишина! А тот юноша, с которым он делил удобства поездки в изысканном автомобиле, — приобщился ли он к тишине в ночном Париже? Провел ли он свою первую ночь на бульварах, купаясь в холодном зимнем тумане, и появилось ли у него точно такое же ощущение, что в этой тишине, в этом покое, в безопасности кроется нечто неподвижное, могильное, пугающее?
Он шевельнул рукой. Женщина подняла голову и спросила:
— Почему не спишь?
— Думаю, — ответил он.
— Обо мне?
— Да, и о тебе тоже.
Она опустила голову на подушку и, подтягивая к подбородку одеяло, поскольку в комнате становилось холоднее, прошептала:
— Это всегда так, годы, века…
А он ничего не ответил, не пытаясь даже вникнуть в ее слова.
Он принялся разглядывать потолок, с левой стороны тот был светлее, освещаемый, вероятно, сквозь замерзшее окно месяцем, а справа — темный и размазанный.
— Тебе нравятся мои волосы? — спросила она минуту спустя.
— Да, хорошо пахнут.
— Они были такие же, когда ты уезжал?
— Не помню. Пожалуй, чуть светлее.
Тогда она рассмеялась и, приподняв пальцами кончики прядей, принялась их рассматривать.
— Я их подкрашиваю. Достала английскую краску «Beauty Callandar Hair».
— Что значит «Callandar»?
— Понятия не имею.
Она положила подбородок ему на плечо. Провела рукой по обнаженной груди, по подвижной косточке между ребрами, по животу.
— Ты похудел, — сказала она. — Стал более мускулистый, чем раньше. Живот прирос к позвоночнику, его просто нет. Рука жесткая, и весь ты смуглый-смуглый. Даже не представляешь, как мне тебя недоставало. Пять лет — это очень много.
Потерлась носом о его грудь, щекоча волосами. Он вздрогнул, вытянул ноги. Закрыл глаза.
Она повторила:
— Пять лет — это очень много для женщины. Для молодой женщины.
За окном, откуда-то из глубины парка, на него неслась в абсолютной тишине золотая колесница, увешанная щитами, но, не домчавшись, лошади сами собой распряглись, разбежались в разные стороны, и лишь их длинные, пышные хвосты развевались еще в стальной морозной ночи, а колесница, пустая, без возницы, пролетела мимо. Он отодвинулся от женщины, но она этого не почувствовала — заснула. Он задремал, и неведомо, то ли из ночи, то ли из сна выкатилась, набирая скорость, еще одна вооруженная колесница.
Хмурое, но морозное утро. Он сидит за круглым столиком, внесенным в спальню вместе с завтраком. Шлафрок из жесткой, неприятной ткани натирает шею. На льняной салфетке чайничек с кофе, гренки, творог, мед и повидло. Женщина, уже одетая и позавтракавшая, сидит возле на коричневом пуфике и качает ножкой. На ней серо-пепельное платье чуть ниже колена, он видит ее крепкие ноги и полноватые щиколотки. Когда он отправлялся на войну, она носила еще длинные платья. Вот уже несколько минут она тараторит о хозяйстве, а он кивает, время от времени потирая тыльной стороной ладони красные от недосыпа глаза. Он очень устал.
— Ты должен во что бы то ни стало поговорить с Лабиновским. Решишь, разумеется, сам, менять его или нет, по-моему, Лабиновский — это старая калоша. Надо еще подумать о фольварке в Тудорковицах. Пруды шестой год не используются; продать или сдать в аренду? Надо еще…
Она была самоуверенна, говорила громко, тем самым тоном, который еще несколько лет тому назад его забавлял, в обществе друзей приводил в смущение, но никогда не раздражал. Было скорее смешно, чем противно. Теперь же этот бесцветный голос, агрессивный, почти вульгарный, хорошо различаемый вблизи и скверно издали, поскольку в нем отсутствовали оттенки и звучность и расстояние его гасило, показался ему чудовищным. Еще он заметил, что при дневном свете лицо у нее не такое гладкое, на лбу прыщики, а щеки слишком румяные. Ее восхитительная некогда фигура словно осела, плечи опустились к бедрам, на животе, стоит ей сесть и податься вперед, образуется складка, заметная под облегающим платьем. Вскоре он перестал ее слушать. Мыслями был где-то далеко, и, глядя на творог, на разобранную, смятую постель, на крохотные, незнакомые ему чашечки из тонкого фарфора, на зеленый жесткий халат и суконные неуклюжие туфли, которые мешали ходить, он испытывал впечатление, что все это выдумка, нереальность.
В полдень, все еще в ночной рубашке и в халате, он спустился в кабинет и стал просматривать бумаги. Управляющему велел явиться в час. Листал бухгалтерские книги, перебирал квитанции, авансовые письма, векселя, помечая что-то в них плоским химическим карандашом, который то и дело вываливался из пальцев. Через полчаса он встал и принялся разгуливать по кабинету. Стена, четыре шага и двери, затем двери, четыре шага и стена, затем два шага к окну и пять к секретеру, заваленному бумагами, затем снова дверь и четыре шага до стены. Потом он остановился у окна. Сунул руки в огромные, похожие на мешки карманы шлафрока и свесил голову на грудь. Постоял неподвижно минут пять-десять и вдруг, точно что-то припомнив, вышел из кабинета.
Вернулся с миниатюрной греческой амфорой, которая вчера привлекла его внимание. Этой вещи он никак не мог припомнить. Крохотный сосуд, почти полностью умещается в ладони, однако сколько в нем изысканности, какие совершенные пропорции, радующие глаз. Резким взмахом руки он сдвинул бумаги. Некоторые полетели на пол, из картонного ящичка посыпались карточки со столбцами выписанных каллиграфическим почерком цифр. Он поставил амфору на дальний край секретера и, наклонив голову, еще раз оглядел. Затем вынул из ящика несколько тетрадей, положил друг на друга, амфору поставил сверху. Подошел к окну и пошире раздвинул шторы. Сел в кресло, положил руки на стол и опустил на сплетенные ладони подбородок. Еще раз посмотрел на миниатюрный сосуд и безмятежно улыбнулся. Тут вошел управляющий. Явился точно в назначенный час и принес с собой запах мороза и здоровья. Внешность непримечательная — та же, что у всех управляющих, которым под пятьдесят.
Едва переступив порог, тут же затарахтел, расхвастался, пустился объяснять какие-то промахи, сыпал заверениями в верности, клялся, что хозяин ни капельки не постарел, даже наоборот… а уж плечи какие — чистый медведь, как свистнет саблей, сохрани Господи! Кобылка в порядке, не перестоялась, шельма, конюхи ее объезжали. Благодаря предусмотрительности хозяйки кобылку не реквизировали, а вообще-то реквизировали много лошадей. Брали в основном немцы, но и русские тоже несколько штук прихватили. Народ подраспустился, нужна твердая мужская рука. Бродят тут социалисты, агитируют, хотят провести реформу, сукины дети. Пруды как пруды, сейчас зима, замерзли. Два раза был неурожай, два раза уродило. На прошлой неделе хряки подлезли под забор, да и уволокли его в лес целиком, двух штук так и недосчитались, не иначе как мужики их зае. . ., забить бы теперь хоть часть, а остальных — в феврале на ярмарку. Озимые нынче вроде бы хорошо поднялись, ничего не скажешь, да вот плуги затупились, черт их знает, из-за войны, что ли. Дерти пока, слава Богу, хватает, сена даже в избытке. Капусты наквасили, огурчиков насолили. Помещики в округе кто как живет. Недавно пан Пашкевич с паном Дембогурским нанесли хозяйке ответный визит, банк какой-то хотят основать, земский, само собой разумеется. Весной, если Бог даст, телят на сгон отправят…
Он опустил голову и слушал, довольный тем, что самому говорить не приходится, слушал с надеждой, что, может, так оно и кончится, что не придется задавать вопросов, которые могли б оказаться щекотливыми и для него, и для управляющего и вызвали бы по принципу цепной реакции новые вопросы, те в свою очередь ответы, опять вопросы-ответы, и так по кругу, но нет, еще несколько минут, и он сможет сказать: «Хорошо, очень хорошо, спасибо вам, пан Лабиновский, это все». Прозвучит это естественно, и управляющий не найдет в молчании ничего подозрительного, ничего такого, что могло бы угрожать достоинству и независимости их обоих. Успокоенный всем этим, он всматривался в копию явившегося сюда из далекой древности миниатюрного сосуда, кто знает, может, созданного веков тридцать назад, копия сделана безукоризненно, обожгли легкую глину на потребу наивных и жаждущих впечатлений туристов. Вещица обычная, пустяковая, сувенир от поездки на юг, стоит не более, чем скромный обед где-нибудь в таверне, не более, чем бутылка столового вина, может, и меньше, но вся она дышит очарованием. Не это, однако, привлекло его внимание. На амфоре был рисунок, с одной стороны черный на белом фоне, с другой — наоборот, представляющий охоту юноши на оленя. Юный охотник поразительно напоминал мальчика на картине в одесском ресторане. Та же непередаваемая стройность, та же согнутая в колене приподнятая нога, та же резвость и то же самое ощущение бега из ниоткуда в никуда. У юноши с луком за плечами и с полным стрел колчаном на боку было такое же треугольное лицо с равнодушными глазами-миндалинами; разбежавшись, он не бежал, прыгнув над невидимым препятствием, он зависал в воздухе, безвольный и динамичный. Из бездны времен, где он заблудился вместе с охотником, его вызвал настойчивый голос управляющего, который, как ему показалось, задал вопрос и теперь ждал ответа. Теперь, уже совершенно отчетливо, до него донеслись слова: лес, Ренг, рубка, Либерсбах, дерево, тес, деньги. Что значит тес? Что значит Либерсбах? Это наверняка фамилия, довольно забавная. Мгновение спустя ему вспомнился лес в Ренге, даже то место, где перед самой войной в теплый зимний день он подстрелил косулю, мчавшуюся на него прыжками с выражением ужаса и надежды в больших влажных глазах. Завывающие собаки наполнили лес угрюмым реквиемом.
Управляющий вновь повторил: лес, рубка, Либерсбах, деньги, а он в знак одобрения покивал головой.
В ту же секунду его внимание привлекла змейка из пепла, образовавшаяся в пепельнице от догоревшей папиросы. Плотная, кольцеобразная, цвета птичьего помета. Он тронул пальцем и почувствовал ее гладкость, мягкость, хрупкость. Змейка распалась. Он провел пальцем по донышку пепельницы, и изящный завиток превратился в бесформенную кучку. Откинувшись в кресле, он дунул, и все полетело на заваленный бумагами стол. Управляющий вновь что-то сказал, а он вновь закивал и минуту спустя, уставясь в стену, где висели крест-накрест два шведских палаша, в ответ на вопрос, который прозвучал во второй, а может, и в третий раз и повис между ними, как остановленный в полете теннисный мячик, произнес вполголоса:
— Ну, разумеется, сено.
Управляющий засопел, и запахло чесноком.
— Осмелюсь доложить, скорее, солома.
— Отчего же?
— Сеном не покроем.
Он окинул управляющего взглядом своих стальных глаз снизу вверх, так что высокий лоб с залысинами, обрамленный серебряными волосами, свившимися от влажности в колечки, покрылся жирным, как масло, потом.
— Чего не покроем?
— Так ведь я же сказал, — повторил с отчаянием управляющий, — конюшни и хлевов. Крыши протекают. Надо крыть с весны, и крыть соломой. А солому надо купить.
— Ничего не имею против, — ответил он, крутя между пальцами карандашик.
— Ну а вы говорите «сено». — Управляющий отер лицо бараньей шапкой.
Он остановил движение карандаша и, повернувшись в сторону стола, громко сказал:
— Вы превратно меня поняли, пан Лабиновский, я уверен, что сказал «солома».
— Пожалуй что и так, — завершил первую часть разговора управляющий.
Он вновь перевел взгляд на стену.
Кто-то трогал палаши. Один из них, тот, с гардой, обращенной в сторону секретера, висел ниже, чем надо, и перекрещивался совсем не в том месте с острием другого. Он вытянул ноги и, сдвинувшись в кресле, указал на рассыпанные по полу карточки:
— А это что такое?
— На полу? — спросил управляющий, моргая.
— Ну да.
Управляющий нагнулся и заглянул под стол.
— Сейчас, сейчас, — засопел он, негромко рассмеялся, украдкой взглянул на хозяина и осекся.
Долго рылся по карманам, пока не извлек из-под полушубка маленькие очки в проволочной оправе с одним стеклом. Завел за уши дужки, прищурил глаз и наклонился ниже, опершись рукой о пол и выставив широкий зад, к которому прилепился скользкий желтый листик.
— О-хо-хо, — выдавил из себя управляющий. Взял одну из карточек в короткие толстые пальцы, то же самое сделал со второй, потом с третьей.
— Так что же это, пан Лабиновский?
— Понятия не имею, — ответил управляющий.
— Бухгалтерию ведете вы?
— Ну, когда был администратор, то есть пан Ельяшевич…
— Но ведь администратора нет уже три года. Кто ж в таком случае занимается бухгалтерией?
— Ну, я… — просопел управляющий, глядя сквозь стекло, мутное, словно замазанное засохшим молоком. Другой его глаз закрывало веко без ресниц. — Похоже, какие-то цифры.
— Это я и сам знаю. — Он вновь взял карандашик и стал равномерно постукивать им о груду лежащих на столе бумаг.
Управляющий пожал плечами и произнес:
— Цифры, записанные в ряд, может, счет, а может, карточный долг. Запись карточной игры, преферанса, что ли… — Он провел рукой по волосам и спросил, указав на большой картонный ящик: — Он из этой коробки вылетел?
Хозяин отбросил карандаш и поднялся с кресла. Подошел к окну.
— Так я соберу, — сказал управляющий, сделав шаг к столу.
Рогойский, не глядя, ответил:
— Оставьте. Станислав приберет.
— Станислав все перемешает.
Он выглянул в окно и сказал:
— Зима, пан Лабиновский.
— Зимушка-зима, — отозвался управляющий.
Рогойский сунул руки в карманы шлафрока и, все еще не поворачиваясь, спросил:
— А вы здоровы?
— Да, слава Богу, пока здоров.
Он отошел от окна и спросил, подойдя вплотную, так, что на него пахнуло чесноком и горячим бараньим полушубком:
— А довольны вы жизнью?
Управляющий усмехнулся и, переступая с ноги на ногу, ответил тихо и покорно, с беспокойством в глазах:
— Спасибо милостивой пани и милостивому пану, концы с концами свожу!
Он снял со стены один из палашей и рубанул наотмашь, только воздух свистнул. Потом стал в позицию, оперся свободной рукой о бедро и, выставив вперед правую ногу, выдавил из себя то ли шепотом, то ли хриплым криком: «Allez!»[9] — и сделал короткий выпад.
Шлафрок распахнулся, и открылась длинная рубаха, до самых щиколоток. Он уперся острием палаша в стол и подвернул полы шлафрока за пояс, отчего обозначились узкие бедра и тонкая талия.
— Ну, — проворчал он, — собирайте бумаги. — И вышел из кабинета.
Но едва ступил за порог, тотчас вернулся, схватил миниатюрную амфору и проворным воровским движением сунул в карман. Когда он шел по холодному коридору, в конце которого была лестница, ведущая в верхние комнаты, к нему подбежал управляющий, уже в шапке, и проговорил со стоном:
— А что же с делами, какие будут распоряжения?
— Распоряжения, говорите? Во-первых, забирайте из кабинета все квитанции и все остальные бумаженции и никогда больше мне их не приносите. Во-вторых, я себя не очень хорошо чувствую, и сегодня, и вообще. В-третьих, сами видите, пан Лабиновский, мне надо одеться, уже день, а я все еще в халате.
Он распахнул высокую белую дверь и прошел через гостиную. Мальчишки в буфетной прижались к стенке и, не отнимая ног от суконок, которыми натирали пол, с любопытством рассматривали незнакомого мужчину, прошлепавшего мелкими шажками в больших, не по ноге, туфлях за высокую дверь в другую комнату.
Четыре часа дня. Он сел обедать; на первое протертый гороховый суп, затем печеный карп с маринованными вишнями, свиные котлеты с картофельным пюре и свежим салатом. На нем шерстяной пиджак, просторные брюки, которые держатся на подтяжках. Пристежной воротничок, нестерпимо жесткий, вонзается в шею. Жилет топорщится, и при взгляде на собственный живот ему кажется, что под одеждой притаилось нечто распластанное, прильнувшее к телу наподобие зверька, забравшегося под жилетку, которую, кстати, он никогда не любил носить. На шее черный бархатный галстук.
Едва он поднес к губам ложку с супом, как тотчас раздался все тот же нестерпимо громкий, монотонный голос:
— Я рада, что ты решил с ним поговорить в первый же день. Он всегда тебя побаивался, а теперь, когда ты в ореоле славы и мученичества вернулся с войны, он просто перепуган. Со мной, к сожалению, он не всегда считался. Не все поручения выполнял в точности, кое-что понимал превратно — тогда, разумеется, когда ему это было на руку. Иногда прикидывался дурачком, и очень даже искусно. Он ленивый, неаккуратный. Неисполнительный, неэнергичный. Не спрашивая с себя, он не спрашивает и с других, распустил батраков дальше некуда. Словом, разиня и болван. Еще раз скажу: это твое дело, решать тебе самому, но, будь я на твоем месте, я б поискала другого управляющего.
Посреди стола, между блюдом с рыбой и салатницей с овощами, поместился серебряный подносик с графином водки и хрустальными рюмками. Он отставил тарелку с недоеденным супом, потянулся к графину, наполнил рюмку. Подержал какое-то время на уровне рта, затем энергичным движением выплеснул содержимое в глотку. Семидесятипроцентный, прекрасно очищенный самогон наполнил тело роскошным теплом, растекся по всему телу.
Женщина, выжимая над карпом лимон, заговорила о том, что пора искать для мальчика гувернантку. Несколько месяцев назад она дала объявление, точно определив условия и обязанности, и получила несколько предложений, два из которых кажутся ей достойными внимания. Первое — миссис Мак-Нейм, шотландка, вдова британского офицера. Несколько лет провела в Индии. Может учить Ежика языкам, географии и арифметике. Человек она материально независимый, и к приезду ее склоняет желание узнать страну и познакомиться с интересными людьми. Потеряв мужа, она чувствует себя в Шотландии одинокой. Другое — особа двадцати двух лет из Швейцарии, по-видимому, хорошенькая, судя по фотографии, которую прислала. Зовут ее Шютц, Берта Шютц. В совершенстве владеет немецким и французским. Есть рекомендации от хорватской семьи, где она работала в прошлом году в каком-то альпийском городке.
Жена поинтересовалась его мнением. Но он ничего не ответил, анализируя причину, почему маринованные вишни, украшавшие карпа, разлетались в разные стороны, стоило лишь нажать на его мякоть вилкой, и пачкали скатерть, оставляя красные пятна. Он вновь исследовал этот вопрос, нажав еще раз, теперь уже осторожней, но две-три вишни опять вылетели на стол. Некоторое время он раздумывал, не повторить ли опыт, но потом, взяв пальцами несколько вишен, решил в конце концов бросить их в пустую рюмку из-под водки. Слуга отреагировал и забрал рюмку, поколебавшись немного, и вышел из столовой, застигнутый, вероятно, врасплох необходимостью принять решение, которое в его многолетней практике было чем-то необычайным.
— Мне думается, — проговорил он вполголоса, тщательно подбирая слова, как бы с трудом составляя фразу, — мне думается, мысль прекрасная. Пожалуй, миссис Мак-Нейм, или как там ее, — наиболее подходящая кандидатура.
— А фрейлейн Шютц? — спросила женщина.
— Разумеется, тоже, — ответил он, и в этот момент вернулся слуга — с такой миной, точно собирался сообщить, что только что вынес ночной горшок и что это пришлось ему сделать во время обеда.
— Необходимо, однако, выбрать одну из них, — заметила женщина.
— Я тоже так считаю, — отозвался он, исследуя рыбу.
— Поначалу гувернантку можно поместить на втором этаже. А со временем устроить во флигеле.
— Полностью с тобой согласен, — отозвался он и жестом дал понять, что тема исчерпана.
Она уловила его настроение и переменила тему:
— Нам надо непременно навестить дядю Мечислава с женой. Не сегодня и не завтра, разумеется, но вот, скажем, в воскресенье. Можно поехать к ним на чай.
Он пожал плечами. Отодвинул тарелку с рыбой, оперся локтем о стол и, согнув руку, прижался губами к тыльной стороне ладони. Руки у него были красивые — смуглые, широкие, с длинными пальцами. Они пахли одеколоном. Взгляд скользил, как и в ночь приезда, по комнате с предмета на предмет, с детали на деталь, и он пришел к выводу, что комната уменьшилась в размерах, потому что ее загромождала мебель, хотя и красивая. Вот, к примеру, консоль у стены или, скажем, диван в простенке между окнами сами по себе вещи нарядные, но портят столовую, они здесь не нужны, выставлены словно напоказ, и оттого их красота теряется.
Едва он было собрался что-то сказать по этому поводу или хотя бы намекнуть, поделиться своими наблюдениями, как вдруг услышал:
— Дядя и тетя частенько спрашивают о тебе. Будут очень рады, если появишься. Недавно, кстати, они угощали меня вкуснейшими грушами под бешамелью. Не более получаса езды, дорога хорошо наезженная.
Слуга, поставив перед ним нагретую тарелку, торжественно положил картофельное пюре и две котлеты, а на другую тарелочку, поменьше, — салат. Сделал шаг назад и, склонив голову набок, высокий и тонкий, похожий на седого журавля, указал глазами на графин. Хозяин решительно затряс головой, и его продолговатые, длинные пальцы порхнули в воздухе, как у индийской танцовщицы.
— Знаю, ты к ним никогда не был расположен, — продолжала женщина, — но они славные люди. Надо сказать, что тетка — женщина большого ума. Так, во всяком случае, все считают.
Он взял нож и вилку. Отрезал изрядный кусок шницеля, взгромоздил на него пирамидку картофельного пюре, потянулся правой рукой к салату. Повесил на кончик ножа светло-зеленый хрупкий листок, обильно смазанный сметаной, и закинул на вилку, прикрыв им мясо и картофель. Чуть подержал вилку в руке и сунул в рот. Когда он проглотил эту порцию и вознамерился соорудить вторую, он заметил, что слуга не спускает с него глаз, следя за каждым его движением. «Почему ж это, черт возьми, он так на меня уставился? Что удивительного обнаружил во всем этом?» Глянул на женщину, и ему показалось, что и она, отведя глаза, опустила смущенно их в тарелку. Вновь наложил себе такую же порцию и вновь, отправляя пищу в рот, проследил за взглядом слуги. «Либо они нашли во мне нечто забавное, чего я сам не вижу, либо я делаю что-то не то», — пронеслось у него в голове. И потому, услышав голос жены, почувствовал облегчение.
— К Самротам, я полагаю, ты поедешь с удовольствием. Старик только и занят охотой. Имение, разумеется, разорено, а Леон вырос красивым мальчиком, что-то в нем есть восточное. Он сейчас в том периоде, когда молодые люди заняты лишь тем, что соблазняют горничных и батрачек.
— Это замечательно, — сказал он, перестав жевать, — это замечательно, что у него такое полезное занятие.
— У кого? — спросила жена, удивленная, и тоже отложила нож и вилку. — У Леона или у старика?
— Да у обоих, — ответил он. — Мне приятно, что оба заняты любимым делом. — И он вытер губы салфеткой.
— Почему больше не ешь? Невкусно?
— Напротив, великолепно.
— Ну так в чем же дело?
— Нет аппетита. К тому же столько еды… Я привык, знаешь, есть понемногу.
— Десерт будешь?
— Нет, спасибо.
— Но ты даже не знаешь, что на десерт.
Он улыбнулся и, скрестив руки под подбородком, негромко произнес:
— Я больше не смогу проглотить ни крошки, даже если это творожник с шоколадной подливкой.
— Ты угадал! Как раз творожник, — отозвалась она тоже с улыбкой. — Тогда кофе. — И бросила взгляд на слугу. — Будьте так добры, Станислав, подайте…
Но он сказал, поднимаясь:
— Кофе я выпью в библиотеке. Мне надо кое-что там посмотреть. — И, обращаясь к слуге, пробурчал: — Принесешь туда кофе, коньяк и приготовишь сигару.
В библиотеке он подошел к стеллажу с книгами, уверенно достал одну из них, толстую, в белом полотняном переплете, извлек спрятанную за книгой в глубине тетрадь, полистал ее, затем, открыв на первой странице, сел в кресло. Лакей вынул меж тем из столика красного дерева небольшое металлическое приспособление, похожее на локомотив в миниатюре, натянул на правую руку белую перчатку, извлек из картонной коробочки толстую гаванскую сигару, вставил в специальный футляр и крохотной гильотинкой обрезал кончик. Дважды проколол сигару шильцем и, зажав металлическими щипчиками, разогрел на сероватом пламени, которое вырвалось из спиртовки, едва он поднес к ней спичку. Минуту спустя погасил огонек и вновь проколол сигару, на этот раз вдоль. Подавая ее в щипчиках, проговорил:
— Извольте, ясновельможный пан, — после чего вышел из библиотеки. Вернулся с кофе и пузатой бутылочкой коньяку. Оставил все на столике по правую руку от кресла и тихо притворил за собой дверь.
Было уже около пяти, в библиотеке сгустился сумрак, но хозяин не зажег лампы и, всматриваясь в первую страницу тетради, что-то бормотал про себя. Пыхнув сигарой, он откинул голову на кожаную спинку кресла и заговорил громче. Будь в эту минуту в библиотеке еще кто-то, ему б удалось разобрать лишь отдельные слова, да и то при условии, что он тщательно прислушался бы, вылавливая звуки из сероватого зимнего сумрака.
«На следующий год после того, как восстание, прозванное по месяцу, в котором оно началось, Ноябрьским[10], потерпело поражение, на землях между Бугом и Стырью, в деревне Лына, расположенной на полпути из Пинска до Бреста, появился то ли из Бессарабии, то ли из Трансильвании, а может, из Словакии полудикий, неграмотный человек по имени Рог, Рогий или Рогой, прозванный так, возможно, в честь воловьего рога, ибо его делом было перегонять скот, столь же дикий, как он сам, по горам, рекам, степям, по бездорожью, и человек этот был моим прадедом, и, хотя нас разделяет не так уж много лет, о его происхождении я более ничего не знаю. Знаю только, что человек он был молодой, не имел никакого имущества и за темные волосы, глаза и смуглую кожу был прозван Вороном. Бог свидетель, я завидую тем, кто может углубиться не только в минувшие годы, но и в века. О, как я завидую им…»
Он закрыл тетрадь и, положив ее на столик, вновь глянул на обложку, где каллиграфическим детским почерком было выведено: «Хроника моей семьи. Наброски». А внизу стояло: «Каникулы, лето 1903 года».
Сунул сигару в пепельницу и, утопив тяжелые полуботинки в теплый пушистый ворс ковра, опустил веки. Он спускался в глубины собственного существа, все ниже и ниже, сходясь и расходясь, как луч света, который, выбрызнув из источника узким пучком, по мере удаления расширяется и охватывает все новые предметы и пространства, чтобы замкнуться в конце концов в сияющем круге и овеществиться в том, что было недавно им вырвано из мрака бездны. Если б не снег за окном, в котором отражалось мерцание раннего месяца, в комнате было б совсем темно.
— В самом деле, так оно тогда и было, иного себе не представишь, разница могла быть лишь в деталях. И если отвлечься от всех этих мелочей, из которых творится история отдельных людей, семей, стран, народов и цивилизаций, то можно принять такой или почти такой ход событий.
Хотя, с другой стороны, молодой человек мог с тем же успехом прибыть из Сербии или из Боснии, даже из Черногории или Семиградья, а то и из Венгрии. Только наверняка он не мог появиться с севера, с востока и с запада. Не прибыл он в эти места, исхлестанный морозным курляндским ветром, опаленный волжским солнцем, нет, он пришел с юга, однако этим югом была не овеянная древностью Эллада, не многолюдная Италия, не изысканная и прекрасная Далмация.
Имя ему могло быть Рог, Рогий или Рогой не по причине воловьего рога, а по названию той местности, где он родился, а может, так звали его отца, деда и прадеда, а те могли и не иметь дела со скотиной, так же как, скажем, не были лесорубами или смолокурами. В Лыне могли прозвать его и Цыганом, мало того, и Вороном и Цыганом одновременно, но тот, кто передал потомкам рассказ, называл его Вороном, может, зная, а может, не зная, что иногда звали его по-другому.
Весьма возможно, что этот человек прибыл весной или летом, что на нем была крестьянская свитка, перехваченная веревкой, и брюки наподобие кальсон, весьма возможно, что он прибыл осенью или зимой и красовался в бараньем полушубке мехом наружу. Одно лишь не вызывает сомнения: этот человек прибыл, ничего при себе не имел, был очень молод и остался. Он был пастухом, точнее, погонщиком, ходил с кнутом или с бичом. Вероятнее всего, прибыл сюда вместе со стадом, иначе ему незачем было забираться в эту холодную и хмурую округу, и, уж вне всякого сомнения, этот скот был не его собственностью; и он пришел наверняка не один, но лишь он один наверняка остался. Очаровал ли его взор здешней красотки? Это, разумеется, как и прочее, не исключено — но малоправдоподобно. Он был бродягой и потому, надо думать, в смысле женских чар закалился. Если, однако, все случилось из-за любви, то отчего же он не поддался чарам в тех краях, где красота женщин не единственное их богатство, а позволил себе увлечься в той стороне, где ни в чем, включая и женскую красоту, нет яркости и обилия? Может, проигрался в карты и не было возможности откупиться, так что его патрон махнул на него рукою?
Может, обуяла его лихорадка, или свалил приступ наследственного сифилиса, или же истерзала балканская разновидность малярии, столь распространенная к югу от Карпат, может, болезнь была не такая уж экзотическая — обычный насморк или местный гриппок? Стоит принять во внимание и несчастный случай, который в общении со скотиной, да еще одичавшей, отнюдь не редкость. Ребра, поломанные внезапным ударом бычьих рогов, рука, вывихнутая оттого, что животное сделало рывок как раз в то мгновение, когда его валили наземь, чтоб заклеймить до или после продажи. Или же неприятная разница во мнениях между ним и деревенским здоровилой после двух кварт арака в сельской корчме? На каком все-таки языке могла быть выражена эта разница во мнениях, чтоб стать вполне понятной и оттого столь неприемлемой для обоих? И отчего это в результате спора молодой мужчина, гоняющий каждый день полудиких быков, пострадал в схватке с представителем малорослого племени, которое с детства снедают ревматизм и болотная лихорадка?
И было ли потом все так, как рассказывал лесник Кузьма: полгода его выхаживала крепостная баба по имени Фекла, как и он, молодая, но замужняя, солдатка, здоровая и крепкая, однако собой образина; или же так, как сообщала доживающая сотню лет на диво бодрая шляхтянка Аделаида Гонсовская из деревни Гонсов, которая утверждала, что женщина эта — крестьянка, жила в фольварке Ренг, иначе говоря, была она свободная, прибыла еще девочкой издалека, может, даже из-под Кобрыня, красивая, как сама Пресвятая Дева, и звали ее Зофья? Или же, как при каждом случае не уставал твердить кузнец Спиридон Бартошевич, она была не деревенская, а городская, аж из Пинска, ходила во всем красном, грешна была и до свадьбы, и после и оттого померла еще в молодые годы.
Так или иначе, то не была ни жгучая брюнетка из-за Карпат, ни стройная и тонкая в талии украинка, ни ширококостная молочно-белая литвинка, а была баба приземистая, широкая в бедрах, круглолицая, вроде и косоглазая — одним словом, из этих краев, такая, а не иная, пусть даже она была из Пинска и напоминала кому-то образ кобрыньской Богородицы. Бесспорных фактов слишком мало и они столь невесомы, что цельной картины ни за что не построишь. Истоки этого рода, хоть и близкие, подернуты мглой, как бывает с рассветом, предшествующим знойному дню.
Весной следующего года новоприбывший — Рог, Рогий или Рогой, — прозванный местными жителями Вороном, еще изможденный и слабый, провалявшись полгода на сеннике в тесной горенке курной хаты, не слишком нежно попрощался со своей опекуншей, что, принимая во внимание последний вариант ее внешности, вряд ли можно поставить ему в вину, взял бич или кнут и двинулся на восток в направлении Волыни, потом свернул на юг, в сторону подольских взгорий, а полгода спустя вернулся, гоня перед собой несколько коров и быков белой масти, с теми огромными, горизонтально поставленными рогами в полметра, какие увидишь, если поедешь на юго-восток за Плоскирово.
Не исключено, что прав был Спиридон, утверждавший: человек по прозвищу Ворон двинулся не на восток, а прямехонько на юг и вернулся по прошествии года, погоняя не крупных волов, и не белых, а красно-бурых, не добродушных, а злющих, как собаки, тех, что благодаря, худобе, необычайной силе и смекалке — их качествам позавидовала бы и лошадь — годятся как нельзя более для того, чтоб вытаскивать из знаменитой на всю Европу здешней грязи кареты, брички и в особенности еврейские повозки всех назначений. Именно это положило начало его небывалому богатству. Волы белые или красно-бурые, послушные или норовистые, из Подолии или с Тисы, пять голов или пятнадцать — неважно, важно то, что через год или через несколько месяцев человек по прозвищу Ворон вернулся и скотина, которую он пригнал, была уже его собственной.
Где он провел зиму, никто не ведал, зато все, кому было хоть что-то известно на этот счет, все, кто помнил те времена или помнил по крайней мере людей, которые их помнили, да и все врали большего и меньшего калибра, составляющие немыслимые узоры из нитей своей несовершенной памяти, — все они сходились на том, что первую зиму после своего отъезда он провел отнюдь не в Лыне и не в одной из ближних деревень. Как только сошел снег и раскисла та самая знаменитая грязь, он появился вновь, малорослый, худой, черный, раздавшийся в плечах, а женщина, которую все окрестные жители стали рассматривать как его женщину, хотя особых поводов к тому он не подавал, обходясь с ней в публичных местах весьма сдержанно, — так вот, эта молодая женщина, девица или солдатка, красавица или уродка, ходила уже с животом. Она ходила с животом, а он весной вновь отправился то ли на восток, то ли на юг и вновь пригнал то ли дюжину, то ли полдюжины волов, может, белых и огромных, может, мелких и красно-бурых, и, когда он вернулся поздней осенью, где-то после Дня поминовения, женщина показала ему сына, он покивал черной кудлатой головой и буркнул: «Яшка». Так ребенка и назвали.
Стала ли она его женой? По всей видимости, да. Кто, однако, их повенчал? По какому обряду? В каком месте? Этого даже люди с самой буйной фантазией не пытались себе представить и никогда не препирались по этому поводу друг с другом, точно так же как бесспорным было и то, что с женой обходился он круто. Об этом говорили спокойно, без эмоций, философски оценивая неожиданные и непостижимые уму дары провидения, уготованные нам жизнью. Он бил ее дважды в месяц, зато изрядно, как о том сообщали те, кто бивал жен чаще. Он не бил ее весной, летом и осенью, потому что его не было дома, зато зимой трудился от души. Через два года у нее не осталось ни одного целого ребра, а позже, как сообщали иные, она даже ослепла. Лесник Кузьма уверял, что всякую свободную минуту он учил ее кнутом, сготовленным из хвоста бычка-двухлетка. Как бы то ни было, соединяющее их чувство не было чувством Тристана и Изольды, Родриго и Химены, Ромео и Джульетты… так можно до бесконечности. Зато рассказы о деловой сфере не были столь единодушны, как молва о семейной жизни. Правда, сходились все на том, что он был трудолюбив, пронырлив и хитер, что много времени в первые годы посвятил скотине, которой что ни год он пригонял все больше, и что затем ту же оборотистость и дальновидность проявил в других делах, которыми занялся. Как бы то ни было, но уже в середине столетия — и это зафиксировано в соответствующих документах и потому, надо полагать, бесспорно — он стал хозяином просторной хаты, где достижения цивилизации и комфорта, как, например, нужник на кирпичном фундаменте, заставляли задыхаться от зависти местных людишек.
Коль скоро мы коснулись проблемы истинности истории, которую воссоздаем, то для упрощения повествования, и не только для этого, посчитаем информацию о событиях в жизни этого человека и его семьи абсолютно достоверной, столь достоверной, сколь достоверным было то, что Юлий Цезарь плешив, что Александрийская библиотека насчитывала несколько тысяч томов, что Петр Великий основал Петербург, Наполеон создал кодекс Наполеона, адмирал Нельсон выиграл Трафальгарское сражение. Возвращаясь к нашему менее знаменитому герою, отметим, что такой подход логически обоснован именно потому, что приблизительно с этого времени, то есть с пятидесятых годов прошлого столетия, рассказы и документы по поводу этой семьи, прежде всего документы, становятся, по причине ее зажиточности, все более многочисленными и обстоятельными. И потому не станем раздумывать насчет заявления того или иного человека на ту или иную тему, обойдем стороной мелкие детали, не будем копаться в пустяках, сознавая относительность и условность любого сообщения, и, выражаясь напрямик, скажем: всякая подробность повествования является абсолютно правдивой и в то же время абсолютно вымышленной. А если кто-либо помнящий те времена или кто-либо, кому кажется, что он еще их помнит, обвинит нас в неосновательности, мы примем упрек с кротостью.
Возвращаясь к двору и хате, добавим, что его усадьба находилась на отшибе, в стороне от прочих хат, столь омерзительно грязных, что внушали отвращение даже тем свиньям, которых гнали порой через Лыну в Антополь, знаменитый своими свиными ярмарками. Вокруг хаты, крытой, правда, соломой, но двойным слоем, притом не какой-то там захудалой соломой, короткой и ломкой, а самой лучшей, какой местные помещики кроют хозяйственные постройки, — так вот, вокруг хаты с крыльцом и лавочкой, где летними вечерами сиживала Фекла, Зофья, или как там ее, если получала на то разрешение, вокруг этой опрятной хаты и хлевов, возведенных из окоренных и просушенных бревен, виднелся огород и сад, где в грунте и в парниках зрели овощи, а кроме того, наливались лучших сортов яблоки, вишни, черная смородина, и даже абрикосы, которые хоть и росли, но все же не созревали.
Тому же самому человеку принадлежал и хуторок, перешедший сначала из рук старой и уважаемой всеми в округе семьи Слонских вследствие весьма неприятных обстоятельств в руки еврея Мохера, а уже из его рук Францишеку Рогою, ибо именно так он в конце концов велел себя именовать, поскольку к тому времени вопрос имени и фамилии был ему небезразличен.
В ту пору его сыну Яшке подходило уже к двадцати, и он, по счастью, ничем не напоминал мать, что, впрочем, с другой стороны, если верить старухе Гонсовской, было достойно сожаления. Яшка мало чем отличался от отца, они были почти одинаковые, похожие друг на друга, несмотря на разницу в возрасте. Невысокие, худые, зато широкие в плечах, сильные, с большой головой, заросшей кудлами густых волос, какими порой зарастают черепа дебилов. Оба неграмотные, но умеющие складывать цифры, умножать и даже вычитать и делить, если появлялась такая нужда. Оба пронырливые, хищные, начисто лишенные каких бы то ни было принципов во всем, что касалось дела, но, когда надо, покладистые и любезные. Своей увертливостью и цинизмом они приводили в изумление даже местных евреев, которые, надо сказать, их от души ненавидели.
У Яшки, при всем его сходстве с отцом, была еще черта, которая отсутствовала у Францишека, а может, он просто ее не выказывал. Яшка был безрассудно смел, а хитрость его носила более, чем у отца, если можно так выразиться, умозрительный характер, была хитростью ради хитрости. Этой черты он не унаследовал, конечно, от матери, бабы вечно напуганной, вечно теребящей дрожащими руками подол, в чьих глазах читались всегдашние опасения — страх быть изруганной, получить пинок, удар нагайкой. Чтоб закрыть эту тему, добавим, что однажды в осенний вечер она так испугалась, что умерла. Произошло это в 1854 или 1855 году, в тот день моросил ледяной, пронизывающий до костей дождь, грязь повсюду была такая, что ни одна фура проехать на кладбище не могла, и ее похоронили непонятно где и непонятно как, кажется, даже без священника. Но то, что она умерла и умерла внезапно, не вызывает никаких сомнений, на этот счет есть документы.
После кончины жены Францишек как бы из упрямства перестал шляться по бабам, Яшка же, наоборот, разошелся вовсю.
Десятью годами позже, когда владения Рогоев, а их можно было уже назвать владениями, поскольку первоначальные приобретения пополнились еще одним хутором, по странной прихоти судьбы принадлежавшим, так же как и предыдущий, старой и весьма уважаемой семье Слонских, — так вот, через десять лет после смерти Феклы — будем считать, что именно таково было ее имя, что, впрочем, не имеет ровно никакого значения, — через десять лет в округе стали происходить вещи, которые не поддавались разумению догадливых Рогоев. Сперва в Бресте, в Кобрыне, в Пинске на трактах и на проезжих дорогах, даже в деревнях и на ярмарках стали появляться элегантно одетые паны, как правило, упитанные и розовые, в тарантасах, запряженных резвыми, откормленными рысаками — несомненно, господскими лошадьми. Эти паны были возбуждены, толковали о чем-то, размахивая белыми, пухлыми руками, иногда говорили вполголоса, иногда переходили чуть ли не на крик. Они заезжали в окрестные имения с какими-то бумагами, не похожими на векселя, расписки или закладные. В имениях их словно бы ждали, бесконечные обычно приветствия у крыльца теперь ограничивались двумя-тремя ничего не значащими вопросами и такими же краткими ответами, после чего гостей препровождали в кабинет и разговаривали до поздней ночи, обычно без дам, затем, угостив наспех ужином, провожали, не оставляя на ночлег.
Рогои не были бы Рогоями, не заметь они всего этого, но понять, осмыслить происходящее они, однако, не могли, и это их малость тревожило, а может, просто выбивало из колеи. Яшка, которому сам черт был не брат, ходил сам не свой. Потом все как бы поутихло, но то была тишина, которая их вовсе не успокоила, отец и сын были слишком бывалыми людьми, чтоб не понять, что тучи сгущаются.
Несколько недель спустя, сперва в лесах, потом в деревнях, на дорогах и трактах, стали появляться какие-то нелепо вооруженные банды: русские винтовки и тут же обрезы, попадались, правда, и вороненые ружья с патронами фирмы Бренеке, и бельгийские штуцера, и американские многозарядные винчестеры. Эти банды не занимались пока грабежами, хотя окрестные мужики рассказывали, что, заходя порой в деревню, требовали еды, а в Ицке разгромили винокуренный завод, надругались над одним помещиком после мессы у самого костела, у другого угнали несколько лошадей, у шорника в Пинске забрали задарма восемь седел, костры жгли на болотах, бродили ночью по лесам, собираясь порой в одном месте. В Лыне несколько раз появлялись жандармы, тоже сами не свои: и ожидающие чего-то, и встревоженные и оттого особенно шумные и нахальные. Яшка сцепился с одним, а тот вдруг — на попятную и подался прочь из деревни, что Яшку и вовсе выбило из колеи. Кой черт? Отбирать или, наоборот, раздавать землю?.. Новые подати будут?.. Царь хворает? Какого дьявола?!
Мужики повеселели, начались разговоры о воле. К помещику в Оцтовой Горе не пошли в четверг на работу, и в пятницу не пошли, а потом была суббота и воскресенье, мужики напились вусмерть неизвестно на чьи деньги, да еще пили не что-нибудь, а арак, ну и в понедельник по этой причине тоже не вышли в поле.
— Содом и Гоморра, Яшка, — проворчал как-то за ужином отец.
Яшка тряхнул в ответ своими кудлами и, сверкнув белоснежными зубами, сказал с яростью, какую рождает у предприимчивых и дальновидных людей неизвестность:
— Содом и Гоморра, отец!
На заборах, на стенах полицейских участков — всюду, где только возможно, налепили каких-то объявлений, но Рогои грамоте обучены не были и не знали, что там написано. Потом появились другие объявления, тоже налепленные где попало, но меньшего размера, напечатанные кое-как, и их Рогои тоже прочесть не смогли. Мужики толковали о рекрутчине, но беспокойства не проявляли. Это также было загадочно, потому что всякий знает: мужик боится солдатчины, как дьявол святой воды.
В торговле наблюдался застой. Евреи жаловались, и Рогои жаловались, и это вроде их сблизило, правда, о симпатии или хотя бы согласии не могло быть и речи, прежняя неприязнь сохранилась, сближение было лишь временным — пауза, чтобы перевести дыхание.
Наконец на исходе марта, когда снега уже потемнели, но санный путь еще не исчез, Яшка запряг в сани вороного жеребца, с которым только он один умел справляться, и отправился на север, в направлении Гродно. Вернулся неделю спустя и, швырнув на лавку с размаху шапку, стаскивая с ног теплые сапоги и обогревая ступни у полуоткрытой дверцы плиты, заявил:
— Чего я знаю, отец! Везде смута, везде заваруха! Гродненские жандармы даже носа не кажут. Банды человек по двести в белый день по дорогам ходят, где конные, где пешие, вооружены дай Бог: пики, рогатины, каждый второй с ружьем, сам не видал, но, говорят, даже пушки с собой возят. Народ молодой, задиристый. Кто они, не знаю, но догадываюсь. Одним словом, паны бунт подняли, да не только у нас. Литва в огне. В Седльцском воеводстве, куда ни сунься, — стычки. А на юге, где мы с тобой волов когда-то продавали, схватились всерьез. Что ни говори, войной пахнет.
— Войной? Какой? — спросил Францишек, подтягивая исподники. Такая уж была у него привычка: лето, зима ли — в хате в одних только исподниках ходил. Да и на улице франтовством он не отличался.
— Паны бунт подняли, — повторил Яшка.
— Против кого?
— Да против России.
— Так ведь там тоже паны правят.
— Видать, другие, — буркнул Яшка и отправился спать.
Потом расцвела дивная всегда в тех местах весна. Несметные тучи всякого рода птиц вили гнезда, вечерами на юг тянулись журавли.
Банд стало еще больше, они никого уже не боялись, и укротить их было невозможно. А когда подошло лето и мужички собрались косить отаву, с востока и с севера пришла армия — сперва кавалерия, потом пушки и пехота, под конец казаки. В лесах стреляли, рассказывали и о сражениях, потом армия ушла, банды пропали, правда, кое-где еще выныривали, но уже такая мелюзга, что даже мужики их не боялись, только, чуть что, цепью в лоб, и порядок. Осенью все бы притихло, кабы казачки не озорничали.
Осенью Яшка пересчитал деньги, и вышло, что их не так уж мало. Кроме рублей были золотые перстни и ожерелья, от которых несло еще парижскими духами, и часы с двойной крышкой. А взялось все это вот откуда: неведомый старичок летом, еще задолго до жнив, притащил Яшке каких-то железин, обернутых маслеными тряпицами, и с полдюжины деревянных, тяжелых до дьявола ящиков.
Тем же вечером Яшка напоил и хорошенько накормил двух небольших, но выносливых лошадок, ночью впряг их в повозку, которую сам же снарядил, и поехал. Еще до света он был на месте, то есть на перекрестке лесных просек, возле побитых грозой сосен. Вокруг защебетали какие-то птички, а совсем близко заухал за спиной ни с того ни с сего филин, словно шло к ночи, а не к рассвету. Потом на дорогу выскочила троица монахов, один давай крестом размахивать. Из какого ордена были монахи — того Яшка так и не разглядел, да кабы и разглядел, все равно б не рассказал, но что монахи, так это точно. Потом на дороге появилось несколько человек верхами, но эти к Яшке не подъехали, остановились метрах в тридцати. Кобылки были, знать, заморенные, потому как ноги у них разъезжались. Потом выехал еще один патруль, загородил Яшке дорогу. Вскорости подошли к нему двое худющих длинноволосых парней, у одного руки все в чернилах. Спросили пароль. Яшка только плечами пожал и буркнул:
— Забирай, чего должен забрать, да поскорее. Паролем голову не морочь, чудачина, я вам не пароль сюда привез.
Мальцы разгружали повозку и, постанывая от натуги, помаленьку все сносили в лес, патрули разъехались, только монахи, как кузнечики, в заросли и обратно перескакивали, а тот, который с крестом, что-то тихонько пел.
За лето сделал Яшка шесть таких поездок. Всякий раз отправлялся в новое место и каждую последующую поездку оценивал выше предыдущей. И тут этот старикан стал чего-то изворачиваться, рублями платить не хотел, а все побрякушки да бумажки подсовывал. Францишек их осмотрел и сказал, не раздумывая:
— Ладно, пан, пусть так и будет, только, само собой, в два раза дороже.
Старик застонал, за голову схватился, куда-то ездил, привозил то часики, то брильянтики, и, когда Францишек говорил: «Ладно, хватит», Яшка запрягал и ехал в ночное. Никто из здешних ни за какие деньги не желал те железины возить, казаки рыскали уже по лесам, но Яшка никого не боялся, и казаков тоже.
Прошла зима, и весной Францишек поехал в город уладить некое дело, которое, кстати, от сына держал в тайне, но которое не давало ему покоя с недавнего времени, ибо порой, толкуя о том да о сем, задумывался, смолкал, а его низкий лоб под шапкой густых волос пересекали морщины, и тогда он напоминал лешего.
В городе, однако, к нему отнеслись без понимания, более того, вытолкали из казенного места в шею на главную улицу.
Он возвратился пьяный, взбешенный. Яшка глянул на него с презрением и буркнул: «Старый, а дурак». И Францишек изумился, почти протрезвел — впервые сын говорил с ним подобным образом.
На другой день из дома выехал Яшка, расфуфыренный, будто на ярмарку, а может, и краше, прихватив с собой бумажник телячьей кожи, где обычно табак держал, но набил его на этот раз до отказа вовсе даже не табаком. Тоже поехал в город, но в город побольше да поглавнее. Там, не обратив внимания на грозно нахмуренного швейцара, он попросил первого же попавшегося чиновника устроить свидание с важной персоной. Чиновник буркнул что-то в ответ и, взмахнув коротенькими, испачканными чернилами ручками, собрался было упорхнуть прочь в своих голубых нарукавниках-крыльях. Так бы он, несомненно, и пропал, растворившись в темном зеве коридора, не ухвати его Яшка за полу мундира и не крикни: «Веди, куда говорят, гнида поганая!» Чиновник едва не умер со страха и провел его к какому-то совсем молодому человеку в черном сюртуке и ослепительно белой рубашке. С этим человеком Яшка разговаривал вежливо, но сухо и холодно, без доверительности. Разговор немного затянулся, молодой человек был чуть высокомерен, Яшка холоден, но все время чрезвычайно любезен, потом они отошли в сторону, и Яшка, не меняя тона, поблагодарил, а чиновник перед ним чуть ли не распластался и, если б мог, втащил Яшку на своем горбе в кабинет, а верней, в залу, где за массивным столом восседал пожелтевший и высохший старец, чиновник четвертого класса, с носом как серп. Яшка стал напротив, но старец даже не взглянул, хотя молодой человек в сюртуке раза два что-то там тявкнул. После продолжительного молчания, которым молодой человек воспользовался, чтобы оставить своего протеже один на один с важной персоной, Яшка зашаркал по паркету своими высокими сверкающими сапогами, изготовленными сапожником по фамилии Лайзбритвин, но старца этим не пронял, тот все глядел прямо перед собой, вероятно на свой нос, ибо, хотя зал был велик и нарядно отделан и там помещалось множество примечательных предметов, ничто не могло равняться с этим телесно-розового цвета носом необычайной формы. Яшка опять задвигал ногами, но старец и на этот раз не дал ему понять, что его заметил. Тогда Яшка набрал в легкие побольше воздуха, откинул голову набок, и в этом его жесте были самоутверждение и достоинство. Он коротко и громко сообщил о цели своего визита, затем приблизился к столу, оперся о него худыми руками, буйно поросшими черным волосом, и сказал, не меняя тона, но понизив голос, нечто такое, что было принято к сведению, а может, встречено с пониманием и одобрением, потому что старец вскочил, распрямившись подобно пружине, и тут можно было убедиться, что вопреки видимости он весьма мал ростом. Встав на цыпочки и вытянув свою покрытую сеткой морщин шею, он ответил, что попытается выяснить, чем можно помочь, и кивнул головой в знак того, что разговор окончен, и Яшка вышел из казенного места довольный и отправился в некое заведение на задах рыночной площади, и в Лыну его привезли лишь на четвертый день — мертвецки пьяного, но исполненного надежды.
Через некоторое время основное поместье — собственность Деймонтовичей, — пожалованное им польским королем Владиславом IV за заслуги перед престолом, сменило своих хозяев. Францишек и Яшка перебрались в запущенный панский двор семнадцатого века с остатками оборонного рва и частокола, а братья Деймонтовичи, молодые, еще неженатые мужчины, отправились, как можно предположить — вопреки своей воле, по этапу на восток за многие тысячи километров, отец же их, Северин, прихватив с собой лишь кое-что из мебели, документы и семь собак, уехал в Седльцы, где получил, кажется, какую-то должность.
Имение было неухоженное, обремененное долгами, но Рогойские не унывали. Отец, ставший его владельцем, взялся за дела хоть и круто, но с осмотрительностью. Все показное его не интересовало, поэтому он не держал ни борзых на зайца, ни фокстерьеров на кабана, ни легавых на птицу, не было ни пристяжных, ни цуговых, ни верховых лошадей. Не было камердинера, не числилось также егерей, форейторов, горничных. Он не нанимал управляющего, а половину приказчиков рассчитал и разогнал табуны дворовых девок и буфетной челяди. Однажды они вышли вместе с Яшкой в поля, и отец, взяв горсть земли с распаханного пара и держа ее в вытянутой руке, сказал:
— Землица, правда, так себе, а все же земля. А там, — и он указал за спину, — луга, не ахти какие, почвы кислые, а все же луга. А вон там, — и он указал на север и на восток, за горизонт, — там лес, на болотах, конечно, худосочный, корявый, а все же растет, а тут, возле усадьбы, пруды, заросшие тростником да камышом, заиленные, что ни говори, но пруды. И все это, — Францишек сделал широкий жест, — должно родить и давать доход, потому как, Яшка, оно существует и потому как наше.
Местные помещики восприняли весть о переходе самого большого в округе поместья в руки нуворишей, неграмотных бродяг, явных мужиков-хамов с величайшим омерзением. Отвращение было столь велико и до такой степени лишило их стимула к какому-либо противодействию, что, приезжая друг к другу на чай на семейные торжества или званый обед и услышав хотя бы намек на это достойное всяческого сожаления событие, они взмахивали руками и с возмущением кричали:
— Перестаньте, ради Бога, об этом, пан Игнаций просто оторопь берет, и еще неизвестно…
А то вдруг кто-нибудь шипел иронически:
— Ах, пожалуйста, сударыня, не надо об этом, а то десерт, как лед, застревает в горле.
После той выволочки, какую получило год назад помещичье сословие, оно пребывало в состоянии необычайной, превосходящей все понятия летаргии. Атмосфера была мистическая, то и дело пели песенки о лошадках, солдатиках и знаменах, устраивали в лесу процессии со свечами, закладывали часовенки, ставили кресты, порой на пустырях, и Рогои при этом были не более чем досадной занозой, не камнем преткновения, не проблемой. Но и заноза может вывести из себя, и помещичье негодование через несколько месяцев дошло до точки кипения. У жены старосты Обжиемского произошел коллапс, у пана Самрота обострилась невралгия, у Аполония Пашкевича нарушилась речь, у какого-то помещика произошло еще что-то, и с какой-то барышней тоже случился казус. После устроенного в связи с этими обстоятельствами совещания к важной персоне отправился в темно-зеленом ландо, запряженном шестериком лошадей с кучером в ливрее, пан Порвитт — тощая жердь с английскими манерами, джентльмен, обучавшийся в лучших университетах, — так с похвалой частенько аттестовали аристократических полудурков, понюхавших всяких Оксфордов, Цюрихов, Фрейбургов и Гейдельбергов и создававших вокруг себя специфическую атмосферу: смесь того, чему их недоучили в вышепоименованных заведениях, с природной глупостью — их ограниченность, инфантилизм, аффектация, так же как и невежество, в сочетании с самонадеянностью и спесью — была фирменным блюдом не одного лишь местного общества.
Пан Порвитт был немедленно принят важной персоной, которая усадила его в кресло, угостила сигарой и выслушала просьбу с величайшим вниманием, а были, надо сказать, приведены неоспоримые аргументы, а также выражены некие нюансы и оттенки. Аналитическое чутье пана Порвитта логично сформулировало все это, а ясный, отточенный ум важной персоны, также обучавшейся в заграничном университете, воспринял сказанное с пониманием. Итак, Деймонтовичи — род достойный и старинный, славно сражавшийся с язычниками, у них безукоризненные манеры, такие и при императорском дворе произведут впечатление — владеют этой землей давным-давно. Мало ли что там натворили юнцы, впрочем, с наилучшими намерениями, молодые, увы, молодые, надо им порезвиться, но, в сущности, благороднейшие души. И отчего ж это такая напасть на пана Северина, он и в лес-то ни ногой, разве что за косулей, дед его, кстати, был маршалом шляхты в повяте, ну а помимо всего прочего преемственность цивилизации и культуры, то самое, что отличает нас всех от простого люда и здесь, и в России, независимо от обстоятельств и государственных интересов данного момента, и как же можно нечто такое пресечь, прервать и уничтожить одним росчерком пера, одним решением, быть может в потоке дел до конца не продуманным. И раз уж мы начали об этом предмете, то каких собак там держали, вот, к примеру, та знаменитая сука, двухмастная борзая от Бенцвала и Каллиопы, поехавшая вместе с паном Северином на должность в Седльцы, — это ведь та самая собака, за которую ротмистр Имеретьев предлагал выложить тут же сто рублей, да что это, в самом деле… А еще библиотека в сотни томов, так эти хамы перетащили все в подвал, чтоб щели в парниках конопатить…
Наконец пан Порвитт, высказав все, что намеревался, встал, встала и важная персона, тощий желтый человечек, с носом наподобие серпа, достающим до подбородка и даже ниже, он проводил пана Порвитта до двери, выразив удовольствие коснуться столь волнующих тем, и заверил, что при первом же удобном случае выяснит, что можно тут сделать. Тем все и кончилось.
А Рогои занимались хозяйством, то есть, собственно, занимался Францишек, а Яшка то и дело куда-то пропадал, не только по делам, и возвращался через несколько дней, а то и недель…
Те три года, что Францишек, став землевладельцем, прохозяйничал в хортыньском поместье, прошли для него в каторжном труде, в титанической борьбе с землей, водой, воздухом, и, хотя это были годы не слишком обильные и урожайные, появилась все же надежда, что вся эта безумная работа, как и та, что его еще ожидает, принесет свои плоды.
И ровно через три года после того, как это началось, Яшка, которому было уже давно за тридцать, а по виду можно было дать и больше, пригнал после четырехмесячной отлучки десять светломастных коней, длинногривых, тонконогих, небольших, но стройных и резвых. Отец глянул на лошадей и тут же, безусловно, о чем-то вспомнил, ибо на губах заиграла улыбка, что было редкостью, а такая, может, никогда не появлялась, — печальная улыбка, какой люди философского склада прощаются — скажем — с молодостью или последней любовью. С тем он и проторчал на крыльце пять, а может, пятнадцать минут, хотя Яшка что-то ему втолковывал, стоя внизу и задрав кверху худое, почти черное лицо. Потом Францишек мелкими, быстрыми шажками низкорослого человека сбежал со ступенек, направился к связанным уздечками лошадям, окинул их взглядом, в котором не было уже следа былой растроганности, пощупал лопатки и бабки, подрастрепал гривы, заглянул под хвосты и буркнул, что лошаденки притомились, но что, по всей видимости, здоровые и что можно взять по сорок за штуку и что это в итоге не так уж много.
— А коли будет пятьдесят? — засмеялся Яшка.
— А коли пятьдесят, — пробурчал отец, — так набежит две тысячи, а это кое-что значит.
И через полгода было их пятьдесят, а Яшка, еще более худой и черный, привез, кроме лошадей, редкой красоты цыганку по имени Нелли, которая от него уже понесла, и старик знал теперь наверняка, о чем прежде догадывался. Знал, откуда эти лошадки и как Яшка их раздобыл, знал, отчего с ним эта пятнадцатилетняя или шестнадцатилетняя красотка, знал еще и то, о чем Яшка даже не догадывался в силу своей дерзости и беспечности. А раз Францишек Рогой знал наперед, так это, значит, так оно уже и было: хотя троекратно еще сходили снега, троекратно просыхали дороги, хотя троекратно разливалась Стырь, а Яшка пригонял много лошадей и заработал кучу денег и выпил без меры вина и водки и хотя множество раз под его нагайкой орошалась кровью смуглая спина Нелли, неизбежное тем не менее свершилось. Двадцать шестого июля 1872 года среди знойных равнин далеко за Карпатами поймали Яшку гайдуки боярина Анчу и повесили на базарной площади городка Винью Маре при содействии скучающих турецких чиновников, которые, изнывая от жары над бутылкой воды «Бояссары», до самого завершения казни так и не выяснили, кого повесили и за что.
Говорят, Яшка умер красиво, то есть с полным равнодушием, как утверждал цыган, который изложил всю эту историю, привезя в Хортынь мешочек с червонцами и увозя Нелли. Кто ж, однако, верит цыгану, и потому неизвестно, так ли было оно в действительности, хотя для Францишека это не имело большого значения, ибо он давно знал, что таким или подобным образом все должно было завершиться.
А мальчик — может, плод горячей любви, остывшей в холоде пинских болот, может, звериной страсти — потребности найти разрядку после дерзкого предприятия — рос здоровым. Францишек понимал, что не может пожертвовать им, как пожертвовал Яшкой, понимал, что приходят иные времена и то, что он втайне ставил превыше всего, будет менее приниматься в расчет, нежели то, о чем он пока не имел представления. И когда мальчик достиг пятилетнего возраста, он окрестил его, дал ему имя Анджей, велел научить молитвам и водить каждое воскресенье в костел, нанял гувернера, чтобы учить внука фехтованию, арифметике, географии и закону Божьему, а когда мальчику стукнуло двенадцать, отдал его в монастырскую школу к отцам-салезианцам.
Настали восьмидесятые годы. Францишек был уже стариком, но на диво здоровым и крепким, черные волосы не припорошила еще седина. Он, как и прежде, обходился без управляющего, приказчиков держал в ежовых рукавицах, ставя в зависимость от себя разными способами, рассчитывался с ними, например, процентом от прибыли, что было в помещичьих имениях, во всяком случае в той округе, неслыханным новшеством.
Он поднимался в четыре, в пять был уже в деревне, вытряхивал из постели приказчиков и батраков, обходил хлева и риги. Весной и летом был еще до рассвета в поле, осенью и зимой следил за дойкой, за тем, как задают корм коровам, свиньям, птицам, велел везти себя на вырубки или на лесопилку, не первый год приносившую ему изрядный доход, потому что Францишек не поскупился расширить ее и хорошенько оборудовать, установил швейцарскую паровую машину, работавшую на опилках, и нанял инженера-швейцарца. Дважды в месяц он объезжал фольварки, а было их одиннадцать.
Трудный он был для людей, жестокий.
Рассчитывался натурой скупо, экономя на каждом килограмме зерна и картошки. Ненавидя и презирая всяческую слабость, гнал в шею старых, увечных, глупых и слабых, а сильных и предприимчивых держал в руках. С работниками разговаривал лаконично, порой оскорбительно. Присматривал за всем и за всеми. Следил, чтоб люди работали на пределе, и ни в чем не давал спуску. Ввел систему ясных и недвусмысленных норм, ударивших не только по бездельникам, но и по тем, кто в других поместьях заслужил бы поощрение. Решето работало без перебоев, с равной тщательностью просеивая челядь, арендаторов, батраков — и постоянных, и сезонных. Он добился того, что время работы замерялось не по солнцу и не по цвету неба, а по часам и минутам. Следил, чтоб женщины раз в неделю ходили в баню и били вшей, чтоб мужчины пили в меру и брили голову наголо, а детям чтоб надевали под одежду бельишко, да и загаженные места чтоб посыпали известью и ходили бы по нужде в сортиры, а не присаживались где попало — как челядь, так и мужики. А если прослышит, что какой батрак заходится сухим кашлем и харкает кровью, то немедленно от него избавлялся, а если это был мужик из деревни, изгонял его и оттуда — были у него на все свои способы. Обжиемская собирала всех этих оскудевших, покалеченных, скрученных ревматизмом, состарившихся и обессилевших людей и держала у себя в лазарете, в приюте, в больничке сам черт не разберет зачем. Францишек дивился, но не возражал. Напротив, выживая человека, а то и целую семью из деревни или из фольварка, знал заранее, кто где приткнется. Зато полноценным и сильным давал шанс процветания, с годами в одиннадцати его деревнях прибыло здоровых, толковых, зажиточных и довольных собой мужиков. Хаты были более или менее в порядке — во всяком случае, утратили сходство с навозной кучей, что их и отличало, откровенно сказать, от владений пана Порвитта. Обсыпанные известью нужники выглядели очень достойно. Свиньи, по-прежнему, конечно, достаточно грязные, были уже различимы среди дороги, и лесничий Маркевич, возвращаясь по пьяному делу из Кобрыня, где он часто бывал на экстренных заседаниях, загоняя до изнеможения пару славных меринов, уже не переезжал этих свиней и не пускался в объяснения с их озадаченными владельцами по поводу того, что свинья показалась ему кучей грязи.
Наибольшим вниманием, а может, даже любовью, если только это ледяное и бесчувственное сердце способно было любить, одаривал Францишек огород и сад. И они были великолепно ухожены, хоть и невелики по размерам.
Как-то в начале лета вдова старосты — старостиха Обжиемская, дама рослая, задастая, вся в вуалях, перчатках, в бархате и в кружевах, которая, если говорить начистоту, на свой титул имела столько же прав, сколько Францишек на титул князя, но любила, чтоб именно так ее величали, а поскольку люди в округе были доброжелательны, никому и в голову не приходило огорчать ее по пустякам, тем более что Обжиемские, кажется, где-то когда-то… так вот, эта пожилая дама, как бы случайно, как бы мимоходом, заглянула однажды во владения Францишека, чтоб самой убедиться, правдивая ли молва идет о нем, и Францишек, скромно, но прилично одетый, чистенький, выбритый, тощий как щепка, водил ее туда-сюда и показывал помидоры и какой-то особый сорт огурцов и великолепные вишни, уже созревшие, крупные и сладко-терпкие, освежающие в пору зноя, абрикосы и бахчу с дынями и, наконец, какое-то особое сооружение, предназначенное для улавливания солнечного тепла, изготовленное из стекла и досок, все в черно-белых полосах, которое можно было поставить, разобрать и сложить, вмонтировать в металлические каркасы различной величины, и старостиха ничего из этого не поняла, но была возбуждена, а все это напоминало сцену перед битвой под Лейтеном: Обжиемская — высокая и толстая, ни дать ни взять генерал Шверин, а Францишек — тощий и прямой, словно Фридрих Великий. Затем Францишек пригласил ее на чай, хотел угостить пирогом с черешневым вареньем, что было уже, разумеется, абсолютно неприемлемо, и старостиха, изумленная этим приглашением, почти оскорбленная, холодно с ним простилась, а Францишек проводил ее до коляски, пожелал доброго пути и дал какой-то добрый совет касательно копыта ее лошади, которое, по его мнению, усыхало.
В 1885 году внук Францишека Анджей, закончив гимназию у салезианцев, поступил на юридический факультет Юрьевского университета. Однако, проучившись год, отказался и от правоведения, и от науки вообще.
Старик Рогой сформулировал свой вывод коротко: видно, еще рано, может, попозже, — и было непонятно, имеет ли он в виду юный возраст и незрелость молодого человека или краткость изобилующего рытвинами пути всего лишь трех поколений, по которому они шли, скостив повороты, от звериного или даже добиологического состояния к тому уровню, который при наличии доброй воли можно было б назвать человеческим. Лишь недавно из ущелий цивилизации путаной тропинкой устремились они вверх, почти по вертикали одолели крутизну, но до вершины было еще далеко. Может, именно это и подразумевал Францишек и потому не расстроился и не огорчился, а, дав Анджею двести рублей, велел ехать в город, но не в Пинск и не в Брест, а в Варшаву, где, кстати, сам никогда не бывал, и велел присмотреться там к зданиям, к улицам, к людям и обычаям, побывать в ресторанах и кофейнях, походить по театрам, поднахвататься всего, чего возможно, если уж более обстоятельное и полезное образование пришлось ему не по зубам.
Лето в Варшаве Анджей проскучал. А в сентябре выбрался на Мокотовское поле, где иногда устраивались скачки. Это был вам, конечно, не Аскот, но по воскресеньям там бывало пестро, весело, а порой и завлекательно.
Там он познакомился с некой барышней. Звали ее Катажина Хальтрейн, и ей еще не было двадцати. Она вела свой род от саксонских немцев, которые явились в Польшу в правление Августа II и лет через пятнадцать основали процветающее торговое предприятие. Оно достигло зенита в последние годы независимой Речи Посполитой, затем в соответствии с велениями судеб дела пошатнулись, но осталось имя, активы в банке семьи Рейтцев и нарядный особнячок на Мокотове. Может быть, правильней было бы назвать Катажину Хальтрейн женщиной, а не барышней, потому что, невзирая на юный возраст, слово «барышня» ей как-то не подходило — хорошенькая, но не так чтоб очень, не слишком умная, но и не дура, весьма сексуальная, ощущающая в себе всю беспредельность женственности, которая выражается всегда ярче и неудержимее, чем самая мужская мужественность. Неважно, впрочем, как завязалось знакомство, а затем и роман, важно, что Анджей погиб безвозвратно — сравнение в данном случае уместное, не обыденное и не банальное, поскольку речь — о здоровой полунемке-полупольке, не очень высокой, молочно-белой, с явной склонностью к полноте, с тем восхитительным цветом лица, какой бывает у пухленьких женщин, с красивыми зубами и глазами, и о молодом, очень еще молодом мужчине, утратившем отроческую расплывчатость и неопределенность облика и приобретшем скульптурную рельефность черт. Лицо острое, можно сказать, двухмерное, слепленное из двух профилей, и между ними — большой, очень тонкий нос. Глаза, посаженные за недостатком места слишком близко друг к другу, со светящимися искорками юмора, не лишены были и дерзости. Эта как бы птичья голова источала тот род веселья, где нет безмятежности, есть жестокость и есть нечто, притягивающее женщин. Среднего роста, он был тем не менее статным и длинноногим, и у него была та фигура, которую не часто встретишь в средней или западной Европе, но обнаружишь сплошь и рядом на Балканах. Узкие бедра, тонкая талия и широкие, чуть приподнятые плечи. У него был балканский цвет лица и великолепные зубы. Он был усовершенствованная копия своего отца. Таких называют неприлично красивыми — определение справедливое, поскольку существует и приличная красота, хотя куда менее привлекательная. Незадолго до Рождества выяснилось: дела зашли столь далеко, что единственным достойным выходом — а иные выходы не принимались сторонами в расчет — является обычный и для менее сексуальных романов выход.
Предпосылки ко всей этой ситуации заключались в полном отсутствии мещанской щепетильности и в беззаботности, характерной для семейства Хальтрейнов, как в сфере чувств, так и во всех иных сферах, и отсюда — несмотря на то что в каждом поколении встречались незаурядные умы — Хальтрейны так ни разу и не достигли того положения, к какому предназначали их интеллект и способности, и оттого, быть может, семья пришла в упадок раньше, чем того следовало ожидать. Отец Катажины, Юлиуш, нестарый еще человек, со слабым здоровьем, наделенный той изысканностью, какой одаряет некоторых людей болезнь или же не слишком явный физический недостаток, олицетворял собой нередкий в конце прошлого века тип духовного развития. Дилетант с широкими интересами, беспорядочный, лишенный систематичности, обезумевший от технических новинок, сыпавшихся в ту пору словно из рога изобилия, без взаимности влюбленный в математику и немецкую философию, он не был тем человеком, которому пристало следить за поведением дочери. С другой стороны, жена его, Роза, полька с изрядной примесью шведской крови, вечно занятая поездками и устройством вернисажей, полагала, что на свете существует уйма куда более важных и интересных вещей, чем добродетель — пусть даже ее собственной дочери. Два старших брата Катажины жили уже несколько лет за границей.
Свадьбу отпраздновали в последнюю неделю карнавала, и она по понятным причинам не была чрезмерно шумной, но изысканной и в хорошем вкусе, как все, что отличало семью Хальтрейнов. На завтрак, устроенный родителями невесты, собралось около сорока особ из лучшего, хотя, конечно, не самого лучшего, общества Варшавы.
Францишек, обшитый по этому поводу известным брестским портным по парижским журналам времен, предшествовавших восстанию 1863 года, являл собой образчик теплой и милой элегантности, отличавшей пожилых мужчин так называемой эпохи прадедов. Он мало говорил, держался прямо, уверенно и проворно передвигался. На вопрос Юлиуша Хальтрейна, читал ли он в последнем научном квартальнике перепечатку статьи профессора Рене об Иммануиле Канте, он ответил, что если память ему не изменяет, то не читал. На что Юлиуш ответил, что наверняка не читал, потому что если б читал, то сразу бы вспомнил, и Францишек спокойно, с улыбкой на темном сухом лице ответил, что и в самом деле, похоже, не читал. Через какое-то время Юлиуш Хальтрейн, а сидели они друг против друга, поставил вопрос относительно связи немецкой философии с Платоном и Аристотелем, и Францишек ответил, что философия его не так уж интересует, что он с большим удовольствием занимается садоводством и у него есть даже мысль организовать в своем имении соответствующие курсы для молодых незамужних крестьянок. На что Хальтрейн сказал, что это прекрасная идея и что он всю жизнь был убежден в преимуществе практики над абстрактной наукой — впрочем, это не соответствовало истине, а было всего лишь светской болтовней, — на что Францишек вновь в свою очередь ответил, что полной убежденности у него на этот счет нет.
Поначалу супружеская жизнь не сулила ничего худого, хотя в преувеличенной учтивости Анджея по отношению к жене ощущался как бы избыток холода. Любая женщина, выйдя смолоду замуж, ожидает проявления множества высоких чувств, целой гаммы поступков, где вежливость, разумеется, не является тем самым, чего она ожидает больше всего. Внешне Анджея упрекнуть было не в чем, но в его отношении к жене даже не слишком искушенный наблюдатель мог бы обнаружить предпосылки будущих неприятностей.
Они поселились в живописной, далекой от населенных мест, окруженной лесами деревне под названием Ренг, в красивой усадьбе, еще бо́льшей, чем хортыньская, и Францишек сделал все возможное, чтобы молодые чувствовали себя легко и свободно. Пока они совершали свадебное путешествие по Германии и Швейцарии, он привез в Ренг архитектора, художников, печников и паркетчиков, и они превратили этот красивый, но пришедший в запустение дом в удобное и комфортабельное жилище.
В начале июля Катажина родила сына, которого назвали Максимилианом, годом позже явилась на свет дочка. В 1888 году Анджея призвали в армию. Под фамилией Рогойский его внесли в списки офицеров-стажеров десятого Ингерманландского гусарского полка. Это был известный полк с хорошими традициями наполеоновских времен, и, вероятно, все три года, а именно такова была длительность этой почетной службы, красота Анджея, его безукоризненные манеры, приятный тембр голоса и безупречное французское произношение служили бы к украшению его части, не будь у него одного досадного недостатка, вернее, черты характера, которая проявилась сразу в самом начале службы и, естественно, по мере ее прохождения расцвела во всей своей неприглядности. Армия, конечно, не приют для святош, мизантропов или отшельников, тем более кавалерия, тем более гусары, которых повсюду в Европе отличают вспыльчивость, темперамент и дерзость. Однако юный Рогойский хватил через край. Его любовь к ссорам и авантюрам перерастала в манию. И это казалось тем более странным, потому что избытка энергии у него не наблюдалось: он был молодым и здоровым мужчиной, казался даже спокойнее своих товарищей — не столь шумный, не столь склонный к забавам, розыгрышам и проказам. Он часто улыбался, но флегматично, то есть сдержанно, улыбался даже тогда, когда его отправляли на гауптвахту или сажали под арест, что с течением времени происходило все чаще. Превосходно воспитанный, холодный и по-своему таинственный, он возбуждал симпатию и интерес. Располагая всегда наличными, что отличало его от прочих офицеров, имеющих имя, знакомства и связи, но отнюдь не средства, умный, хоть, может, и не слишком, в меру начитанный, достаточно сведущий в современных художественных течениях, чтоб не прослыть невеждой, он стал завсегдатаем салонов и любимцем начальства. Во всяком случае, у него не было ничего такого, скажем, на первый взгляд, что могло бы этому воспрепятствовать. И это положение, казалось, его устраивало. Однако если можно, не подвергаясь насмешкам скептиков, утверждать, что в каждом человеке сидят две души, и если считать, по традиции, что первая лучше второй, то у Анджея преобладала, без сомнения, вторая.
Через год после начала службы у Анджея состоялся первый поединок. Был июньский рассвет. Анджей выстрелил раньше соперника, пальнул куда попало, даже особо не целясь, и молодой рязанский помещик, чью фамилию Анджей даже не запомнил, человек штатский, свалился наземь и тут же поднялся. Правда, уже без пистолета, правая рука — как плеть. На вопрос командира полка, обеспокоенного, но, кстати заметим, не возмущенного инцидентом, может ли он дать слово чести, что, несмотря ни на какие обстоятельства, подобного больше не повторится, Анджей ответил, что если честь полка и авторитет его командира поставлены на карту, то он согласен. Три месяца спустя в дождливый сентябрьский вечер Анджей стрелялся снова. На этот раз его противником был подпоручик Рагин из соседнего эскадрона. Поскольку лил дождь и сгущались сумерки, оба промазали. В тот же день это дошло до полковника, на следующий — до коменданта гарнизона генерала Ламонта, преследовавшего дуэлянтов с усердием неофита, ибо в юности дуэли были его главным развлечением, и Анджея перевели в бригаду легкой кавалерии, расквартированную на юге страны. Стоит ли пояснять, что это была уже не столь блестящая часть? Молодой Рогойский прибыл туда с подмоченной репутацией, но тамошнее офицерство, как это бывает, придерживалось традиции старых добрых времен и полагало, что склонность к ссорам вряд ли способна бросить тень на кавалериста, и его приняли без предубеждения, хотя и без энтузиазма. Точка зрения командования не изменилась даже после происшествия, которое оказало решающее влияние на офицерскую карьеру Рогойского, ибо происшествие было неслыханным, ни на что не похожим, даже в той бригаде, где кодекс чести имел весьма расплывчатые границы.
Анджей схлестнулся за бильярдом с одним ротмистром, который даже не был его командиром. Началось с того, что в партии, разыгрываемой по французской системе, то есть бьют только красным шаром, Анджей попал в пятнадцатый номер и тот застрял возле лузы, не скатившись в сетку. В соответствии с правилами, Анджей поставил его к борту с противоположной стороны стола. Ротмистр держался иного мнения и с громкими криками, не теряя при этом, однако, хорошего настроения, стал уверять, что имеет право ударить по шару, даже если тот застрял в лузе. На что Анджей возразил, что это весьма своеобразная трактовка правил, проистекающая не из незнания игры, потому что здесь все ясно и наперед известно, а из желания получить таким вонючим способом пятнадцать рублей, поскольку именно в такую сумму и была оценена эта подставка. Ротмистр нахохлился, сказал, что в таком случае он считает партию неразыгранной. Тогда Анджей, как всегда сдержанный и спокойный, заявил, что соглашается при условии, что причиной тому будет считаться элементарная жадность одного из партнеров.
— Ваша! — проорал ротмистр.
— Нет, напротив, — хладнокровно парировал Анджей, после чего добавил, что ему известна другая игра, куда более занимательная, которая разыгрывается между людьми чести, когда наблюдается явное расхождение во взглядах.
Ротмистр не разделил его точку зрения. То был славный и веселый человек, отец двоих подрастающих детей, обремененный вечными хлопотами, сварливой женой и страдающий от отсутствия денег. Рогойский свалил ротмистра одним могучим ударом на пол и вспрыгнул на него ногами. Выходка была столь жестокая, что несколько присутствовавших в клубе офицеров окаменели на мгновение, и, прежде чем оттащили Анджея, по-прежнему невозмутимого и спокойного, ротмистр успел потерять сознание. В тот же вечер Анджея посадили под арест, ротмистра отвезли в больницу, а командир бригады созвал суд чести, назначенный независимо от правовых последствий инцидента. На официальном процессе Анджей отделался штрафом в пятьсот рублей, что если не удовлетворило ротмистра морально, то по крайней мере укрепило хоть на время его материальное положение. Зато суд чести после краткого совещания пришел к выводу, что дело отвратительное, что оно не поддается никаким оценкам и что единственным выходом может быть чисто дисциплинарное решение. Анджея разжаловали в унтер-офицеры, перевели в пехоту и отправили служить на Урал. Это было скорее демонстративное, чем воспитательное, мероприятие, ибо после трех месяцев, пролетевших в сортировке документов в гарнизонном архиве и в игре в шашки с крохотным старичком по имени Евлампий Автодухов, Анджей получил отставку с недвусмысленным уведомлением, что армия не нуждается больше в его службе в какой бы то ни было формации и в каком бы то ни было чине, за исключением чрезвычайных обстоятельств, как, например, всеобщая мобилизация.
Молодой Рогойский вернулся в Ренг. Два месяца он таскался с охотничьим ружьем по округе, иногда кое-что читал, беседовал с женой, играл с детьми. Много спал, много ел, дела поместья его нисколько не интересовали, и он невероятно скучал. Потом уехал в Варшаву, проторчал там месяц, вернулся тощий, печальный и раздражительный. Снова разгуливал по огромным комнатам своей красивой усадьбы, снова беседовал с женой и играл с детьми. Поднимался в одиннадцать, в полдень съедал первый завтрак, потом до самого вечера не знал, куда себя деть.
И потому попытку сломать лед и нарушить всеобщий остракизм, в котором пребывало третье уже поколение его семьи, предпринятую соседями, правда, весьма осторожную, он воспринял с удовлетворением. Дело было не в желании наладить связи с обществом, это его не волновало, все заключалось в надежде хоть как-то нарушить однообразную череду дней, тянувшуюся с момента его отставки. Он обрадовался возможности перемены. Восприняла это с нескрываемой радостью и Катажина, которая вообще тяжело переносила одиночество, а уж здесь, в затерянном среди лесов поместье, страдала особенно сильно, хоть и пыталась восполнить недостаток общения исполнением материнских обязанностей и домашними хлопотами, что с каждым днем давалось ей все труднее и труднее.
Первые признаки преодоления взаимной неприязни, предубеждений, сложившихся между окрестной шляхтой и Рогойскими в течение десятков лет, были обнадеживающими.
Как-то поздней осенью в Пинске, на одной из трех улиц города, Анджею поклонился пан Дембогурский, дальний и не слишком состоятельный сосед, причисляемый, однако, благодаря родне своей жены к сливкам здешнего общества. Анджей кивнул ему небрежно в ответ: в том случае, если поклон Дембогурского был результатом ошибки или рассеянности, реакция Анджея в глазах возможных наблюдателей не давала оснований для нежелательных выводов.
Однажды вечером за ужином у Францишека в Хортыне Катажина сообщила свекру и мужу, что в последнее воскресенье к ней подошел после мессы пан Дрешер, представился и сказал, что дети у них в одном и том же возрасте и он полагает, им стоит познакомиться друг с другом.
— Пусть здесь, — заявил он, по словам Катажины, — в этой унылой и печальной округе, хоть дети живут в дружбе.
Францишек этим весьма заинтересовался и стал расспрашивать Катажину: как был одет Дрешер? Подал ли он ей руку? Не пахло ли от него водкой? Долго ли продолжался разговор? Не было ли в его тоне покровительственных или презрительных ноток? Кто из окружающих был тому свидетель?
Обстоятельные и дельные ответы Катажины удовлетворили старика, он пришел в хорошее настроение, в связи с чем припомнил несколько забавных историй, что случалось довольно редко, — рассказал о том, как они с Яшкой в Лукове надули купца на пятьсот рублей, а когда тот явился к ним с претензиями, то заключили еще одну сделку, якобы чтобы восполнить потери, и опять нажгли его на целую тысячу. Катажина, слушая старика, сначала смеялась, а потом приумолкла и с изумлением поглядывала на мужа, а тот принялся с необыкновенным старанием чистить свою миниатюрную трубку, чего прежде никогда за столом не делал. Провожая Анджея с женой к экипажу и прощаясь, Францишек сказал:
— Рано или поздно так должно было случиться. Что там ни говори, а самые богатые и самые сильные тут мы, так что можно особенно не волноваться. Ну а то, что пошло не от нас, — так слава Богу!
То, что случилось двумя неделями позже, превзошло даже самые смелые ожидания как молодых Рогойских, так и самого Францишека. В начале декабря в теплое, солнечное воскресенье усадьбу в Ренге посетила старостиха Обжиемская, глухая и впавшая уже в детство старушка, наделенная, однако, безошибочным великосветским нюхом; именно это из всех ее чувств служило ей еще верой и правдой. Сохранившая все оттенки внешнего лоска, хорошего тона и салонной выучки, она все еще могла функционировать в обществе, невзирая на полный маразм. Катажина была этим визитом осчастливлена. Анджей, спокойный и сдержанный, но чрезвычайно любезный, кричал в жестяную трубку, которую старостиха подносила к уху, о своих впечатлениях от поездки по Альпам, ознакомив старую даму с географическими, общественными и политическими особенностями северо-восточных кантонов швейцарской федерации. Старостиха вынесла от визита наилучшие впечатления и рассказывала потом на собрании охотничьего клуба «Остоя», где числилась почетным председателем, что дом в Ренге просторный, отделан со вкусом, она хорошенькая, он умен, дети очаровательны, клубничный крем в бисквите точь-в-точь такой же, как у Порвиттов. Неизвестно, было ли это следствием неожиданного визита, который можно было бы посчитать пробным шаром, пущенным без какого бы то ни было риска, поскольку вряд ли можно было рассчитывать на афронт по отношению к девяностолетней почти старухе, к тому же глухой, слепой и уже не понимающей, отчего это башмаки надевают, например, на ноги, а шляпу, скажем, на голову, — итак, неизвестно, в какой мере визит Обжиемской имел связь с приглашением Анджея на рождественскую охоту, но факт остается фактом, что такое приглашение последовало. Охота состоялась на не покрытых еще снегом полях пана Самрота, и Анджей застрелил сорок зайцев, поразив всех остротой зрения и верностью руки.
Зиму Анджей провел вместе с женой и детьми в Варшаве. Ранней весной Рогойский устроил охоту на вальдшнепов, на которую съехалось с полдюжины окрестных помещиков, а двое даже заночевали в Ренге, беседуя с Анджеем до поздней ночи за коньяком и сигарами на пустые, но принятые в свете и довольно приятные темы.
Летом праздновалось пятилетие Баси, Анджеевой дочки, на праздник прибыло чуть ли не двадцать детей из окрестных поместий.
В ноябре Анджея пригласили на большую охоту на кабанов в имении Хыщи, принадлежавшем Пашкевичам, и здесь, надо сказать, Анджей тоже отличился, свалив метким выстрелом в грудь клыкастого одинца.
Осторожный танец под музыку модерато требовал все более замысловатых фигур, которые сближали, казалось, партнеров друг с другом. Молодые Рогойские не вступили еще, правда, в местный свет, но в то же время никак нельзя было сказать, что они по-прежнему вне общества. Это было как бы подвешенное состояние, весьма волнительное, видимо, для тех, кто его поддерживал. Брались в расчет все нюансы, все двусмысленное и все недоговоренное, и все интерпретировалось, разумеется, не в пользу молодых. К Катажине, которая была, правда, не слишком умна, зато мила, хороша собой и исполнена доброй воли, предъявлялись, как ни странно, более высокие требования, нежели к Анджею, чья гордость, даже спесь в соединении с холодной любезностью возбуждала интерес и придавала, по мнению некоторых, благородство и утонченность всей его фигуре. Дамы считали, что при всей своей суровости он человек таинственный, барышни полагали, что романтичный, а мужчины видели в этом проявление английской культуры.
Как раз в тот момент, когда местное общество пришло к выводу, что молодой Рогойский сдал экзамен не так уж плохо, все их маневры начали раздражать, бесить, а главное — наводить скуку на самого Анджея. Два года он как-то еще продержался, но потом все внутри забурлило, даже не по причине светских условностей, а просто потому, что в нем действительно сидело два человека, один был все время на виду, второй же являлся его сущностью.
На рождественской охоте в имении Дрешеров — через год после первой, на которую его для почину пригласили, — Анджей, раздраженный своеволием своих партнеров по номерам, а может, и раздосадованный плохой подготовкой охоты, забросил на плечи длинную, тяжелую доху и буркнул, отдавая егерям ружье, когда охотники в перерыве собрались вокруг дымящегося котла с бигосом:
— Ну, господа, если вы и в москалей стреляли так же, как нынче в зайцев, то я не дивлюсь результатам этого вашего восстания и на вашем месте вспоминал бы о нем пореже.
Это было в начале девяностых годов, но память о восстании и судьбе повстанцев была еще жива. Аполоний Пашкевич, потерявший в восстании старшего сына и присутствующий на охоте, скорее, в качестве зрителя, ответил Анджею, побагровев от боли и гнева:
— Мы, молодой человек, имеем право говорить об этом событии, даже если для некоторых из нас оно обернулось могилой, а для многих незаживающей раной, но ты как раз из последних, кто имеет право на это.
— Отчего же? — прошипел сквозь зубы Анджей, наклоняя вперед свою птичью голову точно так же, как тогда, когда спрашивал у рязанского помещика причину, по которой ему следовало пропустить того в дверях.
— А уж об этом спроси лучше у своего деда.
И тогда Анджей высказался насчет способов, какими мужчины решают друг с другом споры, когда нет возможности прийти к согласию. И, высказав это вполне серьезно, окинул надменным взором сгрудившихся у котла охотников, а те взглянули на него в ответ, но в их взглядах не было ни надменности, ни холода, казалось, это их лишь позабавило, даже вроде вызвало сочувствие.
— У меня нет при себе оружия, — сказал уже спокойно пан Пашкевич, — которым мои предки имели привычку призывать к порядку таких, как ты, прощелыг, но если изволишь подождать, то я велю егерю сделать дубинку, которой с удовольствием тебя попотчую.
Присутствующие расхохотались. К Анджею подошел Дрешер.
— Я пригласил вас на эту охоту, пан Рог, пан Рогой, или как вас там, и весьма об этом сожалею.
Анджей закутался в доху, глянул внимательно на охотников, потом двинулся к саням, шагов через двадцать обернулся, но во взглядах, которыми его провожали, была издевка, а смех становился все громче.
Когда сани понесли его по накатанной дороге через реденький лесок, через сосновый жердинник, он не думал уже об унижении, которое испытал, он думал об унижениях, которым подвергнет других. Все они стояли у него перед глазами — чужие, не имеющие никакого значения люди.
Сдерживающие начала исчезли. Дома он вел себя по-прежнему пристойно, охлаждая страстность жены ледяной вежливостью, зато все то, что он проделывал вне дома, было в равной степени смешным и жестоким, жалким и ужасным. Теперь в поле его искривленного зрения попали тракты, шинки, трактиры и ярмарки — короче, так называемые публичные места.
И так же как евреи возненавидели некогда Францишека и Яшку, так теперь мужики — а ведь они и были основной человеческой массой, заполняющей округу, — возненавидели Анджея и, таким образом, всех троих — деда, отца, сына — одарили все тем же, старым как мир и весьма человеческим, чувством. Тех ненавидели евреи, Анджея — мужики, а всю троицу — окрестные помещики, которые делали все от них зависящее, чтоб походило это на презрение.
Выезд, на котором разъезжал Анджей, — огромная лифляндская кобыла и прочная длинная линейка на широко поставленных колесах — стал в скором времени хорошо знаком всей округе. Вытащенный, к примеру, среди ночи из халупы мужичок мог не заикаясь, а заикание и непредвиденные остановки были у мужиков одним из элементов их ораторского искусства — манера, которую доброжелатели почитали безобиднейшим свойством, — так вот, тот или иной мужичок… впрочем, это не относится к бабам — они в подобной ситуации отзывались на вопрос немедленно воем, сопровождаемым орошением лица, шеи и груди слезами и соплями, которые, перемешанные и размазанные как только возможно, создавали композицию если не трогательную, то, во всяком случае, весьма экспрессивную, порождающую невольный вопрос, Откуда сразу столько всего взялось, — итак, возвращаясь к этому мужичку, следует сказать, что он в любое время мог описать цвет экипажа, масть лошади, вид упряжки, перестук, раздававшийся, когда дорога вела по камням, и скрип, когда колеса вязли в болотистой почве, щелканье кнута, отсвет на полировке узкой перегородки. И потому крик наблюдателя: «Едиит, едиит!» — был зна́ком ко всеобщей мобилизации на ярмарке в Антополе или в Тевлях, а когда щелканье кнута и топот лифляндской кобылы, приближаясь, не слабели, то это был последний шанс принять оборонительные меры. Мужики и бабы тщились прикрыть выставленные на продажу предметы, торговцы окружали свои ларьки специально заготовленными на этот случай старыми бочками. Землю посыпали осиновым листом и обильно поливали водой — в надежде, что задастая кобыла на этот раз все-таки не проскочит и где-то поскользнется. Новый крик «Едиииит! Едииииит!» заставал уже ярмарку более или менее в готовности.
— Едиит! Единит! — верещала еще какая-нибудь баба — совсем уже без надобности, поскольку это и так все уже знали, и вводя тем самым в атмосферу общей сосредоточенности дешевый элемент корчемной сенсации.
Такая невоздержанность тут же вызывала отпор у кого-либо из ее спутников, у мужа, отца, дяди или кума:
— Дура ты перетраханная, так ведь уже приехал!
И в самом деле, похожая на локомотив кобыла преодолевала верблюжьим скоком рыночную площадь, а прицепленная сзади линейка катилась словно по рельсам. Анджей Рогойский сидел как бы верхом на линейке, наделяя всех без разбору слева и справа ударами длинного, как аркан, бича, доставшегося ему в наследство от папаши. Те, кто специализировался на мелкой торговле — предположим, две головки чеснока, капуста и петух, — оказывались в выигрышном положении, удирая с товаром куда попало. Зато те, кому как раз в этот день вздумалось продемонстрировать своих откормленных поросят, оказывались перед лицом сложной проблемы, точно так же как владельцы постоянной экспозиции, называемой лотком, с выложенными на прилавок сушеными грушами или всякого рода ягодами, черными и красными, или квашеной капустой. Это, разумеется, было ничто в сравнении с торговцами пухом и прочим летучим товаром. Анджей вел свою колесницу бестрепетной рукой, не ведая пощады. Он въезжал в самое скопление публики, и окованные дышла рушили горы картофеля, капусты, переворачивали мешки с зерном, после чего продукт втаптывался в грязь конскими копытами и окончательно крушился обручами четырех широко поставленных колес. Сопровождалось это какофонией звериной музыки: трепетом крыльев и воплями связанной птицы, визгом свиней и высокими нотами телячьих рыданий. Удачными ярмарками считались те, где проезд безжалостной упряжки происходил всего раз. Бывало, Анджей, отъехав метров на сорок, разворачивался, разгонялся и вновь вклинивался в толпу. Так или иначе, но место, называемое иными базаром, другими ярмаркой, а чиновными людьми рыночной площадью, казалось, было опустошено тайфуном. Квашеная капуста, огурцы соленые и малосольные, капуста простая и салатная, рыжики и опята — все это устилало ровным слоем площадь вперемешку с пухом и запасами старьевщиков. Здесь прикрывала лужу поношенная тужурка, там поблескивали сапожным кремом хорошо разношенные штиблеты, где-то развевался, наподобие флага, на перевернутом прилавке еврейский лапсердак, дальше валялся ярко-рыжий парик, какие так ценят жены раввинов. Потрясала своей белизной перееханная курица, прощался с жизнью, подергивая коротенькими ножками, розовый поросенок с перебитым хребтом — лишь трепетало на ветру подвернутое ухо. Уж кто-кто, а зверюшка долго мается, пока не испустит последнего вздоха. Обычно через полчаса на рыночную площадь являлся городовой с писарем.
Если разгон ярмарки можно было приравнять к неистовству своеволия, но всего лишь своеволия, тогда то, что вытворял молодой Рогойский в корчмах, имело иной, нравственный, да, можно сказать, и правовой оттенок, если не учитывать, что слово «правовой» в применении к месту и времени приобретало комический характер. Рогойский любил провоцировать господ, мужиков, Господа Бога, судьбу и случай. Это было не увлечение, не страсть, которую он не в силах был превозмочь. Просто он это очень любил. Спровоцировать мужика, то есть добиться от него какой бы то ни было реакции, — дело трудное, в иных случаях — невозможное. Но если Анджею сопутствовал успех, то это говорит как о его незаурядной изобретательности, так и об увлеченности предметом. Анджей после ряда неудачных попыток пришел к выводу, что достичь чего-либо удастся, лишь сведя воедино два фактора: первый — бедность окрестных крестьян и оттого слабая и растянутая во времени возможность реализации их желаний, которые Бог знает где и когда зарождались, и второй — невероятное упорство в их осуществлении. На практике это выглядело следующим образом: зимой под вечер, в воскресенье, Анджей приезжал на санях в корчму в Хыщах, которую содержал Симон Подкаминер, и входил внутрь, внося с собой запах снега и долгого пребывания на морозе. Факт этот присутствующие в общем и целом замечали и неприметно его комментировали. Если здесь приходится пользоваться выражением «в общем и целом», то лишь для того, чтоб во имя объективности не позабыть также и тех, кто был уже не в состоянии что-либо комментировать, а находились в корчме, несомненно, и такие. Клиентов, однако, хватало, поскольку все происходило зимой, да еще в праздничный день.
Симон Подкаминер слыл добрым шинкарем, и хотя выбор его напитков страдал провинциальным однообразием, на которое жаловались проезжающие («в любой корчме одно и то же»), тем не менее каждый вид продукции был на соответствующем уровне. Водка была двух сортов, покрепче и послабее, арак, пиво холодное и подогретое, а из деликатесов — мятный ликер. Особой популярностью у крестьян пользовалось подогретое пиво с добавкой кое-каких специй и рюмка водки в придачу. Для такого счастья какой-нибудь Кузьма или Сократ копил по копейке неделю, а то и две. Задолго еще до прихода в корчму его фантазия, тесная, как дорожный сундучок, рождала в нем чудесные ощущения, столь соблазнительные и неотразимые, как, скажем, сон о полете, — представление о напитке и его поглощении, особенно прикосновение губ к белой теплой пене, когда запах специй и пива, усиленный сорока граммами водки, ударяет в нос и наступает то самое мгновение: аромат уже вошел, а вкус еще нет, лишь кончик языка добрался под слоем пены до горьковатой и чуть маслянистой жидкости. И вот такой момент наступал, и такого именно момента дожидался Анджей, выбирая себе жертву среди тех, кто более всего этим наслаждался, — молниеносным ударом согнутой в локте руки он выбивал кружку. В мгновение ока то самое, на что с такой тоской и надеждой рассчитывал Кузьма или Сократ, превращалось в небытие. И такой мужик становился порой опасен, потому что в это мгновение переставал быть мужиком, отказывали тормоза, которыми наделила его природа, чтоб выжил. Да, мог стать зверем и частенько им становился.
Несколько раз Анджей оказывался в ситуациях, когда его спасали уже не сила, быстрота реакции и проворство, а только счастье, сопутствовавшее ему, как всякому негодяю.
— Башку свернуть безбожнику! — рычали секунданты и пристрастные наблюдатели, когда тесно сплетенный клубок человеческих тел, центром которого был, как правило, Анджей, выкатывался наружу на утоптанный, заледенелый снег.
— Башку свернуть, по хребту его! — орали мужики как одержимые.
— Тихо, тихо, мужики, — пробовал кто-нибудь урезонить. — Это ж пан.
— Такой же, как ты, — слышалось в ответ.
Отвага Анджея, его сила и быстрота были велики, но важней всего оказывалась невосприимчивость к побоям. Ребра были как резиновые, голова словно каменная, а позвоночник как пеньковая веревка. Нос, большой и тонкий, который могло, казалось, свернуть дуновение ветерка, выстаивал перед мужицкими кулаками, не теряя своей изысканной линии. Вернувшись домой, он сидел около часа в ванне. Камердинер то и дело доливал кипятку и сыпал сосновой хвои. Потом Анджей велел растирать себя конопляным маслом и, завернувшись в купальный халат, подолгу сидел у камина, попивая чай со спиртом. Вечером подкреплялся питательным, но легким ужином, скажем манной кашей на молоке с маслом, медом и сушеными фруктами, а утром вставал как ни в чем не бывало, и только ссадина на щеке, шишка на голове, синяк под глазом или просто синеватое пятно, вспухшая ладонь, а то и внезапная гримаса от движения свидетельствовали о том, что вечер накануне он провел совсем не так, как его обычно проводят окрестные помещики..
Касаясь его молодечества, невозможно упустить еще и третью сферу, а именно тракты, и главный из них Брест — Пинск, который отличался от дорог, связующих прочие достославные города, в основном тем, что фактически не существовал. Разного вида рытвины и ухабы, малые и большие лужи, разливы и даже топи гарантировали каждому, кто избирал этот тракт маршрутом своего путешествия, что скука, неизменная спутница всех путешествий, не станет его уделом.
На тракт Анджей выбирался верхом. У него было две верховые лошади, чаще он ездил на ладной кобыле-полукровке гнедой масти по кличке Сафо. Лошадь быстрая, умная и верная. Он ехал по тракту, а то и вдоль тракта, и кобылка медленной, но упрямой рысцой преодолевала покатость полей, лесные просеки, заболоченные низинки. Он любил вынырнуть из июльского рассвета, когда ночь превращается вдруг в ясный день, только пока без солнца, или из осеннего тумана, или еще в ту пору, когда осеннее утро борется с сумраком, медленно стряхивая с себя остатки ночи. И если вдруг раздавался рев, от которого замирали в прыжке лесные звери, рычание, переходящее порой в визг на столь высокой ноте, что с деревьев сыпались листья, то это означало, что в английской бричке возвращается домой лесничий государственных лесов Томаш Маркевич. Подразумевалось, что голос, исходящий из его щуплого тела, взбадривает лошадей, великолепных лошадей, которые уже в середине пути зарывались мордами в дорогу, а до цели добегали едва живые, с капельками крови в мохнатых ноздрях. Маркевич менял лошадей каждый год, а сорванных пяти-шестилеток продавал на бойню. Бричка разваливалась, бывало, за один сезон, да и сани выдерживали не долее. Предметом увлечений Маркевича, кроме лихой езды, была опера, и когда в зале дворянского собрания в Пинске устраивали концерт артистов столичных театров (так всегда значилось в афише), он пел вместе с ними. Солисты застывали с разинутыми от изумления ртами — такой голосина вырывался из этого тщедушного тела. Ария из «Паяцев» или вокализ из «Лючии де Ламмермур» расстилались обычно как муслин, когда Томаш Маркевич возвращался домой. Зимой гремел частенько еще и Вагнер, особенно если стоял мороз. Непредвиденные горести поджидали Томаша Маркевича со стороны молодого Рогойского на дороге. Пока наконец как-то в мае, после обильных дождей, не завел Анджей захмелевшего пуще обычного Маркевича в лесные дебри, туда, где росли карликовые березы, не перерезал постромки и, шепнув в розовое младенческое ушко: «Прощай, соловушка!», не столкнул экипаж прямо в трясину. И уже никогда больше не возносился над камышами Леонкавалло и Доницетти, не жаловался Эгмонт и не похвалялся Дон Жуан. «Допелся наш лесничий до смерти», — говаривали окрестные жители, вспоминая его.
Анджей преследовал самых разных людей, всех, кто подвернется, лишь от местной шляхты держался подальше. Как-то он встретил двух асессоров, направлявшихся в Гомель на перекладных по делу столь важному и до того государственному, что даже бричку окутывал запах бумаги и чернил. Анджей наскочил на них галопом, треснул кучера нагайкой по голове, так что тот потерял сознание, гаркнул: «Стой!» — и представился пораженным асессорам как исправник Сагин, разыскивающий двух опасных бандитов, путешествующих под видом чиновников, после чего достал револьвер и велел обоим раздеться донага. Кучера он отпустил, предварительно изрядно его избив, а мундиры асессоров подарил каким-то полудуркам в ближней деревне. Асессоры отыскались несколько месяцев спустя, уже осенью. Оба были одержимы манией преследования, отощавшие тела в рубищах, один божился, что асессором никогда не был, другой — что никогда не будет, зато один из полудурков сделал благодаря мундиру и печатке с царским орлом короткую, но впечатляющую карьеру, пока мужики не забили его кольями под Соловьевкой.
Бывали встречи необычайные, сказочные, почти поэтические. В ноябре, в ту пору, когда день переходит в ночь и еще не темно, но видно хуже, чем ночью, в эти сумерки, неблагоприятные для скитаний по дорогам, полям и лесам, он отпустил поводья и, свесив голову на грудь, исхудалый, заросший, погруженный в мысли, а может, и вовсе без думы, разомлевший от дремы, наткнулся вдруг на рысившую навстречу упряжку лошадей. Те испугались, дернули вбок бричку, и из нее вывалился в канаву спящий ксендз прихода святого Луки в Кобрыне и заодно с ним пять собак, которых он получил в подарок на праздник своего патрона от самого заядлого во всей округе охотника Игнация Самрота. Ксендз сломал руку, собаки разбежались, ни одной из них потом не нашли, поскольку, по слухам, это были дикие, вовсе даже не охотничьи собаки, лишь плоды эксперимента то ли с лисами, то ли белками — в общем, что-то в этом роде.
Анджей то скитался по окрестностям, то сидел в участке в ожидании очередного разбирательства. Дома бывал редко, а если бывал, то либо принимал хвойные ванны, либо спал. На Катажину он не обращал никакого внимания, в связи с чем та теряла свою прелесть и полнела. Все судебные дела решались с согласия потерпевших и под влиянием Францишека выездным судом из Гродно, у которого была как бы монополия на все Анджеевы тяжбы и который разбирал даже дело с пропавшими асессорами, хотя этим должен был бы заняться суд более высокой инстанции, прими дело менее благоприятный оборот. А то, что дела принимали именно такой оборот, какой принимали, было заслугой Францишека, использовавшего старый, как само судопроизводство, способ. И оттого пребывание Анджея в участках было столь же частым, сколь и непродолжительным, а знакомства с местными жандармами столь же обширными, сколь и поверхностными.
Так продолжалось несколько лет, пока однажды летним утром Анджей не почувствовал, что у него нет желания куда-либо ехать, кого-либо пугать, что он с бо́льшим удовольствием проведет время в постели. Тем не менее он себя превозмог, умылся, побрился, надел халат, уселся в плетеное кресло-качалку и просидел так до вечера. Больше он с этого кресла не вставал. Летом качался в саду или на веранде, зимой — перед камином в гостиной или у себя в комнате. При этом не произносил ни слова. Если спрашивали — отвечал, но кратко.
Месяц спустя после того, как началась эта странная болезнь, из Хортыня приехал Францишек, прошел своими мелкими, быстрыми шажками в гостиную. Анджей на этот раз сидел в доме, ибо день был ненастный. Старик затарахтел в раздражении:
— Ну что? Хочешь так прокачаться всю жизнь? Что у тебя болит? Голова? Живот? Не перевариваешь пищу? Послать тебя куда-нибудь, может, на какие воды? К профессорам в Варшаву, а то и прямиком в Питер, у нас здесь не врачи — коновалы… собачья их мать. Надо что-то придумать. Ну так что?
Анджей в ответ лишь усмехнулся и махнул рукой. Старик взял Катажину под локоток, отвел к окну и шепотом спросил:
— А ты как считаешь?
— Злой дух, — ответила та, вся подобравшись и побледнев.
— Что такое? — затарахтел Францишек. — Ты это о чем?
— Злой дух, — повторила Катажина, — вступил в него или обретается где-то рядом и от него — ни на шаг. Иногда чувствую, что он рядом, а иногда — в нем, внутри…
— Ты, Кася, я вижу, совсем спятила. Всегда была с придурью, а теперь сдурела окончательно. Супружество, вижу, пошло тебе не на пользу. — Он потрусил к окну и, махнув рукой, не сдерживаясь уже, бросил на ходу: — Да и развезло тебя, Кася, последнее время.
— Не понимаю, Grandfather[11], — прошептала она, краснея.
— Плоти прибывает. Жрешь много, что ли?
— Не понимаю, — повторила она тихо.
— Не понимаю, не понимаю… — перебил в раздражении Францишек. — Поменьше варенья, побольше движенья — вот и вся философия. — Он заложил руки за спину и повернулся на каблуках. — Ну ладно, — произнес он примирительным тоном, — знаешь, что мне в голову пришло: ты женщина гладкая, в теле, если б ты, скажем… вот. — Он покрутил рукой, а потом произвел неприличный жест. — Ну, ясно тебе или нет?
— Нет, Grandfather, неясно, — отвечала она глухо, а он буркнул что-то и махнул в досаде рукой.
Осенью он забрал у нее сына. С жестокой прямотой сказал, что не может доверить судьбу своего правнука особе, которая загибает о духах, даже если эта особа его мать.
— А еще вот что, — кричал он, бегая по дому, — парню уже девять лет. Хватит с него локончиков, платочков, воротничков, плюшевых кошек, мишек и всего этого «тю-тю-тю». Через два года я определю его к салезианцам, а пока, между делом, пусть-ка позанимается с ним учитель в Гродно… Отставной артиллерийский офицер.
На замечание Катажины, что опека, которой он окружил с детства ее мужа, не пошла тому на пользу, он закусил губу и, подавшись вперед, со злым блеском в черных, не угасших к старости глазах, вплотную подошел к ней и, обдав кислым табачным духом, выпалил:
— Видишь ли, малышка, это бабское, неразумное рассуждение. Я делал что в моих силах. Уверяю тебя, ничем не пренебрег, ничего не прохлопал, говорю начистоту: все, что можно было сделать, сделано. Анджей возьмет с полочки книжку или газету и прочитает что надо вслух или про себя. И манеры у него, скажем за столом, как ты сама изволила заметить, безукоризненные. По-французски он так и шпарит без акцента. Говорит еще по-русски, по-польски и по-немецки. Служил офицером, да еще в лучшем полку, в каком только возможно. Даже в университете поучился. Ну, и сравним теперь со мной или хотя бы с его отцом, Яшкой. Прикинь-ка еще разок, много я сделал или мало?
В день отъезда сына, толстенького мальчика с длинными черными локонами, придающими ему сходство с девочкой, Катажина дважды упала в обморок, но, бледная, опухшая от слез, подурневшая, она уже примирилась с судьбой. Спросила у старика, когда можно будет навестить сына, и тот, почесав по-мужичьи свои еще черные кудлы, ответил, что он над этим подумает.
— Ну а если говорить начистоту, — буркнул он хмуро, — забирай Басю и отправляйся в Варшаву или там куда хочешь. Чего тебе тут делать? Анджею ты уже не нужна, сдается мне, никто ему теперь не нужен. Твой сын в Гродно будет на ученье, мне ты тоже ни к чему, сама видишь… Нечего тебе тут делать. Надо будет, извещу.
Через две недели Катажина уехала, чтобы никогда больше не возвращаться. Забрала с собой вещи, которые привезла десять лет назад, и восьмилетнюю дочку Басю.
Францишек, несмотря на преклонный возраст, правил в своих владениях круто, уверенно и жестоко. Расталкивая локтями всех вокруг, скупал лес, который жадно пожирали две его современные лесопильни, выплевывая доски и опилки. Уже год, как содержал в Соловьевке винокурню. Правда, начал сказываться возраст. Он ходил тем же быстрым, мелким шагом, но опирался при этом на палку. Вдруг замирал и хватался за грудь, тяжело дыша. Под утро его душил сухой, назойливый кашель. Поднимался он по-прежнему рано, но уже не на рассвете, а с вечера долго не мог уснуть. Просиживал иногда чуть ли не час в клозете, бранясь и стеная.
С весны пользовался услугами секретаря, честолюбивого молодого человека, у которого тут же выбил из головы надежду на какую бы то ни было самостоятельность. Будучи не в силах объезжать фольварки и хлопотать в присутствии, он ограничивался письменными распоряжениями, такими же лаконичными и оскорбительными, какими были его устные приказы. Чиновников разных рангов и степеней он приводил в изумление кратким и независимым стилем своих писем, которые диктовал, расхаживая по кабинету, растерянному секретарю.
Однажды к нему заехала Агнешка Обжиемская, пятидесятилетняя девица, дочь старостихи, с просьбой сделать пожертвования на приют для слепых, который поручила ей учредить по завещанию мать. Францишек был гостеприимен, угостил обедом, но денег не дал.
— Ну что вы, уважаемый, — воскликнула Агнешка, — дайте сколько можете! Хоть небольшую сумму. Вот Самроты, например, в затруднительном положении, но пятьдесят рублей дали. Ведь речь о калеках, о людях обиженных судьбой, к тому же о детях, вы и сами, наверное, знаете, что детьми в основном наш лазарет и заполнен.
— Ну а что, разве эти дети когда-нибудь прозреют? — осведомился Францишек.
— Жестокая судьба всего их лишила, — ответила с пафосом Агнешка.
— Короче, надежды на грош?
— Ну разумеется! Это столь несчастные существа, лишь каменное сердце, глядя на них, не содрогнется.
— Не видят и никогда не прозреют?
— Никогда, сударь, никогда!
— В таком случае не дам ни рубля! — крикнул со злостью Францишек. — Ни копейки не дам! Нет у меня привычки швыряться деньгами. Никакой пользы ни от денег, ни от детишек, значит, дело, можно сказать, бессмысленное.
— Бессмысленное? — Агнешка заморгала, поднося руки к вискам.
— Да, благодетельница, бессмысленное.
— Ну а на музыкантов вы, говорят, Новаковскому дали, и, говорят, немало.
— Да, на музыкантов дал, а здесь не дам, и точка!
Таким отношением к чужим бедам старик Рогой не снискал, разумеется, ничьих симпатий и не возвел мосты между собой и соседями — те мосты, которые навело бы, вероятно, время при условии, что хрупкие и неустойчивые еще конструкции не разрушались бы необдуманными действиями. Все по-прежнему считали его мерзавцем и хамом.
Старик много внимания уделял теперь огороду, учил огородниц, которых выбирал из незамужних крестьянок, исходя из того соображения, что овощ и женщина имеют много общих черт и потому превосходно друг с другом сочетаются. Наблюдал он и за образованием правнука, навещая его раз в месяц в Гродно. Тот рос здоровым мальчиком, а воистину военная дисциплина, которую ввел Альфонс Шторне, отставной артиллерийский капитан, ныне его опекун и учитель, превратила его из толстенького херувимчика в гибкого мальчишку со здоровым цветом лица и лукавым взглядом. День был расписан по минутам, и изрядная его часть отводилась шведской гимнастике, большим поклонником которой был Шторне. Он твердил при каждом удобном случае, что немецкий язык, математика и физические упражнения, если овладеть всем этим в совершенстве, любого дохляка превратят в мужчину, и Францишек полностью разделял его взгляды. Когда мальчику стукнуло двенадцать, его отдали в салезианскую гимназию с интернатом, ту самую, где учился его отец.
Через год ветреным и морозным днем его вызвал к себе отец Зенобий, классный наставник, и сообщил, что из деревни пришло известие о болезни отца. Это было пять месяцев спустя после смерти Францишека, который кончил свои дни в клозете, превозмогая запор. Отец Зенобий отвез мальчика в Пинск. На станции ждали уже лошади. Мики, как звали его мать и товарищи по гимназии, спросил у кучера, устраиваясь в санях, о причине болезни отца, о ее течении, но тот щелкнул кнутом и ответил по-хамски, что это не его, мужичье, дело, что лучше спросить у докторов. «А что говорят доктора?» — осведомился мальчик, но ответа не получил. За несколько часов езды, несмотря на все попытки разговориться с кучером, ему не удалось добиться никаких разъяснений. Громкие ответы кучера были грубы и неприязненны, тем же самым тоном он обращался и к лошадям, которыми был недоволен.
Смерть прадеда была для мальчика событием значительным, но не болезненным. Просто он исчез из его жизни, как тремя годами ранее исчезли мать и Бася, как исчез его любимый спаниель Докс, который напоролся на острие металлического забора, как исчезло дерево, на которое он любил залезать, когда жили все вместе. Что касается отца, тот был фигурой загадочной, так же как загадочным казался огромный чердак в Ренге, куда ходить было запрещено и куда, разумеется, он забирался украдкой, с бьющимся сердцем и с необъяснимым страхом в душе.
Однажды во время каникул, которые он проводил у прадеда в Хортыне, они отправились на двуколке в Ренг. Правили с прадедом по очереди и после двух часов езды погожим, но уже прохладным днем в конце августа вошли в большие и всегда темные сени. Долго-долго они их пересекали. Прадед прихрамывал и шел маленькими шажками, пошатываясь при этом. Закутанный в плед отец сидел на веранде, где, кроме кресла, ничего не было. И тут мальчик вспомнил: когда он жил здесь с матерью и сестрой, это было самое веселое место в доме. Здесь стояла плетеная мебель, красовались цветы в горшочках, а по стене вился плющ. Летом здесь завтракали и полдничали. Стена теперь была голая, с потеками, от цветов остались лишь ящички да горшки с высохшей землей. Отец выглядел не так уж и плохо. Правда, сильно зарос щетиной да ногти у него были длинные и грязные. Он не переставая качался, даже не повернул головы к вошедшим. Прадед спросил, как он себя чувствует, но ответа не последовало. Он стоял против своего внука сильно постаревший, но по-своему элегантный, чистый, благоухающий лавандой, с коротко остриженными, тронутыми сединой волосами.
— Я привез тебе сына, — прострекотал он тонким старческим голосом.
Тогда отец перестал раскачиваться и, не поворачивая головы, протянул руку. Она была ужасна — смуглая, худая, с выступающими жилами, с необычайно длинными пальцами, удлиненными нестрижеными ногтями. Тут мальчик почувствовал, что эта рука протянута ему, не прадеду, что он должен как-то ответить на этот жест, потому что человек в кресле ждет. Он не знал, что ему делать. Всунуть ли в эту руку свою маленькую детскую лапку, всегда теплую и чуть влажную, или только приблизиться, или, может, поцеловать ее, как он это делал в порыве ласки с рукой матери. Он понимал: надо что-то сделать; более того, чувствовал, что сам хочет какого-то ответного жеста. И тут он ощутил на плече тоже смуглую и худую, но сильную и чистую руку прадеда — тот удержал его. Длилось это недолго, двадцать-тридцать секунд, не более, но из всей встречи с отцом эта сцена особенно запомнилась ему. Потом прадед что-то сказал, отец закивал головой в ответ. Тут же они покинули веранду, а когда были в гостиной, он оглянулся: ему показалось, отец все еще протягивает руку, словно рассчитывая на что-то.
Была уже ночь, когда кучер, не оборачиваясь с козел, буркнул:
— Приехали!
Но Мики спал, закутанный в полость. Кучер повернулся и ткнул его кончиком кнута. Мики стал вылезать из саней с сундучком в руке, поставил одну ногу на землю, другую вытаскивал из соломы, но кучер почему-то хватил кнутом по лошадям, те дернули. Сонный еще Мики потерял равновесие и полетел в снег, выпустив сундучок. Не успев подняться, понял: с ним ничего не случилось, просто он попал в сугроб, и еще он удивился, почему здесь не убирают снег и от дороги к дому ведет узенькая протоптанная, а не расчищенная тропка. Он встал, закинул голову и увидел: дом не освещен, лишь во флигеле, метрах в сорока справа, мерцал в одном окне огонек. Он поднялся на крыльцо, толкнул тяжелые резные двери с поржавевшими ручками. Отряхиваясь от снега, Мики снял варежки, а когда схватился за покрытый инеем засов, рука прилипла к железу и стало больно. Дверь со скрипом отворилась, и из обширных сеней на него пахнуло влажным холодом. Он вошел в этот зев, внутри было пусто и с каждым шагом становилось все темнее. Дверь захлопнулась за ним, и прошел сквозняк. Сделав с опаской несколько шажков, словно он перемещался по замерзшему пруду, не уверенный, выдержит ли лед, Мики толкнул следующую дверь, и та распахнулась. Он вошел в столовую, где было гораздо светлее, но только потому, что занавеси кто-то раздвинул. Но и здесь было пусто и холодно. Он заглянул в следующую комнату, соединявшую столовую с гостиной, но и там — никого. Он хотел было позвать и открыл уже рот, но тут же сообразил, что не знает, кого звать, и только прошептал: «Эй!» Оставив сундучок на запыленном подоконнике, он вышел из дома и свернул к флигелю, где светился огонек. Туда тоже вела лишь узенькая тропка. Он осторожно ставил ноги в чьи-то следы на снегу, чтобы не потерять равновесия. Заглянул через стекло вовнутрь, но оно замерзло, и Мики с трудом различил силуэт сидящего человека. Обойдя флигель, он толкнул неплотно закрытую дверь. За столом сидели две средних лет женщины. Одну из них он узнал, она служила у них кухаркой. Перед ними торчала двухлитровая бутыль водки, наполовину уже пустая, еще он увидел две жестяные кружки, а на обрывке бумаги — ломти хлеба и горсточку серой соли, тут же — выпотрошенную, наполовину ощипанную курицу.
— Глянь, Клаша, ты только глянь, какой красавчик! — воскликнула кухарка.
Та, которую она назвала Клашей, подняла разгоряченное лицо с маслено блестевшими глазами.
— Что за чертяка?
— Приехал, приехал… Это за ним Юзеф на станцию ездил. Вырос, кавалером стал. Уж он-то бы тебя, Клаша, утешил! С таким бы поволохаться.
Клаша протяжно вздохнула, и вся комната наполнилась запахом лука, табака и ржаного хлеба.
— Что за чертяка? Откуда?
— С уни… уни… универсифитету, — пояснила кухарка.
Потом, расставив ноги, опустила голову, и с потрескавшейся губы вместе с остатками блевотины потекла слюна.
Мальчик поправил на голове кроличью шапку с пушистыми наушниками и вышел из флигеля. Он направился в конюшню, надеясь застать там еще кучера. Когда он, пройдя дом, брел по снежной целине, подернутой настом и отполированной ветром, он вдруг услышал, что за ним кто-то идет. Остановился и подождал, пока не подошел высокий плечистый мужчина, который нес огарок, прикрывая его ладонью. Это был камердинер отца Станислав. Лицо бледное, осунувшееся, глаза ввалились. Весь сам не свой.
— Почему здесь так пусто? Где люди? — спросил мальчик, нервно поигрывая варежками, болтавшимися с двух сторон шубейки на тесемках.
— Что вы, что вы, — выдохнул слуга, — я вас, панич, с самого полудня караулю. — Он вытер нос озябшей красной рукой и произнес скороговоркой, не глядя на мальчика, прижимая к себе дотлевающий огарок: — Пойдемте ко мне, панич, напьетесь чаю, замерзли, наверное, по дороге, а? Пошли!
Мики молчал, потом, кивнув в сторону дома, спросил:
— Почему там темно и холодно? Где отец? Что с ним?
— В доме никого нету, — ответил смущенный слуга. — Барин лежит наверху, в башне. Хозяйка и панна Бася не приехали. Служба вся разбежалась, да ведь и праздники не за горами. Ну и… — он опять вздохнул, — после смерти старого пана все пошло кувырком. Ни порядку, ни острастки. — И, переступив с ноги на ногу, повторил: — А хозяин лежит там, в башне, а хозяйка с панной Басей не приехали.
— А маму известили? — спросил мальчик.
— То есть как? — осведомился старик, поднося огарок к лицу, славно хотел сглотнуть дотлевающее пламя.
— Телеграмму в Варшаву послали?
— Ну нет… Не знаю, хозяин не велел.
— А кто телеграфировал в Крукланы?
— Я. Хозяин велел, позови, мол, сына, ну я и пошел, послал телеграмму.
Мальчик направился к дому.
— Ведите, Станислав, ведите. Покажете, где отец.
Они вошли в сени, где его вновь обдало тем самым холодом и запахом давно не топленного дома, который он позже не раз ощущал в покинутых усадьбах и квартирах.
— Сверните здесь, панич, — тихо, почти шепотом, проговорил слуга. — Левее, по коридорчику, а потом наверх по лестнице.
— Ведите, Станислав, — повторил мальчик.
Слуга пошел впереди, и в скором времени они очутились возле детской, за ней две пустые комнаты, потом комнаты матери, потом три комнаты для гостей, разделенные небольшой гостиной, где когда-то стояло белое пианино, потом оно было продано.
— Где лежит отец? — вновь спросил мальчик.
— В башне, — повторил Станислав. — Да ведь уже поздно, хозяин, поди, спит. Не надо его беспокоить.
— Идите, Станислав, впереди и светите, — сказал мальчик.
Они дошли до конца коридора. Слуга открыл отделанную бронзой дверь. Тут было еще холоднее, дул ветер из разбитого окна. Широкая витая лестница вела в нежилую круглую комнату, куда он частенько забирался летом, потому что там всегда стояла прохлада, а отец, пока был здоров, любовался оттуда лесами и проводил долгие часы, играя сам с собой в карамболь. Мама всегда была недовольна, если они туда ходили.
— Идите же, Станислав, идите! — крикнул Мики в забавной мальчишеской досаде, которая была тем смешнее, чем яснее ее нелепость сознавал сам ребенок, у которого стремление повелевать старшим оказалось сильнее навыков, привитых воспитанием.
— Так ведь ночь, — прошептал слуга, и его освещенное угасающим огарком лицо осунулось еще больше. Руки тряслись. — Хозяин уже спит. Не надо бы теперь туда ходить. Ночь ведь…
— Веди! — воскликнул Мики и дал петуха.
Такое случалось и у его старших товарищей по гимназии, чего они ужасно стыдились. Мики тоже стало стыдно, хотя это произошло с ним впервые.
Слуга схватил его за отороченную кроличьим мехом шубейку и, притянув к себе, зашептал:
— Ну так я скажу вам, панич. Неладно туда сейчас ходить, уж поверьте мне, неладно. Никто ночью туда не пойдет, и я тоже. Ведь хозяин до утра не помрет. А утром все будет по-другому и он тоже будет другой. Вы замерзли, устали с дороги, пойдемте ко мне. Я живу тут близенько, за оранжереей. Чайку со спиртиком напьетесь, яичек набью. Вы так и так ночевать в доме не станете. А утром мы с вами пойдем к хозяину.
Мальчик глянул на выбитое окно, в которое сыпал снег, потом на мрак в высоте лестницы, там, где она кончалась, подумал о яичнице со шкварками, о горячем чае, о горьковатом запахе ржаного хлеба и, пересилив себя, сказал вполголоса:
— Не болтайте глупостей, Станислав, — и, поглядев на него сверху вниз, поскольку стоял на три ступеньки выше, добавил: — Отпустите меня.
И двинулся вверх один. Вскоре нащупал дверь и вошел в овальную комнату. В нос ему ударил запах мочи, свеч и табаку. Первое, что бросилось в глаза, — стол для карамболя, выдвинутый на середину. С ним в свое время было немало неприятностей, потому что местный столяр три раза его пытался сделать и три раза у него ничего не получалось, отец страшно его избил, отчего тот оглох. Стол пришлось заказать в Седльцах, ждали его целую вечность, отец выходил по этому поводу из себя, пока стол не привезли четыре агента и не установили в библиотеке, откуда через несколько недель отец велел перенести его в башню. Теперь этот стол стоял посреди комнаты, зеленея, как лужайка после первого покоса, у борта лежал мел для натирки кия, а у другого борта виднелись три шара величиной с яйцо — желтый, белый и красный. Когда он смотрел прежде на стол, на это сукно, туго натянутое на мраморной плите, у него всегда появлялось желание ударить по шару так, чтобы тот, толкнув другой, испустил звук, похожий на отрывистый лай, но сделать это не решался, зная, что отец был бы недоволен, скажи ему кто-нибудь об этом; по той же причине он никогда не притрагивался к киям, вставленным в деревянную подставку.
Другая вещь, которая тоже сразу бросилась в глаза, изумила и потрясла его.
Все время с той самой минуты, как пришли дурные вести из Ренга, он думал об отце. И тогда, когда в необогретом и вонючем купе взглядывал время от времени на простецкое лицо отца Зенобия, и потом в санях, когда перед ним тряслась чахоточная спина кучера, и тогда, когда забрел к пьяным кухаркам и встретил потом за домом Станислава. Он думал об отце с нежностью, какая появляется в человеке, если он думает о существе пусть далеком, но страдающем, к которому направляется, чтобы помочь, утешить. Тем временем на узкой железной кровати, какие были у него в школе, лежал человек на отца не похожий, по всей видимости, не страдающий и, пожалуй, в хорошем расположении духа. Отец никогда не был высоким, а этот казался вовсе маленьким, его хилое тело с головой, лежащей на двух подушках, едва достигало середины постели, оно было точно обозначено под слоем одеял вертикально торчащими стопами. На голове лохматились длинные волосы, совершенно седые и закрученные на макушке, словно кто-то пытался взбить ему кок. Выглядело это забавно. Махонькое личико терялось в этих белых прядях, а нос торчал, как петушиный клюв. Он напоминал канцлера на иллюстрациях к сказкам Гофмана, которые зимними вечерами читала ему и Басе мать, изображая голосом людей, животных и предметы.
— А вот и ты, Макс, — прогудел неизвестный с кровати, и эхо отозвалось в пустой комнате. После этого он засмеялся, обнажив большие белые зубы — единственное, что напомнило мальчику отца. — Вот и ты, Макс. — И он протянул к нему тонкую, как пластинка, руку.
Мики вновь обвел взглядом комнату, где, кроме стола для карамболя и кровати, больше ничего не было.
— А там внизу, наверное, везде темно и пусто, а? — осведомился лежащий, щеря свои великолепные зубы. — Так же, как здесь. — И он рукой обвел комнату, ярко освещенную двумя толстыми свечами.
— Там очень холодно, — сказал мальчик.
— Весьма возможно, — согласился отец. — На дворе зима, а дом с прошлого года не топленный.
— Почему нет ни мамы, ни Баси? — спросил Мики, стоя по-прежнему на пороге низких дверей на фоне чернеющей пустоты.
Отец перестал смеяться и, положив руку на одеяло, сказал тихо:
— Да здесь они, здесь. И мать, и Бася. — Он поманил мальчика пальцем: — Подойди-ка.
Мики закрыл двери и подошел к отцу. Поцеловал его в худую желто-смуглую щеку, поросшую сивой щетиной. От отца исходил резкий неприятный запах.
— Садись, — он указал ему место на краю кровати, и Мики, садясь, почувствовал, что пружины растянуты и середина кровати провалилась.
Он повернул к отцу голову и спросил:
— Папа, что с тобой?
Отец не ответил, разглядывал сына глазами, утратившими былую привлекательность.
— Что с тобой, папа? Чем ты болен? Почему никого нет? Почему так пусто? Что случилось со службой? — И, не дождавшись ответа, воскликнул, ударив о колено болтающимися на тесемках варежками: — Да я завтра… завтра же приедет доктор… Мы оповестим маму, натопим в комнатах, снесем тебя вниз. Я скажу Станиславу, чтобы…
— Кто это тебя так обкорнал? — прервал его отец. Металлический голос вновь прогудел в комнате.
Мальчик потер нос, из которого по причине холода потекло, и после паузы, пока, казалось, он договаривал про себя, чем еще завтра займется, ответил отцу:
— Салезианцы. Приор следит, чтобы волосы были не длиннее ногтя. Если длиннее хоть на миллиметр, пошлют дежурить на кухню или в спальни.
— Жаль, — вздохнул отец. — Локоны были тебе к лицу. Сколько тебе уже?
— Тринадцать.
— Ну, так ты мужчина. Не совсем взрослый, конечно… Как с мужчиной я и хотел с тобой поговорить. Пусть ты еще не совсем взрослый… Но другого случая не представится.
Он умолк, хотя чувствовалось, что будет продолжать. Несмотря на холод, на лбу, на впавших висках выступили капельки пота. Дышал он с усилием. Замшевая куртка, служившая ему летом для верховой езды, распахнулась на груди, под ней была шелковая рубашка — серая от грязи, без воротничка. Мальчик хотел что-то сказать, но отец остановил его движением руки. Воздух выходил из впалой груди со свистом, как из воздушного шарика, который придерживают пальцами, прежде чем перевязать ниткой. Так было долго, и мальчик беспокойно ерзал на месте, пытаясь найти более удобную позу, в конце концов соскользнул в середину кровати, зацепившись ногами за жесткую узкую раму, и наклонился для равновесия вперед. Он теребил в руках мягкую шапку, нежный мех ласкал пальцы, и пахло чем-то живым.
— Так вот, самое важное, — сказал наконец больной, и в усталых глазах его не было прежнего оживления, — самое важное, Макс, — имение. Дедушка за два года до смерти так мне все обстоятельно растолковал, что я хоть сейчас перескажу — и не ошибусь и ничего не перепутаю.
Произносил он это медленно-медленно, останавливаясь на каждом слове, положив на сердце тонкую руку, покрытую бурыми пятнами грязи.
— Много этого, хоть не так много, как я думал. Земли у нас — это Хортынь и девять фольварков, вместе с Ренгом. На четырех фольварках ипотека. Осталась от старых хозяев, прочие — чистые. Все разом больше пятнадцати тысяч гектаров, но земля плохая, к тому же половина — леса. В банке семьи Рейтцев помещены активы, наличные в рублях и ценные бумаги. Тот самый банк, совладельцем которого был когда-то мой тесть и твой дедушка, Юлиуш Хальтрейн. Это все официальное. А теперь слушай… — Отец схватил его за плечо и сжал с силой. Он почувствовал, как сквозь сукно и ватную подкладку в тело впиваются ногти.
Больной ослабил хватку и заговорил вновь, но мальчиком внезапно овладела дремота. Слушая, он различал отдельные слова, как, например, «Швейцария» и по-французски произнесенное название городка Сен-Галль, которое он когда-то уже слышал, только как бы в ином звучании, но не мог никак связать оба названия воедино. Долетело до него слово «сейф», только он не был уверен, слышал ли он его когда-то, но, не будучи уверенным, пришел тем не менее к выводу, что, так или иначе, есть в этом нечто важное, впрочем, главное не в этом, а в том, что слово красиво звучит, и он повторил его дважды, а отец одобрительно закивал. Потом Мики вновь погрузился в тот теплый туман, который вот уже несколько минут окутывал его, хотя он сопротивлялся этому. Может, он погрузился бы в него окончательно, не прозвучи красивое название, которое неизвестно почему, ибо он слышал его впервые, тотчас ассоциировалось с ласковым ветерком и многоцветно сверкающей на солнце водой. Это слово, произнесенное потом еще и в родительном падеже, звучало «Каспий», и в сознании мальчика появились толстые, обросшие мхом и ракушками бревна, торчащие ввысь, — конструкция, вобравшая в себя власть и силу.
Был такой момент, когда он не слышал ничего, даже свистящего дыхания, а потом очнулся и услышал вдруг фамилию «Кулага», отцу было, видимо, очень важно, чтоб это запечатлелось у него в памяти, потому что он повторил ее со стоном еще раз и тут же упал, тяжело дыша, на подушки и, казалось, закончил.
Смрадно коптили свечи в холодной душной комнате. От отца исходил неприятный запах. Мальчику было очень холодно, и он не мог уснуть, однако усталость мешала сосредоточиться. Отец, по всей видимости, это понял, в его глазах промелькнуло понимание тщетности дальнейших усилий.
Окна в башне были, насколько он помнил, высокими и узкими, в белых переплетах небольшие стекла. Теперь их затянули бордовым сукном, прибитым вверху гвоздиками к стене. Сукно без конца дышало, как если бы разница температур по обеим сторонам окон вызывала циркуляцию воздуха.
— Нотариальная контора «Гюмлох унд Фехт», — сказал вдруг отец и вновь приподнялся, словно хотел приблизиться к мальчику, оперся на локоть, но рука дрожала, как дрожит лошадь после долгого бега, — рента для матери, полторы тысячи в год. Басе заплатишь сам.
Мики подался чуть вперед и коснулся лбом коленей. Очень замерзли ноги, хотелось помочиться. Отец говорил уже про что-то другое, но Мики повторил вслух:
— Рента матери полторы тысячи в год, Басе заплачу сам, — и у него вызвало досаду, что голос, в начале фразы высокий и детский, перешел под конец в бас, каким говорил прадедушка, когда у него был бронхит.
Мальчик раздумывал, есть ли у отца горшок, а если есть, то удобно ли спросить об этом, и что сказать, если отец подтвердит, и вдруг услышал, что единственным наследником всего является он сам, но до совершеннолетия имуществом будет распоряжаться Кулага, что же касается остального — и тут вновь прозвучали те же красивые названия с таинственным Каспием во главе, — то все подстраховано вдвойне и с настоящего момента деньги изъяты из банковского оборота… И тут пошли пояснения, от которых вновь потянуло в сон.
Мики попытался нащупать ногами пол, до которого не доставал, и вновь посмотрел на стол для карамболя и на три вставленных в стойку кия.
— Доживешь до совершеннолетия — сам решишь, — тихо сказал отец и кашлянул.
«Что я должен решать, — подумал мальчик, — что?» Поднял голову и поглядел на отца, который то ли лежал, то ли сидел, опираясь на локоть. Глаза полузакрыты, а по запавшему, покрытому сетью прожилок виску катилась капля пота, похожая на слезу. «Разумеется, — подумал про себя мальчик, — придется решать мне. Затем я сюда и приехал». Он хотел было сказать об этом, но отец внезапно спросил:
— Часы у тебя есть?
— Да, папа.
— Который час?
Мики извлек из-под свитера часики в стальном футляре.
— Без четверти двенадцать.
— Выходит, ночь, — буркнул отец.
— Ночь, папа. Тебе, наверное, хочется спать. Ты устал.
— Да, только еще минуту.
Он открыл глаза, отбросил назад волосы, и только тут Мики обнаружил, что у отца очень высокий лоб.
— Еще одно, Макс. Это не совет и не предостережение: моя жизнь не дает мне права ни на то, ни на другое. Но последние годы я много думал, однако не предполагал, что придется с кем-нибудь этим поделиться. Мы знаем друг друга мало, собственно, совсем не знаем, но ведь ты мой сын, правда, Макс?
— Да, папа.
— Жил я, по всей видимости, позорно. Подло, глупо и позорно. Жил — как хотел, как мне нравилось. Независимо от обычаев, законов, совести, даже совести, правда, Макс?
— Нет… то есть… не знаю.
Отец подогнул ноги, и мальчик провалился в продавленную кровать. Хотел выкарабкаться, но отец удержал его за плечо, он так и остался в прежней позе, привалившись боком к коленям отца, с ногами, повисшими на добрых десять сантиметров от пола, и стало ему вдруг удобно и даже вроде не так холодно.
Отец, вновь откинувшись на подушки и глядя в потолок, вполголоса продолжал:
— Было это, в сущности, довольно забавно… — Сказал, обращаясь явно к самому себе, и Мики был рад, что можно не отвечать. Он вслушивался в слова отца, отмеряемые тяжелым дыханием. — Если начистоту, Макс, так нет ничего. Ни зла, ни добра. Ни ненависти, ни любви. Ни сатаны, ни Бога. Только безмолвная, холодная, равнодушная вселенная. Да, так оно, пожалуй, и есть. Ничего иного, Макс, мы на нашем случайном пути не обнаружим.
Он вновь закрыл глаза, но дышал уже легче, как человек, который погружается в сон, и мальчик подумал, что отец заснул, но не смел шевельнуться, вернее, не хотел, однако вскоре и у него веки сомкнулись.
— Что ты об этом думаешь? — прозвучал неожиданно и резко голос отца.
Мальчик вздрогнул и выпустил из рук шапку, она упала на колени и скатилась на пол.
— Не знаю, — ответил он, — прадедушка…
— Прадедушка, — неторопливо прервал отец, — не был, к счастью, умен. Между нами говоря, это был примитивный болван, уверенный, что его паршивая жизнь имеет смысл и кому-то нужна. Он был смешон и мерзок. Жалости у меня он не вызывал, потому что я знал: он счастлив. Он был слишком глуп, чтобы не быть счастливым. Возвращаясь к тому, с чего начал, скажу тебе, Макс: вопреки нашим надеждам и предположениям ничего, увы, нет. Но это еще не значит, что дозволено жить, как нам заблагорассудится. Наша уверенность такого права нам еще не дает. Последнее время я много думал об этом и пришел к выводу, что не существует ничего такого, что давало бы нам право на беззаботность и равнодушие, которые стали моей сутью. Сам я, разумеется, ничего и никого не жалею, это было бы глупо, бессмысленно и глупо… Но это уже другой вопрос. Эти попики там, в школе, — говорили они тебе что-нибудь про инстинкт? Вы учили про это?
— Нет, папа, речь шла лишь про свободу воли.
Отец улыбнулся, подняв руку, проговорил:
— Это не одно и то же, Макс, это разные вещи. — Поерзал головой на подушке и, вновь отведя седые космы, сказал: — Пусть моя жизнь послужит тебе остережением. Забавная была жизнь, настоящая, это правильно, но бессмысленная. Вот ты спросишь, а зачем смысл, раз все равно ничего нету. Если спросишь, ответить не смогу. Это ужасно, Макс, но если поставить так вопрос, то могу сказать, что не знаю.
А мальчик подумал, что если отец не знает и считает, что это ужасно, значит, это ужасно, и ему сделалось как никогда жаль отца. И еще он подумал, что к чувству жалости не примешивается сочувствие и что жалость без сочувствия, может, и есть любовь. В тот момент, когда он так думал, глядя прямо перед собой, он ощутил вдруг толчок в плечо, повернул голову и увидел, что отец вновь приподнялся, всматривается в него своими запавшими глазами и пытается улыбнуться.
— Макс, — прошептал он, — запомни: жизнь отца была, может, и забавная и привольная, но без смысла и значения. Помни об этом в минуты безумия — это те испытания, на которые судьба не скупится. Но из них надо выйти победителем, а если победить невозможно, то хотя бы сохранить достоинство. Не сомневаюсь, ты способен это понять. — Отец повторил последнее слово несколько раз, все тише и тише, как если бы уходил прочь и говорил, удаляясь. Но минуту спустя вновь поднял на мальчика взгляд и, подтолкнув его, прошептал: — Ну, чего ждешь? Иди.
Мики выкарабкался из постели.
— Переночуешь в кабинете, там, наверное, не так холодно, накроешься моей шубой, она на вешалке. Завтра попроси у Станислава, чтоб дал лошадей до станции, и езжай в Варшаву. Рождество и Новый год проведешь с матерью… где захочешь… Сюда не возвращайся.
— Папа, я без тебя никуда не поеду! — крикнул мальчик. От жалости и бессильной злобы на глаза у него навернулись слезы. Случилось так оттого, что он мгновенно понял: он все-таки уедет — и поступит недостойно, — ибо иных возможностей нету. В этой детской горечи было много мужского стыда, который мучает нас болью и издевкой.
— Не задерживайся, сынок, — сказал отец. — Станислав все знает и все сделает, ты тут больше не нужен.
— Папа, я тебя не оставлю. Тебе нельзя так оставаться на праздники, одному, в таком холоде, ведь ты…
— Ступай, ступай, — просвистело у отца в груди. — Здесь никого уже нету. Здесь пусто. Иди, прошу тебя, Макс!
Мальчик запахнул шубейку, поднял с пола шапку, прижал к лицу. Подошел к столу и прикоснулся пальцем к одному из шаров. Тот был холодный и скользкий от сырости. Потом подошел к подставке с киями и потрогал их все по очереди. Остановился на полпути между кроватью и низенькой дверью с бронзовыми украшениями и, пытаясь вновь переубедить отца, отчеканил:
— Утром я велю заложить лошадей и пошлю за доктором. Отправлю Станислава, он даст телеграмму маме. Попрошу кухарку, чтоб натопила внизу, и, когда Станислав вернется, мы перенесем тебя, папа…
— Макс! — с силой прохрипел отец и растопыренными пальцами указал на дверь.
И тут по комнате прошло от закрытых окон к двери теплое дуновение, несущее запах нагретой травы, скошенного луга, тот самый теплый запах, какой врывается вовнутрь, когда распахивают окна в первый теплый день мая. Огоньки закрутились в воздухе, и свечи покривились в металлическом с узорами подсвечнике. Фигура отца в постели удалилась, лицо вытянулось, посерело и медленно погрузилось в подушку, так что минуту спустя на грязной наволочке маячила лишь тень. Дуновение промчалось, и в комнате стало вновь холодно, а свечи, согнутые в середине, затрещали, и парафин закапал на подушку, на которой никого уже не было. И это было так неправдоподобно — кренящиеся свечи, гаснущие огоньки, капающие восковые слезы и шипение фитилей.
Мальчик вскрикнул и выскочил из комнаты, захлопнув за собой дверь. Сбежал вниз по широкой винтовой лестнице, на которой валялись осенние листья, промчался по коридорчику, по боковой лесенке, ведущей узким наклонным туннелем вниз, и очутился в сенях. Здесь он задержался на мгновение, сматывая с шеи шарф, прошел в столовую, где было светло от лежащего на улице снега, и позвал шепотом: «Станислав…» Повторил вполголоса тот же призыв, потом истерически закричал, но никто не отозвался. Он бросился в соседнюю комнату, из нее — с криком — в гостиную. Но дом был пуст, и ему ответило только эхо. Мики выскочил на крыльцо и ринулся к флигелю, где уже не было света. Забарабанил по низенькой шершавой двери, но там стояла тишина. «Бежать! Бежать! — промелькнуло в воспаленной голове. — Не завтра, не утром, а немедленно, сейчас!»
Он двинулся по снежной целине, но перед ним, и слева, и справа, стеной стоял лес и только брешью зияла дорога с заметенными снегом колеями — дорога в никуда. Дорога через болота, бежать по ней страшно, отступить — тоже.
— Мама! — запищал мальчик. — Мама! Мама!..
И тогда из снежной целины, овеянной внезапными порывами ледяного ветра, словно по волшебству, выскочил желтый шар и проворно, беззвучно покатился в его сторону. Мальчик закрыл глаза и почувствовал, что цепенеет от ужаса, а сердце, которое колотилось до сих пор не только в груди, но и в каждой частице тела, от кончиков пальцев до головы, вдруг замерло, и он понял, что близится кульминация этой ужасной ночи, и почувствовал облегчение, поскольку знал: ничего более страшного, чем ожидание этого желтого шара, уже не случится. Миг, подумал он, всего лишь миг, и все свершится. Он открыл глаза, чтоб глянуть на темнеющие в двухстах метрах деревья, потом изо всех сил зажмурился, решив не размыкать больше век и принять последний удар в оцепенении. Потому что его тело, тринадцатилетняя тряпичная кукла, было на пределе физических сил и в любую секунду могло разлететься от внешнего толчка, как раздавленное яйцо. Он слышал шелест осыпающегося снега и частый хрип. Что-то бросилось ему под ноги и, когда он невольно опустился на колени, обдало лицо горячим дыханием. Что-то заскулило, и он ощутил запах конюшни. Снова теплое дыхание, что-то толкнуло его в грудь, и он, потеряв равновесие, опрокинулся на спину. Холодный, влажный кругляшок осторожно коснулся его щеки. Это было приятно, хотя страх еще не улетучился. Он прижался к пушистому, покрытому ледяными иголками меху. «Пойдем, пойдем», — забормотал, придерживая за мохнатую шею рослого дворового пса. Так они ввалились в сени. Дальше пес идти ни за что не желал, но мальчик, осчастливленный этой встречей, уже пришедший в себя, спокойный, втянул его за уши в столовую, хотя шерсть у пса встала дыбом, хотя он поджимал пушистый волчий хвост и скалил зубы. Рычащую без умолку собаку Мики протащил на упирающихся передних и поджатых задних лапах через гостиную, библиотеку в заваленный хламом кабинет, там втянул на кожаный скользкий диван, накрыл меховой шубой, а сам в придачу улегся сверху. Потом все это вместе — и собака, и мальчик, и тяжелая шуба — перекрутилось еще раз и замерло. Через несколько минут послышалось равномерное дыхание двух молодых здоровых существ, на одну-единственную ночь неожиданно соединенных и дарящих друг другу доверие и нежность, каких еще, может, никогда не было и не будет в их собачьей и человечьей судьбах.
Утром их разбудил Станислав, он вышвырнул пинком из кабинета собаку и закрутился по комнате, водя фланелевой тряпкой на короткой деревянной ручке по мебели и бормоча что-то без ладу и складу, а когда Мики пробудился после своего крепкого сна окончательно, пригласил его к себе на завтрак. Мики ответил отказом и попросил как можно скорее лошадей, чтоб ехать на станцию. Через час незнакомый ему разговорчивый парень довез его до Пинска.
Из дороги мальчику запомнилось немногое. В санях ему было холодно, еще холоднее в пустом зале ожидания, зато в поезде — очень жарко. Он ощущал, как распухают губы. Поезд без конца останавливался на станциях. Снаружи доносились тревожные голоса пассажиров, скрип снега. Ночью он пересел на другой поезд. Снег был мокрый, а когда тронулись, по стеклу потекли струи дождя. А еще до этого кто-то вел его по перрону, держа горячую руку в своей меховой рукавице, и этот кто-то беспрерывно его о чем-то спрашивал. Потом мальчик погрузился в глубокий сон с мучительными видениями. Порой, когда он пробуждался, перед ним маячило широкое озабоченное лицо, порой слышались над головой притишенные голоса, и эти голоса сливались вскоре со снами. Потом пришла длительная пауза без видений, вздохов, шепотов, а когда она кончилась, Мики сел на постели и заявил, что хочет чего-нибудь сладенького. Женщина в кресле, очень толстая и некрасивая, с тенями под глазами, улыбнулась, и они долго без слов смотрели друг на друга.
Из соседней комнаты долетали звуки рояля, потом зацокали где-то на лестнице каблучки, за окном заворковали голуби. Рояль смолк — и вновь чьи-то торопливые шаги на лестнице.
— Мама, — сказал Мики.
— Мики, — ответила женщина и расплакалась.
Он отодвинул подушку, приподнялся на локте и осмотрел комнату. На стуле, слева от кровати, восседала плюшевая кошка с черным кожаным носиком, с ухом, спадающим на стеклянный глаз. Дальше шкафик, на нем фиалки, еще дальше — двустворчатые двери. Стены светлые, оклеенные обоями с веселеньким узорчиком.
— Мама, — повторил мальчик и осторожно лег на бок, ухватив пальцами угол подушки.
Толстая усталая женщина потянула носом и утерла глаза внутренней стороной ладони, как это делают деревенские бабы, выплакавшись всласть. Пахло перетопленной печью.
— Мама, ты чего плачешь? — спросил он.
А она утерла нос, улыбнулась сквозь слезы и ответила, чуть заикаясь (так было у нее всегда, если она нервничала или была взволнована, мальчику это очень нравилось):
— Я больше не плачу, Мики, больше не плачу. — Она села на краешек постели и, уперев руку в подушку над его головой, сказала: — Ну, нагнал ты на нас страху, малыш.
Мальчик усмехнулся про себя, как делают это сорванцы, когда отмочат какой-нибудь небезопасный номер.
— А мы в Варшаве? — спросил он.
— Угу, — буркнула мать и поцеловала его в висок.
— Так я и думал, хотя не помню, как приехал. Только в санях было ужасно холодно, а потом на станции замерзли ноги.
— Да, Мики, — отозвалась женщина.
— Долго я спал? Который час?
— Полпервого. А спал ты почти две недели.
Мальчик поднял голову, но женщина закрыла ему рот ладонью и осторожно уложила вновь на подушку.
— У тебя было воспаление легких. Мы страшно за тебя боялись. Ты был очень, очень болен. А привезла тебя сюда какая-то дама с мужем.
— Болен? — переспросил мальчик. Он отстранил руку матери, перевернулся на спину и, прищурившись, уставился в потолок. Прошелся языком по растрескавшимся губам с ямками и припухлостями и, стиснув руки под одеялом, спросил глухим голосом:
— А что с отцом?
— Умер, — не медля ни секунды, ответила мать, может, даже с каким-то удовлетворением. — Умер еще до Нового года.
— Ах так, — прошептал мальчик.
Она приподнялась, чтобы его погладить, но он отстранил руку и закрыл глаза. Ему захотелось, чтоб мать снова пересела на кресло, и он сказал ей об этом.
— Когда умер отец? — Он лежал теперь вытянувшись, с заостренным болезнью лицом.
— Я же тебе сказала, перед Новым годом. — Голос матери прозвучал громко, даже сердито, и Мики подумал, что она смотрит на него с кресла, куда он велел ей пересесть, с обидой, может быть, даже с неприязнью.
— А когда точно?
— Не знаю.
— Неважно… — буркнул мальчик, и по его телу прошла несколько раз судорога. Это было не рыдание, это было нечто худшее и куда более жестокое, нечто такое, что длится мгновение, но терзает без милосердия.
— Что с тобой? — закричала мать. — Мики, ради Бога, что с тобой?!
А он вновь содрогнулся под одеялом, даже дернулась кровать. В комнату вбежала румяная девочка с бантом в волосах, и следом за ней явился элегантного вида мужчина, высокий и тощий. Он приблизился к постели и небрежно бросил:
— Конвульсии? Это в порядке вещей. Скоро пройдет.
Так оно и случилось, и мальчик сквозь стиснутые зубы спросил:
— Вы доктор? — И, не ожидая ответа, сказал: — Я хочу побыть один с мамой…
Но их не сразу оставили в покое. Девочка с бантом выбежала из комнаты и тотчас вернулась с каким-то пузырьком. Тощий схватил мальчика за шею и прямо в рот влил ему из пузырька что-то очень горькое, а потом на грудь положили теплый компресс. Он лежал уже успокоенный, однако отнюдь не лечением. А мать сказала мужчине:
— По-моему, все в порядке, папа. — И мужчина вышел из комнаты, а следом за ним девочка.
Мать вновь села на постель, ближе к подушке. Была она очень полная, и от нее било теплом, как от печки, и исходил едва уловимый запах пота, который порой так возбуждает иных мужчин, а детям дает чувство безопасности. Выглядела она не очень молодо.
— Отец не был добрым человеком, — тихо сказал мальчик.
Сказал с такой интонацией, что трудно было понять, утверждение это или вопрос. Тогда мать приблизила свое лицо к его лицу и замотала изо всех сил головой, стала горячо возражать, для него это было облегчением.
— Ничего дурного с ним теперь не случится?
— Нет! Можешь быть спокоен, — ответила мать, взяв его голову в ладони и глядя в глаза. — Никогда не говори и не думай об отце худо. Он не был злым, был несчастным, а это огромная разница. Люди этого обычно не понимают, но Господь все видит. Не смей говорить о нем худо, а если кто в твоем присутствии попытается это сделать, ты возражай, потому что против лжи надо возражать.
— Никого не было на похоронах… — заметил Мики.
— Да, никого из нас, — призналась мать.
— А сколько отцу было лет? — осведомился он, поворачивая голову и высвобождаясь из объятий матери.
— Тридцать три.
— Выходит, столько же, сколько…
— Да, мой мальчик, ровно столько же.
— Опять хочется спать, — сказал он и закрыл глаза, а мать повернулась и позвала кого-то из глубины квартиры. Он добавил тихонько: — Бедный папа.
Несколько минут спустя в комнату вошла девушка в фартуке. Она принесла стакан с гоголь-моголем, который ему влили тут же в рот. Две-три капельки упали на постель. В горле у Мики запершило, он откашлялся и мгновенно уснул.
В феврале он вернулся к салезианцам — правда, всего лишь затем, чтоб закончить второй класс. В третий класс он пошел в одну из варшавских гимназий, которую и кончил с табелем первого ученика пятью годами позже. Он записался на юридический факультет Варшавского университета. Через год перешел на философский, который кончил хоть и не без трудностей, но в срок. Один из профессоров, близкий знакомый Юлиуша Хальтрейна, охарактеризовал по просьбе последнего Максимилиана Рогойского следующим образом: не блестящий, но мыслящий. Не очень эффектный, но умный. Ум пока не упорядоченный, но глубокий и с отличными перспективами. Тип созерцательный с предрасположением к научной работе.
В университете он порывался писать стихи. Заинтересовался немецким романтизмом и вступил в кружок почитателей Гёте. Военная служба, которую он прошел на границе с Пруссией, не отпечаталась в его памяти ничем примечательным. Она была наполнена гарнизонной скукой, разгоняемой порой не слишком изысканными развлечениями. Сильнее всего запомнился горьковатый вкус пива в душный августовский вечер после каких-то маневров. Таким образом, здоровый и сильный двадцатипятилетний мужчина очутился осенью 1911 года перед вопросом: что дальше? До сих пор он был робким мальчиком, затем юным Нарциссом, привязанным к матери и ее семье, окруженным заботой, вниманием и любовью родственников, платящим за их чувства и труды той взаимностью, на какую только был способен. Он не приобрел большого круга друзей, хотя, в сущности, этому ничто не мешало, и, кроме студента-ботаника Кази Галицкого, верзилы с румяной, безмятежной физиономией и опасными левыми взглядами, а также Хаима Роттенвейлера, сына известного в Варшаве врача-акушера, приятелей у него не было. Его развитием вне школы руководил, разумеется, дедушка Юлиуш. Немалое влияние имел на него и дядя Генрик, старший брат матери, который, прожив двадцать лет в Вене, где писал музыкальные рецензии для какого-то малоизвестного еженедельника, вернулся наконец на родину. Это был тучный холостяк, большой умница и незаурядный знаток музыки, но растяпа и неудачник, да еще тяжелая болезнь сердца вдобавок. Все они занимали сейчас небольшую квартиру на Мокотовской улице. Рента, назначенная мужем Катажине, и то, что до своего совершеннолетия получал Максимилиан, позволяли содержать дом на более или менее пристойном уровне.
Особняк в Мокотове был продан Юлиушем Хальтрейном еще в начале века, а немалая сумма, вырученная на этой сделке, ушла на оплату кредиторов, которых оказалось больше, чем предполагали. Экспедиционная контора — последнее, что осталось у Хальтрейнов еще в годы их наибольшего процветания, которые, заметим кстати, давно миновали, — не служила гарантией благосостояния, тем более что и недуг бабушки Розы требовал частых поездок для лечения на воды; к этому можно добавить, что один из братьев Катажины, постоянно живущий в Дрездене, едва сводил концы с концами и, не будь денежных переводов, присылаемых порой из Варшавы, наверняка бы умер если не с голоду, то от отчаяния, и именно до этого может довести бедность безоружного, уязвимого, приученного с детства к комфорту человека.
Хортыньским имением распоряжался Иероним Кулага, человек образованный, честный и энергичный, которому далеко было тем не менее до торгового и административного гения Францишека Рогоя, в силу чего неприятности не обошли и тех мест. Надзор над деятельностью Кулаги осуществлял частично банк семьи Рейтцев, частично один из киевских банков, распоряжавшийся также нефтяными полями на Каспии.
Мики был мальчиком впечатлительным и сентиментальным. Вопреки кажущейся уравновешенности ощущал нередко тревогу и страх. С пятнадцати лет страдал бессонницей. Обладал удивительной способностью видеть все в черном свете именно тогда, когда было меньше всего оснований избежать скверного настроения. Заливался порой слезами, бывало это тогда, когда думал о близких, в особенности о матери. А та давно страдала водянкой. Ее покидали силы, и случались, особенно при перемене погоды, приступы удушья. Белое, раздавшееся вширь тело пани Катажины утратило человеческие контуры. Эта груда переливавшегося жира будила в душе тревогу. Мики часто думал о ее смерти, представлял себе мать в гробу и, не сомневаясь, что это рано или поздно совершится, не верил, что сможет пережить ее утрату. Мгновения страха и беспокойства отмеряли его детство, как метроном. Они являлись в самых неожиданных обстоятельствах, но неизменно тогда, когда могли причинить максимум боли и беспокойства — к примеру, в день именин, когда все были исполнены лучших чувств, кухарка готовила лакомства и по всему дому распространялся запах ванили. В эту минуту страх за близких и за себя мог возникнуть в образе паука или змеи и, затаясь поблизости, напитать его податливую душу едкой отравой. Страх и беспокойство были его постоянными и непрошеными спутниками.
Об отце он не думал. Но не потому, что не хотел, а потому, что не мог. Едва перед ним возникала последняя сцена в Ренге, в башне-клетке с накренившимися свечами, с тающей фигурой старца, едва переступившего порог тридцатилетия, — как только она возникала, эта страшная сцена, словно по иронии судьбы овеянная запахом весны и цветов, ему делалось дурно и он чуть не терял сознания. Его психика не в состоянии была переварить все это и оборонялась короткими, но внезапными приступами полной бесчувственности.
Он много сидел дома, погруженный в чтение. Когда ему еще не было восемнадцати, он уже вооружился всем арсеналом европейской литературы, знал многих прозаиков и поэтов, которых не знали даже весьма образованные люди. У него не возникло литературных пристрастий, и он одинаково охотно читал как Дюма, так и Достоевского, как Рембо, так и Конопницкую — и, что главное, не стыдился этого и не пробовал таиться. Чутко реагировал на новые направления, с пониманием относился к литературному авангарду, но, не выказывая свойственную его возрасту готовность уступать обаянию новых кумиров, он без колебаний противопоставлял им хищного, лишенного иллюзий Гоголя или же сентиментального Харди. К двадцати годам он бегло говорил на трех языках — русском, французском и немецком, — мог изъясняться и по-английски.
Когда он был на третьем курсе университета, его пригласил к себе представитель банка семьи Рейтцев и сообщил, что через две недели, согласно воле отца, он вступит во владение имением, оцениваемым в полмиллиона рублей.
Тот факт, что он сделался Крезом, мало что изменил в его жизни. Он по-прежнему проводил много времени дома, редко выезжал из города, много читал и даже принялся писать о немецкой поэзии. Был по-прежнему неразговорчив, особенно в обществе незнакомых людей, скрытен, легко поддавался смене настроений. Исследование о немецких романтиках быстро продвигалось вперед, через полгода он показал его дедушке. Это были две толстые тетрадки, исписанные каллиграфическим почерком с характерным наклоном, какой свойствен людям методичным и серьезным.
Дедушка через два дня вернул рукопись, сказав, что ей свойственны все пороки дебютанта.
— Прежде всего, — объяснял он, устроившись в кресле в своем небольшом, со вкусом обставленном кабинете, худощавый, изысканный, уверенный в себе и в то же время любезный и тактичный шестидесятишестилетний сибарит, — прежде всего тебе следует избрать определенную форму. Здесь выбор велик, но уж коль скоро форма избрана, то необходимо последовательно ее придерживаться. Что же это такое? Трактат, исследование, может быть, эссе? Но эссе пишется вовсе не так, как исследование, а у трактата существуют иные законы, нежели у критической статьи. Это во-первых, мой друг. Когда же ты изберешь форму, то подумай о содержании, ведь обо всем сразу не напишешь. На одной странице у тебя, впрочем, любопытные рассуждения о сущности поэзии, а на другой — энциклопедические сведения о Брентано. Так нельзя. На твоем месте я избрал бы какой-то главный мотив, рассматривал бы какой-то один признак или черту, которая объединяет или, наоборот, разъединяет немецких романтиков. Не уверен, правильно ли ты поступаешь, излагая все это по-польски. Польский оставь тем, кто не знает немецкого. То, что ты мне показал, говорит, несомненно, о широте твоих интересов и о легкости пера, которое я не назвал бы еще талантливым.
Макс не принял к сведению ни одно из замечаний дедушки и продолжал работать по-прежнему, смешивая фантазию с действительностью, вымысел с правдой, рассуждения о ритме у Шиллера с выспренним толкованием болезненных странностей Гейне и их влияния на мистический аспект его творчества.
Вопрос «что дальше?», который задают себе многие люди на пороге зрелости, бывает обычно риторическим, потому что возможности, весьма ограниченные, лишают их вскоре иллюзий и надежды. Это относится к тем, кому судьба не вручила козырную карту. Их вопрос «что дальше?» можно приравнять к вопросу «летать или не летать?». Но это не имело касательства к Максу, которому жизнь действительно предоставила выбор. Богатый, образованный, здоровый. Чего же еще? Да он ничего больше и не желал, стремясь лишь сохранить то, что имел, и считая положение вещей вполне естественным. Значения деньгам он не придавал. У него было их слишком много. Не из-за этого он волновался. Он принадлежал к тем, кто чувствителен к ходу времени, хотя годы не наложили на его плоть своего неизбежного клейма, они лишь пробороздили в его душе тоненькую черточку, такую, какую читатель оставляет в черно-белых просторах книги, когда собирается по прихоти или по необходимости вернуться к тому или иному месту. Макс был обеспокоен состоянием своего тела, а мысль, что из пяти наиболее близких ему людей двое безнадежно больны, невольно пугала его, значит такой же может быть и его участь. Кроме того, он не знал, что делать со своим разбуженным, но неупорядоченным интеллектом. В этом отношении учеба дала ему меньше, чем он рассчитывал. В тот самый год, когда ему исполнилось двадцать пять, он уехал в деревню. Последний раз в Хортыне он жил давным-давно на каникулах вместе с матерью, Басей и дядюшкой. Теперь это было нечто иное, теперь он отправился туда один — выяснить, как ведется хозяйство. Начало не сулило успеха, его равнодушие к земле и ко всему, что с ней связано, не рождало надежды, что со временем он полюбит, что привыкнет. Напротив, интерес все падал. Месяц спустя никакая сила не могла бы выгнать его на рассвете в поле и не заставила бы просмотреть счета на лесопилке. Он не выдерживал разговора с управляющим долее двух-трех минут, если это касалось хозяйственных дел, но, увы, лишь таких дел это и касалось. В порыве доброй воли он бросался отважно в хлева, чтоб поговорить там с приказчиком или порасспросить скотниц об утреннем удое, и записывал что-то в блокнотике. Но в тот же день к вечеру он не мог уже вспомнить, к чему относится колонка записанных его рукой цифр — к молоку, яйцам, или это кубометры переработанной древесины. Его метания были сопряжены с такими усилиями, с таким явным отвращением, что это замечали простые люди, с которыми он встречался, и поэтому его контакты, в иных условиях, вероятно, вполне нормальные, может, даже дружественные, оборачивались фальшью. Люди могли простить резкость, грубость, даже жестокость, но не прощали равнодушия.
Это мгновенно понял Иероним Кулага и в непродолжительной беседе дал Максу понять, что овчинка выделки не стоит, а если говорить напрямик, то случай вообще безнадежный.
— Никто не рождается сельским хозяином, сударь, — говорил он, развалясь в кресле и похлопывая себя хлыстом по голенищам, — им становятся или не становятся. Я считаю, для мужчины пока не изобрели более подходящего занятия, но вы можете сказать то же самое о профессии поэта, и каждый из нас останется при своем мнении. Причин стыдиться, мне кажется, нету. Стыда не оберешься, если из-за вашего безразличия все пойдет прахом. Есть два выхода. Либо вы даете мне carte blanche, ни во что не вмешиваетесь и появляетесь в Хортыне лишь в качестве гостя, поскольку ваше постоянное присутствие в любом качестве создает для меня одни затруднения, либо избавляетесь от земли и оставляете за собой статус помещика с небольшим земельным наделом, как сделали многие знакомые мне землевладельцы. У вас перед ними несомненное преимущество: вы можете выбирать. Они, как правило, этого преимущества не имели. Я с удовольствием останусь у вас, но принципами не поступлюсь.
Макс выбрал средний путь, управляющему это весьма не понравилось, тогда они решили, что Макс уедет после жатвы. Месяц спустя семь фольварков, кроме Ренга, было выставлено на продажу, сделано это было таким образом, что не умножило славу юного наследника. Макс выказал удивительную поспешность, бестолковость и неумение, даже соседи-помещики, известные своей безалаберностью, хватались за голову. Лесопилки были сданы в аренду столь же бессмысленным образом, и только вмешательство управляющего, значительно превысившего свои полномочия, спасло Рогойского от позора.
Но пока стоял июнь; и все сулило жаркое лето. Макс просыпался поздно, обед подавали ему в шесть, а ложился он перед рассветом. На хозяйство махнул рукой, зато принялся с жаром приводить в порядок библиотеку и спасать из книг Деймонтовичей — а было этих книг несколько тысяч — то, что можно было еще спасти. Писал свой трактат. Посещал иногда окрестных помещиков.
Отношения с соседями были корректными, но не более того.
О каком бы то ни было остракизме не могло быть и речи. Былые времена миновали. Ушли из жизни те, кто помнил прегрешения его предков, а тех, кто был моложе, это попросту не интересовало. Рогойский был богачом даже среди богатой шляхты, человек образованный, с университетским дипломом в кармане, он был фигурой, от которой, во всяком случае поначалу, не пробовали, да и не хотели сторониться, тем более что в округе было полно барышень на выданье, а Макс — как бы о нем ни толковали — слыл великолепной партией. Были у него, правда, черты, считавшиеся постыдным чудачеством. К примеру, он не охотился. И даже позволил себе в присутствии нескольких шляхтичей, для которых охота являлась изысканнейшей мистерией — а в округе хоть и случалось, что нечего было сеять и нечего жать, но не случалось, чтоб не было по чему стрелять, включая крупную и благородную дичь, — так вот, он позволил себе в их присутствии без уважения высказаться об охоте.
Глядя на собеседников своими серыми глазами, в которых с каждым годом прибывало гордой самоуверенности, он заявил, что всякую охоту считает позором, что охотиться — это значит потакать примитивным инстинктам и демонстрировать свою трусливую спесь перед существами близкими человеку и беззащитными.
Изречь нечто подобное в обществе помещиков было все равно что заявить в доме банкира, будто игра на бирже — порочная наклонность или бессмысленный азарт. Помещики, в чьем присутствии так было заявлено, к счастью, не оскорбились, но сочли это весьма дурным предзнаменованием.
— Странно, что так высказывается юноша, — сказал один из них, когда Макс с рюмкой в руке отошел в сторонку, а было это у Пашкевичей по случаю то ли именин, то ли дня рождения. — В своем ли он уме?
Такой вопрос ставился все чаще. Макс и в самом деле давал к этому поводы. Не принимал участия в общих играх, как, например, прятки, жмурки или фанты. Танцевал хорошо, но без удовольствия. С партнершами не разговаривал, а в решительные минуты был так небрежен, что не одна барышня ходила с заплаканными глазами. Частенько задумывался в самый неподходящий момент, к примеру играя в винт или в покер, и уходил куда-то, не уходя, улетал, не улетая, что раздражало партнеров, так как они не могли, черт побери, понять, поза это или прострация.
Случалось, проявлял нелюбезную рассеянность, что ни в каком обществе не поощряется, тем более среди помещиков, где правилам приличия придается огромное значение и где рассеянность не считается безобидным и забавным недостатком, а рассматривается как бестактность и неучтивость. Обычно неразговорчивый и сдержанный, вспыхнет вдруг и наговорит глупостей, после которых просто не до смеха.
Как-то раз в зимний вечер, после ужина у Тронских, когда гости перешли в гостиную, куда были поданы коньяк и сигары, а дамы посасывали из бокалов сладкий крюшон, за беседой, скрашенной шутками и анекдотами, Зося Тронская, одна из трех дочерей хозяина, похвасталась, что у нее есть альбом, куда вписали стихи несколько местных поэтов, и среди них Игнаций Самрот, скомпоновавший изящную безделушку о том, что рад бы нацелить свое ружьецо на более привлекательную дичь, чем та, какой до сих пор довольствуется, да что делать, возраст не позволяет. По гостиной прокатился ветерок учтивого смеха. По мнению Зоей, то был вольный стишок и от него веяло утраченной молодостью. И тут хозяйка дома хлопнула в ладоши и завопила фальцетом, от которого домашняя птица падала зачастую в обморок:
— А ведь и вы, пан Максимилиан, кажется, сочиняете?
Игнаций Самрот пророкотал своим испитым баском:
— Вот-вот-вот! В самом деле, и до меня доходили слухи!
Рогойский отвечал любезно, но решительно, что все сочиненное им не подходит для девичьих альбомов.
— Ах, не одни только таланты вписывали стишки в Зосин альбомчик! — воскликнула пани Тронская. — Кто послабее пером тоже пытался. Попытайтесь и вы!
Рогойский махнул рукой, но несколько минут спустя, когда заговорили о чем-то другом, кажется о том, какую форму приобретает хвост сделавшей стойку легавой, он вдруг сказал:
— Раз коснулись этой темы, я предложил бы вам задуматься над сутью творчества как такового.
Мартин Тронский нахмурил мохнатые седеющие брови и вместе с животом выставил вперед свою апоплексическую физиономию, на которой читалось сомнение в плодотворности таких дискуссий.
— Это касается не только поэзии, — ораторствовал Рогойский, расхаживая по гостиной, — но всех искусств, всех свободных наук вообще, хотя к поэзии относится в первую очередь. Вы, несомненно, читали Гёте. Кто ж его не знает? Потрясающий до глубины души «Лесной царь», волнующая «Лотта в Веймаре», «Страдания молодого Вертера». Но может ли кто из присутствующих утверждать, что знает «Фауста»? На первый взгляд, разумеется, да. В конце концов, каждый образованный человек — не выношу этой формулировки, но никакая другая не приходит сейчас в голову — продрался сквозь «Фауста». Много ли он при этом понял — вопрос другого рода. Большинство, кстати, опрошенных мною на этот счет не вышло за пределы сочувствия Маргарите и страха перед Мефистофелем. «Фауст», как вам, вероятно, известно, — повествование многоплановое, не без оснований употреблю здесь термин «повествование». С многоплановостью «Фауста» можно сравнить, пожалуй, Сервантеса, я имею в виду «Дон Кихота», учитывая, что по мастерству Гёте все-таки выше.
Зося листала странички альбома, покраснев, как если бы Макс затеял лекцию об анатомии мужчины и избрал объектом демонстрации свое собственное тело. Мартин Тронский был, казалось, совершенно выбит из седла, на него больно было смотреть, кто-то из молодых людей снял со стены ружье и демонстративно щелкнул курком. По-видимому, гости от всего сердца сочувствовали хозяевам.
— А теперь, милостивые государыни и милостивые государи, извольте обратить внимание на то, что я скажу. — Макс остановился на мгновение и обвел всех испепеляющим взглядом. — Оставим в стороне Маргариту, Мефистофеля, все побочные мотивы. Один только Фауст. Или Фауст и Гёте. Кем был последний? Поэтом, дипломатом, министром, ловеласом. Был ли он кем-то еще? Нет! Был ли чем-то более значительным? Пожалуй, тоже нет! А кто такой Фауст? Гений, сверхчеловек, почти Бог. Но является ли он таковым в действительности? Разумеется, нет! Ведь в действительности Фауста нет и никогда не было. Мог ли поэт его скопировать, срисовать, взять из жизни? Нет! Где образец? Богов на земле не встретишь. Гёте, человек мудрый, глубокий, одаренный, но всего лишь человек, воссоздал существо абсолютно совершенное, сверхчеловеческое, всемудрое, не лишенное страхов, сомнений, даже недостатков, но кто смеет сказать, что в этом нет божественного начала? Жалкий человеческий ум сотворил почти абсолют. — Макс крякнул, кашлянул, налил в рюмку коньяку, залпом ее осушил, пригладил волосы и чуть тише произнес: — Я говорю — почти, ибо не уверен, что можно сказать — целиком. — Поднял руку вверх, и присутствующие проследили за его указательным пальцем, словно загипнотизированные, а Макс воскликнул: — Фауст мудрее Гёте! Это не преувеличение, дамы и господа. Мудрее и величественнее. А ведь его нет, не было и не будет. И это самое потрясающее. Вы только что употребили слово «поэзия». Я предостерег бы от этого. Не сравнивайте девичьих альбомов, исписанных глупостями, с поэзией. Это неприлично. А что касается Гёте, то рекомендую перечитать его заново.
Казалось, шокированное общество на мгновение смолкнет. Но, к счастью, этого не случилось. С подоконника сорвался рыжеволосый веснушчатый малый и, рейтановским[12] жестом теребя элегантный жилет, воскликнул:
— А я вас, пан Рогойский, еще раньше слыхал. Вы тогда тоже о поэзии говорили. Видно, это ваш конек, на нем вы въезжаете в шляхетские дома, но не Пегас, мой дорогой, не Пегас. Вы тогда тоже иностранную поэзию нахваливали. Вот объясните мне, пожалуйста, как можно хвалить какого-то шваба, картофельную душонку, прусского солдафона, не упомянув ни разу о нашем гениальном Адаме Мицкевиче и о других великих поэтах? В каких еще стихах вы сыщете такие замечательные строки, как в его инвокации, в его молитве Марии Остробрамской[13], королеве Польши, заключающей в себе… — Тут мужчина подскочил к Максу — большой, тяжелый, с усиками, покатыми плечами и увесистым задом, похожий на кенгуру. — Где вы все это найдете? Там? — И он ткнул пальцем на запад. — А может, там? — И он указал на восток. — А концерт Янкеля[14], да, Янкеля, который шпарит на цимбалах так, что земля дрожит, напоминая всем о национальных бедах, хотя сам-то… сам-то… да… еврей, еврей… тут отрицать не приходится. И все-таки. А генерал Домбровский[15] как там выведен!..
Факт, что Янкель оказался евреем, несколько поумерил пыл рыжего, и даже генерал Домбровский не очень помог.
— Вы задали мне вопрос? Мне надлежит вам ответить? — Макс расставил ноги и наклонил голову — невысокий, плечистый, бронзовый от загара.
— Да, задал, мой дорогой, задал! — воскликнул его оппонент, посмотрев на присутствующих, которые подбадривали его взглядами, исполненными надежды и поощрения, за исключением брюнета у стены, разобравшего тем временем ружье и потерявшего какие-то винтики.
— Графомания! — процедил Макс сквозь зубы.
— Графомания, да? — завопил рыжий.
— Вы дали пример графомании из творчества вдохновенного, но среднего поэта. Мицкевич обладал способностью легко слагать стихи. Можно сравнить с молотьбой цепами: широко, сплеча и без всякого смысла. Он создал несколько мало-мальски пристойных пьес, но и там опасно балансирует на грани дешевки и дурного вкуса. Сравнение его с Гёте лишено смысла. Я бы даже не пытался сравнивать его с Пушкиным.
И вот тут воцарилась тишина. Тронский, перенесший столь мучительные минуты, что теперь ему было уже все равно, тихо и ласково осведомился, бывает ли у кого-нибудь так же, как у него: отрыжка душистым васильком после котлет из дичи. Но никто не обратил на это внимания, лишь глянули друг на друга и не знали: по домам или как? Рыжий укатился вновь на подоконник. Зося перестала листать альбом. Часы в деревянном футляре с оленем святого Губерта тикали на стене. Белая борзая вытянула лапы. Из деревни доносился собачий лай.
— Да вы что, с луны свалились? — рявкнул ни с того ни с сего Игнаций Самрот.
Все содрогнулись, Тронская прошептала: «О Боже!»
— Мицкевич не поэт? Мицкевич, по-вашему, графоман? Да ведь такие суждения оскорбительны! — Самрот встал и выпрямился во весь рост, что не дало, в сущности, эффекта, поскольку он был известным во всей округе коротышкой. — «Я поднялся на лафет», — гаркнул он так, что борзая заскулила и, поджав хвост, выбежала из гостиной.
— Я поднялся на лафет. Двести пушек било. Бесконечные ряды батарей России Прямо вдаль, как берега, тянулись морские[16].И это плохо? Плохо, спрашиваю я вас, молодой человек? Мицкевич — совесть народа, народа связанного, разъятого на части, кровоточащего под кнутом палачей… Слишком много в книгах копаетесь. За забором сидите. Трактаты, как про вас говорят, пишете и от чудачества гибнете. Да, гибнете, мой дорогой, гибнете. Вам бы по свежему воздуху прогуляться! С ружьецом в лесу побродить. Жить нормально, как все. Не чудить, не оскорблять, не скандалить, а то, ей-Богу, смех, да и только.
«Какие идиоты, какие дураки», — твердил про себя Макс, возвращаясь мартовской мокрой ночью в Хортынь. Сани скребли со скрипом каменья. От лошадей шибало потом. Он расстегнул шубу, сдвинул на затылок шапку, уставясь в темнеющую впереди угрюмую дорогу. «Хотя, с другой стороны, — подумал он, — кому интересно, что Фауст был гением? Что кому это даст? А если б не было ни Фауста, ни Гёте, разве б что-то изменилось? Разве трудней было бы жить на свете? Разве искусство, культура, поэзия — разве все это не одна сплошная морока? Мираж, дымка, то она есть, то ее нет, и никто этого не замечает. Гёте велик, эти люди ничтожны, ограниченны, они обскуранты, ну и что? Что от этого меняется?»
Это был второй в жизни Макса Рогойского вопрос, который встал перед ним во весь рост.
Пробыв год в деревне, он вернулся в Варшаву, и вопрос «что от этого меняется?» был вытеснен в его сознании другим вопросом — «что дальше?». В самом деле, если столь многое можно поставить под сомнение, даже искусство, то стоит ли раздумывать над тем, что дальше? Что ни случись, не будет это иметь большого значения. Как быстро развеялся мираж! Но беспокойство не улеглось, вроде должно было бы улечься, не возникни третий вопрос: «Может ли в связи с этим все сложиться благополучно?»
Стоял майский день, погода еще не знойная, но уже не холодная. Было шесть вечера. Он сидел на скамейке в Саксонском саду. Середина недели, и потому тишина. На деревьях зеленый пух. Час назад он пообедал в роскошном ресторане на Уяздовских Аллеях, был в великолепном расположении духа. Напротив сидел дядя Генрик. Они велели охладить мозельского и подать отварную щуку с овощами.
Беседовали об электрических трамваях, затем о женщинах, затем, как обычно, о музыке. Все, казалось бы, хорошо. Но, черт знает почему, хорошо не было.
Утром, когда он был еще в постели, его приласкала мать, но он не почувствовал того, что чувствовал в такие минуты еще два, три года тому назад. Любовь к ней уже не была такой, как совсем недавно. В то утро он долго не вставал, поскольку накануне поздно вернулся.
Забрел в заведение с девицами на Хмельной. Молодые, некоторые даже хорошенькие. Он вышел оттуда часа через два. Ни прекрасно, ни омерзительно, ни весело, ни печально, ни упоительно, ни стыдно. Просто не задевает, и все. Как ласки матери или разговоры с дядюшкой, как шикарный ресторан, рыбное блюдо, охлажденный «Густав Онер».
Через две недели по возвращении из Хортыня он навестил Роттенвейлера. Хаим снимал большую, комфортабельно меблированную квартиру на Краковском Предместье. Он возвратился из Америки, где в Йельском университете защитил диссертацию по общественным наукам. Высокий, атлетически сложенный молодой еврей, раскованный, уверенный в себе, элегантный. Вернувшись, устроился советником при недавно основанном Обществе содействия машиностроению. Мыслями все еще был за океаном. Рассказывал про Америку. Восхищался ею.
— Потрясающая страна, — говорил он, попыхивая трубкой, — огромная, меняющаяся на глазах, богатая, ее нельзя сравнить ни с Польшей, ни с какой другой страной в Европе. Там иные измерения. Там в человеке высвобождаются силы, о которых он и не подозревал, это побуждает к труду, а он сам по себе прекрасен. Наполняет оптимизмом, надеждой. Америка — страна будущего не только для себя, но и для всего человечества. Не знаю случая в мировой истории, чтоб людям так везло. И главное — за это процветание не надо расплачиваться свободой, вот что великолепно. Думаю, Макс, если люди смогли создать нечто такое, то у человечества есть шансы. Поезжай туда, — убеждал он, — посмотри сам. С чего начать? Поезжай туристом, и увидишь такое, от чего дух захватывает, например, сталелитейные заводы в Пенсильвании. Ты мог бы там чем-нибудь заняться, изучить, к примеру, как работают фермеры на Среднем Западе, он пока еще не заселен, но там уже цивилизация. Мог бы изучать немецкую литературу, которую, если не ошибаюсь, ты так любишь. В Беркли великолепная кафедра. Там читают лекции Хоффентаум и Пирсон. Пирсон — коренной калифорниец, написал несколько великолепных эссе о Генрихе Гейне. В Беркли сорок лет назад обитали индейцы из племени навахо. Скитались по округе в поисках пищи, водки, лошадей. Теперь там университет с четырнадцатью кафедрами, а про Гейне узнаешь больше, чем у него на родине. Здесь, в Польше, — объяснял он, попыхивая трубкой и наполняя комнату возбуждающим и экзотическим дымом, — теснота, национальный душок. Или социалисты, которым не терпится поднять все в воздух, или мещанство, от которого мороз по коже.
— Но ведь ты же вернулся, — заметил Макс.
Хаим на минуту остановился, повернулся к приятелю, подставив лицо солнечным лучам, врывающимся в комнату через распахнутое настежь окно.
— Не понимаю, не расслышал.
— Ты-то вернулся, — повторил Макс.
— Ну, разумеется, вот я перед тобой стою.
— А почему?
— Что — почему?
— Почему вернулся? Вот уже четверть часа, как ты толкуешь о том, чего насмотрелся в Америке…
— Ну, так это понятно. Я вернулся, потому что я не американец. Я восхищен страной, но не чувствую себя ее гражданином.
— Почему?
— Потому что я поляк, — ответил Хаим, приглаживая густые светлые волосы, чуть длинноватые для его массивного мужского лица.
— Ты еврей.
— В Америке на это никто не обращает внимания, — ответил, смеясь, Хаим.
— Знаю, — пробурчал Макс. — Значит, ты тем более не должен был возвращаться.
— Так или иначе, Макс, мы все возвращаемся, — заметил Хаим.
Макс встал со стула, подошел к окну. Оперся локтями о широкий подоконник, высунул голову наружу. По Краковскому Предместью ехали не торопясь двое конных жандармов, за ними на дрожках — молодой чиновник привлекательной наружности в нарядном мундире.
— Ну хорошо, а вот твое общество, о котором ты упоминал, — Макс уселся на подоконнике, опираясь одной ногой о пол, — это что такое?
— Жалкое зрелище, — фыркнул Хаим, — но платят пока прилично.
— Что собираются производить?
— То ли бороны, то ли локомотивы — пока неизвестно. — Хаим ударил кулаком по колену. — Собственно, ничего еще не известно. Никто не занимается изучением рынка, и потому неизвестно, какова будет конъюнктура через пять, через десять лет. Неизвестно, каковы будут цены на сталь в ближайшем будущем. И потому мы не знаем, строить ли собственный сталеплавильный завод или не строить. Никто не сообщит, будет война или не будет, и потому неизвестно, устанавливать ли портальные и другие тяжелые краны или не устанавливать. Не предскажешь также, что выдумают немцы насчет станков, и потому неизвестно, вкладывать деньги в обучение рабочих или оставить все как есть, рассчитывая лишь на силу их мышц, но не на разум. Известно только одно: никто в правлении не имеет о промышленности ни малейшего представления вкупе со мной, их главным советником. — Хаим расхохотался и хохотал долго, здоровый, сильный, загорелый на теннисных кортах мужчина. — Я изучал философию в Варшаве, потом общественные науки за океаном, откуда ж мне, черт возьми, знать, придумают ли немцы новый станок, к тому же, признаюсь тебе, Макс, ни одного станка я за всю жизнь не видал, понятия не имею, как изучается спрос на рынке, и не представляю себе конъюнктуру ни теперь, ни в будущем.
Хаим смеялся все громче. Макс стал ему вторить.
— Как же тогда получилось, что тебя взяли? — спросил он, переставая смеяться.
— Долго рассказывать, — отозвался Хаим, вытирая глаза. — Все решили две бумажки. Первая — диплом Йельского университета, вторая — характеристика, какую мне дал Хайман Коллеман из Фонда Вандербильдта, который по просьбе моего руководителя беседовал со мной битых два часа. Мы затронули вопрос о структуре компании, не помню точно — какой, кажется, «Стандардойл». Откровенно говоря, эта вторая бумажка все и решила.
— Акционеры — поляки? — спросил Макс.
— Исключительно, — вновь рассмеявшись, подтвердил Хаим.
Макс спрыгнул с подоконника и подошел к столу, на котором лежали книги. Взял одну из них, полистал.
— Я бы с удовольствием купил парочку ваших акций, — заметил он.
— Не советую, — отозвался Хаим.
— Все равно куплю, если возможно.
Когда они были уже в передней и лакей подавал Максу соломенную шляпу с ленточкой на тулье и тросточку, Хаим потрепал друга по плечу и, глядя на него сверху вниз, сказал:
— Советую куда-нибудь съездить. Настроение у тебя не ахти какое.
— Что верно, то верно, — буркнул Макс.
— Сразу видно. Деревня не пошла тебе на пользу?
— Нет.
— Понятно.
— Временами я думаю над смыслом всего этого, над смыслом… — Макс сделал округлый жест и, надевая шляпу, добавил: — Может, капризы молодости. Если это действительно так — тем хуже. Не став стариком, я потерял молодость. Короче говоря, беспрерывные метания. Даже стыдно становится. Не будь ты моим другом, ни за что б не признался.
— Такое мне незнакомо, — заметил Хаим. — Но я понимаю: такое вполне возможно. Помнишь, Макс, по философии?.. Страх и…
— …и тревога, — докончил Макс.
— Вот именно. — И Хаим покивал головой.
Лакей подал Максу тросточку. Он был уже в дверях.
— Куда же мне ехать? — спросил Макс, понурившись.
— В Америку! — воскликнул Хаим.
— Слишком далеко.
— Поезжай куда-нибудь. В Англию, в Германию, в Вену, куда-нибудь, Макс.
Он выбрал Англию. Наугад.
Заказал билет в агентстве Кука. Через десять дней сошел с палубы гамбургского парохода «Норд Кроне» на причал лондонского порта. Поселился в гостинице на Олд-Бейли-стрит. Двумя неделями позже, когда он пересмотрел все то, что расхваливал путеводитель Бедекера, включая матч регби, и вернулся, пробродив несколько часов по туннелям людных и узких улочек Сити, разморенный духотой, которая заливает Лондон летом, отчего человек потеет и теряет силы, хотя не так жарко и солнце не светит, наконец с наслаждением плюхнулся в кресло посередине просторного холла, а светло-рыжий тощий бой любезно осведомился, но без той раздражающей приниженности, какая свойственна прислуге на континенте, не желает ли он содовой со льдом и небольшой дозой алкоголя, взгляд Макса остановился на цветном проспекте с надписью наискосок: «Корнуолл». Он раскрыл путеводитель. Просмотрел список гостиниц, фотографии крутых берегов, сходящих уступами к морю, полюбовался репродукцией картины — мельница над потоком, мальчик и девочка, взявшиеся за руки, и пес, который уставился на струю, падающую на лопасти колеса. Все в обрамлении деревьев. Казалось, даже повеяло свежестью и прохладой.
В тот же вечер он сообщил портье о своем отъезде. Тот порекомендовал ему Дартмут, откуда в хорошую погоду виден полуостров Контантен в Нормандии и где от недостатка развлечений страдать не придется.
— Но если желаете познакомиться с настоящим Корнуоллом, то советую ехать в сторону Камборна и Редрута или же в окрестности Падстоу, по направлению к Пару, — говорил он, воодушевясь, точно расхваливал свою собственную гостиницу, а не места, удаленные на двести миль, которые, может, никогда и не видел. — Купите, советую, рюкзак, соответствующую обувь и пересеките полуостров пешком, от Падстоу до Плимута или Сент-Остелла. Займет дня два-три, а впечатлений на всю жизнь.
Макс сунул портье полфунта и попросил позаботиться о провизии. Что-нибудь питательное и легкое на дорогу, чтоб не пользоваться станционными буфетами.
На следующий день он сел с ручной кладью в поезд, идущий на запад, и сошел в полдень в Эксетере, где мог пересесть в другой поезд и поехать в Дартмут или же подождать до ночи и отправиться в северный Корнуолл. Его привлекал этот Падстоу и пешее путешествие через полуостров, хотя пожилая супружеская чета, с которой он ехал в купе, убеждала его направиться в Дартмут, твердя, что Падстоу, а тем более Пар — глухая провинция, где вечно идет дождь, где подают чай со скисшим молоком, а местные жители похожи на толстых вульгарных валлийцев, которые, кто знает, может, похуже шотландцев. Он решил задержаться на сутки в Эксетере и на следующий день принять решение. Подвернулась и гостиница у вокзала — не лучшая, зато пустая.
Прогуляв два часа по городу, он вошел в паб под названием «Beauty of South»[17], что было в явном противоречии с грязью и табачным смрадом, который въелся в плюшевые диванчики и дубовые панели высоких закопченных стен.
Макс был хорош собой. Францишек, его прадед, смахивал на гриб: никогда не блистал красотой, однако и в молодости, и позднее было в нем что-то от здорового, пахнущего лесом боровика. Яшка хорошо смотрелся среди волов и лошадей. Он сливался с песком и пылью далеких южных дорог — словацких, венгерских, балканских. Тело Яшки дышало зноем, свистом бичей, лошадьми, которых он сгонял в табуны, ночными кострами. Он и не притворялся человеком, в этом не было необходимости. Анджей сиял, как канделябр, усеянный свечами, бесстыдный в своей византийской красоте. Макс же отличался той красотой, какая раздражает пожилых женщин. Но дама, сидящая в пабе, недалеко от стены, была молода и, прежде чем Макс добрался до стойки, медленно и осторожно ставя ноги, как человек, вошедший с яркого солнца в полумрак, пока глаза не привыкнут к перемене освещения, оглядела его с головы до пят, он это заметил и повернул с гневом и досадой голову, что, несомненно, делало ему честь.
Макс уперся животом в стойку бара и заказал содовой, а потом, когда ее подали, темного пива. Он выпил воду, держа пивную кружку в руке, поискал глазами удобное место. Нашел его у дверей в соседний зал, там был кегельбан, но стояла тишина, поскольку игры не было. Пригубил пиво — оно было холодное, но слишком сладкое. Поставил кружку и глянул на девушку, которая, пока он был занят поисками места, наблюдала за ним, и об этом он знал. Макс смотрел на нее, как смотрит мужчина, понявший, что возбудил к себе интерес, и оттого в нем проснулась самоуверенность, способная, кстати, все испортить. Макс не был ловеласом и не отличался влюбчивостью, что, заметим мимоходом, друг с другом не связано. Он был как-то влюблен три недели в студентку из своего университета, привлекательную, но не слишком содержательную девушку. Вот и все, что касается чувств. Зато необходимый опыт, правда иного характера, он приобрел в борделях, куда стал наведываться позднее сверстников, зато регулярно, хоть и не слишком часто. Это предохранило его от половой распущенности и вместе с тем приобщило к проблемам, решение которых преподносит порой горькие пилюли молодым людям и — не дай Боже — немолодым уже мужьям, если не позаботиться вовремя о соответствующем образовании.
Макс не считал себя красавцем. Да он им и не был. Красавцем был его отец. Но Макс любил свое тело и следил за собой. Остерегался всего, что приносило вред, даже не садился в седло, хотя был создан для верховой езды. Когда еще мальчишкой он глотал книги Дюма, столь ярко описавшего красоту графа Монте-Кристо, когда читал о стройном Яне Скшетуском или о гиганте Кмитице и тут же гляделся в зеркало, где отражалась его невзрачная фигура, ему становилось обидно, что он никогда не будет таким, как они, и женщины при виде его не начнут падать в обморок, взволнованные, ошеломленные, предугадывающие наслаждение. С этим он смирился, что уберегло его от самонадеянности и спеси. В то же время нельзя сказать, чтоб он страдал по поводу своей внешности. Он был достаточно умен, чтобы осознать: в его облике нет ничего ущербного. Широкоплечий и тонконогий, он казался ниже среднего роста из-за особенностей своей фигуры. Голова массивная, зато правильной формы. Лицо круглое, но мужественное. Жестокий стальной блеск глаз смягчался легкой насмешливой улыбкой, блуждающей на чувственных, по-женски пухлых и алых губах. «Такие, чтоб целовать да целовать», — сказала ему проститутка в Гамбурге, когда искусно и с удовольствием делала то, что варшавские девицы делали неохотно и за дополнительное вознаграждение. Ни одна женщина ни разу не упала в обморок, завидев его, и никто не оглядывался на него в парке или на улице, но, когда он случался рядом, женщины чаще думали о его теле, чем о его душе, а это ни одного мужчину пока что не огорчило. Они часто рассматривали его руки, а протягивая свою — касалось это в основном замужних женщин, не барышень, — складывали ладонь наподобие теплой ямки, куда он всовывал свою широкую, смуглую, с длинными пальцами руку.
Sex-appeal Макса бросался в глаза — определение чисто английское или американское, оно стало применяться и к мужчинам, но на континенте называлось обычно шармом и относилось к расфуфыренным межеумкам, напомаженным и смазанным брильянтином, чьи рты не смыкались круглые сутки, исторгая всякие любезности, шуточки и комплиментики, которые, по-видимому, так забавляют и увлекают аристократок, мещанок и мужичек.
Вернемся, однако, к пабу, где, отхлебнув пива, которое показалось ему приторным, Макс обвел равнодушным взглядом длинный темный зал и уставился на девушку. Он любил женщин, хотя их плоть вызывала в нем зачастую чувство брезгливости. Одни были слишком белотелые, другие — слишком пухлые. А когда на груди просвечивали синие жилки, ему делалось просто тошно. Он терпеть не мог широкобедрых и вислозадых. Любое несовершенство вызывало омерзение. В публичных домах он часто ставил всех в затруднение. Был предельно чувствителен как к красоте, так и к уродству. На то и другое реагировал бурно. Духовным совершенством была для него мать. Если б он только встретил такое же совершенство в безупречной оправе, это был бы синтез, надежда на счастье. И вот теперь, кажется, он это встретил. Молодая, по всей видимости, высокая, вероятно, худая, сильного сложения. Блондинка, скорее русая, пожалуй, даже шатенка, хотя в полумраке не разглядишь ни волос, ни цвета лица. Наверняка не очень светлая, иначе в темноте это бросилось бы в глаза. Широкие плечи, длинный стан, тонкая талия и, вероятно, узкие бедра. Последнее не столь очевидно, ибо сидит боком, однако выпуклые, мускулистые ягодицы — а это заметнее, когда женщина сидит, нежели тогда, когда стоит, хотя, казалось бы, должно быть иначе, — давали ему основание полагать, что таз у нее не слишком широкий. Голова небольшая, с удлиненным затылком, такая, какую в Польше назвали бы «шляхетской». Лицо, судя по профилю, пожалуй, даже совершеннее фигуры. Хотя трудно говорить о чертах, потому что с того места, где сидел Макс, он не видел в фас, но в короткое мгновение, когда их взгляды встретились, он понял, что она привлекательна. Лоб невысокий, изящно очерченные брови, достаточно густые, их можно не подкрашивать, и достаточно тонкие, чтоб их выщипывать. Ресницы очень длинные, загнутые вверх, глаза, по-видимому, такие, как надо (со своего места Макс их не видел), щеки худые, кожа гладкая, без румянца.
В пабе, кроме них, было еще несколько мужчин. Один, изрядно захмелев, разлил пиво, и бармен стал его бранить, назвал сукиным сыном, вонючкой, армайским[18] кротом. Макс решил подойти к девушке, но в последнюю минуту смалодушничал и направился к стойке. Заказал содовую.
— Вам не понравилось пиво? — осведомился бармен, вытирая руки о синюю тряпку.
— То, которое вы мне подали, действительно так себе, — буркнул Макс.
— Вы заказали такое, — возразил бармен. — Может, попробуете другое? У меня есть бочечное из пивоварни Тивертон, лучшее, какое варят в Корнуолле. Нацежу вам кружечку, если, не возражаете.
— Да, пожалуйста, — ответил Макс, оборачиваясь. Теперь девушка сидела к нему спиной. На ней было светлое платье в обтяжку.
— Содовую тоже?
— Да, — подтвердил Макс, не сводя глаз с девушки.
Он стоял у стойки, барабаня пальцами по жестяной поверхности. Напротив парень в снежно-белом фартуке мыл стаканы, разбрызгивая пенящуюся воду. Бармен добавил еще кое-что о достоинствах пива «Тивертон» и заодно об ирландских свиньях, которые не научились вести себя в обществе, в особенности если выпьют лишнего. Посетитель, разливший пиво, пел меж тем какую-то песню, которой Макс не понимал, но бармена она явно раздражала, именно она и вызвала замечание о свиньях. В самом деле, певец был, судя по всему, ирландцем — рыжий, бледный и некрасивый.
Минуту спустя Макс, взяв кружку, с бьющимся сердцем приблизился к девушке.
— Знаете, зачем я взял еще раз пиво? — обратился он с вопросом, чувствуя, как покрываются испариной ладони. — Я не любитель пива, пью его в редких случаях и без особого удовольствия, — добавил он, когда девушка подняла голову и посмотрела ему в глаза. — Я встал со своего места, хотел подойти к вам, но потом не решился. И у меня остались две возможности: либо уйти, так с вами и не познакомившись, потому что на улице я б с вами не заговорил, либо не терять шанса и прикинуться, будто мне понадобилась вторая кружка. Как видите, это был лишь предлог, — добавил он решительно, правда, громче и чуть поспешнее, чем это было необходимо, к тому же в двух местах запнулся, не уверенный, что употребил глагол в правильном времени. Девушка не ответила, но не отвернулась и ничем не выразила пренебрежения. Макс тем не менее рассчитывал на большее и смутился. Отхлебнул пива, неуверенно улыбнулся и, стоя по своему обыкновению на чуть расставленных ногах, подав вперед голову, пробурчал: — Неплохое… Бармен был прав. Очень даже неплохое… Первое было сладковатым. А вы какое пьете?
— Пар! — ответила она. Большие темные глаза и треугольное лицо с выступающими скулами. Без румянца, что свойственно англичанкам. Вся смугло-бледная.
— Я от кого-то уже слышал это название. Кто-то посоветовал мне посетить Пар, поскольку я выбрался на экскурсию.
— Экскурсию? О чем это вы? — спросила она тем же равнодушным тоном, каким говорила о пиве.
Макс огляделся по сторонам — посетителей прибывало. За соседний столик уселись два молодых человека — то ли школьники, то ли студенты. Он ощутил неловкость, неуверенность усилилась, и потому с некоторым раздражением (а раздражением он с недавних пор преодолевал или хотя бы маскировал свою неуверенность) произнес:
— Экскурсия, знаете ли, в сапогах. Раздобуду соответствующую обувь и пересеку Корнуолл вдоль и поперек, уж сам не знаю как. Неважно… Впрочем, я наверняка не сделаю этого. Какой-то человек уговаривал меня то ли вчера, то ли позавчера предпринять такую эскападу.
— Что за человек? — спросила девушка, по-прежнему не спуская с него глаз. Она сидела чуть откинувшись, повернув в его сторону голову.
— Служащий в гостинице. Молодой человек, который занимается постояльцами.
— О какой это вы гостинице?
Макс стиснул зубы и щелкнул пальцами — эхо прошлось от стены до стены.
— Я уж не помню, какая-то гостиница в Лондоне. Разве это так важно?
— Нет, думаю, что нет. Да вы не сердитесь, — добавила она тихо, подняв руку с тонкими, хрупкими пальцами, что свидетельствовало о склонности к артриту. — Не сердитесь, пожалуйста, я уже ухожу.
— Куда? — спросил он разочарованно.
Девушка улыбнулась и, пожав плечами, ответила:
— На вокзал. Я в Эксетере проездом.
— Вы путешествуете?
— Да, похоже на это, — рассмеялась она.
— А как вас зовут?
— Почему вы спрашиваете об этом?
— Было бы разговаривать с руки.
— С руки! — воскликнула она. — Что за ужасное выражение!
— Возможно, — отозвался Макс. — Думаю, вы уже поняли, я не англичанин. Приехал из России, точнее, из Польши. Моя фамилия Рогойский. Приехал сюда туристом. Попал в этот паб случайно. И пиво не люблю, но меня мучила жажда. Не стану притворяться, будто вы не произвели на меня впечатление. Я одинок и богат. Довольно молод. У меня трудности с английским, особенно если я волнуюсь, вот как сейчас. Мне хотелось бы сопровождать вас в вашем путешествии, мне все равно, куда ехать, но не все равно — с кем. Говорю откровенно, чтобы избежать всех этих уловок, этого театра, когда люди постепенно осваиваются, — одним словом, всего того, что внушает мне отвращение и стесняет, кажется унизительным для каждого. Вы позволите, я к вам подсяду?
Девушка кивнула. Макс допил пиво и закурил. Затянувшись, произнес:
— Благословенный табак. Что бы я делал без него в такой ситуации? В той стране, откуда я родом, курить в обществе женщин считается бестактностью. А у вас?
Она не ответила, забавляясь и изумляясь его речам и по-прежнему смело глядя на Макса, без кокетства и жеманства.
— Я, вероятно, плохо изъясняюсь по-английски, — заметил он, помолчав. — Вы все понимаете?
— Понимаю, — отозвалась она, подумав, но размышляла она, судя по всему, не о лингвистике, а о чем-то таком, что было для нее важнее. — Акцент у вас действительно скверный. Кошмарный, говоря откровенно. Но меня это не шокирует, я и сама говорю не лучше. Я валлийка. Полагаю, что англичане, в особенности с востока, ужасно мучаются, разговаривая с вами.
— Пока я не предоставлял им такой возможности, — заметил Макс, гася в пепельнице окурок.
— Это просто великолепно! — воскликнула она с неподдельной радостью.
Звали ее Дженет Саксон, она была дочерью шахтера, ее отец попал на шахте в аварию и уже пятнадцать лет был на пенсии. Родственников у нее не было. Мать сбежала с каким-то ирландцем в Южную Америку. Дженет жила в Бьют-Уэллсе. Преподавала закон Божий и рисование в евангелической школе. Ей было девятнадцать. Она едет из Плимута, где у нее больная тетя, в Долджло, где живет ее подруга. Одинокая, ни с кем не помолвленная, ни с кем не связанная.
Они просидели в пабе до вечера. Макс рассказывал ей забавные истории о людях из своей страны, о том, как он провел в деревне целый год. По-видимому, говорил достаточно остроумно, потому что Дженет смеялась до упаду. Было уже совсем поздно, когда он спросил, не обидится ли она, если он предложит ей поселиться в той гостинице, где остановился он сам.
— Разумеется, — добавил он тут же, чтоб не нарваться на мгновенный отказ, ибо потом неведомо, что делать, — разумеется, мы закажем для вас отдельный номер, даже на другом этаже, если это возможно, но не затем, чтоб отдать дань приличиям, а затем, чтоб вы не думали, будто я совсем потерял голову. Ну так как? Согласны? Такая возможность у вас есть?
Девушка задумалась, что было вполне естественно, может, припомнила десять заповедей, может, наставления отца или предостережения соседок, а может, даже больную тетушку из Плимута, за которой она десять дней ухаживала, и в конце концов, не найдя ничего, что могло бы послужить препятствием, произнесла тихо, но уверенно:
— Я полагаю, да.
В Эксетере они проторчали почти неделю, совершая прогулки по нескольку миль в окрестностях города. Местность, по которой они бродили, противоречила мнению, что Британия — это страна фабрик, дыма, сажи и изнурительного труда. Здесь, в дымке влажного зноя, жизнь шла размеренно, но со смыслом, люди, казалось, не слишком поглощены делами, всюду было полно безмятежных бродяг и обаятельных дуралеев, рассказывавших нелепые истории без начала и конца. Кругом стояли стеной зеленые деревья, а если пробивались иные тона, то это были цветы: полевые, придорожные и садовые, взбирающиеся по каменным стенам сельских домиков и усадеб. Попадались и великолепные дворцы, обнесенные чугунными оградами, с садами, где длинные, покрытые крупным гравием аллеи начинались сразу от распахнутых настежь ворот. Поселки утопали в каштанах и дубах.
Дженет каждый вечер зарекалась, что завтра непременно отправится в Долджло, но, когда наступало завтра, Макс находил сто предлогов отсрочить отъезд до следующего дня, и так продолжалось в течение недели, а потом Дженет отправила подруге телеграмму, что состояние тетки ухудшилось, и они отправились в Дартмут. Погода была восхитительная, море спокойное, городок красив. Они поселились в двух соседних пансионатах метрах в трехстах от пляжа. Поведение Дженет не давало пищи для сомнений, хотя вначале Макс часто задумывался, не потаскуха ли она, умеющая произвести благоприятное впечатление. На четвертый день знакомства, еще в Эксетере, когда они, пробродив весь день по округе, сидели в номере и беседовали о различиях между евангелическими и англиканской церквами, Макс поцеловал ее в губы впервые, она ответила таким поцелуем, который говорил, что она и прежде целовалась с мужчинами, и тотчас ему отдалась. Когда он проник в ее плоть, она закричала, но сразу же, испуганная, в полуобморочном состоянии, стала перед ним извиняться, и Макс уже не сомневался, что она была девственницей. Однако в постели была какая-то безжизненная и тогда, когда это произошло впервые, и потом. Никогда ему еще не случалось иметь дело с такой вялой женщиной, и это его удивило. До нее он встречался исключительно с проститутками, ему и в голову не приходило, что существуют женщины, которые не могут дать наслаждение, какое дают те, кому за это платят. Да, никогда еще он не обладал такой безжизненной и такой красивой, хотя в хороших публичных домах, куда он хаживал, внешность девушек при подборе учитывалась. Впрочем, тело Дженет давало ему эстетическое удовлетворение, и этого было вполне достаточно. Он больше жаждал красоты, чем наслаждения, хотя пребывал в том возрасте, когда красота реализуется чаще в обладании, чем в созерцании. Макс относился к тем натурам, которые ради красоты готовы на жертвы. Быть может, на все. Красота была для него категорией объективной и воспринималась в пропорциях и гармонии. Красивая картина, лошадь, пейзаж, человек, дом — это было одно и то же. Дженет стала близка ему, потому что гармония ее тела была безупречна. И потому факт, что она не оказалась потаскухой, не обрадовал Макса в той мере, в какой обрадовал бы каждого иного мужчину на его месте.
Дженет Саксон не коснулось познание, но она не была наивна. Скорее, умна и впечатлительна. Весьма начитанна и, пожалуй, образованна. Она знала французский лучше, чем он английский, и постепенно они стали говорить чаще по-французски. В ней не было ребяческого энтузиазма и некритического восхищения миром, и потому она не могла наскучить. Не казалась она и очень религиозной. Отличалась тактом и добротой, чертами столь характерными для жителей английской провинции.
Вначале она неправильно держала нож и вилку. Макс обратил на это ее внимание, и с тех пор она всегда за собой следила. Могла надеть к синему жакету бордовую юбку, и потому Макс предпочитал видеть ее обнаженной. У нее был небольшой, но красивый голос, она совсем недурно пела песенки, сочиненные в Аберистуите. Она ни разу ни в чем не проявила корысть и с большим трудом принимала подарки. Макс со своей стороны старался не дарить ей ничего, что могло бы задеть ее самолюбие. Да, она была самолюбива, что бывает с девушками из народа, но не носилась со своим самолюбием, как случается, когда оно сочетается с глупостью. Шла на компромиссы, только если ей позволяла совесть, порой же ни за что не уступала. Макс проявлял деликатность. После многих ночей он понял, что она относится к той категории женщин, с которыми нужно провести месяцы, а то и годы, чтобы разбудить их чувственность, и не пытался ускорить это, отчего сближение не было для Дженет ни пугающим, ни мучительным, а Макс бессознательно наслаждался красотой ее тела, в котором с упоением открывал все новые прелести и совершенства.
В Дартмуте они прожили месяц, потом на неделю отправились в Лондон, а в сентябре — в Шотландию. Попали на сквернейшую погоду. Началась уже осень. Было холодно. В Данфермлине они купили толстые свитеры, которые пахли деревенской шерстью, и накидки, хотя дождя еще не было. И отправились на север, в Айвернисс. Остановились в трактире, где правила всем почти двухметровая баба, которая без устали, с хрипотцой повторяла:
— Воздух у нас свежий и здоровый, насморк и геморрой тут к вам не привяжутся, как там у них, в этой дурацкой Англии.
Дженет обучила Макса трем или четырем песенкам, и они исполняли их дуэтом. Однажды за завтраком к ним подошла пожилая дама, русская, она поселилась в комнате напротив, и сказала, что для нее было бы большой радостью попеть вместе с ними, и что она знает «Ярмарку в Скарборо», и что в Айвернисс попала из Норвегии, но, к сожалению, на следующий же день дама заболела гриппом, и ничего из этого не вышло.
Дженет раскладывала пасьянсы, а Макс в это время трудился над своим трактатом, исписав уже несколько тетрадок.
Однажды вечером, после солнечного, но прохладного дня, они сидели, поужинав, в комнате, в которой поселились на этот раз вместе, Макс читал ей описание встречи Иоахима фон Арнима с Амадеем Гофманом: «До сих пор они были знакомы только по произведениям. Гофман уже прочитал «Хранителей короны» — апологию немецкого мистицизма и тевтонского духа на примере династии Гогенштауфенов — и вдруг увидел перед собой тщедушного поэта, от которого веет плесенью старинных юнкерских усадеб, человека мягкого, сверх меры утонченного, последнего представителя расы с арменоидным черепом, прямую противоположность Бальдуру фон Эмсу или, скажем, Арнольду Гогенштауфену, Арним же увидел язвительного сорокалетнего мужчину, в котором сарказм снедал душу, как подагра сжирает тело, мудрого философа, чей мощный интеллект возбуждал страх. Что Арним знал о Гофмане? Наверняка меньше, чем Гофман об Арниме. Весьма вероятно, что он прочитал «Фантазии в духе Калло» и не прочитал «Житейские воззрения кота Мурра» — самое выдающееся произведение, которое создала немецкая словесность после «Фауста». Неважно, что знакомы они были лишь по книгам, важно, что подметили, наблюдая друг за другом на террасе берлинского кафе. Худощавый аристократ, вытирающий потные ладони надушенным платком с вышитой наверняка монограммой — кабан, меч и топор, — и плебей из Средней Германии, в ту пору капельмейстер театрального оркестра в Бамберге. Уязвленное высокомерие с одной стороны и презрительное равнодушие с другой. Кто из них заговорил первым в тот солнечный полдень?» Макс зачеркнул «солнечный полдень» и написал сверху «душный вечер». «Был ли подан им кофе? Если да, то Арним берет микроскопическую чашечку в бледные тонкие пальцы и подносит торопливым движением к столь же бледным и узким губам. Его тело отзывается дрожью на действительность, и Гофман это видит (какая свинья написала, что Арним был красивым, здоровым и счастливым человеком?). Арним говорит: «Мне так хочется познакомиться с вами, чтобы обнять вас. Всей моей несчастной душою я жаждал этой встречи!» Гофман не отвечает. Молчит, улыбаясь с доброжелательной издевкой. Арним говорит что-то еще и покрывается испариной. И уже сожалеет о встрече. Он бледнее обычного. Понурый и беспокойный». Макс вычеркнул «беспокойный», написал сверху «безутешный», затем, поразмыслив, вычеркнул и это. Подняв голову, спросил:
— Дженет, что делаешь?
— Раскладываю «часы», — ответила она, лежа на большой двуспальной кровати и не поворачиваясь в его сторону.
— Сошелся?
— Я только начала.
Макс с прилипшей к губе папироской вновь схватил «паркер» с золотым пером и крупными буквами тут же к неоконченному тексту приписал: «Каков был Арним? Безутешен? Испуган? Беспокоен?»
Он подошел к окну и, отдернув занавеску, глянул вниз. Узкая, мощенная светлой брусчаткой улица, каждые тридцать-сорок метров — фонарь. Запах рыбы, хотя окна закрыты.
— Дженет, что за пасьянс? — вновь поинтересовался он.
— Называется «часы».
— Сходится?
— Он сходится редко.
Макс вновь подошел к столу и, не присаживаясь, держа «паркер» в руке, каллиграфическим почерком вывел: «А может, равнодушный? Может, все-таки равнодушный?» Загасил в пепельнице окурок и перечеркнул описание встречи.
— Очень ты мне нравишься в этом костюмчике, — сказал он. — Мы купили его в Лондоне, на Хемптоне, правда?
— Что ты сказал? — переспросила она, поворачиваясь к нему и подминая карты.
— Ничего, ничего, — ответил он, упираясь руками в стол.
— Хочешь лечь?
— Пожалуй, да.
Минуту спустя он написал на следующей странице: «Ненавижу Иоахима фон Арнима. Ненавижу, как мало что ненавижу в жизни». И захлопнул тетрадь.
Через две недели после приезда в Шотландию они отправились в Нэрн, жалкий поселок милях в пятнадцати от Айвернисса. Ехали на двуколке, взятой напрокат у местного арендатора. День был погожий, но холодный. С моря задувал ледяной ветер. Толстые свитеры и накидки не спасали, и на обратном пути они замерзли. В трех милях от Айвернисса остановились выпить грогу в придорожном кабачке. Дорога в этом месте подходила к заливу Мари-Фёрт, который вдавался в сушу, там начинался канал, соединяющий восточное и западное побережья Шотландии. Внезапно Дженет предложила посмотреть на залив с холма с другой стороны дороги. Забравшись на вершину, они так промерзли, что даже перестали обращать внимание на холод.
Залив был неспокоен, бурлил, еще широкий в этом месте, он кипел от шедших со стороны Северного моря гигантских потоков. По ту сторону залива виднелись высокие взгорья с покатыми склонами, в отдалении — силуэты Каледонских гор. Ледяной ветер гнал по небу рваные, местами черные тучи. На севере розовело зарево, но где-то очень далеко, где-то над Оркнейскими островами, а может, и дальше. Воздух был колючий и непривычно прозрачный. Ничто до самого горизонта не мешало взгляду блуждать по обрывистым горным кручам. Какая-то мрачная красота… Дженет замерла у края поросшего можжевельником обрыва. Макс чуть дальше и выше, в нескольких метрах от нее. Они оба смотрели вниз.
— Чудесно! — воскликнула Дженет, перекрикивая ветер. — Посмотри, как кипят волны под нами. Подойди ко мне, посмотри.
Тут же рядом пучок длинной пожухлой травы метался на ветру, словно хотел оторваться от земли. Воздух был абсолютно чистый, без запаха. Даже не ощущалось моря. Прошло пять, десять, а может, пятнадцать минут, Макс утратил чувство времени, ему казалось, будто это не он замер на открытом, исхлестанном ветрами холме и не его подзывает к себе молодая красивая женщина, стоящая над обрывом. Ему представлялось, что он лишь наблюдает за двумя посторонними ему людьми. Рассматривает их вблизи, зная о них больше, чем сами они о себе, и все то, за чем он наблюдает, не касается его, не интересует и не вызывает любопытства. Не замечает он и того шлагбаума, который с хрустом ударившихся друг о друга деревьев опустился между ними, того шлагбаума, который существует и не существует. Нет и залива Мари-Фёрт и взгорий за Дингуоллом.
Девушка крикнула вновь: «Чудесно!» — и повернулась к мужчине сморщенным от холода лицом. Преданность и доверие, написанные на этом лице, были наблюдателю безразличны, как и внезапный взмах его руки, которым он умолял ее не отрываться от созерцания.
Неизвестно, долго ли они там простояли — наверное, не более четверти часа. Сколько ж можно выдержать осенью на вершине холма в Северной Шотландии? Когда они, держась за руки, спускались по скользкой влажной траве, Макс признался сам себе втайне, что давно ожидал этого, но быстрота, с которой все наступило, показалась ошеломляющей.
— Не знаю, что это значит, но знаю, что ничего хорошего, — прошептал он про себя, отвязывая вожжи от гладкой до скользкости коновязи у кабачка.
Макс хлестнул лошаденку, и та понесла двуколку, как некогда еще жеребенком несла за собой свой хвост, прежде чем его подрезали. Дженет прижалась к Максу, а он с гневом заговорил о Шотландии.
— До чего ужасны эти тона, — пробурчал он, натягивая на голову капюшон. — Терпеть не могу такого освещения, все отдает мертвечиной. В этой стране смерть притаилась и ждет жертву. Хорошей погоды не бывает. Неудивительно, что здешние горцы опиваются своей мерзкой водкой с запахом мыла и отдаются бешенству и безумию. Одно из двух: либо сбежать, либо остаться и сойти с ума. Взять хотя бы нашу хозяйку: пьянчужка твердит с утра до ночи о геморрое.
Он опять хлестнул лошадь, и та пошла галопом по узенькой скалистой дороге, помнящей, верно, еще ту безрассудную королеву, которая от этих гор, ветров и холода потеряла голову и ее пришлось в конце концов отрубить.
— Ужасные тона! — рявкнул Макс неизвестно уже который раз сряду.
На следующий день они выехали в Лондон. Макс был раздражен, в течение всей долгой мучительной дороги стоял в проходе вагона и сквозь покрытое каплями стекло глядел на зеленые лужайки, рощицы и обозначенные живыми изгородями межи. От Эдинбурга пошел дождь и лил до Нортгемптона, потом продолжался и в Лондоне.
Подошла середина сентября. Дней через десять по приезде из Шотландии — они остановились в той же гостинице, где останавливались в прошлый раз, и Дженет собиралась уже отправиться в свою школу — к Максу наведался Казя Галицкий.
— Мы хорошо информированы, — сказал он, дерзко улыбаясь в ответ на полный изумления взгляд, каким приветствовал его Макс. — Мы много знаем о людях, которые нам помогают или могут помочь, — добавил он, присаживаясь осторожно на краешек стула.
Исхудалый, в потрепанном костюме, самоуверенный.
— Мой визит небескорыстен, — продолжал он, вертя газету в испачканных краской руках. — В самом деле, это странно, признаюсь, и сам этого не понимаю, но я пришел к тебе, потому что не могу себе представить, чтоб ты сделал что-то такое, о чем бы я потом жалел.
— Ты скверно выглядишь, — сказал Макс, поигрывая бокалом. — У тебя ко мне дело? Чего ты хочешь?
— Того же самого, что и несколько лет назад. Мне тогда и в голову не пришло, что можно просить тебя о помощи. Боже мой, мог ли я просить о помощи кого-либо?.. Теперь ситуация изменилась, изменился и я, отсюда моя самоуверенность или, если угодно, наглость.
— Ты даже не спросишь, что я делаю в Англии? — осведомился Макс, пристально глянув на Казю.
— А что ты можешь тут делать? Шляешься…
— Не спросишь, даже если оно так, отчего я выбрал именно эту страну?
— Нет, Макс, не спрошу. Я полагаю… Более того, я уверен: что бы ты тут ни делал, это не имеет связи с моими делами, а то, чем занимаюсь я, важно для меня настолько, что у меня нет никакого желания выяснять, по какой причине ты сюда прибыл. Извини, Макс, меня это не интересует. Я пришел по делу, которое мне не хотелось бы называть просьбой.
— Ничего себе вступление, — засмеялся Макс. Встав из-за стола, он подошел к окну и глянул на улицу. Вновь пошел дождь. Было около четырех часов.
Года два тому назад Казя недели две во время каникул провел в Хортыне. Всегда резкий и категоричный в своих суждениях. Уже тогда Макс не сомневался, что их дружба идет на убыль. Остались кое-какие воспоминания гимназических и студенческих лет, которых не хватало, чтоб заполнить долгие летние дни. В Хортыне они жили в ту пору вдвоем и были вынуждены, следовательно, общаться лишь друг с другом. Увлечения Кази были настолько чужды Максу, что его не то что раздражало, а просто бесило невероятное неряшество приятеля, на которое прежде, когда они виделись чуть ли не каждый день, он не обращал внимания. Казя курил махорку, сворачивая козьи ножки из газетной бумаги, сплевывал крошки табака, прилипавшие к губам и к языку. Это была, разумеется, поза, так как в Хортыне ничто не мешало ему курить папиросы, поскольку слуга набивал гильзы американским табаком. Макс предлагал ему эти папиросы, но безрезультатно. Он не умел обращаться со столовыми приборами и ел отвратительно. Мог налить себе красного вина к судаку с овощами или же после обеда выпить с кофе водку, поданную лакеем еще на закуску. К тому же болтал не закрывая рта, ухитряясь говорить даже ночью сквозь сон.
В 1905 году Казя Галицкий, сын строительного рабочего, принимал участие в уличных беспорядках. Относился к этому как к забаве, игре, карнавалу. И это вызывало симпатию. Тремя годами позже он оказался причастен к какому-то политическому убийству. Сидел в радомской тюрьме, затем в десятом бастионе Цитадели, что превратило его в героя. Следствие вел Абдулов, сам себя называвший кровавым псом. В один из солнечных летних дней, когда все обитатели квартиры на Мокотовской готовились выехать на три дня в деревню из-за изнуряющей жары в городе, к Максу пришла сестра Кази, милая и рассудительная девушка, и рассказала о судьбе брата.
Макс нанял тогда хорошего адвоката, внес триста рублей залога. Причастность Кази была в конце концов не доказана, и через несколько месяцев его выпустили. Встреча с ним была тогда недолгой, почти мимолетной, потому что Казя тотчас после освобождения ушел в конспирацию. Он знал о расходах, какие Макс понес, вызволяя его из тюрьмы, но не счел нужным поблагодарить за хлопоты.
Лишь позднее, в Хортыне, вскользь упомянул об этом. В то лето они без конца вели споры о политике, но не потому, что Максу это нравилось, а потому, что ни о чем другом говорить уже не могли.
— Я решительный противник индивидуального террора! — кричал Казя, размахивая за обедом вилкой. — Но не по этическим соображениям — в политической борьбе с этим считаться нечего, — а по чисто практическим причинам. Индивидуальный террор — это дорога в никуда. Это тупик, куда входят или куда порой по иронии судьбы позволяют себя загнать иные товарищи, идейно чистые, честные, но не умеющие мыслить. Индивидуальный террор — это абсурд. Ничего, кроме потрясающего фейерверка, там не добьешься, все это выеденного яйца не стоит. Наша цель — мировая революция, но не бойня. Однако не потому, разумеется, что мы жалеем своих врагов, но потому, что это может настроить против нас людей, которые не являются еще нашими союзниками. Но и сокрушаться над оторванной ножкой или ручкой какого-нибудь помещичьего или генеральского отпрыска оснований нет. А если и в самом деле, как ты уверяешь и о чем, кстати, я пока не слышал, при покушении на губернатора Марграфского у какого-то ребенка оторвало ручку, то это еще не повод, чтоб мне надеть власяницу и посыпать голову пеплом. Ни мне, ни кому-либо из моих товарищей. Уверяю тебя, нас не взволнует даже груда ножек и ручек, если это хотя бы на час подтолкнет часы истории. Мы боремся за реализацию святой цели, и здесь величины несоизмеримые. В самом деле, Мики, если ты допускаешь, что я могу положить на одну чашу весов какие-то там случайные жертвы, а на другую — нашу идею, то ты меня просто оскорбляешь.
Макс не помнил, что он тогда ответил, может, просто уклонился от разговора. В беседах с Казей в то жаркое лето ему не раз случалось так поступать, теперь он подумал, ведь мог тогда возразить, мог выдвинуть аргументы, протестовать против того грязного вздора, и почувствовал некое смущение. И потому отвернулся от окна и, глядя с неприязнью на своего гостя, сунув руки в карманы брюк, резко спросил:
— Сколько?
— Много! — воскликнул Казя не раздумывая.
Как раз в эту минуту в комнату вошла Дженет. Она вернулась из города, волосы были мокрые, и по щекам еще стекали капли дождя.
— Разреши, Дженет, — сказал Макс, вынимая руки из карманов. — Это мой знакомый, поляк, когда-то мы немного дружили, сейчас он занимается политикой, анархист.
— Социалист, — поправил Казя, поднимаясь со стула.
— Социалист, анархист — один черт, — пробурчал Макс.
Дженет протянула Казе руку.
— О чем же вы беседуете? — спросила она, тряхнув волосами.
— Пока ни о чем, — ответил Макс.
— Тогда не буду мешать. — В дверях она обернулась. — Скажу бою, чтоб подал вам что-нибудь в номер. Я буду у себя.
— Ну так сколько же? — вновь спросил Макс, а Казя вновь ответил, что много. — В таком случае, мой друг, мы можем беседовать до самой сраной смерти, — рассмеялся Макс. — Называй сумму.
— Это хорошо, что ты так быстро сообразил, с чем я явился, плохо только, что ты нелюбезен. Что касается суммы, речь идет о пятистах фунтах. Наша организация, наше представительство здесь, в Лондоне…
— Это меня не интересует, я спросил только о сумме, — оборвал Макс.
— Значит, столько, сколько я сказал: пятьсот.
Макс сел в кресло. Через открытую дверь спальни виднелись зеркало в голубой раме и угол кровати со снежно-белым пододеяльником. В гостинице включили электрическое отопление, приятно повеяло теплом от заработавших нагревателей.
— У меня нет при себе таких денег, — ответил Макс, разглядывая свои большие руки на подлокотниках кресла.
— Понимаю, — отозвался Казя, хлопнув свернутой газетой по острым коленям в темно-зеленых фланелевых брюках. — Мы с этим считаемся. Можем подождать, только чтоб не очень долго.
— У меня есть счет в одном из швейцарских банков. На перевод такой суммы нужно время. Здесь я обмениваю чеки моего варшавского банка, и каждый раз требуется подтверждение. Но пятисот фунтов я не получу. Короче, у меня будут эти деньги, но не раньше чем через неделю. Не думаю, что удастся скорее.
— Это нас устроит, — согласился Казя.
Макс задумался, полузакрыв глаза. Казя вновь хлопнул себя газетой по коленям и без видимой надобности окинул взглядом комнату. В дверь постучали. Бой в квадратной шапочке с золотым помпоном вкатил накрытый салфеткой столик. Переставил на стол чайничек, чашки, поднос с крошечными пирожными, тарелочку с апельсиновым джемом и, наконец, фаянсовый кувшинчик со сливками.
— Знаешь, отчего я не выгнал тебя из Хортыня, когда ты явился туда во время своих, слава Богу, коротких каникул? — спросил Макс.
Казя с жадностью глянул на пирожные.
— Стоит ли вспоминать? — бросил он небрежно.
— Может, и не стоит, — пробурчал Макс. — Хотя, с другой стороны, мы живем воспоминаниями, даже если они не всегда приятны. Живем отчасти тем, что есть, отчасти тем, что было.
— Воспоминания — не моя специальность, Макс.
— Да уж наверное, — согласился тот. — Я не выгнал тебя тогда по двум причинам: во-первых, закон гостеприимства, которого нельзя нарушать. Сегодня я могу вышвырнуть тебя в любую минуту или попросить портье или кого-нибудь из здешней прислуги, не нарушив при этом приличий, потому что ты пришел как проситель. Тогда ты был, к сожалению, гостем. Другая причина — надежда. Надежда, что, может, я ошибался, когда думал о тебе худо, я полагал, может, на самом деле ты не такой жалкий, как мне казалось, не такой жалкий и отвратительный.
— Мой нынешний визит твои наихудшие предположения подтвердил, не так ли? — поинтересовался Казя.
— Несомненно, — буркнул Макс.
Казя расхохотался, обнажив мелкие гнилые зубы.
— Жалкий! Отвратительный! Кто ж из нас? Кто ж из нас двоих, Макс?
— Когда мы с тобой учились в гимназии, — продолжал Макс, словно этого вульгарного хохота не было, — мы виделись часто вечерами, хотя утром сидели вместе в классе. Помнишь? Ты ни разу не пожелал зайти ко мне. По-моему, ты у меня так ни разу и не был.
— Старая история, Макс, не стоит и вспоминать, — отозвался Казя, вертясь на стуле.
Макс покивал в ответ. Поднял руку, медленно и осторожно прошелся ладонью по густым, коротко стриженным волосам. В комнате стало очень тепло. Из коридора донесся высокий звук, как будто зазвенел при ударе о металл фарфор.
— Извини, Макс, — тихо сказал Казя, — можно взять пирожное?
— Разумеется. Бери все.
— Правда? — переспросил Казя.
Макс глянул на него из-под полуопущенных век. Потертая, измызганная куртка, рубашка, которая когда-то была то ли зеленого, то ли синего цвета, а может, и белого и теперь стала смесью всех этих цветов. Кое-как повязанный галстук и длинные, торчащие из рукавов руки. Грязные, обтрепанные манжеты. Обгрызенные ногти. На среднем пальце левой руки какой-то ярмарочный перстенек.
— Конечно, — отозвался Макс. — Налей себе чаю. Вон в кувшинчике сливки. — И спустя минуту добавил: — Не такая уж железная у меня натура. В моей жизни разные главы, у меня разные ящички, они не заполнены до дна, я освобождаюсь от вещей, людей, воспоминаний… Господь свидетель, не так-то это все просто, я сам часто не ведаю, зачем что-то сделал. У меня не такая железная натура, как у тебя.
— Это хорошо, — отозвался Казя, ссыпая в газету пирожные с тарелки.
— Почему?
— Это сулит успех нашему делу.
— Говоря «нашему», ты не думаешь, я надеюсь, обо мне? — осведомился Макс, и в голосе была, казалось, скрытая надежда, что все обстоит наоборот.
— Само собой разумеется, — отозвался Казя, поглощенный своим занятием.
— Что же касается денег, — вздохнул Макс, — то мне хотелось бы, чтоб ты знал об их происхождении.
— Не понимаю, — ответил Казя, опуская на колени газетный сверток. — Желаешь, чтоб я знал от тебя об их происхождении?
— Да, от меня. Я хочу тебе рассказать…
— Какое это имеет значение! — воскликнул Казя. — Происхождение денег нас не касается.
— И все-таки тебе придется послушать, — продолжал Макс, — не то уйдешь ни с чем. Так что выбирай.
Казя поднял вверх красивые, тонко очерченные брови.
— Это ультиматум? В таком случае я слушаю.
Макс лукаво усмехнулся и, положив ногу на ногу, принялся с удовлетворением разглагольствовать. С тем удовлетворением, какое испытывает человек, разбивая кому-то в кровь физиономию и перечисляя при этом все возможные варианты, которые могли бы спасти его от мордобоя.
— Мой блаженной памяти дедушка Яшка раздобыл их как раз у таких глупцов фанатиков, как ты и твои товарищи. Это было во время мятежа в шестьдесят третьем в нашей округе. Восстание уже едва тлело, но те, кто думал, что не все еще потеряно, дули на пепелище с надеждой, что угли разгорятся. Они были даже больше окрылены и воодушевлены, чем тогда, когда начинался весь этот цирк. Дедушка возил им в лес оружие, амуницию, бумагу — одним словом, все, что им требовалось. Риск, разумеется, был очень велик. В округе — патрули кавказских горцев и казаков. Схвати его казаки — он умер бы мгновенно, поймай его черкесы — умирал бы медленной смертью. Само собой разумеется, в этих условиях было мало охотников гонять фуры с таким горяченьким товаром, какой только можно себе представить, да еще не на один десяток верст. Дедушка делал это, но не бескорыстно. Брал плату, и изрядную. Брал все стоящее: золото, драгоценности, рубли. Деньги были немалые, но рискованные. К счастью, отец Яшки, мой прадед, которого я еще помню, поскольку ему был отпущен долгий век, человек простой, если не сказать — примитивный, почти неграмотный, был малый с головой. Он нашел способ, как часть этих денег и драгоценностей вывезти из страны и поместить в безопасное место. Там их сейчас больше чем пятьсот фунтов, но ты получишь только пятьсот, потому что именно столько ты просишь, правда, Казя? Просишь пятьсот, а может быть…
— Ни шиллингом больше, — прошептал Казя, и на его щеках выступил румянец. — Нам надо пятьсот фунтов, и ни пенсом больше. — И поправил непослушные волосы, падающие на лоб. — Зачем ты мне это все рассказал?
— Чтоб у тебя не было угрызений совести.
— У меня их не бывает, Макс.
— Не будь таким самонадеянным. Они появляются со временем. Не думаю, чтоб революционеры были исключением.
Макс встал с кресла. То же самое сделал его гость. Оба направились к двери.
— Сожалею, что не могу дать тебе эти деньги сейчас. Проволочка означает для меня неприятность увидеть тебя еще раз. Не подумай, что я испытываю обиду или там ненависть. Ни то, ни другое, мой милый, ведь когда-то нам казалось, что мы с тобой друзья. Сейчас ты мне отвратителен, как человек, у которого дурно пахнет изо рта. Кстати, ты немного смердишь, старина.
— Это запах революции, — с важностью произнес Казя.
Макс открыл двери. Когда они вышли в коридор, он поинтересовался, как поступил бы тот в ситуации, впрочем почти невероятной, ну, вот если б они очутились по разные стороны баррикады и им пришлось сражаться друг против друга, прикончил ли бы его тогда Казя без раздумий при первом же удобном случае или нет.
Казя сунул сверток в оттопыренный карман куртки и, не отворачиваясь от Макса, прошептал едва уловимо, так, что его можно было и не услышать:
— Не задумываясь ни секунды, Макс.
И двинулся к лифту на своих журавлиных ногах по широкому, надраенному до блеска коридору первоклассной гостиницы.
— Видишь ли, — пробурчал Макс, — спрашиваю тебя, потому что я немного мазохист.
Но этого Казя наверняка уже не слышал.
После октябрьских дождей наступили тихие осенние дни с блеклым солнцем. Дженет и Макс часто гуляли по городу, бродили по паркам и тенистым улочкам, каких тут было множество. Листва на деревьях уже пожелтела. Они не раз добирались до Темзы и там, где росла трава и были кусты сирени, чувствовали себя как в деревне. Лондон в ту пору казался прекрасным. Быть может, именно осень была более всего ему к лицу.
Макс, внешне спокойный, прислушивающийся к тому, что происходит внутри, как бы отсутствовал, Дженет не могла этого не заметить. И, рассказывая ему об Уэллсе и о своем Бьют-Уэллсе, она, казалось, готовилась к возвращению. Говорила о домике среди роз в шахтерском поселке, о детях, которые уже начали учиться, потому что каникулы давно прошли, и об угрызениях совести, какие испытывает, отправив два месяца тому назад отцу полное лжи письмо. Максу нравились эти ее рассказы, но было похоже, они ему неинтересны. Не исключено, что он вовсе ее не слушал. Иногда прерывал на полуслове, чтоб показать что-то или о чем-то спросить, и, как правило, это не имело никакого отношения к ее рассказу.
Две недели спустя, когда бабье лето близилось к концу, дни становились короче, а город окутывал туман столь густой, что одежда становилась влажной, как после дождя, Макс сказал Дженет, что возвращается на родину.
Это было под утро, когда они, прижавшись друг к другу, лежали еще в постели. Дженет заворчала, как кошка, вытащила руку у него из-под бока и, приподняв голову, откинув со лба прядь волос, попросила, чтоб он повторил сказанное еще раз.
— Завтра я уезжаю в Польшу, — отозвался Макс.
Она упала лицом в подушку. Лежала неподвижно, подняв колени. Не произнесла ни слова. Через полчаса поднялась с постели, нагая и стройная, с небольшими высокими грудями, какими скульпторы наделяли античных богинь. Рассыпавшиеся волосы закрывали половину спины. Так она стояла некоторое время, не поворачиваясь, опустив руки, затем торопливо потянулась к халату. Сказала, что в таком случае ей надо выспаться и она пойдет к себе. Голос, которым она это произнесла, не был ее голосом. Гораздо выше, с неприятным призвуком. Так скулит незаслуженно обиженное животное.
Оба встали поздно. Завтракали отдельно. Увиделись в полдень у нее в комнате. Она уже упаковала свои вещи. Весь багаж состоял из сумочки и небольшого чемодана с наклейкой «Гамильтон». Они поехали на метро на маленький вокзальчик Мерилибон, откуда отправлялись поезда на запад. По дороге на вокзал она сказала, что не в состоянии вернуться сейчас домой и поедет в Долджло, туда, куда направлялась четыре месяца назад, пересаживаясь в Эксетере. Вокзал Мерилибон был чистенький, пестренький, игрушечный. Похожий на декорацию; такими же были черно-зеленые вагончики на высоких колесах и паровоз с разрисованной красными полосами трубой. Стоял туманный, но теплый день.
— Кажется, это мой поезд, — указала она зонтиком, когда они вышли на перрон.
Время, пролетевшее с трех часов утра, изменило ее до неузнаваемости. Она была бледна, под глазами тени, что, впрочем, случалось и раньше. Такой она даже больше нравилась Максу. Однако сейчас совсем не то. Она показалась ему выше ростом и худее. Ввалились виски, щеки. Правда, и прежде, даже когда она бывала в хорошем настроении, ее облик не всегда соответствовал возрасту. Крепкая, с упругим, изящным телом, она не относилась к тем девушкам, которых сравнивают с цветком. И вдруг стала такой жалкой, что люди оглядывались. Было тепло, но не жарко, однако Дженет, хотя на ней был всего лишь жакет, покрылась испариной.
Макс подумал, что это должно бы причинить ему боль, но с удивлением констатировал, что ничего подобного не испытывает. Подумал еще, что Дженет, вероятно, страдает и не хочет, чтобы он это заметил, но, не в силах скрыть переживания, страдает от этого вдвойне. Тогда он решил сказать что-нибудь такое, чтобы придать ей бодрости, и весело воскликнул, что ему с ней было очень хорошо и что это одна из причин, по которой он будет думать об Англии с симпатией, и единственная причина, почему он сохранит в памяти Шотландию. Эффект, однако, был противоположный. Дженет отступила на шаг, открыла рот, обнажив свои великолепные зубы так, что все вокруг засверкало. Макс полагал, она смеется, но, прежде чем успел ответить на улыбку, понял, что у нее перехватило дыхание. Продолжалось это долго, и зрелище было не из приятных. Когда все прошло и Дженет вернулась к своей тихой скорби, он, чтобы отвлечься от того, что только что произошло, указал на пальму в большой зеленой кадке с металлическими обручами и заметил, что похожая стояла в доме у его отца, но в одну из суровых зим, несмотря на все хлопоты, стала желтеть и к весне усохла. Минуту спустя, когда кондуктор прошел вдоль вагончиков с табличкой, возвещающей, что до отхода поезда остается десять минут, он спросил, не посчитала ли бы она за бестактность, если б он предложил ей некую сумму денег, которую положит на ее имя в одном из лондонских банков.
— Не будем об этом, Макс, — прошептала она в ответ и, указав на поезд движением головы, добавила обычным своим голосом: — Мне б не хотелось вскакивать на ходу. Думается, что пора в вагон.
— Да, разумеется, — отозвался он с готовностью и взял ее под локоть. — Что ты собираешься делать в Долджло? — спросил Макс, когда она была уже на ступеньке.
— Я ж тебе говорила: у меня там подруга. Не в самом Долджло, а в двух-трех милях от него, в деревне, — пояснила она.
— Ну и что ты будешь там делать?
— Постараюсь быть как можно больше на воздухе. Там прекрасный климат, может, застану еще ежевику. Будем пить в полдник чай с кексом, а вечером Патрик будет читать Диккенса или Теккерея. Он очень это любит, — произнесла она, всматриваясь в даль мимо его головы своими большими, в это мгновение как бы увеличившимися и слегка косящими глазами.
— Кто это, Патрик?
— Муж Сюзи. Я, пожалуй, пойду.
Он хотел помочь ей внести чемодан, но она запротестовала.
— Прощай, Дженет, — сказал Макс, когда она была уже в вагоне, где отсутствовали купе и лишь вдоль стен тянулись скамейки.
Встав у окна, Дженет опустила раму. Протянула сверху ему руку. Горячую и влажную. Кондуктор крикнул: «Off!» — и поезд тронулся.
Макс отступил на шаг, помахал ей рукой, она смотрела в его сторону, силясь улыбнуться. Смотрела долго-долго, хотя первые вагончики давно уже уехали со станции и Макс расплылся в густеющем воздухе вместе с пальмой, красным зданием вокзала и пеларгониями на подоконниках.
Однако Макс не уехал в Польшу. Ни в тот день, ни на следующий. Он опять занялся своим трактатом и в течение недели не покидал гостиницы. Вступил в борьбу с бумагой, с пером, со своей ненавистью к фон Арниму, с возрастающим отсутствием интереса к теме, к работе, боролся с охлаждением к Гёте и остывающим пристрастием к Шиллеру. Он писал без надежды, и ему казалось: даже если что-то получится, это не будет иметь значения для поэзии, для читателя и для него самого. К этому у него уже не лежало сердце, а через неделю иссякло и терпение. Он забросил седьмую тетрадь на полку и позвонил в бар, попросил подать бутылку водки. Молодой и сильный, но норовистый конь, которого попотчевал арапником ездок, отправившийся на веселую прогулку, стал на дыбы, вскинув копыта в небо, сбросил ездока в канаву, а сам, вместо того чтоб помчаться опрометью — пусть без хозяина, зато на воле, — зарылся мордой в песок и оцепенел.
Тлел влажный рассвет. Макс вышел из гостиницы и направился по гудящим улицам к Темзе. Он перешел мост и очутился в Ист-Энде. Здесь он еще никогда не был. Двинулся в сторону маячащих в сумраке стальных конструкций портальных и башенных кранов, туда, где слышались сирены судов и буксиров. Прошел мимо гигантских доков лондонской верфи и очутился на огромной железобетонной платформе, врезающейся в расширенную в этом месте реку. В пятидесяти метрах от него длинные руки портовых журавлей расчерчивали свинцовое небо. Река была грязной и темной, а по ее поверхности прыгали короткие, набегающие друг на друга волны. По ним плыли ящики, доски, дохлая рыба, сброшенные с судов нечистоты. Верещали чайки и крачки, гоняясь за легкой добычей, толстые, отяжелевшие, самоуверенные. На другом берегу Темзы, примерно на уровне глаз, через короткие промежутки времени вспыхивал и гас красный огонь, и в том же ритме с ближнего берега отзывался туманный ревун. Из сумрака ноябрьского утра медленно и величественно выплыла громадина: казалось, будто двигалось несколько составленных воедино шестиэтажных зданий. Все это сопровождалось негромким перестуком машин, едва пробивающимся сквозь насыщенный влагой, густой воздух. Железная гора шла вверх по реке, выставив сперва высокий тонкий нос, затем ржавые стальные плоскости с массивными заклепками. Плоскости скользнули быстрее, затем — медленнее, а волны, которые лишь теперь докатились до пристани, забурлили внизу, словно пытаясь вскарабкаться одна на другую. Когда судно наконец прошло, а длилось это несколько минут, и оставило позади полосу взбаламученной винтом воды, Макс прочитал на корме: «South Dakota»[19]. Он повернул голову, чтоб глянуть вновь на сигнальный огонек напротив, и перед его носом, тарахтя, прошло небольшое суденышко, этакий вагон-курятник, с нагроможденными в избытке надстройками, непропорционально большими в сравнении с сидящим в воде корпусом. Своим недужным и запущенным видом этот уродец напомнил Максу китайскую джонку, которую он видел в детстве на иллюстрации к «Труженикам моря». С противоположной стороны появился изящный парусник, трехмачтовый бриг с убранными парусами, тонкий, будто существующий в двух измерениях, как белая аппликация, налепленная на черный фон, и даже ползущий лепехой впереди буксир, грязный и замызганный, был не в состоянии разрушить поэтичность видения. Парусник назывался «Каллиопа». Его выводили из реки на просторы морей и океанов, где он, поймав в паруса ветер, поплывет Бог знает куда и зачем.
— Это и есть поэзия, — пробурчал Макс, — подлинная красота. — Сунул озябшие руки в карманы твидового пальто и, проводив взглядом парусник, произнес: — Но и это меня не волнует.
Однако проторчал на пристани не один час и повидал много судов, кораблей и буксиров. Некоторые его поразили, как, например, пузатая барка с паровой машиной и убранными парусами, от которой повеяло каким-то экзотическим запахом, поэтому, верно, она и была названа «Жасмин». Макс все ждал военного корабля, но так и не дождался.
Где-то около полудня он ушел с пристани и бродил какое-то время, пока не очутился перед каменным забором. Парни-кокни из соседних бедных кварталов, видневшихся невдалеке, испещрили его изречениями, ребусами и рисунками, где однозначность сути преобладала над убожеством формы. Двигаясь вдоль стены на восток, он миновал обширные склады, охраняемые сторожами с доберманами в намордниках, и потом еще огромные груды старых бочек, канатов, якорей. Когда забор кончился, пошли свалки, пересекаемые узкими улочками с лачугами, похожими на собачьи конуры. Все это тонуло в лужах, которые доставляли неизъяснимое наслаждение ребятишкам, пускавшим бумажные кораблики. Вслед за полуразвалившимся трех- или четырехэтажным зданием начиналось уже что-то вроде улицы, где торчал приземистый дом с вывеской, вытравленной на металлической таблице: «Трактир под пиратским парусом».
Макс вошел и уселся за длинный деревянный стол, изрезанный всевозможными надписями, по сравнению с которыми те, на заборе, казались собранием молитв. В трактире было холодно и пахло мочой. Макс оказался единственным посетителем. За массивной стойкой виднелась чья-то расплывшаяся рыжая морда. Макс стукнул спичечным коробком о стол.
— Что такое? — осведомилась морда, не покидая места за стойкой. — Пиво только по вечерам.
— Я хочу поесть.
— Файона! — рявкнула морда, и из-за занавески, которая отделяла трактир от жилья, вышла дебелая женщина. — Дай ему пожрать, если есть, — гневно произнес человек за стойкой.
— Могу предложить рыбу или вареную баранину, но только через полчаса. — Женщина стояла перед Максом, уставясь на него удивленными глазами.
— А что можно сейчас?
— Фасоль.
Макс кивнул. Ему подали фасоль с копченой грудинкой в жестяной тарелке. Еда была превосходная. Он запивал ее зеленым чаем без сахара. Потом вытянул ноги, оперся затылком о серую стену, уронив на колени руки.
Через час объявились первые посетители, через несколько часов завсегдатаи были, надо полагать, в сборе. Он разглядывал их с интересом, они отвечали ему тем же, и с каждой новой кружкой пива их взгляды становились все более бесцеремонными. Двое или трое молодых мужчин позволили себе выразить вслух свое мнение о его одежде и облике, но он не понял, хотя они сказали, видимо, нечто забавное, так как все с издевкой расхохотались. Кроме пива на столе мелькали бутылки с джином и китайской рисовой водкой, наверняка контрабандной, как нетрудно было догадаться.
Макс просидел в трактире до закрытия, то есть до четырех утра, и в свой отель вернулся той же дорогой, но лишь затем, чтоб забрать вещи. Он перебрался в небольшую гостиницу напротив трактира, где было не так уж дурно, если б не сырость и мыши.
Дни, которые теперь начались, делились для Макса на утренние часы, когда он отправлялся на пристань наблюдать за судами, и вечерние, переходившие затем в ночные, когда он сидел в трактире. Обе половинки дня были занимательны, и обе походили друг на друга. Сперва он наблюдал суда, потом — людей, оба мира были ему неизвестны. Суда были разные, люди — большей частью похожие друг на друга. Он устраивался обычно у стены, неподалеку от стойки. Место было удачное. Через несколько дней на него уже перестали обращать внимание. Дородная женщина, едва он появлялся, озябший, с реки, ставила молча перед ним тарелку с фасолью, а потом подавала зеленый чай в глиняной кружке. Вскоре появлялись завсегдатаи. Он прислушивался к их историям, к хвастовству и ссорам моряков, докеров, рабочих с верфей и ближних складов, ко всем этим словам, рвавшимся в тесноте и гаме из глоток скверно воспитанных и грубых парней, из числа которых вербовал веками этот небольшой, но отважный народ мореплавателей, солдат и корабельщиков.
Поздним вечером он заказывал миску тушеной баранины, а к ночи — четвертинку джина, который забирал обычно с собой в гостиницу. Хозяева трактира, необразованные, но славные люди, заговаривали порой с ним на своем клекочущем сленге, который Макс быстро освоил. Вечером в трактире было тесно, душно, холодно, и с каждым часом смрад становился все ощутимей, поскольку из-за ветра, идущего с реки, и плохой погоды, которая фактически не менялась, кое-кто из посетителей, боясь, что продует или промочит на дожде, а может, не желая ничего пропустить из спора, который перекатывался по залу наподобие волны по палубе во время шторма, оправлялся прямо под стол, делая это незаметно, через штанину, а запах, стоявший в трактире, свидетельствовал о популярности способа.
Максу случалось уходить и раньше, еще до полуночи, тогда он бродил по городу. Шагал по улочкам, мощенным брусчаткой, покрытой тонким слоем грязи даже в те дни, когда не бывало дождя. По обеим сторонам торчали одноэтажные дома, иногда попадались площади, столь непохожие на площади Вест-Энда. В оконцах, прикрытых тряпьем, рано гасили свет, и тогда свою ночную жизнь начинали крысы и жирные кошки, которые охотились за ними.
В одну из таких прогулок, недалеко от трактира, к нему привязались два молодых человека, пожелавшие, чтоб он подарил им фунт стерлингов и часы, если таковые у него имеются. Макс отдал им все, что у него было, и добыча значительно превосходила ту, на какую они рассчитывали. Это их так развеселило, что они приложили Максу по животу и голове, однако он устоял, и это их так изумило, что они взяли ноги в руки, не сняв с него пальто, о котором уже вели речь, когда Макс выворачивал карманы.
Декабрьским вечером, скорее даже ночью, поскольку было около двух часов и большинство посетителей покинули трактир, а те, кто остался, сидели обалдевшие от пива, водки и шумных разговоров, не подавая признаков жизни, Макс подошел к трактирщику с пакетом из блестящей бумаги, в какую в фешенебельных лондонских магазинах заворачивают коробки со шляпами.
— Дать чего-нибудь покрепче на ночь? — осведомился хозяин.
— Нет, Генри, на этот раз нет, — произнес Макс с торжественным видом. — Будь так добр, прими от меня подарок.
Генри, который в этот момент двигал по полу тяжелые ящики, выпрямился и, выставив вперед свою опухшую физиономию, часто заморгал.
— Подарок, который я тебе вручаю, — продолжал Макс, — вероятно, не поможет тебе в твоем нелегком труде, но будет, надеюсь, памятью о нашем знакомстве.
Из-за занавески выглянула жена трактирщика и в возбуждении спросила:
— Да возможно ли это? Вы что же, желаете сделать моему старику Генри сюрприз?
— В самом деле, — отозвался Макс, — в самом деле, уважаемая. Я хочу сделать ему сюрприз. Сюрприз вам обоим.
— А что это такое? — спросила она, вытирая руки о передник. — Что это такое, мистер… мистер…
— Рогойский, — подсказал Макс.
— Знаю, знаю, у вас какая-то такая фамилия.
— Это трактат о немецкой поэзии, который я писал шесть лет. Да, друзья мои. В этом пакете шесть лет моего труда, который не легче вашего.
— Значит, вроде бы книга? — осведомился Генри, склоняясь над пакетом и притрагиваясь толстым пальцем к блестящей яркой бумаге.
— Да, книга, — ответил Макс, — книга, только не напечатанная. Это рукопись. Правда, она не кончена, но какое это имеет значение, кончена она или нет?
Трактирщица склонила голову набок и надула губы, размышляя над этой проблемой. Она была на полголовы выше своего супруга и гораздо благообразнее.
— Я думаю, так оно и есть, как вы сказали.
— Это рукопись, — продолжал Макс, — большого историко-литературного эссе, его тема — немецкая поэзия эпохи романтизма и люди, которые эту поэзию творили. Я уверен, вы немногие из тех, кто способен оценить мое эссе. Не возражаю и против того, чтоб вы назвали это исследованием или трактатом.
Макс протянул пакет Генри, тот осторожно взял его в свои лохматые лапы и держал благоговейно перед собой, как орденскую подушку.
Трактирщица поправила волосы и громко произнесла, так громко, что впавшие в прострацию завсегдатаи содрогнулись от отвращения.
— Мы очень вам благодарны, мистер…
— Рогойский, — вновь подсказал Макс.
— Да помню я, помню вашу фамилию. Слейди вернется — ух как обрадуется, когда мы ему покажем.
— Слейди — это наш сын, — пояснил Генри, — бьет сейчас китов где-то около Тасмании. Через два месяца вернется.
— Как только вернется, мы ему тут же покажем, — подтвердила Файона.
— Трактат написан по-польски, — заметил Макс, — но, думаю, это не имеет для вас значения. Так же и для Слейди, когда он вернется. Скажи мне, Генри, прав ли я?
Генри кивнул, а Файона осторожно положила свою натруженную руку на пакет.
— Только поглядите, — воскликнула она, — до чего красиво завязано! Одна бумага да ленточка чего стоят! Генри спрячет туда, где мы держим наличные. Не будем трогать, дождемся Слейди и ему покажем. Мы очень, очень вам благодарны, — повторяла она, пока Макс шел к двери, застегивая на ходу свое твидовое пальто.
Двумя днями позже он покинул Англию.
— Теперь надо еще жениться, — пробормотал он, стоя на палубе датского лайнера, который вез его по бурному Северному морю в Копенгаген.
Не задерживаясь в Германии, он вернулся через Берлин в Варшаву в середине декабря 1913 года.
Тут он узнал, что за время его полуторагодового отсутствия в Карлсбаде от воспаления брюшины скончалась бабушка Роза, его сестра Бася, которая три года назад вышла замуж за подающего надежды львовского архитектора, родила меж тем дочку.
Рождество встречали в Хортыне. Неизвестно почему так захотелось матери. За рождественский стол сели вчетвером: дедушка Юлиуш, который в отсутствие Макса сильно постарел, мать, дядюшка Генрик и сам Макс. За ужином в Сочельник дед и дядюшка задавали Максу множество вопросов насчет Англии, а тот неизменно отвечал, что страна в общем-то хороша и что он чувствовал себя там отлично. О Дженет не упомянул ни словом.
Накануне Сочельника он отправился в Ренг и застрелил там косулю. Зверь выскочил из ближних зарослей, взбивая копытцами снег, и запорошил ему ноги. Он поднял свою трехстволку и, не прицеливаясь, всадил заряд в грудь. Косуля, а это был козел, рухнула как подкошенная, дернула ногами и замерла. Тут же набежали собаки. Вскоре подошел и егерь.
— Дельный выстрел, — заметил он, поднимая зверя за холку, — пуля вошла в грудь и разорвала сердце.
Отлично!
Макс отдал егерю ружье и направился торопливым шагом к усадьбе. В Варшаву вернулись в начале января. Макс зашел на Пенкную к Туне Козеблоцкому, представительному сорокалетнему мужчине с репутацией гуляки. Туня происходил из хорошей семьи, когда-то богатой и влиятельной, был отменно воспитан и забавен, оттого Туню и принимали всюду, с пониманием относясь к его любимым занятиям: карточной игре и волокитству за хорошенькими женщинами, которых он соблазнял немилосердно.
— Я хочу жениться, — сообщил Макс, появляясь в маленькой неприбранной квартирке, которая всем своим видом производила такое впечатление, будто хозяин сидит на чемоданах. Туня же, надо сказать, за отсутствием денег никогда никуда не выезжал, а к приглашениям в деревню относился с презрением. Мало было квартир, которые своим убранством так противоречили бы инертному характеру их владельца.
— А зачем? — осведомился Туня, растирая привядшие уже щеки одеколоном, ибо завершал как раз свой утренний туалет. — Вынужден, что ли?
— Ничего подобного, просто хочу, и все, — ответствовал Макс, плюхаясь на стул.
— Плохо себя чувствуешь? — поинтересовался Туня, завязывая перед зеркалом галстук.
— Прилично, — сообщил Макс.
Макс поднялся со стула и, опираясь на трость, дал Туне понять, что если он со всей серьезностью отнесется к просьбе и найдет ему жену, то Макс в свою очередь поразмыслит над тем, не забыть ли о тех деньгах, которые Туня должен ему с прошлого года.
Туня выпил вина, закурил папиросу, еще разок взглянул внимательно на Макса и обещал заняться делом на будущей неделе, потому что на этой… и тут последовал длинный список обязанностей, которые ему надлежит выполнить как перед отдельными особами, так и перед целыми семьями по причине удачно начатого карнавала, но это уже было Максу неинтересно, и он простился, попросив сообщить, когда Туня что-нибудь подберет.
В одно из воскресений дядя Генрик подговорил Макса отправиться в концерт. Играли Чайковского — сперва «Патетическую», затем «Итальянское каприччио». Исполнял оркестр Концертного общества из Кёльна.
— Восхитительно, — проговорил дядя Генрик, когда они очутились на улице. — В особенности Четвертый концерт.
— Не спорю, — согласился Макс, застегивая шубу, — только что проку?
— Как можно так говорить? — возмутился дядя.
В конце месяца, когда Макс вернулся домой, прошлявшись несколько часов сряду по Варшаве (они по-прежнему занимали квартиру на Мокотовской, которая теперь, после смерти бабки и отъезда Баси, стала казаться просторнее), в дверь позвонил рассыльный и передал через горничную квадратный конверт с размашисто написанным адресом: «Ясновельможному пану Максимилиану Рогойскому в Варшаве». Макс вытянул сложенный вдвое листок и прочитал:
«Мне кажется, я нашел. Молодая, здоровая и глупая. Все, чего ты хотел. Обнимаю, и до скорого. Антоний Козеблоцкий».
Ей было двадцать два года, звали ее Паулина. Она была одной из трех дочерей Ксаверия Рабского, помещика, чья семья жила неподалеку от Ловича.
Свадьбу играли в Собботах, скромном именьице, где усадебка, парк, огород и ближний костел с небольшим кладбищем являли собой инфраструктуру мелкопоместной шляхетской жизни, воспетой в песнях Монюшки, в стихах Ленартовича и в творениях разных драмоделов, поставленных с пиететом любительскими кружками. Все излучало уют и богобоязненность, детишек крестили на старинных саблях, все было такое родовое и национальное, и нищета шла рука об руку с фанаберией.
Венчались в старопольских костюмах, и это более растрогало и взволновало все общество, чем сам факт соединения нерушимыми брачными узами двух молодых существ. Трудностей с костюмами не было, поскольку в предвидении таких оказий их хранили как реликвии в сундуках. Были соблюдены в одеяниях даже кое-какие нюансы, ибо то был акт политический, а не маскарад, демонстрация решимости и воли к самосохранению вопреки всему: появление шляхтичей в лисьих шапках, в кунтушах, в поясах и при сабле — пусть капитана-исправника, обер-полицмейстера и самого генерал-губернатора хватит от азиатской ярости кондрашка! Но кондрашка, как правило, никого не хватал: у империи были враги куда опаснее, чем кунтуш и прадедовская сабля, к тому же тупая, как мужицкий лемех. Бывало, однако, разодетые таким образом свадебные гости попадались на глаза жандарму, и тот грозил пальцем, а если у него не было никакой срочной работы, то бежал с докладом куда полагается, и казацкий десятник, щелкая нагайкой, вопил: «Эх, полячишки, свиные хвосты!»
Гостем Макса был Хаим Роттенвейлер вместе с невестой Шейлой Рот, некрасивой, но очень богатой французской еврейкой. В кунтуше с широким собольим воротником Хаим выглядел великолепно. Высокий, плечистый, он походил на провинциального магната, заброшенного судьбой в толпу мелкопоместной шляхты. Да и кунтуш сидел на нем безукоризненно, так как за неделю до свадьбы был сшит портным с Налевок, одевавшим правоверных евреев, когда те хотели блеснуть нарядом. Зато Максу старопольский костюм был явно не к лицу.
Два дня и две ночи пили, веселились и кричали. Макс дважды так отплясывал мазурку, что срывал аплодисменты. Неутомимая в танцах Паулина переплясала постепенно всех партнеров, одной из первых ее жертв стал дядюшка Генрик. Хаим Роттенвейлер молниеносно освоил полонез и благодаря росту дважды шел в первой паре с Эльжбетой Рабской, матерью юной супруги.
Погода стояла великолепная, почти весенняя. О свадебном путешествии Макс не желал и слышать, убеждал тестя и тещу, что выбор страны или места является обычно причиной первой супружеской ссоры и что ему известны такие пары, которые из-за этого расходились, что было встречено Рабскими без должного понимания, и тогда Макс, желая затушевать невыгодное впечатление, какое произвел своим отказом, затеял финансовую ревизию Соббот. Положение оказалось столь плачевным, что перестало уже волновать всех, включая и лиц, которые были в этом непосредственно заинтересованы.
По мнению дядюшки Генрика, сделано это было демонстративно и неделикатно.
В начале мая молодожены отправились в Хортынь. В июле Паулина сообщила мужу, что, судя по всем признакам, у нее будет ребенок. В августе разразилась война. В феврале 1915 года Макса мобилизовали и две недели спустя направили в формирующуюся под Житомиром кавалерийскую бригаду. За неделю до его отъезда Паулина родила мальчика. Когда прощались, она осведомилась, как окрестить младенца.
— Полагаю, по католическому обряду, — ответствовал Макс.
— Это само собой! — воскликнула Паулина. — Я спрашиваю про имя.
— Лишь бы не Максимилиан, — буркнул он и потрепал жену по багровой еще от родовой горячки щеке.
Он расположился в одном из вагонов воинского эшелона, до отказа набитого овсом, оружием, лошадьми, солдатами и офицерами. Поезд тяжело сдвинулся с места и неуклюже покатился по Подольской возвышенности, разъезжаясь с такими же поездами, идущими в противоположном направлении. И он подумал: вот он едет или, вернее, его везут навстречу новым испытаниям, которые, подобно прежним, он примет с покорностью и которые, что ни говори, не внесут в его жизнь ничего нового, ничего такого, чего он уже не познал или не предвидел. Мысль, что, возможно, он не вернется, его не ужасала.
Шел мокрый снег, пахло войной, хотя они от нее отдалялись. На станциях ржали лошади, раздавался топот кованых сапог, слышались смех и ругательства.
Он шевельнулся в кресле. Поднес руку к лицу, затем провел ею по бритому черепу. Открыл глаза и осмотрелся в комнате, знакомой ему и в то же время незнакомой, как если бы он был тут всегда и в то же время никогда здесь не был. Трехчасовой сон его освежил. Он глянул направо. Отблески сверкающих снежных сумерек отражались на столике. Коньяк был не тронут, кофе остыл, сигара превратилась в пепел.
Перед ужином он решил пройтись по саду. Стоял сухой, морозный и безветренный вечер. Снег уютно скрипел под ногами. Он шел по аллее между двумя рядами деревьев в тяжелой меховой шубе, подняв воротник, в шапке с коротким меховым козырьком, на котором забавно, словно перья у чомги, топорщились волосики. В том месте, где аллея кончалась изящной статуей косули на высоком цоколе — собственно, даже не косули, слишком коротки были ноги и слишком узок круп, и потому ее считали антилопой, — он свернул влево на тропинку, ведущую сквозь заросли одичавшей малины к неширокой, но глубокой речке, притоку близкого Буга. Именно здесь росли деревья, которые он особенно любил, — цель его детских странствий. Несколько дубов и лип, а посередине — высокоствольная сосна. Теперь, когда лиственные деревья осыпались, она была красивей всего, в ней ощущались, как, впрочем, и всегда, очарование, гордость и независимость. Он глянул вверх, на подвешенную под небом крону, приблизился к стволу и приложился щекой к шершавой коре. Небо было свинцовое, как это бывает в мороз перед снегопадами. Он сел на скамейку, стоявшую чуть в стороне, ближе к замерзшей реке. На другом берегу виднелись очертания деревьев: парк в этом месте переходил в небольшой, в несколько десятков акров, лесок, отделяющий усадьбу от деревни. Какая тишина, даже собак не слышно… И он в этой тишине в первый день своего возвращения домой. Он подумал, что теперь дни, месяцы, годы полетят быстро, как буддистские молитвы, наматываемые на барабанчик, и их бег будет отмечен возрастающим утомлением души, ослаблением мысли, угасанием тела, и в летнюю пору он будет приходить сюда, на свое любимое место, садиться на скамью и любоваться лесом за рекой, пока наконец тридцать, а может, и сорок лет спустя в шубе и заячьей шапке сюда не явится подточенный хворью старец, не обопрется неподвижными, костенеющими руками на трость, а время, отделяющее его от того момента, есть нечто, что может быть и может не быть, ибо если оно будет, а оно будет наверняка, то оно окажется бесплодным. И еще он подумал, что этот промежуток не заполнит ни любовь, ни дружба, ни работа, явись они даже в самом привлекательном образе, ибо прав был тот человек, которого он познал и полюбил, хотя провел с ним всего несколько часов: нельзя никуда вернуться, если вышел ниоткуда, а как раз это с ним и случилось. Кем он был, тот немолодой грузный мужчина с изборожденным морщинами лицом, с отважным и вместе с тем усталым взглядом? Как случилось, что они нашли друг друга в переполненном пивном зале, хотя прежде судьба их не сводила? Отчего они повели сразу нескладную бурную беседу, извергая из себя тяжелые мысли, будто это сулило им облегчение? Отчего, разговаривая с этим человеком, имени и национальности которого он не знал, он возражал против собственных убеждений и соглашался с тем, что им противоречило? Как случилось, что они перешли на «ты», когда в тот июльский вечер в пустом доме Веренеева, фабриканта и библиофила, они продолжали начатый еще на рассвете разговор, который явился для обоих очищением?
— Самое горькое, что может ждать мужчину! — воскликнул он там со страстью, когда его пожилой собеседник признался, что никакой мечты у него уже не осталось. И повторил это снова именно в тот момент, когда в холле зацокали сапоги с двойными подковками, что было особым шиком штабных офицеров. Что сталось с тем человеком? Где он теперь? Почему он так часто его вспоминает?
Он поднялся со скамейки и двинулся к дому. Оттуда долетал мягкий перестук движка от динамо-машины. Он тяжело шагал, словно придавленный годами, которые надвигаются. Он подумал, что, съев ужин, вернется в библиотеку и вновь сядет в кресло, а утром после завтрака сделает то же самое и, возможно, всякий раз на ночь будет просить, чтоб ему постелили в кабинете, потому что столь многое надо передумать в тиши.
Внезапно с ветки сорвалась птица и пролетела над рекой. Порыв ветра, неожиданный в этой тишине, зашелестел сухим аиром. Он повернул голову и оглянулся. Взметнувшаяся струя снега осыпала стебельки и постепенно осела. Белая вуаль и в ней невесомые хрусталики, опадающие в паутинке.
ЛЮДИ НИОТКУДА
Еще лет пять-шесть назад имя Евстахия Рыльского, человека, который к тому времени перешагнул порог сорокалетия и переменил массу самых невероятных профессий, в культурных кругах Польши мало кому было известно. Но когда в 1984 году в одном из самых солидных варшавских издательств вышли две его повести, включенные в предлагаемую читателям книгу, критика тотчас же вынесла категорический и единодушный приговор: зрелая проза, настоящая литература.
И это действительно было именно так. Нежданно-негаданно — а такое в литературе случается — появился очень интересный, сильный, я бы сказал, как-то по-старомодному добротный писатель, голос и мысли которого более чем просто индивидуальны. Писатель очень самобытный, хотя вовсе не порывавший с литературной традицией, напротив, кажется, даже нарочито подчеркивавший свою с нею связь. Правда, не столько с польской, сколько, пожалуй, с российской: Чехова, Толстого, Бунина, Булгакова. Это весьма охотно подтверждал в многочисленных интервью и сам писатель.
Но, разумеется, всего этого было бы еще, наверное, недостаточно, чтобы книги Е. Рыльского привлекли к себе столь пристальное внимание. Возможно, ключ к разгадке их успеха и у критики, и у читателей надо искать в ином: в том, что писатель открыл в новейшей польской литературе совершенно нового героя. Ведущей, можно сказать, даже дежурной фигурой и в прозе, и в поэзии был, как правило, человек, тесно связанный (так или иначе) с демократической, повстанческой традицией.
Странного здесь нет ничего. Не надо только сбрасывать со счетов того обстоятельства, что в конце XVIII столетия Польша как самостоятельное государство исчезла с политической карты Европы (страну поделили между собой Россия, Австрия и Пруссия) и вновь появилась на ней лишь более столетия спустя. И появилась всего только на два десятилетия: за ними последовало без малого шесть лет оккупации и войны. Затем — драматические перипетии становления Народной Польши в новых границах, годы «культа», нескольких оттепелей и кризисов, военного положения и опять драматическое становление Республики Польша… К тому же все без исключения польские национально-освободительные восстания двух последних столетий были проиграны. Патриотизм в польском общественном сознании поэтому чаще окрашен в безнадежно-героические, отчаянные тона. Он может быть романтически-порывистым призывом пусть к безрезультатной, но бескомпромиссной борьбе за свободу и независимость, может приобретать и «позитивистские» черты (акцент на своего рода теорию малых дел и ограниченное сотрудничество с либеральными элементами внутри страны и за ее пределами ради постепенного, шаг за шагом, обретения Польшей суверенитета и независимости). Естественно, что патриотическая традиция в польской культуре, в польском национальном сознании отождествляется до сих пор с традицией, так сказать, или повстанческой, или антиповстанческой.
К ней неизменно обращались и обращаются в послевоенные десятилетия писатели разных, подчас противоположных и даже враждебных политических взглядов. Одни выдвигают на первый план бескорыстие, жертвенность и самоотречение во имя будущего, что в крайних случаях неизменно оборачивается нетерпимостью к инакомыслию, готовностью подчинить Делу, Идее все, вплоть до вековых представлений о нравственности. Другие в этой же традиции, в этих «польских мифах» (неокупаемый героизм, растоптанный внешними силами патриотизм, циничное использование заранее обреченных благих порывов всякого рода отечественными и иноземными проходимцами и фанатиками) видели и видят одну из веских причин хронических польских бед, объясняющую, в частности, и «неудачу польского послевоенного эксперимента».
Одним словом, со времен, пожалуй, Мицкевича подлинным героем польской литературы был человек, либо отождествляющий себя с польским повстанческим мифом, либо же словом и делом против него возражающий, — но никогда не равнодушный к нему, всегда патриот, всегда человек, бережно оберегающий свои национальные корни.
Е. Рыльский этот неписаный канон нарушил, решив обратиться к исследованию совершенно иного типа поляка — начисто лишенного патриотических чувств и понятий. И выбрал для этого тип обрусевшего поляка. Но обрусевшего, так сказать, не сознательно, не волей обстоятельств, которым он, сопротивляясь, вынужден был все же поддаться, а как-то бездумно, пассивно, без сожалений. Такие, конечно, в польской литературе появлялись — но ее героями, ни в буквальном, ни в художественном смысле, никогда не были.
А между тем на царской службе, гражданской и военной, в XIX и начале XX столетия состояли тысячи и тысячи поляков, в 1905 и 1917 годах многие из них активно, осознанно сражались против своих земляков — патриотов, демократов, революционеров. Кстати, офицеры с польскими именами и фамилиями служили не только в красной, но и в белой армии, вожди которой и слышать не хотели о подлинной независимости Польши, о выходе Привислинского края из состава России, когда она покончит с большевиками и революционной смутой.
Многие из них были реальным «опровержением» польской повстанческой мифологии. Литература справедливо вынесла им однозначно суровый приговор, но, по существу, так и не занялась художественным исследованием этих «лишних людей», выломавшихся из круга польской демократической или консервативно-патриотической традиции. Е. Рыльский такое художественное исследование предпринял. И оно, на мой взгляд, оказалось не просто удачным, интересным и новаторским вкладом в польскую литературу, но затронуло проблемы более общего свойства, способные, думается, привлечь внимание и советского, в первую голову, конечно, русского, читателя…
Станкевича мы встречаем на Украине в дни, когда гражданская война уже подходила там к концу. В каком-то хуторе этот белый офицер, схваченный красными, ворвавшимися туда совершенно неожиданно, коротает ночь в овине. Его ждет допрос в штабе и неминуемый расстрел. Но он не дотягивает до утра, умирает. Это своего рода обрамление повести «Станкевич», в которой писатель рассказывает непростую и небанальную историю — судьбу одинокого человека, коему задолго до описываемых событий все вообще стало безразлично.
Задолго до этого, в 1864 году, на глазах совсем еще ребенка Губерта Станкевича казаки зарубили его отца, человека уже больного, участника январского восстания 1863 года, разгромленного царизмом. Мальчик, по сути дела, тогда так ничего и не понял. Десяти лет от роду он уехал из родных мест — уехал из «русской Польши» в собственно Россию. Здесь он выучился, сделал недурную карьеру и хотя не стал русским, но, по его же словам, врос в Россию.
Врос спокойно, естественно, без особых раздумий и рефлексий, врос, как деревце, перенесенное из одной почвы в другую. Станкевич — очень живая, кажется, знакомая русскому читателю фигура, некая диковинная смесь чеховских и купринских офицеров. Но он все же еще не русский, хотя уже и не поляк. Его мать, вышедшая затем замуж за русского интеллигента, осела в Москве. И после ее смерти отчим передает Станкевичу обращенное к нему письмо-завещание отца, хранившееся у матери. Написанное в традициях и слогом польского романтизма, слогом взволнованным, возвышенным и уже давно обветшавшим, оно не более чем удивляет Станкевича, как нечто, тщетно пытающееся разбудить в его душе то, чего там или уже нет, или никогда не было вовсе. «Видишь ли, сынок, — наставлял из могилы отец совсем ему, по существу, незнакомого взрослого человека, — на картах Польши нет. Потому что кровавые захватчики разорвали ее на части. Но до той поры, пока мы носим ее в своем сердце, Польша есть. Мы должны ради нее работать и ради нее бороться, ибо она есть».
Однако для героя Е. Рыльского эти слова, кажущиеся ему — и не без оснований — старомодными, напыщенными, слишком громкими, были пустым звуком. Ибо не было у Станкевича в душе Польши, «польская мифология», ее язык, ее «знаки» остались для него диковинными, непонятными, чужими. Приехав в отпуск в Варшаву и отправившись затем в родные свои околицы, он почувствовал себя как человек, попавший за границу. Разговоры, наряды, литургия вечеров и встреч в усадьбах со щемящими песнями повстанцев, с предложениями остаться здесь и работать ради возрождения Польши представляются Станкевичу нелепостью, вызывают не интерес даже, а вялое удивление — чувство, знакомое посетителям музеев, равнодушным к пестрой и пыльной старине.
И другой герой Е. Рыльского — Рогойский из повести «Возвращение» — точно так же не понимает, не может и не хочет понять ни тех, кто рядится в национальные одежды, чтобы насолить российскому полицейскому, ни тех, кто уже в свободной, межвоенной Польше упивается восторгом по поводу возрождения Родины.
Оба героя Е. Рыльского — «люди без корней». Польша, исконная их родина, которая томилась в неволе и которую они покинули детьми потому просто, что так, а не иначе сложились жизненные обстоятельства, — Польша стала для них совершенно чужой землей, а Россия, приютившая их и даже к ним благоволившая, второй родиной для них не стала. Это страшный, может быть, самый страшный и чудовищно развращающий душу тип одиночества. Увы, XX столетие с его бурями и драмами, с его апокалипсическим насилием и презрением к человеку, прикрываемым прославлением массы, превратилось в своего рода гигантский инкубатор, рассадник такого рода «одиночества».
Питомцы этого инкубатора напоминают чем-то традиционных эгоистов, эгоцентриков, космополитов, но, строго говоря, подобные привычные квалификации не очень им по мерке. Станкевичи и Рогойские — скорее опустошенные, несчастные, хотя и крайне опасные своей агрессивной никчемностью люди. Многие из них превращаются в холодных, расчетливых и жестоких игроков, а нередко и марионеток в чужой игре. И потому их, как правило, мало интересуют дела и судьбы и той земли, к которой они случайно приросли, и той, которую они случайно отринули. Их притягивает, как, скажем, Станкевича, бильярд, но даже не результат партии, а лишь сам механизм игры.
Механизм игры… Он единственно притягивал к жизни и героя повести «Возвращение», младшего современника Станкевича, Максимилиана Рогойского. Как, впрочем, и всех его предков: прапрадеда — жулика, конокрада, оборотистого мужика, пришедшего на польские земли невесть откуда и приведшего с собою жену невесть какого роду-племени, — основателя династии Рогойских; деда, записавшегося за взятку в дворянство; отца, гуляку и драчуна, отказавшегося вести благопристойную шляхетскую жизнь, одичавшего и обезумевшего после бессмысленных зверств, скандалов, драк, скончавшегося в одиночестве тридцати с небольшим лет.
Сам Максимилиан получил прекрасное образование, умен, богат, увлечен Гёте, немецкой романтической поэзией, но циничен и бездеятелен. Он переживает, скитаясь по Англии, «неземную» любовь, затем возвращается в Привислинский край, со скуки женится, последовав совету приятеля, томится и чахнет. И когда началась первая мировая война, Рогойский отправляется в действующую армию, размышляя о том, что вот он едет, а вернее, его везут навстречу новым испытаниям, которые, подобно прежним, он примет с покорностью и которые не внесут в его жизнь ничего нового. Мысль, что он может не вернуться, замечает писатель, его не ужасала.
Но Рогойский вернулся. Позади остались «минуты безумств», к слову, периодически настигавшие весь его род: в отборном «партизанском» отряде белых офицеров он был участником диких, лишенных всякого смысла зверств, влачил на фронтах чужой, непонятной ему гражданской войны поистине жалкое, но агрессивно-скотское существование, наконец каким-то чудом — через Одессу и Румынию — пробрался в уже независимую Польшу, в свое имение, к своей семье. И подобно собственному отцу, Рогойский неожиданно для самого себя и окружающих погрузился в сон наяву, ставший началом длительного процесса его духовного и физического умирания.
Станкевича и Рогойского, какими бы разными они нам ни казались, какими бы несхожими по характеру и типу они ни были на самом деле, роднит тем не менее одно — оба они люди ниоткуда, люди без почвы, люди без идеи, люди без мечты, лишние в Польше, лишние в России. Но они повсюду творили зло именно потому, что, не обретя корней или не отыскав их, были лишены способности сознательно лепить собственные судьбы, и оттого им ничего не стоило походя искалечить чужие. Они пришли ниоткуда и ушли в никуда. Размышления и сомнения, совесть и покаяние не были их уделом. Их не повергали в печаль поражения, как прежде не радовали и победы. И потому Станкевич бесславно и бессмысленно умер физически, не дождавшись расстрела за дело, в которое не верил, но которому исправно служил, а Рогойский столь же бесславно и бессмысленно умер духовно, не найдя ни сил, ни охоты понять самого себя, землю, на которой родился, жизнь, начинавшуюся на ней заново.
Такие люди, как правило, не умеют жалеть себя, но они не умеют жалеть и других. И мы, увы, очень хорошо знаем: именно такие люди внесли и все еще продолжают вносить свой достаточно весомый вклад в поражения и трудно от них отличимые победы XX века, в формирование, если можно так выразиться, характера и облика этого одного из самых трагических столетий в истории человечества.
А. Ермонский
Примечания
1
Псалтырь. Псалом 142, 8.
(обратно)2
Вечерняя даль Румянцем объята, На поле печаль Струится заката, Струится печаль… (Поль Верлен «Заходящее солнце». Перевод В. Брюсова). (обратно)3
Соблазнительная (франц.).
(обратно)4
Вы откуда? (франц.)
(обратно)5
Из России, мадам.
А, да, да, Москва, Санкт-Петербург, да, да… Россия (франц.).
(обратно)6
Кстати (франц.).
(обратно)7
Солонина (англ.).
(обратно)8
Ризотто а-ля герцог Эдинбургский.
(обратно)9
Вперед! (франц.)
(обратно)10
Национально-освободительное восстание 1830—1831 гг. против царского самодержавия.
(обратно)11
Дедушка (англ.).
(обратно)12
Рейтан, Тадеуш (1741—1780) — национальный герой, выступивший в сейме 1773 г. против раздела Польши.
(обратно)13
Чудотворная икона в Вильне.
(обратно)14
Персонаж из поэмы А. Мицкевича «Пан Тадеуш».
(обратно)15
Домбровский, Ян Генрик (1755—1818) — военачальник, принимал участие в восстании 1794 г., позднее создатель польских легионов в Италии.
(обратно)16
Из стихотворения А. Мицкевича «Редут Ордона». Перевод С. Кирсанова.
(обратно)17
Южная красавица (англ.).
(обратно)18
От Арма (Armagh) — Ирландия.
(обратно)19
Южная Дакота (англ.).
(обратно)





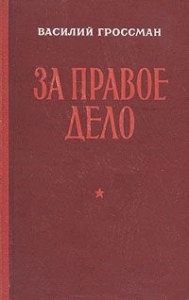
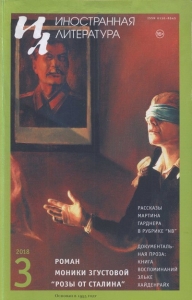





Комментарии к книге «Станкевич. Возвращение», Евстахий Рыльский
Всего 0 комментариев