Владимир Шустов ЧЕЛОВЕК НЕ УСТАЕТ ЖИТЬ Повесть
«4 октября 1943 года возле города
Ржева в расположении наших войск
приземлился боевой самолет немцев.
На нем бежал из фашистского плена летчик
Советских Военно-Воздушных Сил
лейтенант Аркадий Михайлович Ковязин».
(Из фронтовой газеты)От редакции
«Уральская библиотека путешествий, приключений и фантастики» включает в себя произведения разных жанров, в том числе и произведения документальные, основанные на подлинном жизненном материале, рисующие образы наших выдающихся земляков-уральцев. Так, в «Библиотеке» уже была издана документальная повесть А. Кузнецова, рассказывающая о героической деятельности простого русского солдата, уральца А. Кубышкина в итальянском партизанском отряде.
Повесть «Человек не устает жить» тоже художественно-документальная повесть. В основу ее легли подлинные факты и события из фронтовой жизни летчика А. М. Ковязина.
Автор этой повести — свердловский писатель Владимир Николаевич Шустов.
В. Н. Шустов родился в 1924 г., в г. Ветлуге, Горьковской области. Детство и юность его прошли сначала на Дальнем Востоке, потом на Урале, в Свердловске. В 1942 г. В. Шустов ушел на фронт добровольцем. Почти до конца войны воевал в артиллерийской разведке, Был награжден орденом Красной Звезды и многими медалями.
В 1945 г. после госпиталя В. Н. Шустов вернулся в Свердловск, здесь он окончил Уральский госуниверситет и ряд лет занимался газетной работой. С 1960 по 1965 г. В. Н. Шустов был главным редактором журнала «Уральский следопыт».
Владимир Шустов стал известен читателю прежде всего своими книгами для детей: «Тайна горы Крутой» (1952 г.) и «Карфагена не будет» (1957 г.). Но наибольшую популярность ему принес роман «Королевский гамбит», написанный в содружестве с И. Г. Новожиловым. Роман издавался в 1959 г. и позднее массовым тиражом по просьбе читателей.
Сейчас В. Н. Шустов работает над большим приключенческим романом.
1. СНЕГ И ВЕТЕР
Летчики и не думали подшучивать над метеорологами, предсказавшими ясную погоду на всю «текущую декаду». А метеорологи — чудаки-человеки! — болезненно переживали ошибку в прогнозе. Они подозрительно косились на каждого: не улыбается ли втихомолку. В силу этого самый, казалось бы, отвлеченный разговор в их присутствии непременно сводился к жесточайшему спору о причинах ненастья, щедро сдабриваемому страстными монологами синоптиков в защиту предвидения и не менее страстными заверениями их, что «нынешняя отвратная погода — чистейшая случайность, досадное недоразумение». Вот-вот чахлые облака («Посмотрите! Неужели в столь ничтожных по структуре образованиях может быть что-либо путное?») пораструсят снежную крупу, а доходяга-ветерок ослабнет и сойдет на нет.
Но ветерок, вопреки железным заверениям представителей службы погоды, и не собирался «подыхать». Доселе безголосый, он вдруг запосвистывал поначалу легонько, словно подбирал нужную тональность, а затем сорвался и затрубил оглашенно.
День, второй… Тут бы ветру и утихомириться, поддержать авторитет метеорологов, а он знай себе набирал силы. Мало-помалу раскрутилась такая залихватская карусель, что аэродром, четким прямоугольником вписанный в зелень хвойного леса, как бы сузился, сжался, уподобился тесному и насквозь продуваемому щелистому амбару, загруженному дырявыми мешками с мукой-крупчаткой. И эта мука — белая, жесткая снежная пыль — металась теперь в амбарной тесноте, ища выход, клокотала зло.
В снежной ветреной толчее потерялись, казалось, и зримые границы суток: и ночью и днем — снег, снег, летучий снег… Он скрывал капониры, склады боеприпасов, бензохранилища, служебные и жилые постройки.
По взлетно-посадочной полосе, как горные хребты по рельефной карте, распростерлись сугробы. Они дышали, они курились сизой пылью, и в клубах ее еле можно было различить темные очертания прожекторных установок под летними маскировочными чехлами, тонкие черные шеи ограничительных лампочек у старта, залепленные снегом стекла большеглазых сигнальных фонарей. И на земле, и в воздухе господствовала вьюга, только вьюга. В трубной разноголосице ее было все, кроме самого характерного для этих мест звука — гула моторов. Аэродром словно вымер.
Единственным представителем человечества во взбунтовавшемся царстве снега и ветра был красноармеец-часовой. С головой укутавшись в длиннополый овчинный тулуп и подставляя ветру по-стариковски сгорбленную спину, он сиротливо маячил на углу большой избы. Почерневшая, с крупными и глубокими трещинами в ссохшихся бревнах, она печально поблескивала поверх сугробов узкими окнами.
Было холодно. Часовой согревался, постукивая валенком о валенок, приплясывал на узкой патрульной тропе, передергивал плечами. Зажав под мышкой винтовку, он попеременно стягивал с рук трехпалые рукавицы и подолгу дышал на скрюченные пальцы, втайне мечтая о теплой караулке, где всегда можно выпить кружку кипятку.
Обрушившееся с крыши вихревое колючее облако накрыло красноармейца. Откашливаясь, отплевываясь и протирая запорошенные глаза, он чуть было не проглядел среди бесноватой пыли темную фигуру.
— Стой!
Возглас часового растворился в какофонии звуков. Человек, конечно, не расслышал окрика. Он упорно продвигался к избе.
— Стой! Кто идет?! — уже во всю мочь прокричал часовой и вскинул винтовку.
— Свои, Валюхин, свои!
Человек остановился, опустил перчатку. Открылось моложавое круглое лицо с темным пушком над верхней губой, крутыми скулами. Оно было докрасна нахлестано ветром. Густые брови поседели от набившейся в них снежной пудры.
Красноармеец узнал командира «голубой двадцатки» лейтенанта Ковязина и, утопив озябший подбородок в теплую и влажную от дыхания овчину, заговорил ворчливо:
— В этаком-то ветродуе, товарищ лейтенант, маму родную не признаешь. Ну, прямочки дохнуть невозможно. Рот раскроешь, а ветрище в зевало… насквозь лупит ветрище… Конешно, человек-то и не этакое вытерпеть способен, а тулуп… фю-ить! Не вытерпливает он… Снег навстревал в овчину-то, подтаял в ней и схватился ледком. Теперь не тулуп на мне, а вроде колокол медный. Под колоколом этим, язви его, я вроде как нагой прохлаждаюсь. Заколел вовсе.
— Да-а. Завидного мало. Но караульный начальник просил передать тебе, Валюхин, что смена будет на час раньше.
— Это хорошо, товарищ лейтенант! Надо бы… Ведь что выходит-то? Стою, значится, я…
— Не убеждай: вижу и сочувствую, — повернувшись к ветру спиной, Ковязин достал пачку «Беломора», надорвал ее с краю. — Грейся.
— Не положено на посту.
— Ну, ну, — Ковязин щелкнул зажигалкой, прикурил, коротким прыжком перемахнул через сугроб и очутился перед скособоченным крыльцом. Ветер раздувал и сеял искрами огонь папиросы. Сделав несколько быстрых затяжек, Ковязин раздавил окурок каблуком, привычно минуя расшатанные ступени, вскочил на лестничную площадку, содрогнувшуюся под его тяжестью, ударил по унтам раз, второй обшарпанным березовым голиком, и потянул на себя низкую, пристывшую к притолоке дверь.
В комнате, куда он попал прямо с улицы, было сумрачно и тепло. Тут же, у порога, кто-то дружески толкнул его в бок. Кто-то шепнул смешливо: «Разоболокайтесь. Будьте как дома». Кто-то простуженно засипел: «Проходи, не торчи перед глазами». Ковязин стянул шлемофон, взбил ладонью свалявшиеся волосы и, стараясь ступать неслышно, двинулся между рядами скамеек и стульев в глубь помещения. Половицы, словно болотина, со стоном задышали у него под ногами, заглушая и без того слабый голос лейтенанта Бондаренко, который что-то рассказывал собравшимся. Ковязин приткнулся на ближайшей скамье, основательно потеснив при этом сидевших на ней летчиков и раздернув до пояса «молнию», спросил у соседа справа:
— Совещаетесь давно?
— Ага.
— Гоша? Ну и ну… А многие выступали?
— Угу.
— Ты — словами.
— Ага.
— Не бомбардировщиком тебе, Гоша, командовать, а диктором на радио работать: лишнего слова в эфир не выдашь. Ты хоть бы о ребятах подумал: не ровен час, весь экипаж в молчальников превратишь. «Ага, угу». Речевой дефект у тебя, что ли?
Гоша звучно засопел и попытался отодвинуться подальше от навязчивого собеседника. На скамье было тесно, и никого не прельщала перспектива остаться без места. Гошу прижали к Ковязину еще плотнее.
— Сиди уж и молчи уж, — сказал Ковязин. — Не стану тебя беспокоить, не стану, — и обернулся к соседу слева: — Сбоев?
— Я, Аркаша.
— Объясни, пожалуйста, что здесь и кто здесь? Из Гоши слова не вытянешь.
— Он такой, — охотно согласился Сбоев. — Рассказывал комиссар, что и переписку с родственниками Гоша ведет по своей системе, отправляет даже домой пустые конверты. Ему, видите ли, мама на всю войну их заготовила. Приходит конверт — жив сынок! Здесь, Аркаша, проводится детальный анализ прошлых операций.
— Ну?
— Помолчите, стратеги, — зловеще донеслось сзади.
В сгустившихся сумерках лица окружающих проступали светлыми овалами, на которых обозначивались лишь темные пятна глаз да тоже темные нити бровей и губ. Отчетливо виден был командир полка. Сидел он за столом напротив окна и, подперев кулаком лобастую, с глубокими залысинами голову, слушал выступления. Бессонные ночи отчеканили фиолетовые полукружья под его воспаленными глазами, разбросали по худощавому смуглому лицу четкие мелкие морщины. По внешнему виду трудно было судить, как оценивает командир высказывания: слушал он всех без исключения внимательно, не перебивая. Правда, густые и клочковатые брови его временами изламывались вдруг буквой «z», и все понимали, что «данному трибуну» пора либо говорить без словесных вывертов, либо закругляться. «Полковой говориметр» — так окрестили летчики командирскую привычку — действовал всегда безотказно: самые ярые краснобаи, руководствуясь показаниями этого чуткого прибора, на совещаниях и оперативках приучились излагать соображения коротко и, по возможности, толково.
Дежурный по штабу, высокий и, как большинство рослых людей, слегка сутулящийся лейтенант Лихачев, пригнувшись, пробрался тесными междурядьями к двери, пошебаршил по косяку ладонью и щелкнул выключателем.
Под потолком, прокопченным до балычного лоска, на ржавом крюке для ребячьей зыбки вспыхнула электрическая лампочка, и все вокруг изменилось: стены вроде раздвинулись под напором света, потолок приподнялся. Летчики повеселели. Говорить при свете стало гораздо «сподручней», чем в темноте. Это наглядно продемонстрировал комэск-1 — капитан Новиков. Испросив разрешение «держать речь», он вышел к столу командира, огляделся, деловито выдвинул на «ораторский пятачок» фанерную тумбочку, водрузил на нее донельзя набитую полевую сумку и заговорил. Придерживаемый сверху сильными узловатыми пальцами внушительной Капитановой длани массивный серебряный портсигар — подарок наркома за Хасан, — в настоящем случае олицетворяющий бомбардировщик лейтенанта Бондаренко, величаво плыл к вражескому аэродрому — полевой сумке. Возле портсигара, норовя зайти ему в «хвост», крутился, вытворяя черт-те что, спичечный коробок — настырный «мессер». По воле опытной руки ведущего портсигар маневрировал: рыскал из стороны в сторону, виражил. Повторяя его маневры, спичечный коробок допустил промашку и оказался над портсигаром. Капитан одобрительно крякнул, прорычал что-то весьма отдаленно напоминающее «тррр-ррраж!» или «ррр-язз!», выронил коробок на пол, а портсигар довел к полевой сумке, раскрыл его и высыпал на «цель» все папиросы.
— Вот оно как было, — сказал комэск-1 в заключение, вытирая потное возбужденное лицо клетчатым носовым платком размером с детскую простынку, — хорошо было сработано.
Попыхивая зажатой в уголке рта трубкой, командир полка, довольный вразумительным и, что самое ценное, наглядным выступлением комэска-1, проводил его благодарным взглядом до скамьи и спросил, как всегда:
— Кто еще желает держать речь?.. Неужто наговорились? Тогда будем заканчивать.
Он поднялся, отодвинул стул, расправил плечи, одернул гимнастерку, подошел к тесовой переборке, за которой зуммерил телефон, тонко попискивала рация и вполголоса переговаривались связисты, приколол к ней кнопками броско вычерченную схему и, постукивая по схеме мундштуком едва дымящейся трубки, начал расставлять точки над «и».
— Придется похвалить вас. Только прошу, носы не задирать. Командование, в общем и целом, нами довольно. Благодарит нас командование. А за что? За то, что задания мы выполняем, как сказал генерал, отменно. На сегодняшнем разборе мы еще раз убедились, что успехи наши во многом предопределяются тремя факторами. Первый — мастерство. Второй — слаженность действий в любой обстановке. Третий — взаимопонимание и взаимная выручка. В проведенных полком боях славно работали и командиры экипажей, и штурманы, и стрелки-радисты. В общем и целом, вы показали высокое мастерство пилотажа, снайперское бомбометание, крепкую дружбу — этот немаловажный элемент успеха в бою. Посмотрите на схему, — он вплотную приблизился к переборке. — Вот известная всем вам сентябрьская операция. Исполнители ее — Новиков, Ковязин и Бондаренко с экипажами…
Сбоев локтем уперся Аркадию в бок и, пригнувшись, жарко задышал в самое ухо:
— Радуйся! Сегодня ты, Аркаша, ыменыннык! Всю дорогу о тебе говорят. Корам популё, корам публико — открыто, при всем народе поименно перечислили весь экипаж «голубой двадцатки»: тебя, Колтышева, Коломийца…
— Эй, стратеги?! Опять? Не резвитесь, дайте послушать.
— Эти пунктирные линии, — продолжал между тем командир, — маневры «голубой двадцатки». Видите, как прикрывал Ковязин машину Новикова? Комару не проскочить было в этакие зазоры. Бой с «мессерами» обе машины провели стадухинским ястребкам на зависть. Да, да! Стадухин и верить не желал, что мы в одном бою сбили два «мессера». И каких? Новейшей конструкции «мессершмитты»! В общем и целом, у Ковязина в той драчке было все от истребителя — и быстрота реакции, и натиск, и меткий огонь, и — прошу обратить внимание! — маневренность. Вы поняли, о чем я говорю? Я говорю о том, что маневренность — наше оружие. И Ковязин убедительно доказал это. Опыт его надо использовать всем. И, кроме того, дерзать, самим дерзать! Экс нихиле нихиль! — из ничего — ничего не получается! — при этом командир метнул на Сбоева предельно выразительный взгляд и не без причины: именно Сбоев завез в полк римские и греческие изречения. Отец Алексея преподавал в Томском университете латинский язык, занимался эпиграфикой. Он воспитал в сыне глубочайшее уважение к предмету своего увлечения. И Алексей с детских лет поражал сверстников мудрыми высказываниями римских консулов и императоров, писателей и философов. Именно из-за этой привычки Алексея летчики полка щеголяли спаренными латино-русскими и греко-русскими афоризмами. Ходили слухи, что даже командир полка на совещании в дивизии «пальнул» в собравшихся забористой фразой какого-то древнего полководца, получил от генерала соответствующее внушение и, вернувшись в часть, имел с Алексеем бурную беседу на исторические темы.
— Из ничего — ничего не получается! — повторил командир. — Значит, надо искать! Воздушный бой — дело, товарищи, творческое. С начала войны истекло пять месяцев — срок приличный. Мы, в общем и целом, имели возможность убедиться в том, как работают фашистские асы. Они ни бог весть какие вояки, бить их можно, очень даже можно. А бить фашистов на земле, на воде, под водой, под землей и в воздухе — святая обязанность каждого из нас, наш долг. Все!
Он уселся за стол, придвинул поближе коробку «Золотого руна» и стал набивать трубку. Летчики тоже защелкали портсигарами.
— Курильщики, на мороз! — привычно выкрикнул Лихачев и, косясь на командира, заворчал добродушно: — Изверги вы. И себе и другим организм отравляете. Никотин…
— Это алкоголь в квадрате! — подхватил Сбоев, срываясь со скамьи. — Пойдем, Аркаша, воспитывать Федора, пойдем! — и, работая локтями, стал пробираться к Лихачеву, белобрысая голова которого, словно сторожевая вышка над лесом, возвышалась над головами окружающих.
— Истина! — незамедлительно откликнулся Лихачев. — Ты, Алеша, прав. Никотин…
— Яд! Капля его убивает лошадь!..
— Не торопись, Алеша.
— Не могу, Федор Павлович! Не могу, дорогой! — Алексей вдруг звонко шлепнул по лбу ладошкой и, сделав страшные глаза, потерянно произнес: — Товари-щи-и-и… Я чуть было не забыл передать вам сообщение первостепенной важности. — И, когда все притихли, продолжил: — Позавчера, дежуря по штабу, я оказался невольным свидетелем разговора по прямому проводу. Командир запрашивал Москву о сроках предоставления нашему полку несерийного бомбардировщика повышенной грузоподъемности. Для кого бы это? А?
Лихачев замигал белесыми ресницами, оглядел добрыми глазами веселые лица и развел руками так широко, что и без того короткие рукава гимнастерки вздернулись чуть ли не до локтей, обнажив белую в коричневых брызгах веснушек кожу.
— Ах, для вас оказывается, Федор Павлович! Я, право, и не предполагал…
Летчики засмеялись. Командир тоже было фыркнул, но, спохватившись, напустил на себя сугубо деловой вид и закашлялся, изломав брови буквой «z». Лихачев, нимало не смущаясь показаниями «говориметра», с высоты огромного своего роста измерил взглядом приземистого противника и укоризненно покачал головой:
— Как Алешу не корми…
— А он все в небо смотрит, — в тон ему продолжил Сбоев. — Характер у меня такой. Чтобы научиться безошибочно распознавать человеческие характеры, я рекомендую вам, Федор Павлович, обратиться за консультацией к младшему лейтенанту Колебанову.
Летчик в новеньком комбинезоне с небрежно откинутым меховым воротником, под которым виднелся темно-синий френч и голубели петлицы с рубиновыми кубиками по одному в каждой, повернулся к Алексею и резко спросил:
— Все остришь? — и нахмурился. У младшего лейтенанта — темные с поволокой глаза цыганского типа. Да и сам он, смуглокожий, был похож на цыгана: худощавый, жилистый, гибкий. Волосы — кольцо в кольцо. — Ты, Алеша, все поддеваешь?
— Куда уж нам уж…
— И я думаю: куда уж вам уж, — младший лейтенант капризно поджал губы. — Спорить с тобой, Алеша, я не испытываю никакого желания.
Летчики покидали штаб. Мимо зябнувшего часового, огибая заметенные снегом брезентовые шатры складов, увязая в сугробах, бежали они в сторону полкового клуба.
Аэродромный очаг культуры располагался в просторном подземелье, по внутреннему убранству даже отдаленно не напоминающем землянку. Стены, облицованные дюймовыми досками, были выкрашены белой масляной краской, и какой-то хороший фантазер нарисовал на них светлые окна с вечно сияющей голубизной. Нарядность помещению придавал и высокий бревенчатый потолок, усеянный золотыми блестками смолы.
Вдоль помещения тянулся сколоченный из сосновых досок вместительный стол. Начало свое он брал у порога и, прошагав двадцатью двумя перекрещенными ногами саженей пять по утрамбованному до каменной твердости земляному полу, заканчивался в «огнеопасной зоне» — месте у глухой стены, где дышала зноем печка-времянка, — железная, поставленная на попа бочка из-под бензина с фигурно выпиленной прожорливой топкой.
Один за другим, вваливаясь с ядреного морозца в экваториальное тепло, летчики усердно и гулко выколачивали снежную пыль, набившуюся даже под комбинезоны, и разбредались по клубу. Несмотря на похвалу командира, настроение у всех было далеко не радужным. Да и с чего ликовать? Метеорологи после упорных боев за свой «безошибочный» прогноз перешли к жестокой обороне и скромно опускали глаза, избегая разговоров на тему «пасмурно-ясно». А летчики утром, днем, вечером и ночью под разбойный аккомпанемент ветра кляли «небесную канцелярию». Вьюга не унималась…
Шахматисты заняли свои абонированные места за столиками в «пасмурно-ясную» клетку, лениво расставили фигуры и, так же лениво переругиваясь с болельщиками, в ста случаях из ста сделавшими бы «вот этот великолепнейший, а не этот бездарнейший ход», принялись за игру. Поклонники «изящной словесности» во главе с Алексеем Сбоевым расположились возле печки-времянки на «приговоренных к сожжению» сосновых кругляках. Они слушали очередную правдивую историю очередного краснобая. У «окна» с вечной голубизной восседал самодеятельный струнный оркестр из трех гитар, двух мандолин и балалайки. Музыканты после продолжительной настройки щипковых (названьице-то каково? От одного лишь названия в дрожь бросает!) инструментов, ко всеобщему неудовольствию, лихо грянули старую концертную программу. Шахматисты привычно закрыли уши ладонями. Голоса словесников зазвучали громче. А углубившийся было в газету лейтенант Сумцов вскочил и, вперив негодующий взгляд в дирижера, желчно сказал:
— Лаптев! Осточертело ваше попурри. Третий месяц вы его наяриваете. Может, хватит?
Лаптев — широколицый курносый капитан с приглаженными спереди и торчащими на затылке черными волосами — приглушил струны балалайки ладонью и с мягким укором ответил:
— Мы, Леня, живые люди. Нам, Леня, музыка тоже порядком наскучила и гложет печень. Но мы, Леня, не буйствуем, а страдаем индивидуально.
— Эгоисты! Я устрою вам, устрою… — Сумцов многозначительно потрясал газетой. — Куплю в военторге тот патефон с одной пластинкой и стану ее раз по пятьдесят прокручивать каждый день. Уж вы у меня тогда запоете, запоете…
— Мы, Леня, будем бороться, — возразил на это Лаптев. — Все новое, Леня, рождается и утверждается в смертельных баталиях со старым. И мы, Леня, победим. Недаром, Леня, наш музыкальный коллектив, — он обвел скорбным взглядом озорные лица оркестрантов, — трудится под девизом: «Ад аугуста пер ангуста!». — Через трудности к высокому! Так, по словам Алеши Сбоева, говаривали в древности. И еще, Леня, на тебя дурно влияет безделье. И еще, Леня, сказывается непогода. И еще…
— Хватит! — голос Сумцова был так резок, что шахматисты дружно вскинули головы, а словесники разом умолкли. — Комедианты! Балаганщики!
— Вот, вот…
Но раскатистый окающий бас оборвал дирижера на полслове.
— Сумцов дело говорит. От вас, Лаптев, душевной музыки не дождешься. Одно слово — балалаешники. — В дверях клуба, касаясь головой притолоки, стоял комэск-1 — капитан Новиков.
— Житья не дают! — воодушевился Сумцов. — Почитать газету невозможно! Безобразие!
— Воевать надо, бороться. Патефон с одной пластинкой — уже оружие. Действуй, Сумцов, по линии патефона. Кстати, о пластинке. Я ее прослушивал. Там толковая лекция о вреде алкоголя. Оборотная сторона — «Шотландская застольная». Ориентируйся на первую.
Подмигнув Сумцову, Новиков погрозил пальцем озадаченному дирижеру и, довольный, зашагал вдоль стола, выискивая место, где можно, было бы расположиться, никого не стесняя. Ступал он грузно, кособоко, по-медвежьи. Возле присмиревших над журналами любителей кроссвордов комэск остановился, извлек из кармана пластмассовую коробку с домино, встряхнул ею над головой так, что костяшки запощелкивали в коробке, словно кастаньеты, и, дружески хлопнув одного из притихших летчиков по спине, весело сказал:
— Мудришь? Брось! Лучше повоюем.
Тот посмотрел на Новикова недоуменно, будто и вовсе не понимал, что, собственно, потребовалось от него этому человеку, и машинально вслух забормотал:
— Шесть букв. Человек, выдающийся среди других своими познаниями. Энциклопедист! Нет… Ученый? Нет… Философ?..
— Балбес, — предложил Новиков.
— Нет, — полный внутреннего напряжения взгляд скрестился со взглядом комэска-1.— Первая буква — «э».
— Тогда — эрудит.
— Точно!.. Эрудит! — Восторженный вопль счастливца убедил Новикова, что в этой среде он не подберет партнеров для игры в домино. Пошарив глазами окрест, капитан заметил у дальнего шахматного столика буйный каштановый чуб и окликнул Ковязина.
— Хвораешь, Аркадий? Пустое занятие. Болельщиков и без тебя хватает. Иди, садись! — и указал место напротив.
Костяшки со стуком разлетелись по столешнице.
— Кто еще?
Подошли младший лейтенант Колебанов и штурман «голубой двадцатки» лейтенант Колтышев, несколько полноватый для своих тридцати лет, сосредоточенный мужчина с серьезным неулыбчивым лицом. Колтышев сразу подсел к Аркадию, а Колебанов, переминаясь с ноги на ногу, смотрел на Новикова.
— Совестно небось? — спросил капитан.
— Да не было же ничего, не было! — Колебанов стукал себя в грудь кулаком и поигрывал бровями. — Честно играли! Колтышев никогда не плутует, а я…
— Он и тебе не семафорил?
— Нет! Не было у нас никакой сигнализации!
А сигнализация, конечно, была простая и поэтому труднодоступная для непосвященных, она неизменно приносила победу Колебанову с Колтышевым. Новиков терялся в догадках. Наконец, он обратил внимание на то, что, играя на единицах, противник «забывает» на столе одну косточку, на двойках — две и т. д. При игре на «пустышках» все семь забираются в руки.
— Ладно, — согласился Новиков. — Садись. Но…
Разыграли «флотского». Колебанов оживился. В игре он не мог вести себя спокойно, а менялся, как пламя костра на ветру. Впадал то в мрачность, то в необузданное веселье. Округлив игру по пятеркам, он пропел фальцетом:
— Еще одно последнее сказанье, — и бросил торжествующий взгляд на погруженного в раздумье Новикова. — Как оценит мой капитан подобное стечение обстоятельств? Каково будет решение, от которого всецело зависит судьба экипажа? Не тяните, мой капитан! Характер человека проявляется в любом действии, — он забасил, налегая на «о». — Коли хотите, характер сказывается даже в привычке и манере чистить по утрам зубы…
— Слова мои, — равнодушно поддакнул Новиков и, когда на смуглом лице Колебанова появилось выражение полнейшей удовлетворенности, высоко подкинул и поймал на лету последнюю костяшку. — Вот она, милая! Не паниковать! Прежде чем поставить ее на законное место, сделаю ряд замечаний. Фортуна, Колебанов, обожает воспитанных, думающих людей и не чтит легковесов. Округлять по пятеркам! Это для эффекта, что ли? Поразмыслив, ты пришел бы к совершенно противоположному решению. Пятерок у Аркадия нет: он прокатился. Колтышев подставляет мне единственную пятерку. А с чем же у него пятерка?
Колебанов гипнотизировал взглядом чернеющую в крупных пальцах капитана злополучную костяшку: он уже понял, что должно произойти.
— Не может быть!
— Быть все может. Мыслить надо. Не зря, видно, я с начала игры пусто-пусто приберегал. Получайте-ка! — пустышечный дублет со стуком опустился на столешницу.
— Чего скисли? Между прочим, это характеры ваши проклюнулись: лишнее доказательство в мою пользу. В споре о характере, конечно.
— Отмщенья жаждем! — Колебанов стал яростно перемешивать костяшки. — Требуем сатисфакции!
В помещение ворвался свист ветра. Все оглянулись на дверь. В клубах пара возник запорошенный снегом вестовой. Лицо его было свекольно-красным. Брови и ресницы заиндевели. Не опуская воротника у полушубка, он лишь ослабил застежку и зычно прокричал:
— Капитан Новиков и лейтенант Ковязин к командиру полка!
Новиков с Ковязиным тотчас же поднялись и ушли. На их местах шумно расселись поклонники «изящной словесности». Веселье новоявленных соседей неприятно подействовало на удрученного проигрышем Колебанова.
— И откуда в тебе, Алеша, столько смехачества? — с иронией спросил Колебанов у Сбоева. — Можно подумать, что и на свет белый пожаловал ты не как все смертные, а по-смешному.
— Должен тебя разочаровать, — не обиделся Алексей и полуобнял его за плечи. — На белый свет я произведен по тем же правилам, что и ты. Никаких отклонений в норме. Иначе и быть не могло — закон природы! А к юмору, ты прав, я предрасположен с младенчества. Все дело в том, что мой папаша — самый веселый человек Сибири…
— Оно и заметно.
— В жизни кислая физиономия хуже пустого кармана. Презабавный случай приключился с папашей моим однажды на почве этой самой смешливости. Отправился он как-то за лечебными травами: у старика две слабинки — древние языки и лекарственные травы, которыми он безжалостно пользует ближних. Так вот. Лазил, лазил папаша по таежным урочищам и повстречал медведя. Нос к носу они сошлись. Что делать? Пожать друг другу лапы? Разойтись поскорее?.. Стоят они, молчат они, думают они… И тут папаше бросается в глаза некоторая… ну, как бы сказать, неидентичность, что ли, данного экземпляра хищных млекопитающихся с установленным природой образцом. Почему-то вместо шерсти у мишки на морде произрастал цыплячий пушок, а на загривке торчали перья. Ни дать ни взять — индейский вождь в боевом облачении. Не сдержался папаша, захохотал. Мишка, понятно, в амбицию. Пришлось папаше браться за кинжал: ружья у него при себе в ту пору не было. Потом осмотрел он зверя и выяснил, что морда у Михайлы Потапыча в меду была: или на пасеке гостил, или дупло пчелиное ревизовал. А пух и перья налипли. На гнездо, должно быть, налетел в кустах.
— Крепкий у тебя, Алеша, отец, — уважительно заметил Сумцов. — Я тоже знавал охотника. Кремень! На зверя ходил только с холодным оружием. «Биться со зверем, — говорил, — надо на равных. У зверья, — говорил, — дальнобойных зубов и когтей не имеется». Ха-рактерец!
— И ты туда же! — неожиданно вспыхнул Колебанов, обернувшись к Сумцову. — Ха-арактерец! Захотел человек выделиться из общей среды, захотел покрасоваться перед другими и придумал роль, и разыгрывает ее.
— Не скажи, — упрямо заговорил Сумцов. — Роль? Тайга — не театр с партером, бельэтажем и балконом. И зрителей в тайге нет. Возьми нож в руки и пойди выделись, покрасуйся перед медведем. Ты, Колебанов, не спорь. И ребенку ясно, что характер…
— Стержень, по образному выражению Новикова. Так?
— Можно.
— С нанизанными на него мечтами, устремлениями и поступками?!
— Не без этого.
— Че-пу-ха!
Спор стал привлекать внимание летчиков. Они постепенно почти все собрались у стола, прислушиваясь с интересом к доводам то одной, то другой стороны. Сейчас звучали язвительные замечания Колебанова.
— По-вашему, человек с пеленок обладает характером, стержнем? Он и под себя мочится по велению этого стержня с мечтами, устремлениями и заранее предначертанными поступками. Ха! Кроме Новикова, никто до такой чепухи не договаривался, никто!
— А я с ним согласен, — сказал Алексей. — У каждого ребенка, бесспорно, имеются какие-то зачатки будущего характера, основа имеется. По мере возмужания ребенок, а затем подросток, а затем юноша дополняет, а если хочешь, воспитывает свой собственный характер на основе первоначальных задатков. Этот характер в дальнейшем предопределяет жизнь человека, его поступки, его цели. Конечно, не надо объяснять, что происходит все это под контролем сознания, здравого смысла, тоже во многом зависящего от характера. Математик мог бы сформулировать их зависимость между собой так примерно: они необходимы один другому и достаточны для существования того и другого.
— Софистика! Сумбур!
— Мне понятно.
— А мне, представь, нет! Человек — сгусток противоречий! Как в коммунальном доме, в нем уживаются взаимно отрицающие друг друга взгляды и убеждения…
— Убеждение может быть лишь одно. Иначе незачем именовать его так. Убеждение не шляпа — дань сезону и моде.
— Выслушай меня, Алеша! Отрицать наличие в человеке, в каждом человеке и дурного и хорошего одновременно ты не станешь. Среда и обстоятельства, в которых человек оказывается, проявляют с наибольшей четкостью те или иные черты… В определенных случаях берут верх положительные начала, сокрытые в человеке, в других — тоже определенных! — главенствуют отрицательные. Такой человек…
— Не человек, а кусок теста и то жидкого. Из твоих разглагольствований вытекает, что храбрый человек, допустим превосходный летчик-боец, при определенных обстоятельствах способен праздновать труса? Хуже — пойти на подлость?! Уподобляясь хамелеону, он согласно твоей, Колебанов, теории будет, ориентируясь на обстоятельства и среду, менять окраску?
— Чужая душа — потемки! В мысли другого человека, Алеша, нам с тобой проникнуть не дано, сокровенных замыслов разгадать не позволено. Каждый — сам себе на уме. Согласен?
— Нет! Я достаточно хорошо знаю людей, с которыми живу, летаю, рискую жизнью.
— Алеша! — Колебанов поморщился. — Не надо намеков. Новиков любит оглоушивать такими фразами. Будем говорить попроще.
— Новиков жизнь знает.
— В объеме воинского устава.
— Плюс десять лет работы: Хасан, Монголия… Все вместе — больше двух курсов истфака.
— Я с чужого голоса не пою. Я мыслю самостоятельно.
— Сомневаюсь: мыслитель умеет выслушивать и обдумывать высказывания других, чего о тебе не скажешь. Так вот, Колебанов, я беру на себя смелость проникнуть в чужую душу, в самые ее потемки.
— Маг! Волшебник!
— Хочешь эксперимент? Делай выбор! Даю характеристику любому из наших ребят.
— Хм-м-м. Заманчиво… Ну, а кто подтвердит достоверность твоей оценки? Сказать можно все.
— Народную мудрость используем. Ты ссылался на нее в рассуждениях о чужой душе и потемках. После моей оценки проведем беглый опрос. Мнения совпадут — правда моя.
— Ладно! Согласен! — с лукавым интересом Колебанов оглядел окружающих. — Возьмем, возьмем хотя бы… — он нарочно тянул. Под его взглядом лица сразу же присмиревших летчиков менялись: одни становились непроницаемыми, другие — растерянно-виноватыми. И те и другие не желали, очевидно, попасть на язык экспериментатору. — Возьмем… Охарактеризуй нам командира «голубой двадцатки», — неожиданно заключил Колебанов, — Ковязина.
— Пожалуйста. Кстати, если я в чем-либо напутаю, Колтышев дополнит меня и поправит. Слышишь, Николай?
— Из меня арбитр…
— Сплетничать не принудим.
В это время вновь появился вестовой. Он вызвал в штаб Колтышева и Коломийца. Штурман и стрелок-радист засобирались. О споре забыли: всем было понятно, что экипаж «голубой двадцатки» получает какое-то задание. Значит, командование разрешило полеты. Шахматисты дробно ссыпали фигуры в ящики столов. Музыканты гуськом потянулись к «струнному арсеналу». Летчики подтягивали унты, застегивали комбинезоны. Кое-кто направился к выходу. А Сбоев, оседлав скамью, крутил, как филин, головой и пытался образумить товарищей:
— Успокойтесь! Да успокойтесь же!
Но возбуждение все нарастало. И тогда Алексей, вскочив на скамью, прокричал голосом вестового:
— Товарищи командиры! — наступила тишина. — Если понадобитесь, командир полка вас пригласит. Что и просил он вам передать.
После немой сцены, последовавшей за репликой Сбоева, зазвучал сперва робкий, а затем дружный смех. Алексей стоял на скамье и тоже улыбался.
— Артель, а не боевое подразделение, — наконец сказал он, жестом приглашая всех занимать места. — Лихачев и на порог вас не пустит. Садитесь. Продолжим наш эксперимент.
— Без арбитра?! — ужаснулся Колебанов.
— Он свое скажет, — Сумцов поймал за рукав Колтышева. — Коля, минутку! — подал ему лист бумаги и карандаш. — Коротенько черкни. Характер Аркадия в фокусе. Спасибо. Эту записку, товарищи, я оглашу потом.
— Начали! — сказал Сбоев, усаживаясь. Гудело пламя в печи. Над крышей скулил холодный ветер. Алексей неторопливо повел рассказ. — Я не стану сортировать факты: ты, Колебанов, — большой, умный и сам разберешься во всем. Недели за две до твоего к нам прибытия получил полк задание уничтожить аэродром немцев. Базировались на этом куске земного шара отборные асы-пикировщики, геринговские «штука-бомбен», повоевавшие и в Испании, и во Франции, и в Англии. Работали они, надо сказать, мастерски, торчали на нашем участке фронта щучьей костью. По их милости как-то даже без горючего сидели…
— В сентябре, — уточнил Сумцов, окуная нос в ладонь с выкрошенным из папиросы табаком: в клубе не курили. — Бензин окольными путями тогда подбрасывали. Хваты были те пикировщики. Стадухинские ребята тоже повозились с ними изрядно: сатанели асы в воздухе.
— И я об этом же, — согласился Алексей. — Сатанели. В общем, настал момент, когда сверху была дана четкая и определенная команда. Осуществить операцию поручили первому звену первой эскадрильи: способности Новикова, Ковязина и Бондаренко в излишних похвалах не нуждаются, и я о них умолчу. Короче — переделали они «есть» на «был». Зенитчики очухались от скоротечного визита, никак, только на последнем заходе. Пальбу они открыли, говорят! Облака вперемешку с осколками на землю сыпались. В правый мотор новиковской машины угодил осколок. Видя такое дело, комэск отдает приказ Бондаренко и Ковязину возвращаться на базу самостоятельно, не медлить из-за него. Бондаренко забрался в облака. Ковязин тоже, но не углубился в них, а затаился в нижней кромке. Оттуда видел, как Новиков, снизившись, почти над головами немцев вырвался из шквальной зоны. У линии фронта комэска настигли два «мессера». Навалились они на Новикова с обеих сторон и к земле его жмут: на посадку вынуждают. Комэск и туда и сюда — не отстают немцы. Оказался он тогда в положении того бравого грека, который, трезво оценив сложившуюся на поле драчки обстановку, сказал: «Хос дюнамай — у бёлемай, хос дэ булёмай, у дюнамай» — так, как я мог бы, я не хочу, а так, как хотел бы, я не могу. Не подоспей Ковязин, кто знает, чем бы все это кончилось. Аркадий пошел на одного из мессеров в лобовую атаку. Немец заволновался, завозмущался: видано ли, слыхано ли, чтобы бомбовоз, какая-то тихоходная галоша, так нахально нападал на истребителя? Используя минутное замешательство немца, Коломиец срезал его из пулемета. Аркадий атаковал второго «мессера». Тот оказался попроворней. Выписывая фигуру за фигурой, он старался прорваться к машине Новикова и добить ее. Тогда Аркадий применил тактику активного маневра, о которой рассказывал сегодня командир полка. Где бы ни пытался прорваться к Новикову «мессер», там, упреждая его, появлялась «голубая двадцатка» и заслоняла комэска и машиной и огнем пулеметов.
— Ну и?
— Выводы? Изволь. Я не случайно упомянул о приказе Новикова следовать на базу самостоятельно. Аркадий мог бы на законных основаниях воспользоваться этим приказом. Но комэска он не оставил, вовремя подоспел на выручку. Завязав бой с «мессершмиттами», Аркадий не оборонялся пассивно, а наступал и победил. В драчке он успешно реализовал свой замысел о новом тактическом приеме. Первый вывод — чувство товарищества. Второй — смелость, мужество и находчивость. Третий — творческий подход к своей профессии. Я убежден, что в любой среде и, как ты, Колебанов, выражаешься, при любом стечении обстоятельств Аркадий не ослабнет, не сломится, не покривит душой.
Сумцов, вопросительно посматривая на Сбоева, зашуршал запиской.
— Читай, Леня.
«Ковязин — верный товарищ и толковый командир. Он хладнокровен, смел. Летчик-мастер. Инициатива. Постоянный поиск нового в пилотаже. Вера в разгром фрицев».
Не только на Колебанова, но и на всех летчиков полная тождественность оценок произвела глубокое впечатление, вызвала оживленный обмен мнениями. Задумался и Колебанов. Перебирая в памяти известные ему факты, связанные с боевой работой, жизнью экипажа «голубой двадцатки», сопоставляя ничем не примечательные на первый взгляд поступки и высказывания Аркадия Ковязина, он, к немалому своему удивлению, почувствовал вдруг, что его оценка не отличается от сбоевской и колтышевской.
Из штаба возвратился Новиков и сообщил, что «голубая двадцатка» ушла на спецзадание.
— А погодка, — он покачал головой.
С улицы, перекрывая разноголосицу метели, донесся гул моторов. Нарастая, басовито прокатился над крышей и смолк вдалеке.
— Можно летать и в такую погоду, — сказал Новиков убежденно..
— Разрешат?!
— Пока еще опасаются. Но, кажется мне, что…
Сумцов дружелюбно глянул на Лаптева:
— Давай, дирижер! — и притопнул азартно.
Оркестранты быстро разобрали «оружие» и ударили авиационную-шуточную. Лаптев был сносным солистом. Взрывая растопыренной пятерней струны балалайки, он пел, кокетливо поводя плечами:
Шел пилот по переулку, Шел как будто на прогулку, Шел, совсем не замечая никого. Видит — девушка и даже В отношенье фюзеляжа Ничего, ничего, ничего…И только сейчас все заметили комиссара. Большой, седоволосый, стоял он у печки и грел руки.
— Не унываем? — спросил он и улыбнулся широко. — Правильно. — Скинув кожаный реглан на скамью, он присел на чурбан у печки и стал стягивать валенок.
— Нога мерзнет — быть погоде. Радуйтесь. Барометр у меня самый верный — две пробоины выше колена. С Монголии не ошибался в прогнозах. А Ковязин где?
— Ушел на задание, — ответил Новиков.
— Не успел я порадовать его перед вылетом, — с сожалением сказал комиссар. — На-ка, Сумцов, огласи.
Сумцов принял из рук комиссара видавший виды потертый блокнот, куда заносились все успехи и все промахи экипажей, пробежал глазами запись и, откашлявшись, повторил ее вслух:
— Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 октября 1941 года летчик лейтенант Ковязин Аркадий Михайлович награждается орденом Боевого Красного Знамени.
— Ура! — крикнул Алексей. — Ура!
— За сентябрьский налет, — сказал кто-то.
— Бомбежка немцев под Вильно.
— За днепровскую переправу. Он ее тогда по частям в Черное море сплавил.
И летчики стали вспоминать… На боевом счету Аркадия было уже свыше пятидесяти вылетов. Его бомбардировщик громил живую силу и технику немцев под Вильно, Ригой и Смоленском, нанес один из первых бомбовых ударов по танкам Гудериана. О неуязвимом русском асе, который налетает внезапно и бьет наверняка, знали многие воинские части фашистов. «Голубая двадцатка» досаждала им так, что гитлеровские пропагандисты выпустили даже специальную листовку. В ней говорилось: «…Тому, кто собьет в воздухе или уничтожит на земле дальний бомбардировщик русских, обозначенный голубой цифрой „20“, будет вручен Железный крест и предоставлен месячный отпуск».
2. «ГОЛУБАЯ ДВАДЦАТКА»
По равнинам буйствовала поземка. Серебристый снег дымно струился по-над колючей стерней и жухлыми травами, заполняя рытвины и выбоины, лощины и овраги, до блеска надраивая ледяные зеркала рек и озер, отороченных промерзшим до-корней ивняком. Красные прутья, словно скрюченные от стужи пальцы, судорожно и неловко царапали голубоватый лед, как бы стараясь подгрести поближе оставшиеся на нем крохи снега и укрыться в них с головой.
Так было на земле. А на высоте, за пухлой толщей облаков, из края в край раскинулась спокойная и величественная пустыня неба. В необозримом темно-фиолетовом пространстве, заполнившем бесконечность, сигнальными прожекторами далеких и пока еще неведомых аэродромов мерцали звезды.
«Голубая двадцатка» шла к цели. Над машиной — только звезды. Под машиной — только облака. В лунном сиянии они были похожи на покрытую свежим снегом всхолмленную степь, по которой скользила сейчас крылатая тень бомбардировщика.
С приборной доски смотрели фосфоресцирующие циферблаты приборов, трепетали их светящиеся стрелки. В кабину снаружи проникал уверенный и могучий гул моторов. А так как Аркадий все еще находился под впечатлением разговора с командиром полка, не без волнения посылавшего «голубую двадцатку» на задание, то в гуле моторов Аркадию явственно слышались напутственные слова: «Мост нам, в общем и целом, мешает, очень мешает. Фронту мешает. Дело серьезное, опасное, но… Ударь ты по нему по-ковязински. Успеха вам. Не удачи, заметь, а полновесного боевого успеха. Ты понимаешь, лейтенант? Я не противник удач, нет! Но удача, в общем и целом, — явление временное, преходящее. Пусть надеются на нее картежники, игроки. А мы разве игроки? Понимаешь, лейтенант? Я сторонник постоянных боевых успехов, по-сто-янных!» Аркадий окинул взглядом горизонт и обернулся к штурману. Колтышев сказал, не отрываясь от карты:
— Из минуты в минуту идем, — отложил штурманскую линейку и откинулся на спинку сиденья. — Остальное тоже в норме: высота — пять тысяч метров, скорость — заданная, видимость — по прейскуранту. Должна Рига появиться вот-вот. Рига! Хм-мм. Не могу я, Аркаша, привыкнуть к такой вот кочевой жизни. И не просто кочевой, а прямо-таки летучей… Гляжу на карту, знаю, что находимся над Латвией, а вижу конференц-зал. Вижу Новикова, Сумцова, Сбоева, Колебанова… Не верится, что остались они где-то там — уже за сотни километров. Чудеса в решете! Сказка!
— Сказка, говоришь? Пожалуй. Но сказка — это хорошо. Знаешь, как я в авиацию попал?
Штурман удивленно посмотрел на Аркадия, на его фигуру, словно влитую в пилотское кресло, на неподвижную ладонь, покоящуюся на штурвале, и, пожав плечами, ответил тоном человека, принужденного излагать известные всем истины:
— Ну, подал заявление, ну, прошел медицинскую и мандатную комиссии, ну, приехал в училище и так далее…
— «И так далее» было потом, — раздумчиво произнес Аркадий, не отрывая взгляда от приборной доски. — А изначала была у нас в деревне ячейка комсомольская из трех человек. Солидная по тем временам сельская ячейка. Павел Кочнев секретарил, а мы с Григорием Луневым в рядовых бегали. Работы — выше головы. С утра и до позднего вечера кочевали мы по митингам, сходкам, ревсобраниям. С кулачьем цапались, о текущем моменте мужикам докладывали. Всю округу втроем обслуживали, поспевали. Мужики привыкли. Чуть что: «Даешь сюда комсомолию!» Ох и навострились мы выступать! Охрипнешь, обезножишь, бывало, а Пашка все активности требует, на политическую сознательность бьет. Носишься таким макаром по деревне и думаешь про себя: «Сбегу от Пашки. Сбегу. Заберусь тишком на сеновал, зароюсь в сено поглубже, чтобы не враз отыскал, и оторву минуток шестьсот безо всяких сновидений». Но Пашка ухо держал востро. Ночью бредем по улице. После всех дел праведных ноги будто ватные. Самое время спать: деревня давно ко сну отошла, тихо вокруг, темно. А Пашка предлагает: «Забежим, ребята, к бабке Аграфене сказки послушать? Гляньте, огонек в окошке-то». И шли мы, Коля, к бабке Аграфене сказки слушать. И смех и грех! Бывает же, а? Великовозрастные лбы и — сказки. А мы увлекались: ночи напролет слушали. Пашка любил такие, в которых беднота, над богатеями верх держала. Называл он их революционными. Гришке — хоть про что, лишь бы поинтересней. Мне пришлась по сердцу сказка про серебряное блюдечко и золотое яблочко. Помнишь такую? Катится волшебное яблочко по волшебному блюдечку, и появляются на яблочке диковинные страны, неведомые города… Хотелось очень на страны и города из этой сказки собственными глазами посмотреть. Года через два комсомол направил в фабзауч — на сталеваров учиться. Толковая профессия — сталевар! Наипервейшая у нас на Урале. Стали осваивать мы дело, а тут призыв: «Комсомолец — на самолет!» Ну, решил, вот оно — золотое яблочко! — Аркадий помолчал, улыбаясь почему-то. — Представляешь, Коля, как сказки душу баламутят?..
— На ковер-самолет попасть захотелось? — спросил Николай и воспламенился, удивленный силой внезапно пришедшего на ум сравнения. — Так мы же и летим на ковре-самолете! Да-а-а… Сани-самоходы бензин подвозят! Не бензин, а живую воду. Ух-хх!
В шлемофонах командира и штурмана одновременна послышался сухой короткий щелчок: в общую радиосеть включился Михаил Коломиец.
В полку любили молодого вихрастого паренька — стрелка-радиста с «голубой двадцатки». Мастер на все руки, он мог починить рацию с закрытыми глазами, проворно работая тонкими и чуткими, как у пианиста, пальцами, разобрать и исправить любое оружие, знал толк и в моторах, потому что со временем намеревался пересесть за штурвал самолета. Натура у Михаила была к тому же еще лирической, песенной. И радость, и горе, и раздумья, и тоска — все выражалось песнями — его вторым «я». Он ухитрялся напевать даже в бою, когда разрывы зенитных снарядов встряхивали машину, а щупальца трассирующих пуль оплетали плоскости, дырявили фюзеляж.
Прислушиваясь к разговору командира со штурманом, Михаил мурлыкал какой-то мотив. Аркадий попросил петь погромче. И в небе зазвучала чуть грустная песня. Николаю виделось затонувшее в белоцветье яблоневых садов и черемушников приволжское село, речка с кочующими по левобережью песками, заливные луга и… леса. По весне река покидала опостылевшее русло и разливалась на многие километры в округе, насыщая влагой скупые лесные подзолы. Вода, вода, вода, зеркалом поблескивающая на солнце. По ней разбрелись белоногие березки, присели стыдливо елки…
Перед Аркадием по велению той же песни возникали косматые в тумане горы, желтые петли дорог среди скал, разлапистые кедры с кронами аж под облака, белые корпуса уральских заводов и красные кирпичные трубы, раздвинувшие таежную глушь…
Песня! Она, казалось, вобрала в себя ветреную ширь земель русских!
Аркадий с необычайной ясностью ощутил вдруг мирное небо, словно вел не бомбардировщик, а обычный пассажирский рейсовый самолет по знакомой трассе. Скоро внизу запоблескивает голубое зеркало Оби, покажутся разлинованные улицами кварталы Новосибирска. Придерживая штурвал, Аркадий следит за стремительно накатывающейся гладью взлетно-посадочной полосы. Вот она, вот! Шасси мягко коснулись земли. И вспыхнули разноцветьем, закланялись, закачались неистово взбудораженные винтами самолета луговые цветы. Аэровокзал. Башенка синоптиков на отшибе. Шест с черно-белой полосатой, как зебра, наполненной ветром «колбасой»: Самолет подрулил к стоянке. Под крылом — почтовый пикап: «Почту давай!» Спешат мотористы, техники. Бензозаправщик, урча мотором, подползает деловито, степенно. В кабине сияет улыбкой белозубый чумазый шофер: «Привет!» А из люка по лесенке уж торопятся ступить на сибирскую землю пассажиры.
Тем временем «голубая двадцатка» мерцающим веретеном пронизывала ночное небо. На белых всхолмленных облаках появились черные прогалины Они расширялись, приоткрывая угольную в ночи землю.
— До цели?
— Сто десять! — Николай кивнул на проплывающие внизу облачные увалы и дополнил свою мысль любимой поговоркой Новикова: — Лошадка везет исправно: не взбрыкивает, вожжу чует.
И Аркадий подумал о Новикове. Когда они сдружились? Под Вильно? Нет, пожалуй, под Смоленском. Конечно, под Смоленском! Тогда было?.. Жарко было! Эскадрилья бомбила переправу. Утро — стеклышко: ни облачка в небесном ультрамарине. С высоты понтонный мост, что волос, перекинутый через реку с берега на берег. С запада тянутся к этому волосу изнуряюще длинные темно-зеленые змеи. Гадючьим веером по всем дорогам ползут, ползут и ползут они, то разбухая на развилках, то сжимаясь на прямых перегонах. И надо остановить это продвижение. Тяжелая машина Новикова, призывно качнув крыльями, — делай, как я! — сквозь дымные хлопья разрывов наискось пошла к земле. И вот перед глазами уже не волос, а грудастый понтонный мост с гулким деревянным настилом. И сползаются к нему колонны танков, бронетранспортеров с пехотой, артиллерия. Черные капли бомб сорвались из-под крыльев и, покачивая стабилизаторами, устремились вниз. Понтоны вздыбились и, налезая один на другой, разваливаясь, крошась на щепы, поднялись в воздух вместе с взбаламученной водой. Река покрылась обломками. Плыли, покачиваясь на мелкой волне, перевернутые кверху колесами двуколки, разбитые ящики, бочки, охапки сена. На речном зеркале точками чернели головы людей. Небо из синего стало белым, стало не сплошь белым, а пегим: скорострельные пушки, поставив над переправой защитную сетку, испятнали его завитками дымов. На западном берегу, возле въезда на мост, образовалась живая пробка. Аркадий положил бомбы в самый ее центр. Он видел, как слепящие всплески опрокидывали машины, орудия, расшвыривали людей. Словно осы к растревоженному гнезду, к мосту слетелись «мессеры». Их встретили «ястребки», и над миром завращалось неистово рычащее моторами и щерящееся пулеметными трассами гигантское «чертово колесо». Нескольким немцам посчастливилось-таки прорваться к бомбардировщикам, атаковать их. Аркадий шел в паре с Новиковым. Их настиг «мессер». Он был нахален и ловок, этот «мессер». Он пускался на всяческие увертки, чтобы разъединить спарку тяжелых кораблей, а когда убедился, что замысел его неосуществим, открыл стрельбу с дальней дистанции. Стрелял метко: после двух-трех очередей один из моторов новиковской машины задымил. «Голубая двадцатка», оттянув немца на себя, чертом закрутилась в воздухе. Глаза Аркадия выхватывали из сумятицы боя то блестевший диск пропеллера — «мессер» пер в лобовую, то «брюхо» с закрытыми люками шасси — он делал «горку», то черно-белый крест на борту фюзеляжа — он пересекал путь по курсу. Вовсю неистовствовал пулемет стрелка-радиста. Очереди были так часты, что воспринимались как одна затянувшаяся. Справа полыхнула вспышка разрыва. Еще и еще. Четвертой вспышки Аркадий не заметил. Лишь почувствовал, как встряхнуло машину, как она задрожала мелкой противной дрожью. На левой плоскости замельтешило пламя. Оно ползло по перкали к мотору.
… Бесконечно приятной была для Аркадия в тот день замшевая от пыли трава летного поля. Он выбрался из кабины, расстегнул воротник гимнастерки, оглядел изрешеченный осколками и пулями фюзеляж, потрогал осторожно, словно боялся обломить, изуродованную и обезображенную огнем плоскость, вздохнул и потянул с головы пропитанный потом шлемофон. Пряжки ушных клапанов заело. Он рвал их, до крови ссаживая на пальцах кожу, дергал злосчастные эти пряжки из стороны в сторону. А к «голубой двадцатке» наперегонки бежали товарищи. Впереди Новиков. Он спешил — Новиков. Он подхватил Аркадия на руки, закружил и… и поцеловал.
— Как еж, — смущенно сказал тогда Аркадий, все еще теребя неподатливую пряжку.
— И верно! — удивился капитан, поглаживая большой, с блюдце, ладонью светлую колкую щетину на подбородке. — Оброс, а побриться запамятовал.
Только и поговорили. Чувства выразить можно было лишь молчанием: всякие слова умаляли их полноту. «Видишь, сколько солнца, сколько жизни вокруг? — молча радовался Аркадий, приглашая и Новикова разделить радость. — Красота?!» «А слышишь, как стрекочут кузнечики? — молча откликался капитан. — Соловьи!»
Аркадий внезапно прервал этот памятный ему диалог: в рокоте моторов — не тогда, а сейчас! — возникла фальшивая нота. В воздухе она была опаснее самого плотного зенитного огня.
Через плексиглас кабины Аркадий посмотрел на левый мотор. Все вроде нормально. Значит, неполадки с правым. Так оно и есть: из-под кожуха мотора по плоскости к срезу крыла тянулась, переливаясь в лунном свете, ровная серебристая полоса. «Может быть, обойдется еще? Может быть, пронесет нелегкая?» Лицо штурмана, обрамленное темным мехом туго затянутых ушных клапанов шлемофона, не выражало ничего, кроме обычной озабоченности. Аркадий с удовольствием отметил это про себя. Мотор вдруг сделал перебой. Еще и еще!..
Наушники выплеснули взволнованный голос Михаила:
— Перебои в правом моторе! Товарищ командир, винт заклинило!
И тогда штурман сказал тоже:
— А я надеялся…
— И я тоже надеялся. Масляный радиатор отказал, — подытожил Аркадий. — Че-е-ерт!
— Один мотор на «туда и обратно». Без бомб, Аркадий, еще куда ни шло, а с полной нагрузкой…
— Коля! Мы сбросим бомбы на немцев, только на них. С этим все! Как там запасная цель?
— Позади, километрах в сорока.
— Точнее?
Николай прикинул по линейке расстояние, скорость, определил угол сноса при одном работающем моторе и склонился над картой.
— В тридцати трех! Облачность низкая, сплошная. Ветер сильный, лобовой… Узел железных дорог.
«Голубая двадцатка» развернулась на сто восемьдесят градусов. Летели молча. Резкий встречный ветер гасил и без того малую скорость. Штурвал, напоминая о мертвом моторе, по-приятельски давил Аркадию на ладонь: «не забывай о крене». Николай, отработав данные по запасному объекту, обвел его на карте красным карандашом и спросил у Аркадия:
— Бомбим вслепую?
— Нет. Бомб у нас негусто.
— А мотор?
— А война?
Спорить было бесполезно: Аркадий нахмурился. Машина, словно в молоко, нырнула в толщу облаков. Стрелка альтиметра дрогнула, замерла и поползла вниз. Ночь. В ночи земля. И ни огонька в ночи.
— Аркадий! Цель под нами. Даю свет!
Маленькими лучами вспыхнули и повисли над землей САБы — светящиеся авиабомбы. Под ними растекся бесформенным темно-зеленым пятном хвойный лесок. Черными квадратами и прямоугольниками крыш проскользнул под крылом заснеженный поселок. Проплыла в обнимку с колеблющейся тенью угрюмая башня элеватора. Станция. Узорная паутина рельсов на белом снегу. Глухой тупик с резервными паровозами. Водокачка… Снизившись, машина прошла над путями, над тесным скопищем вагонов, платформ и цистерн. Эшелоны, эшелоны, эшелоны…
В небе забесновались лучи прожекторов. Прямыми слепящими колоннами уперлись в косматую грудь облаков, отпечатав золотые круги, разбежались по сторонам, ошаривая подступы, и скрестились над станцией. Зенитчики стреляли на слух. Разрывы снарядов магниевыми вспышками вспарывали темноту, уже разграфленную пулеметными трассами, как лист канцелярской книги. Какая графа придется на «голубую двадцатку» — «приход» или «расход»? Уклоняясь от прожекторов, они неумолимо ринулись на цель.
— Давай! — Аркадий махнул рукой.
Смерчи огня заполыхали в гуще вагонов и платформ. Багрянцем окрасилась изнутри и осела застекленная крыша паровозного депо. Изогнулась легко, как нагретая восковая свечка, железная колонка водокачки. Одна из бомб угодила в состав с горючим. Чудовищный желто-лимонный гриб, окаймленный вихрящимся дымом, вырос над станцией, уподобившейся пробудившемуся вулкану.
Лучи прожекторов высветили кабину. Резкие и, казалось, горячие, они опаляли Аркадию лицо, проникали сквозь сомкнутые веки и давили, давили на глазные яблоки. Острая боль эта ослепляла, отдавалась в затылке, Словно гончие псы при виде близкой добычи, часто и взахлеб затявкали скорострельные зенитные пушки. Аркадий вслепую бросил машину на плоские крыши станционных строений и, почти коснувшись их, взмыл вверх. За спиной коротко простучал пулемет стрелка-радиста. Луч погас.
— Молодец, Миха! Молодец!
«Голубая двадцатка» буревестником пронеслась над пылающей долиной и курсом на восток растворилась в ночи. Пробив облака, они долго еще наблюдали, как сквозь мрачную толщу их сочится знойное зарево: пурпурное пятно разливалось по белым пышным валам и трепетало, жило, то светлея, то затухая. Удовлетворенные успехом, они подтрунивали друг над другом.
— А кто-то весь боекомплект на какой-то барахляный прожекторишко ухлопал, — с серьезным видом говорил Аркадий. — Слышу за спиной, будто цепами хлеб молотят. Немцы тому человеку персональный счет предъявят за разбитые стекла, зеркала и попорченные механизмы.
— Я прямо по лучу, по лучу! В самую его сердцевину очередь выдал! В глаз ему! — счастливо откликался Михаил.
— И не боялся? — спрашивал Николай. — Струхнул малость, а? Струхнул, когда тебя с головы до пяток просветило.
Машина все набирала и набирала высоту. Это нужно было Аркадию для того, чтобы потом дать хотя бы небольшое послабление надсадно ревущему мотору. Вновь ласково и призывно замерцали в темном бездонье далекие звезды. Ветер утих. Облака горбатились внизу грядами. Победа! Все трое чувствовали ее. Михаил завел песню. Николай, к удивлению Аркадия, стал охотно подпевать. «Оттаяли». И мысль эта была приятна Аркадию. Он теперь надеялся на благополучный исход полета и тоже отдыхал. Прожекторные щупальца, взрывы и огонь — все в прошлом, а впереди — завьюженный аэродром, теплый конференц-зал, расспросы друзей…
Там, где пехота не пройдет И бронепоезд не промчится, Угрюмый танк не проползет — Там пролетит стальная птица. Пропеллер, громче песню пой, Неси распластанные крылья…У Николая не было ни слуха, ни голоса. Петухи, которых он пускал, веселили Аркадия. Он представил себе Сумцова, прослушивающего песенный репертуар новоявленного певца, и рассмеялся:
— Коля! Твой первый концерт для Сумцова. Песенный коллектив «Голубая двадцатка».
И стало тихо. Нет, песня еще слышалась, а фон… звуковой фон пропал. Чуть погодя оборвалась и песня. За кабиной посвистывал рассекаемый плоскостями воздух да тикали чересчур громко неумолчные часы на приборной доске. Аркадий безо всякой надежды посмотрел на левый мотор. То, чего он втайне опасался, произошло. След масла, протянувшийся из-под кожуха к срезу крыла, подтверждал его предположения.
— И у этого радиатор. Все. Буду тянуть вперед помалу: запас высоты пока есть. А там… Для нас — ближе фронт, ближе дом. Так я говорю?
— Так-то так… — в голосе Николая Аркадий уловил нотки сомнения, может быть, и боязни.
Сам же Аркадий к возможной гибели относился так, как относится к ней идущий в атаку солдат. Эта мысль слабо пульсирует где-то глубоко в подсознании, а на переднем плане бьется огромно лишь: «Поскорей добежать бы вон до той выбоины, рытвины, воронки; поскорей достичь бы вон того бугра, холма, окопа — там победа, а значит — жизнь». Но уж ежели задело солдата пулей или осколком и упал он на землю, то кажется ему, что смерть, единожды затронув, занесла над ним косу вторично и на сей раз не промахнется, секанет под корень. А укрыться солдату негде: лежит он между своими окопами, из которых только что выскочил, и вражескими, до которых еще бежать да бежать. Лежит на ничейной полосе беспомощный и всем напастям открытый, как распеленатый младенец. А отползти солдату в укрытие нет возможности: иссякли силы. А жить солдату ой как хочется! Вот когда мысль о неминуемой смерти из подсознания властно пробивается вперед и заполняет не только думы, но и существо. От нее солдат не отмахнется, как прежде, не выкинет ее из головы…
Аркадий чувствовал себя сейчас одновременно и как атакующий и как раненый. Эти два чувства боролись в нем, и пока трудно было предсказать, какое одержит верх. Он терпеливо ждал, чем закончит штурман начатую фразу.
— Ближе к фронту — больше немцев, — наконец выдавил тот.
— На головы им не опустимся, будь уверен.
— И посадочную площадку они для нас тоже не обозначат.
— Это верно, — согласился Аркадий, — приготовьтесь на всякий случай к прыжку. Слышишь, Михаил? — и, когда в наушниках прозвучало лаконичное слово «да», добавил:
— Прыгать по команде. Враз прыгать.
Все было сказано. Все было понятно. Безмолвным серебристым призраком скользила «голубая двадцатка» к едва просветлевшей полоске восхода. Облака коснулись машины, и она рвала их фюзеляжем, плоскостями. Кабину окутала мгла. На плексигласе набухали водяные капли, округлялись, удлинялись и, срываемые встречным потоком воздуха, исчезали. Стрелка альтиметра переместилась под километровую отметку. До земли — девятьсот пятьдесят, девятьсот, восемьсот пятьдесят, восемьсот… семьсот пятьдесят, семьсот… «Когда же кончится облачность? И ветер. Разнесет ребят, разбросает — не соберешь».
— Прыгать разом! Опознавательный на земле — короткие свистки.
…шестьсот пятьдесят, шестьсот, пятьсот пятьдесят…
— Пошел!
Но штурман даже не привстал, даже не посмотрел на Аркадия. Стрелок-радист только засопел учащенно.
— Мне риск по штату положен! — рассердился Аркадий, — Николай, подавай сигнал, и прыгайте… черти!
— С тобой — да! — голос штурмана был железен.
— Ну и дьявол с вами! Держитесь! Покрепче держитесь!
Машина, пронзив облака, прорвалась к земле. Темный массив рос, прояснялся: бархатная чернота выцветала, покрываясь бледными пятнами заснеженных полян и вырубок, линиями просек. «Почему так малы поляны и узки просеки?» На альтиметр можно было не смотреть: внизу обозначились вершины деревьев. Секунда — и коснутся они «голубой двадцатки». Упругие хвойные лапы раздвинутся, подавшись назад, примут ее в мягкие объятия, хрупнут и, обернувшись отточенными штыками, вспорют обшивку, вопьются в трепетное и пока еще живое тело машины, искромсают, изорвут и швырнут истерзанное на землю. «Дотянуть до вырубки, до вырубки, до вырубки», — навязчиво билось в сознании.
— Держись! — успел выкрикнуть Аркадий, упираясь ногами в пол кабины и плотнее вжимаясь в спинку кресла.
Кувыркнулась срезанная плоскостью вершина сосны. Машину встряхнуло, подкинуло и… и спасло: так неожиданно полученные несколько метров добавочной высоты дали Аркадию возможность преодолеть оставшиеся на пути деревья. Открылась вырубка. Облако снега окутало «голубую двадцатку». Толчок. Треск. Удар. Скользящий занос влево. Ломая плоскости и винты, машина, подобно раненой птице, рывками запрыгала по снегу и неподалеку от угрюмой стены леса уткнулась в глубокую яму, задрав к хмурому небу измочаленный хвост.
При первом толчке Аркадий видел, как дернулся вперед и обмяк на ремнях штурман. Второй толчок рванул и его из кресла. Ремни ножами врезались в плечи. Кровь прихлынула к голове, заломило глаза и виски. Солоноватая жидкая слюна заполнила рот. Сознание померкло. Очнулся он от звонкого тиканья часов и содрогнулся: представились мертвая тишина, мертвые люди и среди смерти — живые часы. Пошевелился, настороженно прослушивая свое тело, стряхнул перчатку, нащупал холодный замок металлической застежки плечевых ремней, сбросил их и встал на приборную доску, оказавшуюся под ногами.
— Поставили богу свечку, — сказал он вслух, дивясь чужому хриплому голосу, — Николай?
Повисший на ремнях штурман закопошился, беспомощно разводя руками и ногами, словно находился не на земле, а под водой и старался всплыть на поверхность.
— Ты чего?
— Ремни. Запутался. Позови Михаила: как у него?
Вверху, над головами, где была теперь кабина стрелка-радиста, послышался глубокий вздох и сразу булькающий долгий кашель.
— Миша?!
— Уд-да-арился, — приступы кашля мешали ему говорить. — О т-ту-рель…
Вырубку покрывал полуметровый слой рыхлого снега. Подняв голенища унтов, они выбрались из машины, обошли вокруг. Вряд ли можно было назвать машиной то, что представляла из себя сейчас «голубая двадцатка»: зияющий дырами фюзеляж без плоскостей и моторов, оборванные тросы, смятые кабины с кусками лопнувшего плексигласа…
— Отъездились, — сказал Аркадий, опускаясь на кромку торчавшей из снега плоскости. — Добрая была лошадка.
Николай раскрыл планшет:
— Взглянем?
Луч карманного фонаря осветил карту, испещренную метеознаками. Не без труда сориентировав ее по блеклой полоске раннего восхода, едва угадывающегося за облаками, определили, что посадка совершена километрах в девяноста северо-западнее станции Красные Струги и до ближайшего населенного пункта не менее тридцати пяти — сорока километров.
— Далековато шагать придется, — имея в виду расстояние до линии фронта, сказал Аркадий. — Неделя, а то и побольше… Забирайте бортпаек. Приборы разбить! Ну и все остальное…
— Проще поджечь.
— Костер опасен. Хоть и далеко от жилья, но… Всякое случается.
Когда с неприятной работой было покончено и Аркадий с Николаем вновь заколдовали над картой, намечая и уточняя маршрут первого перехода, Михаил ни с того ни с сего вдруг вернулся к машине и, оседлав фюзеляж, кошкой вскарабкался к хвостовому оперению.
— Цифру вырезать надо, — объяснил он. — Для нас цифра — боевое знамя. Пускай немцы в каждом ДБ видят нашу «голубую двадцатку», пускай ждут они ее, как божью кару.
Вскоре лесная вырубка опустела. По изрытой, словно вспаханной, половине ее были рассеяны черные обломки машины, а по нетронутой строго на восток уходил, петляя среди сугробов, неровный глубокий след.
3. К ЛИНИИ ФРОНТА
Бездорожье, бездорожье! Вдвое увеличиваешь ты расстояния. Будто испытывая летчиков на выносливость, запропастились куда-то дороги, заботливо помеченные на карте. Подевались куда-то и звериные тропы, словно в этих, по всему видно, богатых зверем, лесах вымерли внезапно все обитатели. Трудно идти по снежной целине: ровная на вид, скрыла она под собой выбоины и ямы, пни и стволы поверженных деревьев. Ступишь на рыхлую белую ровень, а под ногой либо препятствие, либо пустота. И окунешься с головой в холодный снег. И барахтаешься в нем, тщетно нащупывая опору. А он течет за голенища унтов, набивается в раструбы перчаток, сыплется за ворот. Тяжело идти по снежной целине: снег текуч и плотен, как вода. И комбинезон, словно водолазный скафандр, сковывает движения. И унты пудовым грузом оттягивают ноги. Трудно, тяжело идти по снежной целине, а вокруг — сказка! Солнце глядится в распахнутые настежь облачные окна. Яркие лучи дробятся в снежных кристаллах на мириады булавочных огней. Ели и сосны нахохлились в неприступной гордыне. И тишина прижилась здесь навечно. Но тишина эта — пуглива. Словно и пробудится она: из неведомых синих глубин леса налетит студеный ветер, игольчатые лапы уронят наземь снежные шапки, распрямятся и зашелестят тревожно…
Нет, пожалуй, в мире человека, который пребывал бы в равнодушии, оставшись наедине с погруженным в зимний сон лесом. Всем видится спящий лес по-разному. Летчиков подавлял он своим безмолвием. Деревья-гиганты, казалось, с высокомерным изумлением взирали на подвижные комочки — комочки, не больше! — что копошились внизу, упорно продвигаясь по снегу.
Аркадий тяжело взламывал снежный покров, оставляя за собой прямую и узкую нить свежей тропы. За Аркадием след в след вышагивал по-журавлиному Николай. Замыкал шествие Михаил. Он устал и двигался как-то по-крабьи — боком, уродуя кромку тропы рваными зигзагами.
Солнце показывало уже полдень, а они и не помышляли об отдыхе: в упрямстве, с которым карабкались через сугробы, в ожесточении, с каким преодолевали хитросплетения частых завалов, в жестах, которыми заменили речь, сказывались и усталость и твердое намерение уйти «за сегодня» как можно дальше от вырубки, где покоились останки «голубой двадцатки».
А глухомань кичилась перед ними своей многоликостью, преподносила все новые и новые «сюрпризы»: километры сгнившего на корню жердника, гектары уродливого смольевого корчевника, раскиданного по снегу и труднопроходимого, как противотанковые надолбы, обширные пустоши, вычерненные давними пожарами. Все это чередовалось с какой-то тоже изнуряющей последовательностью. В полдень они вышли к болоту. Среди редкого ольховника, скупо рассеянного по низине, торчали рыжие кочки с жидкими космами жухлой осоки на макушках. Гладкие проплешины между ними были испятнаны по белому черными, синими, бурыми наростами расползшихся наледей. В мелких порах ноздреватого губчатого льда пузырилась зловонная черная няша.
— Вляпались, дьявол подери всю эту музыку, — впервые за долгие часы лесного марша заговорил Аркадий, останавливаясь и оглядывая из-под ладони заболоченное чернолесье. — Неужто крюк придется выписывать нам на этом рельефе? Далековато… Северной кромкой — километров десять, а то и больше. Южной… — он измерил взглядом широкий южный рукав болота и махнул рукой. — Может, прямиком, а? — Михаил с Николаем не отвечали. — Попробуем? До того вон лесинничка всего метров четыреста по прямой. Как?
— Айда по кочкам! Хуже не будет, — согласился Николай, свернул с тропы, разгребая и утаптывая снег, пробился к груде валежника, прикрытого пухлым слоем снега, выдернул из середины сухую длинную сосенку, обломал сучки и копьем метнул ее Аркадию: — Держи подспорье!
Как сплавщики, что, пробираясь к залому по запруженной лесом реке, баграми испытывают надежность каждого бревна, на которое им предстоит ступить, так и они, ощупывая шестами каждую кочку, медленно перебрались через трясину, приманчиво покачивающуюся под ногами. Нелегкими оказались для них эти четыреста метров. Во времени тоже, пожалуй, выигрыша не получилось: оранжевый диск солнца успел пересечь зенит и теперь колол бока о вершины дальнего красного бора. Лиловые тени наводнили лес. Похолодало. Пар от дыхания свивался в замысловатые кольца. Звучно запохрустывал прихваченный вечерним морозцем снег. Тонкая прозрачная пленка наста лопалась под ногами, разлеталась со звоном на множество мелких угловатых осколков.
И по эту сторону болота дорога была не лучше. Высокий сосняк перешел в частый низкорослый ельник. Он резво карабкался на унизанный пнями бугор, скатывался по восточному крутому склону к болотцу, укутанному свалявшимся, как войлок, камышом, обтекал болото и, слившись за ним в широкую полосу, упирался в проселок, выныривавший из узкой и темной, будто щель, просеки в густом зрелом бору.
Параллельные строчки санных полозьев, виляя по снегу, спешили в чистый сквозной березняк и исчезали в нем. Обрамленная следами полозьев дорога зияла оспинами конских копыт.
Они обрадовались: след жизни! А затем призадумались: кто знает — жизнь или смерть обронила здесь в глуши свою визитную карточку в виде этого свежего санного наката?
У бровки остановились, затихли, прислушиваясь к безмолвию. Михаил скоро успокоился. А Николай долго не спускал глаз с подозрительных зарослей: и они не внушали штурману доверия, и санный след, и клочки сена по кустам.
— Гадаешь, Коля? — нарушив тишину, Аркадий устало шагнул к торчавшему неподалеку пню, сбил с него снежную папаху и сел. — Вид у тебя, — сказал, через силу улыбнувшись, — как у того витязя на распутье. Прямо пойдешь — фрица найдешь; направо пойдешь — фрица найдешь; налево пойдешь — фрица найдешь; назад пойдешь — опять же фрица найдешь. По сему случаю предлагается кратковременный отдых. Садись, где стоишь. Открываю военный совет. Ну, товарищи, кто желает держать речь?
«Кто желает держать речь?» — такими словами начинались оперативки в полку, а голос Аркадия звучал с теми же, что и у командира полка, интонациями: «Дескать, в общем и целом, прошу действовать посмелее». — Можно? — Николай поднял руку, как делали это на оперативках все желающие выступить. — Можно?
— Давай.
Николай злился. Злился на свою оплошность, на улыбки, которыми встретили ее Аркадий и Михаил, на неудачу, постигшую их в полете. Усталость обострила все его чувства, опасность взбудоражила мысли. Николаю надо было излить их, высказаться до конца, чтобы успокоиться. Ему стало казаться, что виноват в несчастье Аркадий, один лишь Аркадий. Сбросив бомбы сразу при поломке мотора, они имели возможность благополучно вернуться на базу. В конце концов, устранив неполадки в моторе, они в эту же ночь вторично могли вылететь на задание и выполнить его. Николай произнес, жестко глядя на Аркадия:
— Прежде всего, сообщаю вам, что «голубая двадцатка» не вернулась с боевого задания. Предлагаю почтить…
— Ты, что, Коля? — тихо спросил Аркадий.
— Дословно воспроизвожу для тебя сегодняшний траурный митинг в конференц-зале.
— Замолчи! — крикнул Аркадий и вскочил. — Замолчи! Траурный митинг! Да как у тебя язык повернулся сказать такое? Вспомни, сколько ждали мы Белова, сбитого под Вилейкой. Дождались? Дождались! А Сбоева? Вышли они через две недели! А Новиков?.. Рано себя хоронишь. Погибла машина! А мы…
— След за нами стелется ковровой дорожкой…
Михаил не вмешивался в спор. Сидя на снегу, он, морщась, усердно массажировал колено, ушибленное при посадке. Подошел Аркадий. Склонился. Ощупал железными пальцами коленную чашечку.
— Терпи, — сказал и, крепко захватив у лодыжек, с силой рванул онемевшую ногу на себя.
Михаил, ойкнув, завалился на спину.
— Все, Миша. Боль сейчас пройдет. Вывих был, — и обернулся к штурману: — Отошел, Коля? Успокоился?
— Да…
— Понимаю. Но сдерживать себя надо. И я ведь погорячился… Итак?
— Я предлагаю выйти на тракт, — сказал Николай. — Только так мы сможем запутать следы. Километров шесть-семь по тракту, а там и в лес можно возвратиться. И еще. Заглянуть в первую же встречную деревню, лучше хутор, и запастись харчами на дорогу. У меня — все.
— Тракт! Хутор! Это да-а! — Михаил вскочил на ноги и тут же опрокинулся на снег перед Николаем. — В таком наряде на тракт? В деревеньку?!
Прижмет — в пекло полезешь.
— Знаю!.. Но деревня — это немцы, это полицейские, это предатели! А тракт?! Думаешь, нас немцы объезжать станут?
Теперь Николай досадливо поморщился.
— Не кипятись, — сказал миролюбиво. — Докажи, что не так. По тракту мы ночью пойдем. О предателях, о чужой душе, в которой всегда потемки… Не оригинален ты в этом. Помнишь, спор был в конференц-зале? Не отбивай у Колебанова хлеб: обидится. Полицейские и предатели — опасность для нас, Миша, потенциальная. К тому же, надеюсь, и пистолет у тебя не для близиру.
— С одним пистолетом?!
— Смелость города берет, а у тебя к ней еще и пистолет в придачу, оружие.
— Ну и ну! Ну и ну-у…
— Вот так-то вот!
— Распетушились. Это хорошо! — Аркадий посматривал то на одного, то на другого. Запальчивость, с которой товарищи обсуждали дальнейшие действия, нравилась ему. — Но, давайте подумаем: скоро ли и наверняка ли обнаружат наш след немцы? По крайней мере, сегодня-завтра этого не случится: маловероятно. На тракте мы подвергнем себя излишнему риску. Допустим, след наш немцы все-таки обнаружили. Что тогда? Будут прежде всего блокированы дороги и взяты под наблюдение населенные пункты. Выводы. На тракт выходить нельзя: преждевременно. Пойдем по лесу. Кончатся продукты, наведаемся в деревню.
День угасал. Выцвели заревые краски на закраинах облаков, прикорнувших на ночь к срезу лесного горизонта. С последним лучом, словно вода, размывшая плотину, на землю хлынули сумерки, поглотив деревья, кустарники, валежины, пни… Темное зыбкое безмолвие нарушал лишь монотонный скрип снега. Иногда резко, как выстрел из засады, неожиданно переламывалась под ногами невидимая сушина, и короткий щелк этот бил по нервам. Брели на ощупь, натыкаясь друг на друга, на стволы, часто оступаясь. Чертыхались вполголоса и беззлобно.
Возле нахохлившейся ели с растопыренными, будто крылья у наседки, ветвями Аркадий попридержал шаг.
— Отдохнем, — сказал. — У ствола, как в шалаше, — и, пригнувшись, нырнул под ветки. — Лето здесь, трава. Рассаживайтесь, только лбами громко не стучите. Как насчет еды? Пировать станем или потерпим?
— Пожалуй, сэкономим для начала, — сонно проговорил Николай.
— Тогда будем дремать, — прислонившись спиной к стволу, Аркадий вытянул ноги. — Эх, нам бы да на русскую печку бы! Люблю деревенские печки. Широкие они и знойные, как пустыня Сахара. В детстве, бывало, набегаешься по морозу. А у нас на Урале морозы не такие курощупы, а пупок к позвонкам прихватывают. Влетишь с великой стужи в избу и на печь. А там — благодать! Дедов тулуп кверху шерстью на кирпичах каленых разбросан. Уф-ф-ф! Слышите?
Но Николай с Михаилом уже согласно посапывали носами. Аркадий не без сожаления замолчал и, перемогая дремоту, мысленно отправился вперед по маршруту. Он шел, намечая путь полегче и покороче, огибал стороной нечастые деревни, пересекал в глуши шоссейные и железные дороги. Сбившись, он начинал все заново, терпеливо доискивался ошибки, примечал и учитывал каждую известную ему по карте мелочь. Проделывал это все обстоятельно, без спешки, как на полковой планерке при разработке боевой операции. Нет, он пока не видел на протяжении маршрута неотвратимой опасности. Но можно ли предусмотреть все варианты действий противника на его территории? Неожиданности. Они потому и называются так, что не дано их предугадывать.
…И потянулись дни. Дни, сначала только изнуряющие, затем изнуряющие и голодные. Если раньше, отдохнув, они чувствовали пусть и незначительный, но прилив сил, то теперь даже сон не приносил им облегчения. Сон был не сон. Спать, спать, спать… Хотелось улечься прямо в мягкий снег и уснуть. По крайней мере, не будет нудеть в ушах этот жестокий, как пытка, скрип снега, это вкрадчивое и льстивое, как сплетня, шушуканье ветвей над головой.
Сосны, ели, болота, ольховники… сосны, ели, болота, ольховники… Да будет ли им конец?! Уж не замкнутый ли, уж не заколдованный ли круг образовали они?!
Первое время они разговаривали. Потом разговоры, самые звуки речи стали причинять им душевную боль, и они умолкли. Обросшие щетиной бород и усов, мрачные, голодные и безмерно усталые, на привалах они избегали глядеть в глаза друг другу. Поднимались, когда вставал Аркадий, и брели напрямик по кощунственно белому снегу, среди кощунственно нарядных деревьев, бездумно считая шаги: раз, два, три, четыре…
Лунной ночью, подыскивая место для сна, они вышли к железной дороге. Неприступным редутом высилось насыпное полотно посередине просеки, рассекшей лесной массив. Аркадий прислушался, осторожно развел руками ветки, огляделся и прыжками побежал к дороге. По крутому откосу взобрался на четвереньках. Просияли натянутые струнами обкатанные нити рельсов. Опять откос. С него кувырком. До леса теперь каких-нибудь десять, пятнадцать метров, никак, не больше. Сугробы на южной стороне полотна были глубже. Утонув в них, Аркадий гнал перед собой округлый шуршащий льдинками снежный вал. Позади учащенно дышали Михаил с Николаем, не отставали. Из подлеска, скрытого черной тенью старых деревьев, вышли люди. Коротко и тревожно хлестнул окрик:
— Хенде хох!
На бегу Аркадий вскинул пистолет и выстрелил. Передний выпрямился в рост, поднял над головой автомат, будто силился удержаться за него, чтобы не упасть, неестественно приседая, подался вперед и зарылся головой в снег:
— Назад! Немцы!
Темный, молчаливый подлесок осветился пульсирующими язычками пламени, огласился дробью автоматных очередей. Запоздалый ливень свинца посыпался на мерзлый щебень полотна, клевал его, с визгом и свистом рикошетировал от рельсов. В небо, сухо пошвыркивая, взлетела и повисла, роняя вниз мерцающие капли огня, белая сигнальная ракета.
Всю ночь уходили они с места стычки. Шли без остановок, быстро, и все же Аркадий нет-нет да и поторапливал товарищей. След. Он тянулся за ними упрямой сыскной собакой. И невозможно было избавиться от него никакими средствами.
С рассветом подул ветер. Солнце, взойдя, бродило за облаками, и тусклый свет его едва проникал к земле, чуть рассеивая лесные сумерки. Лениво, точно по принуждению, опустились к ногам первые редкие и крупные хлопья снега. Так вот она какая, оказывается, манна небесная, вот она какая! Снегопад с каждой минутой усиливался. Живая завеса, казалось, шуршала и была так густа, что небо и земля слились как бы в единое целое, имя которому — снег. Следы вскоре исчезли, сравнялись. Летчики, поуспокоившись, сбавили шаг.
А пурга разохотилась и все бесшабашней потрясала седыми космами. Снег валил и валил, щедро присыпая и без того согнувшиеся под его тяжестью деревья. Крупный и мокрый, он цеплялся за ветки, налипал комьями. Перед неподвижным взором обессилевшего Николая назойливо маячила покрытая толстой коркой снега спина шагающего впереди командира. И белый снег на этой ссутулившейся от усталости спине вдруг брызнул в глаза Николаю всеми цветами радуги. Потом враз потемнел, стал черным. В аспидной глухой черноте, в самой глубине ее возникла и ослепительно засияла солнечная точка. Она увеличивалась. От нее в темноту побежали радиальные волны, световые круги. Стало нестерпимо душно. Земля медленно пошла из-под ног влево, вправо и завертелась. Николай покачнулся, остановился, непослушной рукой рванул клапан застежки, распахнул на груди комбинезон.
— Аркадий! — и опрокинулся в снег.
Открыв глаза, увидел над собой расстроенные, озабоченные лица товарищей, шумно вдохнул холодный воздух и сел, придерживаясь за ветку подмятой при падении сосенки.
— Таки-ие де-ела-а…
— Ничего особенного, — поспешно успокоил его Аркадий. — Устал. И мы с Михаилом отдохнуть не прочь. Как, Миша? — А сам думал: «Только бы ты не свалился всерьез! Только бы не заболел!»
Придерживая Николая под руки, они спустились в овраг, перекрытый поверху упавшей сосной. Дерево, смяв крону об отвесную стенку противоположного ската, копьями вонзило нижние ветки в землю и обломило их тяжестью прогнувшегося в середине ствола. Они, разойдясь в стороны, щерились теперь частоколом крепостного палисадника. Верхние же ветви, отягощенные снегом, нависли над землей многоступенчатыми козырьками. Под этой зеленой крышей летчики и расположились на отдых. Для Николая быстро соорудили ложе из тех же сосновых лап. Сами уселись возле: Михаил в изголовье, Аркадий в ногах. Михаил разговаривал со штурманом, а Аркадий старался и никак не мог припомнить что-то чрезвычайно важное. «Что же надо было сказать? Сделать?» Временами ему казалось, что важное это уже на кончике языка, что еще одно самое незначительное усилие мысли… и вновь в голове и перед глазами картины лесного марша, стычки у полотна, поспешного бегства, обморока… Голодного обморока?! «Голод. Еда!» Аркадий стряхнул с себя оцепенение, отогнул манжетку комбинезона и посмотрел на циферблат часов: «Двадцать два ноль-ноль. Можно!» Нашарив за спиной полевую сумку, перекинул ее на колени, расстегнул, достал завернутые в тряпицу запасы и разделил все на равные части. Михаил умолк. Он и Николай не могли равнодушно следить за тем, как пальцы командира разламывают галеты и шоколад.
— Вот, — Аркадий помедлил. — Объявляю праздничный пир, настоящий! Сегодня… сегодня, ребята, седьмое ноября. — И, нарушая долгую паузу, вызванную сообщением, он взял дольку шоколада и поднял ее, как бокал. — Предлагаю тост за крепкую веру, за успех, за то, чтобы прошли мы через все беды достойно. Ну! Ад аугуста пер ангуста! — так, помнится, Алеша Сбоев древних цитирует?
— Через трудности к высокому! — подхватил Михаил.
— Вот-вот, к высокому!
Заговорили о товарищах. И вошли в холодное лесное убежище: веселый балагур Сбоев, мрачноватый добряк Сумцов, верный суровый друг Новиков. Вошли со своими шутками, сели в кружок, чтобы поддержать ребят с «голубой двадцатки».
Странно было слышать среди пурги в глухом лесу смех. Но он звучал под разлапистыми согнувшимися под тяжестью снега ветвями поверженной сосны. И усталость отступила, и неудержимо потянуло к друзьям, которые, быть может, в самый этот момент тоже отмечают праздничную годовщину. Правда, отмечают ее не с кусочками сухарей в руках и не под стоны пурги, а за более или менее богато сервированным столом в конференц-зале под приятный гул огня в печке-времянке. Конечно, о ребятах с «голубой двадцатки» они уже сказали доброе слово, выпили в их честь. За здравие или за упокой пили? Это не так важно в конце концов! В любом случае тост был провозглашен за них.
— Пошагаем? — предложил Аркадий, поглядев на приободрившихся товарищей.
— Пошли!
…Близнецы-овражки с ежиками кустов по кромкам и склонам, болотистые низины с пестрыми разводьями вспучившихся наледей и сыпью кочек, пологие увалы с поджарыми хлыстами сосен на взлобках опять потянулись нескончаемой чередой вдоль неровной тропы, которую Аркадий прокладывал попеременно с Михаилом. Пурга улеглась на покой в застланную ею же самой постель. Над лесом небо то чистое — синее, то облачное — серое. И снег впереди, сзади и по сторонам. И вязкое безмолвие вокруг. И в однообразии этом, кажется, застыло время, остановилось оно! День! Такой уже был. Ночь! Такая уже была. Где же они — деревни? Где же они — люди?!
Все трое стали по-настоящему испытывать голод. Приступы тошноты, вызываемые им, сменились постоянной сосущей болью под ложечкой. Она тревожила даже ночью во время сна. Чтобы притупить ее и обмануть чувство голода, ели древесную кору, жевали хвою. От коры жгло во рту, будто нёбо покрывалось слоем горчицы, а от хвои до судорог сводило скулы. Пробовали промышлять клюкву. Забирались в болотный кочкарник, ползали от кочки к кочке, сбивали с них снег и с тщательностью сортировщиков перебирали зябнувшими пальцами жесткий несъедобный мох.
В один из обычных дней одна из обычных, каких встречалось уже десятки, просека привела летчиков на обычную, похожую на другие лесную поляну. Но они увидели на ней груду присыпанных снегом обугленных бревен. И эти следы человеческого жилья вселили в них надежду. Они, казалось, обезумели. Накинулись на пепелище и принялись растаскивать маркие головни, расшвыривать кирпичи. Пот струился по лицам, застилал глаза. Мучила жажда. Грязными ладонями они черпали снег, поедали его, сплевывая черную слюну, и еще яростнее вкапывались в угли, поднимая тучи едкой золы.
Никто еще, пожалуй, не открывал крышку погреба с такой надеждой, с таким нетерпением, как они. Но… плесенью на стенах и могильной затхлостью встретила их пустая яма. Они пали на снег, отупело шевеля черными спекшимися губами. Дух разворошенного кострища приманил ворону. Тощая, встопорщенная, опустилась она на голый сук опаленной давним пожаром сосны, каркнула голодно и, склоняя голову то на правый, то на левый бок, разглядывала бусинами распростертых внизу людей: нельзя ли поживиться. Аркадий вытащил из-за пазухи пистолет, стиснул обеими ладонями ребристую рукоятку, прицелился. Выстрелил и, к счастью, попал. Бесформенный комок, рассыпая по ветру легкие перья, невесомо коснулся снега. Михаил кинулся к птице, упал на добычу грудью и, схватив где-то глубоко в снегу под собой, долго не решался выпустить из рук еще теплую костлявую в липкой крови тушку.
Наскоро запалили костер. Перекидываясь с хворостины на хворостину, бесцветные языки пламени добрались до синей в крупных пупырышках кожи, позолотили ее, подрумянили. Полусырое пресное мясо люди поглощали торопливо, жадно. С хрустом крошили и перемалывали зубами полые кости.
К вечеру с севера потянуло холодом, дохнуло ветром. Мелкий снег дымно завьюжился над поляной, затеснился в узкой просеке, как в дымоходе. И они двинулись сквозь колючую пыль, время от времени соскребая с обросших щетиной лиц холодные снежные маски. В сумерках вышли на лесную опушку.
Впереди, на холмах, покоилось широкое поле, уставленное скирдами соломы и зародами сена. Между холмами в узкой долине, уже занавешенной сумерками, приютилась деревенька — десятка полтора домов, и вкривь и вкось понастроенных в излучине речки, отороченной по берегам на всем видимом их протяжении ивовыми зарослями. За околицей, с юго-западной стороны, у самого леса среди сугробов зябла на поземном ветру одинокая изба с продавленной крышей.
Темнота подступала исподволь. Скрыла вначале низину, один за другим погасив робкие светляки деревенских окон, неторопко взобралась на холмы и окутала поля серой мглой. Все поглотила она, кроме избы, по-прежнему чернеющей среди поблекшего белоснежья.
И они направились к этой избе. Пошли с задворья… Долго таились за плетнем, наблюдая. Летний дощатый сарай с подпорками по бокам. Заметенный по крышу хлев. Поленница и под навесом сани-розвальни с задранными оглоблями.
— В окнах темно, — сказал Николай.
— Жилая, — сказал Михаил. — От крыльца, видите, свежая тропа к хлеву, поленнице и воротам. Лошади в хозяйстве нет: сани на приколе и двор не изъезжен. Тропа едва натоптана. Значит, народу не много.
Аркадий боком протиснулся в дыру, проделанную кем-то в плетне умышленно: лозины были аккуратно раздвинуты и закреплены мочалками, пересек открытую площадку и прижался к шершавым бревнам, источающим избяное тепло. Он чувствовал это тепло, несмотря на стужу и ветер. Взобравшись на завалину, Аркадий прильнул к окну и стал вглядываться в холодное стекло, заслоняясь от прозрачной темноты надвинутым поверх головы воротником комбинезона. Потом он осторожно постучал в переплет рамы. Окно изнутри осветилось неброским колеблющимся светом. На стекле обозначилась тень, придвинулась вплотную.
— Кто?
Даже сейчас Аркадий, как ни старался, не мог различить ни человека у подоконника, ни того, что скрыто в помещении. Прижавшись лбом к холодному стеклу, он смотрел во все глаза.
— Кто?
И Аркадий заговорил, заговорил торопливо, взволнованно.
— Свои. Мы свои! Не бойтесь!
Тень отшатнулась. Огонек мигнул и погас. Стекло потускнело. Аркадий поспешил к крыльцу, где ждали товарищи.
За дверью женский грудной голос проговорил:
— Ступайте, чоловики, с миром. Деревня недалече.
— Нельзя нам в деревню, — сказал Аркадий. — Никак нельзя!
Дверь распахнулась. Они не сразу переступили порог, а стряхивая с одежды снег, вслушивались чутко в тишину жилья. В избяном пристрое без потолка, но с полом, среди березовых веников, развешанных гирляндами по стенам, их встретила простоволосая женщина с пучком чадящей лучины в руке. Морщинистое лицо ее даже при свете лучины поражало болезненной желтизной. Аркадий осторожно притворил дверь, подумал и запер на крючок. Вслед за хозяйкой прошли они в жилую половину.
Лучина струила копоть к щелистому потолку. Неяркий свет раздвигал темноту, показывая то край скамьи с кухонной утварью, то прикрытые мокрыми кружками фанеры ведра с водой, то кадушку с булыжным гнетом. «К нам, к нам, к нам, к нам», — призывно выстукивали в темноте часы-ходики. Широкоскулая русская печь с подслеповатыми норками печурок словно только что пробудилась и вовсю позевывала округлым провалом неприкрытой топки.
В горнице было чисто, пусто и прохладно. Крепко пахло свежей хвоей. Прямо, в простенке, зеркало, занавешанное простыней. Посередине горницы — стол. На столе, во всю его длину, покойник под белой холстиной. Летчики остановились у стола. Руки их невольно потянулись к шлемофонам. Может быть, впервые за трудные эти дни они растерялись, не знали, как себя вести. У женщины дрогнули уголки бескровных губ. Она откинула холстину с головы покойника. На столе лежал мальчишка. В колеблющемся свете лучины он казался живым. Хотелось сказать, хотелось позвать громко: «Вставай, паренек! Чего же ты, друг, так рано заснул?» Но сложенные на груди руки и оплывший огарок свечки меж пальцами ломали эту иллюзию жизни.
— Третьего дня словил Янека полицай, в лесу словил, — голос матери зазвучал низко, приглушенно. У глаз в излучинах морщин показались слезы. И, уже не в силах сдержать горе, она запричитала: — Изгалялся над дитем, нечестивец, мордовал… Силушки нету боле, моченьки нету боле… Сын помер, сын… В землю сына треба заховать… Больно мне, ой больно!..
И Аркадий сказал:
— Мы похороним его.
И Михаил сказал:
— Веди, мамо.
На опушке леса в затишье, на поляне, окруженной елками, мать выбрала для сына место. Поджарая гладкая сосенка крошила с ветвей снег, вздрагивала тонким стволом, когда лезвия заступов рассекали паутину корней. Могилу копали долго. Дно подровняли, выстлали досками. Принесли и опустили Янека. Простились поочередно, засыпали гулкой мерзлой землей. Опершись на лопаты, постояли простоволосыми над холмиком.
Аркадий, словно принимая клятву над прахом павшего в бою однополчанина-летчика, вскинул над головой руку со сжатым кулаком.
— Не забуду! — сказал твердо.
— Не забуду! — повторил Николай.
— Не забуду! — как эхо, откликнулся Михаил.
И темный тревожный лес вроде затих на ветру, прислушиваясь к их суровым хриплым голосам.
За поминальной трапезой, в теплой, заставленной домашней утварью кухне, женщина рассказывала Аркадию о жизни «при немцах», о новоявленных властях. Она рассказывала и жалостливо наблюдала, с какой ненасытной торопливостью поглощали гости ячневую приправленную молоком кашу, как от обильной пищи запоблескивали бисеринки пота на их заросших щетиной и обтянутых потрескавшейся кожей худых лицах. Близость людей, тоже нуждающихся в участии, скрадывала на время ее тоску и боль. Николая с Михаилом сон сморил прямо за едой: один уснул, уткнув лицо в сложенные на столе кренделем руки, другой откинувшись к стене.
— Немец до нас не вдруг наведывается: опасается, — говорила Аркадию хозяйка. — И войска ихнего в нашей деревне на постое нету. У нас полицаи… Двое меньших — подневольщики, а заглавный лют. Ох, лют! Евсеем Пинчуком зовется заглавный-то. Пришлый в наших краях. Пес он шелудивый. Партизан вынюхивает, выискивает. Дён шесть тому было, сказывают, возле железки партизаны порчу немцу учинили. Евсей через это и взъярился, зазлобствовал. Сыск по избам учинил. Мужиков похватал. И Янека вот…
— Пинчук?
Аркадий бережно погладил худое плечо женщины. Он готов был сделать для нее все.
— Где квартирует Пинчук?
— У нас тут, в великой избе, возле колодца. Все полицаи там.
— С оружием?
— Не приметила ружей. Железы рогатые у них…
— Автоматы. Ясно.
Аркадий помотал головой: в тепле его совсем разморило. Хозяйка поднялась со скамьи, принесла из горницы старый тулуп, раскинула его на полкухни.
— Приляг, — сказала. — Я тем часом харчей соберу, одежонку какую поищу.
4. СМЕРТЬ СМОТРИТ В ЛИЦО
Писк и возня мышей под половицами разбудили Аркадия. На дворе по-прежнему буянила непогода. Ветер, задувая в печную трубу, свистел протяжно. О гребень крыши вровень, словно дятел о сушину, стучала доска. Темный квадрат окна уже оплеснула зыбкая предрассветная муть. В глухом углу неровно коптила лучина, время от времени скидывая в деревянную плошку с водой тонкие скрученные жаром угли. Они шипели в воде по-гусиному и выплевывали кверху фонтанчики белесого пара.
В горнице, за переборкой, хозяйка, вздыхая и бессвязно бормоча, перебирала что-то, судя по шелесту, матерчатое, поскрипывала крышками сундуков, часто вздыхала. Привидением появилась она в кухонных дверях. На руках ворох одежды. Прижимая его подбородком, она взглядом поотыскивала куда бы положить ношу, осторожно прошла к табурету, опустила на него одежду и неслышно удалилась. Аркадий сонно оглядел кухоньку. Пестрые вороха тряпья виднелись и на столе и на скамье, под которой в ряд выстроились пузатые котомки с наплечными лямками из мешковины. «Пора, — лениво подумалось Аркадию, — пора. Все готово». Сладкая дрема сомкнула веки, убаюкивая. И поплыли опять перед глазами голубоватые прозрачные сугробы, поплыли и деревья под белыми накидками, и овраги… Запосвистывала метель. Среди снежной круженицы возникло незнакомое лицо, пригрозило пальцем: «В лесу хоронитесь. Иначе — беда». Лицо стерла метель, а на месте этом тотчас же появился Янек, живой Янек. Опущенные скобками вниз губы шевельнулись с усилием, еще шевельнулись… «Не молчи! — потребовал Аркадий. — Говори. Я слушаю тебя». Налетели со всех сторон белые мухи, завихрились. В их толчее затерялся Янек и вылезла омерзительная рожа с оскаленной пастью. «Поговорили? Ха-ха-ха-ха! Ох-хо-хо-хо!» Аркадий брезгливо отшатнулся от нее, затем ринулся к этой роже и… проснулся. «Ну и мразь, — подумал, вскакивая. — Приснится же!»
Из ближней к нему груды одежды отобрал синюю выцветшую рубашку-косоворотку, грубошерстные штаны и пиджак. Прикинул на себя, наскоро переоделся и глянул в пожелтевшее усиженное мухами зеркало на переборке: перед ним — неуклюжий и, по всему видать, простоватый мужичок с добродушным осунувшимся скуластым лицом, заросшим по глаза грязно-рыжей щетиной. И ничего в нем знакомого. Разве что глаза? Только глаза. Аркадий подмигнул мужику: «Как самочувствие? Как живется-можется?» Тот — хоть бы хны ему! — подмигнул тоже: «Ничего живем. Терпим, не жалуемся». Аркадий пригладил пятерней взъерошенные волосы и беззвучно рассмеялся: «Значит, порядок!» И, вполне удовлетворенный столь чудесным превращением, растолкал богатырски храпевшего Николая.
— Чего смотришь? — спросил, направляясь к Михаилу. — Не похож?
Николай сел, хмыкнул неопределенно и через силу как-то странно улыбнулся.
— Да, я это. Можешь пощупать.
— И ты на вид, и не ты, — сказал Николай, все еще приглядываясь, — спросонок сразу не определишь. И мне переобмундироваться?
Михаил просыпаться не желал, отмахивался от Аркадия, как от назойливой мухи.
— Пустая затея, — заметил Николай, напяливая тесную для него шерстяную фуфайку, — Михаилу встряска нужна. Подъем!
Старшинский возглас штурмана сделал свое: Михаил в одно мгновение оказался на ногах. Сильный, хряский удар пришелся Николаю в солнечное сплетение. Ойкнул и, придерживая спутанными фуфайкой руками низ живота, штурман кулем осел на пол. Аркадий попятился к печке. А Михаил, выхватив пистолет, прыгнул к порогу.
— Руки!
Аркадий машинально вскинул руки. Тут Николай, нащупав головой отверстие воротника, вынырнул наружу, косматый и рассерженный. Михаил вытянул шею, удивленный. Шагнул к Николаю. Остановился в нерешительности. Растерянно глянул на разложенную повсюду одежду, на Аркадия, распятого на фоне печной стены, и, поддавшись внезапной дрожи, сбивчиво залепетал:
— Так я… я… я хотел. Стрелять я хотел! — выкрикнул. — А вы, вы-ы… Эх! — И сел, и заперебирал трясущимися руками одежонку, сложенную рядом.
— Силен, — буркнул Николай. — С такими кулаками тебе, Миша, на ринг или в кузницу.
— Дела, — сказал Аркадий, стягивая унты. Густой шелковистый собачий мех ласкал ладони, искрился в свете лучины. И столько было в нем скрытого тепла, что Аркадий вздохнул, подумав о холодных сапогах.
Много ли надо для счастья? Какое оно, это счастье, на цвет, на вкус, на вид, на восприятие сердцем?
Для них счастье имело цвет бледно-желтый, цвет несмелого огонька над плошкой в углу, вкус топленого молока и ржаного хлеба, вид морщинистой заботливой женщины. Но со всем этим приходилось расставаться.
Они облачились в стеганые ватники, приладили заплечные мешки.
— Трогаемся, — Аркадий нахлобучил облезлый кроличий малахай. — Не обессудьте.
— Мы придем, придем, мамо, — сказал Михаил.
Она проводила их до ворот и, придерживая вздрагивающую под наскоками ветра калитку, долго смотрела во след.
Деревня спала. Сонные избы вдоль дороги, накрепко смежив веки-ставни, дремали среди сугробов, на волнистой белизне которых поплавками рыбацких сетей чернели верхушки утонувших в снегу палисадов. Раннее утро без солнца окрасило все окрест в светлые сиреневые тона: и снег, и лес за околицей, и серые избы, и облака. Даже ветер струил сиреневую пыль.
У богатого дома с парадным крыльцом в четыре ступени и резными перильцами Аркадий остановился.
— Нас трое, — сказал, — полицейских тоже трое. У них автоматы, у нас пистолеты. Мы должны это сделать. — И первым поднялся на крыльцо.
Дубовая перекрещенная полосами листового железа толстая дверь колоколом отозвалась на удары. Рожденный ею звук упруго отбросило низкое небо, и он разнесся по деревне. С гумен на придорожные плетни высыпали воробьи. Где-то на задах взбрехнула собака, лениво взбрехнула, нехотя и умолкла.
Но дом не отзывался. Дом затаился мертво. Аркадий обеспокоился: вот-вот деревня проснется, появятся люди.
В глубине дома наконец ржаво скрежетнули петли дверей. Осторожные шаги в сенях покрыл грохот опрокинутого ведра, и после недолгого молчания, нарушаемого прерывистым дыханием с той и с другой стороны, хриплый голос за дверью спросил, будто угрожал:
— Чего надо?
Еще вчера вечером, когда хозяйка рассказывала Аркадию о старшем полицейском все, чему была сама свидетельницей и что донесла до нее мирская молва, Аркадий дал себе слово, несмотря на опасность, которой должен был подвергнуть себя и товарищей, наказать предателя. Слушая немудреный рассказ о «злодействах и бесстыжести Евсейки, выпущенца из брестской тюрьмы», о том, как «снасильничал песиголовец на хуторе под Стругами заарестованных им солдаток и порешил их в зыбуне», как по своей воле «тиранил и выдавал красноармейцев, палил заимки» и потом «каялся перед миром и поносил немцев», Аркадий раскусил и трусливую натуру Пинчука. Такой не сразу поверит простому человеку. И Аркадий решил схитрить, решил разыграть перед ним выпущенного из тюрьмы забулдыгу, каких, судя по всему, в жизни Пинчука встречалось много. Вряд ли он мог запомнить их всех. Теперь Аркадию надо было войти в новую роль.
— Впускай, Евсей! — сказал он, безбоязненно назвав неизвестного по имени: за дверями, по расчетам Аркадия, должен был находиться Пинчук — трус не доверяет никому.
— Знаешь меня? А ну, ну? Где виделись?
— Не ты ли в Бресте бедовал? Да, открывай, что ли!
— Постой, постой…
Забрякала звеньями железная цепь запора, взвизгнула тоненько щеколда. Дверь приоткрылась. В щели метнулся глаз, и дверь захлопнулась.
— Не один ты вроде?
— Корешки со мной. Пуганый ты, как вижу. Что так?
— Не-е… — Пинчук успокоился, заметив, что у посетителей нет оружия. — Вторгайтесь, вторгайтесь, — и, взяв Аркадия под локоть, повел через сени. — Митрошкин! — крикнул зло. — Зажги свет! Обленились, сволочи! Все бы им пить, жрать…
В темноте, пропахшей самогоном и квашеной капустой, взбрякнул полупустой спичечный коробок, щелкнула спичечная головка, отбросив к порогу огненную каплю, и вспыхнула, осветив крупные костлявые пальцы с выпуклыми грязными ногтями. Осветилась и часть лица Митрошкина — скошенный подбородок, нижняя губа, тонкое основание выпуклого носа. Огонь петушиным гребнем затрепыхался на фитиле трехлинейной лампы. Захватанное потными пальцами стекло с наискось отбитым верхом рассеяло по сторонам жидкий свет. Пинчук засуетился, стал придвигать к столу табуретки. Он часто покрикивал на Митрошкина. Аркадий осматривал помещение.
Квадратная комната была захламлена донельзя: потолок в разводах, пол заслежен. Штукатурка на стенах местами выкрошилась, обнажив клетчатый переплет дранки. Кое-где даже проглядывали бревна с пучками мха.
Стол, к которому приглашал Пинчук, был завален хлебными корками, обрезками сала, огрызками огурцов. Пустые бутылки тускло поблескивали по углам, теснились на утыканном окурками подоконнике, позвякивали под столом, где невозможно было уместить ноги.
На лавке, занимающей широкий простенок между окнами, по-сиротски пристроив кудлатую голову на свернутое жгутом засаленное полотенце и подобрав к подбородку острые коленки, пьяно причмокивал мясистыми губами пожилой мужик. Одетый на нем немецкого покроя поношенный солдатский френч с нарукавным знаком полиции был грязен и залит щами. На позеленевшей медной цепочке от карманных часов, фасонисто пропущенной через верхнюю петлю, застряли крошки капусты. Испитое лицо «щеголя» украшал громоздкий, как рекламная вывеска, кривой’ нос, простроченный красно-синими прожилками. Редкие сивые бровки торчали двумя случайно прилепившимися репьями.
Пинчук убрал со стола пустые бутылки, смахнул рукавом объедки, успокоился и, разглядывая Аркадия, кивнул Митрошкину, притулившемуся к печке:
— Пошарь-ка в сенцах. Закуси волоки поболе и с верхней соответственно. Отогреть людей надо.
На столе появилась миска смерзшейся в прозрачные комочки квашеной капусты, с полдюжины соленых огурцов, шматок сала и непочатая коврига ситного хлеба. Отпотевшие в тепле бутылки самогона источали аромат ячменного солода.
— Ого! — Аркадий потирал ладони. — Богато живешь, Евсей. А было: комком, а в кучку, да под леву ручку…
Своей беззаботной болтовней, удивившей даже Николая с Михаилом, Аркадий без труда усыпил подозрительность Пинчука. Он шутил, посмеивался без умолку, а глазами отыскивал оружие. Один автомат висел на гвозде у входа. Два других чернели в закутке у печки-голландки.
Пинчук, нарезая хлеб, аппетитное белое с розовой прослойкой в середине сало, с удовольствием поддерживал разговор. Он вспоминал воровскую «хазу» в Таллине, казенный дом в Бресте, где мотал срок по «мокрому делу», и распространялся о «новом порядке».
— Немцы — они, гады, хозяева. Интеллигенция, сволочи. Щепку и ту — под номер и в реестр. — Он разлил самогон по кружкам.
Посапывающий на лавке полицейский завозился беспокойно и, как кролик, заработал носом-вывеской.
Чует, сволочь, спиртное. Ишь, как корежится! Дар у его, у Дюкова такой. — И к Аркадию: — В Бресте, значит, с тобой из одного котла баланду хлебали? В конце сорокового, а? Зачинаю припоминать.
Предположение, высказанное Пинчуком, устраивало Аркадия, и он не преминул воспользоваться им, кивнул головой. Кивок этот можно было прочесть: «Дескать, в самую что ни на есть яблочку попал, в десятку вмазал!»
— Помнишь воспитателя Власюка? Фигуристый такой, видный, зараза. Идейный, гад, был и липучий, как сопля. — Вытянув губы трубочкой, он загундосил: — «На таких, как вы, Пинчук, делают ставку враги рабочего класса, враги Советского государства». Пел он, этот Власюк. Власть, власть… Кто наверху, у того козыри! Да мне бы Власюка в сей момент! Я бы его, заразу… — мясистый кулак тяжко опустился на стол и сжался добела. — Поговорил бы я с ём. Ну, понеслась?
Запрокинув нечесаную голову, он стал глотать самогон. Крупный кадык широкими судорожными стяжками подавался вверх и вниз. Аркадий не мог оторвать глаз от этого кадыка. Но он видел другую худую, прокаленную жаром металла жилистую шею и струйку молока, стекавшую вниз по синему воротнику рабочей спецовки. Мартеновский цех. Печной пролет. Тревожные звонки завалочных машин с шихтой. Дядя Леша Кобзев — высокий, сутулый, черный. В руке с крепкими, как стальные крючья лебедок, пальцами бутылка с молоком. Войлочная шляпа набекрень. Долгий, трудный кашель и после кашля — белый платок с алым пятном. «Пора, Арканя, варево выдавать. Распорядись-ка о ковше под шестую. Зальем глотку мировой буржуазии». С врагами рабочего класса у дяди Леши Кобзева был особый счет: за простреленную грудь, за порубанную колчаковцами семью, за отца и брата, что остались навечно у расщепленных американскими снарядами горелых свай Чонгарского моста, в гнилом Сиваше… И, несмотря на недуг, не уходит дядя Леша от мартена, чтобы рассчитаться за все это сполна.
Аркадий очнулся. Вымучив улыбку, сказал:
— Покурить бы сперва.
— Валяйте.
— Доставай, братва, кисеты.
Это и был условный сигнал, о котором он заранее договорился с Николаем и Михаилом. Пистолеты враз легли на кромку стола.
— Тихо, — спокойно предупредил Аркадий. — Тихо. Николай, обыщи этого и тех. Миша, собери автоматы. У печки. Нашел? На косяке еще.
Зубы Пинчука зацокали по ободку кружки. Пальцы, только что любовно и бережно обнимавшие ее, разжались, и она выпала, сбрякала о половицы, покатилась к порогу, с пристуком переваливаясь через фигурную ручку и расплескивая самогон. Пинчук невольно потянулся за ней.
— Сидеть! — Аркадий привстал. — Сидеть! Коля, пошарь у него за голенищем, — и, когда кинжал с отточенным до синевы лезвием засверкал в руке штурмана, покачал головой: — Все ловчишь, Пинчук?
Митрошкин стоял на излюбленном месте у печки, грел спину и по-прежнему жевал бутерброд. Зато Дюков, безмятежно похрапывающий на лавке, сразу проснулся, приоткрыл веки, поводил бровками-репейниками, сел на лавке, сбычившись. Его затрясло.
— Ш-шу-шутки шу-шутите? — неуверенно спросил Пинчук и вдруг, всплеснув руками, с младенческой наивностью воскликнул восторженно: — Наконец-то, родненькие! А я с ног сбился, чтоб с партизанами свидеться! Давненько хотел свидеться!
— Неужели?! — вырвалось у Михаила. — Ну и ну.
— Ей-ей! Служить вам намеревался. Верой и правдой служить! Век свободы не видать!
— Свободы? В этом ты, пожалуй, прав. Держать таких, как ты, на свободе — преступление. Судить будем, — Аркадий поочередно обвел взглядом физиономии полицейских. — Начнем со старшего. Обвиняем мы тебя, Пинчук, в измене России…
— Не было того, не было! Я с умыслом к немцам подался, с умыслом. Вредить им решил, вредить!
— …в расстрелах советских людей…
— Враки это, враки! Хоть у кого спытайте!
— …в выдаче немцам группы красноармейцев, что посчитали тебя за человека.
— То патруль нагрянул, патруль! Да разве смог бы я наших родных советских людей…
— Смог. Мы приговариваем тебя, Пинчук, к высшей мере наказания — расстрелу.
— Наговор, наговор! — зачастил Пинчук. — Бабьи выдумки! Возвести на человека поклеп завсегда просто. Озлобились против меня деревенские. Харч я с них требую. А как быть? Немец, сволочь, с меня сало, масло, хлеб справляет! Вот и крутись! Кабы мог…
— Фальшивишь.
— Чего фальшивить-то? Не было того, не было!
Аркадий обратился к Митрошкину, который флегматично разглядывал судилище, словно был к нему непричастен.
— Говори.
— Чего он знает, чего?!
Митрошкин, неуклюже переступая ножищами, вышел из полутьмы на свет, встал у стола, посмотрел на Аркадия долгим тяжелым взглядом. Потертый суконный пиджак свободно болтался на Митрошкине, сбиваясь в складки. Грудь западала глубоко, и выступавшие вперед плечи хомутными клешнями сходились одно к другому.
— Было, — глухо сказал он и закашлялся.
— А сам, сам?! Помогал мне! И Дюков помогал! Чего, Дюков, молчишь. Ответь! Товарищи все знать должны, все!
— Скажу, — заговорил Дюков сочным басом и поднялся с лавки. Росту он оказался видного. Чувствуя неловкость, Дюков топтался на месте, громыхая подковами сапог с широкими короткими голенищами. Позеленевшая медная цепочка от часов раскачивалась на упитанном животе. Бас Дюкова перекатывался плавно, заполнял помещение: — Не брешет Митрошкин. Было. Все было, о чем говорили.
— Сука! Сука! В петлю толкаешь?! И вас к стенке приставят! Да! Приставят! Не одному отвечать, не одному!
В ставнях засветились щели. Утро, проникая с улицы, расчертило наискось белыми полосками пыльные доски, горшки с чахлыми увядшими цветами. Михаил, разглядывая злую физиономию Пинчука, ерзавшего на табурете, отстукал морзянкой: «Время. Кончай».
— Знаю, Миша, — ответил Аркадий. — Но, понимаешь… Как-никак, мы все-таки судьи. Ну, Митрошкин? В полицию ты добровольно пошел, немцам служить? Ответь. В Советской власти разуверился, в силу нашу не веришь больше? Так?
— Разуверился? Не чумной я, чтоб в Россию не верить. Касаемо армии. Не нужен я в войске. Чахотка меня одолевает: кровью через горло исхожу. Полицаем силком сделали. Все он, Пинчук. Раз пять меня и Дюкова в Новоселье таскал к коменданту.
Времени было в обрез, но Аркадий не попустился ничем из известных ему норм судопроизводства. Он терпеливо выслушал каждого из обвиняемых. В открытую обсудив все «за» и «против», приняли единодушное решение: Митрошкин и Дюков должны искупить вину перед народом и собственной совестью сами. Как — пусть подумают.
— Ну, с вами вопрос решен, — сказал Аркадий. — А ты, Пинчук, придвигайся поближе к столу и бери перо. Пиши. «Я, Евсей Пинчук, старший полицейский при Новосельской комендатуре довожу до вашего сведения, господин комендант, следующее: до смерти опаскудило мне заниматься сволочными делами. Не человек я — ублюдок. Сажали меня, чтоб голову просветлить, и в тюрьмы к в лагеря. Иуде честь, что гадюке ласка. И вам, заразы, служить боле не желаю: опостылело. Ставлю я самолично точку на этакой хреновой своей жизни. До скорого увидания, господин комендант. Пинчук».
Было уже светло. Митрошкин задворками вывел их за околицу, к лесу, показал глухую тропу. Шли по ней. Молчали. Расстрел Пинчука оставил какой-то осадок на сердце. Они не сомневались в справедливости своего решения, но… Человека убить все-таки трудно, даже подонка трудно убить. И видишь его грязную душу насквозь, и знаешь наверняка, что это — мразь, что попадись ты ему в руки, не станет казниться раздумьями о твоей судьбе, а приставит к твоему затылку пистолет и нажмет курок. В этом ты не сомневаешься, и все равно трудно отобрать жизнь. Стоит перед тобой этот подонок, ждет смерти, а правильнее — возмездия. В руках у него никакого оружия, а у тебя — пистолет. Ты не просто мститель, ты само правосудие! И все же с каким трудом поднимается твоя рука.
— Да какой он человек! — с досадой проговорил вдруг Аркадий.
— И я так думаю, — с облегчением подтвердил. Николай.
— Точно, — сказал Михаил.
За полдень небо просветлело. Кое-где в облачных разрывах показалась синева, и солнце прорвалось к земле. Из дальней дали, скрытой за дымкой лесного горизонта, долетал, чудом просачиваясь через расстояния, едва уловимый на слух неумолчный гуд. Даже, пожалуй, нельзя было назвать гудом то, что не слышалось, а скорее угадывалось, и не угадывалось, а подсказывалось желанием услышать с востока грозный, но приятный для них голос войны.
— Улавливаете? — Николай вытянул из-за пазухи карту. — Ну-ка?
Аркадий нахмурился.
— Откуда карта?
— Аркадий…
— Делаю выговор. Порви и зарой сейчас же! Карта — улика.
За круглой и плоской, как замерзший водоем, безлесой низиной возвышался лесистый бугор. Восточный склон его, вылизанный ветрами до земли, был изборожден оползнями. Метров с десяти он обрывался резко и падал отвесно к извивающемуся у подножия шоссе. Справа тянулось низинное заснеженное мелколесье. Слева неоглядно — густо-зеленый бор. Место было пустынное, и Аркадий решил рискнуть. Заметив чуть правее обрыва борозду, что пролегла по бугру сверху вниз до встопорщенных кустов шиповника, ежами подкатывающихся к кюветам, он наметил использовать ее для скрытого перехода. Зарослями обогнули они открытую делянку, пересекли болотину, спустились уже до середины бугра и…
— Хенде хох!
Николай с Михаилом враз присели, полуобернувшись на окрик. Аркадий, с треском оборвав карман телогрейки, выхватил пистолет и, щелкнув предохранителем, прыгнул к раздвоенному стволу низкорослой суковатой сосны. Сильный удар в спину сбил его с ног. Запорошенный снегом, он моментально вскочил, отыскивая взглядом врага. Лицо было мокрым. Глаза слезились. Но он увидел, как подминая кусты, неистово крутится вблизи живой рычащий и взвизгивающий клубок. «Немцы! Засада! Сколько их?» Не раздумывая дольше, Аркадий кинулся в эту многорукую и многоногую свалку, но тяжесть, внезапно навалившаяся сзади, вдавила его в снег. Невидимый противник рванул его руку назад, заломил за спину и выбил пистолет.
…Они вовсе не такие, как изображают их на карикатурах. Низенький чернявый немчик в ушастой пилотке, плаксиво морщась, посасывал разбитую нижнюю губу и сплевывал на снег розоватую слюну. Он все это проделывал так же, как и Михаил. И глаза у обоих заплыли, будто кровоподтеки возникли по одной мерке. У Николаевой телогрейки оборванный рукав болтался на нитках точь-в-точь как рукав шинели у носатого высокого ефрейтора с голубыми глазами и таким же, как у Николая, великолепным синяком на лбу. Какие они — немцы? Вроде обычные люди. Разгоряченные дракой, дышали они прерывисто и тяжело, и все шестеро исподлобья смотрели на схваченных ими троих совершенно так же, как Аркадий, Николай и Михаил изучали взглядами этих шестерых — своих врагов.
— Партизанен? — хрипло спросил голубоглазый ефрейтор, прикладывая к синяку комок снега. — Партизанен! У-у-у-у…
Не меняясь в лице, он шагнул к Николаю и наотмашь ударил его в подбородок. Николай сверкнул глазами, но не отступил, не отшатнулся. Тогда ефрейтор спокойно отвел руку опять, ухмыльнулся и молча ударил Николая еще и еще, Аркадий вступился за штурмана. Ефрейтор что-то сказал солдатам. Аркадия, Николая, а заодно и Михаила вновь повалили наземь, стали бить прикладами, пинать тяжелыми твердыми сапогами. Потом, закурив сигареты, шестеро наблюдали с любопытством, как трое, помогая друг другу, поднимались на непослушные ноги.
Вот когда понял Аркадий, что фронтовые пути меряются не километрами и верстами, не милями и лье. Разве заключить в тесные рамки какой-либо системы мер душевное состояние? Оно значимей любых земных расстояний. Разве думаешь о расстоянии, когда впереди, по бокам и сзади — конвой. Автоматы на изготовку — попробуй, отклонись в сторону. И ноги заплетаются: шаг — мука. А рядом — уверенный, гулкий постук чужих сапог по смерзшемуся гудрону дороги. Русской, нашей дороги! Иногда мимо, будоража дремотный лес веселыми голосами, проносились в крытых брезентом грузовиках краснощекие солдаты. Они пели. Пели! И запах чужого бензина, и песни на чужом языке были для троих горше и мучительней всех перенесенных и предстоящих в дальнейшем невзгод.
Шагая по скользкой бровке, Аркадий думал об этом и о том, помнят ли Николай с Михаилом, за кого выдавать себя на допросе. Скосясь на голубоглазого ефрейтора, он проговорил:
— Не поймешь вас, немцев. То из брестской тюрьмы выпускаете, то хватаете и лупите за милую душу. Не поймешь.
— Мольшать! Один слово есть капут!
Но Аркадий уже сказал товарищам то, что хотел.
За кюветом, на вогнутой бровке отполированного санными полозьями ухабистого своротка с шоссе, увяз в снегу телеграфный столб с мохнатыми от инея спутанными завитками оборванных проводов на макушке. Приколоченная к нему фанерная стрела-указатель с аккуратной надписью по-русски и по-немецки «Новоселье» была нацелена в медностволую грудь соснового бора. Казалось, однажды она уже проделала через него брешь, оставив после своего полета на темно-зеленом теле рубчатый шрам проселочной дороги.
Лес обрывался резко, и на равнине открывалось село. Редкие с окраин дома к центру теснились густо, черно, окружая нарядное одноэтажное здание, облицованное буковой плашкой. Его арочные окна с приоткрытыми фрамугами, отражая солнце, пылали пятью кострами. На площади, перед зданием толкался народ, и в морозном воздухе клубился белесый пар от дыхания. У плетня, захлестнутые людским половодьем, испуганно всхрапывали лошади, вскидывая заиндевелые морды. Звенели кольца коновязей. Слышался скрип оглобель и саней. Пахло махоркой, сбруей, конским потом и свежим навозом. Бабы в бессчетных одежках и платках, укутанные сопливые ребятишки с причитаниями и плачем вились возле угрюмых бородачей, часто попыхивающих цигарками. При виде конвоя и понуро бредущих избитых парней площадь смолкла. Народ расступился, открыв белую дорогу к дверям, над которыми лениво и надменно плескался багровый с черной свастикой в белом круге флаг.
Холодный громкий коридор усиливал дробный разнобой шагов от порога и до пустой приемной. Дежурный за канцелярским бюро выслушал ефрейтора и кивнул на двойную дверь:
— Битте.
В просторной светлой комнате, у свободного от бумаг письменного стола под зеленым сукном, — приятного стола, по размерам и по веселому цвету зелени схожего с весенней лужайкой, стояли, комкая в руках шапки, Митрошкин и Дюков. За столом, в кресле, сидел жандармский офицер и, сдвинув на лоб очки в золотой оправе, думал о чем-то, устало прикрыв глаза ладонью.
Ко всему готовили себя Аркадий, Николай и Михаил, ко всему, кроме встречи с полицейскими. Бурю самых разнообразных горьких мыслей и обманутых надежд породила в них эта нечаянная встреча. Она отразилась на лицах, выбелив их, и в мускулах, что мгновенно сжались в упругие жгуты и тотчас расслабли, и во взглядах, полыхнув огнем и угаснув.
Но полицейские даже не обернулись к вошедшим.
— Будем проверить, — сказал офицер, отнимая от глаз руку. — Это есть ошень плехо, ошень.
Опустив очки на выпуклый с горбинкой нос, он равнодушно оглядел каменно застывший у порога конвой и сбившихся кучкой задержанных: их обросшие лица, одежду, порванную в драке, скоробленные сапоги, вокруг которых растекались, темные лужицы воды.
Митрошкину было явно не по себе. Шея то напрягалась, багровея, то, зайдясь в немом клекоте, опадала; грудь то вздувалась, как кузнечный мех, взлетая вверх короткими толчками, то враз оседала, со свистом выбрасывая воздух. И вот, казалось, из самой глубины нескладного источенного болезнью тела вырвались трескучие очереди кашля. Шаря по карманам платок, Митрошкин отвернулся, и покрасневшие от натуги слезящиеся глаза уперлись в Аркадия, уперлись и расширились, мерцая зрачками. «Нет! Нет!» — кричали глаза.
Драпировка на проеме двери в смежную комнату вспузырилась, заколыхалась. Раздвинув головой тяжелые коричневые портьеры, в кабинет шагнул рослый гестаповец. Очевидно, появлялся он так всегда, отработав заранее каждый шаг и жест, поддетые на плечи портьеры, провиснув за его спиной, заскользили спереди назад, являя взору вначале зеркально начищенные сапоги, затем бриджи с прямыми складками-стрелками и далее черный френч, перехваченный в поясе ремнем, портупею, железный крест на клапане нагрудного кармана.
— Was geht los?[1] — спросил гестаповец в пространство.
Офицер оживился и, уважительно привстав, заговорил, жестикулируя короткими полными руками. В холодных глазах гестаповца затеплился интерес. Круто повернувшись к столу, он взял протянутую жандармским офицером бумагу, в которой Аркадий распознал записку Пинчука, и углубился в чтение. Первые строки пинчуковских «откровений» вызвали у гестаповца лишь брезгливую усмешку, вскоре, однако, сменившуюся судорожным подергиванием левой половины лица.
— Mistvich! Haben Sie bemerkt, Karl, Jhre Slaven — Polizisien haben eine weigung, zur Philosophie und zum Schnaps[2].
— Он первачом баловался, господин офицер, — протрубил, как пропел, Дюков.
— Первач? Что такое первач?
— Отменное зелье. Водка домашней перегонки. Покрепче шнапса.
— Honen Sie, Karl? Herr Pervatsch fügt ihrer nationalen Kadern Schaden zu. Jedoch rate ich Ihnen nicht zu verzweifeln. Übergeben Sie des Schriftstück unbedingt dem Kommandaten: eine für ihn ausserst wervolle Errungenschaft. Und was sind das für Menschen?[3]
— Ich melde gehorsam![4] Партизанен! — выдохнул голубоглазый ефрейтор, прищелкнув каблуками.
— Какие мы партизаны, — сказал Аркадий. — Мы, господин офицер, выпущены из брестской тюрьмы германскими властями. Партизан отродясь не видали. По дороге вот… оказия вот… Одним словом, конфуз по дороге приключился. Не распознали кто, что и подрались… Да нам и соображать было некогда: патруль напал неожиданно. А так. Со своими, можно сказать, и драться. Нет, не стали бы мы…
Николай с Михаилом согласно закивали кудластыми головами, воспринимая одновременно разговорную манеру и тон, заданные командиром.
— Случается такое, — неожиданно, совершенно неожиданно поддакнул Дюков, и голосом и видом выказывая сочувствие безвинно пострадавшим. — И со мною как-то…
— Отправляйтесь! Вон! — гестаповец даже притопнул.
— Да, да! Ехать домой, ехать! — поспешно заговорил жандармский офицер, взглядом выталкивая Дюкова и Митрошкина из кабинета. — Да, да.
«Случается такое!» — ведь это же сказал Дюков. Как далеко должна простираться вера в человека.
Неожиданно Дюков вернулся из приемной в кабинет, подошел к столу, ухмыльнулся.
— А старшим кто у нас, господин офицер?
— Ви есть старший, ви!
— Благодарствуем. Уж мы постараемся, — и, низко поклонившись, вышел.
Гестаповец присел на край стола, загородив спиной хозяина.
— Karl, ich bin neugierig auf ein Gespräch mit den Herren. Haben Sie nichts dagegen, Karl?[5]
— O-o-o! Пожалуйста!
— Gut. Gefreiter, lassen Sie den Findigen hier, — он указал на Аркадия. — Die anderen führen Sie einstweilen hinaus[6]. Итак, вы есть заключенный? — последовал полный сострадания вздох и после паузы стремительная четкая скороговорка:
— Когда вас освободили?! Куда вы шли? Сколько дней шли? Почему шли лесом? Отвечать! Быстро отвечать!
Мозг Аркадия заработал с горячечной поспешностью. Аркадий, как это ни странно было даже ему самому, вовсе не испытывал страха. Неожиданная и вопреки дурным подозрениям так благоприятно завершившаяся встреча с полицейскими сыграла, должно быть, роль катализатора, который поглотил часть опасений и в какой-то мере вселил слабую надежду на удачу.
— В июле нас освободили. Говорят, красноармейцы с июня по июль, аж по двадцатый день в крепости тамошней оборонялись. Пальба нам спать не давала. Сидели по камерам и боялись, что не осилить вам гарнизон, а нам на свободу не выбраться…
Гестаповец, выслушав Аркадия, соскочил на пол, приблизился вплотную и мучительно долго искал ответа в его глазах: не издевка ли? Гестаповец смотрел на Аркадия, покусывая губу. Потом отступил на шаг и ткнул кулаком в зубы. Аркадий пошатнулся, но устоял. Тыльной стороной ладони провел по разбитому рту, глянул на кровяное пятно и отер руку о штанину.
— Зря деретесь, господин офицер.
— Из Бреста!!! Где же вы проболтались три месяца?!
— В Бресте мы и были. Работали там…
— Сегодня откуда идете?! Ну?! Быстро!
— Сегодня-то? Сегодня идем из Выселок. Ночь провели на поле в стогу: от людей хоронились. Не уважают здешние жители заключенных, боятся. Ну, а потом… Одним словом, потом конфуз-то и приключился. С вашими у большака столкнулись.
Выселки. Теперь эти Выселки не выходили у Аркадия из головы. Он помнил о них, бегло отвечая на вопросы, повторял про себя, шагая впереди автоматчика по «музыкальному» коридору. В холодных сенях, где ждали его друзья, нарочно споткнувшись о щербатый порог, он ворчливо, словно досадуя на свою нерасторопность, успел торопливо сказать:
— Брест. Конец июля — двадцатое. Работали в Бресте. Сегодня из Выселок… из Выселок. Ночевали в стогу за деревней. Вы-сел-ки.
Николая с Михаилом увели. Аркадий остался на попечении голубоглазого ефрейтора и двоих солдат. В грузном немце с мясистым сытым лицом и неправдоподобно яркими цвета спелой вишни щеками узнал своего удачливого противника по драке. Вторым был чернявый в ушастой пилотке. Он все еще плаксивился и посасывал вспухшую губу. Оба, казалось, не замечали Аркадия, всхлюпывали влажными носами и разговаривали вполголоса. Ефрейтор толокся у окошка с выбитым стеклом, и так и этак приноравливаясь просунуть голову в дыру, что щерилась оставшимися в раме осколками, как щучья пасть зубами. Виден был в оконце заснеженный двор и темная жилка тропы, сплотка тесаных сосновых бревен и широколобый пень с воткнутым торчмя топором, полусгнивший бревенчатый угол коровника. Ефрейтор вдруг вытянул шею и замер: по двору шла женщина. Вязаный шерстяной платок, накинутый по-старушечьи, ватное пальто и стоптанные валенки-тяжелоступы не скрывали ее ладной фигуры, а нарочито шаркающая походка — молодости. Ефрейтор обернулся, сияя, бросил автомат чернявому, причмокнул губами и выскользнул из сеней.
Короткий и приглушенный вскрик, последовавший вскоре, Аркадий отнес к шуму в коридоре. Топотом ног, ударами и голосами подкатился этот шум к двери, выбил ее, как пробку, грохнув о стенку заиндевелой ручкой, толкнул через порог Михаила. Телогрейка — полы вразлет. Рубаха от ворота до пояса — надвое. Он зло ругался.
— Парашник — этот в черном! Прыщ на заднице! В общем, нас кокнут!
Николай хмурился и был бледен.
— Все, Аркаша, — сказал и отвернулся.
Морозный воздух удивительно вкусно пах свежими — только что с грядки! — огурцами. Солнечные лучи резвились на снегу. В навозной куче у коровника базарили воробьи. Из-за плетня, с площади накатывался сдержанный гомон толпы. Совсем рядом, тоже на площади, забренчали удила, призывно заржала лошадь. «Тпру-у-у, тпру-у ты-ы!»
А они стояли посреди двора. Яркий день слепил им глаза. Они щурились. Они жадно впитывали, впитывали в себя эти шумы, запахи и краски жизни.
По ту сторону плетня кто-то захлебнулся плачем, запоскрипывали полозья саней: обоз тронулся.
— Хфилип! Вертайся скорешенько! Вертайся!.. Слышь, Хфилип?!
— Панкрат! Панкрат!.. Ох, лишенько нам…
Из коровника вышел ефрейтор. Лицо горит, довольное, успокоенное. Шинель в мякине и сенной трухе. Передернулся от головы до пят всем телом, как мокрый пес, отряхиваясь; затянул ремешок на штанах, пробежал пальцами по пуговицам ширинки и похабно загоготал. Он стоял молодой, голубоглазый, красивый, сильный и гоготал, радуясь, что он есть на земле, что он властен взять у жизни силой земные радости.
Взгляд Аркадия споткнулся о ефрейтора и… И краски дня померкли вдруг для Аркадия: клокочущая ненависть заполнила все его существо, полыхнула в глазах. И — никого во дворе, кроме Аркадия и этого гогочущего насильника. «Ох-хо-хо! Ха-ха-ха!» Мелкой дрожью пошли руки с тяжелыми кулаками, сухостью прихватило губы…
Чернявый принес и бросил к ногам охапку инструментов: две штыковых лопаты и заржавленный лом.
— Битте!
Жизнь! Неужели она оборвется сейчас, там вон за банькой в низине, где чернеет голая ива у ручья и где видны недавние холмики, и оборвется без трагедии для мира, обыденно и незаметно — был и нет. Мысли торопились, наседая разом, — спешили жить: «Ты не должен умирать просто. Ты не должен смиренно ждать…»
А тропа уже привела к вытоптанной поляне. Ефрейтор, играючи, вычертил на снегу прямоугольник.
— Битте!
А над головой неоглядная синь в солнце. Она над живым селом, над живым лесом, что неровной каемкой проступает вдали, над живой, укрытой льдом речкой. И синь эта зовется небом. Небом! Дорого оно человеку. А летчику!?.. Оно распахнулось над летчиками, копающими себе могилу, разлилось бескрайнее. И звало, звало, звало их в свои просторы!
5. ДОРОГА ВО МРАК
Человек человеку… Голубоглазый смотрел хуже волка — он смотрел равнодушно. Он стоял на краю уже обозначившейся могилы. Автомат на изготовку. Ствол направлен в левый угол. Сколько, сантиметров до смерти? Еще два-три и яма в аккурат. Еще три-четыре — дрогнет куцый ствол автомата и, попыхивая дымком, проведет, итоговую черту слева направо, начиная с Аркадия. Лом отскакивал от промерзшей земли, как от плотной резины, звенел, отбивал руки. Лопаты беззубо мяли бурую бугристую площадку. Чернявый немчик вовсе осопливел, продрог и приплясывал, не спуская глаз с Николаевой фуфайки. Фуфайка была старенькая, но теплая, ворсистая. Обратил на нее внимание и ефрейтор. Пригляделся. Сказал что-то чернявому, повел головой властно и спрыгнул в яму:
— Снимать! — он потянул Николая за фуфайку.
— Отстань, — сказал Николай, не выпуская лопаты, — отойди.
Аркадий распрямился, кинул быстрый взгляд на ефрейтора, на конвоиров и опять склонился только пониже, удобно ухватив обеими руками лом, как дубину. Михаил, будто собирался в штыковую атаку, изготовил лопату и помалу придвигался к чернявому.
— Снимать рубашка. Снимать!
— Не хватайся, говорю! — Николай повысил голос. — Убьешь, все тебе достанется. Или вещь испортить не желаешь? Ничего. Заштопаешь потом. Того вон сопливого и заставишь. А сейчас — отойди!
Видать, добрым был тот черт, который принес новосельского коменданта Оберлендера из вояжа по району и внушил ему мысль лично допросить задержанных как раз в то время, когда обозленные немцы сгрудились над ямой, нацелив автоматы вниз. Голубоглазый с явным разочарованием выслушал запыхавшегося дежурного, выругался громко и погнал полураздетых Николая и Аркадия (над Михаилом властвовал чернявый) бегом по снегу назад к комендатуре, покрикивая на них с тропы:
— Шнель! Шнель!
И опять знакомый кабинет. Три стула у входа. И опять — «битте».
В ответ на сбивчивые объяснения жандармского офицера Оберлендер хмурился, метал колючие взгляды на, парней. Он был так похож на сову, что, казалось, серое лицо его покрыто перьями.
— Какие партизаны!? — бросил он офицеру. — Разве они — партизаны?! — вскочил и стремительно приблизился к задержанным. Оглядел поочередно, забежал сбоку и громко скомандовал: — Встать!
Они поднялись разом, поднялись пружинисто, четко, как на занятиях по строевой подготовке. Комендант самодовольно потер ладони, рассмеялся:
— Da haben Sie den Helmuth. Lernen Sie, Karl, selbständig zu werden. Sie sagen, — Partisane. Das ist eine Armee! Ins Lager mit ihnen! Zur Station und ins Lager![7]
…А, может быть, тот добрый черт вовсе и не был добрым, а сделал все со зла? Может быть, лучше было остаться там, у голой ивы? А то — холодный пульман, не пульман, — склеп! — набитый людьми. В пульмане сыро и темно. Люди под крышей заколочены досками и светятся пулевыми пробоинами, нанесенными из автомата не беспорядочно, а по системе — правильными квадратами, решеткой. На нарах — сладковатый тошнотворный запах гниющих ран. На полу, покрытом жидкой и скользкой грязцой, — едкий до слез запах мочи. Как только через автоматные пробоины просочится в вагон утренняя заря, дверь со скрежетом сдвигается на сторону. Двое из сорока под дулами винтовок идут за суточным рационом — четырьмя буханками хлеба по килограмму и ведром воды. Все! До следующего утра!
Лишь через неделю эшелон вывели из тупика на магистраль и, забыв покормить людей, отправили. Сипло гудел паровоз, переругивались колеса. Вагон раскачивался из стороны в сторону. Поезд мчался среди лесов и снегов под солнцем. В темных провонявших вагонах вез он людей в неизвестность.
— Кто знает, братишки, порт нашего назначения? — прозвучал вдруг в густом затхлом мраке простуженный бас. — Далеко ли, близко ли?
— Сказывали, Псков, — ответил кто-то с нижних нар, справа от Аркадия человек через пять-шесть. — Сказывали, лагерь.
— Поколесим…
— К чему колесить-то?.. Тут, надо считать, совсем недалече.
— Э-ээ, братишка! У фрицев география по-другому построена. Они запросто могут весь наш экипаж отсюда с заходом в Сингапур до Гамбурга отправить. А ты — Псков! Готовь сухари, точи якоря — плавание будет долгим. Ну, познакомимся, что ли? Под крышей одной — не первый день. Как?
— Так-то оно… Вишь, ли…
— Понял, братишка! Опасаешься? Верно. Провокатор, что краб, ходит бочком и ловчит клешней зацепить покрепче. Только предлагаю я, братишки, исповедаться без дураков. При такой иллюминации фотографий наших никто не узрит. Лежи себе и выдавай в потолок, что душа диктует, — и тебе легче станет, и другим для науки сгодится. В посудине этой, никак, сорок человек? До Пскова, если нам положено в нем ошвартоваться, все выскажутся. Начали? Эй, в кубрике!
— Вишь, как оно…
— Понял! Значит, я и должен? — бас откашлялся. — Для маскировки голос у меня самый что ни на есть подходящий: его я в графе «особые приметы» помечаю. Ну да шут с ним!.. Хрен ее знает, братишки, кто навел ее на нас — немецкую подводную лодку. Вынырнула она со дна морского… В общем, двадцать первого это было, в двенадцать ноль-ноль Москвы. Топали мы из Клайпеды в Ленинград с дизельным горючим и бензином в дип-танках. Танкер «Сиваш» сошел со стапелей осенью сорокового. Посмотрели бы вы на него, братишки! Картина — корабль! Бегун мирового класса! На траверзе Готланда шли мы со скоростью шестнадцати узлов в час. Узлы, конечно, не с барахлом. В каждом — морская миля, а в каждой той морской миле — одна тысяча восемьсот пятьдесят два сухопутных метра, во! День, братишки, был самый что ни на есть июньский: солнце ярче корабельной меди. Море! А море, братишки, было в тот день — песня! И не просто песня, а… Ну, радость в музыке! И чайки! Эх, братишки! До чего же хороши, знать бы вам, наши балтийские чайки! А ширь, а простор, а свобода, свобода-то, братишки!.. — Он поперхнулся. Он плакал, честное слово, плакал, этот бас.
— Вишь, как оно…
— Понял, братишка! Только не от жалости, от злости лютой плачу!.. Короче, встретились мы с той подлодкой, раскланялись по флотским правилам, как говорится, на ходу. Особых симпатий ни мы к ним, ни они к нам не испытывали, рандеву провели накоротке. Видим, немцы мешкают, мнутся. Видим, сигнальщик ихний флажками запорхал. Код — международный. «Остро нуждаюсь горючем, — сыплет. — Прошу оказать помощь». Подивились. Случай на боевом корабле да еще такого типа, надо сказать, курьезный. А что делать? Экспертную комиссию для проверки не пошлешь. Поверили. Радист наш сообщил в управление, что подводная лодка эль-сто сорок германских военно-морских сил просит оказать помощь горючим и, чтобы ликвидировать неловкость, возникшую в связи с запросом, выдал по корабельной радиосети танцевальную музыку громкостью на все страны Балтийского бассейна. Немцы довольны, улыбаются. Наши под музыку острят в их адрес: «Как бы не мы, дескать, на веслах до берега пришлось бы вам добираться», посудину ихнюю разглядывают. Хищная она, эта подлодка, на вид: тонкая, бритвоносая. Палуба, что обух ножа, — развернуться по-настоящему негде. Управление ответило быстро. Повозились мы чуток с палубными трубопроводами, залили немцам горючего и потопали прежним курсом. А на другой день — война. Так, братишки, в жизни случается. И ко всем этим радостям — наша знакомая тут как тут. «Стоп машины! — сигналит. — Принять на борт конвой!» Куда денешься? Соперница зубастая — пулеметы, пушки, торпеды. У нас и дробового ружья на «Сиваше» нет. Савельев — капитан — отзывает меня в сторонку. «Слушай, — говорит, — нельзя отдавать немцам горючее. Сейчас шлюпку с правого борта спускать на воду станем. Этим я займусь. А ты с левого — шлюпки на воду. Незаметно только, чтобы немец не заподозрил. Ребят в шлюпки. Пусть отваливают от „Сиваша“ подальше. Не мешкай с ними. Там управишься по-скорому и к насосам. Рукой помашу — включай насосы на полную мощность». Закурил он, с мостика спустился, спокойно к борту подошел. А немцы уже не улыбаются, как вчера, а этак по-хозяйски на танкер пальцами показывают: какой приз в первый же день войны отхватили. Распорядился я по команде и к насосам… Подвиг. Слыхивали ведь вы, братишки, о подвигах и, должно быть, не раз слыхивали. Я о них тоже наслышан был, книг в свое время о героях много перечитал. Представлялся он мне, подвит, чем-то исключительным, не каждому смертному доступным. Так ведь, братишки, а? Живет человек, работает человек, как все люди живут и работают, на подвиг пошел и, смотришь, все у него, пишут, стало по-другому, вроде переродился он за минуту до неузнаваемости.
— Так оно…
— Не так! Песок — все эти рассуждения! Глаза мне выколи, а я видеть буду, как Савельев спокойненько по палубе прогуливается, как одергивает свой белый капитанский китель и рукой машет! Врубил я насосы! Выхлестнулось из дип-танков горючее, забурлило по палубе, заклокотало потоком, плеснуло водопадом через борт. Пленка радужная по волне шире, шире… Капитан зажигалку к трубопроводу… И занялось, братишки, над Балтикой. Тот жар мне все еще лицо палит. И гудок! Слышу, братишки, будто стон человеческий, тот прощальный гудок «Сиваша».
Темнота скрывала рассказчика, но каждый из сорока видел его. В болезненно страстном накале слов зримо вставало гневное лицо человека, знающего теперь цену бытию земному, испытавшего в полной мере и добро и зло, человека, который знает, что сделать в жизни, и пройдет к своей цели через все.
— «Эль-сто сорок», братишки, «эль-сто сорок». Я прошу вас, братишки, запомните это клеймо. И где бы, когда бы, через сколько бы лет ни повстречались вы с ней — топите, давите, не жалейте! А вдруг смягчится сердце, представьте картину: море, «Сиваш» в огне. И в зареве, как в крови, «эль-сто сорок» расстреливает из пулеметов наши шлюпки!..
— Вишь, как оно.
— Хуже смерти оно. В живых нас трое осталось. К вечеру наткнулся немецкий сторожевик. Эх! Уж было бы мне, братишки, кингстоны открыть в ту злую минуту!.. За колючкой в Вентспилсе зарыл я механика и матроса. Зарыл и бежал.
— Можно, выходит, бежать-то?
— Попробуй.
— Вишь, крепко я надеюсь бежать-то. Потому и справку навел. Обидел небось? Не серчай. Ты своей, я своей бедой маемся. Дадено бы человеку было допрежь знать, что станется. Вишь, как оно… Войну против немца зачал я, никак, двадцать восьмого: неделю на формировке злость скапливал. Впервой схлестнулся с ним в Белоруссии. Известное дело, пятился от Бреста, покамест притерпелся. Ну, а притерпевшись, само собой, и вкладывать ему зачал. Сурьезные мужики в отделении моем ходили: за зрячину лба пуле не ставили, в драке потылицы не казали. Притерлись мы друг к дружке, приноровились. Ладно дело-то пошло. Конешно, высевались мужики помалу. Как-то рота наша третья пополнение получила. Из роты, как водится, взводу выделили. Взвод наш одним бойцом пополнил. Мордастый из себя такой парень, при силе. Знакомлю его с мужиками, перед строем речь говорю. Вишь, говорю, Машков, с кем служить довелось. Громом мы все пуганы, железом крещены. У Нишкомаева, вишь, медаль. За отвагу дадена. Так на медали той и обозначено. У Дешевых — орден. Каким он делом его заработал, спроси — не утаит, расскажет все доподлинно. Воюй, как они, — в добрые люди выйдешь. Уразумел? «Уразумел», — отвечает. Тогда наука солдатская впрок пойдет. Поговорили. Только парень, замечаю, все поближе ко мне жмется, возле крутится, угодничает. Тут-то промашку и допустил я, пожалел. «Робеет с непривычки, — думаю, — вскорости оклемается». Характер-то у меня жидкий. Еще батя покойный говаривал: «Всем ты, Панька, в сибирский корень: и статью, и ликом, и силой. Однако, паря, духом ты шибко хлипок. Порожняя жалость, Панька, — заняток не мужицкий. Справедливость и сурьезность в деле верховодят». Батя — он брехать не горазд был. Принял я по Машкову, значится, решение. Доглядеть бы за ним, да некогда. Воюем без передыху. Приставил я Машкова к пулеметчику Седелкину вторым номером. Ядреный мужик Седелкин, храбрый до отчаянности. Возле деревни Луневки крепко сшиблись мы с немцем. Деремся день, два деремся. Ни «тпру», ни «ну»: ни мы их, ни они нас. Всю землю округ вспахали, ровно под зябь сготовили. Выколупывал, выколупывал нас немец из окопов, осерчал. Ни свет ни заря пустил с дюжину танков. Утро только занялось, страхопуды и поперли. Мнут под себя, все как есть на нас воротят. В хвостах, различаем, автоматчики рысят. Худо ли, хорошо ли, а воевать все одно надо. Мы диспозицию с мужиками прикинули, никак, пулемет должно на фланг пристроить, чтоб пеших с техникой разлучить. Седелкин, говорю, вишь, на бугре, что по праву руку, стропила вроде торчат? Там, говорю, где вечёр Петросова накрыло? Дзота, говорю, не осталось, а яма — куда ей деться! Айдате с Машковым туда, закрепляйтесь и по обстоятельствам секите немца. Подхватились они, угнездились в яме, одно рыло «максимово» средь полыни маячит. А танки — вот они, рядом танки-то! Самое время Седелкину в бой встревать, а он молчит. Я ракету — молчит! Я — Трифонова туда. Убило. Мы штыками автоматчиков доставать стали, а потом и вовсе на кулаки приняли. Угодили мне чем-то по голове, я и завял. Очухался в плену. Голова, как после угару, тяжелая, гудет. Гляжу, Машков. Маню его пальцем: голос пересекло. Подошел он. «Почему, — хриплю, — пулемет молчал?» «Седелкина, — отвечает, — убило». «А ты что, — спрашиваю, — делал? Руки отсохли?» «Грех, — отвечает, — на душу брать не пожелал». Не контузия — удавил бы я его! Жгу его глазами, а он проповедует: «Люди перед богом все братья… Война — грех…». «Сучья ты кровь, — говорю, — недоносок. Ты немцам это проповедуй!» Сектантом Машков-то состоял. Не он — отбили бы мы атаку, как есть отбили бы!..
…Километры с маху кидались под грохочущие колеса. Мчался эшелон с военнопленными. Блекли и загорались, блекли и загорались в путанице суток пулевые пробоины на заколоченных люках. Люди рассказывали, и в душном темном чреве пульмана на глазах у сорока свершались подвиги, творились предательства и проходили, проходили чередой люди корыстные и щедрые сердцем, трусливые и бесстрашные. Тридцать девять судеб — плюс своя собственная судьба. Вздор, что беда делает человека безучастным, лишает его чувства сострадания к чужому горю! Здесь, в пульмане, история каждого сопереживалась с такой остротой и непосредственностью, что казалось всем, будто она послужила прологом к их собственному несчастью. И было каждому в пору наложить на себя руки. Но жили они, жили! Жили и ждали тревожно горького продолжения теперь уже, должно быть, общей для всех истории. В долгих беседах старались и не могли найти успокоения. Ждали — каково она обернется, судьба? Что станется с ними сегодня, завтра, послезавтра?.. Не забывались и во сне. Сон был коротким, жутким.
Знакомство пробудило в них надежду, а затем и уверенность. Они поддерживали друг друга как и чем могли, старались вытравить страшное чувство обреченности.
— Эй, там в кубрике! — и весело на сердце.
— Вишь, как оно бывает, — и задумывались над капризами судьбы.
Восемнадцатого ноября эшелон прибыл в Псков. Медленно протащился по пригороду, поднырнул под вскинутый к низкому серому небу кулак семафора, окутал черным дымом плоские крыши пристанционных пакгаузов и остановился. Паровоз шумно отдувался после долгого бега. Лязгнули буфера. Лязг этот короткой судорогой пробежал по составу. И все стихло на минуту. А потом сразу звонким хрустом рассыпались по заснеженному перрону шаги, много шагов. О дверь пульмана состукала приставная лестница, заскрежетал запор. Вместе с клубами морозного воздуха в спертую темноту хлынул дневной свет.
— Выходи-и-и!
А они топтались в дверях щурясь.
Первыми выпрыгнули из вагонов те, кто покрепче. Ослабевших принимали на руки, отводили в сторону, поддерживая. Их пошатывало, кружилась голова. Свежий воздух огнем жег в груди, вызывал приступы удушливого кашля.
— Станови-и-ись!
Отхлынули от вагонов и медленно растекались по перрону, выравнивались в линию. Перед строем откуда ни возьмись появилась бабка в старомодной борчатке и шали с кистями, опустила к ногам пухлый узел, всплеснула руками и певуче заголосила:
— Родненькие вы мои-и-и… Соколики-и-и…
Один из немцев выпихнул ее в узкую калитку, подцепил на штык забытый узел и растряс его. По грязной, затоптанной площадке ветерок разметал белье.
Колонна двигалась по улицам города в тяжелом, подавленном молчании. С болью и жалостью смотрели на оборванных измученных людей редкие прохожие. В прихваченных морозцем окнах домов то и дело мелькали бледные взволнованные лица.
— Эх, братишки!..
Аркадий покосился на рослого, чуть сутулого широкоплечего соседа с низко опущенной лобастой головой.
Именно таким он и представлялся ему в темном пульмане.
— Горько и стыдно, братишки!.. Псков, Псков! Древний российский город!..
И Аркадий сжал до боли руку вышагивающего рядом Михаила: полные сострадания взгляды псковитян коробили его. Аркадию вдруг захотелось крикнуть и крикнуть так, чтобы голос был услышан повсюду: «Не смотрите на нас жалостливо! Мы — солдаты, мы — бойцы!»
Порядки домов с обеих сторон улицы поредели. Развалины топорщились обугленными бревнами, черными осыпями кирпичей и печными трубами. Давно остались позади Кремль с Троицким собором, Довмонтов город. Исчез под снегом ветхий забор последнего пригородного домика на отшибе. Из-за горбатых заносов вставал лагерь. Ржавые с пучками колючек нити проволоки, чуть провисая, тянулись параллельно от кола до кола, от стояка к стояку, образуя четкий квадрат. Первая линия ограды. За первой — вторая, пониже — третья. В промежутках между ними — витки спиралей Бруно. И сторожевые вышки. Зловеще возвышались они над лагерем, и с глухих площадок, обращенных бойницами в сторону бараков с низкими крытыми толем покатыми крышами, торчали стволы крупнокалиберных пулеметов.
Колонна остановилась на пустынном плацу. Было ветрено и холодно. Конвой ушел греться. А они мерзли. Часа через два из тепла комендатуры вышли начальник конвоя с худощавым офицером. Оба навеселе. Френчи расстегнуты. Белые нижние рубашки тоже. Прогулялись вдоль строя туда и обратно, поулыбались, разглядывая выбеленные морозом лица, и убрались в тепло, не сказав ни слова. Из караульного помещения, примыкавшего к комендатуре, тотчас же высыпала лагерная команда. Брюхатый высокий немец в русском дубленом полушубке с подвернутыми рукавами ткнул в Аркадия пальцем и, подбоченясь, спросил весело:
— Тебе есть хольод?
Аркадий промолчал.
— Перетерпим, — сказал кто-то сзади, во второй или третьей шеренге.
— Вас ист дас — «перетерпим»?
— Выстоим, то есть. Выдюжим.
— Перетерпим… выстоим… выдюжим, — немец добавил еще что-то, и охранники загоготали. — Сейчас мы будем делать для вас рюсский баня… Дождик… Кап-кап…
По плацу раскатили пожарные шланги, укрепили брандспойты. Упругие кинжальные струи ледяной воды обрушились на колонну. Они сверкали, как стальные, и били так же твердо. На правом фланге возникло замешательство: струей воды был сбит с ног исхудалый красноармеец с костистым темным лицом и замотанной грязными бинтами и тряпками головой. Он с трудом поднялся, ощупывая и поправляя смокшую повязку. Немцы не отступились, вновь нацелили брандспойты, и вода обрушилась на раненого. Он не выдержал. Путаясь в полах мокрой шинели, увернулся от ледяного каскада и побежал, петляя, в глубь лагеря к баракам. С центральной вышки редко и гулко простучал пулемет. Красноармеец упал, прополз несколько метров, протянув за собой алую полосу, затем заметался потерянно на месте вправо, влево, приподнялся на руках, обернув к колонне бескровное лицо, и, подломившись в локтях, припал небритой щекой к мокрому снегу.
На правом фланге кто-то захохотал, захохотал беззаботно, радостно и страшно. Все притихли настороженно. На людном плацу слышались приглушенный свист вырывавшейся из брандспойтов воды да безумный счастливый смех сумасшедшего.
…А месяц спустя расстреляли комиссара Кабаргина. Голос этого большого замкнутого человека с ясными глазами и твердым взглядом Аркадий слышал трижды. Первый раз, когда после «бани» на плацу, разбив колонну по сотням, немцы развели военнопленных по баракам. Они не пустовали, бараки. В тусклой темноте тесных междурядий, разделяющих двухъярусные нары, новичкам приветливо пожимали руки, помогали раздеться, разместиться на верхних теплых нарах. И все это молча. Взволнованные заботой, новички не находили слов, да и не знали, как выразить свою благодарность, кого благодарить. Внезапно, как в том пульмане, простуженный бас «выдал в потолок».
— Спасибо, братишки! Как живете — понятно. Провокаторы в нашем трюме имеются?
— Молчи, — твердо сказал кто-то в ответ.
Это был Кабаргин.
Второй раз — когда, вернувшись с каменоломен, где кололи и дробили гранит на крошку, и, выхлебав по черпаку брюквенной жижи, они с Николаем, забираясь на свою лежанку, заметили в углу клубок сцепившихся тел и хотели было разнять дерущихся. Их остановил твердый голос:
— Так надо!
Это был Кабаргин.
И в третий… Через день после «самоубийства» провокатора в каменоломне обнаружили написанные от руки листовки с сообщением о разгроме немцев под Москвой. Бригаду, на участке которой были листовки, выстроили на плацу, рассчитали на «первый — десятый», и восемь человек сделали шаг вперед. Среди них оказался и Кабаргин. Им не зачитывали обвинений, их даже не избивали. На глазах у всего лагеря приказали раздеться и вывели за колючку ко рву.
Редкая в этих местах декабрьская оттепель растворила на плацу снег, перемешав его с грязью. Низкие облака крошили на землю не то дождь, не то град. А они шли через плац к воротам, шли редкой цепочкой. Кабаргин нес большую голову с мокрыми спутанными волосами гордо, высоко, словно не хотел смотреть на посиневшие босые ноги, утопающие в грязи. На кромке рва он еще больше выпрямился, будто вырос, приподнялся, заглядывая через колючку на молчаливые ряды, и крикнул:
— Фесенко!..
Сухой треск автоматных очередей заглушил его. Семеро по вязкому глинистому склону рва скатились вниз, а комиссар, запрокинувшись, скрылся в нем лишь по пояс. Над кромкой торчали босые ноги, широкие ступни и худые лодыжки, перехваченные завязанными бантиком тесемками кальсон.
Теперь уже Аркадий, Николай и Михаил, повинуясь голосу совести своей, вместе с товарищами бестрепетно исполнили последний приказ комиссара Кабаргина: этой же ночью Фесенко «повесился» на брючном ремне в темном углу барака, за нарами. Рано утром, обнаружив труп «самоубийцы», дежурный по блоку побежал в комендатуру с докладом и вернулся оттуда сам не свой.
— Будет всем из-за этой падали, — сказал, — нашли где кончать. Вы бы его в карьере лучше прищучили…
Появление в бараке «герр коменданта» подтвердило мрачные прогнозы дежурного. Герр комендант был в обычном своем состоянии — навеселе. Поверх френча с расстегнутым воротом — короткая меховая безрукавка с опушкой из белки. Одна рука в кармане галифе, в другой — хлыст с вмонтированным в тяжелую рукоять электрическим фонарем. Герр комендант с улыбкой на плоском, как гладильная доска, продолговатом лице выслушал сбивчивый рапорт дежурного и, по юнкерской привычке вскидывая ноги, церемониально проследовал вдоль нар к месту происшествия. Труп самоубийцы осматривал долго и тщательно, затем исследовал земляной пол, стены. Обернув носовым платком ржавый гвоздь, к которому крепился ремень, попытался расшатать и, наконец, повисел на нем, подогнув голенастые ноги. Гвоздь не поддался. Первый этап расследования закончился. Но было видно, что комендант не думает оставлять все без последствий. Он удалился на сей раз торопливо и без улыбки. Опальный блок готовился ко второму этапу расследования — к «испытанию на прочность».
Получасом позже в лагере поднялся переполох: из соседнего барака ночью бежали двенадцать человек. Выбрались они через слуховое окно, выставив раму вместе с решеткой. История Фесенко была на время забыта. Комендант распорядился погоней и приказал выстроить на плацу всех. И вот хмурое каре — военнопленные. Лицом к лицу с ними — автоматчики. Рогатые каски — на лоб. На груди автоматы стволами влево и на одном уровне. Комендант, разбрызгивая сапогами жидкий снег, метался внутри квадрата и, потрясая над головой скомканной в кулаке рукописной листовкой, оставленной беглецами, выкрикивал, утратив былое хладнокровие:
— Этот листовка есть грандиозный блеф, есть пропаганда! Москва капитулироваль! Наши войска давно есть в Москва!.. Ви меня поняль? Первий слючай я сделаю вас наказать! Второй слючай я сделаю вас расстрелять! Ви думать о побеге? Гут!
Тем временем солдаты вытащили на плац кусок спирали Бруно метров на семь-восемь, растянули его в длину по всем правилам фортификации, закрепили концы штыковыми железными штырями. Комендант измерил шагами протяженность сооружения, попробовал надежность креплений, присев на корточки, заглянул вовнутрь ржавой, топорщившейся колючками спирали, и на его плоском лице заизвивались в холодной усмешке губы.
— Я буду преподносить вам сюрприз, маленький тренировка. Это есть тропка на воля, на свобода. Битте.
И тренировка началась. «Битте!» Аркадий и его друзья знали цену этого слова. Но комендант настойчиво «приглашал». Опустившись на четвереньки, Аркадий нырнул в тесное и цепкое нутро сужающейся где-то там в перспективе до светлого с копейку пятна спирали. Витки, витки, витки… Как много их на восьми метрах скрученной в пружину проволоки. И колючки!.. Сверху они пластают одежду, полосуют тело, а снизу — пропарывают ладони и колени. Мокрый снег внутри спирального туннеля порозовел, стал бурым, красным. На втором заходе застывшие руки и колени уже не отзывались болью на впивающиеся в них шипы, а ночью распухли, почернели и воспалились. Каждая рана горела невыносимо.
Побег изменил к худшему и без того жестокий уклад лагерной жизни. Перед выходом на работу в каменоломни изо дня в день подавалась команда: «По порядку номеров рассчитайсь!» «Первый, второй!..» Комендант подходил к третьему. «Ви думать о побеге? Гут!» Значит, каждый третий. Значит, занимайся арифметикой: делится ли на «три» твой порядковый номер. «Шестьсот сорок пять!» Делится. «Битте!» И беги не мешкай под пинки, хлысты и дубинки охранников, выстроившихся в две шеренги лицом к лицу. В обед — «Первый, второй, третий!..» — комендант приближался к четвертому. «Битте!» Ужин — «Первый, второй, третий, четвертый, пятый!..» Каждый шестой, седьмой, восьмой… «Битте, битте, битте!..» Арифметика, кто же тебя придумал?! Кто?!
…Как-то в поисках упавшего вниз малахая Аркадий забрался под нары и обнаружил хитро замаскированный лаз. Короткая доска стенной обшивки у самого пола едва держалась на гвоздях, вставленных в просторные гнезда. Он осторожно вынул доску и по плечо запустил руку в отверстие. «Как далеко тянется лаз?» Не тревожа понапрасну друзей, он в одиночку заполночь прополз по норе и оказался на грузовом дворе возле кухни. От патрулей площадку хорошо укрывал дровяной склад, от прожектора и наблюдателя с ближайшей вышки — шатровая крыша кухни. Часовые, надзирающие за бараками по ночам, просматривали площадку слева и справа, не пересекая ее. И, конечно, они могли бы заметить малейшее движение у стены, но стояки барачной обшивки служили надежным укрытием. Аркадий прижался к одному из стояков, и веря и не веря своему счастью. Он чувствовал свободу в мокрых звездах весеннего неба над головой, в запашистом влажном ветре с глуховатыми шорохами леса. Прожекторный луч, лизнув гребень крыши, высветил небо. И Аркадий, который уже считал себя почти на воле, подумал о летном поле, о прожекторах на взлетно-посадочной полосе…
Возбужденный вернулся он в барак и тотчас же растолкал товарищей. Он не мог говорить: из горла вырывались какие-то бессвязные всхлипы. И руки и тело сотрясались в радостной, неуемной дрожи. Николай пощупал шершавой горячей ладонью холодный лоб командира.
— Болен? — спросил. — Что с тобой, Аркаша?
Рассказу не поверили. Николай, схватив руку командира, подсчитывал пульс.
— Да отстаньте, черти!
И они поняли, что Аркадий не бредит, не шутит. Они заговорили наперебой.
— Чего тогда ждать? — сказал Николай. — Двинулись?
— Эх, пробежимся! Лес близко. Грязь все следы до утра затянет. Айда! — сказал Михаил.
— Чудики. От радости у вас это, что ли? А остальные ребята? А проволочная ограда? А кто замаскирует после ухода подкоп? Нет, поработать нам еще предстоит, потрудиться.
…Горсть земли. Должно быть, еще в устных преданиях древнейших времен стала она символом больших человеческих чувств. Прошли тысячелетия, а символ не померк. Не перечесть былин и сказок, поэм и стихов, посвященных этой святыне. И никто ныне не будет даже сомневаться в том, что взятая с дорогой могилы заветная горсть земли передает любовь и тепло неугасаемого сердца, что взятая на родной улице города или села заветная горсть земли приносит в бою силу.
Под колючими ограждениями концентрационного лагеря была тоже своя — российская земля. Эту горсть земли российской при свете чужих прожекторов стерегли чужие солдаты.
Темными ночами, когда лагерь погружался в сон, «рабочие группы» выходили на рытье подкопа, выходили парами: один взрыхлял железным скребком землю, проделывая под проволокой широкое и ровное, без крутизны, углубление, по горсти складывал землю в котелок и передавал напарнику. Тот уносил ее в барак и тоже по горсти рассыпал под нарами. Сорок горстей — котелок. Два котелка — смена. Они даже свыклись с этой работой, ухитрялись спать до поры, пока не коснется плеча осторожная рука сменщика, пока не проникнет в сознание шепот: «Братишка, на вахту!»
В понедельник должен был совершиться побег, но судьба распорядилась по-своему. Воскресным утром, после занятий «по арифметике», помощник начальника лагеря Пактус, худой длиннорукий немец из Шлезвига, сказал, подслеповато щурясь, что в связи с побегом, имевшим место в декабре, часть военнопленных переводится в другие концентрационные лагеря, что отправка назначена господином комендантом на полдень, что он, Пактус, имеет поручение господина коменданта зачитать списки и просит приготовиться к отъезду всех, кто будет сейчас назван. Прошений и протестов администрация лагеря не принимает.
Аркадий и Михаил смотрели на Николая сквозь пелену, застилавшую глаза. Как ни крепились они, а не могли преодолеть ее. Седой, а раньше они этого не замечали, морщинистый (тоже не замечали) и враз безнадежно постаревший, стоял Николай среди тех, кто оставался в Пинском лагере. И надо было что-то сказать другу на прощание. Надо было сказать — пока предоставлялась такая возможность.
Аркадий взглядом настойчиво отыскивал глаза штурмана. А тот их прятал, боялся поднять на товарищей во избежание слез.
— Коля!
Ближайший автоматчик вскинул голову, оглядел притихшие ряды.
— Коля!
Человек, которому доведется увидеть такой взгляд, запомнит его навечно. Николай посмотрел на друзей.
— Ну, Колька!.. Как там!.. В общем, не забывай, что говорил Алеша Сбоев, помни…
— Аудентес фортуна юват, — прошелестел Николай одними губами, пытаясь улыбнуться, и на виду у автоматчика махнул рукой. — Эх, Аркаша… Миха-а…
…И бегут в зарешеченном вагонном окне прозрачные весенние перелески под голубым небом, проплывают, степенно разворачиваясь, будто устали они лежать под снегом и желают чуточку поразмяться, темные, набухшие влагой невспаханные поля. И ветер с воли гуляет по вагону, ворошит седые волосы молодых парней, гладит по запавшим щекам.
— Вишь, как оно получается, — сочувственно взглянул на молчаливого Аркадия бородатый и худой, как мощи, сосед. Помедлил немного, вздохнул. — Ядреный был дружок-то ваш… И этот, который братишка… Тот, что про море говорил нам, про германскую эль-сто сорок. Он тоже, по всему, ядреный парень. Не пропадут…
…Лагеря, лагеря, лагеря, лагеря… Псковский, Двинский, Режицкий…
Остановка. Концлагерь.
«Пленных не принимаем!»
И опять переругиваются колеса.
Остановка. Концлагерь.
«Не надо! Везите дальше!»
И гудок паровоза. И торопится, бежит весна в солнце и зелени по ту сторону зарешеченного вагонного люка. И пахнет свободой теплый ветер с воли.
Лужский лагерь, куда они попали в конце марта 1942 года, мало чем отличался от Псковского. Та же колючка, те же сторожевые вышки по углам и в центре, те же бараки. И разговорный ассортимент у охранников тот же — кулак, дубинка, сапог. Правда, к счастью, без «арифметики». Первые дни, обживаясь на новом месте, Аркадий и Михаил вели себя сдержанно. Это и определило их дальнейшую судьбу. Уверовав в благонадежность молчаливых парней, комендант «распределил» их в лагерь лесорубов, что находился близ шоссе на Псков, километрах в шести-семи от Луги. Режим у лесорубов был помягче. В этом лагере Аркадий и сошелся с Николаем Смирновым, бывшим танкистом, рослым, чуть грубоватым сибиряком. Человек большой физической силы, нелюдимый и на редкость уравновешенный, Смирнов внушал всем уважение к себе, а немцы его, пожалуй, даже побаивались. Аркадий сблизился с ним не сразу. Сначала старался почаще встречаться с ним в лесосеке, выискивал работу где-нибудь поблизости, чтобы при случае можно было перекинуться со Смирновым фразой, другой. Оба вскоре привыкли к такому соседству. Их первые разговоры носили самый безобидный характер и сводились обычно к житейским делам: жидкой брюквенной похлебке, одежде. Аркадий подметил, что всегда во время таких бесед возле оказывался Горбачев, денщик начальника участка. Сухонький, большеголовый, он тушканчиком замирал в тени кустов или за стволами и ловил каждое слово. В лагере все знали, что по наущению фельдфебеля Отто Горбачев занимается слежкой и наушничает. И, надо сказать, проделывал он это мастерски. Даже сама природа позаботилась о том, чтобы показать истинное призвание Горбачева: подбородок, губы и кончик носа клином выступали вперед и придавали денщиковской физиономии форму острой собачьей морды, а крупные уши, торчком прилепленные к треугольному черепу со скошенным лбом, как нельзя кстати дополняли это сходство.
Горбачев не был дураком, все понимал и осторожничал. И все же судьба подкараулила его близ делянки, где работали Аркадий, Михаил и Николай. Подпилив толстокорую сосну, они обрушили ее на расчищенную площадку и, прежде чем взяться за обрезку сучьев, присели на ствол передохнуть. Было душно. Согретая солнцем влажная земля парила. Вытирая пот, Аркадий заметил среди листвы физиономию Горбачева, не спеша поднялся и, озабоченно осмотрев пилу, громко сказал:
— Подправить бы надо. Мастер у себя?
Но к дощатой сараюшке, где всегда торчал Отто, Аркадий не пошел. Углубившись в ельник, он круто повернул в сторону, прихватил с куста брезентовый дождевик, который по утрам оберегал фельдфебеля от холодной росы, и, зайдя сзади, накрыл этим плащом Горбачева с головой, заткнув разинутый было рот комком промасленной ветоши. Синяки и шишки, полученные «в темную», не пошли Горбачеву впрок, но зато окончательно сблизили Аркадия с Николаем Смирновым. Теперь они говорили обо всем откровенно.
Мысль о побеге подал Аркадий. За время боевых полетов над Псковщиной он достаточно хорошо изучил местность и при нужде мог разработать безопасный маршрут. Нужда такая приспела, и Аркадий начал деятельно готовить товарищей к побегу. Объяснял им, как ориентироваться по солнцу, по густоте древесных крон, по мху на стволах, по звездам…
Дождливой ветреной ночью все население второго барака покинуло лесной лагерь. В пустой темноте жилья глухо мычал привязанный к столбу Горбачев да шуршали дождевые капли, врываясь через выставленное окно.
Группы, сколоченные загодя, распались. В ненастной ночи потерялся и Николай Смирнов. Аркадий с Михаилом остались вдвоем. Холодное серое утро настигло их далеко от лагеря на пути к озеру Ильмень.
И потянулись дни… Нет, они были вовсе не такими, как тогда в зимнем лесу под Новосельем. Голодно. Но ведь свобода! Холодно и сыро. Но ведь свобода! Хочешь есть — отыскивай, пожалуйста, сладкий мучнистый корень. Он питательней брюквенной бурды. Хочешь согреться — пробежись, спляши вприсядку, и никто не ткнет тебе под ребра автоматом. Дождь сеялся до полудня. Небо просветлело. Теплый ветер обсушил траву. Зашелестели ветви сосен и елей. И не вкрадчиво зашелестели, не льстиво, как там, под Новосельем, а по-весеннему мелодично и приятно. Свобода!
И они наслаждались свободой, впервые, казалось, по-настоящему прониклись неповторимыми красотами природы. Им нравилось встречать утренние зори. Задолго до рассвета забирались они в самую глушь, ложились на хрусткую прошлогоднюю траву и, глядя вверх, ждали. Темнота была непроницаема. Но вот в ней чуть прорезались, даже не прорезались, а лишь слегка определились неясными контурами кроны деревьев. И по мере того как выцветало небо, они все наливались и наливались густой, темной краской, простирали над землей ветви, как руки, ладонями вниз. А когда розовели просветы между ветвями, хвоя зеленела. Утренний ветер принимался ерошить иголки. Солнце — вот оно, солнце! И пробуждались птицы.
Таким свиданием с зарей встретили Аркадий и Михаил пятые сутки лесных скитаний. Поприветствовав первый луч, они умылись по пояс из холодного ручья и, взбодренные, размашисто зашагали по чащобе. Утренний лес оживал. Еще крепче запахло прелым листом, грибами, травой… На открытых, солнцу полянах расправились венчики цветов. А над болотистыми низинами пока еще слоился туман. Он, казалось, парил над кочками, над камышами, над водой заросших хвощами бочажин. В синеве плавали облака, сбиваясь в плотную стаю.
К полудню в лесу стало душно и тихо, а вскоре брызнул мелкий и, судя по осевшему к земле серому небу, затяжной дождь. Еще не просохшая по-настоящему почва раскисла и, почавкивая, плыла под ногами. Но Аркадий держался этой узкой скользкой тропы, шагал по ней, оглядываясь на Михаила. Подул свежий ветер и принес запах большого водоема: где-то близко был Ильмень.
— Озеро, — сказал Аркадий, попридержав шаг. — Дышит озеро.
В шелесте дождя послышались голоса.
— Миша! — Аркадий бросился с тропы в кусты и пополз, вжимаясь всем телом в мокрую траву. — Это немцы, Миша, немцы… Давай к болоту, к камышам…
Сквозь серую пелену дождя пробивались навстречу им огни карманных фонарей. Аркадий круто метнулся в сторону — огни, в другую — огни. Кольцо! Аркадий повернулся на бок и, не вставая, виновато посмотрел на Михаила.
— Точка, — сказал, — все.
Лицо у Михаила стало жалким, губы запрыгали. Размазывая по мокрым щекам грязь, он поднялся в рост и закричал:
— К черту!.. Вот он — я, вот! Идите, хватайте!..
Аркадий встал рядом, встал плечом к плечу.
6. ОДИН НА ОДИН
Их разлучили в центральном лагере города Луги, разлучили сразу. Михаил был избит и брошен в карцер. Аркадий был тоже избит, но бросили его в арестантский вагон пассажирского поезда, следовавшего до Риги. Солдаты не церемонились, они швырнули Аркадия на пол. Но Аркадий не чувствовал боли, он как бы одеревенел. Кто-то склонился, бережно приподнял его разбитую голову и, заглядывая в лицо, спросил:
— Больно, друг?
Он промолчал.
— Место для тебя мы сготовили. Поднимайся.
Он попытался и не смог.
— Взяли, ребята! Под руки, под руки бери. Не дергай: изломан человек.
— Не иначе за побег его так…
— Ты не дергай!
На полке, куда его заботливо уложили товарищи по несчастью, Аркадий немного пришел в себя. Уставившись неподвижным взглядом в раскачивающийся потолок, по которому время от времени проскальзывали тени мостовых ферм, ажурных столбов, семафоров, он не думал, а грезил. Мысли воплощались в красочные картины. И Аркадий видел все-все. Командир полка дает задание. «Желаю успеха, лейтенант. Не удачи, а успеха…» «А нам с тобой, Миша, — думал он, — как раз и не хватило этой удачи», — и увидел избитое в кровь лицо со слипшимися на лбу волосами. Потом посетил конференц-зал. В нем собрались все. Хоть по фамилиям перечисляй: Сбоев, Новиков, Колебанов… А это горит станция. Депо рухнуло. Огонь и дым. «Эль-сто сорок» расстреливает шлюпку с людьми. Николай в шеренге военнопленных… Фонари, фонари, как волчьи глаза… Бред кончился под утро. Аркадий выпил жестянку воды, смочил голову и до Риги не проронил ни слова. Молчал он и в «черной берте» — крытой арестантской машине, доставившей его в тюрьму.
Двадцать восьмая камера. Каменный мешок два метра в длину, полтора в ширину. Откидная койка, бетонная тумба. В толстой стене, под самым потолком — окно-амбразура. Решетка. Клочок голубого неба. Металлическая дверь с глазком для надсмотрщика. В коридоре гулко отдаются шаги кованых сапог — часовой. И звуки шагов будто вонзаются в мозг. «Первый, второй, третий… Арифметика, кто тебя придумал?! Кто!?» Ночь Аркадий провел в бредовом полусне.
Утром его повели на допрос. В обширном кабинете, у стены, под портретом Гитлера, стоял единственный стол, за которым пожилой лысеющий офицер не спеша перебирал бумаги. Он взглянул приветливо, улыбнулся и, надувая чисто выбритые щеки, сделал широкий жест в сторону стула.
— Битте.
Аркадий сел. Следователь не торопился. Изредка поглядывая на угрюмое лицо Аркадия, он достал из коробочки пилку для ногтей и сосредоточенно занялся мизинцем. Закончив маникюр, достал расческу, подравнял на лысине редкие волосы и спросил:
— На перегоне Уторгош — Батецкий был подорван воинский эшелон. Что вы имеете сказать по этому поводу? — Немец безукоризненно говорил по-русски.
— Я там не был.
— Превосходно. Тогда расскажите о побеге из лесного лагеря?
— Я там не был.
— Превосходно. — Немец пожевал губами, подумал немного и позвонил.
Вошли штатский благообразный седой мужчина в черном костюме с золотым пауком свастики на лацкане пиджака и два солдата с резиновыми дубинками в руках. Штатский, кивнув следователю, прошел к окну, раздвинул на подоконнике цветы и легким толчком ладони распахнул створки.
— Schweigt er?[8]— спросил, не оборачиваясь.
— Er wird reden[9].
Солдаты сдернули Аркадия со стула, завернули руки за спину и подвели к кушетке. Клеенка на ней была холодная и липкая. Аркадий лег лицом вниз, закусил губу. Первый удар дубины пересек спину огнем. Второй был уже не так страшен. По привычке Аркадий «занимался арифметикой» и прислушивался к разговору следователя со штатским. Тот, похохатывая, рассказывал:
— Erna, schützt mich vor der hiesigen Kälte. Sieh mal, was für eine warme Bauchbinde sie geschickt hat. Kamelhaarwolle. Fürsorge… Liebe…[10]
Аркадий одернул рубаху, пиджак и, пошатываясь, приблизился к стулу.
— Битте! — пригласил следователь. — На перегоне Уторгош — Батецкий был подорван воинский эшелон. Что вы имеете сказать по этому поводу?
— Я там не был.
— Превосходно. Тогда расскажите о побеге из лесного лагеря?
— Я там не был.
— Превосходно. Ганс!
Дубинки не жгут, а кромсают живое тело. На клеенке расплылись кровяные лужицы.
— Meine Erna glaubt an die ewige Liebe. Für siebin ich Mönch![11] — рассказывал следователь штатскому.
…И всю неделю «перегон Уторгош — Батецкий», и всю неделю «лесной лагерь», и всю неделю «Ганс!».
Аркадий и бровью не повел, когда во время одного из допросов в кабинет следователя вошел, кланяясь, Горбачев. Он было бросился к Аркадию, протянув руки, но, натолкнувшись на холодный взгляд, остановился шагах в двух.
— Вы знакомы? — спросил следователь.
— Как же, господин офицер! Мы очень даже знакомы! — Заторопился Горбачев. — Очень даже, — и к Аркадию: — Ты же был верховодом. Ну? Меня в лесосеке избил. К столбу меня привязал. Смирнова ты сговорил бежать. Вспомни! Весь лесной лагерь взбаламутил!
— Я там не был, — сказал Аркадий и непритворно зевнул. — А встретил бы где такого подлеца, как ты, задушил бы.
— Ганс!..
…Очные ставки следовали одна за другой. Знакомые ребята, бежавшие из многочисленных концлагерей, разбросанных на Псковской земле. Взгляд на взгляд с ними. И твердый их голос — ответ каждого:
— Я его не знаю.
И ответ Аркадия при каждой встрече с такими:
— Нет. Впервые вижу.
Незнакомые люди горбачевского склада то наглые, то льстивые.
— О-о! Господин офицер, это же тот самый, это наш командир. Мы были с ним в партизанском отряде под Уторгошем. Он! — и Аркадию: — Брось, командир, запираться: им все известно.
Честь, совесть! Неужели и вас можно превратить в товар?
В тот день Аркадий был избит до бесчувствия. В двадцать восьмую камеру его не понесли, а, отомкнув ближайшую, не заботясь, швырнули в двери прямо на окровавленного человека. Собрав остатки сил, Аркадий скатился с податливого распростертого под ним тела к стене и, прижимаясь горячим лбом к холодному отсыревшему бетону, слушал бессвязный, прерывистый бред. Сосед задыхался. В груди у него булькало, хрипело. Стараясь разобрать горячечные слова, Аркадий напрягал слух, придерживал дыхание. «Что, что он говорит?! Как-будто…» И, вскрикнув от боли, Аркадий заставил себя сначала сесть, а затем повернуться к соседу. Растерзанное лицо того было сплошной раной. Он шептал, этот сосед, шептал как заклятие: «Эль-сто сорок, эль-сто сорок… эль-сто сорок…»
Умер моряк с «Сиваша» под утро.
7. КРЫЛАТЫЕ БЕГЛЕЦЫ
Разговор по душам, когда говоришь, что накипело, говоришь без боязни, — зная, что тебе сочувствуют, — это приятно. А разговор по душам с самим собой, когда ты задаешь вопросы, ты отвечаешь на них, ты сам и осуждаешь себя и сочувствуешь себе, — это на грани безумия. В одиночке нельзя разговаривать вслух, нельзя ходить, если тебя держат ноги после очередного допроса, нельзя лежать на полу. Можно только сидеть на бетонной тумбе и — этого немцы запретить не в силах — думать. «Николай. Жив ли он? Михаил. Жив ли он? Комиссар Кабаргин расстрелян. Моряк с „Сиваша“ замучен гестаповцами… Ты остался один, Аркадий, совсем-совсем один. Скоро и твоя очередь. Ты устал. Для тебя смерть — избавление, счастье. Так?» Но Аркадий гнал от себя эти мысли, боролся с ними, возражал гневно самому себе: «Не раскисать! Надо выжить, надо!»
Месяц допросы, очные ставки и размышления в одиночке. Второй и третий месяцы размышления в одиночке, очные ставки и допросы. Ничего не смог добиться следователь от «упрямой русской свиньи», что молчит под пытками, от которых и железо бы расплавилось. Аркадий потерял надежду вырваться из пекла… Это случилось совершенно неожиданно. Ночью щелкнул замок. Дверь одиночки распахнулась. Тюремный надзиратель грубо вытолкнул Аркадия в коридор. Два солдата, один впереди, другой сзади, вывели его в тюремный двор к «черной берте».
И вот он — Рижский лагерь № 350 для русских военнопленных.
Во многих лагерях побывал за полтора года Аркадий, и всюду режим одинаков. Иногда только «господа начальники» вносили в этот режим некоторое жестокое разнообразие. Рижский лагерь отличался «гуманным» отношением к заключенным: их расстреливали за городом. Но все чаще и чаще военнопленные испытывали радость. С воли проникали в лагерь известия, что немцев отбросили от Волги, от Курска и Орла, что катятся они на запад. Конечно, по вымуштрованным гестаповцам, по внешне невозмутимым охранникам нельзя было определить, как там на фронте — хорошо ли, плохо ли сегодня, но факт, что военнопленных стали широко использовать, на оборонных работах, говорил о многом. В лагере № 350 тоже сколотили строительные бригады. На подступах к Риге они рыли траншеи и противотанковые рвы, сооружали дзоты.
Однажды бригаду, в которой работал Аркадий, направили на Рижский аэродром. Аркадий ковырялся в земле и с завистью смотрел на широкое летное поле. С него один за другим уходили в небо самолеты. Гул моторов пробуждал и воспоминания горькие, но приятные, и тоску, и… Аркадий едва сдерживал слезы. На яму вдруг надвинулась тень. Аркадий вскинул голову и увидел незнакомого молодого парня в замасленном комбинезоне. Тот присел возле ямы и, щелкнув пальцами по черенку лопаты, рассмеялся:
— Глубоко не рой: там внизу — Америка! Откуда?
— Из лагеря, — ответил Аркадий, берясь за лопату.
— Это я и без тебя знаю, что из лагеря. Родом откуда?
— Родился на Урале.
— Тю-ю-ю! Так мы оказывается земляки? Я — ленинградец! — и опять засмеялся. — Давай руку. Владимир Крупский, бывший сержант пехоты.
Они познакомились, разговорились. С того дня Владимир стал навещать Аркадия. Старший из немцев поначалу придирался, покрикивал на гостя, но, узнав, что тот работает на аэродроме, смилостивился и смотрел на эту странную дружбу сквозь пальцы. О многом рассказал Крупский новому товарищу в ответ на доверительную исповедь Аркадия о своих скитаниях по лагерям.
— Вместе бы нам быть, — сказал он как-то. — Я, Аркадий, постараюсь перетащить тебя на аэродром. Как?
Аркадий чуть было не закричал от радости, чуть было не выдал своего волнения.
— Хорошо было бы, — ответил сдержанно. — Вместе и горе меньше.
Дня три после этого памятного разговора Владимир не появлялся. Аркадий уже и надежду потерял свидеться с ним. Казалось, лучик счастья, сверкнув и ослепив, угас безвозвратно. А самолеты гудели призывно, проносились над головой…
Второго сентября утром, когда, прибыв на место работы, бригада выстроилась за инструментом, к Аркадию подошел Владимир и, наскоро пожав руку, сказал:
— Пойдем. Сватать тебя буду. Держись!..
Возле дощатой будки, где хранились лопаты, ломы и тачки, стояла открытая легковая машина. Худощавый узколицый немец в авиационной фуражке с высокой тульей, развалясь на мягком сиденье, ощупывал взглядом Аркадия и постукивал длинными цепкими пальцами по лакированному черному борту дверцы.
— Этот, господин комендант, — говорил ему Крупский. Офицер смотрел на Аркадия не мигая и слушал. — Я знаю его, господин комендант. Фамилия — Ковязин, зовут — Аркадием. Первоклассный кочегар!
— Гут.
— Спасибо, господин комендант.
Пахнув бензинным перегаром, автомобиль умчался в сторону города. Счастливый Аркадий и слушал и не слышал Владимира. Но возможно ли это? Неужели это возможно?!
В лагере Аркадию официально объявили, что по личной просьбе коменданта аэродрома майора Келль он откомандировывается с завтрашнего дня в личное «господина майора» распоряжение. Этой ночью Аркадий не мог сомкнуть глаз, и длилась она бесконечно долго. Утром его привезли на новую работу. Инженер Хохрейтор дотошно выспрашивал о пребывании в плену, о гражданской профессии. И как раз к моменту выложил Аркадий в правдивом рассказе добрую науку дяди Леши Кобзева, показал себя перед инженером бывалым металлургом.
Старший подметальщик ангаров Лягушкин быстро ввел Аркадия в круг прямых обязанностей. Долго в этот день бродил Аркадий по ангарам с метлой в руках. Вокруг ни соринки, а он все бродил, все глядел на самолеты, вдыхал жадно запахи бензина и масла.
Угол Аркадию выделили в бараке. Крупский жил неподалеку тоже в бараке, но в отдельной каморке. Они стали часто проводить вместе вечера. Откровенные беседы укрепили Аркадия в мысли, что Владимир замалчивает, не договаривает что-то. Он не понуждал его, так как сам пока еще не решался рассказать о своем замысле.
Семнадцатого сентября Аркадий пришел на аэродром раньше обычного, вымел дорожку перед проходной, поболтал несколько минут с Лягушкиным и, зажав под мышкой метлу, направился к открытому ангару. Поле перед ангаром было свободно, и готовый к вылету «мессершмитт-109» смотрел из распахнутых ворот прямо на взлетную полосу. Аркадий огляделся — никого. Прислонив к фюзеляжу метелку, кошкой вскарабкался в кабину, включил все имеющиеся на виду кнопки, но мотор молчал. Пулей вынесся из машины. Бросало то в холод, то в жар. Руки дрожали. Долго не мог успокоиться, переживая неудачу.
Ночью, пригласив к себе Крупского, Аркадий рассказал все.
На другой день Владимир принес за пазухой комбинезона истрепанный немецкий авиационный справочник, по которому они выбрали подходящий для перелета тип машины и стали вместе готовиться к побегу. Все свободное время отдавали подготовке. Оба понимали, что вопрос жизни или смерти будут решать всего две-три минуты. Значит, малейшая оплошность грозила полной катастрофой. План захвата машины Аркадий разработал до мельчайших деталей. Прежде всего сам Аркадий должен был проследить, когда намеченный самолет заправят бензином и маслом, опробуют мотор. Выбрав удобный момент, известив Владимира, пробраться в кабину; Владимир, подбежав, должен выбить из-под шасси колодки и…
— Надо раздобыть оружие. А вдруг!..
— Оружие, Аркаша, я достану.
— Пистолеты бы и гранат парочку.
— Достану.
Аркадий назубок выучил схему запусков моторов и каждодневно «практиковался», наблюдая за летчиками. По их движениям в кабинах он мысленно прослеживал последовательность включения всех систем.
…Октябрьский день этот был на редкость погожим. Солнце грело по-южному. У метеобудки, на шесте, чулком болталась полосатая «колбаса». В небе, как рыбы в глубоком омуте, серебрились неподвижные облака. Аэродром обезлюдел: мотористы и техники ушли на обед. Аркадий приглядел подготовленный к боевому вылету самолет-разведчик. Машина была опробована у него на глазах. Вихрем ворвался он в кочегарку.
— Собирайся, Володя! Живо!
Владимир побледнел, засуетился.
— Сейчас, сейчас… Пистолеты надо вытащить, гранаты, — и полез в темный угол к трубам. — Здесь.
Твердой походкой шли через поле к самолету. В синих комбинезонах они не отличались от немцев-мотористов. У конторки ангара сидели техники, закусывали, пили молоко прямо из бутылок, разговаривали. Чуть поодаль солдаты складывали в кузов грузовика бумажные мешки. Один из солдат, посмотрев на «мотористов» из-под ладони, махнул рукой. Аркадий нашел в себе мужество ответить ему небрежным коротким взмахом. Кабина самолета показалась знакомой. Аркадий сел в пилотское кресло, оглядел приборы. Нажал кнопку, стартер. Винт — ни с места. Повторил все сначала. Тишина. Винт — ни с места.
— Ну, Аркаша? Что у тебя? — Владимир смотрел лихорадочно горящими глазами. Лицо было бескровным. Лоб усеян каплями пота.
— Где-то выключено. А где… — Аркадий быстро перебирал все рычажки и кнопки.
На приборной доске вспыхнула лампочка. На крыльях тоже загорелись сигнальные фонари. Аркадий волновался: еще минута задержки и — провал. Мимо проехал на велосипеде моторист, притормозил, прокричал что-то, указав на зажженные сигналы, и запылил к комендатуре.
Аркадий был поглощен только одним — завести, моторы.
Заметив с правой стороны на борту небольшой рычажок, он дернул его. Рычажок, спружинив, отскочил. Тогда, придерживая его, Аркадий давнул на стартер. Мотор чихнул раз, другой и… заревел, сотрясая машину. Завихрилась пыль. Лопасти винта слились в сверкающий диск.
— Летим, Володька! Летим!
Крупский ввалился в кабину.
А к самолету уже спешили встревоженные немцы. Они неслись через поле, кричали и размахивали руками.
— Битте! Битте! — вдруг заорал во все горло Аркадий, выруливая на стартовую дорожку.
Владимир тоже неистовствовал. Он смеялся и плакал. Выхватив пистолет, он стал стрелять в воздух, в бегущих немцев.
Машина уже оторвалась от земли и легла на курс 90 градусов. Под крылом проплыл пригород. Аркадий шел на бреющем. Высоко в небе пронеслись «мессершмитты». Вернулись. Дали круг. «Ищите, ищите!» Аркадий снизился еще. Шасси самолета почти касались деревьев. Колонна солдат на шоссе остановилась, наблюдая за «лихачом». Владимир легонько толкнул Аркадия в плечо, показал гранату-«лимонку» и, выдернув запальное кольцо, швырнул ее вниз.
— Битте! — весело крикнул Аркадий.
— Что? Не слышу? — Владимир приставил к уху ладонь.
— Правильно, Володя! Действуй! Аудентес фортуна юват! Правильно говорил Алешка Сбоев. Счастье помогает смелым!
Президиум Верховного Совета СССР Указом от 6 мая 1965 года наградил орденом ЛЕНИНА бывшего летчика Аркадия Михайловича Ковязина за мужество и героизм, проявленные им в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
Примечания
1
— В чем дело? (нем.).
(обратно)2
— Грязная скотина! Вы обратили внимание, Карл, что ваши полицейские из славян имеют тяготение к философии? К философии и шнапсу. (нем.).
(обратно)3
— Слышите, Карл? Господин Первач наносит урон вашим национальным кадрам? Впрочем, рекомендую не отчаиваться. Документ непременно передайте коменданту: весьма ценное для него приобретение. А это что за люди? (нем.).
(обратно)4
— Осмелюсь доложить! (нем.).
(обратно)5
— Карл, я любопытствую побеседовать с господами. Вы не возражаете, Карл? (нем.).
(обратно)6
— Хорошо. Ефрейтор, оставьте со мной бойкого. Тех пока выведите. (нем.).
(обратно)7
— Вот вам и Гельмут. Учитесь, Карл, самостоятельности. Вы говорите — партизаны. Армия это! В лагерь их! На станцию и в лагерь! (нем.).
(обратно)8
— Молчит? (нем.).
(обратно)9
— Заговорит. (нем.).
(обратно)10
— Эрна бережет меня от здешних холодов. Посмотри, какой теплый набрюшник она прислала. Верблюжья шерсть. Забота. Любовь… (нем.).
(обратно)11
— Моя Эрна верит в однолюбов. Для нее — я монах. (нем.).
(обратно)

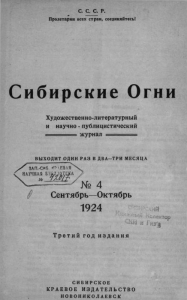


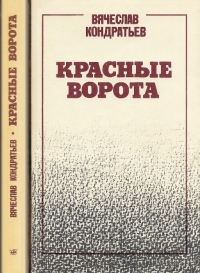
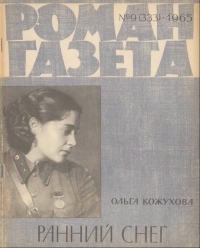


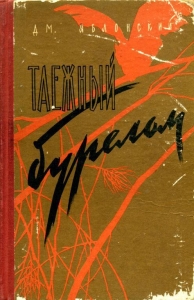

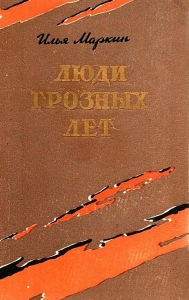
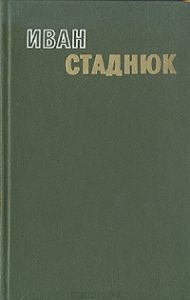
Комментарии к книге «Человек не устает жить», Владимир Николаевич Шустов
Всего 0 комментариев