Николай Алексеевич Раевский Добровольцы
© Раевский Н.А, 2018
© ООО «Издательство „Вече“», 2018
© ООО «Издательство „Вече“», электронная версия, 2018
Добровольцы
Все это было, было, было…
А. БлокЧасть первая
Тифозных в тыл не отправляли. Жалко было. Лазареты в станицах – почти верная смерть. Еще страшнее, если оставят где-нибудь на вокзале. Там живые вперемешку с трупами. Некому и воды принести.
Заболевали один за другим. Об одном просили командира батареи – только не в госпиталь. Так и лежали в хатах на берегу замерзшего Дона. Правая сторона – красная, левая – наша. Как бой посильнее – тифозных на подводы и в степь. Вечером – домой.
Когда началось отступление, то всех везли с собой. Были эти кубанские дни светлые и больные. С утра до вечера солнце и тишина, на вербах барашки и всюду тиф. Дороги сухие, накатанные до блеска. В станицах грязь по ступицу, злые лица и самостийные листки. Долой генерала Деникина, долой добровольцев! Да здравствует Кубань! Многоводная, раздольная. Угнетенная. Уставшая.
Ночевали по хатам иногородних. С ними спокойнее. Сами натерпелись от казаков. Не жалеют соломы. Берут наши бумажки с колоколом и георгиевской лентой. Даже больных не боятся.
Был стонущий бред, черные губы, провалившиеся глаза. Колотили по затылкам тифозные молотки. Ночью большевики лезли отовсюду. Из печей, из окон, из-под кроватей. Пытали, выводили в расход. Медленно вырезали погоны. Матюгались. Бросали в холодную воду. Сводило ноги. Сжимало горло. Стеклянные иголочки безжалостно кололи ладони.
Хуже всего было днем. На воздухе приходили в себя. Тряслись на подводах. С утра крепились, старались не стонать. К вечеру у некоторых текли слезы. Раз я даже видел, как расплакался терпеливый москвич Коля Сафронов. Взял меня за руку и начал всхлипывать.
– Господин поручик… скоро эта пытка кончится… лучше умереть…
Вечером я долго сидел около него на соломе. Коля потерял сознание. Стонал. Хватался за грудь. Я записал в растрепанный блокнот, купленный в Харькове: Сафронов – 39,7. Утром опять положили на подводу и повезли.
В станице Нижнестеблиевской началась моя дружба с Васенькой Шеншиным. Пришли поздно. Было темно, накрапывал дождь. Посредине улицы, в грязи, кто-то стоял и качался.
– Кто там?
– Канонир Шеншин, господин поручик.
– Вы почему не с больными?
– Не могу сам идти, а ездовой меня бросил. Говорит…
– Ну ладно, держитесь за меня крепче. Так почему он вас не отвез?
– Говорит – выздоравливающий и он не обязан. Вообще ужасно грубый. По матери ругается. Сегодня мне даже сказал, что всех добровольцев надо бы перерезать – и красных и белых. Из-за них вся война…
До переправы через Кубань смертей не было. Мучились, но поправлялись. Врачи даже говорили, что на воздухе тиф легче проходит.
Второго марта у моста через Кубань целую ночь ждали переправы. Две хаты на всех. В одной – здоровые, в другой – больные. К утру задохся милый наш поручик Тарасов. Сыпняк перенес. Где-то заразился дифтеритом. Доктор думал – ангина, а потом не достали сыворотки.
Командир решил всех отправить дальше по железной дороге. Мне поручил сопровождать теплушку. Привезти больных в Новороссийск. Погрузить на пароход. Либо в Крым, либо за границу. Даже лучше, если за границу. Пусть как следует отдохнут.
До вокзала было версты две. Торопились. Ехали рысью. Одна подвода развалилась. Поручика Вышеславцева пришлось переложить. Бредил. Руки дергались. Быстро шевелились грязные пальцы. Пел-кричал громко и хрипло.
– Смело мы в бой… пойдем… за Русь Святую…
Я не смог нащупать пульса. Больного покрыли буркой. Поехали дальше. Остановились около поезда минут через пять. Юнкер Савченко откинул бурку. Снял бескозырку и перекрестился. Поручик лежал оскалив зубы. Открытые глаза стекленели. Я отослал тело в батарею. Осталось двенадцать. Трое офицеров. Два выздоравливают. Один очень тяжелый. Шестеро добровольцев. Портупей-юнкер Сергиевского артиллерийского училища Михаил Савченко, кадет князь Владимир Ордынский, Николай Сафронов, Василий Шеншин, Михаил Дитмар, Сергей Гаврилов. Два фейерверкера старой армии – Александр Верещук и Павел Бураков. Один пленный красноармеец. В той же теплушке фельдшер и я.
…Пузатая екатерининская платформа постукивает уверенно и спокойно. Больные улеглись на уголь. Подложили под голову истрепанные английские мешки. Щурятся от солнца. Совсем жарко сегодня. Все теперь спокойны…
Я тоже сегодня могу спокойно лежать и думать. Давно уже так не было. Собственно, и я нездоров. Хриплю. Говорю с трудом. Миша Дитмар волновался за меня. Решил, что дифтерит. Оказалась простая ангина. Только все-таки в горле свирепая резь, мысли путаются, и невозможно заснуть.
Бегут по небу черные проволоки. Оседают. Опять взлетают из-за борта. Из горного леса пахнет прелыми листьями. Клубы пара цепляются за кусты. Кружится голова от солнца. Весна. На грабах зеленый пух. В оврагах грязный, умирающий снег. Поляны белые от цветов. Должно быть, анемоны. Коричневыми бесстрашными комочками перелетают через поезд какие-то птицы.
Все не для нас. Нам война, тиф и смерть. Катится железное колесо. Давит одного за другим. Никому не остановить его. Не изменить пути. Раньше, позже – все равно конец. Или надо бежать.
Легла на глаза золотая сетка. Искрится, дрожит. Просвечивает голубой огонь. Койка трясется. Пропеллеры ревут вовсю. Кроме них, ничего не слышно. Не боли так горло, все было бы хорошо. Летим в страну, где совсем не нужно воевать. Вечер. Реки розовые. По топазовым полям бежит крылатая тень. Надо крикнуть Васе, чтобы он застегнул ворот. Простудится.
– Господин поручик, вы спите?
– Спал.
– Сейчас приедем. Уже море видно.
– Зря вы меня разбудили. Далеко.
Между гор кусочек поблекшего залива. Солнца больше нет. Не разберешь, где небо, где вода.
– Вот оно, как выглядит, а я думал синее и всегда волны…
– А ты что, Бураков, в первый раз?
– Понятно, в первый – я же воронежский. Не начнись война – не то что моря, ни черта бы не увидел…
Приехать-то мы приехали, но не знаю, что будет дальше. Платформу велено освободить. Поручика Шестакова и Васю мы положили на дебаркадер. Остальные сидят, прислонившись к стене. Все забито, везде валяются больные…
Тринадцатое марта.
Над сонным морем белесый, прозрачный туман. Еще ни разу не было такого теплого утра. Можно наконец дать вшам последний и решительный бой. Надеваю летние галифе и гимнастерку прямо на голое тело. Пока буду у больных, жена рабочего выварит и суконный френч, и белье. В палаточном костюме и в шинели не холодно и легко идти.
Вот это называется номер…
Наша халупка совсем на отлете. Кругом сады, и все там было спокойно, а на улицах делается черт знает что. Красная конница уже взяла станцию Туннельную.
Город гудит, грохочет, стонет. Возвращаться поздно. Иду на вокзал. Скорость похоронная. На улицах пешие и конные реки. Больше всего казаков. Тысячи, десятки тысяч. Части, толпы, одиночные люди. Не то отстали от своих, не то сбежали.
Костлявые, лохматые верблюды осторожно переставляют мягкие лапы. Важные, спокойные животные. Ни до кого им дела нет. Идут один за другим, глухо звеня потемневшими колокольчиками. Головы высоко подняты. На ворохах разноцветных узлов скуластые желтые женщины с детьми на руках. Калмыцкий обоз.
Опасливо бредут по тротуарам городские бабы со свитками казенной желтой кожи. Рыжий бородатый капитан тащит тюк английских брюк с леями. Тяжело ему. На покрасневшем лице капельки пота. Тыкаются из стороны в сторону бесхозные лошади. Остались одни среди незнакомых людей и не знают, что делать.
Пулеметная очередь со стороны пристаней. Высоко. Люди и голов не поднимают. Колонна зеленых грузовиков. На радиаторах английские вымпелы. Настойчиво и злобно трубят. Трясутся, обдавая толпу бензиновой гарью. Розовый молодой майор, с только что выбритым подбородком, старательно крутит ручку киноаппарата. Все туда попадет – донцы с погонами и без погон, и калмыцкие верблюды, и капитан с брюками. Занимательный будет фильм. «The last day of white Novorossiysk» [1].
Уже два часа иду, а до вокзала еще не близко. Чем дальше, тем труднее. Казачьи лошади мешают. Сбились вдоль набережной в табун. Жадно смотрят вниз на голубую блестящую воду. Вытягивают морды.
Опять татаканье и пули над головой. Толпа затихает. Некоторые беспокойно смотрят вверх.
Должно быть, на станции раздают обмундирование. Охапками тащат слежавшиеся френчи, шинели с бронзовыми пуговицами, серые одеяла. Офицеры, солдаты, казаки, женщины. Седая маленькая старушка в сбившемся на сторону платке пытается унести штуку английского зеленого сукна. Ей цены нет по нынешним временам, этой штуке. Только старушка не донесет. Совсем выбилась из сил.
Последние лужицы тумана в низинах испарились. Горы стали близкими. В голубой воде дрожит слепящий солнечный столб. У пристаней курятся пароходные трубы. На внешнем рейде серый спокойный броненосец.
Корабль Его Величества «Emperor of India» [2].
– Господин поручик… а мы уже боялись…
– Тут пакгаузы разбирают, бери, сколько хочешь.
– Я вам шинель выбрал, а то у вас плохая.
– Обмундирования прямо до черта.
– Да ну его, обмундирование… я вот пойду насчет парохода, а вы не смейте никуда расходиться. Потом не соберешь.
Где его искать, этот пароход, да и придет ли…
Кажется, начинает везти. Пока на пристани почти никого нет. Один эпидемический лазарет. Доктора, сестры, человек сорок больных. Скоро должен подойти «Тигр». Нахожу старшего врача.
– Сколько у вас?
– Пятнадцать.
– Ладно, тащите их сюда. Только не опаздывайте. Не то вас затрут.
– Боже мой… они еще и вещей не сложили. Сидят и пьют молоко.
– Скорее… да выплесните вы его… хотя стойте… перелейте в кувшин, возьмем с собой… и живо, господа, живо.
Четверо лежачих, а носильщиков трое. Фельдшер, Ордынский и я. Нечего делать – в первую очередь поручика Шестакова. «Папаша», его ученик и красноармеец останутся пока в теплушке. Обещаю вернуться за ними через полчаса. До пристани около версты. Надо бы идти, как можно скорее, но невозможно. У юнкера Савченко распухли ноги, Дитмар от слабости задыхается, да и остальные немногим лучше.
Вероятно, на вокзале уже узнали о приходе «Тигра».
Из всех поездов повылезали больные. Идут через силу. Красные завалившиеся глаза, почерневшие губы. Руки точно из грязного воска. Медленно бредут вдоль составов. Цепляются за вагоны. Падают. Отдышавшись, кое-как поднимаются. Опять идут. Пехотный юнкер ползет на четвереньках. Растрепанная бедная дама ведет под руку полуодетого капитана. Он качается. То и дело валится на землю. Дама поднимает, уговаривает, плачет.
– Ну, родной мой… дорогой… близко ведь… совсем близко… обопрись о меня.
Через несколько шагов капитан опять валится. Глаза закрыты. Дама громко рыдает.
Дальше… дальше… все равно не можем помочь.
На путях разорванные мешки с медикаментами, кучи перевязочных пакетов. Красные резиновые грелки. Длинные ножницы. Ящичек от микроскопа. Телефонные аппараты.
Савченко идет понурый и бледный. Кажется, и про ноги забыл. Волнуется. Страшно смотреть, прямо страшно. Все было, и ничего мы не видели. Лавочка проклятая… Правда, ну как тут воевать.
На лесенке вагона солдат-корниловец. Ноги забинтованы. На щеках мокрые дорожки.
– Голубчики, возьмите с собой… до смерти буду Бога молить… два года воевал, а теперь бросают… Господи… возьмите!
У Миши Дитмара дергаются губы. Дальше. Б-у-ум… б-у-ум… В железную бочку бьют. Воздух раскатисто ревет. В горах перекатывается эхо. Четырнадцать дюймов. Сорок пудов.
Б-у-ум… б-у-ум… Из носовой башни «Императора Индии» желтые молнии. Большевики близко.
Перешли улицу. Зеленая гудящая толпа. Тесно, как в церкви на Пасху. Вот и пристань. Два офицера с винтовками.
– Ваш пропуск!
– Видите, у меня больные.
– Все равно, потрудитесь предъявить.
– Хорошо, сейчас.
Отвожу мою команду в сторону. Кто-то напутал. О пропусках и речи не было. Что же делать? Спорить бесполезно. До коменданта хороших две версты. Да и больных нельзя оставить. Была не была… Бланки с батарейной печатью у меня есть. Чернильный карандаш тоже есть. Готово.
– Савченко, рука не дрожит?
– Никак нет, только, как же…
– Разговоры после. Подписывайте за коменданта. Дитмар, вы за адъютанта. Так…
Гуськом продираемся обратно к караулу. Опускаем носилки на мостовую.
– Вот, пожалуйста. Был далеко запрятан…
* * *
Прекрасны вы, брега Тавриды,
Когда вас видишь с корабля…
А.С. Пушкин
Стоим на якоре против Феодосии. Город забит. Больных не принимают. Пойдем не то в Ялту, не то в Керчь.
Мише Дитмару, петроградскому гимназисту, хочется в Ялту. Там бабушка и у бабушки шесть домов. Белье, значит, можно будет переменить.
Другому Мише – юнкеру-сергиевцу – все равно. Пускай везут, куда хотят. Ночью был без сознания. Чудилось, что кругом большевики и пароход горит. Кричал, хотел бежать…
В трюме желтые сумерки. Вонючая парная жара. Вокруг лампочек туманные круги. Внизу вшивое людское месиво. Отросшие грязные ногти, патлатые головы, исхудавшие руки. Лежат, сидят на полу, бродят по проходам, цепляясь за стены и поручни. Ночью поручик-пехотинец сорвался в нижний трюм. Разбился насмерть. Уже похоронили. Обернули полотном, бросили в море. Комендантская команда дала залп.
К моим больным присоединилось еще пять солдат-артиллеристов. Все-таки вместе легче. Четверо полуздоровые. Ходят. У одного после сыпняка распухли ступни. Высокий, сгорбившийся от болезни гимназист. Едва выжил. Десять дней без памяти. Санитары, как водится, обобрали. Босой. От рубахи остались грязные лоскутья. Рваные зеленые штаны на голое тело. Когда нужно в уборную, ползет на четвереньках по захарканному полу. Лазаретная прислуга вся осталась в Новороссийске.
Устроил сбор в пользу раздетого. Нашлись старые ботинки и фуражка. Калмык-ездовой вынул из толстого мешка коричневые колониальные трусики. Улыбнулся.
– На! Моя много имеет.
…Из гавани вынеслись два длинных миноносца. Прошли мимо нас, развели волну. Медленно прижались к бортам «Императора». Темнеет. На палубах вспыхнули электрические гирлянды.
Странное дело – море давно успокоилось, а «Тигр» все качается. Палуба уходит из-под ног. Не могу стоять.
– Господин поручик… что с вами?
Нет, пароход ни при чем. Это я качаюсь. Лампочки надоедливо режут глаза. Надо пойти в трюм отдохнуть.
– Что, доктор, тиф?
– Самый настоящий… Вы же видите, какая сыпь. Ну ничего, поручик, организм молодой, выдержите. Кажется, у вас тут свои люди. Поухаживают.
Должно быть, зараженная вошь укусила меня, когда вез больных в Новороссийск. Как раз по времени выходит. Слава Богу, что не раньше. Попался бы большевикам. Да и не я один.
В Керчи устроил больных в лазарет, остался с ними ночевать. Деваться было некуда, и сильно болела голова. Утром с трудом встал.
Ничего не поделаешь, приходится болеть.
Какое-то училище. Актовый зал. Длинный, светлый. Окна выходят в сад. На стенах цветные таблицы. Одежда и вооружение римских воинов. Нас, больных, человек полтораста. Все новороссийские. Лежим прямо на полу. Кроватей нет, и вообще ничего нет. Ни одеял, ни кухни, ни санитаров. Паркет загажен. У некоторых дизентерия. Ослабели, не могут встать. Хорошо, что у меня почти пропало обоняние. Иногда только чувствую. Васю Шеншина от вони мутит.
– Ну что, наседка, хлопотала, хлопотала да и сама свалилась?
Надо мной наклонилась молоденькая докторша. Слушает сердце. Белый халат, белый чепчик. На груди приколот букетик подснежников. Каждое утро приходит в актовый зал. Не морщится – не то, что наша палатная сестра, завитая девица с лакированными ногтями. Осмотрит одного, другого, потом сама открывает окна. Волнами идет свежий мартовский воздух, и сразу легче дышится. Кружится голова. Слышно, как в саду на разные голоса поют дрозды.
Опять докторша ко мне.
– Лежите, поручик, лежите. Надо еще вашему молодому человеку легкие посмотреть.
Присела на разостланную шинель Коли Сафронова. У него вдруг румянец. И уши покраснели.
– Доктор… извините… извините… в ней вши.
– Знаю, голубчик… Уже переболела. Расстегнитесь…
…Завтра утром нас куда-то отправят по железной дороге. Теперь все равно. Пусть делают, что хотят. Только, чтобы не кричали и не трясли.
Серый туман. Вдали голоса.
– Господин доктор, посмотрите, пожалуйста, поручика.
– Сюда камфара и следите за ним, сестра. Пульс совсем плохой.
Так это они обо мне… Неужели умираю… Ничего не болит, только в груди пустота и очень холодно ногам.
Тяжелая шершавая рука гладит меня по голове. Открываю глаза. Где-то видел эти красные веки. Всыпали в рот порошок. Надо глотать. Шершавая рука по-прежнему на лбу. Становится легко и спокойно. Теперь понимаю. Это Миша Дитмар сидит, а это гимназист Гаврилов перевесился через спинку скамейки. Голоса звучат еле слышно, но я все разбираю.
– Господин поручик… господин поручик… вам надо только до утра дожить, а потом уже не умрете… Выпейте еще, ради Бога, выпейте.
Опять серый туман.
Поперек вагона солнечная перегородка. Дрожат светящиеся пылинки. От слабости трудно поднять голову, но на душе хорошо. Чувствую, что тиф кончился. Добровольцы обсели меня с трех сторон. Лица довольные.
– Разве это было вчера?
– Ну да, вчера…
– Теперь уже можно сказать – вы чуть не умерли. Ужасно за вас боялись. Сестра целую ночь сидела. Наверное, ничего не помните? Ну, слава Богу, слава Богу…
«Летучка имени генерала Витковского» [3] второй день стоит на станции Симферополь. Окна открыты. Не холодно, хотя на мне по-прежнему новороссийское одеяние. Летние галифе и гимнастерка на голое тело. В чем сел на пароход, в том и остался.
День тихий. В городе трезвонят колокола. На столике, покрытом газетой, стоят в два ряда крохотные желтые бабы с белыми сахарными головами. Между ними горка разноцветных яиц. Пасха. Вместо морковного чая пили настоящий кофей с консервированным молоком. Вообще, мы сегодня всем довольны – и сестрами, и погодой, и самими собой. Одно только грустно – Мишу Савченко сняли с поезда и отправили умирать в лазарет. Уже был без сознания.
Вечереет. За окнами бегут сады, усыпанные зеленым пухом. Проносятся розовые облака миндаля. Кое-где и черешни начали распускаться.
Я лежу на верхней полке. Напротив Миша Дитмар. Исхудавший, желтый, но тихо-радостный. Третьего дня ему стало лучше. Теперь едем в Севастополь, и, значит, все наладится. Даже перекрестился, когда санитар сказал, куда. Миша не стесняется креститься…
Монотонно погромыхивают колеса. Горы из фиолетовых стали лиловыми, потом совсем пропали в темноте. Уже ночь, но окон не закрываем. Совсем тепло. Пахнет цветущими садами. В вагоне тишина и полумрак. Пламя свечки в фонаре дрожит и мечется от весеннего ветра.
Судьба, все судьба… На этот раз уцелели. Не все, правда. Савченко уже, вероятно, нет в живых.
Приехали в Севастополь, и стало страшно. До сих пор не знаем, погрузилась ли батарея. Дивизия здесь. Значит, и наши должны быть тут… если не остались на пристанях.
Послал на разведку Сергея Гаврилова. Самый здоровый из всей команды.
Нужно, чтобы нас, как можно скорее, взяли из поезда. Иначе попадем в госпиталь, а об этом после Керчи и думать не хочется.
* * *
…Командир отправил нас поправляться в немецкую колонию верстах в тридцати от Кара-Наймана. Доктор больше никому не нужен. Если станет хуже – земская больница в двух верстах.
Батарея платит за каждого больного двести пятьдесят рублей в день. Совсем немного по крымским ценам – три номера газеты. Немцы кормят так, что даже Юра Горичев и тот до конца не съедает своей порции. Молоко целыми днями кувшинами, масло, чуть не по полфунта, копченая свинина, вареники с творогом. В Севастополе министры хуже едят.
Колония маленькая – одиннадцать дворов. Военных – кроме нас, никого, и в ближайших деревнях тоже пусто. На меня возложены обязанности коменданта. Они очень просты. Редко, редко приходится нарядить подводу для проезжающих господ офицеров.
В Кара-Наймане мой приятель, штабс-капитан Воронихин, сказал на прощание:
– Ну, советую поменьше думать об умных вещах и побольше лежать на солнце. Живите, как растения, и благо вам будет…
Вспоминаю этот разговор, когда мы всей компанией ловим в степи ежей. Больше всего их вокруг брошенного помещичьего сада. Идем гулять, каждый раз находим трех-четырех. Иногда попадаются и еженята. Удирают, быстро семеня короткими лапками. Тронешь сапогом, свертываются в колючие шарики. Шесть штук поселили в пустом сарае. Называется ежовой фермой. Хотим приручить, но пока что не выходит. Только молоко пьют охотно. Смотрим на ежей и друг на друга, смеемся. Будь это на людях, постеснялись бы впадать в детство. И господин капитан, и господа вольноопределяющиеся, и фейерверкеры императорской армии Бураков и Верещук. А здесь, в пятнадцати верстах от начальства, среди степи и после двух тифов нет никакой охоты изображать серьезность.
…В здешних краях много дроф. Пасутся в степи косяками штук по пятнадцать-двадцать. Хитроумные птицы. Идет татарин или телега едет – ничего. Подпускают шагов на двести. Людей в военном тоже не боятся. Эти не стреляют. Зато, если появится барин в зеленой шляпе, да еще с собакой – на полверсты не подойдет. Наша арба благонадежная. Толмачев, Патронов и я. На козлах татарин в черной бараньей шапке. Водит глазами по полю. Показывает кнутом. Одно стадо за другим. Не торопясь, бегут от дороги. Пшеница низкая, долго видно. Шеи держат одинаково. Точно плывут по зеленой воде…
* * *
Контрольный пункт.
– Господа офицеры, предъявите ваши удостоверения.
У меня общее. Четвертушка тонкой серой бумаги. «Предъявители сего… по приказанию командира 1-го Армейского корпуса действительно командированы в гор. Севастополь в Артшколу для прохождения курсов, что подписью и приложением казенной печати удостоверяется». Начальник дивизии и начальник штаба. Теперь строгости. Раньше выдавал командир дивизиона от своего имени.
Перед моей фамилией аккуратная подчистка. В управлении бригады как раз получен приказ о производстве в капитаны. Поздравили и вытерли «штабс». В один месяц два чина. Предыдущий выслужил давно, но вовремя забыли представить. Не до того было. Погон с четырьмя звездочками так и не успел купить.
В Симферополе еще раз контроль. На станции Макензевы Горы опять. Подпоручик Толмачев доволен.
– Вот это порядок, а то, помните, в прошлом году… Катались, кто куда хотел. Действительно, было безобразие… Отчего вы смеетесь?
– Так, дело прошлое… История одной командировки. Чего это вы покраснели? Не о вас же…
* * *
Михайловская батарея, третий каземат. Толмачев и Патронов в пятом.
Все одинаковые. Наружи крымское лето, от белых известковых скал банная жара. Блестит вода, блестят битые бутылки на набережной, мягкое пыльное шоссе и то блестит. Войдешь к нам – подвальная прохлада, свет, как в старинной тюрьме. Стены больше сажени толщиной. Окна-амбразуры. Солнце мало когда добирается. Зато, только проснемся, видим открытое море. Прищурить глаза – светлые прорези, точно три одинаковых картины на сером сукне. Красивее всего, когда небо ясное и ветер. По сине-зеленой равнине пенистые борозды. Иногда каждая амбразура по-своему. В одной – фелюга под парусами, в другой – длинный дымящийся миноносец.
В стены ввинчены тяжелые железные кольца. Они еще старше. Искусаны ржавчиной. Толмачев решил, не иначе как для преступников. На самом деле просто крепили канатами лафеты пушек, обстреливавших вход в гавань. В те времена они не были такие ручные, как теперь. Бухнет и поехала назад. Недаром в артиллерию брали самых сильных рекрутов.
Питаемся плохо. Мясо дважды в неделю. Все время чувствуешь желудок. Пустота. У многих на лекциях кружится голова. Мы почти все после тифа. Школьное начальство не виновато. Что ни делай, на казенный отпуск досыта не прокормить. Увеличить жалованье – поднимутся цены.
Черный хлеб, чай без сахара, опротивевшие блинчики с капустой. Тонкие. Немножко смазаны кислым молоком.
Желающие офицеры тыловых управлений и учреждений по ночам подрабатывают в порту. Разгружают пароходы со снарядами. Это разрешено. Жены приносят еду. Говорят, одна встретила между вагонами высокого военного в черкеске. Спросила, как пройти к берегу. Разговорились.
– Вот бьемся, бьемся, а кончится тем, что Врангель нас бросит…
Военный нагнулся, поцеловал руку.
– Нет, сударыня, не бросит!
Узнала главнокомандующего. Расплакалась.
Кто учится, тому работать некогда. Когда смотрим на витрины гастрономических магазинов, ругаться хочется. И смешно и обидно. Все не для нас. Рождественские мальчики. «Молодые» иногда злятся всерьез.
– Пожили бы так господа рабочие… Получают в десять раз больше, ничем не рискуют, и еще забастовки. Попробовали бы у красных…
Днем в классах и мастерских. Вечером у себя, в казематах. Опять таблицы стрельбы, задачи по артиллерии, знаменитые кривые, вычисленные французским генералом Персеном. Втянемся, легче будет. Пока едва остается время, чтобы выкупаться. Вода в бухте теплая, как подогретое вино. Прыгнешь с парапета за батареей, и сразу заботы прочь…
* * *
Вечер двадцатого июня. На приморском бульваре концерт. В белой раковине, обведенной слепящей каемкой лампочек, зеленые френчи музыкантов.
Adagio lamentozo. Последняя часть шестой симфонии Чайковского. Послушные скрипачи, прижавшись щеками к колодкам, длинными истовыми взмахами оплакивают неудавшуюся жизнь. Все разом бархатно вздыхают валторны. Примирились. Все равно не помочь. Судьба. Двери отворяются. Тихо гудят контрабасы. Идет смерть.
Юнкер Казаков стоит, наклонив голову. Из-за воротника гимнастерки поднялась белая, необгоревшая кожа. Левой рукой оперся на спинку скамейки. Линко старательно следит за печально кивающей палочкой дирижера. Поглядывает на программу.
Скрипки чуть слышно всхлипнули. Кончилось. Юнкера зааплодировали не сразу. Вдруг только пауза. Господин во фраке неторопливо обернулся. Площадка оглушительно затрещала. Вольноопределяющийся гусар в краповых чакчирах, прикрыв рот, рявкнул себе под ноги:
– Браво, Сла-атин! [4]
В первых рядах вырвались женские голоса.
Идем на берег. Надо размять ноги – программа по случаю бенефиса длинная, во втором отделении поет Собинов, а на сидячие места ни у сергиевцев, ни у меня денег не хватило.
От моря теплая сырость. Разогревшиеся за день кипарисы терпко пахнут смолой. На серебристом небе пушистая чернь морских сосен. В аллее красные огоньки папирос то останавливаются, то чертят короткие быстрые дуги. Платья проплывают неопределимой формы пятнами. Говор. Сдержанный офицерский смех. Друг друга не видим. Одни голоса.
– Так вот, господа, – нельзя нашему брату музыку слушать. Развращающе действует…
– То есть почему развращающе?
– Перестает хотеться воевать.
– Вздор, Казаков… музыка – музыкой, война – войной.
– У кого как… говорят, когда были в Киеве, один вольнопер из-за этого застрелился. Приехал с фронта, пошел на «Сказки Гофмана», а ночью хлоп… Оставил записку – воевать больше не могу, быть дезертиром не желаю.
– Кто-нибудь сочинил для чувствительности… Теперь таких людей нет.
– Уверяю тебя, правда.
– Тогда, значит, больной!
– А ты думаешь, мы все очень здоровые? Один у другого не замечаем…
Электрическая каемка вокруг белой раковины опять горит. Линко, терпеливо скучавший во время симфонии, довольно улыбается. Никогда не слышал Собинова.
Все благо: бдения и сна Приходит час определенный, Благословен и день забот, Благословен и тьмы приход…Жаль, без грима. Пожилой человек со складками вокруг рта. На висках заливы. В лейб-гвардии Сводно-конном полку сын-корнет. Юрий Леонидович[5]. Тоже старше Ленского.
В прошлом году «Вертера» было грустно слушать. Тусклый, стареющий. Сегодня, как до войны. Только не смотреть на эстраду.
И память юного поэта Поглотит медленная Лета, Забудет мир меня…Идем ко входу на Нахимовскую площадь… Похрустывает гравий. Звякают юнкерские шпоры.
– Господин капитан, скажите по совести – разве не развращает? Либо рассказ Лоэнгрина, либо война…
– Вам, Казаков, когда надо явиться в училище?
– Не позже часу.
– Значит, вагон времени… Переедем на ту сторону – выкупаемся. У нас отличное место около Михайловской батареи.
Пришлось нанять ялик. Катеров уже нет. Перевозчик не торопится. Поскрипывают уключины, мерно опускаются весла. Черная вода при каждом ударе вспыхивает бледными огоньками. Казаков опустил в море руку. За ней тоже бежит светящийся след.
С добровольцами-матросами встречаюсь мало. Часто слышу разговоры о них. В плохую погоду жалеют, особенно те, кто боится морской болезни. Сиди все время на корабле. Наверное, в кубриках повернуться негде. Насандаливай разные рукоятки, мой палубу. И самое главное, качка. Не служба, а даже и не сказать что. Должно быть, оттого старые матросы и стали такой сволочью.
Когда на солнце градусов сорок пять тепла, а гавань, как пруд, говорят иначе. На суше жарятся в толстых суконных френчах. Летнего обмундирования мало. Завидуют полуголым и босым.
– Какая же это, к чертовой матери, война… Полная безопасность, жратва на ять, с утра до вечера солнечные ванны… Плавучая санатория – стоит на ряжки посмотреть.
– Ловчильня… Там, кроме офицеров, и моряков-то настоящих нет. Знаю великолепно… Возьми – наши киевляне-реалисты… Целая компашка… В прошлом году служили в канцелярии, а надоело воевать – айда на броненосец. Кочевники… У одного брат – пехотный поручик. Теперь кочегаром… Выдал он себя за унтера – только чтобы приняли. Документы порвал. Тоже тип…
Всякий раз, как сухопутные добровольцы начинают при мне ругать морских, всегда вступаюсь за босоногих и полуголых. «Ловчилы» на кораблях есть, но пусть мне скажут, где их нет. Раз война, значит и уклонение от фронта. Людей не переделать.
На счет удобств и безопасности тоже не мешает потише. Особенно на миноносцах и мелких судах тяжело. Убитые, утонувшие, изувеченные, обваренные паром. Зимой в Азовском море недалеко от Геническа затерло две канонерки и ледокол. Четыре месяца в стальных коробках среди льдов. Ни угля, ни хорошей пресной воды. С берега обстреливали бронепоезда. Как погода получше – аэропланный налет. Несколько человек сошло с ума.
Дредноут «Генерал Алексеев» выходит в море редко. Не хватает угля для его огромных машин. Команде воевать почти не приходится, но севастопольцы должны быть ей благодарны.
Двадцать первого июня, только отслужили благодарственный молебен по случаю победы над Жлобой[6], загорелись передаточные артиллерийские склады в Килен-Бухте. Рядом стояли океанские пароходы, груженные снарядами. «Citta di Veneria» и «Саратов». Взорвись они, разрушило бы целые кварталы.
Видел, как охотники с «Алексеева» отводили транспорты на буксире. Грохочущая туча, стальной град и на кипящей воде бесстрашные хлопотливые суденышки.
Без флота Крым – местное предприятие. Не то бутылка, не то мышеловка. Благодаря эскадре существует южный фронт – от Одессы до границы Грузии. Большевики не смеют оголить Кавказа. Должны держать резервы по побережью двух морей. Где захотим, там и высадимся.
Списать на берег учащихся и пехотных офицеров – Черноморский флот кончится. Не пленными же пополнять команды. Кадровых матросов мало. Либо у красных, либо перебиты.
Кой-кого из морских добровольцев, «юнкеров флота», я все-таки знаю. Человек четырех. Один был гусаром, потом перешел в инженерную роту, оттуда – на дредноут. Кажется, ловчащийся. Двое служат на подводной лодке. Со второго класса гимназии решили идти в Гардемаринские классы. Еще в мирное время. Любят море и качки не боятся. Четвертого, артиллериста с миноносца, не понять. Похоже на то, что вообще не хочет воевать. Не трус, но надоело.
Работают все много. Переделать гимназиста или студента в матроса гораздо труднее, чем в солдата. Школы, команды, курсы, классы. Сложное существо военный корабль, а люди все новые. Морским офицерам отдыхать некогда. «Всевоенморобуч».
Поругивают еще моряков за то, что они, мол, важничают. Это правда. Одни слегка, другие больше. Вплоть до наклонности не замечать на улицах офицеров в маленьких чинах. Конечно, не «своих», флотских. Тем отдают честь старательно.
Многое делается по традиции. «Дерут нос» тоже по старому обычаю. Всегда настоящие матросы считали себя рангом выше солдат. Теперь-то разницы нет. Остается традиция, и она очень не нравится сухопутным.
Есть одно место, где армейцы и юнкера флота друг на друга не косятся. И об умных вещах там не говорят.
От Михайловской батареи повернуть на север, пройти мимо взорванных пушек, подняться на поросший тощей травой холм. Оттуда уже видно. Знаменитый Учкуевский пляж.
От сергиевцев, из их укрепления, еще ближе. Особенно через капонир северного фаса. Каменная обшивка рва кое-где обвалилась. Можно вскарабкаться. Это называется самотеком. Если преподаватель скучный, а переклички делать не любит, обязательно нескольких юнкеров на лекции не хватает. Купаются.
Бывает и так, что кто-нибудь из отделенных офицеров возьмет и явится на берег в казенное время. Как раз, когда занятия. Выход один – скорее в море и подальше от берега. Ходят на пляж и официально – строем с офицером и трубачом. Очень скучная история. Команду всегда уводят в самый дальний конец, где публики нет.
В черте города строгости. Женщинам полагается купаться не иначе, как в костюмах. Полиция следит.
Учкуевка бесхозяйная. Раньше была в ведении крепостной артиллерии и штатских обоего пола туда вообще не пускали. Теперь от одиннадцатидюймовок остались одни стальные пеньки и неизвестно, кто должен наводить порядок. Он, собственно, и не нарушается, но иностранные матросы в немалом удивлении. По вечерам приезжают со стационеров[7] на шлюпках. Медленно крейсируют вдоль берега.
До обеда ничего особенного. Купаются больше «настоящие» дамы. Скучные длинные рубашки из плотной материи. Мужчины без костюмов, но в приличном отдалении.
Ближе к вечеру, когда у военных нет занятий, съезжаются из Севастополя «ненастоящие». Весело и уверенно раздеваются, где придется. Деловито свивают чулки. Купальные костюмы произвольного образца. От заграничных цветных трико с вышитыми кошками и птицами до полотенца вокруг бедер. На некоторых совсем ничего.
Солнцу помогает горячий рассыпчатый песок. Белой кожи мало. У трех школьных солдат, вернувшихся из лазарета, да и то их спины уже ярко-розовые. Еще немного полежат – спать не будут. Больше всего одноцветно-коричневых. У бронзового поручика-авиатора между лопатками африканская чернота. Линко в мае обжегся и не может избавиться от пятен. Прозвали немытым леопардом.
Вперемешку с людьми свертки одежды. Мятые френчи, брюки с леями, матросские тельники, казенные подштанники с длинными завязками. Дамские платья сложены аккуратными квадратами. Внутри белье. Сверху туфли, начиненные мягкими роликами чулок.
Ветер спал, но море еще не успокоилось. После каждого вала на берегу белый пузырчатый след. Не успеет пропасть и опять по укатанному песку бесшумно и неожиданно далеко взбегает последыш разбившейся волны. В мятущейся воде загорелые руки. Моряки дальше всех. Головы, как черные мячики. Сухопутные поближе к берегу. Визг, крик, кого-то топят, схватив за плечи.
Пока в форме – все взрослые. Голяком – кто как.
…Курс кончился. Испытания все в один день. Утром в мастерских материальная часть. Потом на берегу бухты – упражнения с приборами. После обеда собрались в классе. Сдали тактику. Последним самый сложный курс – артиллерия с практическими задачами по стрельбе. Доски вынесли в сад. Поставили полукругом. За столом – начальник школы и комиссия. По черным полям бегали солнечные зайчики. Мешали писать.
– Благодарю вас, капитан. Достаточно!
Поклонился, щелкнул, как водится, шпорами. На следующий день выдали удостоверение. Перед отъездом на фронт пошел проститься с руководителями. Предложили остаться еще на месяц. Ставка считает, что в каждой бригаде должны быть офицеры, знающие стрельбу при помощи аэропланов. Открывается специальный курс. Практические полеты в авиационной школе. Если я здоров, советуют возбудить ходатайство.
Подпоручики Толмачев и Патронов тоже выдержали свои экзамены. Послал с ними рапорт командиру. По почте дольше и неверное дело. Через два дня получил телеграмму: «Разрешаю». Помечена: «Действующая Армия».
Полный газ. Пропеллер ревет. Больше нет толчков. Летим. На земле мчатся тополя и серые коробки домов. Замедляют бег. Уменьшаются. Старый учебный «Моран-Парасоль» понемногу набирает высоту.
Мир расплющился. Крыши красными прямоугольниками, кругом зеленые кружки деревьев. Вместо стогов желтые кляксы, обведенные серой натоптанной каймой. Мы не движемся. Висим на месте. За прозрачным целлулоидным козырьком ветра нет. Высунешься – ураган. Сразу слезы на глазах. Внизу медленно разматывается цветная, понятная карта. Наползло море. Нарисовано ультрамарином. Поля водорослей обозначены зелеными пятнами. Опять надвигается земля. По сторонам извилистой речки обозначена деревня. Паутина тропинок. Желтые кружки. Аккуратно оттененные гряды.
Рев оборвался. Малый газ. Звенят тендеры. Катимся с горы. В ушах свист. Летчик обернулся. Улыбается.
– Ну как?
– Отлично.
– Тогда поехали наверх.
Опять ураган. Хвост опустился. Карта разрастается. Масштаб мельче. Шоссе белой ниточкой. За невидимым автомобилем стелется пыльный след. В голубой бухте палубы детских корабликов. Поля двинулись в обратную сторону. Курс на север. На горизонте осколок стекла – Евпаторийское озеро. Города не видно. Прикрыт горой. Больше не поднимаемся. Летчик поднял руку. Махнул два раза. Две тысячи метров. Иногда бывает виден Перекоп. Сегодня нет. Бледно-сапфировая дымка. И осевший Чатырдаг тоже из сапфира. Все внизу. Кругом сверкающий воздух и ветер, какого не бывает на земле.
Мне приказано с боевой высоты нанести на карту окопы в долине речки Качи. Осторожно развернул верстовку, наклеенную на коленкор. Нашел. Острым карандашом вычерчиваю мелкие зигзаги. Смотрю внимательно. Думаю не о них. Маленькое наше государство. На земле незаметно, в воздухе жуть. Из конца в конец часа три на быстроходной машине. Дальше красные. До самого Ледовитого океана.
После рева шелест. Тендеры звенят. Мы на месте. Земля на нас. Фабричная труба вытягивается. Как раз навстречу. Целится в аэроплан. Бегут перевернутые тополя. Мотор недовольно фыркает. Люди на дороге. Ноги срезаны, но все равно люди. Баба в белом платке и солдат. Уплыли. Спрятались за пригорок.
Толчок. Еще толчок. Едем по полю. Летчик рулит к ангарам. Подбежали школьные солдаты. Рты открыты. Что-то кричат. Не слышу. С непривычки после скачка в два километра – глухота.
Старший инструктор показывает мастерские. Окна открыты, но все-таки жарко. Мотористы работают в парусиновых костюмах, надетых прямо на голое тело. Аэропланный лак пахнет грушами. На огромных столах разложены пружины, клапаны, валы. Стальной звон. Внимательные лица. Мальчик лет пятнадцати оттирает суконкой закопченный цилиндр.
Вышли на воздух покурить.
– Видели наших молодцов? Почти все политехники… Сами знаете – студенты теперь надежная публика. В нашем деле главное. Иначе не усмотришь. Щепотку песку в клапан, либо проколоть изоляцию и готово. Или вот еще способ… В семнадцатом году товарищи в отрядах специализировались на подпиливании тросов. Понимаете, чтобы офицерье не летало и не мешало мириться… Сколько таких случаев было. На земле, при осмотре, не заметят – в голову не приходило. Потом крылья складываются, и машина вдребезги…
Часть вторая
Опять в тылу. Колония Карлсруэ, обоз второго разряда, двенадцать верст от фронта. Моему орудию пришла очередь побыть в резерве, а орудийный начальник от пушки неотделим.
Люди довольны. Можно вымыться в бане, целую неделю спать, раздевшись догола, вставать, когда захочется. Только ездовым, как всегда, работы больше, чем номерам. Резерв или не резерв, а лошади должны быть накормлены и напоены вовремя. Два моих подпоручика откровенно блаженствуют. Костя Толмачев не лежал на кровати с тех пор, как выздоровел от тифа. Георгий Чехович даже не мог вспомнить, когда последний раз спал не на полу. Кажется, где-то в Орловской губернии осенью прошлого года. Они стоят вдвоем у богатого колониста. Хороший немец. Отлично кормит и не хочет брать денег. Даже молоко по утрам подается не снятое. Кроме того, у колониста четыре дочки. Три из них взрослые. Очень чистенькие на вид. Одеваются совсем как барышни. По вечерам, когда подоят коров, даже надевают чулки.
Солдаты разместились по трое. Тоже хвалят своих немцев.
Со дня на день должно начаться наступление. Это все знают, и, кроме того, есть верная примета. Если жители хорошо кормят и кланяются – значит, пойдем вперед. Моя хозяйка в первый же вечер спросила:
– Ist es wahr, dass sie bald nach Ekaterinoslav marschieren werden? [8]
Она родилась в России, но по-русски говорит еле-еле. Двое сыновей в Гвардейском кавалерийском полку. Freiwilligen[9]. Дочери восемнадцать лет. Зовут ее Луизой. Хозяин, пожилой грузный человек, лет пятидесяти пяти, был на военной службе. С ним говорю по-русски. Рассказал мне, что совсем было собрался отослать дочь к родственникам в Симферополь. На фронте дела шли так себе, а красноармейцы, особенно кавалеристы, постоянно насилуют немецких девушек.
Теперь, слава Богу, будет наступление.
На правах начальства поместился отдельно. Тоже редко случается. За гражданскую войну второй раз.
Живу в мезонине. Комната маленькая, но очень чисто, пол натерт, и почти целый день солнце. Застекленная дверь выходит на балкончик с облезлыми деревянными перилами. Если слишком много света, можно задернуть кисейную занавеску на колечках.
Дому шестьдесят лет. Стены бледно-голубые, карнизы белые. Под моим балкончиком большая стеклянная веранда. Ограда такая же прочная, как и дом. На каменном цоколе заржавевшая железная решетка. Хозяин жалуется, что краски, сколько ни ищи, не купишь. Ворота, точно в маленькой помещичьей усадьбе. Неуклюжая каменная арка, крытая почерневшей черепицей с бархатными дерновинками мха. Мудреный, плохо вылепленный карниз во многих местах обвалился.
За решеткой пыльная темнолистная стена сирени и жимолости, изъеденные ржавчиной сливы и еле живая от засухи береза. Больше с улиц ничего не видно.
По вечерам поливка цветов. Всей семьей вместе с работниками. Я тоже помогаю. Frаulein Luise первый раз долго не хотела давать лейки. Unmoglich[10]… Сказал ей, что генералы и те раньше поливали цветы у себя на дачах. Собственными глазами видел… Все-таки мне положена самая маленькая.
Ночи холодные, росы много, но дождя давно не было. В усадьбах вдоль главной улицы цветы погибают от пыли. У нас они живые. От ворот к крыльцу дорожка из каменных плит. По обеим сторонам оранжевые крупные бархатцы. За ними высокие белые шеренги флоксов, нежные перистолистные космеи, гладиолусы цвета советского флага, стрелки махровых мальв. Больше всего георгин. Вдоль ограды те, что попроще. Гофрированные мясистые полушария среди темной зелени. Но на клумбах перед террасой подвязаны к аккуратно обструганным палочкам огромные, лохматые цветы, каких нет больше ни у кого в колонии. Бледно-палевые, снежно-белые, лимонно-желтые, сиреневые с темной стрелкой на каждом лепестке. От тяжести наклонились к земле. Если хочется рассмотреть, надо осторожно приподнять лохматый упрямый ком. На других кустах лепестки свернуты в острые трубочки и легкие цветы-ежики держатся прямо. Алые, темно-вишневые. Есть почти черные, точно запекшаяся кровь. У самой террасы заросли мелких, золотисто-желтых с длинными тонкими стеблями. Лежат на невидимых деревянных подпорках и издали совсем как будто не георгины.
Люблю сидеть на крыльце рано утром. Солнца мало. На плитах дорожки земысловатые тени, лепестки нежно матовые от росы, и ветер еще не разогнал застоявшегося терпко-душистого воздуха. В колонии тихо. Обозы начинают идти позже.
Должно быть Fräulein Luise заметила, что я долго смотрел на один георгин, распустившийся у самой дорожки. Вечером оказался у меня на столе в маленькой банке из-под варенья. Удивительный косматый цветок, величиной с чайное блюдечко. Половина белая, половина алая, да еще много белых лепестков тронуто алыми мазками…
Открываю глаза. Должно быть, поздно. Солнечные пятна на полу по-дневному ярки, и тени короткие. Сквозь кисею занавески светится голубое небо. Бело-алый георгин начал вянуть. Нижние лепестки уже сморщились и пожелтели. Надо вставать и посмотреть, подковали ли лошадей. Скоро на фронт.
Стук в дверь.
– Herein! [11]
Fräulein Luise несет на подносике кофей. Однако же я и заспался… Всегда пью внизу. Fraulein в туфлях на босу ногу. Белый передник накрахмален. Улыбается.
– Gratuliere, Herr Hauptmann!
– Danke schоn, was ist denn doch?
– Ein grosser Sieg… Hier schickt Ihnen Papa die Zeitung[12].
Протягивает мне «Великую Россию». Откинув перину, хватаю газету и вспоминаю, что на мне ничего нет. Торопливо закрываюсь. Луиза ставит на стол бело-голубую чашку. Хохочет.
– Sie schlafen ohne Hemd… Das ist sehr praktisch – unsere Leute schlafen auch so[13].
Ушла. Можно читать.
«Севастополь. А.В. Кривошеину[14]. Тринадцатая армия красных, атакованная с фронта и охваченная с фланга и тыла конницей, прижата нами к Днепру. Нами взят Александровск. Захвачено более десяти тысяч пленных, 50 орудий, огромное количество пулеметов, 8 бронепоездов, три бронеавтомобиля, 7 самолетов, большое количество железнодорожного подвижного состава и много обозов.
Взяты в плен полностью двадцать третья советская дивизия, 35 бригада 29 пехотной дивизии и два конных полка.
7-20 сентября, Врангель».
…Кто-то стягивает с меня шинель. Ужасно не хочется просыпаться. Открываю глаза. Пламя свечки огромное и яркое. Кругом туманный желтый круг.
– Вставайте, дорогой… надо… уже наамуничивают…
Большие грустные глаза. Папаха из серого козьего меха надвинута низко на лоб. Иногда Костик язвит и ругается. Сейчас и ему больше всего не хочется идти на холод. Нечего делать… Откидываю шинель. Складываю вещи. Отворяем ворота. Зима. Форменная зима. Двор белый от инея. Под ногами хрустит ледок. Звенят цепи. Ездовые выводят лошадей в парк.
Долго ехать верхом невозможно. Ни теплого белья, ни полушубков. Идем пешком по обочине. Небо сегодня чистое. От нечего делать разыскиваем созвездия. Астрономы мы плохие. Путаемся в звездном лабиринте. Несколько золотых закоулков все-таки нашли. Штабс-капитан Воронихин показал Персея и Плеяды, Миша Дитмар – голубую дрожащую Вегу и Альдебаран, юнкер Любимов – Близнецов. Проверить, правда, некому, но показывают уверенно. Никто не мог сказать, где висит Щит Собесского или струятся Волосы Вероники.
Я твердо помню Орион и не люблю его. Зимнее ледяное созвездие. Когда поднимается высоко, это значит отступление, боль в отмороженных ногах и вши.
Венера погасла. Будет хорошая погода. Ни одного облака. Восток спокойно розовеет. На облепленной кристалликами инея траве остаются четкие следы ботинок и подков. Колеса оставляют черные шрамы. Легко дышать и легко идти. Уже сделали двадцать верст, но на рассвете ночная усталость всегда проходит. Батарея сегодня в авангарде. Впереди нас только конный дивизион, конвой начдива и разведчики второго полка. У генерала Туркова[15] новая лошадь. Высокая рыжая кобыла. Идем прямо на восток во фланг и тыл Пологской группы красных. Противника пока не видно. Поля пусты.
Шесть часов утра. На гребнях солнце слизнуло иней, но лощина, в которую мы втянулись, еще в тени, и обмороженные травинки густо посыпаны белой холодной пылью. Из ртов людей и лошадей прерывистыми струйками идет быстро тающий пар.
Всадник на холме. Шагов восемьсот от нас. Второй, третий, коней десять. Остановились. Скачут в разные стороны.
– Господа, а это не красные?
– Где?
– Ну вон эти, которые мотаются!
– Бог с вами… наше охранение…
Головы по горизонту. Винтовки. Шинели, густая цепь. Ложатся. Мы змеей в лощине. Они наверху. Перебьют к черту… Номера уже облепили орудия.
– Повод вправо! Галопом м-а-арш! Черные колеи на белой земле. Пули мимо ушей. О-ой!.. О-ой!..
– Стой! С передков налево! Гранатой, прицел двенадцать… Сто-ой!.. Вынь патрон!
Поздно. Стрелять нельзя. Между батареей и красными атакующий муравейник. Рыжая кобыла начальника дивизии идет полевым галопом. Кучи всадников. Лава. Тачанки с пулеметами. Тра-та-та-та…
– Убьют сволочи Туркова! – Тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та… Рыжая кобыла на скате холма. Четыреста шагов. Триста. Тра-та-та-та-та-та-та-та-та… Дитмар снял фуражку. – Спаси его Бог…
Все поле ревет «ура». Спереди. Сзади. Вдоль по колонне. Пуль больше нет. На гребне растет частокол воткнутых винтовок.
– Сдаются, сукины дети!
– Подсолнухи садят!
– Ура…! Ура… а!..
Фельдшер перевязывает гимназисту Селиванову простреленную руку. Это он вскрикнул, когда въезжали на позицию. Лицо посеревшее. Закусил нижнюю губу. Смотрит в сторону. На лбу мелкие капельки пота. Кости, кажется, не задеты. С эвакуацией придется подождать, пока не выйдем из большевистского тыла.
Ведут пленных. Целый пехотный полк – больше трехсот человек. Только комиссары успели ускакать.
– Господа, Турков не должен так собой рисковать. Просто не имеет права. Форменное покушение на самоубийство…
– Ему страшно везет. Прямо невероятно.
– Везет, везет, а в конце концов убьют. Всегда так бывает. У меня прямо сердце остановилось. Дай краснорожие один хороший залп в упор – и конец…
Вечером придется описывать этот бой для журнала военных действий. Наше походное охранение явно прозевало. Иначе среди бела дня колонна не оказалась бы в полуверсте от цепей. Могло кончиться очень плохо. Пулеметы и залпы с восьмисот шагов. Разбить-то мы бы разбили, но с какими потерями… Начальник дивизии и спас многих. Потерь почти нет. Начни он атаку минутой позже, красные бы пришли в себя. Потерь почти нет. В артиллерии ранен один Селиванов.
Стоим на открытой позиции. Влево от нашей еще одна батарея. Восемь аккуратно расставленных на паровом поле пушек молчат. Красные скрылись. Жарко в шинелях на солнце. Хочется пить и спать.
Бах… бах, дзинь… дзинь. Над озимыми два шрапнельных комка. На земле проступили и исчезли пыльные кляксы. Недолет по нам или случайно.
Взз… взз… разрывы за батареей. Называется «взять в вилку». Гранатные фонтаны шагах в сорока перед орудиями. Дым цвета густого гноя быстро оседает и, редея по дороге, быстро тянется к пушкам. Едкий тротиловый запах. В носу щекочет. Опять выстрелы. Чехович прижался головой к щиту. Один столб впереди, другой позади. Совсем скверно… Нулевая вилка. Будут гвоздить на этом прицеле – попадут. Номера на своих местах. Команды отойти от орудий не было. Лица, как у ждущих на выпускном экзамене. Губы сжаты. Молчат.
Выстрел. Стальные сверла… Ближе… ближе… Тысяча девятьсот тридцать футов в секунду. Визжат, ревут.
– Ложись!
Валимся, как попало. Прижимаемся к земле. В ушах больно гудит. Комья глины бьют по спине. Воронки саженях в пяти. Не больше. Еще очередь. Когда же это кончится… Силюсь замечать, что делается кругом. Не убьют – запишу. Чехович держится за голову. Заткнул уши, свернулся в комок. Выстрел – разрыв, выстрел – разрыв… Средняя траектория проходит через цель. Кого-нибудь похоронят. Рядом со мной Виктор Гаврилов. Подложил под голову ладонь. Не хочется измазаться. По травинке ползет большой черный муравей. Тащит семечко. Разрыв, разрыв, разрыв…
– Встать!
Командир недоволен. Не сразу поднялись. Сам он не ложился. Искал в бинокль советскую батарею. Где-то недалеко, но хорошо укрыта. Вспышек не видно. Перенесла огонь на наших соседей. Гнойно-желтый фонтан. Шрапнельные комки. Клевок[16] в интервал. Пока что и им везет. Целы. Ясно вижу лица. Как у нас. Все старше своих лет. Спокойны. Хмуры. Трудный экзамен, а выдержать нужно. За срединой фронта батареи две сестры милосердия с зелеными сумками через плечо. Стоят, точно в церкви. Наклонили головы. Та, которая повыше и моложе, при каждом разрыве слегка вздрагивает. Старшая совсем спокойна. Последняя очередь. Тишина. Должно быть, отходят.
– В передки!.. Ма-арш!
– Вы их разбили… Неужели опять уйдете?
– К сожалению, да… Выступаем сегодня же ночью.
Опустила руки. Слезинка одна за другой стекают на старую батистовую кофту.
– Господи… Сколько вас ждала. Больше не могу с этими дикарями…
– Слушайте, если нельзя оставаться, едемте с нами. Командир разрешил. Есть у вас кто-нибудь в Крыму?
– Нет… Не в этом дело… Поехала бы хоть в Австралию… Связана. – Опять слезинки на кофточке. – Счастливые вы…
– Знаете, на счет счастья не особенно… Постоянные кандидаты в покойники. Год-два ничего, а потом устаешь.
– Но у вас оружие, вы боретесь. Все-таки лучше, чем вот сидеть и мучиться. И потом, когда победите…
– Если победим, оставшиеся в живых любезно поблагодарят и скажут – теперь, братцы, катитесь.
– Почему у вас такие мрачные мысли?
– Факт… Разве не слышали о законе мирового свинства?
Слезинки еще не высохли, но карие хохляцкие глаза смеются.
– Кажется, у нас не проходили…
– Жаль… Основной принцип истории. Учительнице следовало бы знать.
* * *
Получил приказание отправиться в штаб армии на станцию Рыково. Должен получить сто восемьдесят аршин английской материи на брюки и гимнастерки для офицеров и купить хром на сапоги по казенной цене…
Не хочется ехать в эту командировку, но отказаться нельзя. Опять в бумажнике удостоверение за четырьмя подписями. Командир артиллерийской бригады, адъютант, начальник дивизии, начальник штаба. Трое, чернильным карандашом, генерал Турков – простым. Его буквы, колючие, четкие, плавно переходят одна в другую. Бледный оттиск печати с коронованным орлом. На расходы получил миллион рублей. Толстая пачка глянцевитых десятитысячных кредиток, только что привезенных из полевого казначейства. Коли поторговаться, можно купить около сотни гусей.
– Где это такая здоровая стрельба?
– Не знаю, Аксенов, как будто на Днепре…
– Надолго едете, господин капитан?
– Нет, дней пять-шесть, не больше.
– Винтовки не берете?
– Ну, слушайте, было бы смешно в штаб армии… людей только пугать…
Едем на станцию Рыково. Со мной два солдата из обоза, бывшие красноармейцы. Везут для сдачи в интендантство коровьи кожи. Замерзшие свитки с бурыми кровяными пятнами на взъерошенной шерсти. Попросился на подводу еще писарь – вольноопределяющийся. Я разрешил. Лошади хорошие, дорога, как бетон. После дождя и слякоти сразу двенадцать градусов ниже нуля. То рысим, то идем пешком. Иначе ноги коченеют. Мы одни. Ни повозок, ни людей. Над замерзшими полями густой неподвижный туман. Солнце, точно тарелка из красной меди. Сильнее и сильнее шумит мотор. Невидимый автомобиль идет навстречу. Подводчик останавливает телегу, берет лошадей под уздцы. Большая темно-красная машина. Георгиевский вымпел. Командую «смирно». Все места заняты. На заднем сидении генерал Кутепов. Фуражка надвинута низко на лоб. Лицо хмурое. Прикладывает руку к козырьку и внимательно на нас смотрит. Мужик снимает шапку. Обдали бензиновой гарью. Ушли в туман.
– Куда это штаб едет?
– Право, не знаю… Как будто в наши края.
– А как, разрешите спросить, правда, что в Таврию идет Буденный?
– Да, кажется, идет. Все время об этом разговоры.
Долго мы спали. Уже девять часов. Хозяйка успокоилась и печет оладьи. Вчера согрела насчет мужа. Сидел у соседей, а на ночь зарылся в солому, чтобы не заставили ехать с подводой. Как раз была его очередь.
Оладьи жирные и горячие. У меня с собой коробочка сахару и морковный чай. Пьем, не торопясь.
– Вы б, господин офицер, скорейше ихалы.
– Почему, хозяйка?
– Та це из села тикают. Комендант и той утик.
– Что ты рассказываешь? Куда комендант утик? – семинарист разозлился, ругается.
– Та хиба ж я знаю… Люди кажуть, що якась конниця наступае.
Телега тарахтит по замерзшей грязи. Едем рысью по обочине, обгоняя колонны обозов. Где-то прорвалась красная кавалерия. Больше никто ничего не знает.
Вот и Рыково. Дымят эшелоны. На платформе серо-зеленая толпа.
– Штаб армии? Давно ушел в Крым. Попроситесь к летчикам. Они идут первыми. Инженерный полковник рассказал мне, в чем дело. Предыдущие дни туман мешал воздушной разведке. Никто не видел, как Буденный переправился через Днепр и вышел в тыл. По всему судя, первая конармия скоро перережет железную дорогу. Защищать некому. Говорят, путь в Крым открыт. Вообще, дело дрянь, совсем дрянь.
Поля кругом станции гладки, как хороший аэродром. Аппарат, слегка подпрыгивая, бежит вдоль полотна, дает полный газ и, заревев, отрывается от земли. Красные еще далеко – авангард в двадцати верстах от дороги, но на всякий случай поезд пойдет с воздушным охранением. В эшелоне авиационных баз дорогое казенное имущество и семьи летчиков.
У вагонов-ресторанов отличные рессоры. Идешь через весь поезд, в коридорах иногда так бросает, что боишься разбить стекло, а в dining-car[17] сразу уверенность. Тяжелые тарелки с тонким голубым ободком стоят, как врезанные, и только на супе да на вине ровная дрожь.
Вот и сейчас в столовой летчиков то же самое. Дама вынула из саквояжа термос, налила девочке в чашку молока. Та недопила, вылила остаток на блюдечко, поставила его на чемодан. В купе, наверное бы, пролилось, а здесь по краям спокойно лопаются пузырьки и по белой глади идет чуть видная рябь. Совсем мирного времени вагон, только снаружи обшарпан. Коричневая обшивка вылиняла. В потускневших золотых надписях не хватает букв.
Девочке лет пять-шесть. Из-под розового вязаного капора выбились неровно подстриженные русые волосы. Одна прядка потемнее, другая совсем светлая. Должно быть, выгорела летом. Мать молча смотрит в окно. Солнца нет. Морозное серое небо, серые поля и вдоль полотна обозный поток.
– Мама…
– Что, детка?
– Мы долго будем ехать?
– Нет, недолго…
– Сегодня приедем?
– Приедем, приедем. – Дама поправляет девочке капор, поворачивается ко мне.
– Капитан, мы успеем?
– Конечно… Считайте – минут сорок-сорок пять хода. Больше не будет. Около часа в запасе.
– Дай Бог… так страшно с ребенком.
– Вы одна?
– Нет, муж в другом вагоне. Сейчас придет. Но ведь вы понимаете… – Опять замолчала. Смотрит в одну точку и глотает слюну.
Посредине вагона длинный стол. Серое сукно съехало в сторону, желтые дамские картонки, вещевые мешки. Везде, где можно сесть, офицеры и солдаты. Видно, у летчиков была налаженная поездная жизнь. Карты аккуратно пришпилены. Под кнопками кусочки белого картона. В простенках портреты…
Тормоза шипят. Подводы обгоняют поезд. Деревья, платформа. Станция Новоалексеевка. Еще несколько верст, и будем за проволокой. Прерывисто фыркает мотор. Кажется, наш охранитель. Сел в поле, повернулся, гудя и фыркая, едет к поезду. Хорошая местность. Везде аэродром. Замолчал. Остановился. Летчик бежит к платформе, придерживая полевую сумку.
Из открывшейся двери морозная волна. Пехотный поручик в шинели с золотыми пуговицами. Лицо сумасшедшее.
– Женя!
– Я здесь.
Расталкивает офицеров и не извиняется. Что-то шепчет на ухо даме с девочкой.
– Господи, спаси нас и помилуй.
Крестится. Чего это она вдруг…
Наблюдатель ошибся. Принял главные силы Буденного за авангард. Оттого мы сюда и поехали. На самом деле, авангард в трех верстах.
Путь разобран. Обратно нельзя. В паровозе нет воды. Обозы рысят к Геническу. Больше некуда.
Ветер гоняет по платформе снежную пыль. Такая хорошая вещь жизнь и так глупо… Голое поле. Ровное. Оврагов нет. Стогов нет. Изрубят. Повозки… повозки… рысью, галопом… перевернулась, под колесом человек… визжит, плачет.
Голова работает, ноги не ослабели. В животе холодно. Тошнит. Противно… противно… противно. Совсем этого не хочу. Ветер задирает на трупах рубашки. Надувает мягкие пузыри. Головы изрублены. Сукровица. Мороз. Мух не будет, а разденут наверное.
– Офицеры, снимайте погоны! Красные на станции.
Им хорошо. Сдержали коней. Рысят дальше. Фуражки голубые, золотой прибор. Одесские уланы. Револьвера никто не даст. Безнадежно. За вокзалом черный дым. Аэроплан низко. Бьет из пулемета. Конный… один, другой. Много конных. Полверсты. Три минуты. Небольше пяти. Летчики в безрукавках. Бегут. На шее круги колбасы. Придумали тоже.
– Погоны снимите!
– Идите к чертовой матери.
– Снимите! Других подводите.
Пришиты. Отпарывать долго. Все равно. Все равно.
В поле повозка. Стоит. Постромка запуталась. Только бы добежать. Руку в карман. У меня браунинг. Буду стрелять. Едем. Рысь, галоп, рысь, галоп. Двое казаков. Один постарше, другой молодой. Посмотрели на меня и ничего не сказали. Лошади в мыле. Еще не загнаны. Конница может налететь только сзади. Слева поле и никого там нет, справа Сиваш.
От сердца отлегло – очевидно, кавалерия грабила станцию и не шла пока дальше. Перешли в шаг. Еще несколько верст, и мы въезжаем за проволочные ограждения Геническа.
Ура, спасены! Давно я так не ценил жизнь, как бы она плоха ни была, как в этот момент. Донцы остановились. Я поблагодарил их и пошел пешком через мосты мимо бесконечной колонны обозов, спешивших на Арабатскую стрелку.
* * *
Сумерки. Отошел в сторону от скрипящей, ругающейся дороги. Будь что будет, а я хочу отдохнуть. Как хорошо, что можно сесть на замерзшую землю и больше никуда не идти. Над черным Сивашем белые языки пара. Пригибаются к воде, рвутся на куски, тают. Новые, новые… Мечи без рукояток, стены тростника. Кто-то матерится на дороге, визжат телеги, хлещут кнуты. Обоз никогда не перестанет идти. Безголовая змея. Мерзнет. Ругается. Ни земли, ни неба. Снег. А сидеть хорошо. Даже и ноги перестали мерзнуть.
– Земляк, а земляк!
– Дай ему хорошенько по шее.
– Подожди, может, мертвый…
– Извиняюсь, вы офицер? – Взяли под руки. Отрывают от земли.
– Ничего, ничего… я сам.
Четверо вольноопределяющихся-летчиков. По очереди несут мешок с салом и колбасой. Больше никаких вещей. Шинели остались в поезде. Кожаные безрукавки поверх гимнастерок и одна пара перчаток на всех. Надевает очередной мешконосец. Идем быстро. Начинаю чувствовать ноги. Кажется, не успел отморозить.
– Вы как на меня наткнулись, господа?
– Пошли оправиться, видим, кто-то лежит… Вы в нашем эшелоне ехали?
– Да. Не знаете, все успели уйти?
– Какой там… Вы же видели, что делалось. Наш завхоз чемоданчик с деньгами бросил. Семнадцать миллионов…
Арабатская стрелка, хутор Счастливцева. В хате жарко и накурено до синевы. Летчики поджарили сала, но от усталости я ничего не мог есть и, скрючившись, повалился около плиты. Лежал так несколько часов. В голове был какой-то кошмар. Нечаянно мне брызнули в лицо кипящим маслом, но не было сил переменить положение.
Опять идем по стрелке. Думали поспеть до утра. Шрапнель сигнала… Рвется совсем близко. В черном небе рассыпчатые звезды. Одна – две – три – четыре. Четыре вспышки, четыре звезды. Должно быть, буденновцы взяли Геническ. Обозы рысят. Темно, но на побелевшей земле дорога видна. Градусов пятнадцать мороза. Бесшинельные летчики хотят прибавить ходу. Прощаемся. Уходят в темноту. Почти бегут. Вероятно, никогда больше не встретимся. Не будь этих двух студентов и двух реалистов, я бы там и остался на берегу Сиваша.
Хутор Чокрак. Скоро утро. Надо все-таки поспать. Еще восемьдесят верст по морозу. Больше, кажется, жилья не будет. Заберусь в хату, и на сегодня хватит. Никакая конница ночью сюда не пойдет. Может быть, у нас есть пулеметы. Может быть, в Азовском море наши корабли. Вообще, спать и никаких… Снимаю сапоги. Даже не очень тесно. Можно вытянуть ноги. Обозники торопятся уехать подальше.
Как будто все в порядке. Ноги не распухли. Уши отморожены, но я их завяжу полотенцем. Вот есть хочется свирепо. Перед глазами нет-нет и черное пятно. То печка провалится, то в потолке дыра. Купить нечего. Съедено. Вообще нет. В прошлом году поговорил бы с хозяйкой иначе. Теперь нельзя. Посижу еще, напьюсь воды, и придется идти дальше.
Вольноопределяющийся-артиллерист вынимает из сумки синюю коробку corned beef[18]. И хлеб у него есть. Целая четверка. Режет пополам. Застывший жирный кубик – тоже пополам. Не хватило силы отказаться. Полный рот слюны и сразу тяжесть в желудке. Если останемся живы и я когда-нибудь встречу этого небритого гимназиста-корниловца, напомню ему восемнадцатое октября на Арабатской стрелке. Жалко, не записал фамилию. Торопился идти, а он хотел нагреться. Тоже послан в командировку и едва не погиб. В зеленой сумке остались теперь мыло и грязное полотенце.
Идем по бесконечному мосту. С обеих сторон море. Слева – живое, справа – мертвое. На Сиваше рябь, морозный пар и лед у берега. На Азовском волны с белыми гребешками. Пока море пусто. Ни дыма, ни парусов.
В Мариуполе у красных пароходы с дальнобойными пушками. Увидят белую ленточку на серой воде. Обозы черной ниткой. Уйти нам некуда. Если орудия не расстреляны и наблюдатели толковые, изорвать нитку очень легко. Потом спустить катера и добить из пулеметов. Солдаты-обозники уже спрашивали, могут нас пристукнуть или нет. Успокоили их. Красные в море не полезут. Побоятся флота. Могут подойти миноносцы, а у большевиков их нет.
Я так думаю. Вероятно, так и будет. Но мы ничего не знаем наверное. Может быть, красные прорвались в Крым и флоту не до Арабатской стрелки. Все может быть… Доберемся до Керченского полуострова, узнаем. Пока – два моря, ледяной ветер и боль в глазах. Настоящего снега нет, изморось, но на солнце она блестит несносно. Слезы текут. Приходится больше смотреть в море. И снова голодные круги… Корниловцы дали мне хлеба, только его невозможно есть. Замерз. Рубили топором. Пробовал отогреть под рубашкой. Не удалось. Жжет кожу и не мякнет. Хорошо, хоть вода есть. Не совсем пресная, а пить можно. На стрелке все колодцы такие.
Идем, как заведенные. Подводы едут пустыми. Градусов пятнадцать мороза, ветер и некуда от него деваться. Не знаю, что делают бесшинельные летчики. Невозможно же бежать сто верст.
Через дыру в стене виден млечный путь. Все-таки комната. Даже каганец горит на невидимом столе. Передо мной пахнущая морозом спина. Чей-то мешок жмет бок. Повернуться невозможно, но это хорошо, что столько людей. Отогреваемся. Только по ногам мороз.
Кажется, я спал – не заметил, когда потух каганец. И народа меньше. Лечь нельзя, но напирают не так сильно.
На полу лунная полоса. Кучи тел. Моя голова на чьем-то сапоге. Замерзнем, пожалуй, но я больше никуда не пойду…
– Вы плохо себя чувствуете, капитан? – Кто-то светит на меня электрическим фонариком.
– Никак нет, благодарю вас.
– Можете встать? Ну вот отлично… Выпьете с нами чаю.
Каганец тухнет, каганец горит. Опять светло. Кругом стола офицеры. Полковник налил в мою кружку немножко рома из своей фляжки. Холода больше нет. Можно дальше. Говорят, осталось не больше тридцати верст. Если я даже выбьюсь из сил, гвардейцы не бросят.
Едем рысью. Лошади накормлены. На подводах сено. Ноги закутаны попонами. Молодой полковник-кирасир заботится, чтобы мне не было холодно. Он – хозяин, я – гость лейб-гвардии Сводно-конного полка.
Все еще ночь. Небо чистое. Вокруг луны морозный венчик. Чтобы отогнать сон, слезли. Идем быстрым шагом. Заснуть на повозке – верный способ замерзнуть. И сено не поможет. Лошади белые от инея. Люди поминутно хватаются за уши. Ветер утих, но Азовское море шумит, и от него идет морозная сырость. Сиваш застыл. Серебряная шкура с черными пятнами – полыньями…
Утро. Последняя верста на стрелке. Татарское село, улица забита обозами. Новости? Пока никаких… Перекоп? Господь с вами… что конница может поделать с крепостью.
Полковник-кирасир надписал на моем удостоверении: «… отступал вместе с обозом Гвардейского кавалерийского полка до с. Арабат, откуда направился через г. Феодосию в г. Симферополь для исполнения командировки».
Феодосия не по дороге. Крюк верст в тридцать, но надо, наконец, поесть и погреться.
Иду один. Дорога пуста. Обозы свернули на запад. Редко, редко обгоняет подвода. Мороз, точно год тому назад под Орлом. Два офицера везут белый гроб. Остановили телегу. Машут мне.
– Вы в Феодосию? Мы вас подвезем.
– Спасибо, но, как же… нет места.
– Садитесь на гроб – он крепкий. Ничего, ничего… Генерал был добрый человек. Сам бы так распорядился.
Не спрашиваю адъютанта, где погиб генерал. Поручику будет неприятно рассказывать. Я уже слышал об этой смерти[19]…
Едем рысью. Края гроба режут ноги, но все-таки лучше, чем пешком. Горы цвета жженой охры, красные черепичные крыши, белые дома. В город так въезжать неудобно. Слезаем с подводы, идем сзади. Прохожие снимают шапки.
Первая лавка. Фруктовая торговля оптом и в розницу. У входа корзина желтых крупных груш с розовыми боками. Они полузамерзшие, зубам больно от холода, но я еще никогда не ел таких чудесных груш.
– Куда же вы теперь, господа?
– Сдадим гроб на хранение, явимся коменданту, потом обедать.
– А я прямо к коменданту.
– Приходите в «Асторию»!
В этом году коменданты стали удивительно внимательными. Попросил ордер на один день – получил на три. Всем, кто спасся из-под Новоалексеевки, положено три дня отдыха. Только предупредили, что гостиница не отапливается.
Выхожу в приемную. Генерал с белыми хохлацкими усами. Тот самый, который ехал в вагоне-столовой. Целует меня в обе щеки.
– Живы?
– Так точно, выскочил… Не знаете, Ваше Превосходительство, как та дама с девочкой – помните, муж прибежал?
– Не видел нигде. Вероятно, погибла. Там ведь буденновцы рубили всех, кто попадался под руку…
Иду в ресторан. Ветер гоняет по мостовой соломинки и обрывки бумаги. В кафе сидит бритый господин в очках. Читает «Petit Parisien». Собака на цепочке. Славная маленькая собака с длинной курчавой шерстью. Морда курносая и на желтом кожаном ошейнике запотевшие от мороза бляшки. Небо опять серое. Начинается пушистый спокойный снег.
– Что они, с ума спятили… в ресторане похоронный марш.
– Я потребую, чтобы прекратили.
– Бросьте – еще скандал выйдет.
– Называется утешили. Мы почти с того света – и ужин с Шопеном.
– Смерти нету, смерти нет… смерти нету, смерть умерла…
– Это вы откуда?
– Есть такие слова к маршу.
– Ваше здоровье!
– Господа, за жизнь вообще!
– Жаркое? Да, конечно, будем… Мне дадите бифштекс по-гамбургски и скажите, человек, чтобы подогрели тарелку.
Трех дней в Феодосии не проживу. Дорого и холодно в гостинице. Даже обидно становится – чистое, глаженое белье, а раздеться нельзя. Плевательница примерзла к полу и не оттаивает. Зато приятно нащупать в темноте невидимый выключатель. Он слегка пружинит, тихо щелкает, и на потолке зажигается матовое полушарие. Неуютный свет, но, по крайней мере, все ясно. Шкап с разбитой стеклянной дверью стоит на своем месте, видна каждая складка полотенца и, если придет охота, можно сосчитать, сколько рядов пастухов и пастушек на обоях.
Мы вдвоем за столиком. Бритый господин в очках пригласил меня в кафе. Тепло. Желанная печка с коленчатой трубой раскалена докрасна. Не знаю, как это хозяину удалось раздобыть уголь. Частным лицам не продают – все на пароходы. Говорят, готовится десант…
Говорим о Новоалексеевке. Ее отбили донские казаки. Вокруг вокзала валялись трупы офицеров и солдат, изрубленных конницей Буденного. Много женщин осталось в поезде. Жители рассказывают, что у каждого вагона стоял хвост. Красные кавалеристы входили в одни двери, выходили в другие. Потом женщин голыми выгнали в степь. Никто не смел пускать их в дом. Одна, с ребенком на руках, ночью пришла на хутор в семи верстах от станции. Ребенок умер, но мать, говорят, останется жива. Пробовал разузнать, не та ли это, которая сидела со мной в вагоне летчиков, но точно никто ничего не знает.
Нездоровилось. На станции Джанкой увидел себя в зеркало. Белки канареечного цвета. Пошел к доктору. Эпидемическая желтуха. Везет же в этом году… По-настоящему надо лечь в лазарет, но, если я буду держать диету и поменьше вставать, можно лечиться и на батарейной базе. На фронте ни в коем случае. Все равно придется эвакуироваться.
Пришлось просидеть всю ночь в зальце станции Курман-Кемельчи. Пока темно, безнадежно искать хутор, в который перешла база. Лечь некуда. Всюду солдаты. Двое спят на столе, подложив под головы английские вещевые мешки.
Рассвет. На оконных стеклах стали видны ледяные папоротники. Станционный сторож задул каганец. Один из солдат, улегшихся на столе, запускает грязные пальцы за воротник френча. Дергает плечами. Не просыпаясь, поворачивается ко мне лицом. Миша Дитмар! Он самый… Должно быть, болен. Под глазами желто-синие отеки, нос заострившийся. Очень похудел. Даже по рукам заметно. Второй тоже наш… Володька Зелинский. Щеки заросли до неприличия. Не щетина, почти что борода.
Наконец-то они просыпаются. Володька открыл цыганские глаза, смотрит на меня и явно не видит.
– Зелинский!
– Господин капитан… мы уже думали…
– Подождите, батарея цела?
– Так точно… стоит в Армянском Базаре. Ужасно плохо. Все разбито… некуда деваться… Шикарные бои были, господин капитан. Жалко, вы как раз уехали в эту командировку…
* * *
Вечер. Собираемся пить чай. Мальчик-красноармеец[20] принес стаканы и не уходит.
– Ты что, Алеша?
– Господин полковник, где это Юшунь?
– Село одно… Теперь туда проведена железная дорога. А почему тебя интересует?
– Да там татарин со станции приехал… Рассказывает, красные взяли Юшунь.
– Глупости, Алеша… Напутал и больше ничего. Ты об этом не болтай. – Мальчик ушел. Сидим и молчим. Конечно, вздор форменный. Последняя укрепленная линия… Впереди Перекопский вал. Вообще, все это тыловая паника. Но все-таки неприятно, что жители уже говорят всякую чушь.
Перед тем, как лечь спать, старший офицер молча курил. Потом сказал мне:
– А что, если правда.
Мы оба отлично знаем, либо неправда, либо конец. За Юшунью ровная степь и ни единого окопа до самого моря.
Разделись и подполковник задул лампу. В темноте долго вижу красный уголек его папиросы. Я один. В крайнем случае могу застрелиться. У него на базе семья. Приехал навестить. Через два дня должен вернуться на фронт.
Никогда не видел этой физиономии. Офицер. Бледный, бородатый. Кажется, нетрезв. Свечка в руке дрожит. Чего доброго, закапает меня стеарином.
– Сейчас же вставайте!.. Отступление… К утру велено быть в Сарабузе.
Одеваюсь. Мои теплые вещи в обозе. Ждать его не будем. Придется ехать в чем есть. Дамы укладывают свои чемоданы. Алеша несет желтую лакированную коробку. Мороз, как будто, меньше. Ворота открыты. Солдаты-обозники грузят на подводы мешки с овсом и мукой. Никто не ругается. Работают спокойно и быстро…
В комнате собрались все: три офицера, три дамы, красноармеец Алеша, Гаврилов, солдаты-обозники. У жены подполковника на руках годовалая дочка. Все готово. Перед отъездом сели. Дай нам Бог когда-нибудь вернуться.
В степи тихо. Мороз на самом деле полегчал. Слегка щиплет уши, но можно не слезать с подводы. Девочка не простудится. Завернута в одеяло и плед. Дамы и Алеша поочередно держат ее на руках. Телеги смазаны. Не скрипят. Катятся ровно по наезженной дороге. В темноте крики и стук колес. Еще какая-то колонна. Всадник в бурке обгоняет нас и сразу пропадает. Сижу рядом с Гавриловым и еле вижу его лицо.
Шоссе почти пусто. Белая извилистая полоска между серо-коричневых холмов. Ни снега, ни зелени. Мертвая трава, скрюченные бурые листья на дубах и кое-где темные шары омелы. Солнца нет. Тихо. Когда проходит автомобиль, пыль сразу оседает. Едем быстро. Шесть подвод. Груза мало. Боевые части, кажется, еще все позади и дорога свободна.
Вот и Симферополь. Метелки пирамидальных тополей. Белые минареты. Сзади бледно-голубой плоский Чатырдаг. Аэродром. Машины аккуратными рядами. Часовых нет. Теперь все равно. Хоть бы кто-нибудь догадался поджечь. Мешок с мукой около шоссе. Другой, третий. Рассыпан овес. Перевернутая двуколка со сломанной оглоблей. Была паника. И тяжелую гаубицу бросили. Стоит в поле вместе с передком. Никому не нужна. Даже затвор не вынули. Только чехлы сняты. Они хорошей английской кожи. Еще пригодятся.
Гаврилов завернулся в бурку, мигает воспаленными веками и упорно молчит.
Три экипажа. Конвой. Фуражки нашей дивизии. Едут крупной рысью. Обгоняют нас. В передней коляске генерал Турков. Полулежит. Ноги закутаны пледом. Лицо желтое. Отставший конвоец просит закурить.
– Что с начальником дивизии. Ранен?
– Никак нет, заболели. Вроде как тиф.
Вечереет. С обеих сторон шоссе густые сады. Ряды яблонь с обмазанными известью стволами, высокие груши, миндаль. Все голое, все по-зимнему мертвое. Одна ежевика жива. Красные листья, фиолетовые, темно-зеленые.
Останавливаемся мало. Наскоро накормили лошадей и опять рысим. За один день проехали больше половины Крыма. Воздух стал мягким. Почти нет мороза. Иногда между деревьями видим железную дорогу. Один за другим идут поезда. На крышах и на площадках люди в защитном. Даже на паровозах темно-зеленые пятна. Шоссе по-прежнему пусто. Симферополь, должно быть, проехали. Фронт позади.
…Сады обратились в две черных стены. Застава на шоссе. Приказано до рассвета никого дальше не пропускать. В горах зеленые. Утром обозы пойдут под охраной боевых частей. Старший офицер отводит поручика в сторону. Долго о чем-то говорят. Возвращаются к подводам.
– Имейте в виду, господин полковник, – за последствия не отвечаю. Вы предупреждены.
Трогаемся. Одна из наших дам внезапно превратилась в племянницу генерала Туркова. Приказано как можно скорее доставить в Севастополь, и поэтому мы поедем ночью через Мекензевы горы. Если зеленые не убьют, и если будут пароходы, на какой-нибудь да попадем. Самое главное, пораньше.
– А ведь тепло стало.
– Только кажется. Премся все время в гору, вот и вспотели.
– Разве от леса бывает такой запах, когда мороз. Подождите… Сидорчук, есть мороз или нету?
– Никак нет, господин поручик. Тут совсем климат другой.
– Господа, вслух не разговаривать!
Идем пешком. И здоровые, и больные. Только девочка с матерью на подводе. Подъем крутой. Нужно, чтобы у лошадей хватило сил до Севастополя. Мы одни. Бесконечная гора, кустарник со всех сторон. Если нападут зеленые, пулемет тут не много поможет. Пахнет прелыми листьями и сыростью. Шуметь не смеем, а кругом тихо до жути. Где-то только булькает ручей. Гаврилов тяжело сопит. Не привык ходить по горам.
– Так вот, дорогой мой, кончаются наши русские приключения.
– Печально кончаются, господин капитан… Столько людей уложили, и все зря…
Рассвет. Тихий, радостный, теплый. Серо-розовые поля, розовые лица и в проснувшемся небе розовый огонь. Лошади идут шагом. Зеленые на нас не напали. Не то не заметили, не то совсем их не было. Старший офицер опять курит папиросу за папиросой. Скоро Севастополь.
– Море!
Далекое, бледное. Город и бухты в тумане. Где-то там транспорты. А, может быть, их и нет… Тогда осталось жить очень недолго. Подполковник решил уйти в горы. Я болен и ни в какие горы не пойду. Сергей Гаврилов тоже. Лучше сразу. Хватит.
* * *
Еще рано. На Нахимовской площади много теней, а свет утренний. Золотистый, спокойный и колонны пристани, точно высечены из темного топаза. У входа в гостиницу «Киста» неподвижное георгиевское полотнище. Флаг главнокомандующего. На море штиль. В бухте даже ряби нет. Голубая слепящая скатерть. Где-то часто и неровно стучат паровые краны. Иногда воют сирены миноносцев и от них на площади гулкое эхо.
Вдоль решетки Приморского бульвара строятся юнкера-донцы. Поправляют голубые бескозырки, подтягивают белые лакированные пояса. И портупеи у них белые. За плечами винтовки. Конная сотня выравнивает лошадей. Лязгают копыта. Трубачи пробуют инструменты.
Дальше ехать нельзя. Поперек площади оцепление. Велено несколько минут подождать.
Мужики-подводчики и лодочники стоят, снявши шапки. Офицеры и солдаты держат под козырек. Перед строем юнкеров главнокомандующий. Сирены молчат. Каждое слово слышно.
– Вы исполнили свой долг до конца и можете с высоко поднятой головой смотреть в глаза всему миру. Человеческим силам есть предел. Нас не поддержали, и мы истекли кровью. Когда мы уйдем на чужбину, здесь не раз вспомнят об улетевших орлах, но будет поздно… Доблестные атаманцы, дорогие мои орлы! В последний раз на родной земле… за нашу гибнущую родину, за великую… за бессмертную Россию… ура!
Стараюсь запомнить все. Гнедую лошадь, которая испугалась и пробует вырваться из строя, вздрагивающий подбородок Сергея Гаврилова, густые тени на памятнике Адмиралу Нахимову, мостовую, гостиницу «Киста». Все.
Юнкера вложили шашки в ножны. Привязывают коней к решетке Приморского бульвара. Сейчас оцепление расступится, и мы пойдем дальше, к каменной лестнице влево от колонн. Только главнокомандующий и адмиралы имеют право отваливать от главной пристани.
Начальник базы на всякий случай опросил солдат, не желает ли кто остаться в Севастополе. Желающих нет. Колонна тронулась и опять замерла. Мимо нас быстрыми шагами идет генерал Врангель. Он без оружия, серое пальто застегнуто на две нижних пуговицы. Лицо еще бледнее, чем прежде. Измученное. Очень спокойное.
В городе выстрелы. Близко. Главнокомандующий с адъютантом повернули как раз туда. Никто не смеет остановить и всем страшно. На Нахимовской площади так тихо, что ясно слышно мерное звяканье шпор. Старший офицер говорит мне шепотом:
– Вот идет генерал, проигравший войну, а мне хочется встать перед ним на колени.
* * *
Уключины поскрипывают. Гребем вдвоем с поручиком. Лодочник на руле. Из солдат ни один не умеет. Шлюпка тяжелая. Уместились в одну, да еще чемоданы и груда мешков. Кто еще знает, будут ли кормить на пароходе, а у нас на несколько дней хватит своего. Мука, сало, мясо. Только хлеба совсем мало.
Жарко. Сняли шинели, расстегнули френчи, и все-таки пот ест глаза. Точно по пруду плывем. Подполковник закуривает, не прикрывая спички. Говорят, если погода не изменится, катера и те пойдут в открытое море.
– Господа, куда же мы, наконец, едем?
– Туда, куда повезут.
– Хорошо бы, в Африку…
– Чего это вам вдруг захотелось?
– Ну все-таки, интересно… Ехать, так ехать. Представляете себе – лагерь где-нибудь под пальмами, солнце вовсю и никаких тебе товарищей…
«Херсон» еще почти пуст. На спардеке хоть в теннис играй. Пары разведены. Угля до Константинополя хватит. Опреснители работают. Груза никакого. Уже все успели разузнать. Караул с пулеметом у трапа. В машинном отделении часовые-офицеры. Пока все в исправности, но довольно горсти песку, и мы не дойдем и до Константиновской батареи. Механики, правда, надежные. Все больше студенты-политехники, и им так же нужно уйти, как и военным.
Дамы разложили свои вещи на нижних нарах в офицерском трюме. Я тоже обозначил место. Положил томик Фламмариона. Долго возил его в кармане шинели и все не было времени прочесть. Теперь, кроме этого томика и свертка с грязным бельем, никаких вещей. Те, которые в обозе, наверное, пропадут. Хорошо еще, что френч и брюки почти новые, а в ботинках нет дыр.
1931
Дневник галлиполийца
Предисловие
Основой этой книги является часть моего дневника, который я вел более или мене регулярно со дня оставления Крыма войсками Русской армии. Записи, сделанные во время осенних боев в Северной Таврии, пропали во время отступления к Севастополю, за исключением лишь небольшого отрывка, которым начинается текст дневника. Начав подготовлять свои записи к печати, я почувствовал, что без соответствующих дополнений и примечаний многие их места будут непонятны или плохо понятны для читателя, не бывшего в Галлиполи. Кроме того, я хотел использовать еще относительно свежие воспоминания о многих интересных моментах пребывания 1-го корпуса в Галлиполи, частью записанные мною в 1922–1923 годах. Наконец, во многих случаях мне казалось необходимым дать оценку достоверности приведенных в дневнике сведений.
Все эти позднейшие дополнения и воспоминания, которые я, естественно, не мог включить в текст дневника, приведены местами в весьма обширных подстрочных примечаниях. Мне представлялось также полезным пояснить некоторые из географических и исторических имен.
Что касается самого дневника, то я привожу текст подлинника почти полностью. Очень незначительные пропуски сделаны по следующим соображениям: 1) исключены несколько страниц, преждевременное опубликование которых я считал бы вредным для дела борьбы с большевиками; 2) исключен ряд мест, представляющих чисто личный интерес; 3) не помещены некоторые из циркулировавших в Галлиполи слухов, носивших характер явных сплетен.
В силу ряда соображений, почти все фамилии офицеров и солдат, известных лишь небольшому кругу лиц, обозначены инициалами. Наоборот, фамилии лиц, широко известных в Галлиполи, за самыми редкими исключениями, приведены полностью.
Стилистическая сторона записей оставлена почти без всяких изменений. Мне ясны многочисленные недостатки языка моего дневника 1920/21 года, но они до известной степени характерны для послевоенного периода. Читатель должен иметь в виду, что очень молодой в то время автор (незадолго перед эвакуацией мне исполнилось 26 лет) перед тем, как приняться за дневник, в течение 41/2 года не писал ничего, кроме полевых записок и немногих писем с фронта. Я исправил лишь некоторые неправильные или неудобочитаемые фразы. В немногих местах пришлось вставить отдельные слова и целые пояснительные предложения, так как иначе текст был бы не понят или неправильно понят читателем.
В конце книги приведен ряд до сих пор не опубликованных приказов и документов, ссылки на которые имеются в тексте дневника (приложения 1-18), и четыре сохранившихся конспекта докладов-речей, произнесенных мною в Галлиполи (приложения I–IV).
Во многих местах дневника и в примечаниях я описываю особенно меня интересовавшие политические настроения чинов 1-го корпуса, причем постоянно употребляю термины «монархисты», «республиканцы». Считаю совершенно необходимым обратить внимание читателя на то, что речь идет о личных политических взглядах офицеров, юнкеров и солдат, а не о принадлежности их к той или иной партии.
С другой стороны, было бы грубейшей ошибкой представлять себе отношения между «монархистами» и «республиканцами» галлиполийского лагеря похожими на те, которые, к сожалению, существуют и до сего времени между людьми несходных политических убеждений в среде невоенной эмиграции.
Политические споры в свободное время велись в Добровольческой армии с самого ее основания, но они никак не отражались на боевой дружбе вместе боровшихся и умиравших людей.
То же самое (за очень немногими печальными исключениями) было и в Галлиполи. Галлиполийцы были и остаются, во-первых, и, прежде всего, галлиполийцами и лишь, во-вторых, – монархистами всех оттенков, бонапартистами, республиканцами, украинцами-федералистами и т. д.
В заключение считаю приятным долгом принести свою искреннюю благодарность командиру 3-го Дроздовского стрелкового артиллерийского дивизиона генерал-майору М.Н Ползикову, с неизменным вниманием относившемуся к моим литературным работам и разрешившему мне сделать нужные выписки из документов, хранившихся в архиве дивизиона. Благодарю также штабс-капитана Г.А. Орлова за любезно оказанную помощь при проверке ряда дат и фактов, упоминаемых в моем дневнике.
Н. Раевский
28 марта 1930 года. Прага.
Последние дни в Крыму
11 октября. После нескольких длинных переходов пришли в Покровское (верст 10 от Мелитополя) и стоим в резерве. Красная 2-я армия (конная) порядочно потрепала наш 2-й корпус, взяла все танки и 2 бронеавтомобиля. Остальные части, переправившиеся на правый берег Днепра, тоже потерпели неудачу и отошли. Какая разница по сравнению с тем, что делается в нашей дивизии! Все более и более убеждаюсь в том, что наши новые формирования, не имеющие добровольческого ядра, решительно никуда не годятся. Получается неразрешимая задача – чтобы пойти вперед, нужны добровольцы, а набрать их можно, только идя вперед.
Живем мирно, совсем точно и войны нет. Нервы приходят в порядок, и по ночам ничего во сне не вижу. На днях только снился мне покойный Женя Никифоров[21], и я будто бы вел с ним длинный разговор, а в то же время чувствовал, что он давно умер.
Достал у местной попадьи (поговорив с ней предварительно о шуме моря и других хороших вещах) Гаршина и с удовольствием перечитываю его рассказы. Чувствуется, что он искренно описывает свои переживания. Очень мне понравилось в «Записках рядового Иванова» это место: «Мне случилось заметить, что простые солдаты вообще принимают ближе к сердцу страдания физические, чем солдаты из так называемых привилегированных классов (говорю только о тех, кто пошел на войну по собственному желанию). Для них, простых солдат, физические беды были настоящим горем, способным наводить тоску и вообще мучить душу. Те же люди, которые шли на войну сознательно, хотя физически страдали, конечно, не меньше, а больше солдат из простых людей… но душевно были спокойнее. Душевный мир их не мог быть нарушен избитыми в кровь ногами, невыносимым жаром и смертельной усталостью».
12 октября. Скучно невероятно. В период боев я тоже не работаю по-настоящему. Нельзя же считать работой мои фейерверкерские обязанности – как-никак я кончил Михайловское училище одним из первых, четыре года боевой практики, три раза прошел Офицерскую артиллерийскую школу, а применить свои знания совершенно некуда. Но в бою, все-таки, хоть нервная работа громадная, а сейчас, в период затишья, абсолютно никакой.
Сидим в маленькой хате; тесно и грязно. На полу навалена солома, на которой спим ночью, и ее же топчем днем. Вшей там сколько угодно, но переменить солому лень. Опустились мы страшно и, наверное, дальше и еще сильнее опустимся. Б. и К. от скуки принялись чистить свои пистолеты. Я не могу доставить себе и этого удовольствия, потому что продал свой неразлучный маленький браунинг в Керчи, когда нашей больной компании было нечего есть.
Пахнет керосином. Стол завален пружинками, барабанами и другой «материальной частью». Иногда я с увлечением изучаю эту самую материальную часть (так было, например, в Артиллерийской школе) и старательно вожусь со своей единственной пушкой, а иногда надоедают и пушки, и ковка лошадей, вши, теснота, и вся наша, в конце концов, свински примитивная жизнь… Особенно осенью становится гадко на душе. Сейчас почему-то вспоминается фотография в «Illustration» с эпиграфом из Овидия:
Omiria tunс florent: tunc est nova temprisaetas Et nova de gravido galmite gemma tumet. Fastorum liber, I, 151–156.Я видел ее, когда был на батарейной базе в имении Люстиха. Так там и чувствуется весенняя зелень Греции. Старые оливки с нежной, еле распустившейся листвой… И все окутано точно неземным голубовато-призрачным светом. Нет нашей кровавой, грязной и вшивой жизни, нет ни тоски по погибшим, ни тревоги о будущем. «Omnia tunc florent: tunc est nova temporis actas…» И еще вспоминается весна этого года в Севастополе. Оживала природа, оживали после сыпняка бедные мои мальчики, и сам я приходил в себя после близкого соседства со смертью… Помню, как мы с покойным Васей[22] грелись на солнце в маленьком саду, полном зацветающих нарциссов, и болтали об Италии. Вечная ему память, маленькому моему другу, ребенку-воину, умершему страшной смертью. Что бы я дал, чтобы все это стало тяжелым сном, а не правдой…
Перечитываю свой дневник и чувствую, что пора начинаться боям – иначе невольно становишься сентиментальным и малоприспособленным к нашей войне.
14 октября. Утром немного побранился… из-за вшей, которых у меня, по общему мнению, слишком много. Т. особенно мне надоел – хороший он молодой офицер, но язычок как бритва. Если через несколько лет все благополучно кончится и мы останемся живы, смешно и досадно будет вспоминать, чем наполнено было порой наше существование.
Сегодня, вероятно, мне придется ехать в командировку дней на 7-10. С удовольствием бы от нее отвертелся, тем более что дело идет о получении хрома на сапоги с разрешения наштарма. Некоторые считают, что я достаточно хорошо «умею разговаривать с генералами». Зато в коже я понимаю очень мало, да и вообще житейски мало приспособлен (это я уже сам чувствую)… Какую-нибудь теорию радиотелеграфа, которая другим дается с большим трудом, я усваиваю очень быстро и легко, а вот кожа, втулки, ступицы, колесная мазь повергают меня в ужас.
Сережа[23] (если только он жив, бедняга), тот наоборот – науки ему давались всегда слабо, но в обыденной жизни он гораздо приспособленнее меня. Припоминается, как в Лубнах Сережа получал 40 «карбованцев» в месяц, поил на вечерах гимназисток шампанским, а я получал 300 и иногда сидел полуголодным. Привезли вчера массу английского обмундирования – кожаные безрукавки, теплое белье и носки, немного френчей (кстати сказать, эти английские куртки нигде, кроме России, так не называются. Англичане называют офицерские – «jacket», а солдатские – «tunic»). В общем, хозяйский глаз Врангеля и тут сказывается – в прошлом году мы до Азова (в январе месяце) теплого обмундирования в глаза не видели.
15 октября. Вчера вечером приехал в батарейный обоз. Не могу сказать, чтобы меня особенно радостно приняли. Комната маленькая, помещаются в ней трое, и хотя бы временному «прибавлению семейства» никто не рад (хотя надо сказать, что в такой же комнате на позициях нас живет восемь человек). М. с утра до вечера вычисляет свои траектории и, кажется, очень боится, чтобы я ему не помешал.
Сегодня с утра обложной мелкий дождик. Ничего особенно спешного нет, и я решил подождать до завтра, тем более что и мое удостоверение еще не готово. Погода отвратительная, и настроение у меня, несмотря на проведенную с комфортом ночь, тоже скверное. Опять шел нелепый и тягучий разговор относительно кадета В. Я не принимал в нем участия, но принужден был слушать и молча злился. Никак люди не могут понять, что нравственно совершенно невозможно смотреть сквозь пальцы на миллионные офицерские кражи (в прошлом году) и предавать солдата суду за кражу нескольких фунтов масла. Как это надоело, в конце концов, и когда мы разделаемся со всей этой грязью!
Отвыкшую от работы и не имеющую тем мысль заставляет теперь работать каждая случайно прочитанная книга, как бы она сама по себе ни была незначительна. Вот и сейчас, просматривая старые приложения к «Ниве», нашел довольно красиво написанную статью о цветах, в частности о дурманящем маке. До сих пор еще никогда не пробовал кокаина, но понимаю, почему сейчас даже некоторые полуграмотные солдаты, вроде нашего Н., и те научились нюхать его и уходить таким образом от действительности. Хорошо это у Овидия:
Ante fores antri fecunda papavera florent Innumeralque herbae, quarum de lacte saporens Nox legit, et Spargit per opacas, humida terras… Metamorphoseon, lib. XI, 605–607.Иногда мне становится неловко перед самим собой. Так и кажется, что изображаешь из себя уездную девицу, переписывающую стихи откуда попало. Для капитана артиллерии занятие не особенно подходящее. Но все-таки не могу не записать несколько строчек из Бальмонта. Мне кажется, что они удивительно подходят к нашим покойникам-добровольцам:
Спите, полумертвые, увядшие цветы,// Так и не узнавшие расцвета красоты,// Близ путей заезженных взращенные Творцом,// Смятые невидимым тяжелым колесом. Спите же, взглянувшие на страшный пыльный путь…17 октября. Вчера вечером приехал в Петровское. Дело в тылу у нас, видимо, налажено прилично – в Петровском имеется этап по всем правилам – с регистрацией, отводом квартир, квартирьерами и т. д. Только освещение подгуляло – пишут при свете неизбежного каганца. В хате нас встретили не особенно любезно. Хозяйка, впрочем, смягчилась, когда я дал ей несколько медицинских советов (я не медик, но, когда выздоравливал в Ростове от recurrens’a, слушал в Университете лекции по тифам). Накормила нас хорошим борщом. Ночью все время не давали спать солдаты пулеметных курсов, выгонявшие подводы. Крику и слез была масса, спрятавшегося в соломе хозяина по ошибке едва не застрелили, но в конце концов он благополучно уехал.
Хозяйка все время ноет и убеждает нас прекратить войну «хотя бы на зиму». Многие уже последовали ее совету и «прекратили войну на зиму», но только в более деликатной форме – устроились в более или менее глубокий тыл. Ш. уже несколько раз спрашивал меня, добродушно, впрочем, куда я, мол, намерен уезжать зимой. Пока есть силы – никуда, а если свалюсь, как и в прошлые годы, – не моя будет вина. Единственно, впрочем, куда бы я охотно поехал (месяца на два), – это помощником руководителя в Артиллерийскую школу, но вряд ли при изменившемся составе школьного начальства полковник А. может меня теперь пригласить.
Летом, когда я возвращался на фронт, А. спросил меня, соглашусь ли я командовать тяжелой полевой батареей, если мне это предложат. Я сделал большие глаза и спросил прежде всего, каким образом мне могут предложить батарею, когда я не кадровый офицер и мне 26 лет… Оказывается, Ставка предполагает сформировать несколько батарей, командиры которых могли бы в случае необходимости летать и наблюдать. Решили почему-то, что такого рода командиры должны быть не старше 30 лет и, если формирование осуществится, назначения будут сделаны совершенно вне зависимости от старшинства.
Было бы глупо отказываться, и в принципе я согласился, но просил А. держать это пока в совершенном секрете. Иначе мое положение в нашей батарее стало бы совершенно невозможным. Пока об этих батареях ни слуху ни духу. Думаю, что они остались в области разговоров.
18 октября. Конец был вчера совсем близок.
21 октября. Как в тумане прошли предыдущие дни. Вчера приехал на подводе в Феодосию. Сейчас сижу в неотопленном номере гостиницы «Астория» и… (несколько слов стерлось). Удивительно счастливо я отделался. Конница Буденного была в полуверсте, не больше, от станции Ново-Алексеевка в тот момент, когда я пешком, по ровному полю бежал из эшелона авиационных баз. Постараюсь восстановить в памяти события, насколько это можно сделать после той моральной и физической встряски, какую пришлось пережить. 17-го утром, после хорошего завтрака, не торопясь и совершенно ничего не подозревая, я выехал из Петровского в Рыково (станция ж.д.). Несколько странное впечатление произвел на меня только внезапный переезд штаба Армии из Рыкова в Крым, о чем мне сообщил писарь Л., ехавший вместе со мной. Когда выехали на большую дорогу и я увидел колонну спешно отходивших обозов, стало ясно, что где-то неладно, но в чем дело – никто сказать не мог. Наконец в Рыкове узнаю от какого-то полковника, что армия Буденного[24] заняла Богдановку и явно будет резать железную дорогу на Севастополь. Ехать обратно на север было нельзя – там, судя по всему, шла еще одна кавалерийская группа и все тыловые учреждения панически бежали. Взяв своих солдат Т. и Х., сел в поезд авиабазы, отходивший первым, и через полчаса мы тронулись. Удобный, теплый вагон. Масса офицеров и дам с детьми. Настроены почти все панически, но полная надежда проскочить. Два аэроплана, охранявшие свои базы, донесли, что противник только что выступил из Богдановки и сразу, очевидно, к дороге подойти не может.
Приходим в Ново-Алексеевку. Спускаются аэропланы; взволнованный летчик бегом направляется к эшелону, и через минуту в вагоне общая паника: красные перерезали дорогу и их авангард в двух-трех верстах от нас. Неприятно было видеть, как у некоторых офицеров физиономии перекосились. Смертельная бледность, зубы колотятся – противен человек, когда теряет власть над собой. Но все это, в конце концов, понятно и объяснимо.
Я ждал несколько минут – думал, что поезд двинется на север. Хотел получить у летчиков винтовку, но не найдя ее, велел солдатам бросить кожи и как можно скорее двинулся с ними на Геническ.
На станции затрещали выстрелы… Настроение было ужасное – не могу сказать, чтобы это был страх; скорее, сильнейшая досада на то, что так глупо кончается жизнь. Надежды на спасение не было почти никакой. Дорога шла вдоль фронта, гладкое, открытое поле, ни единого кустика, где можно было бы укрыться. Конница в любой момент могла наскочить, и тогда конец… В памяти стояли полуголые трупы коммунистов под Славгородом с вырубленными на голове звездами. Мимо промчался эскадрон одесских улан. Обозы летели, перевертывая и ломая повозки. Я отстал от Т. и Х., но потом вскочил на повозку каких-то казаков, и мы помчались. Показался вдали Геническ и справа Сиваши. От сердца отлегло, – очевидно, кавалерия грабила станцию и не шла пока дальше. Перешли в шаг. Еще несколько верст, и мы въезжаем за проволочные заграждения вокруг города. Ура, спасены… Давно я так не ценил жизнь, как бы она плоха ни была, как в этот момент. Донцы остановились. Я поблагодарил их и пошел пешком через мосты, мимо бесконечной колонны обозов, спешивших на Арабатскую стрелку. Кроме двух десятков местных офицеров, города никто не охранял, и было ясно, что одна проволока, без защитников, конницы не задержит.
Ночь была темная, мороз становился все сильнее и сильнее. Я совсем было выбился из сил, отошел в сторону от дороги, сел и сейчас же задремал. К счастью, наткнулись на меня летчики – добровольцы из брошенного эшелона – и разбудили. Если бы не они, вероятно, я бы в конце концов замерз (было уже градусов 15 мороза). Добрели вместе до хуторов, не то Счастливых, не то Веселых (что-то, во всяком случае, в названии радостное), верстах в 5–6 от города и забились в хату. У летчиков было много сала и колбасы, но от усталости я ничего не мог есть и, скорчившись, повалился около плиты. Лежал так несколько часов. В голове был какой-то кошмар. Брызнули мне в лицо кипящим салом (нечаянно, конечно), но не было воли переменить положение.
В ночном морозном воздухе, совсем, казалось, рядом, загрохотали тяжелые орудия. Все поднялись, выбежали из хаты. Звездочки неприятельских шрапнелей вспыхивали где-то близко от нас. Обозы рысью понеслись дальше по Арабатской стрелке. Я долго шел пешком – было слишком холодно. Потом устроился на подводе казака-астраханца, которого сам подвез днем, и доехал с ним до Чакрака. Было часа два ночи.
Утром 18 октября начался тяжелый поход через пустынную Арабатскую стрелку. Есть совершенно нечего. На восемьдесят с лишним верст три-четыре хатки. Проснулся утром в Чакраке совершенно разбитый. Нашелся один милый волноопределяющийся, который предложил мне кусок хлеба и половину своей банки консервов. Свет не без добрых людей… Казак, который вез меня накануне, уехал вперед, пока я еще спал. Долго шел пешком один, пока не пристал к обозу одной из корниловских батарей. Достал кусок совершенно мерзлого хлеба, и, как ни пытался согреть его, ничего не вышло. Так и пришлось жевать нечто ледяное. Большую часть дороги шел пешком – мороз больше 10°, с обеих сторон море и, вдобавок, пронизывающий ветер.
Ночью… (несколько слов стерлось)… в маленький хутор… нетопленых комнатах набилось столько народу, что нельзя было повернуться. Когда часть обозов уехала и стало чуть свободнее, мы повалились на пол друг на друга. Хотя мне жестоко жали ноги какие-то бравые казаки, а в комнате, благодаря пробитой стене, температура была ниже нуля, но все-таки я заснул. Очнулся от холода часа в четыре ночи. Оказалось, что комната полна офицеров Сводного Гвардейского кавалерийского полка. Я представился, и ко мне отнеслись очень любезно. Утром с обозом гвардейцев добрался до Арабата…
На этом заканчивается уцелевший отрывок дневника, веденного в России. Возвращаясь на фронт, автор заболел болезнью Вейля (эпидемической желтухой) и принужден был остаться на батарейной базе вплоть до момента эвакуации.
На «Херсоне»
2 ноября. Не помню, где я последний раз писал свой дневник, – кажется, в дико холодном номере «Астории» в Феодосии. Кроме нескольких листиков, мои записки погибли недалеко от Севастополя во время последнего отступления.
На обложке новой книжки – английская надпись: «Empire Reporting Book».
Пишу на «Херсоне», который полным ходом несет нас в Константинополь, а дальше… в Японию, Францию, Индию или еще куда – никто по-настоящему не знает. Мы уже так привыкли к самым невероятным приключениям, что и новое окончательное путешествие из России никого особенно не пугает и не изумляет.
А ведь если всмотреться глубже, то вряд ли в мировой истории найдется много зрелищ, равных по своему трагизму нашей эвакуации. Сто двенадцать тысяч[25] (так определяют общее количество уехавших) после трех лет непрерывной, тяжелой войны едут неизвестно куда и неизвестно на что…
Захотело ехать поразительно много солдат – это, пожалуй, самое удивительное, что есть в нашей эвакуации. Понятно, что едут почти все офицеры и добровольцы (у нас рискнули остаться К. и М.), но бросились грузиться на пароход и те, кому никакой опасности не угрожало. Доходило до смешного – является на наш «Херсон» грузиться какая-то команда. Кто такие? Оказывается – только что взятые на Перекопе красные. Без охраны, пешком прошли больше ста верст и лезут на пароход. Играет тут известную роль и стадное чувство – когда перед самым отходом из Севастополя прислали баржу и желающим предложили съехать обратно на берег, слезло человек двести и даже несколько офицеров. Но я думаю, что типичные Фильки в глубине души думают так: «офицерье» едет – значит, там, за морем, будет хорошо.
Тесно, и духота ужасная. Вчерашнюю ночь спал на палубе. Было довольно холодно, но бурка покойного Бодовского спасала. В темноте ярко светились многочисленные суда международной эскадры, мерцали редкие огни на тускло освещенных пароходах. Часов в 10 вечера подъехал начальник штаба флота и передал приказание – взять на буксир баржу, немедленно сниматься и идти в Босфор. Стало легче на душе – хотя мы и погрузились, но ходили нелепые слухи, что никто нас не принимает и генерал Слащев ведет переговоры о сдаче.
Подняли якорь[26], заработала машина, и тихо поплыл мимо Херсонесский берег…
Сегодня целый день плывем по открытому морю. Тихо и тепло. Волны никакой нет. Благодаря этому доползут до Константинополя даже маленькие старые пароходики вроде колесного «Генерала Русского». Понемногу налаживается дело с продовольствием. Только хлеба совсем нет, зато много сахару, шоколаду и варенья.
Настроение удивительно единодушное – никто больше не желает воевать. Может быть, через некоторое время мы будем смотреть на вещи иначе, но сейчас все настолько измучены, что о возможности продолжения войны думают с ужасом. Ночую опять на палубе, среди солдат 2-го Дроздовского конного полка. Большая часть из них – бредовцы, к «загранице» уже привыкли, и полк едет почти полностью – около шестисот сабель.
3 ноября. Сегодняшняя ночь была уже много теплее. Чувствуется, что идем на юг. Спать было ужасно неудобно. Теснота, давка, ругань, но все-таки лучше, чем в трюме, где совершенно невозможно дышать. О.Н., разминувшаяся в Севастополе с мужем, не выдерживает характера и по вечерам плачет.
Пароход слегка покачивало. Я лежал, закутавшись в бурку, и, кажется, с более тяжелым, чем когда-либо, чувством вспоминал убитых и умерших добровольцев. Непосредственно под моим влиянием много молодежи (в том числе и Сережа) поехало на эту войну, и почти все они погибли. Мне кажется, что мне не в чем себя упрекнуть. Я делал для них все, что мог, и, когда понадобилось, рисковал жизнью, леча их от тифа. Но все-таки тяжело… Особенно Васю и Соколова[27] забыть не могу.
Утром появились дельфины – говорят, это значит, что берег близко, но пока, кроме бесконечного розово-голубого под лучами восходящего солнца моря, ничего кругом не видно. В Константинополь должны прийти около четырех часов дня. В трюме появились доктора. Предлагают нуждающимся в госпитальном лечении остаться в Константинополе. Странно звучит латинская фраза: Questes diagnosis morbi, collega?
Пароход переполнен людьми (больше 6000 вместо 2800), а в то же время балласта в трюме почти нет и «Херсон» то и дело кренится то на один, то на другой борт. Тогда с капитанского мостика отдается команда «на правый… на левый борт», и вся толпа, теснясь и неизбежно ругаясь, переливается с одной стороны на другую. В Константинополе многие собираются остаться, но вряд ли им позволят сойти.
В три часа на горизонте появилась в синем тумане тонкая полоска Малоазиатского побережья. «Земля. Земля… Малая Азия».
Рядом со мной мрачный голос: «Черт с ней, с Малой Азией».
Подходим к Босфору. Серая, тусклая погода, но все-таки оба берега очень красивы. Лиственные деревья уже голые, но трава местами совсем зеленая. На фоне неба чернеют какие-то старинные укрепления. По обеим сторонам прохода – белые маяки. Виднеются деревушки с красными черепичными крышами. Множество лодок с рыболовами-турками.
– Селям-алейкюм, – кричат с парохода. – Алейкюм селям, – отвечают турки, с любопытством рассматривая переполненный зелеными шинелями «Херсон». Поднимаем на передней мачте французский флаг. Он долго не развертывается. В толпе офицеров и солдат острят: «Стыдится французский флаг подниматься на русском пароходе».
Грозно черневшая на вершине скалы зубчатая стена оказывается по мере приближения парохода развалинами крепости Калаки. Рядом с ней – современная, совершенно прозаическая батарея. Насколько можно судить, форты Босфора совершенно неприступны. Стоянка у карантина очень непродолжительная. Подходят катера с французами, англичанами и турками, играющими, по-видимому, чисто декоративную роль в своей собственной стране. Несколько вопросов – есть ли больные, раненые, мертвые, и мы, подняв якоря, «разворачиваемся» и идем дальше. Картина поразительно красивая и совсем нерусская – пинии, кипарисы, минареты и вперемежку с ними роскошные европейские виллы.
Темнеет, зажигаются бесчисленные огни, и мы, как зачарованные, любуемся картиной доброго старого времени – больше всего залитыми электрическим светом пароходами (значит, «уголь есть» и «лампочки не реквизированы»). Среди старинных башен Константинопольского предместья – опять-таки залитый электричеством громадный отель, снующие по берегу давно не виданные трамваи, какой-то ресторан, полный тропической зелени… Словом, перед нами вечерняя жизнь роскошного международного города, бесконечно далекого от наших кошмаров, и она производит прямо-таки подавляющее впечатление на солдат. Сначала слышались сокрушенные воздыхания: «Одни мы, дураки, шесть лет вшей кормим, а люди живут»… а потом все замолчали и любовались морем огней громадного города и таким же морем огней союзного флота на рейде. Огненной сказкой промелькнул Константинополь… вышли в Мраморное море и бросили якорь вблизи от Скутари.
4 ноября. Ночью воспользовался тем, что дамы спали, и переменил белье, обмененное на большую плитку Cow’s Milk Chocolate. С пяти до десяти утра простоял в бесконечной очереди за кипятком. В первый раз испытал это специально советское удовольствие и понимаю, что, стоя в очередях, можно потерять остатки терпения. Хлеба упорно нет. Солдаты нервничают и злятся, но особенно никто не протестует – силой ведь никого на пароход не тянули. С утра «Херсон» осаждают «кардаши» на лодках, полных белого хлеба, громадных плиток шоколада, фруктов и других вкусных вещей. У большинства из нас, увы, только слюнки текут. Турки принимают лишь валюту и особенно охотно – русские серебряные рубли.
– Пакупай, пажалюста… шоколад… сардинка… русска водка…
День серенький. Константинополь из-за этого, вероятно, много проигрывает, но все-таки он замечательно красив. Прямо против парохода, но довольно далеко, – Айя-София. Слева от нее целый лес воздушно-тонких минаретов. Около «Херсона» то и дело появляются моторные и обыкновенные лодки со «старыми эмигрантами» – беженцами новороссийской эвакуации. Наша публика насмешливо кричит: «Привет спекулянтам!», но в общем настроение добродушное.
К вечеру бесконечные слухи концентрируются около отправления в Алжир. Я лично доволен – солнечная, горячая страна, во всяком случае лучше всяких Лемносов, Кипра и других болотистых[28] мест.
Поздно вечером на пароход привезли целую гору прекрасного белого хлеба и немедленно подкормили изголодавшуюся публику. Пришлось приблизительно по фунту хлеба на человека, и настроение сильно поднялось. Наш офицерский трюм удивительно неудачен по своему расположению – весь день тянется бесконечная очередь[29], шум, крики, давка… Надо сказать, что офицеры изнервничались гораздо сильнее солдат.
5 ноября. Приходится пользоваться уборной поздно ночью – часа в 3–4; днем надо простоять в очереди часа два-три. Порядку, вообще, довольно мало – слишком много начальства и, самое главное, слишком переполнен пароход (теперь выяснилось, что народу около 7000).
Стоим по-прежнему против начала Багдадской железной дороги (Гайдар-паша). Кругом нас – целый лес стекающихся из Крыма пароходов под русскими и французскими флагами. Между нами снуют шлюпки, катера. Тяжелораненых и больных сгружают с нашего соседа «Саратова» и скоро должны взять у нас. Много солдат хотело бы остаться в Константинополе, но я их усиленно от этого отговариваю. С остающихся, говорят, берут подписку об отказе от помощи, и в переполненном городе положение людей, совершенно не знающих языков, было бы жалким.
Днем получили первое официальное приказание – сдать оружие[30] (оставляются только шашки и револьверы офицерам). Солдатам было у нас положено передать свои шашки и револьверы офицерам, но делали они это крайне неохотно и многие бросили оружие в море. Положение получилось довольно странное – не то мы армия, не то мы не армия. Я взял себе шашку одного из разведчиков – отчасти на память, отчасти из чисто практических соображений – открывать консервы.
В 4 часа пришел на буксире «Георгий Победоносец» (в прошлом – знаменитый по первой революции «Князь Потемкин Таврический»).
Хотелось сегодня зарисовать панораму Константинополя, но хорошо рисующие люди отсоветовали – такая масса деталей в этом море крыш, минаретов и садов, что карандаш, особенно неопытный, не сможет выделить даже прелестных мечетей Азиатского города. Нужен был бы хороший стереоскопический аппарат. Сегодня совсем тепло, и, смотря на сады Гайдар-паши и зелень Принцевых островов, совсем забываешь о ноябре и недавних морозах на Арабатской стрелке.
Вечером был у нас, офицеров, долгий и горький разговор о нашей полной неспособности что бы то ни было организовать и о гибели множества лучших людей на Германской и Гражданской войне.
6 ноября. Судьба наша по-прежнему остается совершенно неопределенной, и десятки разнообразных, большею частью совершенно недостоверных слухов волнуют и без того изнервничавшуюся публику. Новая версия – сегодня идем на остров Лемнос. Там нас разгружают, моют, приводят в порядок и отправляют дальше. Наш вольноопределяющийся М., побывавший уже на Лемносе, рассказывает о жизни там форменные ужасы. Все-таки если выгрузка там только на время, то лучше поболтаться по острову, чем сидеть на пароходе. Вид Константинополя, при всей его красоте, уже немного наскучил. Кроме того, места здесь, видимо, не слишком-то спокойные. Вчера вечером со стороны Принцевых островов доносился грохот морских орудий и видны были вспышки. По слухам, это союзники обстреливали войска Кемаль-паши[31]. Неприятно, уехав так далеко, все еще слышать грохот войны.
Плохим я, видно, стал артиллеристом… Поручик Г. сегодня, несмотря на наши советы, съехал на берег. Некоторые из нас уже совершенно изнервничались. Боюсь, что все мы в конце перессоримся, если плавание в таких условиях продолжится еще несколько дней. Вчера кормили прилично, а сегодня форменная голодовка. Галеты, как теперь оказывается, были выданы на два дня. Мы их сразу поели и сегодня питаемся салом да вареньем без хлеба.
7 ноября. Наконец-то наша судьба более или менее определилась – идем в Галлиполи. Долго ли будем там жить или поедем в Африку – неизвестно. Зато окончательно решено, что мы остаемся Русской армией. Каждая дивизия свертывается в бригаду[32], регулярная конница образует одну дивизию, 2-й корпус совершенно расформировывается. Что касается жалования, то что-то, видимо, платить будут, но сколько именно – слухи самые разнообразные. Называют цифры от 180 до 1200 франков[33] (для офицеров). Нельзя сказать, чтобы кто-нибудь особенно радовался такому обороту дела. Правда, оставаясь Армией, мы сохраняем определенное положение и кормить нас во всяком случае будут, но раз армия – значит, рано или поздно – война, а воевать сейчас никому не хочется. Читал вчера «Temps», «Presse du Soir», «Stamboul». Настроение гг. корреспондентов диаметрально противоположное нашему – страшно хотят воевать, особенно неугомонный Владимир Бурцев. Отношение к нам французов, видимо, действительно сочувственное. Наоборот, англичане, по слухам, всячески вставляют палки в колеса. Вчера, впрочем, на «Херсон» приехали какой-то англичанин и две чрезвычайно некрасивые мисс в автомобильных шубах. Хотели спуститься в трюм и раздать детям шоколад, но дошли только до люка. Оттуда в западноевропейские носы повеяло таким ароматом, что мисс поспешили удрать, передав шоколад нашему поручику Н.
В 10 часов утра снялись с якоря и вышли в Мраморное море. Я лежу в трюме и злюсь на распущенность наших офицеров. Дежурного назначить невозможно – все заболевают и не хотят ничего делать. О солдатах и говорить нечего – даже за обедом трудно кого-нибудь послать.
8 ноября. Поздно ночью подошли к Галлиполи. Не могу выйти на палубу и посмотреть, так как ночью кто-то сбросил на пол мой бинокль, и теперь я буквально не знаю, что делать. Творится что-то неладное. Продуктов сегодня, кроме двух банок сгущенного молока и трех крошечных коробочек паштета, на всю батарею совсем не выдали. Офицеры усиленно толкуют о приказе генерала Кутепова (почему его, а не Врангеля?) – формировать из добровольцев одну дивизию пехоты и одну кавалерийскую, куда поступают исключительно добровольцы. Все остальные возвращаются в качестве беженцев в славянские страны. Что это за корпус, каковы его задачи, что будет с остальными – ничего неизвестно. Около 12 часов дня по трюмам прочтен приказ – исполнять только распоряжения, исходящие от генерала Туркула[34], и никаких больше распоряжений не исполнять. Что сей сон значит, когда на борту комкор, генерал Писарев[35], – не понимаю.
Утверждают даже, что Туркул только что арестовал начальника штаба корпуса, за что – тоже неизвестно. Генерал Туркул в приказе по кораблю объявил, что выгружаются все и немедленно. С палубы слышны взрывы – «ура» [36]. Немного вспоминается 1917 год – больно у всех поднялось настроение.
Кроме большого количества варенья, не ел ничего.
9 ноября. Продолжается прежняя голодовка. Сегодня дали по одной галете и по 1/16 фунта хлеба. Нашу батарею еще поддерживает сало (роздали последнее) и варенье (тоже кончили сегодня).
На «Саратове» двое уже застрелились на почве голода, а троих якобы расстреляли за попытку военного мятежа (тоже из-за голода) [37]. Наши офицеры становятся все более и более несносными – большинство не справляется с голодом и идут постоянные мелочные ссоры. О.Н. невозможно невоздержана на язык и вносит много беспокойства. Один подполковник Б. ровен и выдержан, как всегда.
Началась вчера выгрузка, но идет очень медленно из-за недостатка лодок. Городишко очень маленький, наполовину разбитый. Выгрузившиеся части будут ночевать в полуразрушенной мечети.
10 ноября. 6 ч. утра. Темно и на ветру холодно. Стою в очереди за кипятком. Палуба завалена скрюченными телами спящих людей. Монотонно шипит пар в трубе, тускло светит электричество. В темноте мерцают огоньки «Саратова», «Крыма» и других транспортов, стоящих поблизости. И на каждом из них те же измученные, изголодавшиеся люди, не знающие, что их ожидает впереди.
Снова слезы подступают к горлу. Из-за воспоминаний и тесноты я не мог спать, вышел на свежий воздух, но и тут они меня преследуют. Встает в памяти прошлая зима, зеркальная гладь скованного льдом Дона. В голубом тумане виднеется далекий Ростов. И кругом – все те, кто теперь давно уже навеки успокоились в могиле. Юнкер Сидоренко – горячий, увлекающийся, но прекрасно дисциплинированный и до фанатизма упорный человек. Тихий, застенчивый, неловкий гимназист Гурьев. Иванов, так же тихо умерший, как тихо он жил. Вечно веселый, краснощекий Коля Соколов – ему оторвало голову на мельнице в Фридрихсфельде. Атаки Буденного на Кулишевку… [38] Разбитая, точно высосанный апельсин, голова ездового, кости, торчащие из сапога раненого реалиста Жоры Б. Кошмары кубанского отступления… В период горячих боев как-то не замечалось того, что принято называть «ужасами войны», а теперь эти ужасы все сильнее и сильнее чувствуются.
Думаю, что из всех предполагаемых формирований ничего не выйдет. Старые офицеры – добровольцы и солдаты, как интеллигентные, так и простые, – в один голос говорят, что разбегутся куда глаза глядят, если только дело запахнет новой войной.
11 ноября. Ни разу еще голод так сильно не чувствовался, как сегодня. С утра не дали ничего, кроме 1/16 фунта хлеба. По кружке супа выдали только около 4 часов. В результате я так ослабел, что не мог подняться с койки до самого обеда. Голова горит, виски сжимает точно железным обручем. В горле пересохло, и мысли порой путаются. Кроме того, появилось что-то вроде слуховых галлюцинаций: несколько раз я ясно слышал ружейные залпы и отдельные выстрелы. На самом деле никто не стрелял. Солдаты, по-моему, очень терпеливо переносят голод. Осунулись многие страшно. Целый день лежат на нарах и воюют со вшами, которых из-за грязи и тесноты расплодилось невероятное количество. В нашем офицерском трюме много стеснения вносят дамы, не пожелавшие ехать в трюме, специально отведенном для женщин. Однако, благодаря продолжительному путешествию, офицеры уже совершенно перестали обращать внимание на их присутствие и по вечерам бесцеремонно раздеваются.
Что делается на берегу, толком никто не знает. Уверяют, что из-за отсутствия помещений и голодовки солдаты чуть не сотнями убегают в соседние славянские страны. Кроме того, голодные марковцы разграбили склад, и шесть человек за это расстреляно[39].
Наше начальство остается верным самому себе. Штабы, насколько можно судить, чрезвычайно мало заботятся о всех нас. Штабные великолепно разместились с семьями в своих комфортабельных каютах и пьянствуют аккуратно каждый день.
Очень характерно, что ни один генерал не полюбопытствовал зайти в трюмы и посмотреть, как разместились войска[40]. Лишний раз припоминается: «Нельзя вливать вино новое в мехи старые».
12 ноября. Всевозможные противоречивые распоряжения сыплются градом. То мы выгружаемся, то не выгружаемся, и, самое главное, никто не считает нужным ознакомить нас, офицеров, с положением вещей. Генерал сегодня наговорил Ш. (подполковник нашей батареи) дерзостей и в заключение патетически воскликнул: «Пора подумать о родине». Ш. напомнил генералу, что африканские колонии, да и здешние места тоже, вряд ли являются для нас родиной.
С довольствием немного лучше. Вместо 1/16 хлеба получили по 1/4 и по половине галеты.
Приемы обращения с турками у союзников очень свирепые. Сегодня стою на палубе – вдруг выстрел с миноносца. Снаряд лег у азиатского берега перед носом какой-то шлюпки. Она продолжает на всех парусах идти дальше. Очередь из двух орудий – снаряды ложатся у самой лодки, она круто поворачивает и направляется к миноносцу. Навстречу ей выходит французская шлюпка, берет турок на буксир и тянет к своему кораблю. Кажется, в конце концов французы их отпустили, но, во всяком случае, манеры обращаться с местным населением у них решительные. В результате среди турок чрезвычайно популярны большевики. К нам они относятся хорошо, но, кажется, это потому, что в простоте душевной они всех русских считают большевиками.
Галлиполи. 26 (13) ноября. Наконец день выгрузки настал. С «Херсона» перешли на маленький «Христофор», после томительного ожидания «отдали концы» и двинулись к берегу. Мне сильно нездоровилось. От голода кружилась голова, но все-таки не хотелось возвращаться в Константинополь. Иначе потом было бы трудно вернуться к своим.
Вблизи городок оказался гораздо приветливее. Набережная, как муравьями, усеяна русскими. Одни завтракают, другие усиленно истребляют вшей, пользуясь тем, что на солнце в затишье совсем тепло, третьи просто бродят по городу, разминая затекшие от неподвижности ноги. В толпе русских снуют черные, как смола, сенегальцы, французские матросы в беретах с красными помпонами, нарядные греческие полицейские. Я настолько ослабел, что с трудом сошел по скользкому трапу и качался на суше как пьяный. Голова кружилась жестоко, и в глазах ходили черные круги. На берегу сразу выдали фунта по полтора хлеба и по полбанки консервов. Съел почти весь хлеб с «Compressed Cooked Corned Beef», и сразу на душе стало легче. Могу теперь писать. Повеселели и солдаты.
Через час веселой и довольно нестройной толпой двинулись через полуразрушенный город к казармам. Узкие улицы полны народа. Лавки завалены всякой снедью. Пронзительно выкрикивают мальчишки: «Карош, карош, карош…» Много зелени – полуосыпавшийся инжир, знакомые по Крыму кипарисы и никогда еще не виденные, декоративно-красивые пинии, лавры, оливки и еще какие-то совершенно незнакомые деревья. Тихо и тепло, как в апреле на Севере. Отвыкшие от ходьбы ноги плохо слушаются. Часто садимся отдыхать и наконец добираемся до полуразрушенных казарм, рядом с которыми помещается «12-me Pregiment des Tirailleurs Senegalais». Сенегальцы с татуированными физиономиями в красных фесках высыпают навстречу, вызывая восторженное изумление наших солдат. Некоторые из них (особенно воронежские крестьяне) еще никогда в жизни не видели негров.
На первых же порах вышел инцидент: наш вольноопределяющийся О. отправился в «чернокожий клозет». Негры на него набросились, чуть не избили и выгнали вон.
Ночевали под открытым небом в балочке. Ночь была тихая и ясная, но очень холодная. Пришлось почти все время не спать и греться у костра.
27 (14) ноября. Дует жестокий норд-ост, рвет еще не облетевшие листья с платанов и заставляет вспоминать о крымских холодах. Впервые получили порядочно продуктов – по фунту хлеба, немного галет, чай, кофе, по ложке сахара, консервы, бульон в кубиках, кокосовое масло, сушеный картофель. После жестокой голодовки это кажется совсем много. Кипятится в ведрах суп, кофе, и настроение сильно поднимается.
Днем бродим по городу вместе с Ш. и Б. Русских еще больше, ведут себя вполне прилично, но нет и следа той выправки и щеголеватости, что у французов и греков. К вечеру перешли в освобожденный корниловцами барак без окон и кое-как разместились. Я достал у французов пилу, топор и молоток. Досками от старого барака забили окна. Получилась темная и холодная комната, но, по крайней мере, хоть ветер не дует. Щели заклеили полосками из «Temps», «Matin» и «Petit Meridional».
Я так привык к невозможным нравам теперешнего нашего офицерства, что был порядком поражен доверчивостью французов. У меня не спросили ни фамилии, ни наименования части. Лейтенант дал мне записочку к sergent du genie приблизительно такого содержания: «Господину русскому капитану выдать те предметы, которые он попросит». Вероятно, присмотревшись к нашим нравам, французы скоро перестанут нам доверять.
28 ноября[41]. Спать было отвратительно. У меня нет одеяла, бурку пришлось вернуть ее теперешнему владельцу поручику Т., а холод был собачий. Из всех щелей дуло, и по головам весело прыгали крысы. Впрочем, все-таки лучше, чем на улице. Вечером долго говорили насчет будущего. Положение остается все еще неопределенным. Врангель якобы находится в Париже[42] и ведет переговоры с союзниками, настаивая на сохранении русского корпуса как вооруженной силы. Союзники, наоборот, предлагают обратить нас в эмигрантов-колонистов с тем, чтобы мы рассеялись по всем странам Согласия. На первое время обещают материальную помощь. Чего хочет сама армия? Генералы и интенданты, безусловно, хотят воевать. Остальные все, столь же безусловно, воевать не желают. Вера в возможность что-нибудь создать при наших порядках и грабительских наклонностях многих и многих начальников совершенно потеряна. Прав наш полковник С. (кадровый офицер), говоря: «Организм прогнил сверху донизу. Нужно разрушить здание до основания, как это сделал Троцкий, и строить его заново». Кто только будет его строить, и кто даст для этого деньги? По слухам, французы будут охотно принимать офицеров на свою службу при условии полгода прослужить солдатом, а затем получать по чину через полгода, пока французский чин не сравняется с русским. Если мы обратимся в эмигрантов, то, вероятно, лично для меня это будет наиболее приемлемым выходом. При всем желании, не могу ни обрабатывать полей[43], ни грузить пароходов.
29 ноября. Опять провел отвратительную ночь. Толкали со всех сторон, и сильно болели ноги. Норд-ост стихает, и становится теплее. От «Союза Дроздовцев» получили спирт, но жаль, что роздали его только офицерам. Слишком много недовольства и разговоров среди солдат.
30 ноября. В 9 часов утра, нагрузив на себя вещи, двинулись потихоньку в лагерь. Оригинальная здесь погода – два-три дня тепло, как у нас весной, потом начинается сильный норд-ост, а через день-два снова тепло. Сегодня солнце греет так, что совершенно забываешь про зиму. Бредем по берегу моря. Все, имеющие много вещей, проклинают свою судьбу. Я в этом отношении в «исключительно счастливых» условиях. Вещей нет совершенно, кроме маленького сверточка с грязным бельем в кармане. В другом кармане роман Фламмариона «Stella», подобранный на пароходе, и это все. На всех сказались голодовка на пароходе и крымские злоключения. Проходим полверсты и отдыхаем. Добрались до лагеря около двенадцати. Палатки (в разобранном виде) уже были на месте. Приступили сейчас же к постройке, чтобы по возможности окончить до вечера. Мне полковник С. поручил перевести английскую инструкцию. Кое-как разобрал, но в брошюре масса технических названий и для полного понимания моих двухмесячных занятий английским слишком недостаточно. Солдаты голодны и угнетены неизвестностью. Работают вяло и неохотно. К темноте все же удалось собрать оба барака. Палатки очень хорошие (только не для ноября месяца) – двойные, с восемью окнами из прозрачного целлулоида с каждой стороны. Местность, где расположен наш лагерь, довольно живописная, но сейчас она имеет печальный вид. Облетают последние листья с ив и каких-то незнакомых кустарников. Только ежевика еще совсем зеленая, да кое-где попадаются те же самые лиловые цветы (забыл название), которыми полны наши русские поля летом. Но здешняя осень все же сильно разнится от нашей. На берегах Мраморного моря природа умирает медленно и незаметно, не зная насильственной смерти от раннего мороза.
1 декабря. Сегодня опять дует холодный ветер с Балкан. Спать было немного теплее, чем в турецких казармах, но колени все же сильнее разбаливаются. Боюсь, чтобы не начался настоящий суставный ревматизм.
По словам бригадного адъютанта, на днях должен приехать генерал Врангель и, вероятно, положение несколько выяснится. С питанием дело начинает налаживаться. Хлеба сегодня дали 11/4 фунта. Обещают через два-три дня довести паек до нормы. Я сильно ослабел. Пока сижу в палатке, чувствую себя недурно, но стоит немного побродить по окрестным холмам, и ноги совсем подкашиваются, сердце скачет и появляется одышка. Придется долго приводиться в порядок, если здоровье окончательно не сдаст. В то же время после голода на пароходе неполный французский паек, который мы получаем, кажется мне достаточным.
2 декабря. С утра тепло как весной. Бродили долго вблизи от лагеря с кадетом В. Он, бедняга, сильно осунулся, сгорбился и зарос беленькой щетиной. Все время кашляет и злится. Не узнать прежнего щеголеватого, жизнерадостного кадета.
Пришлось услышать массу горького. Солдаты якобы в один голос (значит, и добровольцы) говорят о том, что мы, офицеры, обделяем их, чуть ли не воруем продукты и т. д. Обидно, провоевав вместе два года, слышать те же речи, какие говорились в изобилии на всех митингах в семнадцатом году.
3 декабря. Наши беглецы-фейерверкеры (Р., Л. и Ш.) попали в грязную историю. Границы им перейти не удалось, вернуться в батарею страшно, и они, все трое, лежат в лесу в трех верстах от лагеря. Попросил командира дать им возможность вернуться, и он частным образом разрешил. Хороший пример для остальных – разговоры о бегстве сами собой прекращаются.
4 декабря. Понемногу вводятся порядки мирного времени. С вчерашнего дня подъем в семь часов по трубе, в пять – вечерняя перекличка. Все порядочно позабыли уставные порядки и команды (пр. № 3). Кроме того, всем как-то не по себе. Никто не может сам себе объяснить, для чего это все теперь делается.
Приехал… из Симферополя Демка Степанюк. В Симферополе откуда-то грабанул три добровольческих миллиона. Когда началась паника, отправился в пожарную команду, запряг пару лучших лошадей и уехал в Севастополь. Пароходы уже были на внешнем рейде, но отставших подобрал американский миноносец, и на нем Демка доехал до Константинополя. Пролежал несколько дней в лазарете и добрался сюда. Для неграмотного девятнадцатилетнего парнишки совсем здорово! Не пропадают русские Фильки.
5 декабря. Из Константинополя приехал поручик Л. Генерал Врангель, по его словам, остается там. Издан якобы приказ, что Армия остается армией, но воевать будет только против большевиков. Вечером полковник Ск. собрал всех михайловцев и предложил обсудить, как отпраздновать столетие нашего Училища. Решили накануне (24 ноября по старому стилю) отслужить панихиду, на следующий день молебен и, если удастся, устроить маленький завтрак. Меня, как знающего язык, командируют к французам попросить вина и консервов. Грустный юбилей некогда блестящего училища. У михайловцев тоже грустный вид – обтрепанные, небритые; кое-кто (и я в том числе) в развалившейся обуви.
6 декабря. С утра отправился вместе с полковником Ск. и Г. в город. Идти тяжело – сильно болят вновь открывшиеся язвы на левой ноге (воспоминание об орловских морозах прошлого года).
В фуфайке и кожаной безрукавке совсем жарко. Голубое море, голубое небо, босые турецкие бабы, свежая капуста и лук на базаре… все еще не могу привыкнуть к средиземноморской зиме. Французы в выдаче вина отказали, и притом довольно-таки неделикатно. Познакомился с французским консулом (на почве продажи кожи для подполковника Г.). Он, наоборот, оказался очень любезным, обещал снабжать нас газетами. Долго рассказывал консулу и его семье о добровольческой армии. Вопросы мне предлагали чрезвычайно дикие – например, обитаема сейчас Одесса или же город совершенно разрушен. Таким образом, классическая «клюква» продолжает расти.
Ночь была такая теплая, что, возвращаясь в лагерь, на подъемах я обливался потом.
7 декабря (24 ноября ст. ст.). Вечером отслужили панихиду по «основателю Михайловского Артиллерийского училища Великому князю Михаилу Павловичу и по всем воинам, бывшим михайловцами, на поле брани за веру, царей и отечество живот свой положившим». Заходящее солнце заливало оранжевым светом палатку, в которой шла панихида. На фоне просвечивающего брезента четко рисовались ветки, приготовленные для плетня. Не знаю, почему, но эти тени на оранжево-зеленом брезенте напомнили мне гравюры Остроумовой, а вместе с ними – старый, дореволюционный Петербург. Впрочем, революционного Петрограда я так и не видел. Городом стиля и полной, красивой жизни осталась у меня в памяти наша сумрачная столица, и только такой хотел бы я снова ее увидеть.
8 декабря. Праздник наш прошел печально. Во время молебна снова дул холодный балканский ветер, ноги стыли, как зимой. Вечером компанией в 9 человек купили на общие средства три бутылки коньяку… [44] и несколько фунтов инжира. Кроме того, командир дал четыре банки все того же «Compressed Corned Beef». Коньяк оказался неважным, но выпили мы его с удовольствием. Первый тост, по обычаю, молча – за основателя. Настроение все-таки было грустное.
Понемногу мы начинаем отдыхать. Головы снова принимаются работать, и в откровенные минуты разговор невольно сбивается на подведение итогов. Что касается меня, я всегда развиваю свою любимую тему – в поражении виновато не одно только начальство, а и большая часть рядового офицерства, также не сумевшего самостоятельно и не по трафарету мыслить и действовать, как и многие престарелые генералы.
9 декабря. Целый день идет проливной дождь. Ветер так и рвет палатки. Почва кругом лагеря обратилась в сплошное болото. В прорванных ботинках я чувствую себя отвратительно и целый день сижу в палатке.
Очень многие офицеры усиленно занимаются французским языком, и я, оказавшись лучшим «французом» в батарее, служу в качестве ходячего словаря и справочника, хотя сам сильно подзабыл язык за военные годы. Учебников пока нет. Теперь, когда дело фактически кончено, многие начинают откровенно рассказывать о своих ощущениях во время последнего отхода. И лишний раз убеждаюсь в том, что одно дело переживания, которые в известных случаях считаются обязательными, а другое – те чувства, которые на самом деле появляются.
Казалось бы, что последние часы нашего пребывания в Крыму старые добровольцы-офицеры должны были бы горевать при виде гибели нашего дела. Между тем многие признаются, что с удовольствием разбивали винтовки, пулеметы, рубили колеса у орудий. Когда я с подполковником Ш. подъезжал к Бахчисараю, капитан-марковец, первопоходник, откровенно сознался, что с ужасом думает о возможности ликвидации прорыва и продолжении борьбы.
11 декабря (28 ноября). Официально введен новый стиль, но пока как-то не могу к нему привыкнуть. Утром командир одной из частей, генерал, собрал офицеров и начал долго и нудно говорить о заслугах…, чести, отечестве и т. д. Офицеры долго не понимали, в чем, собственно, дело… Наконец генерал прочел давно опубликованный, но не исполнявшийся приказ о праве штаб-офицеров уезжать (пр. № 1 и 2), обрушился на всех, кто этим приказом воспользуется, и в заключение заявил, что возврата им в часть не будет. Впечатление у слушателей получилось самое нехорошее. Вообще, начальство наше чем было, тем и осталось.
Генерал Кутепов держит себя так, как ни один генерал в дореволюционное время себя не держал. Вчера он собственноручно избил офицеров[45], пытавшихся перебежать к Кемаль-паше, и сорвал с них погоны. В Императорской армии за преступления расстреливали, но случая избиения офицеров, кажется, не было. Вообще нравы Добровольческой армии – это громадный шаг назад по сравнению с прошлым. Случалось, что начальники дивизий собственноручно расстреливали пленных, полковник Г. избивал женщин – словом, все, казалось, только и делали, что старались подорвать доверие и уважение к армии и погасить тот порыв, который действительно мог донести нас до Москвы.
Младшие не уступали старшим и вели себя порой как самые посредственные комиссары. Как-никак, вообще говоря, артиллерийские офицеры очень культурный элемент Армии. Между тем вчера я до позднего вечера слушал, как, захлебываясь от смеха, вспоминали о таких эпизодах, о которых, самое меньшее, надо тщательно молчать. В особенности мне понравилось, как мичман N-й батареи, забравшись в гостиницу, занятую каким-то санитарным отрядом, кричал сестрам: «Молчать, а то я вас перепорю»…
12 декабря. С утра строили новый (третий) барак. Когда он будет готов, палатки сильно разрядятся и можно будет ворочаться ночью, не толкая соседей. У меня сейчас самый острый вопрос – это разорванный ботинок. Мои приятели-офицеры смотрят косо на то, что я не участвую в общих работах, но ходить почти босиком по густой, холодной грязи тоже невозможно. Пытался заработать несколько лир, предложив давать уроки французского языка турецкому офицеру запаса, но он, как на грех, переехал из своей лавки на хутор в город. Вероятно, мне придется преподавать все тот же французский в лагерной школе, которую предполагается открыть.
13 декабря. Холодно, голодно и скучно. Больше нечего отметить. Жизнь становится совсем серенькой.
14 декабря. Левый ботинок развалился окончательно. Не было денег вовремя его поправить. Теперь во время работ (пр. № 5) сижу в палатке в качестве бессапожного. Это пока, надо сознаться, имеет свою хорошую сторону, но потом будет скучно, если ботинок так или иначе не дадут.
15 декабря. Сегодня утром отправился в город в надежде раздобыть лиру на починку ботинок либо у полковника А. в Артиллерийской школе, либо у кого-нибудь из знакомых юнкеров-сергиевцев. Милый штабс-капитан П. одолжил мне для этого путешествия свои. Город приобрел совсем полурусский вид. Много юнкерских караулов, не за страх, а за совесть мешающих продавать обмундирование. Некоторые части размещены по квартирам – видимо, французы стали лучше к нам относиться, убедившись, что мы ведем себя вполне прилично. Переговорил с effendi Zade Suraja – очень культурным турецким офицером запаса. Он хорошо говорит по-английски. Уроков моих ему, к сожалению, не понадобилось. Вообще, день прошел неудачно. А. не повидал, до Сергиевского училища не дошел. Неизвестно почему началась рвота, и пришлось идти обратно. Еле дотащился до лагеря.
У французского коменданта идет запись (кажется, нелегальная) в «Legion Etrang`ere». Условия каторжные. Может выйти так, что и я в конце концов попаду туда, но пока что идти добровольно на эту каторгу совсем не хочется. Записывается много – все либо немолодые офицеры, окончательно потерявшие голову, либо совсем юные – молоденькие вольноопределяющиеся, кадеты. Эти, видимо, еще не уходились и их тянет новая авантюра.
16 декабря. С утра лежу и не могу подняться. Н.А. (сестра милосердия) освободила меня от нарядов. Сильная слабость и боль в животе, хотя, кроме казенной пищи, я ничего не ел.
Питание стало совсем недостаточным и не вовремя получается. Утром – полкружки чаю (кипятку мало) без хлеба. Сахар то есть, то нет. Часа в два «обед» – полкотелка жидкого супа с разварившимися консервами, и больше ничего. Обыкновенно, часа через два после обеда приносят и выдают по 1 фунту хлеба. Вечером либо ничего, либо один кипяток и, в лучшем случае, по крошечному кусочку (16 граммов) сала. С таким рационом, пожалуй, и чахотку наживешь.
17 декабря. Не подлежит никакому сомнению, что Армия так или иначе большею частью разойдется. Дисциплина из-за голода сильно пала (пр. № 4). У меня лично никаких недоразумений с солдатами не выходило, но у меня их вообще и раньше никогда не было. У большинства же офицеров (особенно не кадровых) то и дело выходят более или менее крупные недоразумения и приходится спускать солдатам крупные дерзости.
18 декабря. Выяснилось, что вечером приезжает генерал Врангель. Настроение до крайности приподнятое. Только и слышно: «Признали, не признали».
Вечером вернулись из города наши солдаты и рассказали о встрече, устроенной генералу Врангелю. Он прибыл на французском броненосце вместе с адмиралом де-Бон. Встречали почетный караул из сенегальцев, юнкера и конногвардейцы. Армия якобы признана, но только правительством, потихоньку от парламента. Нежелающие будут, как говорят, отпущены. Офицеры и солдаты, в общем, сильно разочарованы.
19 декабря. Генерал Врангель прибыл около трех часов. Помню я, как ожидали приезда Государя на Бородинском поле. Сегодняшние ощущения очень мне напомнили Бородино 26 августа 1812 года. Серенький день. Огромная масса офицеров и солдат, нетерпеливо ждущая своего вождя. Как-никак, Врангель – единственный человек, имя которого нас связывает, и только благодаря ему существует Армия или подобие армии.
За холмом, нарастая, несется громкое «ура!». У нас, дроздовцев, мертвая тишина. Наконец знакомая огромная фигура Врангеля появляется около палаток. Около него, еле поспевая, семенит маленький сухощавый адмирал де-Бон с характерной бородкой французских моряков. Знакомое «Здравствуйте, орлы-дроздовцы» – и громкий единодушный ответ.
При мертвом молчании нескольких тысяч человек генерал говорит краткую, но, как всегда, сильную речь. Просит войска дать ему возможность при переговорах с союзниками опираться на Армию, как на действительно организованную и дисциплинированную силу. Затем громкое «ура» в честь Франции, и Врангель уходит в палатку на совещание. Вечером стало известно, что желающие смогут уйти и что будет платиться жалованье, но сколько – неизвестно. Настроение сразу прояснилось.
20 декабря. Первоначальные сведения оказались неточными. Всех желающих не отпустят. Можно будет уйти, только пройдя через медицинскую комиссию (пр. № 6). Из наших офицеров (не считая парковых) собирается перейти на беженское положение очень немного. По-моему, менять плохое положение на еще худшее нет никакого смысла.
Если комиссия будет пропускать всех желающих, то в пехоте никого не останется. Как всегда, бестактное пехотное начальство устроило из офицерских частей какой-то дисциплинарный батальон[46]. В результате в офицерском батальоне записались все, кроме командиров рот.
21 декабря. Усиленно занимаюсь французским языком со всеми желающими. Думаю, что впоследствии мне удастся сделать часть своих уроков платными и тогда я заживу прилично. Пока что сильно устаю и голодаю больше, чем те, которые языков не знают (мне нечего продавать – все вещи погибли).
24 декабря. Сегодня вечером управление дивизиона согласилось, чтобы я давал им уроки за плату (пока что 1 драхму за час). Хотя маленькое, но все-таки улучшение – можно будет хоть хлеба прикупать. Надо будет постепенно и другие группы сделать платными.
25 декабря. Рождество по новому стилю, но праздновать будем по старому. Мокро и холодно. В палатке, кроме того, страшно сыро, а я, к тому же, из-за отсутствия подметок уже простудился. Палатка наша теперь имеет очень уютный вид. Места отдельных компаний оплетены плетнями и обсажены вечнозелеными деревцами. С большим трудом начинают строить печку – кирпичи приходится носить на себе из города.
На знаменитую комиссию по освобождению записались почти все офицеры пехоты[47].
В нашей батарее записалась половина состава (преимущественно солдаты). Комиссия пропускает теперь не более 50 %. Таким образом, Армию, очевидно, решено не распускать.
27 декабря. Однообразно течет наша жизнь, но у меня лично времени скучать совсем нет. Занимаюсь с двумя офицерскими и одной солдатской группой нашей батареи и с управлением дивизиона. Приходится, кроме того, подготовляться к урокам, так как многое вылетело из головы. Благодаря двум драхмам в день удается немного подкармливаться, и голода я уже не чувствую. Если удастся еще получить урок в штабе полка, будет совсем хорошо. Солдат (главным образом добровольцев) обучаю, конечно, бесплатно. Сегодня был ясный, совсем теплый день и мы занимались, сидя на солнышке. Бедные последние добровольцы – оборванные, грязные и изверившиеся во всем…
28 декабря. Сегодня начинаются комиссии по освидетельствованию. Наша батарея, кажется, больше остальных не хочет воевать – записалось 92 человека из общего числа 250, желающих уйти в четырехбатарейном дивизионе. Причина, вероятно, в том, что у нас каждому предоставлялась полная свобода действий. Офицеры первой батареи, наоборот, уверили своих вольноопределяющихся в том, что «уход из Армии в данное время есть дезертирство».
1921 год
1 января. Новый год. Настроение совершенно не праздничное. Вчера отслужили молебен. В управлении дивизиона был ужин, но только для своих. Одно хорошо – погода нас балует последние дни. Море не шелохнется. Солнце, особенно за ветром, греет так, что кузнечики проснулись и стрекочут, как летом.
По горам ходить в шинели совершенно невозможно. Наверное, будет еще и холодно, но пока вспоминаешь Пушкина:
Но наше северное лето Карикатура южных зим…Если искать известного символизма, то этот год должен пройти так же тихо, как его первый день. Прошлый Новый год я встретил в Новороссийске. Сидел без копейки денег и голодал. За несколько часов до полуночи разразилась сильнейшая гроза, и весь 1920 год был полон потрясений. Хотелось бы в 1921 не бывать так часто в соседстве со смертью. Иначе ее уже не миновать.
7 января (25 декабря ст. ст.). Ничего не записал за эту неделю. Отчасти потому, что поленился, отчасти за отсутствием внешних событий. По-прежнему занимаюсь французским языком. Через день профессор Даватц[48] ходит к нам и читает введение в анализ. Высшую математику прохожу с интересом, но голова из-за отвычки работает с трудом.
В общем, я все же очень доволен, что она занята и нет времени особенно думать о будущем. Некоторые из-за этих дум совсем падают духом и только мешают своим нытьем другим.
Вчера отправились в город наши беженцы (категористы). До сих пор сидят на пристани, и никто их не кормит. Словом, злоключения начинаются с первых же часов. Мое личное желание – переждать некоторое время, не занимаясь физическим трудом, к которому я совершенно непригоден, и подучиться языкам. В сфере умственной работы я берусь состязаться…, а камень дробить или пни корчевать – лучше сразу застрелиться.
Сегодня русское Рождество – такое же грустное, как и Новый год. Обещают, правда, дать по две лиры, но пока мы их не видим.
14 января. Вчера лагерь с большим подъемом встретил русский Новый год. Была тихая теплая ночь – весенняя или зимняя – не знаю, как и назвать ее. Ярко светят звезды, по всей долине горят костры, и, то замолкая, то усиливаясь, несется «ура». Трещат выстрелы. Дежурные беспомощно носятся по линейкам, а пули свистят точно на фронте, но летят, правда, в небо.
У меня не хватило денег (выдали по две долгожданных лиры, но я купил белья, тетрадку, халвы, и ничего не осталось), чтобы присоединиться к одной из пивших компаний. Пришлось сидеть в своем углу и не спать – шум, песни, крики продолжались до глубокой ночи. По-моему, как ни тяжела для большинства лагерная жизнь, а нервы понемногу отдыхают от войны и люди снова учатся веселиться… После взаимных поздравлений компании отправились поздравить другие батареи и пехоту. Все угомонилось только часам к трем. Больших скандалов и несчастных случаев, кажется, не было. Интересно наблюдать солдат – большинство живет только впечатлениями сегодняшнего дня. Дали 250 гр. консервов и 500 гр. хлеба – все веселы и довольны. Случайно запоздает хлеб или консервов вдруг дадут всего 75 гр. – настроение сразу падает и начинаются разговоры о скором прекращении «кормления».
Возвращение (пр. № 10) беженцев (их почему-то никуда не приняли, и «Артемида» пришла обратно) подействовало очень отрезвляюще, и в результате солдатский барак принял, наконец, более приветливый вид. Устроены «купе» на 3–4 человека и украшены вечнозелеными деревцами. Видимый перелом в солдатских настроениях чувствуется и в отношении солдат к возможности продолжения войны. Помню, как полтора месяца тому назад на борту «Херсона» М. (доброволец, ученик духовного училища), бледный как мертвец и, видимо, сильно волнуясь, говорил мне: «Если еще воевать в России – лучше сейчас в Босфор. По крайней мере, скорее конец». Теперь он же пристает ко мне с вопросами – когда, мол, едем в Германию формироваться и воевать. Слухи о формировании международного корпуса для борьбы с большевиками идут упорные. Почву под собой они, видимо, имеют, но самое интересное, что они уже не волнуют солдатскую массу. По-моему, две главных причины играют тут роль: многолетняя привычка к войне и тяга в Россию…
Что записать о своих личных делах? Как учитель французского языка я освобожден совершенно от нарядов. Зато денег эти занятия теперь совсем не дают. Хлеба мне не хватает, но и голодать не голодаю. Благодаря занятиям языками и математикой голова у меня постепенно начинает работать и, самое главное, я не чувствую той моральной подавленности, которая многих угнетает. Только прошлое, порой, не дает мне покоя. Вчера генерал Врангель прислал войскам поздравительную телеграмму (пр. № 8). Больше всего мне понравилось упоминание о «ряде дорогих могил позади». Сказывается чуткий человек в нашем главнокомандующем, а так мало людей сохранило сейчас способность мыслить и чувствовать по-человечески.
18 января. Стоит почти все время теплая, мягкая погода. По временам только проливной дождь обращает в настоящее болото галлиполийскую глину. В моих совершенно развалившихся ботинках я чувствовал себя до недавнего времени очень неважно. На днях получил новые[49]. Кстати сказать, офицеры стали настолько мелочны, что некоторые громко выражали свое неудовольствие по этому поводу. Зачем, мол, мне, освобожденному от нарядов, ботинки. Однако опыт ношения этих тяжеловесных танков оказался неудачным. Я моментально натер до крови ноги, на левой делается нарыв, и теперь я еле хожу, надевая вместо туфель большие меховые рукавицы. Голь на выдумки хитра.
Кто-то из числа не занимающихся французским языком донес на меня в управление дивизиона в том смысле, что я якобы веду занятия только с одной группой платных учеников и в то же время пользуюсь освобождением от нарядов. В результате кислый и очень неприятный для меня разговор с адъютантом, который явно не верит моим объяснениям. Фактически я уже десять дней не получаю ничего, а самое главное – я еще третьего дня объявил всем, что занятия отныне становятся бесплатными (с солдатами, понятно, я всегда занимался бесплатно). В общем, от всей этой истории у меня остался отвратительный осадок. Понемногу учусь и английскому языку. Небольшие старые познания отчасти успели испариться (я занимался самостоятельно в Буковине во время Германской войны и 6 недель с молодым князем Г. в Севастополе). Все же немного объясняться я могу и прилично понимаю легкую речь. С удовольствием вспоминаю князя Г. – один из немногих людей, не потерявших облика человеческого, несмотря на все переживания последних лет. Кажется, к их же числу принадлежит мой теперешний teacher поручик А.Г.
20 января. Вчера вечером, занимаясь с вольноопределяющимися, услышал вдруг звуки «Боже, Царя храни!». Молодежь так и замерла, хотя, кажется, слушала без воодушевления. Совсем иначе относились добровольцы к «Боже, Царя храни» два года тому назад. Помню, в какой восторг приходили наши «украинцы» в Лубнах, когда под шумок начиналось пение гимна. Что касается лично меня, то как ни приятно было после четырехлетнего перерыва слушать оркестр, его играющий, но надо отдать должное нашему начальству – оно бестактно, как всегда. С мнением Филек смело можно не считаться, но раскрывать карты сейчас, в период нашего полнейшего ослабления, – совсем не время. Возвращаясь с урока, увидел около палаток офицерского батальона форменный офицерский митинг. Горячо спорили монархисты и республиканцы, но и те и другие были совершенно пьяны и картина получалась безобразная.
Только что мимо окон барака прошла процессия. Хоронят поручика первой батареи Розалион-Сошальского. Я его совсем не знал, но нервы расходились за последнее время и едва не потекли слезы. Самое тяжелое во всех этих смертях то, что люди, как в море, уходят и никто из близких не узнает о них.
23 января. Вчера вернулся из Константинополя поручик С. Рассказывает, что по общему впечатлению наши акции сильно повышаются. Французы стали несравненно любезнее, и ходят упорные слухи о международном походе на Совдепию. Наши офицеры (больные и раненые) все постепенно возвращаются в Галлиполи. Видно, не так легко покинуть Армию и для большинства не остается никакого выхода, кроме возвращения в лагерь.
Часто мне кажется, что мы настоящие рабы войны…
27 января. Сегодня после долгих приготовлений и откладываний состоялся наконец парад войскам первого корпуса. Приходится признать, что наша Армия удивительно живуча. На пароходе и первое время по прибытии в Галлиполи мне казалось совершенно невозможным, чтобы из этой толпы голодных (пр. № 7) и обозленных людей можно было бы создать воинские части. Помню, как мы с полковником С., смотря на постройку лагеря, не раз задавали сами себе вопрос – что это – начало или конец. И всякий раз казалось, что конец. Вероятно, впоследствии, если нам еще суждено играть какую-нибудь роль и, в особенности, если мы ее сыграем удачно, будущие историки изобразят наше пребывание в Галлиполи как сплошной героизм. Помилуйте, вывезли за границу, плохо кормили, еще хуже одевали, люди мерзли по палаткам и все-таки не разбежались… На самом деле обстоятельства складываются так, что огромному большинству при всем желании уйти некуда… В результате сегодня перед нарядным Кутеповым в присутствии расфранченных французов, греков, муллы, городского головы, французского консула и прочих гостей проходили превосходно обученные и хорошо одетые войска. Правда, примерно 7/8 корпуса оборваны и приобрели глубоко нестроевой вид, но посторонние зрители видели и слышали, как реяли многочисленные знамена, гремела музыка, лихо салютовали начальники. Словом, войска имели едва ли не более подтянутый вид, чем в России. Как демонстрация вооруженной силы, с которой так или иначе необходимо считаться, такие парады, пожалуй, и имеют известное значение.
Как и прежде, внимательно слежу за постепенной сменой настроений. Появилась в них какая-то новая нотка. Многие офицеры стали спокойнее и временами настроены даже радостно. По-моему, тут играет роль отсутствие непрерывного страха смерти, к которому мы привыкли за пять лет. Привыкли, но каждому хотелось в то же время жить, и в глубине души, никому в этом не признаваясь, многие, мне кажется, рады, что война на время кончилась.
С другой стороны, многие офицеры измельчали внутренне до крайности (пр. № 9). Все меньше становится круг людей, которых можно считать элементарно честными, и все тяжелее на душе. Хотелось бы хоть на неделю домой, но лучше о доме и не думать… Хорошо, что голова у меня целый день занята и скучать некогда.
1 февраля. Зима сделала последнее усилие: несколько дней померзли. Ветер так и рвал палатки. Мороз доходил до четырех градусов, и в бараке было так холодно, что один день я почти не вылезал из-под одеяла и не мог заниматься английским. И сейчас еще по утрам холодно, временами даже появляется иней, но днем тепло и тихо. Воздух как-то особенно прозрачен и легок – совсем как на Кубани в прошлом году. Четко синеют контуры Азиатского берега и безоблачно южное небо.
На столике командира, за которым я сижу, в кружке от консервов стоит букетик первых весенних цветов. Нежно-душистые анемоны, словно люди, седеют, умирая. Одни иссиня-фиолетовые, другие чуть не на глазах белеют. Старость цветов и близкая, близкая смерть… Последний год приучил меня порой смотреть на живых людей, как смерти обреченных, и умирающие цветы весны напоминают все о том же. О бесконечном ряде крестов позади и о близкой, возможно, смерти. Если не своей лично, то о смерти последних более или менее близких людей. В том же букете огненно-желтые крокусы, такие крупные и яркие, каких я никогда не видел в России; первые маргаритки, хрупкие, как чахоточные девушки, и еще какие-то совсем неизвестные цветы.
Ходят слухи, что мы поедем десантом в Россию. На меня наводит тоску мысль о новой бесцельной авантюре и неизбежной гибели массы людей. Одна надежда на то, что Врангель никогда своей армии на убой не поведет…
Газеты пишут ужасы о нашей жизни, но, на мой взгляд, ничего сейчас ужасного нет. Физически большинство здоровеет. Морально многие уже давно умерли и не разбудить их ни американскими ботинками, ни бельем, похожим на шелковое. Перед сытыми, культурными европейцами чуть-чуть приоткрылись наши кошмары. Они видят далеко не самое страшное, но все-таки им явно стало страшно.
11 февраля. Бесцветно течет наша лагерная жизнь. Газеты продолжают надрываться, описывая ужасные условия, в которых мы, якобы, живем. Между тем даже простые солдаты, любящие поныть по всякому удобному поводу, когда разговариваешь с ними по душе, соглашаются, что никаких ужасов сейчас нет. Только хлеба мало (500 граммов), и в те дни, когда дует норд-ост, в палатках холодно. Впрочем, у всех теперь есть по два французских одеяла, шинели и, в конце концов, никто не простуживается. Последнее время появилось довольно много заболеваний возвратным тифом. В околотках и в лазаретах, кстати сказать, превосходно поставленных, не хватает мест. Из-за этого заболевающие по нескольку дней лежат в палатках и распространяют заразу. С точки зрения европейцев, вероятно, это «ужас», но когда вспоминаешь страшные эпидемии 1918–1920 годов, вокзалы, заваленные умирающими и от тифа, и от голода людьми, чуть ли не целые поезда мертвецов, трехсотверстное отступление от Ростова до Новороссийска (тифозных везли на подводах) – когда вспоминаешь все это, смешно становится от разговоров о теперешних «ужасах». По-моему, те, которые сейчас переболеют тифом в Галлиполи, могут благодарить судьбу. Благодаря хорошему воздуху, умеренному физическому труду и отсутствию тревог походной жизни, многие офицеры и солдаты физически здоровеют. Моральное состояние у большинства остается подавленным.
Мне приходится много работать – кроме французского и электричества, которое я прохожу с вольноопределяющимися, мне поручили заниматься артиллерией с группой офицеров. Если прибавить сюда еще английский язык и математику, которую я, к слову сказать, сильно запустил, то ясно, что свободного времени у меня совсем не остается. Отчасти это и хорошо – нет времени скучать и думать о будущем.
14 февраля. Сегодня опять приезжал в лагерь генерал Врангель. На этот раз я не был в строю, а смотрел на парад со стороны. Это много интереснее. Во внешнем виде войск и в настроениях, по сравнению с первым приездом главнокомандующего, перемена громадная. Правда, многие части проходили без оружия; пестрота обмундирования несколько портила общую картину. Зато наши дроздовцы (учебная команда), которых генерал Туркул одел в ярко-малиновые фуражки (перекрашенные защитные), были очень эффектны. Ременные пояса и портупеи конного дивизиона, обернутые бязью, делали конников похожими на гвардейских казаков. Наша батарея прошла очень прилично; ответили совсем хорошо.
Парад сопровождался «световыми эффектами». С утра шел сильный дождь, туман закутал горы. Позже стало проясняться, а в момент приезда Врангеля, когда оркестры начали играть Корниловский и Преображенский марши, солнце вышло из-за туч, и вся церемония проходила при великолепной погоде. На солдат это «знаменье» произвело, кажется, громадное впечатление. Популярность генерала Врангеля громадная даже среди самых темных солдат. Дошло до того, что стрелки пулеметной команды огородили то место, на котором главнокомандующий стоял около их палатки. Лишний раз убеждаюсь, что в солдатской логике ничего не понять. То в беженцы, то в огонь и в воду…
Речь Врангеля войскам была очень красива. Удивительно благородный, очень сильный голос дал ему возможность в два приема сказать ее целому корпусу. Большинство поняло речь как прямое обещание вести Армию через два-три месяца в Россию, но, по-моему, ничего определенного главнокомандующий не сказал. Из обращения его можно только вывести следующее: 1. Армией нас еще не считают. 2. С нами начинают считаться. 3. Политический горизонт очень темен, но надежды на будущее есть. После парада генерал Врангель обходил лагерь и около выложенного из камней орла алексеевцев (с коронами) якобы сказал, что ему очень приятно видеть настоящего старого орла, а не мокрую «курицу». Сомневаюсь, чтобы он действительно сказал такую политически бестактную фразу.
Уверяют еще, что вчера при встрече главнокомандующего оркестр играл «Славься, славься…» [50]. По этому поводу масса разговоров. Сегодня во время парада Корниловский оркестр играл «Пусть кругом одно глумление…». Словом, неразбериха идет порядочная и начальники совершенно напрасно возбуждают страсти.
23 февраля. Наша жизнь течет так регулярно и бессодержательно, что делаю заметки только от времени до времени, когда накапливается материал. В сотый раз задаю себе вопрос – начало или конец – и решить его не могу. Внешне «все обстоит благополучно» – войска, пожалуй, более дисциплинированы, чем даже в Крыму, но внутренне… Все больше и больше сомневаюсь, чтобы при наших нравах мы могли победить. Чего стоят одни разговоры в нашей палатке: никто друг другу совершенно не доверяет. Чтобы купить продуктов на несколько лир, выбирают целую контрольную комиссию, да и то, кажется, сомневаются: украдет она или не украдет. Недавно я купил у штабс-капитана У. смену белья. Он надул меня самым бессовестным образом, подсунув под видом нового полугнилое.
Измельчало офицерство, так измельчало, что великие задачи ему не по плечу.
Нога у меня наконец зажила. Хотел было переделать свои ботинки, но денег не хватает.
На днях ходил на турецкую ферму верстах в двух от нас. Хотя и там полно войск, но все-таки хорошо. Огромные миндальные деревья точно снегом усыпаны. После искусственной лагерной жизни приятно было посмотреть даже на буйволов, кур и кучи навоза кругом фермы. Нелепый здесь климат – уже две недели, несмотря на норд-ост, цвел миндаль. Сейчас наступила форменная зима – мороз, снег. Вчера метель была не хуже, чем в Орловской губернии и, конечно, все цветы померзли. В палатке холодно. Ноги стынут. Добровольцы забрались под одеяла и не хотят заниматься ни физикой, ни французским.
В Армии ведется довольно интенсивная организационная работа. Предполагается открытие целого ряда школ и курсов, но нет ни денег, ни помещений, что крайне тормозит дело. В Офицерской артиллерийской школе занятия никак не могут начаться из-за отсутствия учебников.
Днем я все время занят и некогда задумываться. Ночью, стыдно самому себе признаться, у меня часто текут слезы. Вспоминаются…, вспоминаются погибшие добровольцы – особенно Каншин и Соколов как живые стоят.
1 марта. Сейчас в берлинском «Руле» прочел статью Гессена о замечательной книге, составленной из записок семнадцатилетнего добровольца германской армии Отто Брауна «Aus nachgelassenen Schriften eines Fruh vollendeten». Он погиб на Французском фронте, и в его лице ушел в вечность несомненный гений. Мне очень понравились некоторые мысли этого мальчика: «Юность – это бродило для мыслей, здесь зарождаются великие идеи, пусть они рождаются какими-то неясными и противоречивыми, но воодушевление и подъем юности должны принести спасение человечеству».
«Нам нужны люди, которые властно бороздили бы жизнь и были бы способны реализовать нечто новое, ибо мы стоим перед чем-то новым, и я это чувствую». Я сам тоже думаю о том, что «мы стоим перед чем-то новым».
8 марта. Еще две жертвы – умер от простой инфлюэнцы наш вольноопределяющийся Капуста и от осложнений тифа – Вихров. Ни того ни другого я близко не знал, но жалко их, бедняг. Солдаты боятся смерти на чужбине больше, чем всех боев в России.
Вчера в лагере из-за слухов о перевороте в России сильно поднялось настроение. Сегодня оно упало – слухи, видимо, не подтверждаются. Весна все еще как следует не может начаться.
12 марта. Третьего дня хоронили Капусту. Погода была совсем осенняя. Грязь, мелкий дождик… Церковь, построенная из запасных полотнищ от палаток, внутри вся белая, праздничная. Во время отпевания смотрел на мертвенно-бледные лица святых с горящими глазами фанатиков, и эти лица напомнили мне самого Капусту. Белого, аккуратно сколоченного гроба в церкви не открывали. Музыки не было. Провожавшие мокли под дождем. Стучали о крышку гроба твердые комья глины. Наверное, многие думали, когда и где моя очередь.
Вчера в лагере началось радостное возбуждение. Восстание в России – совершившийся факт, но подавят его, или не подавят – вот вопрос. Видимо, восстала изголодавшаяся толпа. Усмирят ее, и все пойдет по-старому, или же это начало конца большевиков и новой жизни для нас? Волнует всех слух, что власть может перейти в руки социалистов-революционеров с Керенским во главе – с этой компанией нам не по дороге.
14 марта. Восстание в России, видимо, пошло на убыль. Судьба снова против нас. Некоторые совсем подавлены. Вижу, к несчастью, что и на этот раз мои предсказания сбылись. Мне казалось, что коммунисты слишком хорошо организованы. Я особенно настаивал на этом в спорах.
Сегодня должен приехать командир Оккупационного корпуса, генерал Шарпи. Ожидают и Врангеля, но что он может сейчас нам сказать?
Парад не состоялся, так как Шарпи отказался его принять. Сказал, якобы, что у беженцев парадов быть не может. Ограничился очень подробным осмотром лагеря, причем были «все на линии». Шарпи – на редкость представительный, особенно для француза, мужчина с профилем древнего римлянина. Генерал Врангель не приехал.
16 марта. Как я и боялся, восстание в России, видимо, имело неорганизованный характер и постепенно догорает.
Вчера прочли удивительный приказ по Артиллерийской бригаде. Разъясняется, что офицеров нельзя ставить под шашку или под винтовку, но ввиду «условий момента» разрешается назначать их на хозяйственные наряды не в очередь. Доигрались, нечего сказать.
19 марта. Вчера вечером по лагерю начались крики «ура». Оказалось, что по радио принята телеграмма Гучкова главнокомандующему, в которой он сообщает о переходе в руки восставших Киева, Харькова, Орла, Царицына и ряда других крупных пунктов. В средней России якобы полная анархия.
К радости у большинства офицеров примешивается тревожное чувство. В чьи руки перейдет власть, если переворот удастся, и как встретят нас?
Мне по-прежнему грустно. Опять начнется старая песня: «народная воля», «государственный разум великого народа нашего», «организованная демократия» и т. д. Большинство разучилось (да и не умело) мыслить самостоятельно. Одни остались бурбонами, некоторые ими сделались, и большинство ровно ничему не научилось за все четыре года революции.
Недавно (15 марта) была годовщина смерти дорогого Александра Андреевича Филиппова[51]. Вспомнился мне в этот день кошмар отступления к Новороссийску, переправа через Кубань и крошечная комнатка, в которой лежали друг на друге наши больные. Умиравший Кудрявцев бросался на умиравшего Филиппова и пытался его душить. Рядом лежал без сознания Коля Соколов. Страшным напряжением воли добирался до дверей И., а еле державшиеся на ногах Миша В. и Васенька Каншин помогали остальным. Это были добровольцы. А «демократия» хамила, сколько могла, и я никогда так сильно не чувствовал пропасть между «нами» и «ими». Бедный Александр Андреевич. Сколько раз он спорил со мной о «народном разуме», сколько возился со всеми Фильками, а когда умер, нельзя было заставить вынести его тело на подводу. Как сейчас помню: вынесли фельдшер, кадет князь В., я, еще кто-то из офицеров. На похороны никто из солдат не хотел идти, и пришлось назначить «наряд» (добровольцев здоровых не было).
Как-то вечером я лежал на повозке. Было холодно, я закутался с головой брезентом, и солдаты не могли меня видеть. Вот тут-то я и услышал разговор ставропольцев (мобилизованных) о больных: «… чего эту сволочь возить, перерезать бы всех – вся война из-за них». В одном они были правы – понимали, что войну ведут офицеры и добровольцы, а все прочее – стадо. Но сами мы этого не понимали и, боюсь, долго еще не поймем. Это не мое только личное впечатление. На днях расспрашивал подпоручика П. Он два года был солдатом и говорит, что не раз слышал от мобилизованных: «взять бы всех добровольцев – и красных, и белых – да перерезать всех зараз». Это было еще одно из мягких выражений.
Я упрям в своих взглядах и не знаю, что бы могло заставить меня переменить их. Говорить теперь будут много, а я все-таки буду думать свое:
Сердца единой верой сплавим, Пускай нас мало – не беда, Мы за собой пойти заставим К бичам привычные стада… («Красное Евангелие»).23 марта. Наконец весна началась. Норд-ост, дувший с Мраморного моря почти целый месяц, сразу прекратился, и стало совсем жарко. Если дальше погода будет такая же, то, пожалуй, через две-три недели можно будет брать солнечные ванны. С наступлением тепла я сразу ожил. Нет прежней гнетущей тоски, и я даже три дня подряд ходил в город. Чувствую, что, несмотря на скверное питание, сильно окреп по сравнению с декабрем.
Город приведен русскими в порядок. Почти все части выведены в лагерь. Остались одни юнкера, которые лихо козыряют и, вообще, производят самое лучшее впечатление. Поздно мы взялись за ум, поздно начали, кажется, ценить добровольцев и учить их как следует, но лучше все-таки поздно, чем никогда.
Как жаль, что нет фотографического аппарата. Чего стоят одни сенегальцы верхом на мулах возле кипарисов и турецкого фонтана рядом с русскими добровольцами. Ходил в город повидаться со старым князем В., отцом Володи. Осенью 19-го года его вызвали телеграммой к месту службы. Тем временем Харьков сдали, Екатеринослав занял Махно, и бедный князь, отрезанный от семьи, принужден был уехать в Новороссийск. Оттуда эвакуировался на остров Лемнос и с тех пор мытарствует за границей. Хороший старик… Бывший прокурор Окружного суда, помещик, служит теперь столяром на какой-то американской фабрике, но не унывает. Человек, видно, очень наблюдательный. Рассказал мне несколько характерных сценок из русской эмигрантской жизни. Особенно мне понравилась история одного полковника, который сначала был «собачьим комендантом» (имел наблюдение за дамскими собачками) в городе Мудросе, а затем, не зная английского языка, состоял переводчиком при английском генерале. Переводить, конечно, не переводил, но получал фунты, играл с англичанином в бридж, пил с ним виски и вообще чувствовал себя недурно.
Князь В. затянул меня в погребок, устроенный среди развалин женой офицера-кавалериста и там, несмотря на мое сопротивление (мне неловко было вводить старика в расход), слегка напоил меня. Выпили и за здоровье Володи. В. специально приехал в Галлиполи, чтобы повидать меня и узнать, где Володя. Страшно обрадовался, узнав, что нога у сына уцелела (он был тяжело ранен еще в августе месяце под Фридрихсфельдом).
24 марта. Снова был в городе. Хотел достать немецкие книги у генерала Георгиевича, но ни его, ни его заместителя не оказалось дома. Восьмилетний мальчишка-гречонок, бойко откозыряв, пытался объяснить мне по-русски: «Дженераль нет… Василь (вестовой) есть».
25 марта. Чтобы застать «дженераля», пришел в город в девять часов утра, но книг (учебников) уже не оказалось. Зашел снова к В. Он как раз собирался вместе с ротмистром бароном Ш. к нам, в лагерь. Старый джентльмен хотел «отдать визит» и, несмотря на мои убеждения, пошел к нам за 7 километров. Погода чудесная. По дороге поймали двух крупных греческих черепах. На них пошел теперь форменный жор. У нас в батарее долгое время как-то не решались их есть. Потом кадет В. попробовал сварить одну. Получился прекрасный бульон, и теперь ежедневно идет охота за вкусными животными. Едим черепаховый бульон, но хлеба нет. Ужина теперь никогда почти не бывает. Рису я себе, как это делали другие, не покупал и мое малокровие, кажется, увеличивается.
26 марта. Судьба нам посылает неожиданные сюрпризы. Сегодня поздно вечером все командиры частей были вызваны к начальнику дивизии. Стало известно о решении французов через две недели прекратить довольствие Армии. Желающие могут уезжать в Совдепию. Остальным предоставляется либо ехать в Бразилию, либо устраиваться как кому угодно. В прекращение довольствия я (как и большинство офицеров) не поверил. Чувствую только, что сделал ошибку, не попытавшись хотя бы установить связь со знакомыми за границей.
27 марта. Полковник Я. объявил солдатам батареи о решении французов. Неофициально они, впрочем, уже все знали. С утра командиры частей объявляли перед строем «новости» и предлагали не ехать ни в Совдепию, ни в Бразилию. В ответ неслось «ура». Настроение сильно поднялось. Вспыхнула форменная ненависть к союзникам.
Не могу, однако, сказать, чтобы солдатские настроения меня особенно радовали. В глубине души большинство из них радо предстоящему разгону Армии. В Совдепию и Бразилию ехать не хотят, но будь возможность ехать в Сербию – много бы поехало. Один из казаков, прикомандированных к нашей батарее, завел было со мной разговор о снятии погон. Я его обругал; тем дело и кончилось.
28 марта. Мы, безусловно, одержали моральную победу. Генерал Кутепов вернулся из Константинополя и сообщил следующее. Французы взяли угрозу «не кормить» обратно. Обещали даже к Пасхе увеличить довольствие. Пока все остается по-старому, но ведутся переговоры о переселении нас в Сербию, Грецию или на Дальний Восток. У меня как гора с плеч свалилась. Сознаюсь, что превращаться в беженца мне по многим причинам совершенно не хочется. На всякий случай написал письма – в Белград профессору В., прося устроить при Университете, если Армия распадется, сенатору Н. в Константинополь и М-ме Драгумис[52] в Афины.
29 марта. После больших колебаний (боролся со своей ленью и апатией) я решил попробовать сдвинуть с мертвой точки дело устройства в лагере «Устной газеты» (в городе в небольших размерах она уже существует) [53]. Нужно попытаться организовать политическую информацию в лагере, иначе события неизбежно захватят нас врасплох. Отправился в город к представителю Всероссийского земского и городского союза. Он отнесся к моей мысли очень сочувственно. Просил его устроить заседание в штабе лагерного сбора, но обо мне ничего генералу Витковскому не говорить. Лучше, чтобы инициатива исходила от Земского союза.
30 марта. В 19 ч. собрались в штабе лагерного сбора заведующие информационными частями полков, некоторые предполагаемые лекторы, представитель Земского союза г. Пухальский. Присутствовал генерал Витковский и начальник штаба полковник Бредов.
Отношение Витковского, против моего ожидания, сочувственное. Я вызвался прочесть намеченный совещанием доклад о Бразилии. Помимо идейной стороны дела, интересно получить и маленькое вознаграждение, которое предлагает Земсоюз.
31 марта. Снова собрались в штабе. Председательствовал начальник информационной части. Решено сконструировать редакционную коллегию из пяти представителей – по одному от каждой пехотной, кавалерийской и артиллерийской бригады. От артиллерийской бригады генерал Фок (командир бригады) временно назначил меня.
1 апреля. Коллегия впервые собралась в более или менее окончательном составе. Перед нашим совещанием генерал Витковский долго совещался с наштадивом. Организация «Устной газеты» поручена Генерального штаба полковнику С.Н. Ряснянскому (командиру 4-го конного полка). Кроме него и членов коллегии присутствовал наштадив полковник Бредов, заведующий инф. частью и, в качестве «спеца», – доктор социологии Гейдельбергского университета, гвардии капитан З.Б.
Я сделал доклад о необходимости интенсивной политической работы. Наиболее опасным для существования Армии является не большевизм – в Совдепию из воинских частей корпуса уехало всего 140 человек и 200 беженцев. Наоборот, почти неизбежный переход власти в руки левых партий, несомненно, вызовет раскол, а возможно, и распад Армии. Средство борьбы – широко поставленная пропаганда, направленная по тактическим соображениям не против партии социалистов-революционеров, а против отдельных ее представителей – например, Керенского[54]. Ближайшая задача – воспрепятствовать отъезду чинов Армии в Бразилию. Это путешествие мне кажется форменной авантюрой. Офицеры Генерального штаба согласились со мной по всем пунктам. Только З.Б. доказывал, что желательно было бы обойтись в газете совсем без политики, но поддержки не встретил. З.Б. очень ко мне внимателен, но, кажется, думал, что мне лет двадцать. Беда выглядеть еще моложе своих небольших лет.
3 апреля. Сегодня состоялось еще одно заседание[55]. Я прочел конспект доклада о Бразилии. Возражений он не встретил. Решено только подробнее остановиться на бесправном положении русских в случае переселения их в Бразилию (пр. № 15).
Ряд предварительных совещаний, однако, принес большую пользу. Участники их – офицеры Генерального штаба, члены редакционной коллегии и лекторы познакомились между собой и в совершенно неофициальной обстановке смогли откровенно переговорить по ряду вопросов, волновавших в это время чинов Корпуса (некоторые подробности – см. ниже в тексте дневника). Вместе с тем с большей быстротой были разработаны технические детали организации совершенно нового для Армии дела. Основной целью «У. Г.» мы единодушно признали содействие сохранению во что бы то ни стало вывезенной за границу Армии. Также единодушно было желание не следовать всем нам хорошо памятному примеру злополучного «Освага».
6 апреля. Получено сообщение о протесте Америки против насильственного выселения нас в Совдепию. Настроение в лагере стало более спокойным. Заблуждаться, однако, ни в коем случае нельзя. Большую часть офицеров и солдат удерживает от распыления не патриотический порыв, а полное отсутствие возможности где-нибудь устроиться.
7 апреля. В 15 ч. 30 м. первый «сеанс» нашей газеты наконец состоялся. Говорили Ряснянский, я и один офицер Дроздовского полка (о Совдепии). Кроме того, играл оркестр и пел хор 4-го Конного полка. Народу было довольно мало (человек 300). Причина – по частям вовремя не объявили и, кроме того, «Устная газета» совпала с футболом. Ряснянский говорил хорошо, моим докладом публика, кажется, тоже осталась довольна, но дроздовец читал совсем слабо.
8 апреля. Обошел сегодня все шесть артиллерийских дивизионов, приглашая желающих на совещание лекторов. Офицеры одной из Корниловских офицерских рот пригласили меня к себе в палатку и попросили дать дополнительные сведения о Бразилии. Рассказал, что мог. Потом долго говорили. Общее впечатление от беседы довольно печальное. В глубине души, видимо, почти каждому хочется стать беженцем. Это, конечно, понятно – люди прежде всего устали. Если возобновится борьба, рано или поздно каждого из них, пехотинцев, ждет смерть, а умирать никому не хочется, особенно в те чудные, весенние дни, которые теперь стоят. Меня иногда (особенно почему-то по вечерам) самого берет сомнение. Я постепенно отстаю от строевой работы. Мое некоторое умение говорить и довольно хорошее знание иностранных языков рано или поздно, вероятно, используют, и вряд ли я больше попаду куда-нибудь под огонь. С другой стороны, я, сколько могу, стараюсь что-нибудь сделать для сохранения Армии и, значит, хотя в минимальной степени, но все-таки беру на себя ответственность за дальнейшие смерти.
Недавно думал о судьбе Вани Ш. [56], и вдруг узнаю, что он здесь. Ноги нет, но все-таки приехал в Галлиполи. Женился и явился сюда с женой и ее родителями. Ване самое большее двадцать первый год.
26 апреля. Опять давно не писал своего дневника. Много воды утекло за эти две недели, хотя ничего, собственно говоря, не изменилось.
Наша «газета» в Корниловский день (13 апреля) прошла очень успешно. Пела Н.В.Плевицкая. С большим подъемом говорил полковник Савченко. Я приготовил коротенькую речь, но не выступил, так как «сеанс» затянулся. В тот же день вечером я получил предписание отправиться в Офицерскую артиллерийскую школу на курсы летчиков-наблюдателей. Предписание было от Инаркора[57], и возражать не приходилось.
Не могу сказать, чтобы я был рад этому переселению в город на 5 недель. Не хочется бросать преподавание французского языка и отрываться от «Устной газеты». Зашел в штаб лагерного сбора откланяться. Генерал Витковский был со мной чрезвычайно любезен. Я ему обещал приходить в лагерь на «газету». Выяснилось, что в школу я вызван для преподавания радиотелеграфа. Английские руководства, которые мне удалось достать, сильно помогут, но все-таки и самому придется подзаняться.
Помещение в школе довольно скверное – развалины старой мечети, кое-как приведенные в жилой вид. В дождь крыша сильно протекает, но зато дали матрасики (американские) и есть вестовые, а я до сих пор с трудом обхожусь без прислуги.
Вечером город и особенно его окрестности прелестны. В час заката словно нарисованными акварелью кажутся развалины башен на фоне розовеющего неба.
У турок есть трогательный обычай устраивать крохотные семейные кладбища почти у каждого дома. Маленький садик за каменной аркой, в нем кипарисы или лавры, плющ, зеленая низкая трава и среди нее маленькие мраморные памятники. Смотрю на такой уголок, и опять тоска щемит душу. Кажется, кладбища Фридрихсфельда и Гохштета до конца жизни не изгладятся у меня из памяти.
Третьего дня (24 апреля) был в лагере. Мне несколько раз пришлось повторить свою лекцию о Бразилии. По поводу нее временами в нашей палатке кипит жестокая словесная война. Одни со мной соглашаются, другие готовы забросать грязью. Факт, хотя маленький, но убедительный налицо – в 6 Бронепоездном дивизионе после моей лекции 5 офицеров и 32 вольноопределяющихся, записавшихся ранее на отправку в Бразилию, попросили вычеркнуть их из списка едущих. Не знаю, можно ли приписать это действию моего доклада, но генерал Б. и его офицеры приписывают.
30 апреля. Опять в лагере. Готовимся встретить Пасху. Молодая весенняя зелень гирляндами протянулась по закопченному бараку. Жарко, и быстро вянут листочки горного дуба.
На душе невероятно грустно и гнусно. Вчера уехали несчастные «бразильцы». Мы с полковником Я. долго сидели над обрывом около нашего «серого дома» (официальное название развалин мечети) на вершине холма и с грустью смотрели на черную громаду «Риона» на рейде. Я. признается, что у него самого сильно падает настроение.
Ввиду слухов о французской агитации в пользу отъезда, я переоделся солдатом и прошел в таком виде во французскую комендатуру. Офицеров там в этот момент не было. Может быть, это даже было к лучшему. Я разговорился с писарями и узнал, что у них, в комендатуре, нет никакой бумаги с изложением условий, на которых Бразильское правительство якобы согласно принять русских эмигрантов (пр. № 15). Таким образом, знаменитые земли и быки, о которых столько говорилось в солдатских бараках, видимо, чистый миф[58]. Между прочим, это переодевание обернулось для меня крупной неприятностью: командир сказал мне, что он признает, в принципе, необходимость контрразведки и считает, что в моем поступке нет ничего несовместимого с честью офицера. Все же он ставит условие, чтобы я ушел из батареи, если хочу работать таким образом.
Я ответил прежде всего, что в контрразведке не состоял и не состою.
Весьма возможно, что мне все-таки пришлось бы уйти из батареи, если бы не тот факт, что мою самочинную «контрразведку» [59] я проделал с ведома и согласия всеми уважаемого полковника Я. Хотя наше объяснение носило весьма спокойный характер, но осадок все-таки остался на душе неприятный.
Был в гостях в… и застал там крайне угнетенное настроение. Командир этой части, вообще очень тактичный человек, отдал на сей раз классически-бестактное приказание раздать полученные от американцев пижамы одним офицерам. Тогда солдаты вернули мешочки с подарками, заявив, что раз подарки присланы офицерам, то пусть они их и получают. Некоторые из офицеров притворно возмущаются, говорят чуть ли не о большевизме в солдатской среде. Все отлично в то же время понимают, что это вздор, и в глубине души каждый чувствует себя гадко. Приходится повторить слова одного добровольца: «Армию совсем не стараются сохранить; наоборот, ее разрушают».
1 мая. Вчера перед заутреней запоем читал «В стане белых» Раковского. Книга написана, безусловно, пристрастно (в пользу Донской армии), но очень сильно и интересно. Описание эвакуации Новороссийска производит прямо потрясающее впечатление.
4 мая. Сегодня выступил на «У.Г.» с докладом: «Почему нам нельзя расходиться?» (1). Тема была намечена на совещании в штабе Корпуса (присутствовали: генерал Кутепов, генерал Штейсрон, полковник Сорокин, полковник Ряснянский, полковник Савченко, подпоручик Даватц и архимандрит Антоний). Ряснянский предложил поручить доклад мне. Никаких директив мне дано не было. Конспект доклада просмотрел и одобрил Ряснянский.
Нападки на меня велись в батарее страшные. Капитан К. (правда, полупьяный) заявил, что я выступаю из желания выслужиться перед генералом Витковским[60]. Меня взорвало, и я хотел было совсем отказаться от участия в «У.Г.», но выдержал характер и произнес свою речь. Немного затянул средину, но чувствовал, что говорил хорошо. Успех был большой. Меня прервали аплодисменты и, видимо, я «сломал лед». Товарищи по батарее стали ко мне несравненно внимательнее. Полковник Ряснянский сейчас же попросил меня еще что-нибудь прочесть. Следующий раз буду читать либо «Учащиеся и война», либо «Причины наших поражений».
6 мая. День начался неприятностью. Получил приказание начальника школы присутствовать на всех занятиях «для освежения моих знаний». Пришлось поставить вопрос ребром. Я попросил освободить меня либо от посещения общих часов, либо от чтения лекций. Оказалось, что произошло недоразумение.
7 мая. Встретил сегодня в городе полковника Ряснянского. Моя речь, кажется, произвела в лагере сильное впечатление, более сильное, чем я ожидал. Ряснянский доволен. Хочет, чтобы я вновь читал в один из ближайших дней. В то же время чувствуется, что начальство несколько смущено моим независимым тоном и побаивается, чтобы я не сказал лишнего. Предложенную мной тему «Причины наших поражений» Ряснянский находит несвоевременной.
9 мая. Давно ничего не читал по-английски. Сегодня достал кой-какую американскую литературу (два журнала и громадную простыню «New York Times») и попробовал читать. Идет совсем хорошо. Одолел «Русские впечатления» какого-то мистера Брейльсфорда, получившего, видимо, весьма основательный куш от большевиков. Вчера получил заказное письмо от профессора В. из Белграда. Я писал ему на всякий случай, прося устроить при университете, если Армия перестанет существовать. Мест при университете нет, но профессор предлагает службу в одном большом имении в Сербии. Конечно, если бы Армия распалась, я бы с удовольствием туда поехал, но пока она существует, я не считаю себя вправе уходить.
Ночью был на богослужении в мечети. Турки очень любезны и русских не заставляют снимать обувь. На паперти мальчишки приглашают входить – «паджалста, паджалста». В мечети масса света, пахнет оливковым маслом. Мулла тянет какую-то непонятную заунывную мелодию, и стоящие рядами мужчины от времени до времени все как один падают ниц. Русских, скромно стоявших у входов, было очень много. Солдаты смотрели с большим интересом и, как ни странно, у них и в храме чужого Бога чувствовалось молитвенное настроение. Я прямо боялся, что кто-нибудь из наших перекрестится в тот момент, когда турки падали на колени.
15 мая. Послал несколько дней тому назад письмо Ряснянскому. Предлагаю прочесть на тему «Учащиеся и война». Докладываю также о необходимости прочесть что-нибудь насчет невозможности эволюции большевизма. Многие из офицеров уже думают противное. «У.Г.» сегодня не состоялась. Полковника Ряснянского не мог застать до позднего вечера, в конце концов он оказался дома и накормил меня хорошим ужином. Переговорили о всех текущих делах. Положение в общем неважное. По-моему, надежды на удержание в Армии крестьян не остается почти никакой. Длительного морального напряжения они не выдержат. Приходится считаться с тем, что в частях в конце концов останется тот же элемент, что и в первом Корниловском походе, то есть по преимуществу офицеры и учащиеся. Думаю подать докладную записку о мерах, которые надо предпринять для удержания в Армии учащихся. Земский cоюз будет давать лекторам «У.Г.» небольшое вознаграждение.
16 мая. Опоздал сегодня на свою лекцию в школе, так как не был предупрежден о том, что она перенесена на утро. Затем меня вызвал начальник школы. Я думал, что генерал Дынников намерен мне устроить некоторый разнос за уход в лагерь без его разрешения, но оказалось совершенно другое. Генерал предложил мне остаться переводчиком при школе. Я поблагодарил, но отказался. Сказал откровенно, что мне неудобно сейчас уходить из строевой части. Мои «политические враги» следят весьма внимательно за всем, что я делаю, и обязательно воспользовались бы всякой моей оплошностью, чтобы повсюду меня ругать.
26 мая. За то время, что я не писал дневника, в Корпусе произошли крупные события. 21 мая французы совершенно неожиданно прислали пароход и предложили желающим отправиться в Болгарию, не сообщив даже об этом нашему командованию. Из частей началось бегство офицеров и солдат. У нас в батарее ушло трое вольноопределяющихся. Ясно было, что при дальнейшем прибытии пароходов Корпус развалился бы. Генерал Кутепов издал, по-моему, совершенно логичный и обдуманный приказ[61], предлагая всем чинам Корпуса немедленно сделать выбор: либо перейти в беженцы, либо остаться в Армии, но с тем, что оставшиеся в случае попытки к бегству будут подвергаться смертной казни[62]. Пессимисты давно уже считали, что в случае издания такого приказа, разрешающего уйти всем желающим, останется не больше 5-10 %. На самом деле после некоторых колебаний ушло не больше 20–25 %[63]. В нашей батарее перевелось в беженцы из 70 офицеров шестеро – в том числе подпоручик П. Он последний из приехавших вместе со мной в 1918 году из Лубен добровольцев. Кадет В. и Демка Степанюк уехали «в Бразилию» (и попали в Аяччио), фейерверкер М. несколько дней тому назад – в Болгарию. Когда-то в Воронежской губернии я обещал «моим» добровольцам, что не уйду от них до конца. Я сдержал свое слово и теперь могу считать себя свободным.
На днях читал в Корниловском военном училище «Учащиеся и война» (III).
27 мая. Сегодня по предложению Шевлякова и Савченко[64] должен снова читать «Учащиеся и война» (в сокращенном виде) на публичном заседании Высших курсов.
Савченко и Шевляков шутят, что, устраивая концерт-митинг, мы должны его как-нибудь повежливее назвать.
Вчера встретил в «Детском саду» гимназиста Галлиполийской гимназии с Георгиевским крестом на куртке. Ему лет 15, никак не больше. Расспросил, откуда он и в какой части. Оказался Белозерский стрелок, доброволец из Харькова. Рассказал мне, что из их гимназии в 4-х старших классах ушли на войну все, за исключением евреев.
Наш «митинг» произвел значительное впечатление. Мы заседали на открытой сцене на развалинах древнего акрополя. Народу было множество. Даватц говорил о генерале Врангеле с искренним волнением. Как всегда в таких случаях, долго кричали «ура». Вообще говоря, здесь, в городе, юнкера кричат «ура» аккуратно каждый день.
В лагере, несмотря на все наши усилия, дело с «У.Г.» как-то не налаживается.
29 мая. Сегодня по просьбе начальника дивизии вся наша группа ездила в лагерь. Должно было состояться повторение заседания, устроенного в городе. Там собралось, говорят, в театре 3000–4000 народа, но получилось крайне обидное недоразумение. Назначили заседание в 18 часов, потом перенесли его на 17, не успев предупредить нас. Мулы для вагонетки[65] были поданы не вовремя. По дороге она сходила с рельсов раз пять. В результате мы приехали, когда публика уже вся разошлась. На душе остался ужасно неприятный осадок. Устроили, пользуясь случаем, пленарное заседание Высших курсов – лагерных и городских. Я был приглашен присутствовать.
Во время этого заседания у меня впервые оформилась давно мелькавшая мысль. Я предложил ходатайствовать перед командиром Корпуса о выделении всех учащихся средне-учебных заведений, состоящих в частях, в отдельные команды, курс которых соответствовал бы курсу четырех старших классов гимназии. Полковник Савченко, полковник Безак (инспектор классов Сергиевского артиллерийского училища) и другие отнеслись весьма сочувственно, но попросили написать более подробный доклад.
30 мая. Сегодня благополучно съездили в лагерь в автомобиле. По дороге метеоролог просвещал нас насчет пинеобразных облаков, грозивших основательным дождем. Накануне батюшка Сергиевского училища[66], академик и, видимо, очень начитанный человек, рассказал много интересных вещей о древностях Галлиполи. В древностях я, впрочем, плохо разбираюсь, но что мне страшно нравится, это орнаменты на турецком кладбище.
Сегодня на заседании было не особенно много народа, но все же не менее тысячи человек. Сидел в одном из первых рядов и наш полковник С. До сих пор С. достаточно враждебно относился к моим попыткам «общественной деятельности», но после сегодняшней моей речи он был внимателен и любезен. Я считаю, что мой доклад направлен не столько в сторону учащихся, сколько в сторону начальства. На днях мне пришлось еще раз прочесть его в учебной команде Артиллерийской школы. В более интимной обстановке (было человек 200) как-то приятнее говорить. Мне во время последней части речи снова вспомнились Каншин и Соколов. Я говорил искренне и, видимо, произвел на молодежь некоторое впечатление. Г., по крайней мере, уверял, что «Вы, господин капитан, теперь пользуетесь популярностью среди нас. Вас поминают добрым словом»…
31 мая. После очередной моей лекции по радиотелеграфу (должен признаться, что радиотелеграф мне порядком надоел) отправился на пляж и там, раздевшись и лежа на солнцепеке, составил доклад совету Высших курсов об организации «военных гимназий» (пр. 16). Считаю, что можно назвать проектируемые мною команды (если, конечно, они будут образованы и дело пойдет хорошо) как угодно, но не кадетскими корпусами, так как это отпугнет публику. Курс должен быть посвящен целиком общеобразовательным предметам, а строевые занятия – в минимальном размере, необходимом для поддержания дисциплины. С переездом в Сербию организации необходимо придать широкий характер, привлекая в «Гимназии» всех, кто перешел на штатское положение и болтается без дела по городам Сербии и на улицах Константинополя. В таком масштабе организация может быть проведена только при поддержке капиталистов (по-моему, возможно участие не только наших, но и иностранных, например, Уитмора) и Американского Красного Креста. Мне могут возразить, что за границей мы будем недолго и нет смысла задаваться такими широкими планами. Я считаю, однако, что большевизм так легко не падет и надо рассчитывать на год, а то и на два. Вряд ли он может продержаться дольше.
1 июня. Продолжаю «читать радио». Признаться, иногда чувствую себя неловко, так как слушатели задают порой совершенно неожиданные вопросы и я немного затрудняюсь отвечать.
«У.Г.» начинает пользоваться популярностью. Говорим мы как-никак с наибольшей свободой, возможной в какой бы то ни было армии. Жаль только, что опыты привлечения новых лекторов неизменно кончаются неудачей – люди выходят и начинают невозможно мямлить.
2 июня. Ходил в лагерь и прочел доклад «Генерал Людендорф о значении пропаганды». Пришлось в предыдущие дни немало поработать.
Полностью перевел две главы первого тома. Материал получился интересный и, по-моему, весьма убедительный для начальства. В особенности слова Людендорфа о необходимости адвокатов для защиты правого дела сейчас как нельзя более уместны. Народа было не особенно много (не более 1000 человек). Не было музыки, всегда собирающей толпу, и погода стояла пасмурная.
5 июня. После предыдущей очень утомительной недели отдыхаю и купаюсь. Неприятно, что немного припухла челюсть и приходится усиленно мазать ее йодом. Земский союз теперь платит по 40 пиастров за доклад, но зато берет в свои руки «направление» газеты. Думаю, что у наших военных властей и у С.В. Резниченко[67] хватит такта, чтобы сговориться (Резниченко – бывший офицер). Х. теперь не производит на меня такого очень благоприятного впечатления, как в начале нашей работы. Он, видимо, считает, что хорошо разбирается в политике. В то же время у него вырываются фразы, отдающие политическим мальчишеством. Я говорил ему на днях о необходимости проводить единую политику и с этой точки зрения считал неуместными выпады против Савинкова. Х. улыбнулся и говорит: «Знаете, это ничего – пускай себе начальство переписывается» (дело шло о письме Врангеля Б.В.Савинкову и об ответе Савинкова Врангелю; штаб Корпуса отпечатал и расклеил оба письма в городе и в лагере).
Полковник П. убеждал меня заняться составлением литературного описания нашей жизни в Галлиполи на премию Уитмора. То же самое говорили и в батарее. Находят у меня беллетристический талант и прочее. Я после некоторых колебаний решил не писать – мал срок (две недели) и цензура штакора мне не улыбается.
Французы вывесили объявление[68] (на русском языке) об отправке желающих в Баку на нефтяные предприятия. Сегодня утром подошел большой пароход (забыл его название) под турецким и французским флагами, на который хотели погрузить желающих ехать в Батум. Говорят, что французы стали значительно более любезны к нашему командованию (Галлиполи это не касается; здесь полковник Томассен[69], всегда был очень корректен). Последнее объявление было прислано в штакор с препроводительной бумагой «просим передать демобилизованным русским» вместо обычного «русским беженцам». Кутепов немедленно поехал в беженский лагерь[70] и предложил желающим записываться. Уехало около 600 человек. Офицеров (желавшие ехать оказались и среди них) наше командование на пароход не пустило. По-моему, это сделано совершенно правильно, так как с принципиальной точки зрения увеличивать в Совдепии число хотя бы плохоньких военных специалистов совершенно не желательно. Я, если бы от меня зависело, не пускал бы и квалифицированных рабочих.
Забавное зрелище представляла из себя пристань. Маленькая кучка чернокожих охраняет вход на дамбу. Кругом площади целый ряд караулов – взводы офицерской роты, Кавалерийского училища, юнкера-константиновцы. Настроение весьма агрессивное. Уверяют, что на пароходе сидит товарищ Серебровский. Если бы он сошел на берег, вряд ли бы французам удалось его отстоять. Но «товарищ», если он на самом деле приезжал, на берег не показывался, и все обошлось весьма мирно. На примере этого отъезда я лишний раз убедился в том, как сейчас неустойчиво у людей моральное равновесие и как легко они решаются на самые необдуманные поступки[71].
6 июня. Ряды моих слушателей по радиотелеграфу сильно поредели. Я не могу считать свой способ изложения плохим. Слушают меня внимательно, но большинство офицеров совершенно забыло электричество. Им нужно было бы весьма основательно поработать, чтобы его повторить. Между тем большинство после лекций не открывает книжки и, конечно, за курсом не может уследить.
Полковника А. генерал Кутепов приказом по Корпусу отчислил от школы с зачислением в резерв чинов. Причина – рапорт А., написанный очень резко и поданный не по команде (непосредственно инспектору артиллерии). В конце концов, несмотря на все странности А., он все-таки хороший, сердечный человек, и у нас большинство искренне жалеет об его уходе.
7 июня. Осматривали сегодня полевую радиостанцию (передатчик). Мои слушатели нашли, что даже одна демонстрация делает теоретические сведения гораздо более ясными. То же самое должен сказать и о себе. Я прилично знаю теорию радиотелеграфа, но, что касается практики, мои познания минимальны.
Генерал Кутепов продолжает «тянуть», но делает это, надо ему отдать справедливость, на точном основании закона. Юнкера, при всей их внешней дисциплинированности весьма склонные покритиковать начальство, сознаются сейчас, что комкор прав. Они же говорят, что не будь наряду с железной волей Врангеля в Константинополе такой же железной воли здесь, вряд ли бы вообще Корпус мог существовать. Сознаюсь, что четыре-пять месяцев тому назад я сам сильно ругал Кутепова и считал, как и многие, что во имя интересов дела он должен уйти. Хорошо, что не ушел…
8 июня. Вчера полковник Р. прислал мне целую кипу номеров «Temps» с просьбой составить обзор печати. Я принялся читать эти простыни и нашел там довольно много интересного. Пожалуй, наиболее интересен германо-советский договор, который, несмотря на всю его важность, прошел сейчас совершенно незамеченным в нашей эмигрантской печати. Даже «Общее Дело» почему-то о нем молчит.
В городе «Устная газета» эту неделю почему-то молчала. Сегодня Шевляков зашел ко мне и просил повторить в пятницу мой доклад «Наши задачи» (II). В данную минуту меня больше всего интересует судьба моего предложения об организации «военных гимназий». В субботу в 17 часов в Земском союзе будем обсуждать проект смешанного учебного заведения (старшие классы гимназии и Высшие курсы). Я особенно буду настаивать на разрешении в первую очередь вопроса о среднем образовании. Интересно, что полковник Ряснянский и я, по-видимому, совершенно независимо пришли к мысли о настоятельной необходимости немедленного учреждения «военных гимназий». Сейчас в связи с тем, что в Сербии мы, кажется, будем нести пограничную службу, вопрос об учащихся получает особую остроту. Они делали чудеса на полях сражений, но в обстановке «маленьких гарнизонов» в глухих местах пограничной полосы вряд ли они окажутся пригодными. В то же время их во что бы то ни стало надо сохранить для будущей борьбы и не дать им обратиться, в лучшем случае, в чернорабочих, а в худшем – просто в босяков.
10 июня. В корпусном театре состоялась очередная «У.Г.». Я читал в несколько сокращенном, по сравнению с лагерем, виде «Наши задачи». Читал, по отзывам публики, хорошо, а по-моему, на сей раз без подъема, который появляется только иногда и по заказу не приходит. Очень сильное впечатление произвела статья Шульгина «1920 год». Написана она ярко и очень резко; Шульгин не щадит никого – и самого себя в том числе. Несмотря на то, что статья была прочтена довольно монотонным голосом, разговоров по поводу нее в городе масса. Фельетон С.М. Шевлякова (суд над Максимом Горьким) вызвал еще больше толков. Написан он отлично – особенно речь защитника, но в общем сводится к оправданию Горького. Надо сознаться, что мы начинаем говорить все свободнее и свободнее, и надо отдать справедливость командованию – оно нам нисколько не мешает.
С.Н. Резниченко (рассказывал Шевляков) проявляет гораздо больше беспокойства. Все боится, как бы мы не «ляпнули» лишнего и слишком решительно вмешивается в дела редакционной коллегии. Отношения между ним и коллегией явно натягиваются. Приходится в последнее время много работать по радиотелеграфу. Курс все расширяется и расширяется. Осталось всего 14 офицеров. Работают они довольно аккуратно, но сильнейшим образом сказывается отвычка от умственного труда.
У меня нет времени скучать, но порой все-таки грустно – особенно по вечерам. Тяжело совершенно не жить личной жизнью в течение многих лет.
Иногда хочется написать что-нибудь чисто беллетристическое, но не могу собраться с силами и выбрать момент.
11 июня. Заседание, на котором должен был рассматриваться проект «Высших курсов и подготовительного отдела» опять не состоялось. Отложили на послезавтра. Я приглашен как один из инициаторов. Тянут, потянут…
12 июня. Сегодня я должен был читать в лагере статью Шульгина, которая произвела огромное впечатление в городе. Перед самым началом сеанса генерал Витковский прислал полковника К.С. и запретил читать «1920 год». Оказывается, кто-то из гвардейцев, бывших в городе, «стал на дыбы» и подал рапорт относительно последнего сеанса. Еле полковнику Ряснянскому и мне удалось уговорить начдива.
Пришлось выпустить все яркое, что было в статье. Она очень обезличилась, но все-таки и в таком виде произвела сильное впечатление. Я всегда для проверки спрашиваю в таких случаях Г. Ему всего 19 лет, но он очень интеллигентный, вдумчивый юноша, недурно ориентируется в политических вопросах и искренне предан делу.
Живут сейчас в лагере, кажется, мирно и дружно. У нас в батарее из солдат остались почти одни вольноопределяющиеся. Отношения между ними и офицерами напоминают те, которые были в частях на Воронежском фронте в конце 1918 года.
Ночевал в батарее. Вечером долго гулял с Н. по передней линейке. Всякий раз, как его вижу, вспоминаю роковое 18 ноября 1918 года[72] и его немного сутулую фигуру с винтовкой в руках посреди занесенного снегом поля. Тогда 7–8 человек под командой поручика Гончарова ходили в контратаку против целого батальона (по меньшей мере) красных.
13 июня. Днем у меня был длинный разговор с С.В. Резниченко. У него есть сильная тенденция распоряжаться самостоятельно делами «У.Г.» независимо от редакционной коллегии и, кроме того, пренеприятная манера играть в государственные тайны. У Земского союза есть целый ряд русских книг, вышедших за границей, но Р…ко невероятно боится, чтобы кто-нибудь (а в особенности контрразведка) что-нибудь относительно него не сказал, и книг от него не добьешься. Вышел уже крупный разговор между С.В. и Ряснянским. Со своей стороны Шевляков на той же почве объявил было о своем выходе из редакционной коллегии, и еле удалось его уговорить. С.В. Резниченко получил какую-то крайне неприятную информацию насчет Сербии и передал ее комкору.
Вечером состоялось наконец собрание совета Высших курсов при моем участии. Сидели до позднего вечера и разбирали конкретный проект по пунктам. Для начала предположено открытие экономического отделения политехникума на 400 человек. Просили меня составить проект приказа по Корпусу, который предполагается представить генералу Кутепову. Проект должен носить декларативный характер.
14 июня. Новое осложнение. «Государственная тайна» С.В. Резниченко сегодня уже оглашена в «Presse du Soir» (разговор «Ц.О.К.» [73] с графом де-Шамбреном). Сербия отказалась принять дальнейшие партии русских. Говорят, что это результат интриги князя Львова, Милюкова и К°, добивающихся ухода Врангеля и Кутепова. Неизбежно резкое понижение настроений и, значит, новая трудная работа для нас. Думаю повести словесную атаку на всю группу учредиловцев, пользуясь, как материалом, «Историей второй русской революции» Милюкова и «Русским опытом» Рысса.
15 июня. Вечером был в штакоре у полковника Сорокина (меня просили в экстренных случаях заходить в штакор и выяснять обстановку). Сорокин разрешил сделать в лагере заявление о том, что в штабе корпуса имеются письма генерала Врангеля за более поздние числа, чем «Presse du Soir». Каких-либо отмен ранее сделанных распоряжений или указаний на новые затруднения там нет. «Поэтому штакор считает заявление графа Ш. очередной французской провокацией».
Это часть официальная, а неофициально известно, что Сербия требует раньше, чем принять нас, финансовых гарантий и без этого, действительно, отказывается пускать новые партии. Кроме того, судя по намекам «Нового времени», казаки, принятые в Сербию, ведут себя безобразно и совершенно испортили первое хорошее впечатление. Во всяком случае, дело с переездом, к сожалению, откладывается в долгий ящик.
Немедленно по окончании разговора отправился в лагерь читать обзор французской печати. Жарко страшно, но жары я не боюсь, вот зима, действительно, страшное дело. Видел около лагеря своеобразную картинку нашего галлиполийского быта. Компания офицеров и солдат косит пшеницу. Совсем это необычно, но ничего страшного нет. Один здоровый, загорелый офицер-корниловец в рубашке-безрукавке так ловко орудует косой, что, вероятно, и прежде этим делом немало занимался. Другой косарь с офицерской кокардой разделся до пояса. Спина у него цвета бронзы.
Мне кажется, что если бы в свободное от занятий время от всех частей посылали на работы, ничего бы в этом скверного не было. Цикады звенят, какие-то огромные, красные, прямокрылые десятками вырываются из-под ног и с громким шумом несутся по воздуху.
«Сеанс» был очень неудачен. Вновь привлеченные лекторы, вольноопределяющиеся – дроздовцы Г. и К., читали длинно, нудно и без малейшего подъема. Чтобы хоть немного оживить публику, я принужден был экспромтом превратить свой доклад в полуюмористический фельетон. Рассказ о том, как «совпосол» Кудиш получал (Si non e vero…) визу в штабе Врангеля, вызвал хохот. В общем, необходимо привлекать лекторов из города. Иначе «У.Г.» в лагере начнет чахнуть. Вечером пошел в дроздовское Офицерское собрание, где все заняты лото, и истратил 25 пиастров из числа полученных за доклад сорока.
16 июня. Ночевал в лагере. Встал так рано, как никогда в Галлиполи – в 6 часов. В полном déshabillé вышел из палатки (дамы спят). Раннее утро, но чувствуется знойный день впереди. Небо так и горит розовым огнем. Пахнет зреющей пшеницей. Вспомнились такие же утра на Украине в 1919 году, и в первый раз после отъезда из России меня потянуло в поход. Захотелось не теоретического «продолжения борьбы», а именно вот сейчас, по холодку, выступить в поход. И в первый раз после того, как возле Ново-Алексеевки меня едва не захватила конница Буденного, мысль о том, что снова затрещат пулеметы и зашуршат в воздухе пули, не вызвала у меня предательского холодка.
На «Херсоне» мне казалось, что больше под огонь я пойти не смогу, но, видно, война – тот же кокаин…
Помечтав о походе, уселся в одних пижамных брюках и босиком около палатки и начал готовиться к сегодняшней лекции по радио. Когда возвращался в город (около 8), было уже совсем жарко. Мои слушатели окончательно изведены моей настойчивостью и искренне сочувствуют мне заполучить по крайней мере дизентерию. Впрочем, курсы подходят к концу.
17 июня. Ходил в санаторию навестить полковника Е. У него, бедняги, зимой начался бронхит, потом перешедший, благодаря плохому питанию, в туберкулез… Сейчас легкие якобы рубцуются, но так ли это?
В санатории хорошо. Бараки расположены в лощинке, укрытой от ветров, у самого берега моря. Чисто, уютно. Напоминает «добрую старую» Германскую войну. Население санатории щеголяет в трусиках и в халатах, надетых на голое тело. Кто в туфлях, кто просто босиком. Ловят крабов среди прибрежных камней, греются на солнце и болтают об авиации, Игоре Северянине и о многом другом. Белеют деревни на Азиатском берегу Дарданелл, чуть виднеются в голубом тумане острова Мраморного моря. У меня щемит сердце – только здесь, на чужбине, нашли русские люди то внимательное, любовное отношение, которого они так и не видели у себя дома. Когда смотрю на галлиполийские лазареты, мне всегда думается, что, не будь русские лазареты (во время Гражданской войны) в три раза хуже, сколько бы мы, все-таки, сохранили хороших людей.
Е. сильно волнует «Голос галлиполийца» [74]. Письмо, действительно, в высшей степени нелепо – особенно в части, где говорится о ненужности строевого обучения.
18 июня. Сегодня во время очередной моей лекции явился начальник школы (он бывает теперь почти каждый день) и объявил, что я, как и прочие лекторы, зачислен на двойной паек. Признаться сказать, у нас заводятся совсем «кремлевские» порядки. Получил еще одно письмо от профессора В. Мне неловко, что я не ответил на первое – профессор, видимо, принял близкое участие в моей судьбе и все хочет меня устроить. Новое его предложение – устроить меня лаборантом у известного энтомолога Мокржецкого. В другое время я бы очень обрадовался этому предложению, но из Армии я не могу уйти (сейчас это мне кажется прямо преступлением) и не уйду. Политическая борьба (против левых, стремящихся развалить Армию) засосала меня, как тина.
Не представляю себе, когда у меня будет опять «чувство инициативы», о котором мы когда-то, гуляя на Стрелке, говорили с покойным Женей Никифоровым. Мы совершенно теперь отвыкли распоряжаться своей судьбой – знаешь, что когда-то и куда-то тебя своевременно повезут, а твоя личная воля ровно ничего не значит.
Долго бродил сегодня по берегу моря за Сергиевским училищем. Там, под охраной двух часовых-сенегальцев стоят два французских аэроплана. Дальше к перешейку тянется бесконечная желтая полоса пустынного пляжа. Горячий песок жжет тело. Море монотонно шумит. У берегов Малой Азии виднеются одинокие парусники. На пляже в этом месте нет ни одного человека. После большого прибоя он усеян мертвыми губками и морскими ежами, и среди этих маленьких трупов чернеют обломки разбившегося аэроплана.
Иногда мне очень хочется писать. Мысли так и просятся на бумагу, но ее-то в такие минуты обыкновенно и не бывает под рукой.
20 июня. Время бежит с ужасающей быстротой. Уже два месяца, как мы в школе. Еще два таких месяца, и осень будет не за горами – в особенности, если мы к тому времени попадем в Сербию. Вчера говорил с капитаном Р. Если мне когда-нибудь суждено командовать батареей, я никого бы так не хотел иметь заведующим хозяйством (Terra incognita для меня), как этого действительно в полной мере порядочного человека. Р. пробыл целый месяц в самом сердце Ставки – на пароходе «Великий князь Александр Михайлович». Его наблюдения очень интересны. Врангель все время бодр, спокоен и жизнерадостен. Как-то раз у него вырвалась фраза: «Только бы нам разделаться с союзниками, а дальше все пойдет хорошо». Раз только Главнокомандующий переживал мучительные минуты. Это было в пасхальную ночь… Французы не пустили генерала Врангеля в лагерь. Он сидел один, не пошел даже христосоваться с штабом и, видимо, тяжело страдал. С французами он держит себя совершенно независимо, на всякую резкость отвечает резкостью и, почти не имея реальной силы, заставляет с собой считаться. Популярность Врангеля не только не падает, но, пожалуй, даже растет. При посещении гражданских лагерей ему устроили бурную овацию. Штаб живет весьма комфортабельно, отлично питается и, что самое печальное, очень мало знает о положении дел в Галлиполи[75]. Генерал Экк очень хорошо исполнил возложенное на него поручение по осмотру военных лагерей (пр. 11). Помимо официального доклада, он очень многое рассказал Главнокомандующему и в частной беседе. Сегодня на «У.Г.» в городе произошел большой и безобразный скандал. Рыбинский[76] кончил свою речь о Национальном съезде перефразированными словами Гарибальди: «хоть с чертом, но за Италию». Вдруг сидевший в первом ряду генерал Б. вскочил и, обращаясь к публике, начал дикую и крикливую речь о том, что он, православный русский человек, не может этого стерпеть. «Братья и сестры… Первому Корпусу предлагают идти за чертом, но он за чертом не пойдет, он пойдет за крестом… Безобразие, что подобные вещи говорятся с кафедры человеком в офицерских погонах…» и т. д. и т. п. Шевляков прочел сначала свой фельетон, а затем от имени редакции заявил, что произошло недоразумение. Один из слушателей неправильно понял прочитанное. Генерал опять вскочил и продолжал свое «А все-таки первый корпус за чертом не пойдет…» Тогда Шевляков заявил, что не может возражать, так как иначе «Устная газета» обратится в митинг. Большая часть публики бурно зааплодировала. По окончании сеанса генерал Штефон[77] вызвал к себе Шевлякова и Рыбинского. Остальное пока неизвестно. Некоторые считают, что они попадут на гауптвахту. Интересно, чем это все кончится и не прикроют ли газету[78].
Когда сегодня утром я возвращался в лагерь, опять наблюдал типичную галлиполийскую сценку. Команда от «всей артиллерии» тащит на берег невод. Загорелые, голые до пояса солдаты работают с азартом. Какой-то офицер довольно демократического вида, засучив штаны и забравшись в воду, распоряжается. На берегу толпа офицеров и солдат с огромным интересом ожидает результатов ловли. Они оказались очень скромными – две-три камбалы, один огромный скат и немного мелкой рыбешки.
22 июня. Вчера был снова в санатории у подполковника Е. Поболтали по душам, сидя в тени утеса. На солнце ему долго оставаться нельзя – запрещено. У меня хоть нет туберкулеза, но организм, видимо, сильно ослаблен, так как от солнца и купания я нисколько не чувствую себя лучше. Пришлось в принципе согласиться с Е., что наши «кремлевские пайки», по существу, совершенно несправедливы. С другой стороны, Е. сам говорит, что отказываться мне не следует, чтобы не восстановить против себя людей, с которыми я до сих пор работал.
Сегодня утром в качестве сотрудника «У.Г.» был у бельгийского офицера, майора Марселя де-Ровера, который приехал к нам в Галлиполи с подарками для «беженцев». Пришел утром, как мы условились с прикомандированным к майору ротмистром Л., поднялся по узкой лесенке превосходного лазарета № 7 в квартиру старшего врача. Как водится, спрашиваю: «Разрешите войти?» Высовывается какой-то еще молодой, голый до пояса человек:
– Можно видеть бельгийского представителя?
– Я и есть бельгийский представитель.
(Майор ответил на довольно чистом русском языке.) Оба мы рассмеялись. Я извинился и пришел через полчаса вместе с ротмистром Л. и каким-то полковником-гвардейцем. Майор куда-то торопился и наш (на этот раз французский) разговор продолжался не больше 20 минут. Самыми интересными местами беседы[79] были две откровенные фразы де-Ровера: «У вас чудесная дисциплина – ни одного разбитого дома, все лавки целы…» (майор был представителем Бельгии при генерале Деникине и Врангеле, проделал все отступления к Новороссийску и хорошо знаком с нашими прошлыми порядками).
«Я очень высокого мнения о личных нравственных качествах генерала Деникина, но все-таки должен сказать, что с ним приходилось говорить три часа о деле, которое генерал Врангель решал в три минуты».
– Прежде всего должен вас предупредить, капитан, что я приехал сюда не как офицер Генерального штаба. Я привез от нашего Комитета подарки для русских беженцев, и, знаете, я сразу почувствовал, что попал не туда, куда ехал.
– Простите, я не совсем вас понимаю, господин майор.
– Я сам, по правде говоря, сначала ничего не понял… Ехал сюда, ожидая найти беженский лагерь (in camp des «bejentcy»), схожу с парохода и сразу встречаю ваших юнкеров… Знаете, ведь никто в Европе понятия не имеет о том, что на берегу Дарданелл стоит двадцатитысячный русский корпус. Пишут о беженцах, но, позвольте, какие же тут беженцы. Мне пришлось видеть за свою жизнь очень много войск. У вас дисциплина не хуже, чем в любом европейском корпусе. Удивительно, как изменились добровольческие части.
– Но в Крыму…
– Да, в Крыму было гораздо больше порядка, но там я мало видел строевых частей. У меня больше остался в памяти девятнадцатый год. Я близко стоял к Ставке и имел возможность наблюдать ошибки ваших вождей. Собственно, я говорю только о временах Деникина. Врангель сделал все, что мог, но силы были слишком неравные. Вашей основной политической ошибкой было нежелание считаться с тем, что прошлого не вернешь. Вы отталкивали от себя тех, кто мог за вами пойти, и, наряду с этим, вы не умели организовать надежную силу из тех, кто к вам шел. Мы, иностранные офицеры, в один голос считали, что пополнять армию только что сдавшимися красноармейцами – значит, готовить крах – ведь эти же люди идейно ничем с вами не были связаны. Силу, на которую можно было бы опереться для дальнейших формирований, вы не организовали, хотя надежных людей у вас для этого было достаточно. У вас и теперь есть один огромный недостаток. Если вы от него освободитесь – будущее за вами.
– Какой же это недостаток?
– Вам чужд демократический дух… вы демократизованы, но вы не демократы…
– Что вы думаете о будущем Армии? Ответьте мне откровенно, господин майор – это не для «газеты». Думаете ли вы, что она еще сыграет свою роль?
– Как Армия – не знаю. Предсказывать события не берусь. Но я совершенно уверен в том, что те люди, которые ее сейчас составляют, сыграют в свое время большую роль, очень большую… Ваше национальное несчастье – русское безволье, а сюда, в Галлиполи, мне кажется, отфильтровались волевые люди со всей России. Конечно, они есть всюду, но это одиночки, а здесь такой сгусток воли, который неизбежно себя проявит.
… Мне кажется, что все-таки лучшее, что у вас здесь есть, это ваши военные училища. Искренне поражаюсь, как, не имея ничего, вы создали такие военные школы. Что бы вас впереди ни ожидало, сейчас у вас здесь делают огромное дело. Вы физически и нравственно спасаете тысячи молодых людей. Я только что из Константинополя. По сравнению с Галлиполи, это нечто ужасающее. Люди выброшены на улицу, и некоторые обращаются в форменных босяков – особенно молодежь.
Днем я читал свое «интервью» в лагере[80] и после него еще «Американские журналы о Совдепии» (пр. № 17). Возвращались мы с Шевляковым и Рыбинским на вагонетке. Рыбинский управлял, и довольно удачно – сходили с рельс всего два раза.
23 июня. У меня что-то неладное делается с деснами. То в том, то в другом месте они припухают. Боли почти нет, но зубы начинают качаться и быстро крошатся.
Сегодня написал ответ проф. В., предложившему устроить меня в Болгарии. Поблагодарил профессора за внимание, описал ему наше «житие», нашу агитационную работу и попросил его прислать сербские и немецкие газеты. Из Армии уехать отказался. Я ясно чувствую, что пребывание в Галлиполи может кончиться для меня туберкулезом, но «noblesse oblige»… [81] Двойного пайка, который я получаю как лектор Артшколы, мне много (хлеба уже не съедаю), но слабость не уменьшается, а как-то будто даже увеличивается.
25 июня. Провел отвратительную ночь. По-видимому, от попытки в течение дня съесть два фунта хлеба и по две маленьких котлеты днем и вечером у меня началась сильная рвота. До после обеда лежал, не одеваясь. Выпил немного чая и к 16 часам был уже почти здоров; только слабость страшная. Ходили осматривать приемную радиостанцию. Начальник ее, видимо, из солдат. Прекрасно вертит свои рукоятки, но теории совершенно не знает и, пытаясь объяснить действие станции, путал так, что неловко было слушать. Я с большим трудом разобрал, как в действительности устроен этот тип станции, и потом рассказал офицерам. Способ изучения, надо сознаться, совершенно нецелесообразный.
Вечером читал свою беседу с де-Ровером в театре. Публика, по словам С.М. Шевлякова, слушала весьма внимательно. Сергей Николаевич пригласил меня еще раз повторить «беседу» в мечети Теке у корниловцев (юнкеров). Таким образом, приезд милейшего де-Ровера дает мне целую лиру двадцать пиастров. Опять приходится повторить – голь на выдумки хитра. Вечером подполковник Пезе де-Корваль рассказал мне интересную картинку из нравов нашей «самой свободной в мире армии». «Товарищ министр» (так Керенского именовал даже командир Гвардейского корпуса) говорил зажигательную речь войскам. Солнце Галиции пекло невыносимо; революционный министр снял сначала френч, затем положил на голову мокрый платок, и наконец над ним водрузили огромный зонтик, взятый услужливым солдатом у проходившей сестры милосердия.
26 июня. Сегодня чувствую себя совсем хорошо. Только во рту еще скверное ощущение и аппетита почти нет. Я получил еще одно дополнительное питание. Земсоюз дал мне (как ослабевшему лектору «У.Г.») карточку на неопределенное время. Это дает мне возможность подкармливаться на питательном пункте Союза. Школьный дополнительный паек с сегодняшнего дня я отдаю П. де-К. и К. Думаю, что никто не будет за это на меня в претензии.
По вечерам в нашем «сером доме» порой пахнет кровью, и сильно пахнет… Вчера капитан Д. вспоминал бой под Белой Глиной в 1918 году во время второго Кубанского похода. Шли по-добровольчески – без разведки и охранения. Совершенно неожиданно напоролись на большевиков. Те открыли страшный пулеметный огонь. Началась паника, и погибло больше 250 человек. На следующий день после нашей контратаки полковника Жебрака, не имевшего одной ноги, нашли замученным. Красные отрезали ему другую ногу, выкололи глаза. Одного кадета живым сожгли на костре[82].
С нашей стороны расплата была жестокая – из пулеметов расстреляли больше 3000 человек пленных[83].
Сегодня вечером мы долго спорили – было различие между нами и большевиками в смысле расстрелов или нет. Все-таки большинство нашло, что издевались мы меньше и реже. Впрочем, всякое бывало. «Чека» не было, но отдельные чекисты были.
27 июня. Читал сегодня «Американские журналы о Совдепии». Жаль, что приходится пробавляться всякой чепухой, так как серьезного материала, благодаря упорству С.В.Резниченко, нет. Читал я сегодня, по-моему, неважно – без подъема и, сам не знаю почему, берег голос. Публики было очень много. Привлек ее, я думаю, полковник Савченко, читавший «Итоги Национального съезда».
Наша гауптвахта (вернее, 4 «губы») работает вовсю. Больше всего народа сидит за позднее хождение по городу. Никто особенно не бранится, так как все понимают, что иначе порядок поддерживать невозможно. Получается все-таки смешная картина – совсем как в былые времена в военных училищах. Установилась такая приблизительно норма наказаний – за гуляние после 23 часов без дамы (предполагается, что человек мог случайно поздно возвращаться) – 3 дня ареста, с дамой (смягчающих обстоятельств нет) – 5 дней. В экстренных случаях норма повышается до 15 дней. На днях генерал Штефон был в театре. Сзади уселась компания пьяных греков. Они шумели и демонстративно обкуривали генерала. В результате, как говорят, заведующий театром, полковник Л., дежурный плац-адъютант и дежурные чины контрразведки за непринятие мер посажены на восемь суток[84].
28 июня. Вечером читал в «Теке» у корниловцев. Какое-то особое настроение охватывает меня, когда я читаю юнкерам – особенно здесь, в старой мечети Теке. Сквозь окна, затянутые мешками, под расписные своды пробиваются ослепительно яркие лучи южного солнца. Тихо. Только на соседнем платане неумолчно звенит цикада. Покинутый храм чужого Бога, но все-таки есть какая-то жуткая торжественность в этом здании.
Порядок идеальный. Видно, масса труда положена юнкерами. Трогательная подробность – в помещении каждой роты, отделенном от центральной залы щитами из одеял – памятные доски с именами убитых товарищей… Но все-таки, какая разница между юнкерами моего времени (очень недавнего – 1915 г.) и теперешними. Тогда были веселые, буйно-жизнерадостные юноши. Сейчас – точно послушники строгого монастыря, облеченные в военную форму. Видно, долгое соседство со смертью не проходит бесследно. А мои слушатели, отлично выправленные, чистенькие, с бледными, строгими лицами – сколько раз им пришлось смотреть в лицо смерти. Почти на всех георгиевские кресты, а их с таким трудом давали на Гражданской войне и так дорого они стоили. У одной из стен маленькая церковка. Все иконы написаны акварелью юнкерами. Пожалуй, интереснее всего театр. Занавес и боковые стены – прямо произведение искусства. Издали получается впечатление панно. По темно-серому фону тянутся вверх бледные побеги болотных трав. Фантастические красочные фигуры русских былин. Между колонками такие же панно – скорбные фигуры тоскующих женщин, а материал – все те же одеяла и на них вырезанные из бумаги и раскрашенные цветными карандашами рисунки.
29 июня. Вечером полковник Я., Е.С. и я долго вспоминали гетманские украинские дела летом 1918 года. Три года тому назад мне казалось, что Украина – это прежде всего колоссальный, богатейший плацдарм для операций против красных. Нетерпимость добровольческого командования, по-моему, сыграла в украинских делах роковую роль.
Пожалуй, стоит прочесть коротенький очерк «Из истории одного отряда» (Лубенский Куринь). Вспомнили и кошмарные жестокости петлюровцев. Они даже большевиков перещеголяли. Одного офицера, представителя Добрармии, который вышел им навстречу в форме и в орденах (дело было в Чернигове), петлюровцы замучили с азиатским зверством. Ему разрезали живот, прикрепили к деревянному валу кишки и вымотали из живого человека.
30 июня. Сегодня долго говорил с Е. Он горячо настаивал на необходимости поднять понятие чести офицеров, но, если приняться за это дело слишком горячо, можно только напортить. В результате, пожалуй, укрепится рознь между кадровыми и некадровыми офицерами, которая и так намечается.
1 июля. Начинаю новую тетрадку – четвертую по счету, не считая отдельных листков. Уже теперь интересно читать собственные писания, относящиеся к началу нашей эмигрантской жизни. Жаль, что пропали под Севастополем те листки, на которые я заносил свои впечатления начиная с середины августа 1920 года. Я делал свои записи нередко под огнем, и в них была свежесть только что пережитых событий.
Сижу около нашей единственной лампы почти совсем раздетый. Душный летний вечер. За неясно-голубой гладью моря виднеются очертания гор Малой Азии. Уверяют, что совсем близко от нас древняя Троя. Несмотря на ночь, громко и мелодично трещат сверчки, какой-то неугомонный кузнечик им весело вторит. На фоне чуть догорающего заката чернеют пушистые ветки пиний и траурно-мрачные кипарисы. Мы сидим с полковником Я. и говорим о последней злобе дня. Только что вывешен приказ: Беженского батальона полковник Щеглов, 45 лет, лишен чина, орденов и воинского звания и приговорен к расстрелу. Приговор утвержден и приведен в исполнение. Обвинение – в палате госпиталя № 4 полковник Щеглов бранил Армию и начальников, подрывая веру в успех Армии. Красную армию расхваливал, называя ее «настоящей русской армией». Особо отягчающим вину обстоятельством суд считает штаб-офицерский чин полковника Щеглова. Впечатление от этого расстрела очень большое, но вряд ли эта жестокая мера целесообразна. Второй приказ, обнародованный сегодня, тоже совершенно непонятен. Всех молодых людей, достигших 17 лет и не состоящих в частях, зачислить в военные училища в зависимости от полученного ими образования. Не желающих поступить на военную службу лишить казенного пайка. Что сей сон значит – совершенно не понимаю. Молодые, знающие офицеры очень нужны, но насколько нужны люди, не желающие быть офицерами? Кажется, из всех моих докладов наибольший успех имела моя статья (вернее, речь, так как был написан короткий конспект) «Учащиеся и война» (III). Пришлось повторить ее четыре раза. Кроме того, полковник А. просил меня повторить ее еще раз для штаб-офицеров и, наконец, мне предложили написать уже настоящую статью для журнала Кавалерийской дивизии. Еще раньше меня просил о том же Шевляков (для какого-то ежемесячника, издание которого предположено в Корпусе) и полковник Безак (для журнала юнкеров-сергиевцев) [85].
2 июля. Расстрел полковника Щеглова по-прежнему служит темой для бесконечных разговоров. По-видимому, большинство офицеров относится резко отрицательно[86]. Некоторые, наоборот защищают суровость меры. Жаль, что этим вне всякого сомнения воспользуются все наши враги – «Последние Новости», «Воля России» и т. д. После обеда заговорили о расстрелах, и кровавый кошмар снова начал вставать в памяти. Поручик П. рассказал несколько страшных сказок действительности.
Расстреливали по приказанию генерала М. группу пленных коммунистов. Дошла очередь до старика, которого сочли за красного добровольца. Перед смертью он сказал: «Я все равно близок к могиле, но я не большевик… Мне так же чужды красные, как и белые. Вы расстреливали, расстреливаете, расстреляете и меня. Но одна просьба – возьмите эти деньги и передайте моим маленьким детям». Кто-то взял деньги (и присвоил их). Старик разделся, сам предложил снять рубашку, чтобы она даром не пропала. Потом стал на колени, помолился и сказал «стреляйте». Когда все было кончено, у офицеров было невероятно тяжело на душе[87].
В лагере до сих пор были «дворянские вольности» – днем ходили в пижамах, занятий было мало. Сейчас лагерь начали сильно подтягивать. Население гауптвахты № 4 сильно увеличилось. К попаданию туда относятся добродушно. На «губе» завелись забавные традиции – издаются, например, шуточные приказы, подписываемые «генералом от Галлиполи» и т. д.
Вечером. День сегодня был удушливо-жаркий. На солнце, вероятно, больше 40° по Реомюру. Море зеркальное. Волны никакой, а когда входишь в воду – видна вся жизнь моря. Какие-то маленькие полупрозрачные рыбки тихонько плавают, еле шевеля плавниками; снуют туда и сюда мелкие рачки. Вода теплая, как парное молоко. Песок жжет голое тело так, что еле можно лежать.
Последние дни в свободное от занятий время большинство щеголяет дома в одних пижамных штанах. Сейчас (около 9 вечера) я потихоньку пробрался на кладбище. Рисковал попасться на глаза патрулю в своих белых пижамных брюках и туфлях (гауптвахта обеспечена), но мои «танки» [88] набивают ноги. Пытался рисовать могилу турецкого генерала, но сегодня как-то дело не шло.
Днем заседали у генерала (начальника школы). Решили, что занятия продолжатся еще одну неделю, а в четверг будет экзамен. После окончания курса я еще должен остаться в школе две недели, а это мне совсем не улыбается, главным образом из-за практикующейся там выдачи продуктов на руки. Я ничего сам варить не умею и вряд ли когда-нибудь научусь. С другой стороны, если предложат остаться в школе еще на один курс, я попаду в неловкое положение. В батарее, вероятно, будут недовольны.
3 июля. Днем был у Е. в санатории. Там устроили концерт капеллы. Были Кутепов, Штефон, «американский дядюшка» и много нарядных дам. Каждый раз, как бываю у Е., сердце сжимается, глядя на больных юнкеров. Их, бедняг, полна санатория. Молодые, иногда полудетские лица, под распахнутыми халатами исхудавшее загорелое тело и у некоторых предательский румянец на щеках. Так или иначе, но кандидаты в могилу. Е. храбрится, все уверяет, что выздоровел, – кажется, характерная для туберкулезных черта. Трудно выздороветь, когда питание совсем слабое, хотя и считается «усиленным» по сравнению с лагерным пайком.
Е. рассказал мне некоторые подробности о причине придания суду и расстрела Щеглова. Он действительно вел разговоры явно провокационного характера. Уверял, например, что Врангель в Константинополе торгует вином и т. д. Словом, с точки зрения интересов дела расстрел его, видимо, обоснован.
У штаба Корпуса вывешен новый приказ – результаты смотра учебных команд кавалерии и артиллерии. Приказ написан хорошо. Кутепов ставит в упрек начальникам, что преимущественное внимание обращено на внешнюю сторону дела.
Мне понравилось определение нашего Корпуса как «единственного и последнего кадра будущей русской армии».
4 июля. Сенсационная новость относительно ареста советских представителей в Константинополе и Лондоне, о которой говорили еще вчера, оказалась, против обыкновения, не уткой. Сегодня уже есть об этом официальное сообщение в «Информационном листке» [89]. Оно произвело очень сильное впечатление уже потому, что явилось для нас полной неожиданностью. День у меня сегодня был занят целиком. После двух часов лекций читал в библиотеке «Origin of Species» Дарвина. Против ожидания, читать легко. В течение часа я одолел около двадцати страниц (без словаря) и все понял. Вообще, я решил снова подзаняться английским языком – разговорная речь без практики быстро забывается, если хорошенько сразу не усвоить. Хожу через день на курсы иностранных языков Всероссийского земского союза. Нас в «старшей» группе всего 5–6 человек. Преподаватель – старичок подпоручик граф Дмитриев-Мамонов. Ему 56 лет, и он симпатичный, очень светский и обязательный человек. Уроки проходят весело. Жаль только, что он слишком много говорит по-русски. Вечером сидел за кулисами и слушал «У.Г.». Как всегда, умно и красиво говорил Савченко. Шевляков прочел очень хорошо написанный фельетон «Творимая Легенда» (о Врангеле). Интересно, что Резниченко еле удалось уломать, чтобы он разрешил читать этот фельетон – он находил его тенденциозным, говорил о борьбе, которую ведет генерал Врангель с общественностью и т. д. Положение создалось странное. Штакор нам доверяет в полной мере, а контролирует нас совершенно штатский человек, когда-то, правда, бывший гвардейским офицером.
Поздно вечером сидел опять у Е. в санатории. Много смеялись, вспоминая разные фазисы наших отношений с французами. Сейчас в особенности интересное положение. Мы крепки как никогда, сидим на чужой территории, не имея ни денег, ни собственных запасов, а разговариваем с великими державами языком победителей. Остроумную фразу сказал Кутепов в Техническом полку: «Без дисциплины вы и мотора не соберете».
5 июля. Стоят прекрасные жаркие дни. Вечера довольно свежие, как, впрочем, всюду на юге. По крайней мере, в Румынии (в 1917 г.) после сорокаградусной жары ночью бывало градусов 16 по Реомюру. Мы все так привыкли за последние годы войны к жаркой погоде, что +480 °Р (+600 °C), как было на днях, никого особенно не пугают. В лагере в палатках (особенно в тех, где внутренний слой белой материи-подкладки снят) действительно очень душно. Все ходят в пижамах, а иногда, в пределах своей палатки, в одних трусиках.
Гулял сегодня в поле и наблюдал турецкие работы. Делают они, на первый взгляд, нечто совсем непонятное. Пара здоровенных, упитанных быков какого-то совсем не русского типа припряжена к толстой доске вроде салазок. На ней сидит баба, и быки возят ее по кругу. Оказывается, на земле насыпан толстый слой сухих бобов и их таким образом молотят. Рядом отдыхает пара маленьких, тоже раскормленных осликов очень симпатичного вида. Окрестности Галлиполи уже потеряли свою привлекательность. Трава почти такая же желтая, как была зимой. Хлеб почти повсюду убран. Цветы отцвели. Только кое-где попадаются ярко-красные маки. В Малой Азии зеленеют виноградники. По вечерам одуряюще пахнет в некоторых садиках жасмин. Багрово-красными цветами усеяны гранаты. Возле квартиры С.М. Шевлякова какое-то неведомое дерево, вроде акации, покрылось маленькими люстрами странных хвостатых цветов. В садиках Галлиполи мало знакомых русскому (даже южнорусскому) глазу деревьев. Все больше гранаты, инжир со своими темными лапчатыми листьями, миндаль, айва, кое-где – лавры, азалии, олеандры и мирты. Турецкие могилы (я уже начинаю сомневаться, могилы ли это) возле родных домов по-прежнему мне очень нравятся, в особенности маленькая могилка около дома Кутепова.
Мирно течет сейчас наша жизнь. За зиму люди исстрадались от холода, голода и тоски. Сейчас палит горячее солнце, море не шелохнется, закаты волшебно хороши… Синеющие горы Троады делаются темно-лиловыми, розовым светом горят прозрачные облака, и, глядя на них, некоторые мечтатели из образованных вспоминают розовоперстую богиню, легкокрылую Эос. Целый день перед глазами трехрогая вершина горы Иды, Геллеспонт, он же Дарданеллы… значит, Гелла, Байрон и еще много других. Есть о чем помечтать. А другим просто солнце и море помогают забыть совсем голодный желудок. Так приходится в мыслях перескакивать от богинь к французскому пайку. Я сейчас не могу пожаловаться на свою судьбу. Правда, «кремлевские» пайки у лекторов отняли, но я ими фактически и не пользовался, а на питательный пункт по-прежнему продолжаю ходить. Кроме того, В.З.С. заплатил мне все свои долги (около трех лир), и я, по нашим понятиям, в полной мере «буржуй».
Вечером пришел в лагерь. Встречают меня в батарее теперь очень радушно. Совсем не узнать офицеров, которые три месяца назад форменным образом травили меня за настойчивое желание наладить «У.Г.». Полковник С. весьма примирительным тоном заявил мне, что ходит теперь на каждый сеанс, так как газета стала очень интересной.
Жаль бедного князя Володю В. – из-за халатности его представление в подпоручики вовремя не было послано, и в результате генерал П. вернул его обратно. Опять человек остается в 23 года кадетом Воронежского корпуса, и притом с искалеченной ногой.
6 июля. После города хорошо «погостить» в лагере. Щеголяют все в пижамах и в туфлях, а солдаты порой просто босиком. Настроение спокойное и какое-то безразличное. Доктор А. прав, говоря, что сейчас впечатление такое, точно мы лет десять уже тут живем и проживем еще столько же. Боится, что если мы не уйдем до сентября, то придется готовиться так или иначе к зиме. Тогда вновь может наступить упадок духа и появиться стремление разойтись.
На днях производят юнкеров трех училищ и сейчас же набирают новых. Молодежь идет в училища довольно неохотно. Многие настроены выжидательно. Некоторые усиленно хотят попасть в то учебное заведение, которое проектировали. Слухи о нем уже пошли широко. Жаль, если оно будет только конкурентом военным училищам – я, лично, совершенно этого не хотел. Всевозможные обещания затянули вопрос с открытием этих курсов и, пожалуй, совсем его похоронят. Жаль, если это так будет. Характерно, что офицеры с удовольствием занимались бы военными науками, будь это дело хорошо поставлено.
Переночевал в батарее; спалось крепко – полы палатки подняты и спать благодаря этому прохладно и хорошо. Зашел утром к Ряснянскому. Он, кажется, был недоволен моим костюмом (белые парусиновые штаны и такая же гимнастерка). Как человек воспитанный дал мне это понять весьма деликатно. Придется следующий раз надеть опротивевшие мне толстые английские брюки.
Полковник Ряснянский экстренно попросил меня прочесть обзор печати (командир одной из батарей, человек допотопных взглядов, запретил вольноопределяющемуся К., бывшему адвокату, прочесть уже приготовленный по просьбе Ряснянского доклад. Заявил, что «это в его планы не входит»). Пришлось засесть у Ряснянского в его уютной полуподземной палатке, в которой, впрочем, сегодня невыносимо жарко, и прочесть массу газет. Потом мы вместе чертили огромную схему группировки красных армий, и у меня от жары сильно разболелась голова. Дома еле отлежался.
«У.Г.» в лагере привлекает все больше и больше народа. Некоторое влияние ее на «общественное мнение» несомненно.
Доклад Ряснянского, посвященный военному положению Совдепии и планам большевистского похода на Индию и Константинополь, вызвал сенсацию. Говорить так откровенно, как мы сейчас говорим, можно только при теперешнем составе Корпуса. «Творимая Легенда» Шевлякова тоже понравилась, особенно солдатам. У меня прошла голова, и свой обзор я прочел достаточно оживленно. Домой (в город) меня подвез в автомобиле полковник Бредов. Он, бедный, ехал в лазарет – болен колитом[90], самой сейчас распространенной болезнью в Корпусе.
7 июля. Решил сегодня сделать все нужные покупки. Купил зубную щетку, кружечку, пару носков, еще одну тетрадь и заказал перешить гимнастерку с новыми погонами. Купался и валялся на пляже. На обратном пути около кладбища услышал странные звуки. Какая-то женщина навзрыд плакала. Оказалось, русские солдаты-санитары принесли хоронить гречанку, совершенно высохшую от туберкулеза. Могила совсем мелкая – не больше аршина. Греческий священник утешает единственную провожающую – тоже очень старую женщину. Та плачет навзрыд. А из древней монументальной часовни над гробницей турецкого святого (рядом с греческим кладбищем) несутся звуки русского пения. Там поселились какие-то неунывающие кавалеристы-офицеры и солдаты. Удивительно красивый, мягкий баритон поет «Эх, распошел…» Ему аккомпанирует гитара. Гречанка продолжает рыдать.
Вечер. Сидим с Я. в нашей комнатке. Он читает «артиллерию». Я начинаю «Творчество Радости» Рабиндраната Тагора и на одной из первых страниц встречаю красивую фразу: «Из радости рождается все живущее, радостью оно сохраняется, к радости оно стремится и в радость оно вступает».
8 июля. На сегодняшнем сеансе был Кутепов. Удивительно действует его присутствие на, казалось бы, привычных к публичным выступлениям людей. Рыбинский перед выходом за кулисами крестится (он, правда, делает это каждый раз). Шевляков прочел, по случаю присутствия комкора, чрезвычайно неудачный фельетон с монархическими тенденциями.
9 июля. Как обычно по субботам, собрались в 14 часов у генерала Дынникова[91] обсудить вопрос об экзаменах первого курса летчиков-наблюдателей. Окончательно решено, что экзамен будет в пятницу. О следующем курсе генерал пока молчит.
Вечером перед заходом солнца целые толпы офицеров и солдат стояли на берегу и наблюдали непонятное явление: над Малоазиатским берегом в одном определенном месте моментально появлялись, росли и медленно исчезали белые облака. Они возникали то группами, то поодиночке и по внешнему виду ничем не отличались от разрывов. Странно только, что, несмотря на наступление сумерек, характерных блесток не видно. Артиллеристы в один голос считают, что это разрывы снарядов огромного калибра. Из-за сильного ветра звуков выстрелов, естественно, не было слышно. Явление произвело сенсацию. Появление кемалистов со стороны Исмида вполне возможно[92].
10 июля. Вместе с Шевляковым ходили в лагерь на «У.Г.». Народа была масса – не меньше, чем на том памятном сеансе, когда я читал «Почему нам нельзя расходиться». Очень много солдат (по преимуществу вольноопределяющихся). Очень многие знают нас, лекторов, в лицо. Перед началом сеанса рассматривают, точно оперных теноров. Было также очень много офицеров и солдат нашей батареи. Находят мой доклад («Генерал Людендорф о большевизме») очень интересным, но немного длинным (45 мин.). Фельетон Шевлякова «Накануне» встречен в лагере гораздо более сочувственно, чем в городе. Видимо, настроения здесь значительно более консервативные – особенно на «Европейском берегу» (так называют правый берег лагерной речки, где расположена кавалерия).
После некоторого перерыва снова поток провокационных слухов. За распространение одного из них (отъезда кавалерии в Сербию на днях) один полковник Генерального штаба получил выговор в приказе по Корпусу. Сегодня приходил с Лемноса «Решид-паша». Постоял у Галлиполи всего полчаса и ушел. На всякий случай были вызваны на пристань два военных училища. Еще один слух – во вторник на параде по случаю именин Врангеля генерал Кутепов объявит какую-то потрясающую новость.
Типичная галлиполийская картинка – мальчишки-турки теперь не только распевают «Мама, мама, что мы будем делать…» и «Карапет мой бедный…», но пытаются даже объясняться с сенегальскими стрелками по-русски. Забавнее всего, что те пытаются по-русски же отвечать. Мирное завоевание Востока.
11 июля. Я частенько фантазирую на тему о том, что союзникам рано или поздно придется не только признать нас, но и поручить нам охрану проливов. Положение на Ближнем Востоке запутывается все больше и больше. Сегодня в «Информационном Листке» опубликовано советское радио – кемалисты якобы в 15 верстах от Константинополя. Мне кажется, что оккупационные войска союзников, которым придется, вероятно, столкнуться с кемалистами, сами не особенно надежны. Негры, те по глупости своей вряд ли способны к восприятию коммунистических идей, но солдаты-французы имеют чрезвычайно расхлябанный вид. Вчера наблюдал такую сценку. Стоит группа отлично выправленных, тщательно одетых юнкеров. Проходящие мимо офицеры аккуратно козыряют друг другу и юнкерам. На пороге какого-то склада сидят несколько французских солдат и смотрят исподлобья и явно неодобрительно на русскую «белогвардейщину».
Вечером состоялся в городе необычайно бесцветный сеанс «У.Г.». Я повторил «Людендорф и большевизм». Большинство слушало как будто с значительным интересом, но полковнику О. мой доклад, видимо, не понравился. Шевляков читал бледно. «Сказок», прочтенных Рыбинским, никто почти не понял, и публика стала расходиться. В общем, впечатление довольно конфузное.
12 июля. Утром был на параде по случаю именин генерала Врангеля. Что ни говори, но все-таки мы, по крайней мере внешне, все больше и больше принимаем вид настоящей армии. Никогда еще войска Гражданской войны так не выглядели.
От имени Врангеля генерал Кутепов произвел юнкеров. Сказал краткую, но очень хорошую речь без лишних фраз и с большим подъемом.
Наконец-то Андрюша В. произведен в офицеры. Бедняга пробыл юнкером больше четырех лет (с мая 1917 года). Кавалерия как будто действительно уезжает в самом непродолжительном будущем. Вчера офицеры-кавалеристы были в панике. Должны были ехать 3000 солдат, 1 генерал (Барбович) и всего 60 офицеров. Сегодня решили (в принципе, по крайней мере) заместить унтер-офицерские должности офицерами. Таким образом, сможет уехать около 400 офицеров и организация частей не будет окончательно сломана. Все же в Галлиполи останется около тысячи офицеров кавалерии и конной артиллерии.
Узнал сегодня забавную и характерную новость. Барон Х. увлекся… энтомологией и усиленно ловит бабочек. Правда, молодому ротмистру 22 года, но… шесть лет войны за плечами и невероятное количество расстрелов. Еще на Украине, будучи 19-летним командиром желтых гайдамаков, барон изумлял ко всему привычных товарищей своей храбростью и холодной жестокостью. Три года тому назад он признался мне, что собственноручно расстрелял человек 70 большевиков. Его любимой «шуткой» было обращение к пленному: «Здорово, покойник!»
И в то же время чудный товарищ и, по существу, совсем не злой человек. Один из бесчисленных парадоксов Гражданской войны.
13 июля. Зашел вчера без приглашения полковника Савченко посмотреть «выставку» гимназии. Удивительно хорошее впечатление производит это учебное заведение. Чувствуется, что руководители его действительно любят детей и идейно преданы своему делу. На выставке есть отличные рисунки 12-16-летних. Некоторые из них сделали бы честь и взрослому хорошо рисующему человеку. Удивительное чувство красок у одного 15-летнего мальчика. Облака на фоне догорающего заката прямо удивительны. Скульптура не представляет ничего особенного, но среди стихотворений есть очень недурные. Меня поразило полное отсутствие военных тем, несмотря на то, что дети за самыми малыми исключениями все поступили из частей и годами жили войной. Оказывается, в гимназии ведется систематическая борьба с «военщиной». Детей хоть на время стараются вернуть к нормальной жизни и создают для них нормальную обстановку. После скитаний и бесчисленных боев мальчики блаженствуют. Все почти – дети из сравнительно обеспеченных семей – кадеты (14 чел.), гимназисты (большинство), реалисты. Многие совсем отучились спать на кроватях, сильно «опростились», но не могу сказать, чтобы участие в войне развратило их. Савченко говорит, что труднее всего отучать их от ношения формы и отдания чести. Долгое время по вечерам упорно переодевались в форму своих полков и батарей и «отчетливо» козыряли. Теперь бегают босиком (отчасти из целей гигиенических, отчасти просто из-за отсутствия обуви), в коротких бумажных панталонах и сильно декольтированных блузах. Белье им запрещалось носить, так как в тропическую жару, которая теперь стоит, оно только вредно.
Я думаю только, что при возобновлении военных операций дети снова ринутся в строй, и никакими силами их тогда в гимназии не удержать. Война – тот же опиум, и, раз ее попробовав, потом трудно удержаться.
14 июля. Заканчиваю последние лекции по радиотелеграфу. Результаты курсов в конце концов довольно плохие. Либо я недостаточно знаю дело, либо не умею преподавать (школьное начальство находит обратное), либо слушатели слишком мало работают, а может быть, и то, и другое, и третье вместе.
Утром ходил на кладбище, где заканчивают памятник. Торжественное его открытие назначено на 16-е. По-моему, памятник много выигрывает благодаря своей простоте. В противном случае он был бы только моделью большого сооружения. Очень удачна надпись на четырех языках – русском, французском, греческом и турецком. Со времени смерти Каншина и Соколова глаза у меня на мокром месте каждый раз, как бываю на военных кладбищах. Сегодня, смотря на могилу Шифнер-Маркевича[93], я опять чуть не разревелся. Необычная даже в добровольческое время картинка – строят памятник, таскают камни и цемент вместе офицеры и солдаты. Отношения, видимо, в этой команде отличные. Так, понемножку, пересоздаются нравы Армии. В будущем, когда все придет в нормальный вид, офицеры будут, конечно, поставлены в приличные условия, получат вестовых, но прежние полукрепостные[94] отношения вряд ли восстановятся.
Сегодня расклеен приказ Кутепова: жена адъютанта кавалерийского училища в присутствии мужа ударила вестового сковородкой. Подполковник за то, что допустил «столь невоздержанное проявление характера своей жены», отчисляется от училища и впредь лишается права иметь вестового.
15 июля. Наконец экзамены нашего курса состоялись. В комиссию по радио вошли: капитан Григорьев (лучший радиоспециалист корпуса), поручик Белогорский и я. Чувствовал себя во время экзамена, как в бане. Григорьев, совершенно не считаясь с тем, что нашей целью было создать не радиоспециалистов, а людей, имеющих понятие о радио, засыпал экзаменующихся вопросами, из которых на некоторые, сознаюсь, я сам бы не смог ответить. Приходится сказать: «не спросясь броду, не суйся в воду». Я бы, впрочем, и не совался, если бы полковник А. в свое время иначе формулировал задачу.
Результаты печальные. На совещании Григорьев раскритиковал мою программу вдребезги (хотя она, кстати сказать, составлена по соглашению с радиоспециалистами). Я объяснил, почему пришлось сократить курс до минимума, и заявил, что самое лучшее, если дело возьмут в свои руки офицеры-радиотелеграфисты. От преподавания на следующем курсе откажусь категорически. Вечером сильно болела голова, неимоверно уставшая за день.
16 июля. Утром состоялось освящение памятника, парад и передача памятника под охрану городского самоуправления г. Галлиполи. Жаль, что не было кинооператоров, П.Н. Милюкова и советских представителей. Опять приходится повторить, что корпус наш день ото дня принимает все более и более строевой вид. Сегодня огромная масса белых гимнастерок, по ниточке выровненные юнкера, многочисленные хоры и оркестры, знамена, трубы, вся обстановка торжественного русского парада были особенно эффектны. Генерал Кутепов сказал с большим подъемом маленькую речь. Говорит обыкновенно, но голос и дикция у него превосходные. Была масса дам – русских и иностранок, французский консул и комендант, греки, турки и, наконец, наша милая босоногая гимназия. Батюшка Сергиевского училища о. Миляновский сказал едва ли не лучшую речь, которую я слышал в Галлиполи. Видимо, он человек с хорошей душой и искренне переживает то, что говорит. Трудно подействовать на людей с такими огрубевшими нервами, как у большинства из нас, но многие плакали во время этой речи.
Много хороших венков. Наши дроздовцы отслужили панихиду по своим – здесь похоронены 1 офицер 8-й батареи и 2 вольноопределяющихся (в том числе наш Вихров).
17 июля. В 12 часов пошел на панихиду по императору Николаю II. Помимо уважения к памяти достойно и мученически погибших людей, мне хотелось посмотреть на «смотр монархических сил», каким, говорят, должна была явиться эта панихида по мысли ее устроителей. Объявление о панихиде появилось за подписью главного священника корпуса. Приглашались «все благоговейно чтящие память покойного Императора и его семьи» [95].
Если это действительно был смотр, то он получился очень слабым. Было очень много штаб-офицеров, гвардейцев в парадной форме и при оружии, довольно много офицеров и вольноопределяющихся кавалерии. Были также отдельные лица из «цветной» [96] артиллерии. Не видел ни одного человека из «цветной» пехоты. Интересно отношение юнкеров: кавалерийское училище было почти полностью и едва ли не по наряду; пел хор александровцев (он был очередным). Случайно услышал фразу одного из юнкеров-певчих: «Смотри, монархисты слетаются…» Довольно много александровцев было и внизу, в церкви. Сергиевцев и константиновцев видел по одному. Корниловцев, кажется, не было ни одного человека.
Штаб корпуса присутствовал в полном составе во главе с Кутеповым. Записываю эти детали – может быть, они впоследствии окажутся интересными для характеристики настроений.
В греческой церкви есть что-то общее с мечетью – такая же резная кафедра для проповедей, чуждая русскому глазу, а лампады, те уже совсем не отличаются от лампад большой мечети.
Интересная теперь форма моления: «О благоверном господине нашем высокопреосвященнейшем Тихоне, патриархе Московском и всея России; о благоверном господине нашем преосвященнейшем Константине, митрополите Галлиполийском; о преосвященнейшем Вениамине, епископе Севастопольском». Может быть, не совсем точно передаю эту формулу, но смысл приблизительно такой. Сейчас пошел слух, что турки взяли Тузлу (в 40 километрах от Константинополя) и вырезали там русских беженцев. Может быть, это только греческая провокация, но турки тоже не отрицают этого факта. Говорят, однако, что там были не только кемалисты, но и русские красные войска. Заваривается каша!
18 июля. Второй день живу в новом общежитии, т. н. «штаб-офицерском» № 2. Мотив моего перевода сюда, кажется, довольно оригинальный. Находят (вероятно, полковники Я. и О.), что совместная жизнь с моими слушателями приводит к тому, что они перестают меня слушаться. Кажется, старые полковники правы.
Утром надел свою новую «расписную» гимнастерку и, захватив с собой «My War Memories» Людендорфа, отправился говорить с начальником школы. Совершенно откровенно доложил ему, что считаю достигнутые мною результаты неудовлетворительными и настаиваю на замене меня радиоспециалистом. Генерал ни за что не соглашается. Он, кажется, ценит меня как лектора и боится, что капитана Григорьева из радиотелеграфа не дадут. Лекторов там крайне ограниченное число. Положение получается довольно странное. Я не могу считать себя специалистом ни по одной отрасли и менее всего по электротехнике и радио. Собственно говоря, некоторые заразные болезни я знаю или, по крайней мере, знал в прошлом году значительно лучше радиотелеграфа. В то же время в школе меня в данное время как будто и на самом деле заменить некем.
После обеда пошел было на пляж купаться, но по дороге зашел в гимназию, да там и застрял. Хотел поговорить с мальчиком, который присоединился к войскам генерала Бредова в… губернии в конце 1919 года. Думал, что, может быть, он случайно что-нибудь знает о наших. Оказалось, к сожалению, что юноша этот родом из Л. и в… никогда не был. Типичный доброволец из гимназистов-крестьян. Основательный, видно, во всем – в манере держать себя, в говоре с легким украинским акцентом… Люблю таких морально и физически крепких добровольцев. Потом долго болтал с двумя совсем юными кавалергардами из Лубен. Как я ни привык к подобным случаям, но все-таки удивляешься, как такие дети могли два года воевать в строю кавалерии. Кадету Б. сейчас 16 лет; гимназисту В., во всяком случае, не больше. Теперь «кавалергарды» бегают босиком, в коротеньких штанах и сильно открытых куртках. Некоторые из их товарищей одеты еще проще – ничего, кроме трусиков. Двор, в котором разбиты палатки интерната, обнесен высокой каменной стеной, и такие одеяния разрешаются. Приходят сюда, правда, и девочки-гимназистки (из маленьких), но их эти полураздетые, загорелые как бронза фигуры не смущают. Кроме того, за время войны и особенно благодаря нашему долгому пребыванию на юге появилась у всех привычка к сильно оголенному телу. Женщины, щеголяющие с огромными декольте, с обнаженными руками и часто без чулок (в сандалиях), не вызывают у мужской молодежи прежних эмоций.
Вероятно, местным жительницам-туземкам кажутся странными русские костюмы и русские нравы (с нашей точки зрения, внешне очень приличные). Гречанки, научившиеся от наших дам гулять по вечерам у маяка, носят старомодные европейские платья. Турчанки в своих бесформенных черных одеяниях и часто в непроницаемых чадрах похожи на каких-то монашенок без всякого подобия фигуры.
Как я ни люблю тепло, но последние дни его, пожалуй, слишком уже много. Если бы не ветер с моря, трудно было бы дышать. После обеда небо ближе к горизонту точно выцветает. Пляж в это время похож на Силоамскую купель. Удивительное дело – греки и турки (кроме мальчишек) совершенно не купаются. Никогда почти не видно в воде и сенегальцев. Подходы к нашему дамскому пляжу охраняются дневальными, прогоняющими любопытных иностранцев.
В общежитии жить было бы недурно. Правда, приходится спать прямо на полу – матрасов очень мало и их получили только штаб-офицеры. Зато светло и есть стол для работы. Главное здешнее несчастье – клопы. Английский порошок не помогает. Придется переселиться во двор или в садик под гранаты, которые все еще не кончили цвести.
Растительность выгорает все больше и больше. Как недолго на юге держится в природе зеленый цвет! Сейчас преобладающие тона галлиполийского пейзажа желтый и голубой. По вечерам преобладает последний, и вся природа кажется пропитанной волнами бледно-голубых оттенков. То же впечатление получалось у меня и в Пассинской долине[97] в марте 1916 года.
Только звезды там были совсем другие – яркие звезды горного востока. Здесь они какие-то маленькие и бледные. Только луна ярко горит и в волшебный город южной сказки обращает полуразрушенное Галлиполи.
19 июля. Начальник школы приказал, чтобы я и капитан С. несли дежурства по штаб-офицерскому общежитию (через четыре дня в пятый). Работы с этим не связано никакой, но надо сидеть в общежитии, и это не слишком приятно. Особенно обидно пропускать купание, если нельзя будет «словчиться». Работать здесь гораздо лучше, чем в «сером доме». Никто не мешает; только из нижнего этажа нашего сарая (там устроена аудитория) доносится монотонный голос руководителя. Мои записи начинают пухнуть, но мне хочется во что бы то ни стало зафиксировать побольше черточек нашего своеобразного, единственного в своем роде быта. В нескольких шагах от меня живет в «Общежитии № 4» В.И. Маленький двухэтажный дом, вернее сарай, вроде нашего, разделен перегородками из одеял на «кабинки». Кабинки эти ничем не отчаются от «углов», в которых когда-то жили люди «дна» и просто бедные люди. Сознаюсь, правда, что эти «углы» я знаю только по литературе. В «Общежитии № 4» живет очень сборная компания. В нормальной, «прошлой» жизни эти женщины никогда бы не встретились как равные. Живут без больших ссор, но все-таки общежитие это напоминает маленькое осиное гнездо. В.И. – человек совсем другого мира, чем большинство очень простеньких офицерских, а частью и солдатских жен, поселенных тут. Навещающие ее генералы, великолепные полковники и ротмистры – уже они одни кладут грань между ней и большинством дам с их тихими, серыми и почти потерявшими военный облик мужьями. П. де-К., умного и светского человека, эти неопределенного вида, измотанные жизнью семейные люди приводят в раж. «Жена, мангалка и пеленки» – любимая его характеристика. Впрочем, В.И., сама не замечая этого, сильно «демократизировалась». Это чувствуется в каждой мелочи, со временем, вероятно, пройдет, но сейчас определенно бросается в глаза. Вечером на гулянии у маяка – она в очень простеньком, но хорошо сшитом летнем платье выглядит так же, как в лучшие времена где-нибудь на даче в Крыму. Днем – на дырявую рубашку накинуто что-то коротко-кисейное, так что сквозит голое, коричневое от загара тело, на ногах шлепанцы – вот и весь костюм. Впрочем, отчаянно жарко, да и кто из нас внешне не опустился. Вчера вечером читал на «У.Г.» о «Русском Опыте» Рысса. Довольно требовательная городская публика собралась на этот раз в меньшем, чем обычно, числе. Предыдущий неудачный сеанс (знаменитые «Сказки») и неважно прошедший «Чеховский вечер» расхолодили ее. Фельетон Шевлякова, посвященный памяти государя, встречен очень сочувственно, но сдержанно. Прочтенная Рыбинским статья Леонида Андреева «SOS» почти не вызвала аплодисментов. Словом, мне пришлось читать перед «замороженной» аудиторией. Вступление, где я говорил о «водянистости» книги Рысса, сначала вызвало недоумение, и несколько человек ушло. Затем, однако, публике, видимо, понравилось и содержание книги, и мои комментарии (так, по крайней мере, мне потом говорили). Стало заметным сочувствие, слушали хорошо и аплодировали больше, чем обыкновенно. Таким образом, этот доклад смело можно пустить в лагере, так как публика там много нетребовательнее и отзывчивее. По словам Шевлякова, на последнем сеансе в лагере было тысячи три народа.
Только что прибыл «412». Бывший офицер школы, поручик Ж., служит теперь на этом транспорте матросом. Веселый, загорелый, в синем холщовом костюме – он чувствует себя, кажется, превосходно. На этом же судне приехал архимандрит Антоний. По его словам, «Решид-паша» придет за кавалерией в пятницу. Французы кормят теперь только Галлиполи и Лемнос. Остальные лагери списаны с пайка, но публика так или иначе приспособилась и существует самостоятельно. Это, впрочем, касается только давно живущих в Константинополе. Вновь приезжающие туда валяются на мостовой около Айя-София и с грехом пополам получают обеды в «American Red Cross». В общем, им живется прескверно.
В Сербии казаки испортили все впечатление[98]. Кроме того, интеллигенция крайне возмущена тем, что русские специалисты заняли все лучшие места в стране[99]. В конце концов сербы ничего не теряют. Своей интеллигенции у них нет, вернее, ее очень мало, а благодаря русским, им удастся наладить массу учреждений, соответствующих престижу новоявленной «великой державы».
В.И. получила письмо от поручика Н. из Константинополя. Он решил окончательно порвать с военной службой. Весело живет на какой-то даче в окрестностях города. Глицинии цветут, итальянский банк снабжает его монетой, и Н., видимо, очень доволен своей судьбой. Скоро он уезжает в Милан, а оттуда – в Варшаву. Письмо написано на великолепной бумаге и содержит просьбу о разрешении прислать В.И. конфет и духов. «Другой мир» краешком касается Галлиполи…
Вечером снова долго говорили с начальником школы. Он, уступая моим просьбам, переговорил с кем нужно, и радио на следующем курсе будет читать поручик Б. Генерал все-таки не хочет меня отпустить на случай отъезда радиоспециалистов.
Кроме того, я сам предложил перевести для надобностей школы, радиоотделения и инженерного училища книжку «The Oscillation Valve».
20 июля. Чтобы не быть «умученным от клопов», устроился спать в садике около нашего сарая и чувствовал себя превосходно. Ночь такая теплая и сухая, что, раздевшись догола и завернувшись в тоненькое одеяло (прямо на траве), ни в малой степени не мерз.
Утром был очень интересный разговор о дисциплине, неграх, бельгийцах, кавалерии и т. д. Не могу решить, распущены французские солдаты или просто дисциплина у них совершенно иная, чем наша, созданная под немецким влиянием. Уверяют, например, что честь у них по уставу отдается только раз в день – при первой встрече с начальником. Один офицер вспомнил многочисленные инциденты с бельгийскими солдатами, не отдававшими на улицах Тарнополя чести нашим офицерам. Прапорщики принимали это особенно близко к сердцу. Оказалось, что у бельгийцев честь на улице вообще не отдается. Другая забавная, с нашей точки зрения, деталь: дневальные бельгийцы идеально несли свою службу, но ночью разгуливали в туфлях.
Около четырех часов дня пошел в лагерь вместе с Шевляковым и Рыбинским. «Чеховский № Устной газеты» там тоже прошел очень вяло. Такие сеансы совсем не для нашей публики. Скучают, зевают и бранятся. Сегодня перед началом сеанса поднялся сильнейший ветер. Страшная пыль мешала и слушать и говорить.
В лагере продолжают жить по-семейному. Изнывают от жары и еще больше от скуки. Гуляют в белых пижамах. Купаться ходят часто в одних трусиках. Вообще, бронзово-красные, раздетые до пояса фигуры частенько видны между палатками. С переходом дам из общих палаток (их помещения были отделены перегородками) в отдельные офицеры окончательно перестали стесняться.
Наши молодые подпоручики (пятеро окончивших Сергиевское училище) производят очень симпатичное впечатление – хорошо выправлены, хорошо дисциплинированы. Выглядят не хуже, чем выглядели мы, юнкера 1915 года. Одно их, бедных, смущает. Только что надели после бесконечных мытарств офицерские погоны, а теперь, в близком будущем, придется, кажется, переменить их на солдатские сербские… Кавалерия, видимо, на самом деле уезжает в самом близком будущем, но как быть с офицерами, еще не решено. Генерал Штейфон уехал в Константинополь, и на днях его ждут с окончательными приказаниями. Среди офицеров бесконечные споры. С одной стороны, неохота оставаться в Галлиполи на полную неизвестность, с другой – страшно снять, хотя бы временно, офицерские погоны. Младший Е., по простоте душевной, считает, что в Сербии ни один солдат не может зайти в кафе. Вообще эти разговоры производят на меня тяжелое впечатление. Не могут люди до сих пор понять, что не обыкновенная сейчас служба и не обыкновенная война. Мы ведем чисто революционную борьбу, хотя, конечно, наша революция – это «белая» революция. Большинство офицеров не может понять того, что для успеха дела можно и китайскую кофту надеть, а не только солдатские погоны. Я всегда был уверен в том, что одна из причин поражения наших армий – это отсутствие у нас смелости мысли. Мы боимся думать, а противник наш ничего не боится…
Полковник С. упрекал меня (в самом мирном тоне) в том, что я разбрасываюсь и не достигаю потому тех результатов, каких мог бы достигнуть. Может быть, это и так, но мне мудрено не разбрасываться.
Ночевал в батарее. Наш старичок – генерал Ч. хорошо делает ботинки и подрабатывает порядочно монеты.
21 июля. Утром вернулся в город. Холмы совершенно выжжены солнцем, но в сухой траве все-таки много цветов. В этой голубой стране есть и целиком голубоватые растения. Я совсем позабыл ботанику и не могу определить, к какому семейству принадлежат эти странные кустики с голубыми стеблями и шипами. Из-под ног стаями вылетают всевозможные кузнечики[100]. Удивительно, как они еще не съели всей травы. Красные, зеленые, голубые, просто отливающие серебром крылышки так и мелькают в воздухе. Галлиполи в голубой дымке, и чуть синеют на горизонте горы острова Мармары…
Воздух не шелохнется, и, несмотря на утренний час, солнце палит почти как днем. После обеда лежал на солнце, жарился, точно на сковородке. На раскаленном песке под шум набегающих волн забываешься и легко засыпаешь. Голова не болит, но после нескольких часов такого лежания, пока не войдешь в воду, качаешься как пьяный.
Греки одержали крупную победу над Кемалем. Полная неожиданность. Всюду флаги, манифестации. Турки иронически улыбаются. Для нас все же греческая победа есть известный плюс.
Земский союз за отсутствием средств закрывает питательные пункты. Еще два дня, и придется вернуться к французскому пайку. Как непрочно и случайно наше положение. Вечером долго сидели с Б. на пристани, свесив ноги с помоста и болтая о прошлом. Два года тому назад Б. приехал к нам в батарею во время боев у станции Моспино[101] беленьким, хорошо одетым мальчиком-гимназистом. Теперь близкие вряд ли сразу бы узнали его в этом громадном, широкоплечем, загорелом и внешне огрубевшем парне. В своей синей, порядком испачканной пижаме (он вместе с другими солдатами командирован от батареи разгружать транспорты с продовольствием). Б. похож на профессионального рабочего-грузчика. Только вблизи видно, что физиономия вполне интеллигентная.
Вечер, как всегда теперь, был теплый и душный. От неподвижной воды маленькой гавани пахло тиной и водорослями.
22 июля. Опять спал в саду. Иногда проходит струйка вонючего воздуха, но вообще дышится тут легко и хорошо. Проснулся от палящих лучей солнца – был уже десятый час утра.
Когда просыпаешься рано, воздух неподвижен. Небо на востоке чуть алеет. Знакомый утренний запах Галлиполи – какая-то смесь запахов сухой пшеницы, цветов и навоза заставляет грудь глубоко дышать, и одновременно нарастает назойливая мысль… Пора заамуничивать лошадей, наскоро выпить молока с хлебом и выступать.
Тихо. По пушистой дорожной пыли мягко катятся, чуть звеня щитами на спусках, защитно-зеленые пушки. Над лесом стоит синеватая дымка утреннего тумана. Тихо, тепло, хорошо на душе… несмотря на то, что идем убивать, а может быть, и умирать… Не думал я, что после Ново-Алексеевки, Арабатской стрелки, эвакуации и вшивой[102], холодно-безнадежной зимы опять меня потянет на войну. Та же тяга чувствуется и у большинства офицеров. Не можем мы жить нормальной человеческой жизнью без романтики тысячеверстных походов и без щемящего страха смерти… С часа на час ожидают прибытия «Решид-паши» за первым транспортом кавалерии. Уже все вещи перенесены в город. Многочисленные пулеметы упакованы в ящики и поедут в качестве груза. Окончательно известно, что кавалерия едет официально – на неопределенные «военные работы», неофициально – на пограничную службу. Город переполнен вольноопределяющимися кавалерии. Молодые, оживленные лица. Хорошо, почти щеголевато одеты, хорошо выправлены и бесконечно довольны тем, что положение как-то меняется и они куда-то едут. Бедные ребята – как не баловала их жизнь и как мало им нужно. Говорят, что в Сербии далеко не так сладко, как кажется многим. Казаков поставили на албанскую границу, и среди них есть уже раненые и убитые, так как албанцы очень неспокойны.
Земский союз прекратил субсидию театру, и он, вероятно, закроется. Жаль.
Вечером читал на «У.Г.» свой доклад «Мировая революция» (IV). Боялся, что публике не понравится большое количество цифр без диаграмм, но отношение было очень сочувственное. Поздно вечером вернулся из Константинополя генерал Штейфон; что он привез – не знаю.
В лагере на совещании начальников генерал Кутепов объявил о предстоящем отъезде в Сербию и остальной части лагеря. Большинству офицеров придется, видимо, стать унтер-офицерами сербской службы, и эта перспектива больше всего пугает наших умственно робких людей. Впрочем, желающим, кажется, будет предоставлено остаться здесь на иждивении французов, но генерал Врангель снимает с себя всякую ответственность за их судьбу.
Полковник Ряснянский, встретив меня в городе, попросил принять участие в информации о Корниловском союзе и что-нибудь для него написать. Положительно меня начинают считать профессиональным если не писателем, то писакой. Князя Володю В. наконец произвели в подпоручики. Я был так доволен, что перечел раза три приказ, вывешенный на дверях штакора. Сегодня на короткое время приходил «Керасунд» и взял из беженского батальона желающих ехать в Батум. На всякий случай (теперь это уже стало правилом) была вызвана рота юнкеров-корниловцев. Были оцеплены все подходы к пристани, даже мимо проходить не разрешалось. Всего уехало (не мог только выяснить – с Лемноса и из Галлиполи или только из Галлиполи) 110 человек – из них 60 офицеров. Если эти цифры верны, то искренне удивляюсь, каким образом находятся еще среди офицеров идиоты, которые добровольно едут в Совдепию. Можно не верить газетам. Информация их часто действительно тенденциозна, но есть частные письма, которым не верить нельзя. На днях подполковник Е. получил письмо от брата. Страстно любя жену, тот попытался пробраться в Совдепию и вывезти ее. Добрался до Ровно и убедился, что дальше ехать невозможно. Ровно полно тысячами голодных, оборванных людей, бегущих из Совдепии и массами гибнущих в пограничных чека. Среди них много простых крестьян и рабочих. В Крыму после нашей эвакуации расстреливали оставшихся офицеров и добровольцев тысячами. Особенно страшные расстрелы производились в Джанкое, на даче Мошкина (бывшая резиденция Слащева).
23 июля. Решительно ничего не понимаю. Вчера была объявлена погрузка казаков[103]. Желающие (и обязательно – вновь произведенные из юнкеров военных училищ хорунжие) должны были ехать на остров Лемнос и оттуда уже в Сербию. Хорунжих погрузили, а погрузку остальных отменили, когда казаки уже собрались в городе и пробыли там три дня. Конечно, среди них большое недовольство. Интересно смотреть на молодых хорунжих – чистенькие, подтянутые, хорошо одеты, но физиономии у многих совершенно неинтеллигентные, типично казачьи. Сегодня еще более непонятные новости, если только это не утка. Штейфон вернулся и сейчас же заболел. Ожидали, что он прибудет на «Решид-паше», но так нетерпеливо ожидаемый пароход не пришел, и наштакор якобы привез известие, что Сербия снова требует гарантий и дело опять откладывается. Непонятно тогда, зачем и по чьему приказанию 1-я бригада кавалерийской дивизии совершенно подготовилась к отъезду и перенесла вещи в город. Впрочем, Ряснянский, как командир полка, не мог не быть в курсе дела, а вчера, между прочим, он был уверен в том, что «Решид-паша» придет в ближайшие дни.
24 июля. Чудеса творятся на свете. Генерал-майор Гравицкий[104], совсем недавно отставленный от командования Алексеевским полком, назначен военным представителем генерала Врангеля на Дальнем Востоке.
Так, по крайней мере, передавал полковник О. – он слишком положительный человек, чтобы распространять непроверенные слухи. Откуда появились у Гравицкого дипломатические способности и кто его рекомендовал Главкому – одному Богу известно. По-моему, я с одинаковым успехом мог бы быть директором Института экспериментальной медицины или иного подобного учреждения.
Приехал из Константинополя батюшка школы. Он хороший, видимо, человек (сужу по тому, как любят его вольноопределяющиеся школы). Кроме того, на церковном соборе он был в оппозиции архимандриту Антонию, и это тоже говорит в его пользу. Последний – мрачная, истерическая и, по-моему, вредная для нашего дела личность. Судя по рассказам батюшки, отношение константинопольских военных беженцев, самоотверженно торгующих пирожками…, к оставшимся в Галлиполи весьма критическое. Любимая их тема – если, мол, в России что-нибудь и случится, то вы-то никакой роли играть не будете. Старая, надоевшая песня.
До сих пор не могу узнать, какие сведения привез генерал Штейфон. Слухи насчет них самые противоречивые, но преобладают среди них благоприятные.
Надо отдать справедливость штаб-офицерам, с которыми я живу. Они работают очень аккуратно и в среднем гораздо больше, чем обер-офицеры того курса, с которым я занимался.
Только что вольноопределяющийся, сын школьного батюшки, рассказывал, как погиб на бронепоезде «Севастополец» около Бурчацка[105] его beau-frere, капитан-артиллерист. Пушечная двухорудийная платформа была полна снарядами, уложенными по обоим бортам в деревянных стойках. Пулеметные амбразуры были как бы прорезаны в стенах из снарядов, и во время боя пулеметчики работали, окруженные ими со всех сторон. В площадку попала 42-линейная бомба. Она не разорвалась, но от удара начали рваться патроны в пулеметных лентах и моментально вспыхнули сухие деревянные стойки. Прислуге[106], находившейся в орудийных башнях, путь к выходу был отрезан, и смертельно испуганные люди начали выскакивать через люки, толкая и давя друг друга. Капитан не потерял присутствия духа, пропустил вперед всех. Вольноопределяющемуся-наводчику, не забывшему снять панораму[107], велел ее бросить и сам подсадил его. Через мгновение взрыв снарядов разворотил площадку. Тяжелая броневая башня отлетела сажен на пятнадцать. Большевики до вечера огнем не подпускали к площадке. Рано утром обгорелый труп капитана с оторванной ногой был найден около остатков орудия. «Неприятная была картина…» – просто и спокойно закончил свой рассказ вольноопределяющийся. Смотрю внимательно на этого полумальчика и вижу у него на лице ту же печать, что наложила на многих игра со смертью. Трудно сказать, в чем она, собственно, заключается, но воевавшего хоть недолго всегда можно отличить от не бывшего на фронте. Повторил сегодня в лагере «Русский опыт». Как обычно, народа была масса. Наши солдаты спросили меня, не будем ли мы, говоря откровенно, здесь зимовать. Пока нет решительно никаких данных, чтобы думать об этом. Наоборот – все слухи о панических новостях, якобы привезенных Штейфоном, оказались ложными. Кажется, ничего не изменилось и кавалерия должна со дня на день уехать. Вне всякого сомнения, этот отъезд поднимет настроение остающихся. Характерно, впрочем, что даже о постройке землянок на зиму наши добровольцы говорят совершенно спокойно. Лишний раз приходится подчеркнуть, что знаменитый приказ генерала Кутепова о переходе всех желающих в беженцы в течение пяти дней дал прекрасные результаты. Некоторые с этим не согласны. Статья «Дела и дни галлиполийские» в «Общем Деле» жестоко критикует этот самый приказ, находит его несвоевременным, оскорбительным и т. д. Это уже вторая обширная статья в «Общем Деле», подписанная «Галлиполиец». Первая была написана умно и произвела в корпусе сильное впечатление. Этого никак нельзя сказать о второй. Близорукая критика полуштатского человека. Штакор поступает совершенно правильно, расклеивая №№ «Общего Дела» с резкими подчас статьями на своих дверях. Стоит толпа офицеров и солдат, читают и чувствуют, что командование не боится критики и не закрывает на нее глаз. Кутепов, которого вначале почти ненавидели, сейчас, безусловно, пользуется популярностью. Он и Штейфон экзамен выдержали, чего нельзя сказать о казачьих начальниках (на Лемносе).
25 июля. Дует резкий северный ветер. Правда, жарко по-прежнему, но даже этот ветер неприятно на меня действует. Стойки палатки (я ночую в лагере) препротивно скрипят, напоминая зиму, грязь, вшей и всеобщую подавленность. Со слов Даватца (им подтверждаемых) передают о предложении Болгарии принять к себе 7000 на гарнизонную службу. Приблизительные условия: военная русская организация и русские (военные) суды сохраняются, размещение казарменное с уплотнением в 25 % против нормы. Довольствие солдатское и 100 левов в месяц от болгарского правительства. Наши войска не участвуют в вооруженных конфликтах Болгарии с другими государствами, но обязаны оказывать помощь в случае каких-либо общественных бедствий. Вне всякого сомнения (это уже мое убеждение), болгарское правительство, испуганное ростом коммунизма на Балканах, хочет нас использовать именно как антибольшевистскую силу. Точно так же я не сомневаюсь в том, что среди нас найдутся недальновидные люди, которые, не понимая мирового значения большевизма, будут говорить о позорности роли «мировых жандармов» и т. д. Керенский и его группа, вне всякого сомнения, начнут соответствующую агитацию. Контрагитация с нашей стороны положительно необходима. Третьего дня я подробно писал Ряснянскому о желательности сохранения «У.Г.» и после переезда в Сербию. Ряснянский будет у генерала Врангеля и, вероятно, обо всем этом ему доложит.
Интересно рассказывал сегодня полковник Т. о деятельности адъютанта Май-Маевского, поручика Макарова. Незадолго до начала нашего наступления на севере, недалеко от станции Криничная, к красным перебежали два старых добровольца 8 батареи, украв предварительно офицерских лошадей. Произвели дознание. Оказалось, что накануне они ходили к какой-то бабе, проживавшей недалеко от станции. Там же бывал и денщик Май-Маевского. Бабу арестовали и, по нашему обычаю, тут же, на перроне, начали пороть. Она призналась, что бежавшие добровольцы получили какие-то пакеты из штаба. Изумление было общее. Бабу продолжали пороть. В это время наблюдавший со стороны денщик сбегал к командиру и доложил. Тот рассвирепел и послал полковника Т. немедленно и под страхом расстрела прекратить экзекуцию. Сенсационное дело так понемногу и заглохло… Через год Макаров оказался у зеленых[108].
Интересный человек этот полковник Т. Он самый молодой полковник в артиллерии (24 года), причем был произведен в этот чин 21 года. Человек с огромным порывом. Другой его рассказ. Во время дроздовского похода неожиданным налетом захватили Бердянск. Там в полном составе попался комитет во главе с председательницей – товарищем Зоей. Баба выдержала 272 шомпола, потом повесили на главной площади. Попа, который проповедовал большевистские идеи, выпороли и заставили рыть яму для виселицы[109]. Таким образом, некоторые добровольческие навыки были приобретены очень рано.
27 июля. Утром подготавливал обзор печати. Сильно мешали толково и громко спорившие штаб-офицеры. Послушаешь некоторых из наших полковников, и становится страшно. Порядочные люди и храбрые офицеры, но политически некоторые совершенно безнадежны. Сегодня весьма серьезно спорили о том, не следует ли издать закон об объявлении всех социалистов вне закона. Вообще, проекты сыплются как из рога изобилия – самостоятельность Польши, например, и в мыслях не допускается[110].
Причиной бегства солдат (бывших красноармейцев) школы выставляется «либеральность» полковника Г. и т. д. Должно быть, от подобных же полковников исходит отзыв об участниках «У.Г.» как о социалистах. По крайней мере, генерал Кутепов в частном разговоре с Шевляковым сказал ему: «А знаете, ваши младшие начальники считают вас, участников „У.Г.“, социалистами» [111].
Один из моих однокашников по училищу говорил мне несколько иначе: «Конечно, вы не социалисты. Мы в батарее окончательно убедились в этом после вашей речи о национальной интеллигенции. Но все-таки, знаете, откровенно говоря, нехорошо – у вас проскальзывают демократические нотки, а для офицера, кончившего Михайловское артиллерийское училище, это дело неподходящее».
Вообще говоря, отношение к «У.Г.», за некоторыми исключениями, было очень благоприятным. На первых порах многие боялись, что благодаря нам, сотрудникам «Газеты», корпус, чего доброго, замитингует. Впоследствии эти опасения совершенно прекратились. Генерал Кутепов в высшей степени решительно защищал лекторов от обвинений в «социализме» и не давал хода поступавшим к нему рапортам. Точно так же чрезвычайно сочувственно относился к «Газете» генерал Витковский, хотя личные его политические взгляды значительно расходились со взглядами большинства лекторов.
Полковник Г. пытается быть идеологом взглядов «среднего офицера», каким он любит себя выставлять. Было бы печально, если бы «средний офицер», главное действующее лицо в политической борьбе, был так политически безнадежен.
Часто рассказывают в нашем общежитии и разные страшные истории Гражданской войны. Иногда они таковы, что оставляют за собой Эдгара По, но порой рассказчики и сами не знают, что это – страшные сказки, созданные в кровавом тумане Гражданской войны, бред сумасшедшего или подлинная правда. Вот один из случаев, вполне проверенных. Дело было на Воронежском фронте в 1918 году. Казаки поймали коммуниста, одетого в штаны из священнической ризы с ткаными крестами. Кинжалами ему вырезали кресты в соответствующем месте, заставили съесть собственное мясо и затем расстреляли. Вообще, только теперь многие начинают понимать, сколько нелепых, бессмысленных ужасов творилось во время этой войны. Я сам считаю, что организованного белого террора, как бы он сам по себе ни был отвратителен, все равно не избежать. До сих пор, однако, такого террора не было. Просто каждый делал, что хотел[112], и люди возвращались к нравам пятнадцатого столетия. Удивительнее всего, что здесь, в Галлиполи, даже офицеры и солдаты, казалось бы, насквозь пропитанные кровью и грабежом, морально оживают. С другой стороны, среди интеллигентных людей[113] заметен подъем религиозного чувства. Маленькая, но характерная черточка – часто слышу от преподавателей высших курсов: «в церкви было то-то и то-то». Понемногу появляется внимательное, порой прямо любовное отношение к людям, особенно к детям и полудетям, которых так много в наших рядах.
В лагере питательный пункт для взрослых закрыт, но 250 подростков продолжают кормить, и притом очень хорошо (два блюда и какао). Так как младшие классы гимназии в Галлиполи всех вместить не могут, то в лагере открыты свои курсы. Капитан Родионов, который преподает там естествознание, утверждает, что желание учиться у мальчиков большое и, несмотря на «два года каникул», они не очень забыли то, что когда-то учили. Впрочем, посещаемость небольшая (человек 60), главным образом потому, что молодежь не выведена из частей. Как всегда, отличается полковник Ск., упорно не освобождающий от нарядов добровольцев своей батареи. Наоборот, наш генерал Ползиков[114] прекрасно относится ко всем «просветительным мероприятиям». На докладной записке нашего кадета И. ген. Ползиков положил, например, такую резолюцию: «На усмотрение к-ра 2-й батареи. Полагал бы, что необходимо воспользоваться временем, чтобы закончить образование» [115].
Сеанс «У.Г.» в лагере прошел неважно. Дул сильный ветер, и на слушателей неслись тучи пыли. Говорить против ветра тоже было плохо. Вечером был в театре нашего Дроздовского полка. Сейчас у нас в корпусе шесть театров (лагерный, городской, Дроздовский, Марковский, Корниловский и Алексеевский). Не знаю, бывают ли такие дни, когда функционируют одновременно все шесть театров. Сегодня Марковский и Дроздовский были переполнены. Наши дроздовцы устроили то, чего до сих пор не хватало, – театр миниатюр. Кажется, он организован довольно удачно. Я застал самый конец. Шла невероятная пьеса из испанской жизни, которая вместо «пяти действий в 12 картинах» обрывается на первой грандиозным скандалом (инсценированным) в публике. Последняя бурно аплодировала, и бесхитростная, но веселая выдумка, видимо, очень понравилась. Как это все отличается от настроений и нравов декабря-января!
В кавалерии стало признаком плохого тона говорить об отъезде, хотя по приказу генерала Кутепова отменен наряд кавалерии на работы в порту. В течение восьми дней она должна уехать.
28 июля. Ночевал в лагере. Рано утром помчался в город, так как сегодня я дежурю по общежитию. В батарее у нас маленькая новость – подпоручика Ц. за подачу незаконного рапорта (о переводе в беженцы из-за несовместимого, по его мнению, с офицерским достоинством назначения дневальным) Кутепов посадил на гауптвахту. Все смеются[116]. Если бы это было четырьмя месяцами раньше, сколько было бы возмущения.
Дружно живут наши молодые подпоручики – к ним постоянно ходят товарищи из других дивизионов. Чувствуют они все себя отлично, хотя вначале боялись выходить в «цветные» артиллерийские дивизионы. Училищное начальство (конечно, неофициально) всеми силами отговаривало их от превращения в «цветных», среди которых, мол, только походники[117] могут существовать.
Три дня тому назад приехала баронесса Врангель. Французы весьма любезно привезли супругу главнокомандующего на своей канонерке. Сегодня м-ме Врангель была на открытии кружка любителей археологии в городском театре. Маленькая, худощавая женщина, очень скромно одетая. Некрасивая, но с замечательно хорошими, большими глазами. Держит себя очень просто и приветливо. Было прямо трогательно смотреть, как любовь и уважение к главнокомандующему переносились и на его супругу. При проходе ее офицеры и солдаты как-то невольно берут под козырек и многие широко и приветливо улыбаются. Народу было немного, но слушали внимательно. Вообще, надо отметить, что даже очень скучные доклады у нас, в Галлиполи, слушают замечательно терпеливо. Очень интересный и содержательный доклад прочел старик-генерал Карцев (о прошлом Галлиполи). В заключение выразил надежду, что «ворота дома» (проливы) будут принадлежать «хозяину дома». Как это ни далеко от нашей теперешней обстановки, но речь умного старика вызвала дружные аплодисменты.
29 июля. Генерал Дынников поручил мне перевести с немецкого статью капитана Пфейфера «Infanteriebegleitsgeschutz». Пфейфером в корпусе сильно увлекаются, хотя его книжка (вернее, брошюра) не особенно серьезная и вряд ли Пфейфер – авторитет. Придется ходить в библиотеку и там пользоваться словарем, так как много с непривычки малопонятных терминов. Вообще, я язык немного забыл.
Вечером был на гимназическом празднике, устроенном в честь баронессы Врангель в гимнастическо-фехтовальной школе.
Как некоторые офицеры ни стараются убедить себя и других в том, что восстанавливается старая армия, но действительность все-таки говорит за то, что создается нечто новое. Разве возможно было бы, например, прежде такое шествие: хор трубачей Сергиевского училища, детский сад с дамами по сторонам, гимназия во главе с преподавателями, супруга главнокомандующего с командиром корпуса, окруженные приглашенными, и юнкера-сергиевцы строем. Вся эта компания из генералов, дам, юнкеров, босоногих и бесконечно веселых ребятишек сада, тоже босоногих, но гораздо более серьезных гимназистов, которые шли по старой памяти строем, пропутешествовала пешком две версты от Сергиевского училища[118] до гимнастической школы[119].
При входе один ротмистр поднес м-ме Врангель самодельный букет от имени офицеров. Я лишний раз убедился, как мало торжественности в супруге главнокомандующего и, кто знает, может быть, будущего всероссийского диктатора[120]. Она долго и приветливо трясла руку ротмистру. Опять блаженно улыбались офицеры и солдаты…
«Это совсем другое дело, господин капитан, генерал Врангель земли помещикам не вернет».
Постепенно эти разговоры заглохли. Офицеры постарше (за немногими исключениями) относились к ним очень скептически. Даже немногие «бонапартисты» по убеждению считали, что прежде всего сам Врангель ни при каких условиях не согласился бы занять трон русских царей.
30 июля. Всю ночь снились добровольческие сны. Какая-то фантастическая путаница – тут участвовали и мои близкие; потом появился греческий полицейский и предупредил, что дальше ехать нельзя – станция занята зелеными ингушами. Во мраке весенней ночи ярко и бесшумно горели какие-то здания и рядом с ними зеленые бараки – такие же, как у нас, в Галлиполи. Залпы и пулеметы слышались совсем как сквозь сон… Проснулся от окрика капитана Д., которого я просил меня разбудить. Без этого я начинаю просыпаться в десять утра, и потом неудобно проходить в пижаме через помещение, где уже давно занимаются. На пляже, благодаря сильному ветру, не особенно жарко, но стоит выбрать безветренное место за каким-нибудь холмиком, и сразу чувствуешь, как палит южное солнце. Постоянные посетители пляжа (например, юнкера) стали совсем коричневыми. Я тоже очень сильно загорел, но купание мне явно не приносит пользы. Из-за временного отсутствия денег у В.З.С. приходится теперь довольствоваться одним французским пайком. Благодаря довольно напряженной умственной работе, я снова начинаю слабеть. В особенности скверно, что на утро не хватает хлеба. Выпьешь «голенького» чаю без сахара, и после полутора-двух часов работы голова отказывается соображать и в глазах темнеет. Теперь понимаю неизбежность советских «ударных», «ответственных» и иных пайков – иначе работа очень мало продуктивна. Не знаю, что делать с зубами – они буквально разваливаются, несмотря на тщательный уход. Скоро, пожалуй, начну свистеть и шепелявить…
Вечером пришел ко мне Г. (у него, кстати сказать, в 19 лет та же история с зубами). Долго сидели с ним на кладбище и вспоминали прошлое. Хороший он юноша – развитой, отзывчивый и работящий. Сколько у нас было таких, и как мало мы их ценили. Теперь взгляды меняются. Кутепов сегодня на совещании старших начальников сказал: «Юнкера – это основание всех наших будущих расчетов».
Кусочек добровольческой жизни: Г. был ранен в последнем бою у Карповой Балки и рассказал мне о своих переживаниях. «Снаряд разорвался рядом со мной. Страшный грохот и звон. Меня кольнуло в плечо и я почувствовал вдруг, что жизнь кончилась. Я умер и уже мертвым воспринимаю все, что делается кругом. С молниеносной быстротой вспомнился рассказ о казненном преступнике, который заранее условился с ученым и три раза мигнул ему уже после гильотинирования. Появилась мысль – а могу ли я сейчас сделать то же. Но дым рассеялся, я увидел рядом с собой повозку со снарядами и понял, что жив – ведь не могут же на том свете ездить на повозках. Кругом лежали убитые товарищи. Перевязывали меня под огнем, но сначала было чувство полного безразличия. Только позднее, когда подвода ехала мимо уже подожженной станции, я понял, что все кончено – фронт прорван, мимо проходят отступающие части и каждую минуту меня может захватить красная конница. В Джанкое, лежа в верхнем этаже лазарета, я думал только об одном – просто ли меня убьют или сбросят вниз из окошка. Потом появилась острая жажда жизни, и я сам добрался до последнего поезда». Было совсем темно, когда мы кончили болтать. Улица, ведущая к маяку, полна нашими офицерами и солдатами, греками и турками, научившимися у нас гулять. С надоедливой аккуратностью вертится граненый фонарь маяка. На мгновение луч ярко освещает гуляющую толпу. Потом опять уходит блуждать по горам и глухо гудящему морю. Дошли до маяка и отправились спать – Г. в свое училище, я – в садик школы.
31 июля. Как обычно по воскресеньям и средам, ходил в лагерь. Нашим офицерам надоело варить каждой группе самостоятельно, и теперь вновь организуется «Собрание». Просили у американца[121] посуду, но опоздали, и он смог дать лишь очень немного. Положительно универсальный дядюшка. В лагере мертвая тишина и скука. Занятия в некоторых частях ведутся, в других их совсем нет. У нас никто ничего не делает. Только полковник Б. занимается с Костей Т. и Н., да с вновь произведенными подпоручиками должен будет заниматься еще кто-то из штаб-офицеров.
На «У.Г.» повторил «Мировую революцию». Сегодня было у меня хорошее, бодрое настроение, большая и внимательная аудитория тоже ободряюще действовала, и я говорил с подъемом. Отлично знаю, что за глаза некоторые называют меня митинговым оратором и ругают на все корки, но это меня, в конце концов, мало трогает. Я строю свои речи таким образом, что сообщаемые факты предназначаю для всех слушателей (в том числе и для вполне интеллигентных), а выводы, объяснение фактов, рассчитываю специально на понимание среднего слушателя. Такими (для нашего корпуса) я считаю лиц, кончивших 3–4 класса гимназии. Естественно, что полумитинговые формы, если они мне удаются, как нельзя более соответствуют аудитории. Отлично говорил генерал Карцев. Сначала появление на сцене глубокого старика вызвало сдержанный шепот изумления (я сидел в публике). Затем начали слушать с большим вниманием. Опытный и умный старик. Великолепно учитывает состав аудитории, отлично разнообразит исторический материал (он читал об историческом прошлом Галлиполи). Вообще, превосходный лектор с удивительно свежей памятью. Аплодировали дружно и много.
В батарее теперь меня каждый раз подкармливают. Дают коробку консервов в 300 граммов и порцию хлеба. Это уже значительно лучше, чем прежде, когда у меня от голода иногда темнело в глазах во время моих речей. (Одно время, правда, полковник Ряснянский кормил меня обедом каждый мой приход в лагерь.)
Возвращался утром, скинув, по лагерному обычаю, гимнастерку. Шел глухими дорожками, чтобы не встретиться в полуголом виде с дамами. На редкость тихое утро. Чувствуется, что к полудню солнце будет нестерпимо палить с безоблачного неба, но сейчас все окутано метерлинковской голубой дымкой. По пыльному шоссе спокойно и торжественно тянется караван верблюдов. Впереди на маленьком ишачке едет здоровенный старый турок. Глухо и ритмично позванивают колокольчики каравана. Чем-то бесконечно древним веет от всей этой картины… Вьюки обернуты местной кустарной материей. Ни по цвету, ни по рисунку она решительно ничем не отличается от тех, которые ткут хохлушки у нас, в Подолии. Я не в первый раз замечаю поразительное сходство тамошних и здешних орнаментов (например, украшения турецких могил очень напоминают рисунки на глиняных чашках наших крестьян). Вероятно, в Подолии это следы турецкого влияния. Июль кончился. Скоро осень. Я искренне боюсь ее. Слишком мы зависим последнее время от природы, и, когда она начинает умирать, поневоле сжимается сердце. Если мне и дальше удастся писать так же подробно, как в июле, то материал получится интересный.
1 августа. Утром вместо казенного перевода «Infanterie-begleitsgeschutz» переводил иностранные газеты для очередного обзора печати, который предполагалось сделать сегодня, но Сергей Михайлович (Шевляков) просил отложить на пятницу.
На «У.Г.» публики было больше, чем когда-либо в городе. Сегодня читали одни «академики» – Карцев, Савченко и генерального штаба полковник Сергиевский (преподаватель тактики в Сергиевском училище). Последний говорил на тему «Семь лет» (по старому стилю вчера было 18 июля). После газеты остался в театре посмотреть «Веселый месяц май» и «Хор бр. Зайцевых». Спектакль был устроен специально для баронессы Врангель и прошел весьма неудачно. Этот бессодержательный фарс можно было, по крайней мере, сыграть весело и живо. Зайцевский балаган имел огромный успех. Публика (особенно юнкера) бешено аплодировала. Нетребовательны наши галлиполийские жители, но лучше пусть хохочут, чем скучают и скулят…
К концу спектакля почувствовал, что ноги меня не слушаются и начала сильно болеть спина. Досидел до конца, но домой еле добрался, хотя пути всего сажен 150. Ноги подкашивались, от сильного жара в голове все смешалось, и, кроме того, появился дикий страх перед молчаливыми спящими улицами. Так и казалось, что из-за угла появятся призраки…
2 августа. Ночь провел отвратительно. Жар, крайне подавленное состояние. Полное отсутствие аппетита. Очевидно, и до меня добралась так называемая «москитная лихорадка», или «галлиполийка». В городе ею чуть не все поголовно болеют. В лагере, наоборот, заболеваний совершенно нет[122]. Добрался до околотка и смерил температуру. Оказалось 38,7. Завтра должен (на этот раз по французским сведениям) прийти пароход за первым эшелоном кавалерии. Столько раз уже повторялось это «завтра», что все потеряли в него веру.
3 августа. Мне немного лучше. Вставать все-таки трудно. Днем, действительно, пришел за первым эшелоном транспорт «410» («Вера»). У меня как гора с плеч свалилась. Раз сдвиг действительно начался, все пойдет хорошо. У пехоты, артиллерии и других частей, благодаря отъезду конницы, будет заряд терпения на долгое время. Потом только можно будет выяснить, много ли мы сделали нашей «У.Г.», хотя бы только в смысле поддерживания настроений в корпусе. Я уверен, во всяком случае, что кое-что сделали и еще сделаем. Порой у меня, лично, бывало очень тяжело на душе. Чувствовалось, что надежды на перевозку на Балканы нет почти никакой, а здесь армия второй зимы не переживет[123].
Даже очень близким людям я не мог этого говорить. Приходилось отнекиваться и отшучиваться. Теперь, очевидно, самое трудное и тяжелое позади. Балканы для меня лично пока полная загадка. Процент коммунистов в Скупщине говорит о достаточно неспокойных настроениях. Во всяком случае, питание сейчас – вопрос жизни или смерти для армии, а на Балканах оно несравненно лучше. Порой жалко бывает смотреть, как истосковались люди по сколько-нибудь человеческой жизни. Крохотное количество (50 граммов) неважного апельсинового варенья на патоке, которое нам давали последнее время (уменьшив количество консервов с 200 на 150 г), и то разнообразило «стол». Теперь варенья больше не дают, и без него как-то скучно.
4 августа. Несмотря на страшную слабость, головокружение и боли в суставах, добрался до пристани посмотреть на отъезд кавалерии, который был назначен на 5 часов вечера. С раннего утра грузили интендантство Кавдивизии, кухни, палатки (бараки передали остающимся частям). Было несколько недоразумений с французами, которые почему-то требовали, чтобы на этом транспорте грузили только ручные вещи, а все остальное пока оставили. Комкор, как говорят (я этого не смог проверить), приказал тогда остановить погрузку, и французы сократились. Я пришел на берег в тот момент, когда уезжавшие эскадроны (всего ровно 1000 человек) были построены на площади и происходил обмен речами. Масса народа. Кавалерийское училище в качестве провожающих официально; все старшие офицеры с женами, m-me Врангель и много местного населения. Комкор сам скомандовал надеть снаряжение (сколько с этой походной укладкой было хлопот; я и теперь не уверен, что не попаду из-за нее на губу, так как все еще ее себе не соорудил) [124], и головной эскадрон под звуки марша пошел по дамбе к трапу. В этот момент произошло столкновение, которое, если бы не решительность генерала Кутепова, могло бы окончиться кровопролитием. Издали я только увидел, что французский караул пытается остановить передние ряды. Те, толкая французских солдат, прорываются вперед, кавалеристы снимают винтовки – словом, делается нечто непонятное. Кутепов бросается на дамбу. Чернокожие скрестили было штыки, но он только сделал короткое движение рукой, и они расступились. Вслед за тем комкор вернул прорвавшихся, и полк отвели обратно. Началось длинное русско-французское совещание. Я думал, что дело в оружии (все солдаты при шашках, 100 человек с винтовками, 10 пулеметов были заранее уложены в ящики и погружены на пароход, а остальное оружие передано Западному кавалерийскому полку). Оказалось, нечто совсем иное. Чернокожий в передних рядах заметил переодетую солдатом m-mе М. и с криком «Madame!» cхватил ее за плечо[125]. С этим эшелоном французы запретили везти дам; попытка провезти некоторых из них переодетыми и привела к этому, весьма для нас неприятному инциденту. Через некоторое время после выгрузки дамских вещей и маленькой перепуганной кошки, которую торжественно нес бравый драгун, погрузка возобновилась, и, наконец, после длинного ряда морских команд переполненный пароход тронулся под крики «ура» и звуки Преображенского марша. Было 19 часов 30 минут.
Был также принят ряд мер, сделавших невозможным захват корпуса врасплох. Так, например, дорога между лагерем и городом постоянно наблюдалась патрулями.
На случай тревоги имелся следующий приказ командира корпуса: «Приказываю принять к руководству: сигнал „слушайте все“ и „тревога“ относится ко всем войскам лагеря и принимается трубачами всех частей. Полки строятся на сборных пунктах своего расположения и ожидают дальнейших приказаний. Артиллерийские и конные дивизионы и инженерные роты, состоящие при полках, строятся при своих частях. Войска по тревоге выходят без шинелей с винтовками и пулеметами. Патроны выдаются только по особому приказанию моему или начальников дивизии» (издан весной; № и дата мной не отмечены).
Благодаря своей болезни, я не смог как следует присмотреться к настроению отъезжающих. Физиономии, во всяком случае, сияли. В уехавшем полку вольноопределяющихся мало. Все больше здоровенные детины из старых солдат. Зашел еще на «У.Г.», но в голове так шумело, что до конца не досидел. Генерал Карцев говорил интереснее, чем когда-либо, об адмирале Колчаке. Савченко сказал, против обыкновения, невероятно бессодержательную речь о матче Демпсей-Карпантье. Наши постоянные слушатели сегодня в нем разочаровались. Должны были приехать баронесса Врангель и Кутепов, но погрузка кавалерии задержала их, и они не были. Впервые присутствовала масса юнкеров Инженерного училища. Был на «У.Г.» и начальник училища. Вечером я крупно поговорил с Т. Как я, вообще говоря, ни спокоен, но рассказ Т. о том, как он в Харькове бил студентов-добровольцев и как кто-то из них ползал перед ним на коленях, меня взорвал, и я наговорил ему, этому 24-летнему бурбону, много достаточно резких вещей. Если бы в армии взгляды Т. были бы сколько-нибудь распространены, я бы из нее давно ушел. Как жаль, что нет отдельной комнаты и приходится слушать подобных…
5 августа. Почти весь день лежал. Жара больше нет, но страшная слабость, ноги точно налиты свинцом. Безобидная, на первый взгляд, «галлиполийка» оказывается на поверку какой-то особой формой малярии, хотя возбудителя обнаружить пока не могут. Везет мне на болезни. Нужно усиленное питание. Доктор прописал 150 гр. сахара, 100 гр. какао, 100 гр. риса и 1/2 банки консервированного молока на 10 дней, да и то какао и сахару в хозяйственной части школы не оказалось. Остается глотать хинин.
6 августа. Вчера вечером был у генерала Дынникова. (Экзаменовали капитана С., который был болен в день экзамена своего курса). Генерал сказал мне несколько теплых слов насчет моей работоспособности и еще чего-то, но он так формулировал свою мысль, что я очень плохо понял. Сегодня слабость прежняя. Аппетит есть, но на казенный суп с вечной фасолью не могу смотреть.
7 августа. Все время стоит сильнейшая жара. Переносят ее почти все хорошо. Я, несмотря на косые взгляды некоторых офицеров, упорно хожу в белых пижамных штанах – иначе обливаешься потом. От малярии я сильно ослабел, и жара начинает меня тяготить. Вечером приехала из Константинополя В.И. Перед отъездом туда я просил ее повлиять на поручика Н., чтобы он прислал мне вторую английскую книгу Берлица и иностранных газет для «У.Г.», но Н., конечно, забыл. Прислал только евангелие на английском языке, изданное для американской армии. Интересная манера издавать священные книги: на обложке национальный флаг, на первых двух страницах – послания Вудро Вильсона и какого-то генерала, а на задней – обязательство вести нравственную жизнь, которое надлежит подписать, приложив зачем-то и адрес. От В. И. пахнет духами «Quand l’ete vient», и во всей ее фигуре какое-то отражение беззаботной константинопольской жизни. В. И. прожила там всего 10 дней и, благодаря общению со спекулянтами (друзьями брата), набралась превредных идей. Спекулируют в Константинополе все, кому не лень, торгуют с большевиками и говорят об армии не иначе, как с презрительной усмешкой. И понятно – для чего всем этим господам в данную минуту армия.
Появился у В.И. парижский туалет, сумочки и саквояжи, но, в общем, все это довольно убогая роскошь, и отдаленно не напоминающая о прошлых хороших временах. Только духи, как и прежде, пахнут одуряюще-нежно.
8 августа. Сплю в саду. Душно; всю ночь снятся дикие сны. Проснулся совсем разбитым, в груди странные боли. У меня какой-то суеверный страх перед туберкулезом, хотя эти боли, несомненно, последствие малярии, и ничего больше. Из Салоник по дороге в Константинополь прошел «410». Эшелон кавалерии был прекрасно встречен в Салониках представителями королевича Александра. К приходу транспорта был приготовлен питательный пункт на 1000 человек. Королевич Александр передал, что оказывает не благодеяние русским, а исполняет свой долг перед великой Россией. Через 2 часа кавалерия уже была посажена в вагоны, и эшелон отбыл вглубь страны. Интересно, как-то сложатся отношения и какой будет уклад жизни наших в Сербии.
Вечером. В бездонно-черной воде маленькой древней гавани дробится серебристыми бликами свет ущербленной луны. На берегу желтеют решетчатые окна турецких кафе. От заснувшего моря тянет удушливым теплом. Словно остовы гигантских птиц, торчат мачты неподвижно стоящих фелюг. Ослепительно белый днем, тонкий минарет черной иглой проступает на ночном небе. Мягко и печально горят одинокие звезды Востока…
Я не утерпел, чтобы, вернувшись поздно вечером домой, не записать эту маленькую картинку. Как я сейчас жалею, что не умею как следует рисовать. Все-таки на память о Галлиполи пытаюсь зарисовать некоторые типичные домики и фонтаны.
9 августа. После небольших препирательств с Зофом[126] (десятого я должен был дежурить по общежитию и не без труда нашел себе заместителя) отправился поздно вечером в лагерь. Перед этим С.М. Шевляков передал мне целых четыре лиры (за пять докладов в лагере). С самого приезда в Галлиполи у меня не было на руках такой «огромной» суммы. Думал сначала заказать себе малиновую дроздовскую фуражку, но потом решил, что на это деньги ушли бы почти целиком. Между тем я сильно ослабел и, насколько возможно, надо подкармливаться. Начал с покупки целого ока[127] чудесного крупного винограда. Ел его почти до самого лагеря.
Душная летняя ночь, чуть светит серп погасающей луны. Я решил идти напрямик, думал, что собьюсь с дороги среди бесконечных лощин, но благополучно вышел к дроздовскому лагерю. У нас почти никто еще не спал. Солдаты вели спор на религиозную тему и пригласили меня в качестве арбитра.
Подлинный бич лагеря сейчас блохи. Я никогда бы прежде не поверил, что они могут расплодиться в таком невероятном количестве. Всякий раз, как, ночую в лагере, сплю на открытом воздухе и все-таки долго не могу заснуть. Утром руки и ноги оказываются совершенно искусанными.
10 августа. В батарее организовано офицерское собрание, вернее, целых два – для каждой полубатареи отдельное. Несмотря на то что за девять месяцев мы как будто бы сжились с офицерами бывшей третьей батареи, общего собрания все-таки не вышло. В силу обстоятельств мы демократизировались «до отказа» [128] – бесконечно сильнее, чем в 1917 году. При собрании сейчас нет, например, ни одного солдата. В качестве повара работает поручик В. и, надо ему отдать справедливость, готовит отлично. Двое офицеров по очереди помогают на кухне и подают на стол. Таким образом, налицо полная внешняя демократизация, но все-таки прав был майор Марсель де-Ровер, когда говорил мне: «Вам (галлиполийцам. – Н.Р.) чужды демократические идеи». Впрочем, что такое, собственно говоря, называется демократическими идеями? Если под ними нужно, между прочим, понимать веру в «государственный разум масс» [129], то я делаю все от меня зависящее, чтобы окончательно подорвать эту нелепую веру у возможно большего числа лиц в Корпусе. Даже подполковник Б. [130] сегодня откровенно признался мне, что чувствует на себе влияние пропаганды «У.Г.». Словом, вспоминая те разговоры и ту ожесточенную кампанию[131], которая велась против меня в нашем бараке четыре месяца тому назад, я убеждаюсь в том, что был прав, настаивая тогда на необходимости для корпуса иметь собственную политическую кафедру.
Обедал (и притом вторично – после обеда в собрании) у полковника Ряснянского, который только что вернулся из Константинополя. По его словам, главнокомандующий, видимо, сильно удручен почти полным разрывом с общественными организациями и, в частности, с Земгором, который не желает дать отчета в израсходовании сумм, полученных от главного командования. В корпусе многие настроены очень враждебно по отношению к Земгору. Некоторые поглядывают искоса и на «У.Г.», зная, что Земгор ее субсидирует. Надо отдать справедливость С.В. Резниченко – в содержание наших докладов он не вмешивается.
Сегодня за кулисами театра сидел во время «У.Г.» генерал Витковский. Ему не понравилась критика «Информационного листка», которую допустил капитан Рыбинский, по окончании доклада сделал лектору легкое замечание, но этим дело и ограничилось.
Полковник Ряснянский привез очень интересные данные относительно украинского вопроса, заимствованные из секретных сводок Ставки. Кстати сказать, полковник говорит то «украинский», то «малорусский» вопрос и, видимо, колеблется, какой термин следует употреблять. А вопрос стоит весьма серьезно, так как у самостийников есть и деньги, и вооруженная сила (у Петлюры до 15 000 в лагерях Польши). Кроме того, их поддерживает Польша, Румыния и даже, кажется, Франция. Главный лейтмотив украинской пропаганды «долой кацапов-большевиков». Недурно зная дела украинские, я почти уверен в том, что такая пропаганда имеет все шансы на успех. Словом, наше главное командование скоро будет поставлено перед необходимостью снова так или иначе определить свое отношение к украинскому вопросу. Первый раз (в Крыму) были изданы, по-моему, весьма удачные приказы[132] относительно добровольческих украинских формирований при нашей армии. (Это было перед началом нашего наступления на Днепр). По-моему, самой удачной мерой в данное время явилось бы образование сейчас же здесь, за границей, кадров украинских частей, которые послужили бы противовесом самостийным формированиям. Нельзя только делать этого в Галлиполи, чтобы не разложить с таким трудом сохраняющиеся существующие части (такой случай был в лагере Микулинцы[133] в частях Бредова, где дело дошло до стрельбы друг в друга). Наш штакор настолько боится украинства, что запретил даже постановку украинских пьес[134]. Может быть, он и прав. Но декларация Главнокомандующего об Украине и соответствующие формирования все-таки, мне кажется, необходимы…
Ехали назад по узкоколейке. Рыбинский научился настолько хорошо управлять вагонеткой, что мы летели без единой остановки со станции «Перевал» до самого почти города. Редкий случай – вагонетка ни разу не сошла с рельс. Левое легкое продолжает болеть. На всякий случай пока не купаюсь. С деньгами обращаюсь как маленький и проел сегодня целую лиру.
11 августа. Оставалось перевести всего три страницы Пфейфера, но штакор на 5–6 дней отобрал книгу и работа застопорилась. Генерал передал мне программу, выработанную радиоспециалистами. Она, в общем, мало разнится от моей, но больше электротехники и включены незатухающие колебания. Думают пройти ее за 60 часов, но на основании своего небольшого опыта я буду категорически утверждать, что за это время новой программы не одолеть. После лихорадки у меня, помимо упадка сил, и настроение как-то понизилось. Появилась апатия и нежелание что бы то ни было делать. С трудом заставляю себя писать, но хочется все-таки оставить для себя основательную память о Галлиполи.
Восемь вечера. Уже темнеет. Красные лучи заходящего солнца еле касаются башен караван-сарая, где помещается Технический полк. Серые деревянные дома с неопределенного цвета черепичными крышами, груши, персики, акации и какие-то южные деревья вроде наших рябин… Виднеется шпиль греческого суда (там теперь авиация). Грустно на душе, как давно не было грустно.
12 августа. Что-то неладное со мной делается. Утром встаю с ощущением тяжести во всем теле. Точно меня долго варили и затем вынули из воды. Все время побаливает грудь и спина[135].
Впрочем, у многих похожее состояние после лихорадки. Я сейчас очень нервно отношусь к мысли о возможности заболеть туберкулезом. Так же его боюсь, как боялся когда-то сыпного тифа. Потом переступил некую черту и уже без всякого следа боязни начал возиться с больными. Вчера вечером пришел «412». Разгрузочная команда выгружает привезенное обмундирование. Вечером состоится погрузка конницы, и второй эшелон уйдет в Салоники. Поразительно сжилась наша маленькая, но дружная теперь армия. Те десять тысяч офицеров, которые прожили в Галлиполи 9 месяцев, чуть ли ни все знают друг друга в лицо. Прежде было как-то все равно, кто и куда уезжает. Сейчас отъезд каждой части все принимают близко к сердцу. Чувствуется огромная внутренняя связь между галлиполийцами. Я лично, в конце концов, совсем одинок. В батарее бываю сравнительно редко. Встречают меня, правда, очень радушно, но как-то ни с кем нет у меня особенно близких отношений. Не осталось в живых никого из тех людей, которых я по-настоящему любил…
Всякий раз, как я бываю в батарее, с удовольствием захожу и в солдатскую палатку. Все злобное и недовольное, все, кто в ноябре-декабре создавали впечатление нового семнадцатого года, все они ушли. Оставшиеся относятся ко мне и ко всем вообще офицерам прекрасно. При наличии относительно очень хорошей дисциплины в Галлиполи, между офицерами и солдатами (не только вольноопределяющимися) постепенно вырабатываются отношения, которые прежде, наверное, назвали бы «революционным духом» и т. д. Нередко можно видеть, как даже к штаб-офицеру подходит простой солдат и очень важно просит прикурить. Никому это теперь не кажется странным, но что сказали бы об этом прежде? Оставаясь все время в армии, трудно судить о медленно совершающихся изменениях, но мне кажется, что все простые солдаты за время гражданской войны и в особенности за галлиполийский период сделались гораздо более культурными. Здесь играет роль и близость с офицерами, и большой процент интеллигентных солдат, которые незаметно влияют на прочих, сами при этом, правда, несколько опрощаясь.
Вчера взял у французских монахов под залог в 5 франков книжку…
Первый томик посвящен старинным авторам (X–XVI век). Кантилены десятого века кое-как понять можно, благодаря большой близости тогдашнего языка к латинскому. Большая часть отрывков XI–XV веков совершенно непонятна, и только начиная с Рабле начинаешь вновь понимать. Один только отрывок XII века почти совершенно ясен и без параллельного текста. Он мне очень понравился – в нем точно говорится о наших временах.
В 12 часов начнется погрузка «тяжелых предметов в ящиках» (так официально именуются пулеметы). Нельзя ли таким же порядком назвать винтовки «изделиями из стали с деревянными ручками»? Вечером, только я успел на «У.Г.» закончить свой обзор иностранной печати, как с рейда послышались перекаты «ура». «412» тихо отчаливал от дамбы и начинал разворачиваться. Палуба опять сплошь забита кавалеристами. Громкое общее «ура», машут платками и уезжающие и оставшиеся. Погрузка, по словам присутствовавших, прошла на этот раз идеально. Эскадрон за эскадроном под музыку шел на пароход. Французы все-таки из-за чего-то поломались минут десять. Да, отъезд радостный – совсем не то, что было три с лишним месяца тому назад, когда «Рион» уходил в Бразилию. Не знаю только, как-то сложится жизнь у кавалеристов в Сербии. Перспективы, по-моему, не слишком радостны, особенно для офицеров. Правда, все будут сыты и части смогут сохраниться, но потребуется громадный такт и гибкость мышления от начальников, большая преданность делу и умение ладить с солдатами от всех вообще офицеров. Положение создалось более чем оригинальное – большая часть офицеров была принуждена (никого, впрочем, не неволили) надеть солдатские погоны. Бравый конный артиллерист, капитан У., стал, например, подпрапорщиком, а его приятель поручик – старшим фейерверкером и т. д. Для сохранения частей иного выхода не было, и надо только отдать должное офицерам, которые на это пошли. Но какими законоположениями будут определяться права и обязанности этих странных не то офицеров, не то солдат? Какие у них будут отношения с «обыкновенными» солдатами и с начальниками на офицерских должностях? Тут можно предвидеть бесконечное количество недоразумений и от того, насколько удачно их будут избегать, по-моему, всецело зависит дальнейшее существование частей. Лишний раз убеждаюсь в том, что все офицеры, особенно младшие, во время гражданской войны должны стоять как можно ближе к добровольцам. При этом условии в армии создается большое единство духа и легче переносить даже такое уродливое положение, которое создалось теперь для кавалерии.
13 августа. Турки чрезвычайно жалеют, что мы постепенно уезжаем. Уедет корпус, и Галлиполи снова превратится в мертвый город. Сегодня один из руководителей школы разговорился с пожилым турком, отставным капитаном. Турок по наивности своей возмущался тем, что русским офицерам придется работать (наверное, это, кстати сказать, еще неизвестно), и говорил, что нам «должны» платить. Кто должен – капитан сам хорошенько не знает, но ему султан выплачивает 15 лир в месяц и, значит, и нам кто-то должен платить.
Я очень доволен, что перевел только несколько глав Людендорфа, а не всю книгу, как первоначально собирался. Сейчас в Константинополе вышел полный русский перевод, и моя работа пропала бы даром.
14 августа. Ночевал в лагере. Вышел из города поздно вечером. По дороге встретил «лихих кавалергардов» В. и Б. Мальчики по воскресеньям аккуратно ходят в лагерь и, по их собственным словам, накуриваются на целую неделю. В расположении гимназии курить по-старому не разрешается. Пропутешествовали вместе до поворота в Корниловский лагерь. Я рассказал гимназистам несколько эпизодов из истории войн между спартанцами и афинянами. Очень их заинтересовала гора Ида. Никак не думали, что трехрогий массив на Азиатском берегу, который мы видим с утра до вечера, и есть та самая Ида. Латинского языка у них, кажется, совсем не проходят. Между тем всевозможные мифы, которые нам, былым русским гимназистам, казались такими скучными, здесь были бы живыми и близкими. Ребята говорят, что изучали бы их с большим интересом. Когда я распрощался с мальчиками, было уже совсем темно. Луна тускло светила сквозь прозрачную дымку, окутавшую Азиатский берег. Только Дарданеллы отливали серебром, да над вершинами Иды виднелось багровое зарево от горевших где-то кустарников. В эту душную ночь при прозрачном свете луны мне вспомнилось описание пожара Трои у Вергилия[136]. Я забыл текст стихов, но врезалась в память картина ночного пожара, когда языки пламени вздымались к молчаливому небу… Это кусочек древней поэзии, а вот галлиполийская проза.
Бедные юнкера так слабеют, что число часов ежедневных занятий пришлось сократить до четырех. Кроме того (по крайней мере в Инженерном училище), им разрешили работать у кардашей[137].
Для этого каждый взвод освобождается от занятий на 2 недели.
Условия работы неважные – 6 драхм в день. Кроме того, турки предпочитают нанимать солдат, которым разрешается жить в деревнях 2–4 недели. Юнкера должны возвращаться к вечерней перекличке. Жаль, что штакор не придал этим работам систематического характера. Когда я был в Михайловском артиллерийском училище (1915 г.), да, конечно, и позже, мысль о возможности подобного времяпрепровождения для юнкеров показалась бы дичью[138]. Сейчас рассчитывают, что можно совместить и учение и полевые работы. Занятия пострадают от этого меньше, чем при отсутствии дополнительных доходов и, значит, систематического голодания.
На сегодняшней «У.Г.» полковник Ряснянский прочел очень интересный и содержательный доклад, но, как всегда, у него форма была много хуже содержания и это портило впечатление. Часть доклада, касавшуюся украинских дел, публика слушала с большим интересом. Я в своем обзоре иностранной печати тоже посвятил много места петлюровщине. Капитан Р. наговорил мне много приятных вещей насчет моего доклада. Наоборот, нашим вольноопределяющимся он показался скучным. Они мало интересуются иностранными делами, а какого-нибудь сенсационного материала, касающегося Совдепии, почти невозможно достать.
15 августа. Сижу в общежитии. Т., как обычно, несет невозможную, злобную чушь. С трудом сдерживаю себя, чтобы не наговорить ему дерзостей, особенно когда он ораторствует насчет студентов. Пришли новые газеты. Много интересных сведений о Дальнем Востоке. Там, вероятно, творится новая керенщина. Правительство ссорится с атаманом Семеновым, и я думаю, что в конце концов опять возобладают большевики.
В корпусе ходит масса невероятных слухов. То внезапно свергается Советская власть, то (сегодня) американцы якобы приглашают 600 человек для организации питательных пунктов в Советской России. Уверяют даже, что американцы особенно хотят, чтобы на эти роли пошли чины нашей армии. Окажись Советская власть действительно такой слабой, что ей пришлось бы признать экстерриториальность всех служащих американских организаций, тогда, конечно, надо было бы этим воспользоваться. Можно было бы влить в Советскую Россию несколько сот людей, которые смогли бы быть информаторами. Никогда, впрочем, не поверю, чтобы большевики согласились на подобную экстерриториальность. Не такие они идиоты…
Кончаю эту тетрадь, слушая нелепый спор о методах управления, и грустно становится на душе.
16 августа. Давно так хорошо не проводил время, как сегодня. Вчера вечером получил предложение поехать с экскурсией археологического кружка в г. Лапсаки (в Малой Азии, напротив Галлиполи). Думал, что просплю, но встал вовремя. Пришлось даже немного подождать, так как участники экскурсии собирались медленно. Сидели вместе с турками около одного из кафе на набережной внутренней бухты. Наконец, набралось 28 человек. Компания самая разнообразная – полковник Генерального штаба Б., наш организатор о. Кириаков, лихой корниловский батюшка протоиерей Б., офицеры разных частей и несколько дам. Я в своих белых парусиновых штанах чувствовал себя по этому случаю несколько неловко. Предъявили документы с многочисленными подписями и печатями (Кутепова, Томассена и греческого префекта), развернули паруса и тронулись. По дороге пришлось еще подойти к французскому миноносцу. Фелюгу сразу начало сильно качать. Ближе к середине Дарданелл ветер, свободно дующий со стороны Мраморного моря, еще больше усилился. Усевшихся на носу дам волны, разбивавшиеся о лодку, обдавали целыми фонтанами брызг. Барышня, моя visavi, сильно побледнела. Я думал уже, что начнется рвота и впечатление от поездки будет испорчено, но все обошлось благополучно. Мы, офицеры, смотря на крепившихся дам, шутили на тему о том, сколько бы визгу было при подобной поездке лет шесть-семь тому назад. А теперь ничего – пулемет не строчит – и то благо. Галлиполи с моря совсем не интересно, и чем дальше от берега, тем печальнее становится вид на почти голые холмы в окрестностях города. Первое, что бросается в глаза, при приближении к Лапсакам – это масса турецких флагов на фелюгах. Издали белые луны со звездами почти не видны, и кажется, точно стоит целая флотилия под советскими флагами. Городок по своему типу похож на Галлиполи, но несравненно симпатичнее на вид. Нас встретил почти у самой пристани, очевидно, предупрежденный о приезде русских очень культурный и опрятный на вид полицейский комиссар Мустафа. Он уже второй раз сопровождает экскурсию отца Кириакова и встретился с ним, как с добрым знакомым. После маленькой закуски в саду (были только помидоры, хлеб и консервы, отпущенные дополнительно интендантством), отправились осматривать древности. Замечательно живописная главная мечеть, построенная на развалинах храма во имя св. Трифона. Само здание довольно бедно и снаружи и внутри. Архитектура его ничем не замечательна. Зато поразительно живописен общий ансамбль мечети, укрепленных террас, витых лестниц и решеток, из-за которых свешивается инжир, абрикосы, пинии и виноград. Если нарисовать и показать потом где-нибудь среди русских степей, наверное, скажут, что это сочиненная декорация. Тут же рядом с мечетью, между инжиром и жасмином, показывают место погребения св. Трифона[139], мощи которого уже давно увезены куда-то в другое место. Теперь здесь нет ничего, кроме кучи мусора. Рядом могила муфтия, заботливо обнесенная железной решеткой. Другая и действительно оригинальная достопримечательность города – это могила какого-то турка на одной из улиц, вся закапанная воском и уставленная огарками свечей. Около нее стоят даже два маленьких греческих подсвечника. Это место погребения св. Парфения, епископа Лапсакийского, при котором в городке был поместный Собор, осудивший ересь Ария[140]. Мощи СвятогоПарфения тоже давно перенесены отсюда, но греки по-прежнему зажигают свечи теперь уже у турецкой могилы. Таким образом, православие мирно уживается с магометанством – не всегда, правда. В маленькой церкви греческий протоиерей показал нам «страшные зверства» турок, учиненные во время Великой войны. На нескольких иконах святых выцарапаны глаза, у Богоматери проведена черта поперек щеки. Сопровождавшие нас греки, показывая эти «ужасы», причмокивали и кивали головами, изображая сильнейшую степень негодования. Что сказали бы эти наивные люди, если бы они посмотрели на хорошую чрезвычайку? Впрочем, в начале войны греческому населению пришлось во избежание более ощутительных зверств спасаться бегством в Афиун-Карагиссар. Их дома и имущество в это время, конечно, были разграблены. Батюшка живет бедно. Приблизительно так, как большинство священников в Великороссии. Матушка имеет вполне туземный вид. На ней обычные у гречанок широчайшие черные штаны. Пока духовные лица вели по-гречески чинный разговор, экзотическая матушка угощала нас мастикой и вареньем.
Жители почти сплошь турки. Здоровый красивый народ (в особенности мужчины). У них сейчас Байрам. По всему городу слышны звуки зурн и барабанов. Пестро и красиво одетые мальчики бегают, свистят, играют на губных гармониках немецкой работы и вообще чувствуют себя превесело. У меня в этом красивом городке появилось веселое, кажется, специфически русское настроение. Оно бывает, когда начальство «ушло». И кроме того, тут нет опротивевших сенегальских физиономий и нашей казарменной обстановки, тоже в конце концов порядком надоевшей. Весело гулять по улицам и никому не козырять. Я даже нарочно отбился от нашей компании, чтобы чувствовать себя вполне самостоятельным. Прошел за мечеть и присел посмотреть на танцевавших там турок. Мальчишки помчались ко мне со всех сторон с громкими криками «Кемаль-паша хорош». (Это в Малой Азии, кажется, служит сейчас чем-то вроде приветствия русским.) Глазенки у них всех блестящие. Славные, доверчивые дети. Один, маленький, долго водил пальцем по бархату моих погон[141]. Пользуясь полдюжиной турецких существительных вперемежку с чуть-чуть им понятными французскими глаголами, поговорил насчет Кемаль-паши. Мальчик постарше твердил: «Врангель-паша хорош, Кемаль-паша хорош», и тер при этом один указательный палец о другой, чтобы показать, какие, мол, друзья русский и турецкий генералы[142]. Потом я пошел дальше за город. Долина к западу от Лапсаки – это сплошной сад. После голых галлиполийских холмов кажется, что попадаешь чуть ли не в земной рай. Насколько глаз хватает, тянутся виноградники и огромные сады, полные айвы, грецких орехов, персиков, инжиру, гранатов… Заборов нет, и только кусты ежевики и терновника вдоль дорожек отделяют участки, принадлежащие разным владельцам. Долина прикрыта от норд-оста горами. Гулял по ней и, смотря на эти сады, понял, почему в Лапсаки процветала жизнерадостная философия Эпикура[143]. Наверное, две тысячи лет тому назад все здесь было приблизительно так же, как теперь.
Перед отъездом домой посидели на террасе греческого кафе. Последний раз полюбовался на турецкие одеяния. Где-нибудь в Харькове или Полтаве одетые таким образом люди произвели бы впечатление оперных статистов, забывших переодеться. Здесь, под горячим солнцем, на фоне голубого моря, среди мечетей, развалин и домиков, оплетенных виноградом, никто не кажется странным. Синие штаны расшиты черными узорами, на голубой бархатной безрукавке золотые корабли распустили белые паруса, шелковые рубахи так ярки, что в глазах рябит и даже белые шерстяные чулки у мужчин – и те с узорами. Доктор – участник экскурсии – снял нас вместе с турецким населением под развесистым платаном на площади. Посредине усадили старика-солдата, ветерана 1877 года. Он побывал в плену в России и еще немного помнит по-русски. Почти целый день мне пришлось говорить по-французски. Учитель-грек удивлялся, что я, зная три иностранных языка, не еду в Константинополь. Еле я ему растолковал, что армия наша – добровольческая. Не знаю, понял он меня или нет… Потом долго болтал по-английски с одним торговцем – тоже греком, который пригласил меня в свою лавку и угостил кофеем. Он жил в Америке и все жаловался на глупое и грубое, по его мнению, турецкое правительство. Отношение турецкого населения к русским в общем прекрасное. Считают, видимо, нас скрытыми кемалистами[144]. О греко-турецкой войне жители мало что знают. Спрашивали новости у нас, но мы могли им только рассказать то, что помещено в последних номерах… Судя по всем данным, в армии Кемаля создалось очень оригинальное положение. Там есть русские отряды антибольшевистского типа, и в то же время в Ангоре работает большая советская военная миссия. Выдачу русских офицеров большевикам турки категорически отрицают. Настроения жителей, безусловно, в пользу Кемаля… Союзных войск на Лапсаках нет. Только изредка приезжают сюда английские патрули. Вернулись в Галлиполи около 9 часов вечера.
17 августа. После вчерашней экскурсии опять проспал до 10 часов. Доложил начальнику школы результаты своих неудачных переговоров относительно книги… Генерал обещал достать ее сам. Если это ему удастся, я буду переводить статью об артиллерийской авиаразведке на французском фронте. Сейчас у меня впервые за все время пребывания в школе совершенно нет работы. Для «У.Г.» тоже нет материала, и я начинаю уже скучать без дела.
Вчера дал прочесть Г. мой первый беллетристический опыт. «На кладбище». Он уговаривает меня послать рассказик в «Зарницы» [145], но я, вероятно, ограничусь «Лептой Артиллериста» [146]. Понемногу проходит развившаяся после лихорадки апатия. Только боли в груди все еще иногда дают себя знать. В лагере эпидемия самоубийств. В Дроздовском полку застрелилось уже восемь человек. Уверяют, что образовался клуб самоубийц и они стреляются по жребию. Мне лично странно, что люди начали стреляться среди жаркого лета, когда живется вовсе уже на так скверно. Понятнее было бы, если бы эта печальная эпидемия началась зимой. Третьего дня застрелился молодой жизнерадостный корнет, который часто бывал в нашей палатке у И. Характерно, что в предсмертных записках ни один из самоубийц не объясняет причины своего решения умереть.
18 августа. Становится все жарче и жарче. Если бы сюда, на берег Дарданелл, привезти непривычного человека, какого-нибудь петроградца или москвича, он бы погибал от жары.
Мы же настолько к ней привыкли, что во всем корпусе не было ни одного случая солнечного удара. Юнкера теперь, согласно приказу, почти все ходят в белых пижамах[147], чтобы сохранить теплое обмундирование. Не так нарядно, но, по крайней мере, люди не обливаются потом.
Мы небольшой компанией спим в садике при общежитии и перед сном берем «лунные ванны». Валяемся совершенно раздетыми в одеялах, вспоминаем прошлое, затем закутываемся и засыпаем. Мне пришлось попросить вестовых, чтобы они по утрам меня будили. Иначе без посторонней помощи никак не могу проснуться раньше десяти часов. Вообще, последние дни живется физически совсем неплохо. Получил еще лиру за доклад и 1,5 лиры обычного пособия. Человек более обстоятельный, чем я, получая 5–6 лир в месяц, наверное, питался бы очень недурно. У меня большая часть денег уходит на дыни, виноград и бумагу для моих писаний. Бумага сейчас, как назло, за последнее время сильно вздорожала.
19 августа. Встретил подполковника П. де-К., поболтали, и я уговорил его пойти вместе купаться. Ю.И. до сих пор ни разу не купался и, понятно, остался очень доволен. На обратном пути с пляжа встретили юнкера-сергиевца Б. Я пригласил обоих к себе в общежитие выпить чаю со свиными консервами, которые мне удалось сегодня очень дешево купить.
Рассказ Б. произвел на меня самое тяжелое впечатление. Правда, Б. всегда был склонен впадать по временам в пессимизм[148], но сейчас он ссылается на факты и факты эти очень печальны. У сергиевцев сейчас сильнейший упадок духа. Б. уверяет даже, что настроение никогда не было таким подавленным, как в данную минуту. Поодиночке и маленькими группами юнкера переходят на беженское положение. Привлекает их, по-видимому, весьма проблематическая возможность продолжать в Праге общее образование. Фактически большинство уезжающих (это и американец[149] говорит) ни в какой университет не попадет и будет, чего доброго, торговать газетами на улицах Константинополя. Уходит, собственно говоря, совсем не так много, но беда в том, что в данное время уходят лучшие, наиболее энергичные люди. За 9 месяцев пребывания в Галлиполи с 13 курса ушло в разное время больше 50 человек. Остающиеся нервничают, не знают куда деваться и все больше и больше теряют веру в дело. Б. уверяет, что есть юнкера, которые ни разу не были в городе (кроме как строем на парадах), не купаются и все свободное время неподвижно лежат на койках. Идут нелепые разговоры о самоубийстве и т. д.
Вероятно, картина на самом деле не так мрачна, как рисует ее Б., но все-таки удивляюсь, как отдельные офицеры не видят того, что делается. Думаю, кроме того, что причины подавленного состояния юнкеров скорее физиологического, чем политического характера. Училище расположено за городом, поблизости от него нет никого, кроме чернокожих. Сильнейшая жара расслабляет людей и многих делает совершенно пассивными. Кроме того, вероятно, крупную роль играет полное отсутствие женщин.
Вдобавок ко всему, информация в училище совершенно не организована, и в настроениях юнкеров полный разброд[150].
Б. говорит, что юнкера из вольноопределяющихся сейчас очень охотно изучают науки общеобразовательного характера и очень равнодушны к чисто военным предметам. Жаль, если это так. Может быть, лучше было бы временно разбавить курс общими предметами хотя бы в ущерб военным. Тогда у многих колеблющихся исчезнет тоскливая мысль о бесцельности их чисто военной работы. Лучше сделать так, чем терять наиболее энергичных[151] людей. Кроме того, надо во что бы то ни стало открыть военные гимназии, о которых я хлопотал еще три месяца тому назад, а также расширить высшие курсы. Иначе, по-моему, новую тягу из армии ничем не устранить и с переездом в Болгарию результаты могут получиться самые печальные.
Этого боится (хотя, вероятно, по другим соображениям) и генерал Кутепов. По крайней мере об опасениях комкора насчет того, что армия может в Болгарии распасться, сегодня говорил Т. полковник Кутепов[152].
Удивительная волокита идет с проектом организации учебного заведения, о котором было столько разговоров. Вероятно, кому-нибудь оно не выгодно по личным соображениям, и эти люди тормозят несомненно необходимое дело. Надо будет еще раз поговорить об этом с полковником Савченко[153].
20 августа. Сего дня к моему соседу, полковнику Стадницкому-Коленда приходил один молодой юнкер, только что поступивший в Александровское пехотное училище. У него, в противоположность Б., настроение отличное. Один из тех людей, которыми мы держимся. Служит матросом на английском пароходе, значит, по теперешним понятиям, «отлично устроился», приехал в Галлиполи, увидел своих и остался здесь, бросив прилично оплачиваемое место. Рассказал нам много хорошего о пехотных училищах. Оказывается, программы их (кажется, и Николаевского кавалерийского) теперь совершенно переработаны[154]. Введен целый ряд общеобразовательных предметов – математика, словесность, естествознание, физика, химия, логика, психология, русская история. В зависимости от полученного образования юнкера разделены на группы. Это оказалось особенно необходимым в Корниловском училище, где публика в смысле образовательного ценза очень сборная. Есть там наряду с бывшими гимназистами и студентами и люди, совсем мало учившиеся. С ними начали чуть ли не с четырех правил арифметики. Сомневаюсь, чтобы из этой категории удалось выработать в течение двух лет настоящих офицеров. Во всяком случае, наше командование поступило очень хорошо.
Я давно уже слышал о предположенном изменении программ; теперь оно осуществлено, и юнкера вполне удовлетворены. «Совсем как в гимназии», – говорит мой новый знакомый. Он хотя и кончил среднюю школу, но с удовольствием вспоминает прошлое. Юнкера с незаконченным средним образованием еще более довольны[155].
Теперь необходимо, по-моему, предпринять еще ряд мер:
1. Ввести общеобразовательные предметы в Сергиевском артиллерийском и Николаевском училищах. 2. Открыть военную гимназию, чтобы успокоить и удержать в Армии тех, которые не окончили средне учебных заведений и не хотят поступать в военные училища. 3. Немедленно открыть Высшие курсы (организованные как настоящее учебное заведение со слушателями, выделенные из частей) для офицеров и солдат, бывших студентов. Последняя мера в особенности важна, так как упорно распространяются слухи о том, что в Праге устраивают всех желающих. Это волнует публику. Немало бывших студентов уезжает в Константинополь и там попадает в самое тяжелое положение. Думаю, что эти «пражские слухи», частью по крайней мере, злонамеренны и исходят от враждебных армии организаций.
Сегодня вечером познакомился с только что приехавшим из Константинополя членом партии ка-де, журналистом И.Лукашем[156].
Очень симпатичный на вид господин лет 35. Очень хорошо, искренне и с большим подъемом говорил сегодня на «У.Г.», хотя перед непривычной аудиторией немного робел. Заключительные слова Лукаша о поверженном знаменосце, который рано или поздно встанет на ноги, были покрыты аплодисментами, на редкость дружными и громкими для сдержанной городской публики.
В разговоре со мной И.Лукаш просил категорически опровергать «пражские слухи» и при этом ссылаться на него.
21 августа. Читал в лагере обзор русской печати. Перед самым началом полковник Ц. предупредил меня, что на сеанс должен приехать генерал Кутепов. Мне было очень неловко за свои нечищеные ботинки и белые штаны. Пришлось несколько растянуть доклад, для которого уже не хватало материала. Комкор долго не приезжал. Между тем вторым должен был говорить Лукаш, который собирался приехать вместе с Кутеповым. Хора трубачей сегодня не было и, кончи я говорить, нечем было бы занять публику в антракте. Генерал Кутепов вошел в ложу уже к концу моего доклада. От страшной жары или, может быть, благодаря перенесенной лихорадке у меня болела голова и я говорил не так гладко, как обычно, но в заключение прочел два стихотворения – Федора Сологуба «Россия» и Тэффи «Русь» – и они очень понравились. Я заметил даже, что у одного из близко стоявших ко мне солдат дергались губы и он явно старался не заплакать, когда я читал:
Кто невзлюбил твоей доли, земля, Тех к небесам поднимает петля… [157]По окончании сеанса, при напряженном внимании офицеров и солдат, генерал Кутепов сказал несколько любезных фраз Лукашу, который, между прочим, сегодня перед большой аудиторией еще больше робел. Решительно наш комкор сильно цивилизовался в политическом отношении. Не забыл упомянуть об единении армии с общественностью. Выразил надежду видеть в Галлиполи и других константинопольских общественных деятелей. Словом, «все, как полагается». По дороге на «газету» встретил юнкера М., возвращавшегося из лагеря. Мы оба невольно рассмеялись, так как путешествовали по полям голыми до пояса. Это единственный способ сохранить в приличном виде гимнастерку, если приходится идти из лагеря в город или наоборот. Иначе она промокает от пота и производит впечатление только что выстиранной. М., отчасти благодаря моим настояниям, поступил только что в Сергиевское училище и очень доволен[158]. Настроение у него совершенно иное, чем у Б. Наоборот, один из наших молодых офицеров – подпоручик М., с которым мы долго беседовали вечером, тоже настроен очень мрачно. Не то он потерял веру в дело, не то хочет учиться, а может быть, и то и другое вместе. Из только что произведенных в офицеры сергиевцев перечислилось в беженцы 12 человек. Сильно это мне не нравится, в особенности потому, что ушли едва ли не лучшие по успехам.
Настроение в батарее спокойное, но чувствуется, что все устали ждать, Сильно изводит жара. Теперь ее хуже переносят, из-за того что днем, а особенно по утрам, совершенно нет ветра. Сегодня на солнце было +60 °C. Другим врагом продолжают оставаться блохи.
22 августа. Возвратился из лагеря к обеду. Даже на меня тропическая температура (опять +60 °C) начинает действовать угнетающе. Хотел было переводить «орудия сопровождения», но не смог взять себя в руки. Отправился на пляж и провалялся там, несмотря на жару, часа три. Загораю все сильнее и сильнее. Сегодняшний сеанс «У.Г.» из-за полного отсутствия материала пришлось отменить. Дело с его получением стоит совсем плохо. Шевляков отправляет в Константинополь отчет о сеансах «У.Г.» за последние месяцы с предупреждением, что так хорошо, в общем, идущее дело придется совершенно прекратить, если В.З.С. не будет присылать материала.
Сегодня в «Информационном листке» помещен интересный приказ генерала Кутепова. Супруга одного офицера вмешалась в разговор между мужем и другим офицером, причем наговорила последнему дерзостей. В результате муж посажен на 7 суток на гауптвахту за то, что «допустил в своем присутствии…» и т. д.
Вечером в театре (вернее, над театром у «серого дома», так как деньги совершенно вышли). Спектакль прошел довольно неудачно. Только «Братья Зайцевы», как всегда, веселили многочисленную публику.
23 августа. Утром был на смотру всех военно-учебных заведений, который генерал Кутепов произвел на футбольной площадке. Не знаю, для чего был устроен этот смотр. По одной версии он носил чисто деловой характер, по другой это была очередная демонстрация «вооруженных сил» французам. Судя по тому, как смотр прошел, вероятно, имелись в виду обе цели.
Я неважно знаю строевой пехотный устав, но, по-моему, юнкера превосходно ходят и очень хорошо исполняют все повороты. Немного хуже остальных ходят юнкера Инженерного училища. Зато у корниловцев равнение как по ниточке. Великолепно пригнана походная укладка. После смотра и церемониального марша военные училища были задержаны на площадке. Комкор вернулся в штаб корпуса и затем, стоя у дверей, вторично пропустил под музыку корниловцев и сергиевцев, возвращавшихся домой и тащивших с собой многочисленные пулеметы. Французы высыпали из комендатуры и имели возможность лишний раз «полюбоваться» на наших юнкеров. Я сегодня смотрел на них с хорошим чувством. Все-таки Галлиполи единственное место в мире, где русские с винтовками и пулеметами, четко отбивая шаг, могут проходить мимо зданий с иностранными флагами[159]. Сейчас кажется нелепой мысль о том, что колченогие лейтенанты и черномазые «Сережи» могут вмешаться в наши дела. Для меня это сознание в данное время служит единственным утешением.
Почему-то задерживается перевозка кавалерии. С Болгарией дело тоже не ладится. Не знаю отчего, но у меня самого падает настроение. Приходится бороться с самим собой. Ко мне многие прислушиваются, и я боюсь передать другим свой временный пессимизм. Вероятной его причиной является все та же лихорадка.
Только что со слов полковника Сорокина передали, что, по некоторым сведениям, маршалы Франции, якобы обратились в… с указанием на необходимость внимательного отношения к армии Врангеля, так как она является почти единственной силой, способной в данное время вести борьбу с большевиками. Было бы очень хорошо, если подобное обращение действительно имело место. Я, однако, сильно в этом сомневаюсь, так как наряду с нашей армией маршалы якобы указывают на германцев, как на вторую антибольшевистскую силу. В устах маршалов победившей и нетерпимой Франции это звучало бы более чем странно. Сегодня мы довольно резко поговорили с полковником Г. относительно наших сербских дел и роли «Нового Времени». Сторонники неограниченной монархии, вдохновляемые «Новым Временем», точно с цепи сорвались. Удивительно, до чего близоруки люди и как они не замечают вреда, который приносит их деятельность. В тот момент, когда нужно вести наиболее осторожную политику, чтобы не прослыть неисправимыми реставраторами и реакционерами, гг. нововременцы поднимают гвалт на всю Европу. Кроме того, справа делаются попытки поставить штамп неограниченной монархии на всю армию. Приходится радоваться, что пехота, артиллерия, инженерные войска и училища[160] поедут в Болгарию, а не в Сербию. В противном случае живущие там монархисты повели бы усиленную агитацию в армии и, чего доброго, разложили бы войска. Это может показаться парадоксом, но я лично уверен в том, что монархическая агитация в армии может разложить ее гораздо скорее, чем работа Керенского, Милюкова и других левых. Стоит вспомнить историю, бывшую 19 января, когда несколько офицеров Дроздовского полка (правда, подвыпивши) начали стрелять по палаткам штаба лагерного сбора[161] из-за того, что оркестр во время ужина заиграл там «Боже, Царя храни!». Солдаты (даже многие из вольноопределяющихся) нашей батареи были тогда настолько возмущены, что приходилось резко обрывать чересчур несдержанные разговоры.
В марте на совещании в том же штабе перед организацией «У.Г.» я заявил совершенно определенно, что считаю всякого рода монархические выступления в данную минуту не только вредными, но даже прямо разлагающими армию. При этом я сказал, что сам лично вижу в конституционной монархии наиболее приемлемую форму правления для будущей России. Начальник штаба[162] и другие участники совещания – почти сплошь монархисты и, вероятно, гораздо более правые, чем я, вполне согласились с моим взглядом на опасность монархической пропаганды в Корпусе. Решено было совершенно не касаться на «У.Г.» вопроса о форме правления. Характерно, что в дальнейшем при малейшем уклоне лекторов «У.Г.» в сторону монархии среди наших слушателей начинались совершенно нежелательные разговоры[163].
Следует также отметить, что в Корниловском полку и Корниловском училище долгое время исполнялся во всех официальных случаях т. н. «Корниловский гимн», в его первоначальной редакции, производившей неприятное впечатление на монархически настроенную часть офицеров и солдат («Мы о прошлом не жалеем, царь нам не кумир…»). Последний раз я слышал гимн в этой редакции 13 апреля на сеансе «У.Г.», устроенном в день третьей годовщины смерти Корнилова в расположении Корниловского полка. Впоследствии еще в Галлиполи эта фраза была переделана («Русь Великую жалеем, нам она кумир…»), но когда и по чьей инициативе это было сделано, мне неизвестно.
Я почти уверен в том, что в будущем на головы участников «У.Г.» выльют немало помоев. Нас обвинят в «керенщине», с которой мы боремся всеми силами, сношениях с левыми партиями, которых нет и в помине. Чего доброго, обвинят даже в разлагательской агитации, хотя мы, почти не имея ни материалов, ни денег, бьемся как рыба об лед, чтобы помешать пропаганде врагов. Должно быть, с точки зрения белградских политиков, грехи наши велики и тяжки. На каждом сеансе цитируем «Общее Дело» [164], а иногда – «Последние новости», «Волю России» и другие враждебные армии газеты[165]. Конечно, мы преподносим их слушателям под соответствующим соусом, но последнее будет забыто, а факт публичного чтения отрывков из «Последних новостей» нам в свое время припомнят. Кроме того, мы решаемся говорить, что Милюков – человек лично честный, хотя его деятельность сейчас приносит колоссальный вред русскому делу[166]. Вообще, ни дать ни взять «жидомасоны».
Сегодня узнал забавную мелочь. Юнкера-корниловцы называют николаевцев[167] «паничами». Разница между юнкерами этих двух училищ действительно большая. Николаевцы в большинстве «паничи» и монархисты. Корниловцы несравненно демократичнее – там есть юнкера даже из простых солдат, кончивших городские училища.
24 августа. Под вечер встретился с И.С.Лукашем, проводил его и подробно расспросил о галлиполийских впечатлениях. Лукаш кажется вполне искренним человеком. Говорил мне об очень сильном впечатлении, которое производит на него генерал Кутепов. «Это человек очень большого диапазона» [168]. Шевлякову Лукаш сказал еще определеннее: «Личность Кутепова меня прямо подавляет». В общем, я очень рад, что Лукаш, свежий и непредубежденный человек, расскажет о нас правду в Константинополе[169]. Такие наезды имеют гораздо больше значения, чем может показаться на первый взгляд. Оказывается, например, что часть константинопольских кадет уже склонялась к «новой тактике» Милюкова и только восторженный доклад о Галлиполи побывавшего у нас Емельянова переломил настроение. Лукашу очень понравилась идея «воскресных митингов» [170], как он называет «У.Г.». Можно надеяться, что Лукаш поможет нам в Константинополе наладить доставку информационного материала. Удалось получить от С.В. Резниченко десять лир, на них купят книг и пришлют нам с первым пароходом. Для себя лично я заказал… Берлица. Хочу все-таки еще подзаняться. После перерыва почти в две недели был сегодня на английских курсах. Пробовал переводить монолог Макбета, но с непривычки слишком трудно.
«Последние Новости» умышленно или неумышленно перепутали нашу «У.Г.», существовавшую официально как предприятие Вс. земского союза, с выступлениями нескольких крайне правых журналистов во главе с г. Бурнакиным. Журналисты эти приехали в Галлиполи в феврале месяце и произнесли в расположении частей ряд речей монархического содержания, анонсированных, как «Устная Газета». Ввиду очень неблагоприятного впечатления, произведенного выступлениями группы Бурнакина на войска, генерал Кутепов запретил дальнейшие доклады и предложил журналистам покинуть Галлиполи.
Само собой разумеется, что организованная впоследствии наша «У.Г.» ни в каких отношениях с г. Бурнакиным не находилась, хотя сходство названий на первых порах вызывало некоторые подозрения и в Галлиполи. Как впоследствии мне передавали, некоторые офицеры при первом появлении афиш «У.Г.» говорили: «Опять бурнакинская кампания».
Забавно, как штатские журналисты не могут писать об армии в сколько-нибудь спокойном тоне. Если бранят, то уже совершенно бесцеремонно и грубо, а хвалят обязательно в самых выспренних выражениях. В константинопольском (весьма, кстати, безграмотном и безвкусном) альманахе «Наши дни»… появилась статья Д.И. Пухальского, посвященная главным образом «У.Г.». Похвалы совершенно неумеренны, но заслуга организации «У.Г.», конечно, всецело приписывается Земсоюзу.
Поздно вечером долго сидели с С.М.Шевляковым в одной из турецких кофеен и говорили о литературе. Показал ему свой набросок «На кладбище». С.М. находит его вполне литературным и безусловно пригодным для галлиполийских журналов, но в то же время лишенным действия и потому мало пригодным для большой публики. Начал писать полубеллетристическую статью об учащихся-добровольцах, но мысли текут гладко только ночью, когда лежишь в садике. Днем мешает вечный галдеж в общежитии.
Оказывается, что тот сборник, для которого Шевляков просит меня написать статью об обществах и кружках в Галлиполи, будет носить очень серьезный характер[171]. Если отпускаемых Земсоюзом 2500 лир хватит на издание его в Лейпциге, то русская эмиграция впервые получит возможность подробно ознакомиться с жизнью армии в Галлиполи. До сих пор информация о галлиполийских делах стоит ниже всякой критики. И друзья и враги одинаково фантазируют благодаря тому, что в Галлиполи никто почти не бывает. Сегодня, наконец, кончил перевод «Орудий сопровождения».
25 августа. Все утро читал книгу проф. Соколова «Правление генерала Деникина», полученную вчера из Земсоюза. Написана она живо и умно. Прочтя ее, я изменил в лучшую сторону свое прежнее мнение об авторе. Но мне все-таки кажется, что деятельность Соколова как начальника «Освага» прямо преступна. Он, очевидно, не мог управлять сразу двумя отделами – законов и пропаганды и – и в результате фактически устранился от заведования пропагандой. Таким образом, один из важнейших отделов оставался без настоящего начальника. Полковник Энгельгард, судя по всему, не справился с заведованием им. Выводы Соколова вполне совпадают с моими всегдашними мыслями, или, вернее, мои мысли с его выводами. Общее впечатление от книги таково: в 1919 году диктатура существовала только юридически; фактически ее и в помине не было. Таким образом, надо считать совершенно недоказанным, что «генеральские диктатуры» не могут привести к победе. Фактически и на территории Деникина и у Колчака твердой власти в силу ряда причин не было.
Соколов, как человек вполне штатский, делает, конечно, вполне правильно, совершенно не касаясь военных операций. Точно так же он ничего не говорит о самом главном – об организации армии. Но я глубоко уверен в том, что корень зла был именно в совершенно неправильном решении военно-организационных вопросов. Хотя в Крыму дело было поставлено гораздо лучше, чем во времена Деникина, но все-таки и в 1920 г. было много вещей, совершенно непонятных. Только что школьные офицеры вспоминали историю укрепления «Сивашско-Перекопского укр. района». Работали там артиллеристы с большим боевым, административным и всяким иным опытом, но Боже мой, что они наделали. Шестидюймовая батарея у Тюп-Джанкоя была поставлена так, что наименьший прицел мешал стрелять по мосту. На некоторых батареях халатность офицеров доходила до того, что замки орудий совершенно ржавели. Даже десятидюймовая батарея вовсе не имела телефонного провода. Конечно, это отчасти вина высших инстанций, но, очевидно, и командиры относились к делу по-чиновничьи[172].
Нелепая, может быть, мысль, но мне вспоминается покойный юнкер Сидоренко, и я уверен в том, что, командуй батареей этот двадцатилетний юноша, а не перекопские чиновники, затворы у него бы не ржавели. Конечно, много можно было бы найти настоящих, опытных командиров из числа молодых кадровых офицеров, но во всем какой-то рок висит над белым делом. По-моему, самое главное – никогда не забывать, что сейчас не обыкновенная служба, а революционная борьба справа. Обеспечить стариков и бездарностей пенсиями, дать им все что угодно, но борьбу пусть ведут те, которые хотят и могут вести ее.
26 августа. События развертываются быстро и неожиданно. Т. принес только что из штакора очень важную новость. Завтра приходит за кавалерией «Керасунд», а 29 – «Решид-паша», который перевезет в Болгарию 3500 человек. Комкор только что получил об этом официальное извещение от Томассена. Таким образом, дело с отправкой в Болгарию получило неожиданно быстрый и благоприятный оборот. Настроение сразу поднялось. Во все стороны носятся по городу офицеры, тщетно пытаясь узнать, кто же, собственно, поедет. На сеансе «У.Г.» был Кутепов, специально прибывший послушать полковника У., но почтенный наш полковник наговорил такого мистического вздора, перемешанного с выпадами против интеллигенции, что мне просто неудобно за репутацию нашей газеты. С новыми лекторами – одно наказание. Вот полковник Ген. штаба Сорокин, который сам выразил желание у нас читать, тот не подведет.
Вернувшись с «У.Г.», сидел на крылечке «серого дома» и обливался потом, так как вечер был на редкость жаркий. Кто-то со слов генерала Скоблина передал самую последнюю новость – в Болгарию едут дроздовцы, штадив, перевязочный отряд, 5-й и 6-й артиллерийские дивизионы[173].
У меня что-то дрогнуло в груди, когда я вдруг узнал, что отъезд так близок. Говорят, преступнику становится в конце концов мила тюрьма, в которой он сидит. Галлиполи все же не было нашей тюрьмой, и вдруг оно показалось бесконечно дорогим. Точно частичку своей души оставляешь здесь. Много я все-таки передумал и много переволновался с тех пор, как «Херсон» бросил якорь перед неведомым нам городком. И без прикрас, смотрю я в глубь своих переживаний, я чувствую, что по крайней мере семь месяцев из девяти интересы армии были моими единственными интересами. Пусть меня ругают, но я был последователен до конца. Первых два месяца колебался и никому не навязывал своего мнения, а потом делал, что мог, для сохранения армии. Жаль, что по присущей мне медлительности очень мало (кроме дневника) написал и почти ничего не нарисовал. Прямо больно, что вовремя не купил фотографий лагеря. В Болгарии будет трудно их достать. Дроздовцы, 5-й и 6-й дивизионы торжествуют. Все офицеры, состоящие в школе, откомандировываются и едут со своими частями. Уверяют, что генерал меня не отпустит, но я своего добьюсь. Помимо личных интересов надо будет налаживать информационное дело в Болгарии.
Шевляков остается здесь. Надо будет поговорить с ним и заранее получить хоть какие-нибудь полномочия от Земсоюза. Думаю, что в Болгарии будет много работы. Мы не привыкли к европейской политической жизни, и совершенно новые условия вызовут, по-моему, большое смятение в умах не только солдат, но и части офицеров.
27 августа. Назойливо сверлит мозг все одна и та же мысль – последний раз, последний раз… Последний раз выкупался в теплом, как парное молоко, сегодня то изумрудном, то голубом море. Последний раз пойду посмотреть, как гуляют у маяка греки, турки и русские (пр. № 13). И грустно, грустно становится на душе. Совсем как в те далекие уже времена, когда я был гимназистом и так не хотелось уезжать с дачи на Днестре.
Что впереди для армии – новые, славные дела и распад?
У массы – буйная радость. Среди сознательного меньшинства есть и оптимисты и пессимисты. Некоторые из них считают, что армия неизбежно распадется, благодаря возможности для каждого найти себе заработок. Я держусь среднего мнения. Произойдет некоторый дальнейший отбор; тем дело и кончится.
28 августа. «Керасунд» прибыл вчера утром. У кавалерии все уже было подготовлено, и немедленно началась погрузка тяжелых вещей (в том числе ящиков с пулеметами). Сегодня часов в 11 ходил посмотреть, как грузится 2-я бригада. На пристани страшная пыль. Фелюги возят эскадрон за эскадроном. Оживленная, радостная и довольно нарядная толпа. Масса дам, едущих и провожающих. Некоторые полки[174] одеты совсем хорошо. Обмундирование старенькое, но яркое, цветные фуражки, пояса, аккуратно пригнанное снаряжение очень красят общий вид.
В толпе, на пристани, немало наших славных босоногих гимназистов в белых шляпах и коротких панталонах. Пришли проводить своих боевых товарищей. Командир конной батареи крепко целует одного из своих молодых воинов.
– Ну, Бобочка, вы исполнили свой долг… Учитесь теперь… все равно, в какой школе – в русской, в болгарской, но учитесь.
Мальчик грустно смотрит и, видимо, еле сдерживает слезы. Я смотрю на это прощание, и почему-то сразу легче становится на душе. А сомнений много, так же много, как и надежд. Смотрю на погрузку и опять думаю, что это – начало новой жизни для армии или начало ее неизбежного конца. Теперь опять ставка на героическую волю сознательного меньшинства. Откровенно говоря, здесь, в Галлиполи, наряду со всеми неблагоприятными условиями было одно такое, которое очень способствовало сохранению армии. Кто умел думать, тот понимал, что и чисто эгоистические интересы говорили за то, чтобы никуда не уходить. По крайней мере, так должны были думать люди, привыкшие катиться по раз проложенным рельсам и не слишком склонные к авантюре. Теперь на Балканах легко может случиться так, что личные, эгоистические интересы будут диктовать уход. Что победит? Я, как и прежде, верю, что наши добровольческие части не умрут, а только, может быть, еще сократятся в своем составе[175].
Но договор с Болгарией вызывает большие сомнения (пр. 14). Больше всего не нравится офицерам отчисление 50 % заработной платы в особый казенный фонд[176]. По существу, мера правильная.
Мы – революционеры справа, и эти деньги должны быть нашим запасным капиталом. Лично я, по крайней мере, именно так понимаю дело, но у большинства офицеров, с которыми я говорил, уже здесь существует глубокое недоверие к хозяйственным частям. Я думаю об одном – сумеет ли наше начальство овладеть положением по переезде в Болгарию? Как сложатся там обстоятельства? Никто этого пока не знает.
Чувствую, что в политическом отношении будет много работы, и думаю, что придется и мне ею заняться.
500 человек офицеров едет в Сербию в качестве жандармов. Имеют право записываться на эту отправку только произведенные после 1 марта 1917 года.
Общее впечатление от отъезжающих – записались малоинтеллигентные и неважные в строевом отношении офицеры. Артиллеристов среди них очень мало. Из нашей батареи едут М., К. и Ка.
Последний раз был в лагере. Он совершенно неузнаваем. Правый берег Эгос-Патамоса[177] почти пуст. На выжженных солнцем склонах виднеются только палатки 2-го Конного полка и несколько палаток четвертого.
Все остальное пусто. Наш Дроздовский лагерь похож на разоренный муравейник. Почти все палатки сняты, и странно видеть ряды коек, столики и «купе». Все это кажется таким маленьким и смешным на открытом воздухе. В наших палатках настроение бурно приподнятое. Солдатский барак уже снят, и наши добровольцы с блаженными физиономиями пьют чай. Настроение у них радостное, но до последней степени нервное. Высчитывают каждый час, остающийся до отхода парохода, несмотря на то, что в общем терпеливо ждали девять месяцев. Последний раз выступил на «У.Г.». Было очень мало народа, так как все заняты отъездом. Я говорил о неизбежности диктатуры в общем[178], пользуясь книгой Соколова «Правление генерала Деникина». Пришлось обходить много подводных камней[179], но в последний раз поднимаюсь по холму, при спуске с которого исчезает из глаз «долина роз и смерти» [180]. В последнюю минуту генерал Ч., разводя руками, сказал, что на «Решиде» мы не поедем. У меня сразу упало настроение. Не хотелось оставаться и видеть общее разочарование. Я поскорее пошел в гору. Получил сегодня лиру 20 пара за сегодняшнее и завтрашнее выступление. Выпил с горя бутылку вина и вернулся в общежитие, пошатываясь. Я давно ничего не пил, и, кроме того, организм порядком ослабел. Вот, наверное, почему местное вино так сильно действует. До сих пор не покупал его – думал, что такая дешевка (2 драхмы литр) не может быть хорошей. Оказалось, чудное десертное вино; один цвет чего стоит – прямо янтарь.
29 августа. Проснувшись утром, увидел на рейде «Решид-пашу» и поодаль от него «410» с казаками, которых перевозят с Лемноса. Площадь завалена имуществом дроздовцев. Наш дивизион едет (пр. 13). Внезапный приезд Карташева. Летучее совещание в Земском союзе. Последний раз выступаю на «У.Г.» («Правление генерала Деникина»). Пессимизм Карташева[181].
Привожу свой разговор с С.М.Шевляковым о приезде Карташева по записи, сделанной в июле 1923 года.
(Шевл.) – Я просил Карташева выступить у нас на «У.Г.», но по текущим вопросам он говорить не согласился. Профессор настроен очень пессимистически. Считает, что советская власть падет не раньше, чем через полтора-два года. Говорить об этом на публике, сами понимаете, нельзя, а в то же время Карташев слишком крупный общественный деятель, чтобы говорить то, чего нет.
(Я) – Интересно, как они все-таки представляли себе там, в Париже, наш корпус. Обыкновенно ведь в газетах не пишется того, что говорят между своими…
Карташев поражен. Говорит, был почти уверен в том, что найдет толпу голодных беженцев, а не армию. Они (Национальный комитет) отстаивали идею вооруженной борьбы, но по-настоящему никто не верил, чтобы в Галлиполи могли сохраниться боеспособные войска. Карташев буквально потрясен тем, что увидел.
Вечер. Прощание с сотрудниками «У.Г.». Маленькое пьянство. Радость наших добровольцев – прежде всего радость исстрадавшихся от голода людей.
30 августа. Спал отчаянно. Все уложено, и лежу поэтому на чужой шинели. Клопы среди ночи выгнали на двор. Серенький день. Впервые за последних три месяца надеваю белье. Прощаюсь. Ухожу. Прощай, надоевшая школа. Прощай, милое теперь, голубое Галлиполи.
Иду сейчас на пристань. Жаль, что не удастся послушать Карташева – он сегодня говорит на «У.Г.».
«Флаг поднят, ярмарка открыта, народом площадь вся покрыта…» – такое впечатление создается от набережной. Яркими малиновыми пятнами мелькают дроздовские фуражки. Однообразно гудит мельница. Пронзительно рявкают автомобили, осторожно пробирающиеся в толпе. Дружно и весело работают офицеры и солдаты. Вагонетки целыми поездами с визгом катятся к дамбе, где идет перегрузка на фелюги. Громадный «Решид-паша» не может подойти к берегу. С песнями проходят инженерные юнкера. Загорелая, бодрая публика; винтовки выровнены, как по ниточке. Один за другим, точно больных, проносят пулеметы.
Грузятся дроздовские и алексеевские дамы. Фелюги быстро наполняются шляпками и косынками всех цветов спектра. Издали ярко и даже нарядно. Вблизи более чем скромно, но чисто и аккуратно. Ведь все эти изящные летние туалеты если не сшиты, то уже наверное выстираны собственными руками.
В автомобиле быстро проезжает командир корпуса с профессором Карташевым. Огромная толпа мгновенно вытягивается и замирает. Профессор придерживает рукой свою круглую соломенную шляпу. Издали многим кажется, что он отдает честь.
Музыка. Снова застывает все людское море. Сквозь расступающиеся группы ожидающих своей очереди артиллеристов малиновым потоком проходят дроздовцы. Знамена, офицерские роты… Словно лучший гвардейский полк мирного времени, идет учебная команда. Сегодня можно и нужно подводить итоги. 1700 человек после 9 месяцев сидения в Галлиполи.
Совершенно случайно встретился с В.Ф. Прожили в одном городе чуть не год, но я при встречах неизменно не узнавал ее. Поговорили, и стало грустно. Чувствуешь, что не только юность, но и молодость проходит. Из всей нашей веселой дроздовской компании только мы двое и остались в живых. Остальные все перебиты или перемерли от тифа. Ф. была замужем, но мужа через год расстреляли большевики.
Молебен. Ярко горит золото погон. Генералы поздравляют нас, отъезжающих, точно именинников. Вместе с Кутеповым рядом с начальником штаба появляется Карташев. К нему приковано общее внимание. Из-за ветра не слышу речей. Кроме обычного «ура» за Россию и за Главнокомандующего, генерал Кутепов провозглашает «ура» за «тех, которые так же крепко, как и мы, любят свою родину». Подробностей приветствия не слышно, но «ура» за русскую общественность звучит дружно и долго не смолкает.
От В.И. узнал, что Карташев, как и все, ожидал встретить голодную толпу. Профессор в восторге. Кутепов, как всегда в последнее время, прекрасно умеет найти правильный тон. Сегодня в 18–30 ч. назначает парад военных училищ специально для парижского гостя.
15 часов. Проводим последние минуты на галлиполийской земле. Сейчас кончают грузиться алексеевцы. За ними наша очередь.
«Виноград, виноград…» – пронзительно кричат мальчишки. «Инжир, инжир…» – кричали они в первые дни нашего пребывания в Галлиполи. Тогда французы часто были грубы и заносчивы. Сейчас нет даже обычного сенегальского караула у дамбы. Один толстый лейтенант Буше, неизменный участник всех погрузок, считает проходящих по дамбе рядами офицеров и солдат. «Решид» облеплен фелюгами. Погрузка людей идет очень быстро и аккуратно. Алексеевцы грузились 45 минут.
Чувствую, что у меня сейчас, как и при отъезде из Севастополя, мысли разбрасываются на мелочи. А между тем в нашей жизни как-никак открывается новая глава.
Конечно, наша армия уступает любой армии мирного времени, но наша армия – выстраданная нами, а не существующая по инерции сотни лет организация.
На «Решид-паше»
30 августа. 19 часов. Пишу уже в битком набитом трюме «Решид-паши». Тесно так же, как было на «Херсоне». Пехотинцы, впрочем, расположились гораздо свободнее артиллеристов. Мешает писать дым от затопленных на палубе походных кухонь. Перед самой погрузкой генерал Ползиков послал меня в театр послушать доклад Карташева «Моральное оправдание вооруженной борьбы с большевизмом», который он читал на «У.Г.». Я думал, что Карташев внешне говорит красивее. Зато содержание его речи настолько интересно и умно, что публика слушала, боясь пропустить слово. Послушал, сидя за кулисами, минут 10, расцеловался еще раз с С.М. Шевляковым и помчался на пароход с отрадным чувством. Газета наша, на которую сначала многие косились и, во всяком случае, считали ее несерьезным предприятием, постепенно стала настоящей политической кафедрой корпуса[182].
Опять из-за тесноты и духоты офицеры нервничают и злятся.
Характерная подробность – на «Херсоне» ни один из генералов не посмотрел, как разместились части. На «Решиде» не только начальник дивизии обошел все трюмы, но и генерал Кутепов приехал с берега проститься и обошел весь пароход.
После большой сутолоки наконец разместились. У меня оригинальное ощущение – точно мы снова попали на «Херсон» и все начинается сначала. Долго ли еще будут продолжаться наши странствия? Карташев настроен пессимистически: он считает, что советская власть падет еще через полтора-два года.
31 августа. Ночью весь пароход был завален скрюченными телами. В нашем трюме и сейчас приходится балансировать, чтобы не отдавить руки или ноги. Опять можно повторить – совсем как на «Херсоне». Только не стонали во сне раненые и нет бредящих больных.
Мы снялись вчера поздно ночью и совершенно неожиданно повернули в сторону Эгейского моря. Оказывается, должны были взять в Чанак-Калесси[183] какую-то французскую команду. Из-за нее громадный транспорт потянули за 40 километров. Вообще, французы не особенно любезны. Дам сначала было поместили в общие трюмы и только после переговоров отвели им отдельное помещение, а старшим штаб-офицерам предоставили спардек. Генералам, правда, даны отдельные каюты, очень комфортабельные и чистенькие.
Для теперешнего состояния умов характерны разговоры наших вольноопределяющихся. Возмущаются французами – почему, мол, не предоставили кают-компанию хотя бы только штаб-офицерам? Другая группа очень сочувственно говорит о статье Даватца, разделывающей «галлиполийца» [184]. Один из добровольцев заявляет: «Не будь в Галлиполи Кутепова, б… был бы полный».
С утра стоим против городка Чанак-Калесси. Красивый и не тронутый войной город; есть очень приличные дома. Напротив, на европейской стороне, еще более интересный Майдос со старинной, хорошо сохранившейся крепостью-цитаделью. Видна целая роща кипарисов, вероятно, кладбище. На западе виднеется уже простор Эгейского моря.
В трюме душно и жарко, несмотря на открытые люки. С нетерпением ждем Константинополя и приезда генерала Врангеля. Воображаю, какая будет на «Решиде» овация. Пустят ли только французы Главнокомандующего на пароход?
Можно написать много страниц на тему «Размышления на дне трюма». Во-первых, как в шутку заметил капитан К., мы своим примером неопровержимо доказали, что можно жить и ничего не делать (с точки зрения наших врагов, конечно). Надо только собраться большой компанией и крепко держаться за оружие. Будут понемногу кормить, поить и одевать и даже возить по разным государствам. Правда, при этом получается не жизнь, а «жестянка».
Сейчас сидим, точно на дне мелкого колодца. Весь Дроздовский артиллерийский дивизион занимает один небольшой трюм. Для 500 человек слишком мало места, но, с другой стороны, приятно, что за 9 месяцев, проведенных в Галлиполи, дивизион сократился всего на 30 % (на «Херсоне» прибыло приблизительно 700 человек, да человек 50 вернулось из лазаретов). Трюм совершенно не приспособлен для пассажиров; лежим вповалку на полу. Но почему-то мне припоминаются ярусы лож Мариинского театра, когда я смотрю снизу на борты выше нас расположенных трюмов, за которыми уселись офицеры и солдаты.
Пароход слегка дрожит. По светло-зеленому потолку бегут отражения волн. Хочется в последний раз взглянуть на Галлиполи и «долину роз и смерти». Почти совершенно тихо. Быстроходный «Решид-паша» бесшумно режет голубую воду. Левый борт до того переполнен, что почти невозможно передвигаться. Вблизи от Майдоса горы и в особенности долинки были очень живописны, масса садов и виноградников, но чем ближе к Галлиполи, тем пустыннее становится местность. Проплыла мимо нас ближайшая к лагерю деревня Галата с большой греческой церковью, и за поворотом открылась наша долина. Все принялись искать знакомые места. Вот виднеются палатки 5-го и 6-го артиллерийских дивизионов, наши «учебники» [185] узнают свою группу бараков и единственную точку наводки – отдельное дерево. Узнаю хуторок, где жил генерал Барбович, и штаб лагерного сбора. Дальше начинаются голые холмы между городом и лагерем, которые мы столько раз мерили своими ногами. Это самое пустынное место на всем восточном побережье полуострова. Узнаю обгорелые пятна на побуревших от зноя холмах, где мы с Шевляковым, по установившемуся обычаю, поджигали траву, когда ходили в лагерь на «У.Г.».
Вот и город. Трогательно прощаемся со ставшим почти родным Галлиполи. «Решид» берет самый тихий ход и подходит совсем близко к берегу. На спардеке Алексеевский и Дроздовский оркестры попеременно играют марш.
Быстро нахожу в последний раз те места, где столько месяцев приходилось бывать каждый день. С холма, где «серый дом» Артшколы, машут платками. Видно, как высыпают из палаток юнкера и выстраиваются на берегу. Греки и турки тоже нас приветствуют. Во дворе штакора кто-то машет русским флагом. Около него в бинокль узнаем генерала Кутепова. Он машет нам фуражкой. С парохода несутся перекаты «ура». Теперь уже во всем городе открыты окна и везде мелькают платки и простыни. С французского миноносца нашему пароходу подают какие-то сигналы. Должно быть, «уходите, уходите». «Решид» поворачивает и сразу развивает полный ход. Еще громче «ура». На фоне багрового заката в последний раз рисуются колокольня французской церкви и черные пинии кладбища. Дальше и дальше уходим от берега.
Прощай, Галлиполи! Растроганные, расходимся по трюмам.
Вечером мы уже ложились спать, когда верхний трюм вдруг осветился ослепительно ярким светом. Очевидцы уверяют, что даже со спардека получилось впечатление пожара, охватившего весь нос. У меня появилось то же противное чувство, что и десять месяцев тому назад под Ново-Алексеевской, когда нас настигала красная конница.
Начались крики «пожар». Сверху какой-то дроздовец-пехотинец, окончательно потеряв голову, бросил к нам в трюм причину всей паники – горящую и скачущую палку пушечного пороха. Сначала бросились врассыпную, давя друг друга, но быстро пришли в себя и несколько человек забросало порох шинелями. Прибежавшие матросы принялись открывать люки угольных ям над нашим трюмом. Боялись, чтобы не взорвался погруженный туда бензин. Постепенно, но очень медленно все успокоилось. На всякий случай на палубе потушили походные кухни и до утра запрещено курить[186].
1 сентября[187]. Ночь провел отвратительно. Отвык уже от тесноты и пыли.
Зато сейчас опять любуюсь Константинополем. Стоим на рейде против Айя-Софии. Опять перед нами лес минаретов, дворец султана, кипарисы, казармы, многоэтажные дома… Погода великолепная. Ярко светит солнце. Среди голубого моря виднеются темно-зеленые силуэты Принцевых островов. Настроение радостное. Все веселы и довольны. На левом борту, окруженный толпой офицеров и солдат, старик генерал В.К.Манштейн рассказывает, как он бывал в Константинополе 44 года тому назад, когда армия стояла в Сан-Стефано. Дам кругом нет, и «дедушка Манштейн» говорит подробно и обо всем. Слушателям становится еще веселее.
С нетерпением ждем встречи с Главнокомандующим. Наконец подняли якоря и идем дальше. Перед нами вся союзная эскадра. Конца нет плавучим крепостям. Эти серые громадины так стройны, что кажутся меньше, чем они есть на самом деле. Много старых знакомых по Черному морю…
Здесь же неуклюжий старик «Георгий Аверов». Ну вот, наконец-то. Поодаль, ближе к берегу, крохотный «Лукулл». На «Решиде» торжественная, взволнованная тишина. Дроздовская учебная команда выстраивается на борту. От яхты к нам бежит моторный катер под Андреевским флагом. На носу знакомая громадная фигура. Генерал Врангель стоит во весь рост. Он в форме Корниловского полка. Катер подходит к корме. Сквозь шум ветра слышим: «Здравствуйте, орлы…» Ответ оглушительный, и затем начинается такое «ура», что, наверное, оно слышно и в Европе, и в Азии. Ветер мешает нашей встрече с Главнокомандующим. С носа плохо слышно, что он говорит, но все его видят, и этого довольно. Опять «ура». Катер под Андреевским флагом отчаливает от «Решид-паши» [188]. Пароход трогается. С палубы «Лукулла» нам машут платками.
Идем по Босфору. Мне чудится, что кто-то развертывает ленту кинематографа в обратном порядке. Было Галлиполи, Мраморное море, Принцевы острова, сейчас виллы и пинии Босфора, потом будет Черное море, и через два дня на горизонте покажется полоска Крымского берега, собор на развалинах Херсонеса Таврического, потом белые колонны Графской пристани, и мы дома…
Ослепительно блестит вода Босфора. На спардеке Дроздовский оркестр играет Преображенский марш:
Знают турки нас и шведы, И о нас гремит весь свет, На сраженья, на победы…С обоих берегов пролива нам машут платками. Должно быть, русские… Боже мой, сколько их! На палубах пароходов, в окнах домов и отелей… на набережных собираются целые толпы, и чем дальше идет «Решид», тем они больше. Мы не ожидали, что нас так встретят. Местами точно снег идет, столько мелькает белых платков. Вот какой-то большой лазарет. Чтобы было виднее, сестры машут нам из окон простынями.
Я стою на носу в толпе солдат Дроздовской учебной команды. Поминутно раскрываю тетрадку.
– Записываете, господин капитан? Будете книжку писать?
– Может быть, когда-нибудь после.
– Обязательно напишите, а то брешут о нас здорово…
– А красиво, господин капитан…
Да, красиво так, что берега Босфора, наверное, у нас всех до конца жизни останутся в памяти. Вот мы и у выхода в Черное море. Опять короткая остановка. Если я спокойно лежу и не думаю о качке, она на меня не действует. Спускаюсь в трюм. Все равно смотреть больше не на что. Взял у поручика С. «Евгения Онегина», подложил под голову свернутую шинель и буду читать путешествие Лариных в Москву.
Приказы и документы
1. Приказ
Главнокомандующего Русской армией
8/21 ноября 1920 г. № 4185
Ввиду сосредоточия в войсковых лагерях чинов частей и штабов и их семей[189] и вследствие выделения прочих лиц в особые районы, предназначенные для беженцев, считать на беженском положении нижеследующих лиц: 1. Генералов и адмиралов, не пожелавших остаться на службе или пожелавших, но не получивших назначений. 3. [190] Всех штаб- и обер-офицеров старше 43 лет, не пожелавших остаться в составе русской армии. 4.Всех штаб- и обер-офицеров и солдат, имеющих свидетельство о непригодности к службе (4 кат.). 5. Всех офицеров независимо от чинов, имеющих специальное высшее военное и морское образование (Генштаба, инж., арт., юрид. и инж.), не получивших по специальности штатных назначений и не желающих остаться на должностях рядовых. 6.Всех, имеющих категорию 3 по болезни и ранению.
П.п.
Генерал Врангель.
2. Приказ
Главнокомандующего Русской армией
7 декабря[191] 1920 года № 3762/4186
В развитие пункта 2 приказа моего от 21 ноября с.г. за № 4185 приказываю: считать на беженском положении всех штаб-офицеров, не получивших назначения в строевые части и Штабы[192], хотя бы не на штатные штаб-офицерские должности.
П.п.
Генерал Врангель.
3. Приказ (выписка)
Дроздовскому Стрелковому
Артиллерийскому Дивизиону
22[193] ноября 1920 г. № 2 Лагерь Галлиполи
§ 2
Приказываю каждой батарее сделать расчет личного состава на 4 взвода, причем все офицеры (кроме командного состава) должны быть распределены между взводами поровну.
§ 3
Занятия производить отдельно с офицерами и солдатами, обращая внимание прежде всего на одиночную выправку и отдание чести.
П.п.
Генерал-майор Ползиков.
4. Приказ
Главнокомандующего Русской армией
1[194] декабря 1920 г. № 3776
По устройстве на новых местах главной заботой начальников всех степеней должно быть создание прочного внутреннего порядка в вверенных им частях. Дисциплина в армии и во флоте должна быть поставлена на ту высоту, которая требуется воинскими уставами, и залогом поддержания ее на этой высоте должно быть быстрое и правильное отправление правосудия. Покинув Крым и устроившись временно на новых местах, Русская армия и флот при отправлении правосудия должны руководствоваться теми же законами, которые применялись на территории Крыма со всеми изменениями и дополнениями их по день эвакуации.
Из учреждений военно-судебного ведомства приказываю сохранить три корпусных суда: первый для 1-го корпуса, расположенного в Галлиполи, второй для Кубанского корпуса, расположенного на острове Лемносе, и третий – для Донского корпуса, расположенного в Чаталдже. Войсковые части и учреждения, расположенные вне указанных пунктов, подлежат ведению ближайшего корпусного суда. Для русской эскадры учреждается военно-морской суд. Кассационное производство по всем делам временно отменяется.
П.п.
Генерал Врангель.
5. Приказ (выписка)
Дроздовскому Стрелковому
Артиллерийскому Дивизиону
10 декабря 1920 г. № 7 Лагерь Галлиполи
§ 3
Почто-телеграмма: Генералам Кутепову и Фостикову. Главнокомандующий приказал принять меры, чтобы в ближайшее время закончить оборудование всех лагерей, после чего начать строевые и тактические занятия с войсками. Проекты плана занятий представить на утверждение Главнокомандующему. Генерал от кавалерии Шатилов № 0587.
§ 3
Так как заранее предвидеть и определить срок нашего возвращения в пределы России ныне еще невозможно, а условия настоящего нашего существования не для всех воинских чинов и их семейств могут быть приемлемы по причинам физически слабого здоровья, приказываю:
1. Командирам батарей представить в Управление дивизиона в течение 21 и 22 сего декабря документы, удостоверяющие действительную причастность чинов батарей, по состоянию их здоровья, к 3 и 4 категориям и желающих перейти на положение беженцев и эвакуироваться из Галлиполийского лагеря.
2. Воинским чинам дивизиона, потерявшим свои удостоверения о причастности их к 3-й или 4-й категории, а равно не освидетельствовавшимся ранее на предмет причисления к этим категориям, предоставляю право подвергнуть себя при полковом околотке освидетельствованию и переосвидетельствованию.
3. Для этой цели при полковом околотке 22-го сего декабря учреждается медицинская комиссия. Командирам батарей представить сегодня же списки лиц, желающих пройти через эту комиссию.
4. Всем чинам дивизиона, кои получат право, согласно вышеизложенного, считать себя беженцами и быть эвакуированными из Галлиполи, будут заготовлены удостоверения, свидетельствующие об освобождении воинских чинов от военной службы по тем или иным статьям приказа Главнокомандующего.
5. Удостоверения эти будут выданы на руки по прибытии транспорта. В этот день все воинские чины, освидетельствовавшиеся на предмет получения 3 или 4 категории и эвакуации, как беженцы, и получившие одну из этих категорий, должны будут покинуть лагерь.
П.п.
Командир дивизиона
Генерал-майор Ползиков.
6. Приказ (выписка)
3-му Дроздовскому Стрелковому
Артиллерийскому Дивизиону
21 декабря 1920 г. № 18 Лагерь у Галлиполи
§ 2
19 декабря Главнокомандующий Русской Армией, генерал-лейтенант Врангель, посетил наши части, расположенные в Галлиполийском лагере.
Из слов, сказанных Главнокомандующим, и из его беседы со старшими войсковыми начальниками выяснилось:
1. Согласно полученного Главнокомандующим Русской Армией от Главного французского командования извещения, вывезенные из Крыма части, входившие в состав В.С.Ю.Р. [195], продолжают оставаться Русской армией.
Русская армия, возглавляемая генерал-лейтенантом Врангелем, сохраняет свою организацию – все ее части продолжают оставаться в ведении своих начальников.
2. Войсковые части, входящие в состав Русской Армии, могут быть использованы лишь для защиты интересов русского народа.
Для защиты интересов каких-либо иностранных государств русская армия использована не будет.
3. Время использования Русской армии для борьбы за интересы России или вообще возвращения ее на Родину будет зависеть от политической и стратегической обстановки, которая сложится в дальнейшем для нашей страны.
4. Части Русской армии находятся на иждивении французского правительства. Французы, помимо урегулирования вопроса о продовольствии, обещают снабдить нас обмундированием и обувью. Принципиально решен уже вопрос об удовлетворении нас денежным довольствием; проведение в жизнь этого вопроса ожидается в недалеком будущем. Кроме того, в распоряжении генерала Врангеля имеются и уже распределяются между частями вывезенные из Крыма различные предметы обмундирования и обувь.
7.
За десять дней перед этим (19 декабря) командующий французской эскадрой, адмирал де-Бон, сопровождавший генерала Врангеля при обходе войск, попросил Главнокомандующего сказать от его имени частям, что он «рад видеть русских орлов на французской земле». (Адмирал имел в виду орлов, выложенных на земле из камней перед знаменными палатками некоторых частей). По-видимому, некоторые солдаты поняли слова адмирала в том смысле, что Галлиполийский полуостров принадлежит Франции.
8. Телеграмма
Главнокомандующего 1 января 1921 г.
Славные соратники!
Еще один год русского лихолетья отошел в вечность. Позади – поруганная Родина, ряд дорогих могил, разбитые надежды. Впереди неизвестность… Но милостив и справедлив Господь. С мечом в руке и крестом в сердце шла наша армия за правое дело и выполнила свой долг до конца. Да сохранит ее Всевышний на славу будущей России. Да положит он в будущем году конец русскому лихолетью. С Новым годом, русские воины, с новым счастьем.
Генерал Врангель.
9. Приказ
Главнокомандующего Русской армией
5 января 1921 года № 9
Во время напряженной борьбы русской армии в Крыму, когда все личное должно отойти на второй план перед лицом общего громадного ответственного дела, я ограничил право судов чести назначать поединки в случаях ссор в офицерской среде. Ныне святая борьба за благо и счастье родины, воспитывавшая всех в духе патриотизма и являвшая пример высокой доблести и героизма, вынужденно приостановлена, и армия вследствие этого особенно нуждается в поддержании военной дисциплины и укрепления моральных основ ее, дабы достойно перенести выпавшие на ее долю тяжелые испытания и сохранить свою силу и боеспособность.
Поэтому, учитывая воспитательное значение поединков, укрепляющих в офицерах сознание о высоком достоинстве носимого ими звания и требованиях рыцарства и воинской чести, я отменяю ранее установленные ограничения и приказываю всем судам чести для генералов, штаб- и обер-офицеров прибегать к вышеупомянутой мере во всех тех случаях, когда, по их мнению, это представляется необходимым для восстановления поруганной чести и попранного достоинства.
Генерал Врангель.
10. Приказ
1 пехотной дивизии
10 января 1921 года № 6 Лагерь Галлиполи
Приказываю чинов, переходящих на положение беженцев, числить в частях на довольствии и обязанными службой с исполнением нарядов с прочими частями (? – чинами. – Н.Р.) до момента посадки обязательно на первый пароход, принимающий беженцев. Отсрочку отъезда допускаю только с особого разрешения командира части, в противном случае беженец подлежит исключению с довольствия, оставаясь на своем попечении. Перед отправкой у беженцев отбирать казенные одеяла и посуду.
Командирам частей лицам, переходящим в категорию беженцев, выдавать соответствующие удостоверения перед посадкой, заготовляя таковые заранее.
П.п.
Временно командующий дивизией
Генерал-майор Фок.
11. Приказ
Главнокомандующего Русской Армией
21 апреля 1921 г. № 163 Яхта Лукулл
С 24 марта по 4 апреля генерал от инфантерии Экк совместно с генерал-лейтенантами Щедриным и Лихачевым производили по моему приказанию инспекторские смотры частям и учреждениям 1-го армейского корпуса.
Отчет о производстве смотра прилагается[196].
Из отчета и личного доклада генерала Экка, многочисленных жалоб и из ранее бывших докладов усматриваю, что
I. Благодаря железной воле командира корпуса, генерала от инфантерии Кутепова, корпус, несмотря на исключительно тяжелые моральные и материальные условия представляет собою мощный воинский организм, которому и впредь не страшны никакие испытания.
II. Командным составом проявлено много забот по устройству лагеря, оборудованию помещений, улучшению пищи и хлебопечению; попечение о больных тоже стоит на должной высоте.
III. К сожалению, командный состав, упоенный своими боевыми подвигами, отдалился от своих младших братьев, им вверенных, упустив[197], масса нуждается в правильном воинском воспитании и обучении.
Все считают, достаточно наложений и взысканий, требований внутреннего исполнения службы, подчинения даже произволу, причем допускается недостойно грубое, недопустимое обращение с подчиненными, не исключая и офицеров.
Так, были случаи наложения на офицеров дисциплинарных взысканий, не предусмотренных уставом, как-то: постановка под ружье, строгий арест, лишение пайка, распространяя эту меру даже на семьи, назначение офицеров на уборку улиц в городе и подчинение офицеров во время работы солдатам. Все это категорически раз и навсегда воспрещаю.
Особенно много претензий в этом отношении заявлено на командный состав Корниловского ударного полка, на командира Сводно-Стрелкового генерала Дроздовского полка, генерал-майора Туркула, Алексеевского пехотного полка, генерал-майора Гравицкого, 5 Артиллерийского дивизиона, генерал-майора Эрдмана, беженского батальона, генерал-майора Кочкина, 2-й батареи 5 Арт. Див., полковника Бирилева и на отрешенного от должности начальника корниловского военного училища генерал-лейтенанта… [198]
Лишь во внимание к большим боевым заслугам генералов Скоблина, Туркула, Гравицкого, Эрдмана и Кочкина я ограничиваюсь для них выговором и вместе с сим предупреждаю, что в будущем при обнаружении указанных явлений[199] в отношении виновных допущено не будет. Полковника Бирилева отрешаю от должности… [200]
V. Приятно было узнать о почти полном отсутствии жалоб в Кавалерийской дивизии, что явно указывает не только на внешнюю, но и на большую внутреннюю сплоченность дивизии. Приношу свою сердечную благодарность генерал-лейтенанту Барбовичу и всему командному составу дивизии.
Не сомневаюсь в том, что доблестный корпус, быстро устранив все указанные недочеты и искоренив в дальнейшем общей, дружной и настойчивой работой те начала, которые могут быть использованы нашими врагами в своих интересах, приобретает еще большую внутреннюю спайку и передаст ее вместе со своей боевой славой будущей Российской армии.
П.п.
Генерал Врангель.
Скрепил
Начальник Штаба
генерал от инфантерии
Шатилов.
12.
Комполков Корниловского, Марковского,
Дроздовского, Алексеевского и
Комартбригады
По приказанию Начдива сообщаю для сведения телефонограмму коменданта гор. Галлиполи за № 2534: «Начальнику дивизии. Копия начальнику Лагерного сбора. Старший унтер-офицер 1 Кавполка Борис Коп приговором военно-полевого суда при вверенном мне Управлении, состоявшимся 12 сего мая, был приговорен к смертной казни через расстреляние за тайную агитацию среди воинских чинов, направленную к разложению армии, и за участие в деятельности Симферопольской Чрезвычайной комиссии. Приговор утвержден командиром корпуса и того же числа приведен в исполнение».
Подписал за Коменданта города его пом. полковник Ястремский.
14 мая 1921 г.
Верно: Старший адъютант
1-й артбригады подполковник Кириченко.
Командирам 1, 2 и 3 артдивизионов.
По приказанию Комарта препровождаю для сведения.
14 мая 1921 г. № 4315.
Старший адъютант бригады
подполковник Кириченко.
13.
Начальник Офицерской Артиллер. Школы
Дроздовск. дивиз. капитану Раевскому
27 августа 1921 г. № 2352. гор. Галлиполи
Ввиду предстоящего отъезда частей 1-й пех. дивизии в Болгарию предлагаю Вам с получением сего отправиться к месту вашего постоянного служения.
Об отбытии мне донести.
Генерал-майор Дынников.
Помощник адъютанта школы
по делам переменного состава,
Капитан (подпись неразборчива).
14. Выписка из договора о приеме русских войск в Болгарию.
Раздел I. Прием, распределение и размещение
А. Прием. Болгарское правительство изъявляет согласие на прием:
1. Не отдельных людей, но только вполне организованных частей, имеющих полную воинскую организацию, с командным составом по назначению главнокомандующего русской армией.
2. При обязательном условии, что части назначаются исключительно по выбору и указанию Главнокомандующего русской армией.
3. При ручательстве Главного командования русской армии, что части эти вполне дисциплинированны и что во время пребывания их на болгарской территории добропорядочность их поведения и полная внутренняя дисциплина будет поддерживаться русским командным составом, для чего сему последнему предоставляется право осуществлять необходимые дисциплинарные меры.
Б. Распределение.
4. Прибывающие части направляются на порты Бургас или Варну по указанию Штаба болгарской армии в зависимости (половина строчки стерта) означенных стоянок, по соглашению Начальника штаба болгарской армии с военным представителем Главнокомандующего русской армии в Болгарии.
5. В указанных портах распоряжением Штаба болгарской армии подготовляются приемно-питательные пункты для размещения и довольствия прибывающих частей впредь до отправления их по пунктам размещения. Вся распределительная часть возлагается в этих пунктах на особо назначаемых Штабом болгарской армии лиц. Для облегчения связи и сношения с прибывающими частями от русского военного представителя в этих пунктах назначаются на время пребывания частей особые уполномоченные.
6. Необходимые карантинно-дезинфекционные меры упрощаются до возможного минимума при засвидетельствовании судовым врачом санитарного благополучия в пути.
В. Размещение.
7. По выполнении всех формальностей приема в порту части по возможности без замедления, обеспечиваясь продовольствием по расчету на все время пути – плюс однодневный запас, направляются распоряжением Штаба болгарской армии в указанные им пункты стоянок, каковыми предположительно намечаются: а) Орхание, б) Лович, в) Севлиево, г) Никополь, д) Новая Загора, е) Тырново-Сеймен, ж) Казанлык, з) Тырново, и)…(стерто), й) Берковице, к) Ески-Джумая.
8. В указанных пунктах распоряжением Штаба болгарской армии назначаются особые приемщики-квартирьеры, офицеры, которые указывают командирам прибывающих русских частей предназначаемые для них помещения и сдают им таковые по заранее приготовленным описям с необходимым казарменным инвентарем.
9. Русские части размещаются в указанных казармах с уплотнением намеченной для мирного времени нормы не менее 25 %, например, Орхание мирного времени – 4 роты на 500 человек – размещается не менее 625 человек.
10. Для обеспечения немедленного довольствия частей по прибытии их на указанные места, там должно быть подготовлено распоряжением Штаба болгарской армии соответствующее количество хлеба и провианта, а равно обеспечена возможность приготовления горячей пищи и кипятку на прибывающих людей.
11. Русским частям предоставляется право пользоваться в пунктах их расположения банями на общих основаниях с чинами болгарской армии; очередь устанавливается начальником гарнизона.
Раздел 2. Довольствие.
12. До прибытия и размещения по пунктам стоянок, а равно и первые несколько дней по прибытии, части обеспечиваются, где это возможно, горячей пищей и кипятком распоряжением Штаба болгарской армии, а где невозможно, сразу становятся на собственное артельное довольствие.
13. Довольствие производится по обыкновенным кормовым окладам и по нормам продовольственного пайка, установленного для болгарских войск. Эти нормы пайка и размеры кормовых окладов сообщаются Штабом болгарской армии русскому военному представителю для объявления частям отряда и к руководству.
14. Довольствие части ведут собственным попечением, получая авансы в месячном размере и производя закупки провианта.
15. Ввиду возможности недостатка у прибывающих частей котлов, ведер, черпаков, вилок и других подобных принадлежностей для приготовления и раздачи пищи, Штаб болгарской армии в пределах возможности снабжает части названным имуществом во временное пользование, выдавая таковые по описям и по просьбам командиров частей.
16. Для выдачи людям на руки денег на личные расходы (табак, мойка белья, баня и проч. мелкие расходы) распоряжением Штаба болгарской армии отпускается ежемесячно, в начале каждого месяца, по письменным требованиям командиров частей о числе состоящих в части людей, аванс в размере 100 левов в месяц на каждого состоящего в списках части чина.
17. Вся денежная отчетность частей производится приказами по частям и контролируется на общих основаниях поверочными комиссиями и представителем Государственного русского контроля.
18. Все расчеты с болгарскими довольствующими учреждениями производятся по соглашению Штаба болгарской армии и русским военным представителем на основании письменных документов и приказов по частям.
19. Всякого рода могущие быть недоразумения по вопросу довольствия или пожелания, не изменяющие основных положений, разрешаются соглашением Начальника Штаба болгарской армии и военного представителя русской армии с дополнительным объявлением такового болгарским и русским чинам.
Раздел 3. Применение к работам
20. Русские части, принимаемые на территории Болгарии на содержание за счет русских средств согласно вышеуказанного основного договора о порядке оплаты расходов, могут быть привлекаемы Болгарским правительством, в порядке особых частных соглашений с военным представителем русской армии, на неопасные для жизни и здоровья людей правительственные работы, с оплатой труда по средней рыночной рабочей цене, выдачей одной половины заработной платы работающим и с зачислением другой половины заработной платы в основной фонд на содержание людей.
21. Болгарское правительство считает допустимым на указанных в § 20 основаниях, участие частей и отдельных команд на работах у населения в пределах районов стоянок частей, по обоюдному соглашению работодателя и командира части, с письменного разрешения русского военного представителя.
22. В случае общественных бедствий (пожара, обвала, наводнения) русские части на общегуманитарных началах принимают участие в оказании помощи населению по первому зову Болгарских военных властей безвозмездно.
Примечание: Русские части не могут принимать никакого участия во внутренних делах страны или в ее внешних недоразумениях, равно как не могут быть привлекаемы в таких случаях кем бы то ни было.
На выписке написано верно:
Причисленный к Генеральному штабу
подполковник Смирнов.
Верно:
Адъютант школы,
капитан (подпись неразборчива).
15. Краткая записка о деятельности Эмиграционного Совета за период времени от 12-го января по 2-е февраля 1921 года
Эмиграционный Совет в Константинополе, вызванный к жизни распоряжением Главнокомандующего, согласно желанию общественных организаций, начал функционировать с 12-го января 1921 года.
За истекшее время состоялось шесть заседаний Совета: 12-го, 21-го и 29-го января, 4-го, 11-го и 18-го февраля.
В состав Эмиграционного Совета вошли:
1. Председатель Совета С.Н. Ильин.
По назначению Главнокомандующ.
2. Заместитель его В.П. Никольский.
3. Е.Е. Стрельбицкий.
4. К.М. Ону.
5. Г.В. Глинка (Кр. Кр.).
От Центрального Объединен. Комитета
6. Кн. В.А. Оболенский (Союз. гор.).
7. С.Л. Флок (В.З.С.)
Позднее в состав Комитета Совета были приняты Кн. П.Б. Щербатов, Е.В. Рагозин, А.К. Витт и представитель казачьих организаций Скачков. Уехавший в Париж Кн. Оболенский был заменен Кн. П.Д. Долгоруким.
Уже в первом заседании были намечены ближайшие задачи деятельности Эмиграционного Совета:
1. Информация -
а) собирание сведений об условиях жизни эмигрантов во всех государствах, куда эмиграция возможна, о свойствах и климатических особенностях, предназначенных для эмигрантов местностей и т. п. и опубликование этих сведений между русскими беженцами;
б) учет желающих эмигрировать, подразделение их на группы, классификация и т. п.
2. Возбуждение ходатайств перед правительствами иностранных держав о принятии русских эмигрантов.
3. Финансовая поддержка эмигрирующих групп – выдача денежных пособий на проезд, обзаведение инвентарем и пр.
Для подготовки вопросов в заседании Эмиграционного Совета, для выработки плана эмиграции и для приведения в исполнение всех намеченных мер избрано бюро, в состав коего вошли: председатель бюро С.Н. Ильин, члены бюро: Г.В. Глинка, С.Л. Флок, Е.В. Рагозин и Кн. П.Б. Щербатов.
Для осмотра земельных участков и дачи заключения о степени пригодности этих участков для целей культурного сельского хозяйства, огородничества, садоводства и скотоводства избрана особая земельная комиссия под председательством Кн. П.Б. Щербатова.
В настоящее время эмиграционным советом собраны информационные брошюры о Канаде, Бразилии и Аргентине и сделаны сношения с правительствами некоторых других государств о доставлении таких же сведений.
(Сводная брошюра об условиях эмиграции в названные страны, жизни и работы в них спешно изготовляется и будет выпущена в свет на этих днях).
Налажена связь с общественными организациями Лондона и Парижа, преследующими цели эмиграции.
Эмиграционный совет, в полном согласии с мнением всех представителей Ц.О.К., относится отрицательно к переселению русских беженцев в заокеанские страны и предполагает направить всю свою деятельность к изысканию земельных участков в окрестностях Константинополя и в близлежащих к России славянских странах.
Причины такого отрицательного отношения к переселению за океан заключаются в следующем:
1. Почти все заокеанские страны принимают русских переселенцев лишь при условии подписания пятилетнего контракта и, таким образом, наиболее твердая часть русской интеллигенции, безусловно необходимая для строительства новой России, будет надолго, а может быть, и навсегда оторванной от Родины.
2. Имеются сведения, что заокеанские страны, открывающие двери русской эмиграции, крайне нуждаются в рабочих руках, и русские переселенцы, в большинстве случаев совершенно необеспеченные, попадут в положение «белых рабов» у крупных земельных собственников, как тому уже бывали неоднократные примеры.
3. Необходимо с особой осторожностью относиться к выбору мест в американских странах для заселения русскими колонистами, так как вполне вероятно, что правительства этих стран постараются воспользоваться вновь прибывающими для заселения и приведения в культурный вид тех земельных участков, которые до сего времени обходились местными жителями и признавались ими неудобными. Климатические условия сих мест могут оказаться гибельными для здоровья многих из русских переселенцев, в особенности для детей.
В настоящее время имеется реальное предложение земельных участков русским беженцам из Турции, Мексики и Бразилии.
Штат Сан-Паоло (Юго-Восточная часть Бразилии) через французское командование выразил согласие принять 10 000 русских беженцев, а в непродолжительном будущем еще 10 000 человек, обещая дать им земли, работу и необходимые авансы на переезд и обзаведение при непременном условии агрономической работы на земле.
Распоряжением французского командования в русских лагерях была открыта запись желающих воспользоваться указанным выше предложением. К настоящему времени число записавшихся достигло цифры 2000 чел.
Ввиду имевшихся в распоряжении Совета отрицательных сведений об условиях жизни переселенцев в штате Сан-Паоло (док. присутствовавшего в Совете англичанина Де-Берри, прожившего 15 лет в названном штате), Совет постановил прежде отправления первой партии записавшихся навести точные и определенные справки о географическом положении тех мест, которые предназначены колонистам, выяснить, будут ли даны им ссуды на приобретение инвентаря, переезд и пр. и какой будет порядок погашения их, каковы права и обязанности переселяющихся, через какой срок им будет разрешено возвращение в Россию и т. п., а затем предложить беженским организациям избрать небольшую партию «ходоков» (4–5 чел.), которых и командировать в сопровождении лица, хорошо знакомого с местными условиями, в штат Сан-Паоло для личного изучения на месте условий эмиграции и осмотра предлагаемых к заселению участков.
В окрестностях Константинополя имеются предложения различных земельных участков, площадью в общей сумме до 200 тыс. акров пригодных для земледелия, садоводства, огородничества, скотоводства и пр. Часть этих участков уже занята некоторыми инициативными группами русских беженцев, заарендовавших эти участки своими попечениями и на свой счет.
Эмиграционный Совет охотно идет навстречу подобным начинаниям и изыскивает средства оказать им материальную помощь.
Вопрос о средствах вообще есть один из самых больных в деятельности Эмиграционного Совета. Пока Совет ограничивается лишь обращением за помощью к Американскому Кр. Кр. В настоящее время председателем Совета возбужден вопрос в Париже о высылке оттуда 15 тыс. фунтов стерлингов. Кроме того, предположены некоторые ассигнования со стороны Ц.О.К.
Член Эмиграционного Совета
(подпись неразборчива).
16.
Младший офицер 2-й батареи
3-го Дроздовского Стрелкового
Артиллерийского Дивизиона
Капитан Раевский
31 мая 1921 г.
г. Галлиполи
Совету Высших Общеобразовательных Курсов
Доклад
В настоящее время в частях, управлениях и учреждениях 1-го Армейского корпуса находится весьма большое число бывших воспитанников среднеучебных заведений, которые не успели закончить своего образования. Громадное большинство из них поступило в армию добровольцами. Представляется в высшей степени важным, чтобы эта молодежь, как элемент идейно преданный нашему делу, и впредь оставалась в рядах армии. Между тем общая упадочность настроений сказывается и среди учащихся. За последние недели многие из них ушли в беженцы. Некоторые объяснили свой уход исключительно желанием продолжать прерванное образование. Можно с полной уверенностью утверждать, что лишь очень немногим из них удастся попасть в Константинополь в учебные заведения. Громадное большинство останется на улице и будет вынуждено тяжелым и непривычным трудом добывать себе кусок хлеба. Страстное желание учиться наблюдается и среди молодежи, оставшейся в частях, но желание это пока не находит себе выхода.
Очень большое число учащихся поступило в военные училища, но в настоящее время приток желающих стать офицерами сильно ослабел. Это не относится лишь к специальным училищам – Артиллерийскому и в особенности Инженерному, но для поступления в них требуется законченное среднее образование.
Учитывая все сказанное, а также то, несомненно вредное влияние, которое оказывает на психику состоящей в частях молодежи почти полное отсутствие умственной работы, полагал бы настоятельно необходимым ходатайствовать перед командиром корпуса о принятии следующих мер. Все вольноопределяющиеся с незаконченным средним образованием выделяются в особые команды.
Полагал бы желательным, чтобы это выделение было обязательным независимо от желания или нежелания самих вольноопределяющихся.
Все офицеры и вольноопределяющиеся, бывшие преподаватели средней школы, выделяются из своих частей и назначаются учителями в команде. Откомандирование является обязательным.
Офицеры и вольноопределяющиеся, откомандированные в команды, остаются в списках своих частей и в случае начала военных действий возвращаются в части, если со стороны Главного командования не последует на сей предмет особых распоряжений.
Начальники команд назначаются по усмотрению командира Корпуса. Эти лица должны обладать большим личным тактом и известным педагогическим опытом.
Курс команд определяется степенью подготовки учащихся и приблизительно будет соответствовать программе четырех старших классов гимназии. Представляется совершенно необходимым для успеха дела, чтобы центр тяжести обучения лежал в учебных предметах. Строевые занятия – в наименьшем размере, потребном для поддержания дисциплины и воинского вида учащихся.
Полагал бы желательным образовать одну команду и из чинов беженского батальона с той лишь разницей, что строевых занятий там, по крайней мере в первое время, вовсе не следовало бы производить.
Если проектируемые мероприятия увенчаются успехом и дело получит прочную постановку, команды переименовываются в военные Гимназии Русской Армии. С переездом нашим в Сербию в число воспитанников гимназий могут быть принимаемы все, желающие продолжать образование, числясь в рядах армии.
Крайняя ограниченность средств Главного Командования вряд ли позволит произвести ассигнование на содержание Гимназий.
Необходимо просить Всероссийский Земский Союз принять на себя расходы по учебной части. Американский Красный Крест, щедро снабжающий наших юнкеров бельем и организовавший для части из них дополнительное питание, вероятно, не откажется сделать то же для учеников команд.
Если командир корпуса найдет проектируемые меры принципиально приемлемыми, представлялось бы крайне желательным издать в самом ближайшем времени соответствующий приказ.
Примечания
1
Последний день белого Новороссийска (англ.).
(обратно)2
«Император Индии» (англ.). На этом английском линкоре генерал барон П.Н. Врангель прибыл 22 марта 1920 г. из Константинополя в Севастополь, чтобы принять командование Вооруженными силами Юга России (Примеч. авт.).
(обратно)3
Витковский Владимир Константинович (1885–1978) – генерал-майор, начальник Дроздовской дивизии. Организатор эвакуационной работы в Крыму в этот период. Автор воспоминаний «В борьбе за Россию» (1963). Скончался в Паоло-Альто вблизи Сан-Франциско, США.
(обратно)4
Слатин Илья Ильич (1845–1931) – известный русский дирижер, пианист, педагог.
(обратно)5
Убит незадолго до эвакуации из Крыма (Примеч. авт.).
(обратно)6
Жлоба Д.Б. (1887–1931) – командир первого конного корпуса и конной группы в боях против Русской армии генерала П.Н. Врангеля.
(обратно)7
Стационер (фр. Stationaire) – судно, постоянно находящееся на стоянке в иностранном порту.
(обратно)8
Правда ли, что вы скоро пойдете на Екатеринослав? (нем.)
(обратно)9
Добровольцы (нем.).
(обратно)10
Невозможно (нем.).
(обратно)11
Войдите (нем.)
(обратно)12
– Поздравляю, господин капитан! – Спасибо большое, а с чем все-таки? – Большая победа… Со мной папа прислал вам газету (нем.).
(обратно)13
– Вы спите без рубашки… Это очень практично – наши люди тоже спят так же (нем.).
(обратно)14
Кривошеин Александр Васильевич (1857–1921) – премьер-министр правительства в Крыму.
(обратно)15
Настоящее имя начальника Дроздовской дивизии – Туркул Антон Васильевич (1892–1957). В эмиграции в 1935 г. основал Русский национальный союз участников войны и возглавил его. Умер в Мюнхене, похоронен во Франции. Автор книги «Дроздовцы в огне» (1948).
(обратно)16
Разрыв шрапнели при ударе о землю. (Примеч. авт.).
(обратно)17
Вагон-ресторан (англ.).
(обратно)18
Солонина (англ.).
(обратно)19
Автор имеет в виду самоубийство начальника Марковской пехотной дивизии генерала А.Н. Третьякова (1877–1920). После неудачных боев в Заднепровье он был отрешен П.Н. Врангелем от должности и назначен комендантом крепости Керчь. Застрелился 14 октября, погребен в Севастополе.
(обратно)20
Из пленных, прикомандированных к батарее. (Примеч. авт.).
(обратно)21
Товарищ по Петроградскому университету, убитый в 1917 г. на Румынском фронте.
(обратно)22
Василий Каншин, ученик V класса Харьковской гимназии, внук композитора Римского-Корсакова. Смертельно ранен в бою под Фридрихсфельдом 8 августа 1920 г.
(обратно)23
Брат автора.
(обратно)24
Буденный переправился через Днепр, пользуясь туманной погодой, делавшей невозможной воздушную разведку. Этим и объясняется внезапность появления его армии в нашем тылу.
(обратно)25
По официальным данным, из Крыма эвакуировано 135 000 человек.
(обратно)26
По точно проверенным данным – в 8 ч. вечера 31 октября (ст. ст.).
(обратно)27
Николай Соколов – абитуриент Имп. Московского ком. училища, 18 лет. Убит в бою под Фридрихсфельдом 8 августа 1920 года.
(обратно)28
Автор должен сознаться, что в 1920 году он географию знал плохо. Лемнос очень сухой остров.
(обратно)29
За пресной водой.
(обратно)30
Фактически была сдана лишь часть оружия. В Галлиполи части привезли тысячи винтовок, сотни пулеметов и довольно значительное количество патронов.
(обратно)31
В действительности эскадра вела учебную стрельбу.
(обратно)32
В действительности – в полк.
(обратно)33
Фактически офицеры получали во время пребывания в Галлиполи две турецких лиры в месяц, солдаты – одну.
(обратно)34
Генерал-майор А.В.Туркул, начальник Дроздовской дивизии.
(обратно)35
В этот день генерал Кутепов отчислил генерала Писарева от командования корпусом.
(обратно)36
Войска приветствовали генерала Кутепова, прибывшего на корабль. Генерал Кутепов назначил генерала Туркула комендантом «Херсона».
(обратно)37
Ни мятежа, ни расстрела не было.
(обратно)38
Деревня на берегу Дона недалеко от Азова.
(обратно)39
Слух, совершенно ни на чем не основанный.
(обратно)40
Верно только в отношении трюма, в котором помещался автор.
(обратно)41
В дальнейшем все даты по новому стилю.
(обратно)42
Как известно, главнокомандующий оставался в Константинополе вплоть до переезда в Сербию.
(обратно)43
И в этом отношении я ошибся… Через несколько лет, будучи студентом Карлова университета, я во время каникул не раз обрабатывал чешские поля с большой пользой для здоровья.
(обратно)44
Здесь и далее пять точек означают, что текст неразборчив.
(обратно)45
Эта провокационная сплетня, дошедшая и до редакций левых газет, несомненно, была пущена советскими агентами. К сожалению, на первых порах многие ее повторяли и в Галлиполи.
(обратно)46
Фраза эта не соответствует действительности, но характерна для тогдашних настроений.
(обратно)47
47Неверно.
(обратно)48
В.Х. Даватц, вольноопределяющийся 6-го Бронепоездного дивизиона. Впоследствии был произведен в подпоручики.
(обратно)49
За несколько дней перед этим, когда я занимался французским языком с солдатами, в барак неожиданно вошел генерал Кутепов в сопровождении генерала Ползикова, который представил меня командиру корпуса. Генерал Кутепов сразу обратил внимание на состояние моих ботинок и приказал выдать мне при первой возможности новые.
(обратно)50
Неизвестно кем пущенная сплетня. Оркестр играл Преображенский марш. В одном из военных училищ, как мне передавали, юнкера запели было во время учения «Грянемте же ура, лихие юнкера, за родину, за веру, за Врангеля-царя», но офицер сейчас же их остановил.
(обратно)51
Подпоручик 4-й батареи Дроздовской арт. бригады, бывший студент.
(обратно)52
Супруга бывшего греческого премьер-министра, русская по происхождению. Сын госпожи Драгумис был во время Великой войны греческим посланником в Петрограде.
(обратно)53
Первый сеанс состоялся в этот самый день в помещении солдатской читальни.
(обратно)54
Лично мне казалось, что в случае переворота в России Армия может и должна вернуться и подчиниться любому несоциалистическому правительству. В случае же прихода к власти социалистов-революционеров (я считал, что остальные русские социалистические партии – кроме, конечно, большевиков – существуют больше на бумаге) с Керенским во главе нужно, как бы то ни было тяжело, остаться за границей и выждать их падения, чтобы не начинать нового кровопролития. Желая, как и все остальные, свержения большевиков во что бы то ни стало, я смотрел в то же время на временный переход власти к социалистам-революционерам, как на несчастье для России. Оно мне казалось «почти неизбежной», но исторически все же не абсолютно обязательной стадией ликвидации большевизма. Наоборот, один из участников совещания (очень правый по своим взглядам) высказался в том смысле, что эта стадия не почти, а абсолютно неизбежна. Он развивал, насколько помню, идею «симметричности кривой революции». Насколько я могу судить, мои взгляды на возможность возвращения совпадали с настроением очень и очень многих офицеров 1-го корпуса. Лишь единицы говорили, что немонархическому правительству они служить не могут и большинство не было «согласно на Керенского». Господствующая в данное время (1930 г.) в кругах военной эмиграции идея о необходимости, независимо от личных взглядов, активно поддержать любое (хотя бы и социалистическое) небольшевистское правительство, если не родилась, то во всяком случае окрепла значительно позднее.
(обратно)55
В дальнейшем стало чувствоваться, что первоначально образованная в лагере редакционная коллегия слишком громоздка для деловой работы. Кроме того, не все ее участники оказались подготовленными для организации информации и пропаганды. Так, например, в одной из пехотных бригад телефонограмма относительно «газеты» была понята в том смысле, что в лагере будет выходить печатный орган, и представителем от бригады был прислан офицер, бывший до войны наборщиком. Впоследствии лагерная и городская «У.Г.» соединились, и руководство ими перешло в руки небольшой коллегии, собиравшейся в городе. Фактически в лагере делом все время руководил полковник Ген. штаба С.Н. Ряснянский, в городе – поручик Технического полка С.М. Шевляков.
(обратно)56
Доброволец, ученик духовного училища, приехавший с автором в Армию осенью 1918 года.
(обратно)57
Инспектор артиллерийского корпуса.
(обратно)58
Так оно впоследствии и оказалось. История мытарств уехавших в Бразилию уже не раз была изложена в печати.
(обратно)59
По существу – разведку. Во время Гражданской войны укоренилось смешение этих двух понятий.
(обратно)60
О совещании в штабе Корпуса никому не было известно.
(обратно)61
Текст приказа № 323 см. «Русские в Галлиполи».
(обратно)62
Соответствующее место приказа гласит: «Если после произведенной записи будут находиться желающие ехать самовольно, то таковых распоряжением начальников частей предавать военно-полевому суду…»
(обратно)63
Во всем корпусе, согласно официальным данным, после издания приказа № 323 перечислилось в беженцы 10–28 %.
(обратно)64
С.М.Шевляков, поручик Технического полка. Организатор «городской Устной газеты» и бессменный ее редактор. Скончался в Болгарии от развившегося в Галлиполи туберкулеза. Полковник П.С. Савченко, военный юрист.
(обратно)65
Между городом Галлиполи и лагерем была построена «декавилька» (полевая железная дорога).
(обратно)66
Отец Миляновский.
(обратно)67
Уполномоченный Земского союза в Галлиполи.
(обратно)68
Текст см. «Русские в Галлиполи».
(обратно)69
Начальник французского гарнизона.
(обратно)70
Был расположен отдельно от воинского.
(обратно)71
Согласно официальным данным, за все время пребывания 1-го корпуса в Галлиполи в Советскую Россию уехало 3,67 %.
(обратно)72
День гибели взвода 2-й батареи 1-й Арт. бригады Южной армии.
(обратно)73
Центральный общественный комитет.
(обратно)74
Письмо из Галлиполи, помещенное в «Общем Деле».
(обратно)75
Вряд ли это так в действительности было. По крайней мере, следующие строки моей записи говорят об обратном.
(обратно)76
Н.З. Рыбинский, капитан Технического полка.
(обратно)77
Начальник штаба 1-го корпуса.
(обратно)78
Насколько мне известно, генерал Кутепов вызвал генерала Б. и сделал ему выговор. Обсуждение докладов и раньше не практиковавшееся, было официально запрещено.
(обратно)79
Майор Марсель де-Ровер был едва ли не единственным иностранным офицером Ген. штаба, побывавшим в Галлиполи (кроме, конечно, французов). Через полтора года после нашей беседы я восстановил ее почти полностью, воспользовавшись сохранившимся списком предложенных мною де-Роверу вопросов. Привожу часть этой записи, представляющей, мне кажется, известный интерес.
(обратно)80
Конечно, фразы о ген. Деникине я не повторил. Сотрудникам «У.Г.» вообще было запрещено касаться личности ген. Деникина.
(обратно)81
Благородство обязывает…
(обратно)82
Впоследствии генерал-майор А.В. Туркул подтвердил мне этот факт.
(обратно)83
Цифра сильно преувеличена. Об этом эпизоде см. у Деникина («Очерки русской смуты»).
(обратно)84
Я не проверил этих сведений.
(обратно)85
За недостатком времени статья не была написана. Пользуясь сохранившимся конспектом, я еще раз повторил свою речь в Праге на заседании памяти генерала Корнилова 13 апреля 1924 г.
(обратно)86
Первое время в Галлиполи некоторые офицеры (с солдатами я, естественно, на эту тему не говорил) высказывали, порой в очень резкой форме, сомнение в юридической и моральной обоснованности применения смертной казни на чужой территории. Однако имевший место в первые же дни по приезде в Галлиполи расстрел (без суда) солдата, убившего с целью грабежа греческого врача, недовольства в Корпусе, насколько знаю, не вызвал. Впоследствии, по мере перелома настроений и ухода всех считавших, что борьба окончена, в беженцы, принципиальные сомнения почти прекратились. Огромное большинство офицеров, юнкеров и солдат, добровольно оставшихся в Галлиполи, считало, что в крайних случаях (пр. № 12) смертная казнь в Армии необходима, независимо от того, находится ли она в России или за рубежом. Смертные приговоры (6 за все время пребывания в Галлиполи) встречались спокойно. Единственным исключением было дело полковника Щеглова. В этом случае внутреннее убеждение большинства чинов Корпуса разошлось с решением командира Корпуса, утвердившего формально вполне обоснованный приговор. Мотивы недовольства были, правда, самые разнообразные. Часть штаб-офицеров усмотрела в расстреле пожилого полковника «революционную меру», которая подорвет уважение к офицерам. Большинство считало, что старого человека не стоило расстреливать и можно было ограничиться высылкой в Константинополь. Наоборот, от простых солдат я слышал отзывы совершенно другого рода: «Правильно сделал генерал Кутепов. Если греть, так уже греть всех».
(обратно)87
Поручик П., вообще говоря, принадлежал к числу сочинителей «подлинных фактов» (такие тоже бывали). Поэтому я записал его рассказ, который, надо признаться, напоминает чувствительную кинодраму.
(обратно)88
Английские солдатские ботинки.
(обратно)89
Бюллетень, издававшийся штабом Корпуса. Он расклеивался вместе с газетами («Общее Дело», «Руль», «Новое Время») в городе и в лагере.
(обратно)90
У полковника Бредова оказался брюшной тиф.
(обратно)91
Начальник Офицерской артиллерийской школы, известный артиллерист-теоретик.
(обратно)92
Впоследствии выяснилось, что это было метеорологическое явление.
(обратно)93
Генерал-майор А.М.Шифнер-Маркевич, выдающийся офицер Генерального штаба, умерший в Галлиполи от сыпного типа.
(обратно)94
Это выражение не относится к Добровольческой армии и в такой, общей, форме вообще не соответствует действительности.
(обратно)95
Ни в Галлиполи, ни впоследствии в Болгарии присутствие на панихидах по государю ни для кого из воинских чинов не было обязательным.
(обратно)96
«Цветными» называли четыре основных дивизии добровольческой армии – Корниловскую, Марковскую, Дроздовскую и Алексеевскую.
(обратно)97
Долина, ведущая к Эрзеруму.
(обратно)98
Ложный слух.
(обратно)99
Ложный слух.
(обратно)100
Научно говоря, различные виды семейства саранчовых (Acrididae).
(обратно)101
В Донецком бассейне.
(обратно)102
В начале пребывания в Галлиполи.
(обратно)103
Состоявших в небольшом числе в частях 1-го корпуса.
(обратно)104
Впоследствии в Болгарии генерал Гравицкий «сменил вехи» и перешел к большевикам.
(обратно)105
В Северной Таврии.
(обратно)106
Солдаты-артиллеристы, обслуживающие орудие.
(обратно)107
Оптическое прицельное приспособление. В случае необходимости бросить орудие полагается его снять.
(обратно)108
А впоследствии у красных. Приказание генерала Май-Маевского было, несомненно, вызвано негодованием на расправу с женщиной. Изменником был лишь Макаров.
(обратно)109
Но затем оставили на свободе.
(обратно)110
Мнение отдельных и весьма немногих лиц. Единодушно отрицалась в галлиполийских спорах лишь возможность навсегда примириться с восточной границей Польши, установленной по Рижскому миру.
(обратно)111
«Социализм» в наших речах усматривали не только некоторые младшие начальники. Вот запись разговора с одним вольноопределяющимся учебной команды Артшколы, сделанная по памяти в 1922 году в Болгарии и впоследствии проверенная самим вольноопределяющимся: «Вы не обидитесь, господин капитан? У нас есть ужасно странная публика – вот вчера один из наших „учебников“ (солдат учебной команды. – Н.Р.), притом бывший студент, слушал, слушал „У.Г.“, а потом вдруг и объявил в казарме – ей-богу, господа, а они все-таки социалисты… Мы на него накинулись, а он все свое – социалисты да социалисты… Удивительная у человека голова».
(обратно)112
Это неприменимо к Крымскому периоду борьбы с большевиками.
(обратно)113
В период прикомандирования к Офицерской артиллерийской школе я имел дело преимущественно с ними.
(обратно)114
Генерал-майор М.Н.Ползиков, командир Дроздовской артиллерий-ской бригады. (По прибытии в Галлиполи бригада была сведена в дивизион.)
(обратно)115
Кадет И. был командирован в Галлиполийскую гимназию и впоследствии окончил ее в Болгарии. В данное время кончает Пражский политехникум.
(обратно)116
Участники первых походов – Корниловского, Дроздовского, 2-го Кубанского и Степного.
(обратно)117
Впоследствии в Софии смеялся, вспоминая о своем рапорте, и сам подпоручик Ц., и поныне (1930 год) состоящий в Русском Общевоинском союзе.
(обратно)118
Оно помещалось за городом, в старых бараках рядом с «Casene gallieni».
(обратно)119
Сергиевцы провожали своих гостей, бывших на детском празднике, устроенном юнкерами для гимназии и детского сада.
(обратно)120
В Галлиполи среди чинов 1-го корпуса (как и позднее – вплоть до безвременной кончины главнокомандующего) было чрезвычайно сильное убеждение, что такой крупный и волевой человек, как генерал Врангель, не может не сыграть выдающейся роли в грядущих событиях, какой бы оборот они ни приняли. Было бы, однако, ошибочным думать, что корпус видел в главнокомандующем будущего диктатора России. В бесконечных галлиполийских разговорах на политические темы мысль эта не раз высказывалась, но именно в такой очень гадательной форме, в которой она записана в дневнике. Офицеры-республиканцы видели в генерале Врангеле будущего верховного главнокомандующего или военного министра – организатора русской вооруженной силы в послебольшевистский период. Наконец, именно в Галлиполи, среди юнкерской молодежи и в солдатских палатках родилась, насколько я могу судить, впоследствии тревожившая крайних монархистов мысль о том, что генерал Врангель может стать русским Бонапартом. Аргументация была приблизительно такая. Наш народ темен, и царь поэтому необходим. Если опять Романовы, значит, возвращение старого, а на это Россия не согласится. Нужна новая династия, и пусть императором будет умный, талантливый и сильный человек – генерал Врангель. Такого рода разговоры приняли массовый характер непосредственно после памятного парада 19 декабря и велись не только среди юнкеров и интеллигентных солдат. Через несколько дней после парада я спросил простого солдата нашей батареи (крестьянина Воронежской губернии): «Послушайте, как же так – неделю тому назад вы бранили монархию, а теперь говорите о царе».
(обратно)121
Представителя Американского Красного Креста.
(обратно)122
Научное название этой болезни – лихорадка Папатачи (Papataci Fielber). Переносится мелким (2,25 мм) двукрылым насекомым Phlebotomus papatasii. Возбудитель неизвестен. Вероятно, он ультрамикроскопической величины, так как принадлежит к числу т. н. «фильтрующих вирусов» (проходит через поры тончайших фильтров). Болезнь неопасна, но сильно и надолго (недель на 6) ослабляет организм. С малярией она не имеет ничего общего.
(обратно)123
Так же думали некоторые из старших начальников, с которыми мне по этому поводу приходилось откровенно говорить. История «галлиполийского ариергарда» – отряда генерала Мартынова, пробывшего в полном порядке в Галлиполи не одну, а еще две зимы, доказывает полную ошибочность этого мнения.
(обратно)124
На случай движения корпуса походным порядком соответствующую укладку было приказано иметь всем офицерам, юнкерам и солдатам. Ввиду недостатка вещевых мешков, они были заменены особым образом приспособленными одеялами, которые имелись у всех чинов корпуса. Благодаря нашитым на них тесемкам, одеяла могли быть в течение нескольких минут превращены в довольно поместительные ранцы. Начальники всех степеней неоднократно проверяли в частях походную укладку.
(обратно)125
В действительности с госпожой М. был некорректен французский офицер; муж М. вызвал его на дуэль, но вызов не был принят. Документы, относящиеся к этому инциденту, опубликованы в книге «Русские в Галлиполи».
(обратно)126
Заведующий офицерами переменного состава Офицерской артиллерийской школы.
(обратно)127
Немногим больше килограмма.
(обратно)128
Технический термин, употребляемый при описании материальной части (орудий, пулеметов и т. д.), например, «утопить до отказа».
(обратно)129
Я имел в виду только русские массы в том состоянии, в котором они были во время революции и Гражданской войны.
(обратно)130
Мой непосредственный начальник и друг (молодой кадровый офицер), много со мной споривший в течение всей Гражданской войны относительно роли масс в нашей борьбе. Он, как и большинство офицеров добровольческой армии, искренне верил в наличие государственного разума у русской крестьянской массы, несмотря на ее темноту.
(обратно)131
Некоторые офицеры опасались, что сеансы «У.Г.» приведут к митингам.
(обратно)132
У меня были копии этих приказов. Они погибли вместе с остальными моими бумагами при отходе к Севастополю.
(обратно)133
В Польше.
(обратно)134
Однажды только была поставлена (в театре Дроздовского полка) оперетка «Запорожец за Дунаем».
(обратно)135
Все болезненные явления, которые я отметил в дневнике, характерны для лихорадки Папатачи.
(обратно)136
2-я песнь «Энеиды». Следует отметить, что по представлению римских поэтов Троя находилась не там, где впоследствии ее развалины были найдены Шлиманом, а на самом берегу Геллеспонта. Так, например, Овидий, описывая пожар Илиона, говорит, что он запирал пролив…
(обратно)137
Так прозвали в Галлиполи турок крестьян и особенно торговцев. «Кардаш» по-турецки – приятель.
(обратно)138
Летом 1920 г. в Севастополе офицерам тыловых учреждений ввиду ничтожности офицерского жалования и невозможности его увеличить было разрешено в свободное от службы время разгружать пароходы с артиллерийскими грузами. Если не ошибаюсь, были организованы офицерские артели.
(обратно)139
Местное предание, не соответствующее действительности. Св. мученик Трифон казнен в Никее в 250 году. Тело его было погребено в родном его селении Кампсад.
(обратно)140
В 364 году.
(обратно)141
Черные бархатные погоны с золотым вензелем шефа (К, М, Д, А) были установлены для офицеров Корниловской, Марковской, Дроздовской и Алексеевской артиллерийских бригад. Солдатам-артиллеристам этих частей также полагались черные погоны. Для остальных артиллерийских частей была сохранена форма Императорской армии.
(обратно)142
Турецкое простонародье было убеждено в том, что русские военные – друзья кемалистов. Вероятно, этот слух был основан на том, что на первых порах нашего пребывания в Галлиполи некоторое (очень небольшое) число офицеров и солдат тайно переправилось на Азиатский берег и при помощи местного населения действительно пробралось в войска Кемаль-паши. Руководствовались они, понятно, не идейными соображениями (даже простые солдаты знали, что кемалистов поддерживают красные), а просто не вынесли недоедания и царившей зимой тоски.
(обратно)143
Эпикур жил в Лапсаки перед переселением в Афины (306 год до Р.Х.).
(обратно)144
См. примечание выше.
(обратно)145
Альманах, издававшийся в Константинополе.
(обратно)146
Рукописный иллюстрированный журнал Дроздовского артиллерийского дивизиона.
(обратно)147
На пижамные куртки были нашиты погоны. Благодаря высоким сапогам или ботинкам с обмотками и поясным ремням, внешний вид оставался вполне приличным. В то же время одежда была таким образом облегчена до минимума, так как под белыми бумажными костюмами белья никто почти не носил. В расположении училищ (я видел это в Инженерном) разрешалось, когда не было занятий, ходить в одних пижамных брюках и туфлях на босу ногу. Кроме того, все почти юнкера проводили очень много времени на пляже и постоянно купались.
(обратно)148
Оставляю в неприкосновенности рассказ Б. о настроениях юнкеров Сергиевского училища как пример ошибки, которую часто делали очень молодые офицеры, юнкера и солдаты, принимавшие свое личное настроение за настроение части. Поскольку это было можно, я старался проверить все такие рассказы о настроениях. В данном случае (см. ниже) Б. говорил то, что на самом деле думало лишь незначительное меньшинство юнкеров.
Юнкер Б. впоследствии не вынес тоски по семье, впал в полное отчаяние и в конце концов (уже в Болгарии после производства в офицеры) уехал в Советскую Россию. Насколько мне известно, за все время пребывания Сергиевского училища за границей было всего два случая «смены вех» бывшими его юнкерами.
(обратно)149
Представитель Американского Красного Креста майор Дэвидсон.
(обратно)150
Впоследствии с несомненностью выяснилось, что одно время в числе преподавателей Сергиевского училища был предатель, советовавший юнкерам уходить из армии и всячески старавшийся подорвать в них веру в успех борьбы с большевиками. Лицо это (офицер Генерального штаба) было предано по другому делу суду чести и выслано в Константинополь. По-видимому, назревал вопрос о предании его корпусному суду, причем, насколько я мог судить, были приняты во внимание сведения относительно Х., сообщенные мною лично хорошо меня знавшему полковнику Генерального штаба. Началось с того, что двое юнкеров Сергиевского училища (один из них был личным моим другом) рассказали мне содержание частных разговоров, которые Х. систематически вел с юнкерами, и спросили меня, как я к этим разговорам отношусь – они, мол, в полном недоумении. Я ответил, что Х. либо круглый дурак, что маловероятно, либо советский агент, что гораздо вероятнее. Затем я сказал юнкерам, что по долгу совести не могу закрыть на это дело глаза. Просил их разрешить мне на них сослаться, подавая официальный рапорт. Я был совершенно уверен в том, что юнкеры не врут и не преувеличивают. К сожалению, как я ни уговаривал обоих сергиевцев, они, не отказываясь от своих слов, такого разрешения мне не дали. Сговорились на том, что я переговорю с кем нужно в частном порядке, и это даст возможность штабу корпуса поискать других доказательств. Вместе с тем фамилий юнкеров я не назову. Полковник Генерального штаба, к которому я обратился, сначала ответил, что глупость и болтливость Х. давно известна, но я настаивал на том, что раз офицер Генерального штаба, оставаясь в армии, ведет такого рода разговоры, то налицо не глупость, а явная измена. Через несколько дней полковник поручил мне (насколько помню, от имени штаба корпуса) поговорить с анонимными пока юнкерами и убедить их во имя интересов дела разрешить мне назвать их фамилии. Им гарантировалось соблюдение строжайшей тайны. Хорошо зная моих информаторов, я ответил полковнику, что не могу взять на себя этого поручения, так как юнкера все равно откажутся. На этом дело в Галлиполи и кончилось. Оно продолжалось в Сов. России. Х. уехал из Константинополя к большевикам, был предан суду по обвинению в службе у белых, но освобожден от всякого наказания, так как доказал, что работал в Галлиполи и в Константинополе по разложению армии Врангеля (сообщение о суде было помещено в газете «Руль», но, к сожалению, я своевременно не отметил номера). Юнкера, по их собственным словам, не хотели брать на свою совесть расстрела, я не мог нарушить своего слова, и советский агент был спасен.
(обратно)151
По словам Б.
(обратно)152
Брат генерала Кутепова.
(обратно)153
Фактически проект не был осуществлен из-за отсутствия средств у Вс. земского союза.
(обратно)154
См. большую и очень объективную статью о военных училищах в сборнике «Русские в Галлиполи».
(обратно)155
При производстве в офицеры юнкера пехотных военных училищ получали одновременно удостоверения об окончании курсов средней школы (для поступления в артиллерийское и инженерное училища требовалось законченное среднее образование). Впоследствии эти удостоверения были приравнены русскими Академическими группами к аттестатам реальных училищ и кадетских корпусов. Они дали возможность очень многим молодым офицерам поступить в высшие школы Чехословакии. Осенью 1924 года МИД Чехословацкой Республики зачисляло русских молодых людей, желавших продолжать образование, в первую очередь по конкурсу аттестатов, причем документы об окончании русских военных училищ за рубежом (3 пехотных, кавалерийского, артиллерийского, инженерного и 2 казачьих) рассматривались наравне с аттестатами средних школ реального типа. Я был в это время в Праге старостой студентов, не состоявших на иждивении, и все документы вновь поступивших проходили через мои руки.
Начиная с 1926 года Мин. Нар. Пр. Чехословацкой Республики стало считать действительными лишь те аттестаты русских заграничных школ, которые скреплены подписью представителя Мин. Нар. Пр. страны, где соответствующая школа находится. Однако к этому времени приток галлиполийцев, желавших продолжать образование в высших школах Ч.С.Р., уже прекратился и распоряжение Министерства коснулось фактически лишь нескольких человек.
(обратно)156
Как писателя-романиста я в 1921 году И.Лукаша совершенно не знал.
(обратно)157
На том же сеансе я читал отрывки из «Инонии», пропуская, конечно, места, могущие оскорбить религиозное чувство.
(обратно)158
Подпоручик М., ныне (1930 год), состоящий студентом Пражского политехникума, познакомил меня со своим дневником, который он вел в Галлиполи. М. утверждает, что настроение юнкеров его выпуска (пятнадцатого) в общем было очень хорошим и твердым. Из 36 человек, поступивших в Галлиполи, в Болгарии было произведено в офицеры 27, умер 1 и отчислено по разным причинам до окончания курса 8.
(обратно)159
На Лемносе у юнкеров казачьих училищ и в некоторых частях также имелось оружие и патроны.
(обратно)160
Николаевское кавалерийское училище было перевезено в Сербию.
(обратно)161
Не знаю, было ли по этому делу произведено дознание. Во всяком случае, никто не был предан суду.
(обратно)162
Генерального штаба полковник, ныне генерал-майор Ф.Э. Бредов.
(обратно)163
Как мне передавал один из командиров полков, генерал Кутепов на совещании старших начальников приказал не допускать в частях исполнения «Боже, Царя храни» и других монархических демонстраций. Я не отметил даты этого разговора, но отчетливо помню, что распоряжение генерала Кутепова последовало весной.
(обратно)164
Мы обыкновенно только обращали внимание слушателей на ту или иную статью «О.Д.», так как газета расклеивалась по городу и лагерю и раздавалась по частям в большом числе экземпляров (доставлял «О.Д.», как и другие газеты, Земский союз). Влияние «О.Д.» и личная популярность В.Л. Бурцева среди большинства чинов 1-го корпуса были огромны. Мы, сотрудники «У.Г.», как и огромное большинство офицеров и интеллигентных солдат, понимали, что делу сохранения армии он оказывает незаменимую услугу. В 1923 году я записал относительно роли «О.Д.» и других поддерживавших армию газет: «Газету Бурцева привыкли считать своей, чем-то вроде официоза армии. Вряд ли Владимир Львович и сам знает, как сильно он влиял на настроения. Добрых семь восьмых корпуса смотрело на события глазами „Общего Дела“». Прежние читатели «Русских ведомостей» предпочитали «Руль», но их было немного, да и они обязательно прочитывали парижские простыни. Читали еще и «Новое время», но оно получалось в малом числе экземпляров. Кроме того, к галлиполийским настроениям белградская газета вообще не подходила. Ее любили только в гвардейском батальоне, да отчасти на кавалерийском берегу. Все-таки, если спросить, что читал 1-й корпус, проще всего ответить – «Общее Дело». Как-то раз я говорил с юнкерами Корниловского училища о том, кто самые популярные люди в Галлиполи. Решили, что таких трое; генерал Врангель, генерал Кутепов и из штатских – Владимир Бурцев. «Единственный человек, который по-настоящему нас защищает».
(обратно)165
Во время пребывания в Галлиполи ввоз и распространение в частях газет, враждебных армии («Последние новости», «Воля России» и др.), были воспрещены. Получали их (под честное слово) лишь некоторые лица, в том числе сотрудники «У.Г.» Приказом № 331 от 26 сентября 1921 года главнокомандующий вменил в обязанность всем командирам частей широко знакомить войска с враждебной армии печатью. Указанные выше газеты были выписаны на казенный счет в офицерские собрания и солдатские чайные некоторых русских гарнизонов в Болгарии (напр., в Орхание).
(обратно)166
Впоследствии мне пришлось дважды слышать в Праге публичные заявления П.Н.Милюкова о том, что он никогда не оскорблял армии. Так это или нет, будет решать история. Во всяком случае, у нас, сотрудников «У.Г.», читавших «Посл. Нов.» изо дня в день, получалось впечатление, что газета не критикует, а систематически травит и оскорбляет армию, ее вождей и ее друзей. Перелистывая «Посл. Нов.» за 1921 год теперь, почти через 10 лет и в совершенно иной обстановке, я лично по-прежнему воспринимаю многие статьи как оскорбление армии. Справедливость требует отметить, что постепенно отношение «П.Н.» к галлиполийцам очень изменилось и в данное время (1930 г.) является совершенно корректным.
(обратно)167
Юнкеров Николаевского училища.
(обратно)168
И.С. Лукаш сказал мне также: «В Галлиполи творится такое большое дело, что становится жутко. Мне порой кажется тут, у вас, что я слышу шелест страниц истории» (запись 1923 года).
(обратно)169
Результатом поездки И.С. Лукаша в Галлиполи явилась его книга «Голое Поле». В ней есть блестящие страницы, превосходно схвачены некоторые настроения, но чрезмерно выспренний стиль книги большинству галлиполийцев не понравился.
Кроме того, в «Голом Поле» имеются и фактические ошибки. Так, например, описание внешности генерала Туркула явно относится к генералу Скоблину.
(обратно)170
Еще в мае месяце 1921 года генерал Б., очень сочувственно относившийся к «У.Г.», сказал мне: «Это очень хорошо, капитан Р., но скажите мне, чем это, собственно, отличается от концерт-митингов?» Я ответил: «Названием, Ваше Пр…во, и отсутствием прений. Впрочем, у большевиков их тоже, собственно говоря, нет. По существу, мы, конечно, заимствовали идею у врагов, но отчего же ее не заимствовать, раз она удачна?»
(обратно)171
«Русские в Галлиполи». Помещенные в нем статьи на указанную тему принадлежат не мне.
(обратно)172
Мне не удалось проверить изложенных здесь сведений. Телефонным проводом снабжались в первую очередь части, находившиеся на фронте. Что касается шестидюймовой батареи, то не исключена возможность, что лучшей позиции для нее в этом районе вообще не было.
(обратно)173
Последние две части фактически на «Решид-паше» не уехали.
(обратно)174
В Галлиполи вся регулярная конница была сведена в 4 номерных полка, но в их составе имелись ячейки очень многих кавалерийских полков старой армии, сохранявшие свою форму.
(обратно)175
За все время пребывания 1-го корпуса в Галлиполи, согласно официальным данным, перешло на беженское положение 21,20 %.
(обратно)176
Это первоначальное предположение по переезде в Болгарию осуществлено не было.
(обратно)177
Эгос-Патамос – Козья река. Речка, вернее, ручеек, по обеим сторонам которого был расположен лагерь 1-го корпуса. В 405 году до Р.Х. флот спартанцев под начальством Лисандра наголову разбил афинян близ устья Эгос-Патамоса. Лагерь беженского батальона находился на месте лагеря афинян. (Из лекции генерала Карцева в Галлиполи; мне не удалось проверить сообщенных ген. Карцевым данных о местоположении лагеря афинян).
(обратно)178
В переходный период от большевиков к одной из нормальных форм правления.
(обратно)179
Главный из них – воспрещение критиковать деятельность лично генерала Деникина (обсуждение и осуждение порядков 1919 года при условии не разжигать страстей и не касаться лиц не возбранялось). Весной в самом начале организации «У.Г.» генерал Витковский предупредил меня, что он считал бы некорректной публичную критику действий нашего бывшего Главнокомандующего, к которому мы, несмотря на его уход, продолжаем сохранять величайшее уважение. Это было, конечно, вполне справедливое требование, отвечавшее личному убеждению участников «У.Г.».
Кроме того, редакционная коллегия «У.Г.» разрешила мне прочесть этот доклад с тем, чтобы он был составлен в сугубо нейтральной форме. Нужно было избежать всего, в чем республикански настроенная часть слушателей могла усмотреть монархическую пропаганду. Поэтому я подчеркнул с особым нажимом, что диктатура, вообще говоря, есть лишь временная форма правления и от нее возможен переход и к монархии, и к республике. Постепенно мы хорошо изучили нашу многочисленную (в среднем – около тысячи человек, неоднократно значительно больше) аудиторию и знали, что в соответствующих формах можно говорить почти о чем угодно, кроме формы правления в будущей России. Галлиполийцев объединяло и объединяет кроме ненависти к большевизму убеждение в невозможности ликвидировать его иначе, как вооруженной рукой, но вопреки довольно распространенному мнению, в Галлиполи, от начала до конца можно было встретить в одной и той же палатке людей самых различных политических взглядов – от умеренных социалистов до сторонников самодержавия. Утверждение о том, что республиканцы ушли, а монархисты остались, является (поскольку оно неумышленно) грубой ошибкой.
(обратно)180
Так называли долину, в которой находился лагерь. Как передавали местные жители, прежде там были розовые плантации. В начале союзной оккупации здесь же находился лагерь чернокожих, причем много солдат умерло от заразных болезней – отсюда и название.
(обратно)181
Я оставил запись, относящуюся к 29 августа, в том кратком виде, как она была сделана в Галлиполи.
(обратно)182
Впоследствии на «У.Г.» выступали с докладами приезжавшие в Галлиполи проф. В.Д. Кузьмин-Караваев и председатель Главного Комитета В.З.Союза А.С. Хрипунов.
(обратно)183
Европейцы часто называют этот городок Дарданеллами.
(обратно)184
Автора письма, помещенного в «Общем Деле».
(обратно)185
Солдаты учебной команды.
(обратно)186
В первый момент у многих мелькнула мысль, что пароход подожжен советскими агентами. Французским солдатам было приказано надеть спасательные пояса. Как впоследствии выяснилось, один из офицеров вывез на память из Севастополя кусок бездымного пороха от 12-дюймовой пушки, которым он пользовался иногда, как тросточкой. На «Решид-паше» офицер по рассеянности попытался «тросточкой» потушить окурок, и она, конечно, вспыхнула (на воздухе бездымный порох не взрывается, а горит, давая очень сильный свет).
(обратно)187
Описание дня 1 сентября восстановлено на основании очень кратких заметок, имеющихся в подлиннике дневника, и проверено рядом лиц, бывших на «Херсоне».
(обратно)188
Дроздовцы и алексеевцы никогда больше не встретились с Главнокомандующим.
(обратно)189
В копии, с которой переписан настоящий текст – «в войсковых лагерях войсковых частей и штабов, семей и их чинов» – является ошибкой переписчика.
(обратно)190
Нумерация подлинной копии.
(обратно)191
Вероятно, ошибка переписчика. Предыдущий по № приказ помечен 8/21 ноября.
(обратно)192
Большая буква в слове «Штабы», вероятно, ошибка переписчика.
(обратно)193
Старого стиля.
(обратно)194
Нового стиля. В дальнейшем все даты приказов по новому стилю.
(обратно)195
Вооруженные силы Юга России. В Галлиполи расшифровали в шутку обозначение как «Вооруженные силы южнее России».
(обратно)196
В архиве Дроздовского артиллерийского дивизиона, материалами которого мне было разрешено пользоваться, означенного отчета не имелось.
(обратно)197
Вероятно, «упустив из вида, что» – пропуск машиниста.
(обратно)198
Пропуск подлинной копии – ошибка машиниста.
(обратно)199
Пропуск какого-то слова.
(обратно)200
При переписке пропущено мною несколько строк, не представляющих интереса.
(обратно)

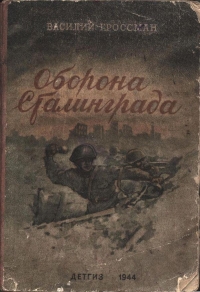
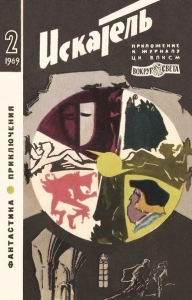




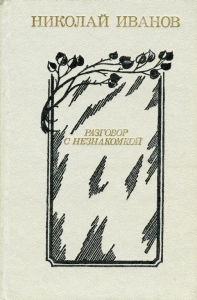


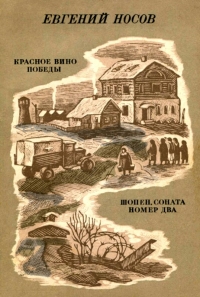

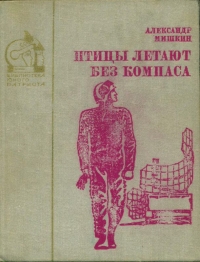
Комментарии к книге «Добровольцы», Николай Алексеевич Раевский
Всего 0 комментариев